Шарль де Костер ЛЕГЕНДА ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях
Предисловие совы
Уважаемые художники, глубокоуважаемые издатели, уважаемый поэт! Я принуждена сделать несколько замечаний по поводу вашего первого издания. Как? Во всей этой толстой книге, в этом слоне, которого вы в количестве восемнадцати человек[1] пытались направить на путь славы, не нашлось хотя бы крошечного местечка для птицы Минервы[2], для мудрой, для благоразумной совы? В Германии и в вашей же любимой Фландрии я постоянно путешествую на плече Уленшпигеля, который, кстати сказать, и прозван так потому, что имя его означает сову и зеркало, мудрое и забавное, uyl en spiegel. Жители Дамме, где, как говорят, он родился, произносят Ulenspiegel — тут действуют правило стяжения гласных и привычка произносить «uy» как «u». Это их дело.
Вы придумали другое объяснение: Ulen (вместо Ulieden) Spiegel — это, дескать, ваше зеркало, ваше, смерды и дворяне, управляемые и правящие, зеркало глупостей, нелепостей и преступлений целой эпохи. Остроумно, но опрометчиво. Никогда не следует порывать с традицией.
Быть может, вам показалась странной самая мысль представить мудрость в виде, по вашему мнению, мрачной и уродливой птицы — педантки в очках, ярмарочной лицедейки, подруги мрака, которая неслышно, как сама смерть, налетает и убивает. И все же, насмешники в обличье добродушия, у вас есть нечто общее со мной. И в вашей жизни была такая ночь, когда кровь текла рекой под ножом злодейства, тоже подкравшегося неслышно. Разве не было в жизни каждого из вас мглистых рассветов, тусклым лучом озарявших мостовые, заваленные трупами мужчин, женщин, детей? На чем основывается ваша политика с тех пор, как вы властвуете над миром? На резне и бойне.
Я, сова, безобразная сова, убиваю, чтобы прокормиться самой и чтобы прокормить моих птенцов, — убийством ради убийства я не занимаюсь. Вы обвиняете меня в том, что я иной рае уничтожаю птичий выводок, ну, а вы истребляете все живущее. В своих книгах вы с умилением рассказываете о птичках — о том, как они быстрокрылы; как они красивы, как они любятся, как искусно вьют гнездышки, как тревожится мать за своих птенчиков, и тут же даете советы, под каким соусом надо подавать птичек и в какое время года они особенно вкусны. Я не сочинительница, упаси меня бог, а то бы я про вас написала, что, когда вам не удается сожрать птичку, вы грызете гнездышко — лишь бы поточить зубы.
Что же касается тебя, шалый поэт, то в твоих же интересах признать мое соавторство, — ведь по меньшей мере двадцать глав в твоем произведении принадлежат мне, остальное я безоговорочно уступаю в твою пользу. Отвечать за все глупости, выпускаемые в свет, право, не так уж весело. Забияка-поэт, ты крушишь подряд всех, кого ты называешь душителями твоего отечества, ты пригвождаешь к позорному столбу истории Карла V[3] и Филиппа II[4]. Нет, ты не сова, ты неосторожен. Ты ручаешься, что Карлы Пятые и Филиппы Вторые перевелись на свете? Ты не боишься, что бдительная цензура усмотрит во чреве твоего слона намеки на знаменитых современников? Зачем ты тревожишь прах императора и короля? Зачем ты лаешь коронованных особ? Не напрашивайся на удары — от ударов же и погибнешь. Кое-кто тебе не простит этого лая, да и я не прощу — ты портишь мне мое мещанское пищеварение.
Ну к чему ты так настойчиво противопоставляешь ненавистного короля, с малолетства жестокого, — на то он и человек, — фламандскому народу, который ты стремишься изобразить доблестным, жизнерадостным, честным и трудолюбивым? Откуда ты взял, что народ был хорош, а король дурен? Мне ничего не стоит тебя разубедить. Твои главные действующие лица, все без исключения, либо дураки, либо сумасшедшие: озорник Уленшпигель с оружием в руках борется за свободу совести; его отец Клаас гибнет на костре за свои религиозные убеждения; его мать Сооткин умирает после страшных пыток, которые ей пришлось вынести из-за того, что она хотела уберечь для сына немного денег; Ламме Гудзак всегда идет прямым путем, как будто быть добрым и честным — это самое важное в жизни. Маленькая Неле хоть и недурна собой, а все же однолюбка… Ну где ты теперь встретишь таких людей? Право, если б ты не был смешон, я бы тебя пожалела. Впрочем, должна сознаться, что наряду с этими сумасбродами ты вывел несколько лиц, которые пришлись мне по душе: это испанские вояки, монахи, жгущие народ; фискалка Жиллина; жадюга-рыбник, доносчик и оборотень; дворянчик, по ночам прикидывающийся бесом, чтобы соблазнить какую-нибудь дурочку, а, главное, нуждавшийся в деньгах хитроумный Филипп II, подстроивший разгром церквей, чтобы потом наказать мятежников, которых он сам же сумел подстрекнуть. На что только не пойдет человек, если он объявлен наследником всех им убиваемых!
Но, кажется, я бросаю слова на ветер. Ты, может быть, не знаешь, что такое сова. Сейчас я тебе объясню. Сова — это тот, кто исподтишка клевещет на людей, неугодных ому, и кто в случае, если его привлекают к ответственности, не преминет благоразумно заявить: «Я этого не утверждал. Так говорят…» Сам же он прекрасно знает, что «говорят» — это нечто неуловимое.
Сова любит соваться в почтенные семьи, ведет себя как жених, бросает тень на девушку, берет взаймы, иногда — без отдачи, а как скоро убеждается, что взять больше нечего, то исчезает бесследно. Сова — это политик, который надевает на себя личину свободомыслия, неподкупности, человеколюбия и, улучив минутку, без всякого шума вонзает нож в спину какой-нибудь одной жертве, а то и целому народу. Сова — это купец, который разбавляет вино водой, который торгует недоброкачественным товаром и, вместо того чтобы напитать своих покупателей, вызывает у них расстройство желудка, вместо того чтобы привести их в благодушное настроение, только раздражает.
Сова — это тот, кто ловко ворует, так что за шиворот его не схватишь, кто защищает виноватых и обвиняет правых, кто пускает по миру вдову, грабит сироту и, подобно тому как другие купаются в крови, купается в роскоши.
Сова — это та, что торгует своими прелестями, развращает невинных юношей — это у нее называется «развивать» их — и, выманив у них все до последнего гроша, бросает их в том самом болоте, куда она же их и завлекла.
Если какой-нибудь сове кое-когда взгрустнется, если она вдруг вспомнит, что она — женщина, что и она могла бы быть матерью, то я от нее отрекаюсь. Если, устав от такой жизни, она бросается в воду, значит, она сумасшедшая, значит, ей и незачем жить на свете. Посмотри вокруг себя, поэт из захолустья, и ты увидишь, что сов на свете гибель. Сознайся, что неблагоразумно было с твоей стороны нападать на Силу и Коварство, на этих венчанных сов. Подумай о грехах своих, произнеси mea culpa[5] и на коленях вымоли прощение.
Мне, однако, нравится твоя легкомысленная доверчивость. Вот почему, изменяя своей всем известной привычке, я все же почитаю за нужное тебя предуведомить — предуведомить о том, что я поспешу указать на резкость и дерзость твоего слога моим литературным родичам, а это люди осмотрительные и исполнительные, сильные своими перьями, клювом и очками, умеющие придавать самую очаровательную, самую благопристойную форму тем любовным историям, которые они рассказывают юношеству и которые зародились отнюдь не только на острове Киферы[6], умеющие в течение часа неприметно разогреть кровь у кого угодно, хоть у твердокаменной Агнессы[7]. О дерзновенный поэт, ты, что так любишь Рабле и старых мастеров! Эти люди имеют перед тобой то преимущество, что, шлифуя французский язык, они в конце концов сотрут его окончательно.
Ухалус Посовиномус
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Во Фландрии, в Дамме, когда май уже распускал лепестки на кустах боярышника, у Клааса родился сын Уленшпигель.
Повитуха Катлина завернула его в теплые пеленки и, осмотрев головку, показала на кожицу.
— В сорочке родился, под счастливой звездой! — весело сказала она. Но тут же заохала, заметив на плече ребенка черное пятнышко. — Ай-ай-ай! — запричитала она. — Эта черная отметина — след чертова когтя.
— Стало быть, господин сатана нынче поднялся спозаранок, коли уже успел поставить на моем сыне метку, — молвил Клаас.
— Да он и не ложился, — подхватила Катлина, — певец зари только-только еще будит кур.
С этими словами, передав младенца с рук на руки Клаасу, она удалилась.
Вслед за тем сквозь ночные облака пробилась заря, ласточки, щебеча, залетали низко-низко над лугом, и наконец на востоке солнце явило в море багрянца свой ослепительный лик.
Клаас растворил окно и сказал Уленшпигелю:
— Мой в сорочке родившийся сын! Вот его светлость солнце приветствует Фландрскую землю. Как прозреешь — погляди на него, а когда-нибудь потом, если тебя вдруг одолеют сомнения и ты не будешь знать, как поступить, спроси у него совета. Оно ясное и горячее. Будь же настолько чист сердцем, насколько ясно солнце, и настолько добр, насколько оно горячо.
— Клаас, муженек, ведь ты поучаешь глухого, — заметила Сооткин. — На-ка, попей, сынок.
С этими словами мать подставила новорожденному свои прекрасные естественные сосуды.
2
Пока Уленшпигель сосал ее грудь, в поле проснулись все пташки.
Клаас вязал хворост, а сам поглядывал, как его благоверная кормит Уленшпигеля.
— Жена, — сказал он наконец, — а что, молочка у тебя довольно?
— Кувшины полны, — отвечала она, — да вот радость-то моя не полна.
— Такой счастливый день, а ты пригорюнилась.
— Я вот о чем думаю: в кошеле у нас — вон он висит на стене — монетки какой завалящей и той нет.
Клаас снял кошель, но как он его ни встряхивал, звона, услаждающего слух, в ответ так и не раздалось. Это озадачило Клааса. Но он все же счел своим долгом успокоить благоверную.
— Не тужи! — сказал он. — В ларе у нас лепешки, — вчера Катлина принесла, — так? Вон я вижу здоровенный кусок мяса — тут ребенку дня на три молочка хватит, — правда? В углу притулился мешок с бобами, он нам с голоду помереть не даст, — верно? А горшок с маслом померещился мне, что ли? А на чердаке у нас яблоки румяные в полном боевом порядке выложены десятками — ведь не во сне же я их видел? А бочонок брюггского kuyte[8] — разве этот толстяк, у которого в брюхе живительная влага, не сулит нам гульбы?
— Да ведь надо будет два патара[9] священнику отдать да флорин[10] в церковь — за крестины, — сказала Сооткин.
Тут с большущей охапкой травы вошла Катлина и сказала:
— Для младенчика в сорочке я принесла дягиля, — он хранит человека от распутства, — и укропа — укроп сатану отгоняет…
— А травы, что привораживает флорины, ты не принесла? — спросил Клаас.
— Нет, — отвечала та.
— Ну так я пойду погляжу, нет ли ее в канале.
Клаас взял удочку, сеть и вышел из дому в полной уверенности, что никого по дороге не встретит: ведь до oosterzon'а[11] — так во Фландрии называется шестой час утра — оставался еще целый час.
3
Клаас подошел к Брюггскому каналу, неподалеку от моря. Наживив удочку, он забросил ее в воду и закинул сеть. На том берегу нарядный мальчуган спал как убитый на холмике из ракушек.
Клаас нечаянно разбудил мальчугана, и тот, вообразив, что это стражник, что он сейчас поднимет его с ложа и как бродягу отведет в steen[12], чуть было не задал стрекача.
Однако, узнав Клааса, мальчик быстро успокоился, а Клаас крикнул ему:
— Хочешь заработать шесть лиаров?[13] Гони рыбу ко мне.
Мальчуган, уже довольно пузатенький, вошел в воду и, вооружившись стеблем камыша с пышной метелкой, стал гнать рыбу по направлению к Клаасу.
Наловив рыбы, Клаас взял удочку и сеть и перешел через шлюз к мальчугану.
— Ведь это тебе дали при крещении имя Ламме[14] и прозвали Гудзаком[15] за твое добродушие, а живешь ты на Цапельной улице за Собором богоматери? — спросил он. — Как же это ты, такой маленький и такой нарядный мальчик, спишь под открытым небом?
— Ах, господин угольщик! — отвечал мальчуган. — Дома у меня сестра; она моложе меня на год, но когда мы с ней ссоримся, она меня лупит по чему ни попало. Отыграться на ее спине я, сударь, боюсь — как бы не сделать ей больно. Вчера вечером мне очень хотелось есть, за ужином я стал подчищать пальцами блюдо, на котором было подано тушеное мясо с бобами и, глядя на меня, она тоже к нему потянулась. А там мне и одному-то было мало, сударь. Как увидела она, что я облизываюсь, — уж больно вкусная была подливка, — ну прямо взбесилась: таких мне увесистых оплеух надавала, что я, еле живой, бросился вон из дома.
Клаас осведомился, что же делали отец и мать в то время, как сестра хлестала его по щекам.
На это Ламме ответил так:
— Отец похлопал меня по одному плечу, мать по другому, и оба сказали: «Дай ей сдачи, трусишка?» А я не хотел бить маленькую девочку и убежал.
Внезапно он побледнел и задрожав всем телом.
И тут Клаас увидел, что к ним приближается высокая женщина, а с ней худая девочка, и лицо у этой девочки злое.
— Ай! — крикнул Ламме и уцепился за штаны Клааса. — Это мать и сестра меня ищут. Заступитесь за меня, господин угольщик!
— Вот что, — сказал Клаас, — возьми сперва семь лиаров за работу, а теперь смело пойдем к ним навстречу.
Увидев Ламме, мать и сестра бросились на него с кулаками: мать — от беспокойства, сестра — по привычке.
Ламме спрятался за Клааса и крикнул:
— Я заработал семь лиаров, я заработал семь лиаров, не бейте меня!
Но мать уже обнимала его, а девочка пыталась разжать ему кулак и отнять деньги.
Ламме кричал:
— Мои деньги, не дам!
И еще крепче сжимал кулак.
Клаас за уши оттащил от него девчонку и сказал ей:
— Брат у тебя добрый и кроткий, как ягненок, и если ты еще когда-нибудь на него налетишь, я тебе уши драть не стану, а упрячу в черную угольную яму; за тобой туда придет красный черт из пекла и своими когтищами и зубами, длинными, как рогатки, раздерет тебя на мелкие кусочки.
Девочка не смела поднять глаза на Клааса, не смела подойти к брату — она схоронилась за материнскую юбку. Но в городе она сейчас же подняла крик:
— Угольщик меня побил! У него в погребе черт!
Однако больше она уже не била брата — она только заставляла его все за нее делать. Безответный простачок охотно ей повиновался.
А Клаас отнес рыбу в ту усадьбу, где у него всегда ее покупали. Дома он сказал Сооткин:
— Вот что я нашел в брюхе у четырех щук, у девяти карпов и в полной корзине угрей.
С этими словами он бросил на стол два флорина, и патар.
— Почему же ты каждый день не ходишь на рыбную ловлю, муженек? — спросила Сооткин.
— А чтобы самому не попасться в сеть к стражникам, — отвечал Клаас.
4
В Дамме отца Уленшпигеля Клааса все звали kooldraeger'ом, то есть угольщиком. Волосы у него были черные, глаза — блестящие, кожа — под цвет его товара, за исключением воскресных и праздничных дней, когда мыла у него в лачуге полагалось не жалеть. Это был приземистый, плечистый здоровяк с веселыми глазами.
Когда, на склоне дня и с наступлением вечера, он отправлялся по Брюггской дороге в таверну промыть пивцом свою черную от угольной пыли глотку, женщины, на порогах домов дышавшие свежим воздухом, приветствовали его:
— Добрый вечер, угольщик! Светлого тебе пива!
— Добрый вечер! Неутомимого вам супруга! — отзывался Клаас.
Девушки, гурьбой возвращавшиеся с поля, загораживали ему дорогу и говорили:
— Что дашь за пропуск? Алую ленту, золотые сережки, бархатные сапожки или флорины в копилку?
Клаас обнимал какую-нибудь из них, целовал — иногда в свежую щечку, иногда в шейку, в зависимости от того, что было ближе к его губам, — а потом говорил:
— Остальное, душеньки, дополучите со своих возлюбленных.
И девушки с хохотом убегали.
Дети узнавали Клааса по его громкому голосу и топоту сапог. Они бросались к нему с криком:
— Добрый вечер, угольщик!
— Храни вас господь, ангелочки! — говорил Клаас. — Только не подходите ко мне близко, иначе я вас в арапчат превращу.
Но малыши — народ смелый: они все-таки подходили; тогда Клаас хватал одного из них за курточку и проводил своей черной пятерней по его румяной мордашке, а затем, к великой радости остальных, отпускал и сам при этом заливался хохотом.
Сооткин, супружница Клааса, была женщина хорошая: вставала вместе с солнышком и трудилась, как муравей.
Свой участок они обрабатывали вдвоем с Клаасом, оба впрягались в плуг, точно волы. Нелегко им было тащить плуг, но еще тяжелее — борону, когда деревянные зубья этого земледельческого орудия разрыхляли сухую землю. И все же работали они весело, с песней на устах.
И как ни суха была земля, как ни жгло их палящими лучами солнце, как ни выбивались они из сил, таща борону, и как ни подгибались у них колени, а во время роздыха Сооткин подставляла Клаасу милое свое лицо, Клаас целовал это зеркало ее нежной души, и оба они забывали о своей страшной усталости.
5
Накануне у дверей ратуши возглашали, что государыня, супруга императора Карла, на сносях, а потому все должны молиться, чтобы она благополучно разрешилась от бремени.
К Клаасу, вся дрожа, вбежала Катлина.
— Что с тобой, соседка? — спросил он.
— Ох! — простонала Катлина и прерывающимся от волнения голосом заговорила: — Нынче ночью привидения косили людей, точно косари траву… Девушек заживо в землю закапывали! На их трупах палач плясал… Камень девять месяцев кровоточил, а нынче ночью распался.
— С нами крестная сила, с нами крестная сила! — запричитала Сооткин. — Недоброе сулят Фландрии этакие страсти!
— Во сне ты все это видела или наяву? — спросил Клаас.
— Наяву, — отвечала Катлина.
Бледная как смерть, она продолжала, рыдая:
— Два младенца народилось: один — в Испании, инфант Филипп, а другой — во Фландрии, сын Клааса, ему потом дадут прозвище Уленшпигель, Филипп станет палачом, потому он — отродье Карла Пятого, а Карл Пятый — нашего отчего края губитель. Из Уленшпигеля выйдет великий балагур и великий проказник, но сердце у него будет доброе, потому как он сын Клааса, а Клаас, труженик славный и исправный, честным, добросовестным, праведным трудом добывает хлеб свой. Император Карл и король Филипп промчатся по жизни, всем досаждая войнами, поборами и прочими злодеяниями. Клаас — тот рук не покладает, права-законы соблюдает, трудится хоть и до поту, да без ропоту, никогда не унывает, песни распевает — того ради он послужит примером честного фламандского труженика. Вечно юный Уленшпигель никогда не умрет, по всему свету пройдет, ни в одном месте прочно не осев. Кем-кем он только не будет: и крестьянином, и дворянином, и ваятелем, и живописцем! И странствовать ему по белу свету, славя все доброе и прекрасное, а над глупостью хохоча до упаду. Доблестный народ фламандский! Клаас — это твое мужество; Сооткин — это твоя стойкая мать; Уленшпигель — это твой дух; славная милая девочка, спутница Уленшпигеля, бессмертная, как и он, — это твое сердце, а толстопузый простак Ламме Гудзак — это твоя утроба. Наверху — душители народа, внизу — жертвы; наверху — разбойники-шершни, внизу — трудолюбивые пчелы, а в небе будут кровоточить язвы Христовы.
И, сказавши это, добрая ведунья Катлина уснула.
6
Уленшпигеля понесли крестить. Вдруг хлынул ливень и вымочил его до костей. Так Уленшпигель был окрещен в первый раз.
Когда его внесли в церковь, пономарь, он же schoolmeester, то есть школьный учитель, сказал куму с кумою и отцу с матерью, чтобы они стали вокруг купели, что те и сделали.
Но в своде над купелью каменщик пробил дыру, чтобы к звезде из позолоченного дерева привесить лампаду. Увидев сверху кума с кумой, чинно стоявших возле еще прикрытой купели, злодей-каменщик вылил на крышку ведро воды и всех обрызгал. Особенно лихо окатил он Уленшпигеля. Так Уленшпигель был окрещен во второй раз.
Явился настоятель. Выслушав жалобу, он сказал, что ему некогда с ними разговаривать и что каменщик облил их нечаянно. Уленшпигель барахтался, оттого что был весь мокрый. Настоятель, окрестив его солью и водой, дал ему имя Тильберт, что значит «подвижный». Так Уленшпигель был окрещен в третий раз.
Выйдя из собора, они перешли площадь и двинулись по Долгой улице в Бутылочные Четки — трактир, эмблемой которого служила пивная кружка. Здесь они выпили семнадцать с лишним кружек dobbelkuyt'а[16]. Если во Фландрии кто-нибудь хочет получше обсушиться, то разводит у себя в пузе пивной костер. Так Уленшпигель был окрещен в четвертый раз.
Выписывая по дороге домой вензеля, оттого что головы у них были тяжелее тела, они подошли к мостику через лужу. Ребенка несла кума Катлина — она оступилась и вместе с ним шлепнулась в грязь. Так Уленшпигель был окрещен в пятый раз.
Его вытащили из лужи, обмыли дома теплой водой, и то было его шестое крещение.
7
В тот же самый день его святейшее величество Карл решил по случаю рождения своего сына устроить пышные празднества. Подобно Клаасу, он тоже решил половить рыбку — но не в канале, а в копилках и кошельках у своих подданных. Вот откуда государевы удочки вылавливают крузаты[17], серебряные daelder'ы[18], червонцы, и все эти чудесные рыбки по прихоти рыбака превращаются в бархатные платья, в драгоценности, в тонкие вина, в изысканные блюда. Кстати сказать, самые рыбные реки — не самые многоводные.
Послушав своих советников, его святейшее величество установил такой порядок ловли:
Между девятью и десятью его высочество инфанта понесут крестить. Жители Вальядолида, дабы показать, как они счастливы, будут всю ночь на свой счет пировать и веселиться и швырять на Большой площади беднякам свои кровные денежки.
На пяти перекрестках пять больших фонтанов будут за счет города бить до рассвета мощной струею самого лучшего вина. На пяти других перекрестках будут развешаны на деревянных помостах колбаса сервелатная, колбаса ливерная, бычьи языки и всякая прочая снедь — также за счет города.
Вальядолидцы на свои средства воздвигнут по пути следования процессии множество триумфальных арок с эмблемами Мира, Благоденствия, Изобилия, Процветания, а равно и прочих небесных благ, коими ущедрен народ в царствование его святейшего величества.
Наконец, помимо этих мирных арок, будет сооружено еще несколько, на которых необычайно живо будут изображены менее безобидные атрибуты власти, как-то: орлы, львы, копья, алебарды, дротики с наконечниками в виде языков пламени, пищали, пушки, фальконеты, широкожерлые мортиры и прочие орудия, олицетворяющие военную силу и мощь его святейшего величества.
Гильдии свечников было предоставлено право бесплатно изготовить для освещения храма двадцать тысяч с лишним свечей, с тем чтобы огарки поступили в распоряжение капитула[19].
Что касается прочих расходов, то император, движимый благим желанием не переобременять верных своих подданных, охотно брал эти расходы на себя.
Община уже начала приводить королевский приказ в исполнение, как вдруг из Рима пришли печальные вести. Императорские военачальники — принц Оранский, герцог Алансонский и Фрундсберг[20] — ворвались в святой град[21] и, не щадя ни священников, ни монахов, ни женщин, ни детей, разорили и опустошили церкви, часовни, дома. Святейшего владыку заточили.[22] Грабеж длился уже целую неделю. Обожравшиеся, упившиеся рейтары и ландскнехты[23], бряцая оружием, шатались по городу, искали кардиналов и кричали, что они им лишнее отрежут и тогда уж, дескать, папой никому из них не бывать[24]. Те, кто привел угрозу свою в исполнение, с важным видом расхаживали по городу, и на шее у них висели четки по двадцать восемь, а то и более, бусинок, каждая величиной с орех и все до единой в крови. Иные улицы превратились в потоки крови, запруженные дочиста обобранными мертвыми телами.
Поговаривали, что император, нуждаясь в деньгах, вознамерился половить их в крови духовенства, и точно: по договору, заключенному его полководцами со святейшим узником, он отнял у него все крепости и заставил уплатить четыреста тысяч дукатов; впредь же до выполнения всех условий договора его святейшеству надлежало пребывать в заключений.
Со всем тем его величество тяжко скорбел и по сему обстоятельству отменил все торжества, празднества, увеселения и приказал вельможам своим и придворным дамам облечься в траур[25].
И наследного принца понесли крестить в белых пеленках, что есть знак королевского траура.
Вельможи, и придворные дамы решили, что это не к добру.
Все же г-жа кормилица почла за должное показать инфанта вельможам и придворным дамам, дабы они высказали ему свои пожелания и сделали подарки.
Сеньора де ла Сена повесила ему на шею предохраняющий от яда черный камень, по форме и величине напоминавший орех в золотой скорлупке. Г-жа де Шоффад повязала ему на животик шелковинку, а к ней подвесила лесной орех, что содействует пищеварению. Г-н ван дер Стин из Фландрии преподнес ему гентскую колбасу в пять локтей длиной и в поллоктя толщиной, всеподданнейше пожелав его высочеству, чтобы один запах этой колбасы возбуждал в нем охоту к гентскому clauwaert'у[26]: кто, дескать, любит пиво какого-либо города, тот не может питать неприязнь к тамошним пивоварам. Господин конюший, Хайме Кристобаль Кастильский, подарил его высочеству два кусочка зеленой яшмы и высказал пожелание, чтобы тот носил их на своих прелестных ножках, — от этого, мол, он будет быстрее бегать. При сем присутствовавший шут Ян де Папс сказал:
— Вы бы лучше, сударь, подарили ему трубу Иисуса Навина[27], чтобы при одном ее звуке от него без оглядки бежали целые города со всеми своими обитателями — мужчинами, женщинами и детьми — и располагались на новом месте. Его высочеству не для чего учиться бегать — ему надо уметь обращать в бегство других.
Неутешная вдова Флориса ван Борселе, который был губернатором Веере в Зеландии, подарила наследнику Филиппу камешек, от которого, как она выразилась, мужчины влюбляются, а женщины сохнут.
Но младенец ревел, как теленок.
Тем временем Клаас вложил в ручки сыну сплетенную из ивовых прутьев погремушку с бубенчиками и стал подкидывать его на ладони, приговаривая:
— Дилинь-дилинь, бубенчики! Носи их на колпачке, человечек! Шутам всегда хорошо живется.
И Уленшпигель смеялся.
8
Клаас поймал большого лосося, и в воскресенье Клаас, Сооткин, Катлина и маленький Уленшпигель его съели, но только Катлина ела, как птичка.
— Кума, — сказал ей Клаас, — разве воздух Фландрии стал до того густ, что тебе достаточно им подышать — и ты уже сыта, точно мяса наелась? Вот бы всем так! Дождь заменял бы похлебку, град — бобы, снег превратился бы в дивное жаркое, и усталые путники замаривали бы им червячка.
Катлина кивнула головой, но в ответ не проронила ни слова.
— Ах ты, бедная кума! — сказал Клаас. — Что ты так закручинилась?
Тут Катлина заговорила, но голос ее звучал глухо:
— Лукавый! — сказала она. — Темная ложится ночь… Чую: он близко… клекчет орлом… Вся дрожа, молюсь пречистой деве — напрасно… Нет для него ни стен, ни оград, ни окон, ни дверей. Всюду проникает, как дух… Я сплю на чердаке… Вот заскрипела лестница, вот он уже подле меня. Обхватил крепкими холодными, как мрамор, руками… Льдяный лик, поцелуи влажные, как снег… Пол колышется, словно челн в бурном море.
— Ходи каждый день в церковь, — молвил Клаас, — и господь наш Иисус Христос отгонит от тебя духа из преисподней.
— А до чего ж он красив! — сказала Катлина.
9
Уленшпигеля отняли от груди, и он рос, как тополек.
Клаас уже не так часто целовал сына — чтоб не избаловать малыша, он, любя его, напускал на себя строгость.
Если Уленшпигель, придя домой, жаловался, что его избили, Клаас давал ему еще колотушку за то, что он не отколотил других, и при таком воспитании Уленшпигель стал настоящим львенком.
Если отца не было дома, Уленшпигель просил у матери лиар на игру.
— Что еще за игра? — ворчала Сооткин. — Сиди дома да вяжи вязанки.
Видя, что дело его не выгорело, Уленшпигель поднимал крик на весь дом, но Сооткин, притворяясь, что ничего не слышит, продолжала перемывать в лохани горшки и миски и отчаянно ими гремела. Уленшпигель — в слезы; тогда нежная мамаша, сбросив личину строгости, подходила к нему, гладила по головке и спрашивала:
— Хватит с тебя денье?
Надобно вам знать, что в денье целых шесть лиаров.
Мать боготворила Уленшпигеля, и когда Клааса не было дома, он делал, что хотел.
10
Однажды утром Сооткин обратила внимание, что Клаас задумчиво и понуро ходит из угла в угол по кухне.
— Что, муженек, голову повесил? — спросила она. — Ты бледен, угрюм и рассеян.
Клаас зарычал, как собака:
— Собираются восстановить свирепые королевские указы[28]. Снова смерть пойдет гулять по Фландрской земле. Доносчики станут получать половину имущества своих жертв в том случае, если его стоимость не превышает ста флоринов.
— Мы с тобой люди бедные, — заметила Сооткин.
— Для наушников недостаточно бедные, — возразил Клаас. — Злые коршуны и вороны, что питаются мертвечиной, и на нас с тобой донесут: они и корзиной угля не побрезгуют и разделят его с государем не менее охотно, чем мешок с флоринами. Какое такое богатство было у несчастной Таннекен, вдовы портного Сиса, которую в Хейсте живьем закопали в землю? Латинская Библия, три золотых да кое-какая утварь из английского олова, на которую позарилась ее соседка. Иоанну Мартене сожгли как ведьму, но только сперва бросили в воду, а она не тонула, ну, значит — колдунья. У нее была ветхая рухлядишка да семь золотых — доносчик польстился на половину. Э-эх! Всего не перескажешь. Словом, женушка, давай-ка загодя отсюда подобру-поздорову — после этих указов совсем житья во Фландрии не станет. Скоро каждую ночь будет ездить в колеснице по городу смерть, и мы услышим сухой стук ее костей.
— Не пугай меня, муженек, — молвила Сооткин. — Император — отец Фландрии и Брабанта, а отец долготерпелив, кроток, снисходителен и милосерд.
— Он бы на этом много потерял, — заметил Клаас, — ведь отобранное имущество отходит к нему.
Тут внезапно затрубила труба, загремели литавры глашатая. Клаас и Сооткин, поминутно передавая друг другу Уленшпигеля, побежали вслед за толпой.
Перед ратушей конные глашатаи трубили в трубы и били в литавры, тут же находился профос[29] с жезлом, а прокурор, верхом на коне, держал обеими руками указ императора и собирался прочитать его народу.
Клаас услыхал, что отныне всем и каждому возбраняется печатать, читать, хранить и распространять писания, книги и учения Мартина Лютера, Иоанна Виклифа, Яна Гуса, Марсилия Падуанского, Эколампадия, Ульриха Цвингли, Филиппа Меланхтона, Франциска Ламберта, Иоанна Померана, Отто Брунсельсия, Юста Ионаса, Иоанна Пупериса и Горциана, а равно и Новый завет, изданный Адрианом де Бергесом, Христофом да Ремонда и Иоанном Целем[30], каковые издания полны Лютеровой и прочих ересей, за что богословский факультет Лувенского университета[31] осудил их и запретил.
«Равным образом возбраняется кощунственно писать и изображать или же заказывать кощунственные картины и изваяния господа бога, присноблаженной девы Марии и святых угодников, равно как разбивать, рвать или же стирать картины и изваяния, напоминающие нам о боге, о деве Марии и о тех, кого церковь причислила к лику святых, служащие к их возвеличению и прославлению».
«Кроме того, — говорилось в указе, — всем подданным, независимо от их звания, возбраняется рассуждать и спорить о Священном писании[32], а равно и толковать в нем неясные места, — всем, за исключением признанных богословов, получивших на то соизволение от какого-либо знаменитого университета».
Находившихся на подозрении его святейшее величество навсегда лишал права заниматься честным трудом. Лица же, вновь впавшие в ересь или же закосневшие в таковой, подлежали сожжению, а какому именно: на медленном или на быстром огне, на костре из соломы или у столба — это уже оставлялось на усмотрение судьи. За прочие преступления мужчины, если они дворяне или почетные граждане, подлежали мечному сечению, крестьяне — повешению, а для женщин предусматривалось закапывание в землю живьем. Головы казненных в назидание надлежало выставлять на шестах. Их достояние, в том случае если оно находилось в землях, подвластных императору, отчуждалось в его пользу.
Доносчикам его святейшее величество выделял половину всего принадлежавшего казненным в том случае, если ценность их имущества не превышала ста фландрских червонцев. Свою часть император намеревался употребить на добрые дела, — так же точно он поступил, разграбив Рим.
Клаас вместе с Сооткин и Уленшпигелем понуро побрел домой.
11
Год выдался для Клааса удачный, и он, купив за семь флоринов осла и девять мерок гороху, взобрался на свое верховое животное. Уленшпигеля он посадил сзади. Это был их торжественный выезд в гости к дяде Уленшпигеля, старшему брату Клааса, Иосту, проживавшему недалеко от Мейборга, в немецкой земле.
Смолоду Пост был простодушен и добросердечен, но потом ему довелось претерпеть столько разных несправедливостей, что он озлобился. Он сделался желчным, возненавидел людей и зажил бобылем.
Ему доставляло удовольствие стравливать двух так называемых верных друзей. Кто выходил победителем, изрядно намяв бока другому, тот получал в награду от Иоста три патара.
Еще он любил собирать у себя в жарко натопленной комнате тьму-тьмущую самых старых и самых ехидных кумушек, потчевать их гренками и сладким вином.
Тех, кому пошло на седьмой десяток, он усаживал в уголке за вязанье и советовал отпустить себе ногти подлиннее. И потом с наслаждением слушал, как эти старые совы, держа вязальные спицы под мышкой, урча, причмокивая, хихикая, откашливаясь и отхаркиваясь, треплют имя своего ближнего.
Когда они уж очень расходились, Иост бросал в огонь щетку, и комната мгновенно наполнялась смрадом.
Кумушки поднимали крик; каждая корила другую, что это она испортила воздух, за собой же вины не признавала, а немного спустя все они вцеплялись друг дружке в волосы, и тут Иост еще подбрасывал в печку щеток и посыпал щетиною пол. Когда в комнате ничего уже нельзя было разобрать из-за побоища великого, из-за дыма, валившего густо, из-за пыли, стоявшей столбом, Иост звал двух переодетых стражниками работников, и те хворостиной гнали старух из комнаты, точно стадо злых гусей.
Тем временем Пост, осматривая поле битвы, обнаруживал клочья юбок, чулок, сорочек и старушечьи зубы.
«Потерянный вечер! Никому не вырвали в драке язык», — говорил он себе в глубокой печали.
12
В Мейборгской округе путь Клааса лежал через рощицу. Осел на ходу ухватывал головки репейника. Уленшпигель ловил бабочек шапкой, не слезая с ослика. Клаас угрызал ломоть хлеба, мечтая как следует спрыснуть его пивом в ближайшей таверне. Внезапно до его слуха долетел колокольный звон и слитный гул огромной толпы народа.
— Уж верно, это богомольцы, и, должно полагать, их тут сила, — заключил он. — Держись крепче, сынок, а то как раз шлепнешься. Поглядим, что там такое. А ну, серый, шевелись!
И серый припустился.
Миновав лесок, Клаас очутился на плато, западный склон которого спускался к реке. На восточном склоне маячила часовенка; ее кровля была увенчана изображением божьей матери, а у ног богородицы виднелись два вытесанных из камня бычка. На лестнице стоял и, посмеиваясь, ударял в колокол отшельник, окруженный полсотней прислужников с зажженными свечами, звонарями, барабанщиками, трубачами, дудочниками, свирельщиками, волынщиками и множеством разудалых парней, в руках у которых были жестяные коробки с железками, и все эти люди до времени хранили молчание.
По дороге сомкнутым строем, по семи человек в каждом ряду, все в шлемах, шли, опираясь на неоструганные посохи, пять с лишним тысяч богомольцев. К ним с великим шумом подстраивались новые толпы, появлявшиеся откуда-то со стороны, тоже в шлемах и с посохами. Ряд за рядом проходя мимо часовни, они подставляли под благословение свои посохи, брали у прислужников каждый по свече и уплачивали за это полфлорина отшельнику.
Шествие это так растянулось, что у передних свечи уже догорали, меж тем как у задних только-только еще разгорались.
Перед изумленным взором Клааса, Уленшпигеля и осла мелькало великое множество самых разнообразных животов — широких, высоких, продолговатых, остроконечных, горделивых, подтянутых или же дряблых, свисавших на естественные свои подпорки. И на всех богомольцах высились шлемы.
Тут были шлемы троянские, похожие на фригийские колпаки или же увенчанные султанами из рыжего конского волоса. На некоторых красовались шлемы с распростертыми крыльями, хотя, глядя на этих мордастых пузанов, трудно было представить себе их парящими в воздухе. На иных торчали шишом шишаки.
Большинство, однако, надело старые ржавые шлемы, времен Гамбриниуса[33] — этот король фландрский и король пивной жил за девятьсот лет до Рождества Христова и на случай попойки, чтобы не оказаться безоружным, всегда носил на голове кружку.
Внезапно заныли, забили, запели, загудели, задудели, зазвонили, загремели колокола, волынки, свирели, барабаны и железки.
Этот содом послужил богомольцам знаком, по которому они, семерка супротив семерки, давай смазывать друг друга свечками по лицу. Вследствие этого на всех напал великий чох. Потом загуляли посохи. А там — кто во что горазд: один лягается, другой бодается, третий пинается. Вон тот ринулся в бой на бараний манер — головой вперед, надвинув шлем по самые плечи, и сослепу наткнулся на семерку рассвирепевших богомольцев, а уж те за себя постояли.
Плаксы и трусы ревели от боли, но в то время как они все еще хныкали и жалобно взывали к богу, на них с быстротой молнии налетели две дерущиеся семерки богомольцев, опрокинули несчастных плакс и безжалостно по ним прошлись.
А отшельник смеялся.
Другие семерки, сплетясь, точно виноградные лозы, скатились по обрыву прямо в реку, но и там, не охладив ярости, все еще колошматили друг дружку.
А отшельник смеялся.
Те, что остались на плато, подставляли один другому синяки, вышибали зубы, задавали волосяного деру, рвали в клочья штаны и полукафтаны.
А отшельник смеялся и приговаривал:
— Так, так, ребятушки! Кто лихо бьет, тот крепко любит. На сильного бойца все красотки зарятся. Риндбибельская божья матерь, вот это, я понимаю, мужчины!
А богомольцы рады стараться.
Тем временем Клаас приблизился к отшельнику, Уленшпигель же, крича и хохоча, рукоплескал дерущимся:
— Отец, — молвил Клаас, — что эти бедняги такого натворили? Кто их неволит избивать друг дружку до полусмерти?
Но отшельник не слушал его и кричал:
— Эй вы, дармоеды, что приуныли? Устали кулаки — слава тебе господи, у вас ноги есть. Они вам не на то даны, чтобы удирать, как зайцы. Чем можно высечь из камня огонь? Ежели по камню ударить железом. Что лучше всего распаляет мужчину в летах? Ежели остервениться и надавать ему тумаков.
При этих словах добрые богомольцы сызнова пустили в ход шлемы, кулаки и пинки. В этой лютой битве сам стоглазый Аргус не различил бы ничего, кроме облака пыли да кончика шлема.
Внезапно отшельник зазвонил в колокол. Дудки, барабаны, трубы, волынки, свирели и железки разом стихли. Это был сигнал к миру.
Богомольцы подобрали раненых. У некоторых воинов распухшие от злости языки не помещались во рту. Но потом они все же сами вошли обратно в свои обиталища. Хуже всего пришлось тем, кто надвинул шлем чуть не по шею, — как они ни трясли головой, шлемы держались крепче, нежели зеленые сливы на ветке, и падать с головы не желали.
Наконец отшельник сказал богомольцам:
— Теперь пусть каждый пропоет «Богородицу», и можете идти к своим благоверным. Через девять месяцев в нашей округе будет столько же новорожденных, сколько в сегодняшнем сражении участвовало доблестных ратоборцев.
Тут отшельник запел «Богородицу», другие подхватили. А колокол все звонил, все звонил.
Отшельник призвал на них благословение Риндбибельской божьей матери и сказал:
— С миром изыдите!
Богомольцы, горланя, распевая песни, наступая друг другу на пятки, двинулись в Мейборг. Жены, и старые и молодые, ждали их на порогах домов, и они ворвались в свои собственные дома, будто лихие вояки в приступом взятый город.
Колокола в Мейборге звонили без устали. Мальчишки свистели, орали, играли на rommelpot'ах[34].
Кружки, кубки, чарки, стаканы, рюмки, полуштофы ласкали слух своим звеньканьем. Вино лилось в глотки потоками.
Трезвон все еще не смолкал, ветер все еще по временам доносил мужские, женские и детские поющие голоса, когда Клаас снова обратился к отшельнику и спросил, какие небесные блага надеются снискать эти добрые люди столь суровой епитимьей.
Отшельник засмеялся и сказал:
— Ты видишь на крыше двух каменных бычков? Стоят они там в память о чуде святого Мартина: святой Мартин превратил двух волов в двух быков и заставил их бодаться. Потом он час с лишним мазал им сальной свечкой и тер корой морды. Я как узнал про это чудо — сейчас купил за большие деньги у его святейшества грамоту и поселился здесь. С той поры все старые хрычи и пузаны из Мейборга и из окрестных сел уверовали, что при моем содействии богородица взыщет их своею милостью, ежели они вместо елеепомазания хорошенько отхлещут друг друга свечками, а потом отдубасят неоструганными палками, а неоструганная палка — это знак силы. Женщины посылают сюда своих старых мужей. Дети, зачатые после паломничества, рождаются неутомимыми, отважными, неуемными, прыткими, — вояки из них выходят отличные. Ты меня узнаешь? — неожиданно обратился он с вопросом к Клаасу.
— Да, — отвечал Клаас, — ты мой брат Пост.
— Он самый, — подтвердил отшельник. — А что это за малыш корчит мне рожи?
— Это твой племянник, — отвечал Клаас.
— Какая разница между мной и императором Карлом?
— Большая разница, — отвечал Клаас.
— Нет, небольшая, — возразил Пост. — Он для своей пользы и удовольствия заставляет людей убивать друг друга, я же для своей пользы и удовольствия заставляю их колотить друг друга, только и всего.
Затем он повел родичей в свое жилище, и там они пировали и веселились одиннадцать дней без передышки.
13
Простившись с братом, Клаас опять сел на своего осла, а Уленшпигеля посадил сзади. Когда они проезжали через главную площадь в Мейборге, он заметил, что собравшиеся там во множестве и стоявшие кучками богомольцы при виде их приходят в ярость и, размахивая посохами, восклицают; «У, негодник!» А все дело в том, что Уленшпигель, спустив штаны и задрав рубашонку, показывал им задний свой лик.
Видя, что богомольцы грозят его сыну, Клаас спросил его:
— За что это они на тебя сердятся?
— Я, батюшка, сижу себе на ослике да помалкиваю, а они ни с того ни с сего обзывают меня негодником, — отвечал Уленшпигель.
Клаас посадил его перед собой.
На новом месте Уленшпигель показал богомольцам язык — те завопили, замахали кулаками и, подняв (свои неоструганные посохи, бросились бить Клааса и осла.
Но Клаас, дабы избежать расправы, вонзил пятки в бока ослу и, в то время как преследователи, пыхтя, мчались вдогонку, обратился к сыну:
— Видно, в недобрый час появился ты на свет. И то сказать: сидишь передо мной, никого не трогаешь, а они рады убить тебя на месте.
Уленшпигель смеялся.
Проезжая через Льеж[35], Клаас узнал, что бедные поречане умирали с голоду и что они подлежали юрисдикции официала[36], то есть суда духовных особ. Они подняли восстание и потребовали хлеба и светского суда. По милости монсеньера де ла Марка[37], сердобольного архиепископа, иных обезглавили, иных повесили, иных сослали в изгнание.
Клаасу попадались на дороге изгнанники, бежавшие из тихой льежской долины, а неподалеку от города он увидел на деревьях трупы людей, повешенных за то, что им хотелось есть. И он плакал над ними.
14
Клаас привез домой от брата Иоста полный мешок денег да красивую кружку английского олова, и теперь в его доме и в праздники и в будни пир шел горой, ибо мясо и бобы у него не переводились.
Клаас частенько наливал в большую оловянную кружку dobbelkuyt'а и осушал ее до капельки.
Уленшпигель ел за троих и копался в блюдах, как воробей в куче зерна.
— Того и гляди, солонку съест, — заметил однажды Клаас.
— Если солонки сделаны, как у нас, из хлебной корки, то время от времени их надо съедать, иначе в них черви заведутся, — отвечал Уленшпигель.
— Зачем ты вытираешь жирные руки о штаны? — спросила Сооткин.
— Чтобы штаны не промокали, — отвечал Уленшпигель.
Тут Клаас как следует хлебнул из кружки.
— Отчего это у тебя здоровенная кружища, а у меня махонький стаканчик? — спросил Уленшпигель.
— Оттого что я твой отец и набольший в доме, — отвечал Клаас.
— Ты пьешь уже сорок лет, а я всего только девять, — возразил Уленшпигель, — твое время прошло, мое начинается, значит, мне полагается кружка, а тебе стаканчик.
— Сынок, — сказал Клаас, — кто захочет влить в бочонок Целую бочку, тот прольет пиво в канаву.
— А ты будь умней и лей свой бочонок в мою бочку — я ведь побольше твоей кружки, — отрезал Уленшпигель.
Клаас пришел в восторг и позволил ему выпить целую кружку. Так Уленшпигель научился балагурить за угощение.
15
Сооткин носила под поясом наглядное доказательство того, что ей скоро вновь предстоит сделаться матерью. Катлина тоже была беременна и от страха никуда не выходила из дому.
Сооткин пошла ее навестить.
— Ах! — воскликнула удрученная Катлина. — Что мне делать с несчастным плодом моего чрева? Придушить его, что ли? Нет, лучше умереть самой! Но ведь если стражники найдут у меня внебрачное дитя, они с меня, как с какой-нибудь гулящей девки, сдерут двадцать флоринов, да еще и высекут на Большом рынке.
Сооткин сказала ей несколько ласковых слов в утешение и задумчиво побрела домой.
Как-то раз она спросила Клааса:
— Если у меня будет двойня, ты меня не побьешь, муженек?
— Не знаю, — отвечал Клаас.
— А если этого второго ребенка рожу не я и если он, как у Катлины, неизвестно от кого — может, от самого черта? — допытывалась Сооткин.
— От чертей бывает огонь, дым, смерть, но не дети, — возразил Клаас. — Катлинина ребенка я бы усыновил.
— Да ну? — удивилась Сооткин.
— Мое слово свято, — отвечал Клаас.
Сооткин понесла эту весть Катлине.
Катлина обрадовалась и, не помня себя от счастья, воскликнула:
— Ах он, благодетель! Спас он меня, горемычную. Господь его благословит, и дьявол его благословит, — промолвила она с дрожью в голосе, — если только это дьявол породил бедного моего ребенка — вон он шевелится у меня под сердцем.
Сооткин родила мальчика, Катлина — девочку. Обоих понесли крестить как детей Клааса. Сын Сооткин был назван Гансом и скоро умер, дочь Катлины была названа Неле и выжила.
Напиток жизни она пила из четырех сосудов: из двух сосудов у Катлины и из двух сосудов у Сооткин. Обе женщины ласково пререкались, кому из них кормить ребенка. Но Катлина вскоре вынуждена была лишить себя этого удовольствия, чтобы не подумали, откуда же у нее молоко, раз она не рожала.
Когда ее дочку Неле отняли от груди, Катлина взяла ее к себе и пустила к Клаасам только после того, как девочка стала называть ее мамой.
Соседи одобряли Катлину за то, что она взяла на воспитание девочку Клаасов: она, мол, живет — горя не знает, а те никак из нужды не выбьются.
16
В одно прекрасное утро Уленшпигель сидел дома и от скуки мастерил из отцовского башмака кораблик. Он уж воткнул в подошву грот-мачту и продырявил носок, чтобы поставить там бушприт, как вдруг в дверях показалась верхняя часть тела всадника и голова коня.
— Есть кто дома? — спросил всадник.
Есть, — ответил Уленшпигель, — полтора человека — и лошадиная голова.
— Это как же? — спросил всадник.
— А так же, — отвечал Уленшпигель. — Целый человек — это я, полчеловека — это ты, а лошадиная голова — это голова твоего коня.
— Где твои родители? — спросил путник.
— Отец делает так, чтоб было и шатко и валко, а мать старается осрамить нас или же ввести в убыток, — отвечал Уленшпигель.
— Говори яснее, — молвил всадник.
— Отец роет в поле глубокие ямы, чтобы туда свалились охотники, которые топчут наш посев, — продолжал Уленшпигель. — Мать пошла денег призанять. И вот если она вернет их не сполна, то это будет срам на нашу голову, а если отдаст с лихвой, то это будет нам убыток.
Тогда путник спросил, как ему проехать.
— Поезжай там, где гуси, — отвечал Уленшпигель.
Путник уехал, но когда Уленшпигель принялся из второго Клаасова башмака делать галеру, он возвратился.
— Ты меня обманул, — сказал он. — Там, где плещутся гуси, — грязь невылазная, трясина.
— А я тебя посылал не туда, где гуси плещутся, а туда, где они ходят, — возразил Уленшпигель.
— Одним словом, покажи мне дорогу, которая идет в Хейст, — молвил путник.
— У нас во Фландрии передвигаются люди, а не дороги, — возразил Уленшпигель.
17
Однажды Сооткин сказала Клаасу:
— Муженек, у меня душа не на месте: Тиль вот уже третий день домой не является. Как ты думаешь, где он?
На это ей Клаас с унылым видом ответил:
— Он там, где все бродячие собаки, то есть на большой дороге, с такими же, как и он, сорванцами. Наказание господне, а не сын. Когда он родился, я подумал, что это будет нам отрада на старости лет, что это будет помощник в доме. Я надеялся, что из него выйдет честный труженик, но до воле злой судьбы из него вышел бродяга и шалопай.
— Ты уж больно строг к своему сыну, муженек, — заметила Сооткин. — Ведь ему только девять лет — когда же и пошалить, как не в эту пору? Он — все равно что дерево: дерево сперва сбрасывает чешуйки, а потом уж обряжается в свою красу и гордость — в листья. Он озорник, это верно, но озорство со временем ему еще пригодится, если только он обратит его не на злые шутки, а на полезное дело. Он любит подтрунить над кем-нибудь, но со временем и это ему пригодится в какой-нибудь веселой компании. Он все хохочет, но если у человека с детства постное лицо, то это дурной знак: что же с ним будет потом? Он, говоришь, много бегает? Стало быть, того требует рост. Бездельничает? Ну так ведь в его возрасте еще не сознают, что труд есть долг. Иной раз несколько суток кряду шляется неизвестно где? Да ведь ему невдогад, что он нас этим огорчает, а сердце у него доброе, и он нас любит.
В ответ Клаас только головой покачал, а когда он уснул, Сооткин долго плакала втихомолку. Под утро привиделось ей, будто ее сын лежит больной где-то на дороге, и она вышла посмотреть, не идет ли он. Но никого не было видно. Тогда она стала смотреть в окно. Чуть заслышит легкие детские шаги — сердце так и забьется, а увидит бедная мать, что это не Уленшпигель, — и в слезы.
Уленшпигель же со своими дрянными товарищами был в это время в Брюгге, на субботнем базаре.
Кого-кого только на этой толкучке не встретишь! Башмачников в палатках, старьевщиков, антверпенских meesevanger'ов, по ночам ловящих с совою синиц, собачников, продавцов кошачьих шкурок, идущих на перчатки, манишки и камзолы, покупателей всякого разбора: горожан и горожанок, лакеев и служанок, хлебодаров, ключников, поваров и поварих, и все это выкрикивает, перекрикивает, хвалит и хает товар.
В одном углу была натянута на четыре шеста красивая парусиновая палатка. У входа стояли поселянин из Алоста и два монаха, собиравшие пожертвования; поселянин показывал благочестивому люду всего за один натар осколок плечевой кости св.Марии Египетской[38]. Хриплым голосом восхвалял он добродетели этой святой и в славословии своем не забывал упомянуть, как она, за неимением денег, боясь погрешить против святого духа, если откажет в вознаграждении за труд, уплатила некоему юному перевозчику натурой.
Оба монаха кивали головой в знак того, что все это сущая правда. Поодаль дебелая краснерожая бабища, блудливая, как Астарта[39], дула что есть мочи в мерзкую волынку, а премиленькая девчурка пела-заливалась, будто пеночка, но ее никто не слушал. Над входом в палатку, подвешенная веревками за ушки к двум шестам, болталась бадья со святой водой из Рима — так, по крайности, уверяла бабища, а два монаха утвердительно качали головой. Уленшпигель поглядел на бадью и призадумался.
К одному из шестов, на коих держалась палатка, был привязан ослик, которого, по всем признакам, кормили не столько овсом, сколько соломой. Он тупо, без всякой надежды обнаружить головку репейника, уставил глаза в землю.
— Ребята! — воскликнул Уленшпигель, показав на бабищу, на монахов и на тоскующего осла. — Хозяева поют весело — пусть-ка и ослик попляшет.
С этими словами он сбегал в ближайшую лавочку, купил на шесть лиаров перцу и насыпал ослу под хвост.
Восчувствовав действие перца, осел попытался удостовериться, откуда это непривычное ощущение жара под хвостом. Решив, что его припекает черт, и вознамерившись спастись от него бегством, он заверещал, забил ногами и изо всех сил рванулся. При первом же сотрясении бадья опрокинулась, и вся святая вода вылилась на палатку и на тех, кто в ней находился. Вслед за тем сползла парусина и распростерла влажный покров надо всеми, кто слушал историю Марии Египетской. Из-под парусины до слуха Уленшпигеля и его приятелей доносились истошные вопли и стоны, барахтавшиеся под нею благочестивые слушатели перекорялись (ибо каждый считал виновником падения бадьи не себя, а своего товарища по несчастью), и в неописуемой злобе влепляли друг дружке изрядного тулумбаса. Под напором бойцов парусина надувалась. Как только перед взором Уленшпигеля отчетливо обрисовывалась чья-либо округлость, он незамедлительно втыкал в нее булавку. В ответ под парусиной поднимался яростный вой и усиленно работали кулаки.
Это было презабавно, однако дело пошло еще веселей, когда ослик дал тягу и увлек за собой парусину, бадью, шесты, а равно и вцепившихся в свое достояние владельца палатки, его супругу и дочку. Наконец утомленный ослик поднял морду и запел, причем в этом своем пении он делал перерывы только для того, чтобы оглянуться, скоро ли угаснет огонь, жгущий его под хвостом. Благочестивые люди все еще бились, а монахи, не обращая на них ни малейшего внимания, подбирали деньги, упавшие с тарелок, Уленшпигель же не без пользы для себя благоговейно им помогал.
18
Меж тем как непутевый сын угольщика возрастал в веселии и озорстве, жалкий отпрыск великого императора прозябал в тоске и унынии. На глазах у дам и вельмож этот заморыш влачил по переходам и покоям Вальядолидского дворца свое тщедушное тело с непомерно большой головой, на которой топорщились белые волосы, и еле передвигал неустойчивые ноги.
Выискав переход потемнее, он садился, вытягивал ноги и так сидел часами. Если кто-нибудь из слуг нечаянно наступал ему на ногу, он приказывал высечь его и с наслаждением слушал, как тот кричит, но смеяться никогда не смеялся.
На другой день он устраивал ту же ловушку в каком-нибудь другом темном переходе — садился и вытягивал ноги. Дамы, вельможи и пажи, проходя или пробегая мимо, натыкались на него, падали и ушибались. Ему это доставляло удовольствие, но смеяться он никогда не смеялся.
Если кто-нибудь спотыкался, но не падал, инфант кричал, как будто его резали, и ему приятно было видеть на лице человека испуг, но смеяться он никогда не смеялся.
О поведении инфанта довели до сведения его святейшего величества, однако император приказал не обращать на него внимания: если-де он не хочет, чтобы ему наступали на ноги, так пусть не разваливается.
Филиппу это не понравилось, но он ничего не сказал, и теперь его можно было видеть лишь в ясные летние дни, когда он грел на солнышке свое зябкое тело.
Однажды, возвратившись из похода, Карл увидел, что Филипп, как водится, изнывает от скуки.
— Сын мой, — сказал он, — до чего же ты не похож на меня! В твои годы я лазал по деревьям и ловил белок, спускался по канату с отвесной скалы, чтобы достать из гнезда орлят. Я рисковал сложить там кости, но они стали только крепче от этой забавы. Когда я выходил с доброй моей аркебузой на охоту, дикие звери, завидев меня, прятались в лесной чаще.
— Ах, государь батюшка, у меня живот болит! — пожаловался инфант.
— Самое верное средство от этой хвори — паксаретское вино, — сказал Карл.
— Я не выношу вина, — у меня, государь батюшка, голова болит.
— Тебе надо бегать, сын мой, — сказал Карл, — надо прыгать, скакать, как все твои сверстники.
— У меня, государь батюшка, ноги не гнутся.
— Как же они будут гнуться, если ты их не упражняешь, точно они у тебя деревянные? — возразил Карл. — Погоди ты у меня, я велю привязать тебя к быстрому коню!
Инфант расплакался.
— Не привязывайте меня, государь батюшка, у меня спина болит, — сказал он.
— Где же тебе не больно? — спросил Карл.
— Если меня оставить в покое, мне нигде не будет больно, — отвечал инфант.
— Что ж, по-твоему, — теряя терпение, продолжал император, — ты, престолонаследник, так и будешь всю жизнь думу думать, как какой-нибудь писец? Писцам, чтобы марать пергамент, потребны тишина, уединение, сосредоточенность. Тебе, отпрыску воинственного рода, нужны пылкая кровь, глаза рыси, хитрость лисы, сила Геркулеса. Чего ты крестишься? А, черт! А, черт! Львенку не пристало обезьянничать баб-святош.
— К вечерне звонят, государь батюшка, — молвил инфант.
19
Май и июнь в этом году были в полном смысле слова месяцами цветов. Никогда еще во Фландрии так не благоухал боярышник, никогда еще в садах не было столько роз, столько жасмина и жимолости. Когда ветер дул из Англии и относил ароматы цветущей земли к востоку, все, в особенности антверпенцы, весело поднимали нос и говорили:
— Чувствуете, какой приятный ветерок потянул из Фландрии?
А проворные пчелы собирали с цветов мед, делали воск и клали яички в переполненные ульи. О, как дивно звучит музыка пчелиного труда под голубым лучезарным небом, обнимающим плодоносную землю!
Ульи спешно делались из тростника, соломы, ивовых прутьев, травы. Корзинщики, столяры, бочары притупили на этой работе свои инструменты. Корытники давно уже были нарасхват.
В каждом рою насчитывалось тридцать тысяч пчел и две тысячи семьсот трутней. Соты были до того хороши, что настоятель собора в Дамме послал императору Карлу одиннадцать рамок в знак благодарности за то, что тот вновь возвысил священную инквизицию. Мед съел Филипп, но впрок это ему не пошло.
Жулики, нищие, бродяги, полчище праздношатающихся тунеядцев, прогуливавших по большим дорогам свою лень и предпочитавших пойти на виселицу, нежели заняться делом, — все они, почуяв запах меда, явились за своей долей. По ночам они толпами ходили вокруг да около.
Клаас тоже наготовил ульев и загонял в них рои. Некоторые были уже полны, другие пока еще пустовали. Клаас ночи напролет караулил сладостное свое достояние. Когда же он валился с ног от усталости, то поручал это Уленшпигелю. Тот охотно за это брался.
И вот однажды ночью Уленшпигель спрятался от холода в улей и, скорчившись, стал поглядывать в летки, каковых было всего два.
Уленшпигеля уже клонило ко сну, но тут вдруг затрещала живая изгородь, потом послышался один голос, другой — ну конечно, воры! Уленшпигель заглянул в леток и увидел двух мужчин, длинноволосых и бородатых, а ведь бороду тогда носили только дворяне.
Переходя от улья к улью, они наконец остановились подле того, где сидел Уленшпигель, и, подняв, сказали:
— Возьмем-ка этот — он потяжелей других.
Затем они просунули в него палки и потащили.
Уленшпигелю это катанье в улье особого удовольствия не доставляло. Ночь была светлая. Воры первое время двигались молча. Через каждые пятьдесят шагов они останавливались, отдыхали, потом шли дальше. Шагавший впереди начал злобно ворчать на тяжесть ноши, шагавший сзади жалобно хныкал. Надобно знать, что на свете существует два сорта лодырей; одни клянут всякую работу, другие ноют, когда им приходится что-нибудь делать.
Уленшпигель с решимостью отчаяния схватил переднего за волосы, а заднего за бороду и давай трясти, пока наконец злюка, которому эта забава наскучила, не крикнул нюне:
— Оставь мои волосы, а то я так тресну тебя по башке, что она провалится в грудную клетку, и будешь ты смотреть на свет божий через ребра, как вор через тюремную решетку.
— Да что ты, братец, — сказал нюня, — это ты дергаешь меня за бороду!
— У чесоточных я вшей не ищу, — отрезал злюка.
— Эй, сударь, — взмолился нюня, — не раскачивай ты так сильно улей, — мои бедные руки не выдержат!
— Вот я тебе их сейчас оторву напрочь! — пригрозил злюка.
С этими словами он поставил улей наземь и бросился на своего товарища. И тут они вступили в бой, один — бранясь, другой — моля о пощаде.
Пока сыпался град тычков, Уленшпигель вылез из улья, оттащил его в ближний лес, запомнил место, где он его спрятал, и пошел домой. Так пользуются хитрецы чужими сварами.
20
Уленшпигелю было пятнадцать лет, когда он соорудил однажды в Дамме маленькую палатку на четырех шестах и объявил, что каждый может здесь лицезреть в изящной соломенной раме свое собственное изображение — как нынешнее, так равно и будущее.
Если к палатке подходил спесивый, распираемый тщеславием-законник, Уленшпигель высовывался из рамы, придавал себе обличье старой обезьяны и говорил:
— Тебе, старая рожа, пора червей кормить, а не землю бременить. Ведь я же вылитый твой портрет, ученая твоя образина!
Если Уленшпигель имел дело с каким-нибудь лихим рубакой, то мгновенно прятался, вместо своего лица выставлял в раме большущее блюдо с мясом и хлебом и говорил:
— В бою из тебя похлебку сварят. Ну как тебе нравится мое предсказание, доблестный орел-стервятник?
Когда же к Уленшпигелю подходил старик, убеленный непочтенными сединами, и его молодая жена, Уленшпигель прятался, как в случае с солдафоном, а затем показывала раме деревцо, на ветках которого висели роговые черенки ножей, роговые ларцы, роговые гребешки, роговые письменные приборы, и спрашивал:
— Из чего сделаны все эти штуковины, милостивый государь? Не из рогового ли дерева, что растет в садах у старых мужей? Пусть-ка теперь кто-нибудь посмеет сказать, что от рогоносцев нет никакой пользы для государства!
Тут Уленшпигель выставлял в раме рядом с деревцом свое молодое лицо.
Старикашка давился кашлем от злости, красотка гладила его по голове и, когда тот успокаивался, подходила, улыбаясь, к Уленшпигелю.
— А мое изображение покажешь? — спрашивала она.
— Подойди поближе, — подзывал ее Уленшпигель.
Как скоро она подходила, он набрасывался на нее с поцелуями.
— Тугая молодость, которая прячется за высокомерными гульфиками, — вот твое изображение, — говорил он.
После этого красотка отходила, вручив ему один, а то и целых два флорина.
Жирному, толстогубому монаху, которому тоже хотелось посмотреть на свое нынешнее и будущее изображение, Уленшпигель говорил:
— Сейчас ты ларь для ветчины, а потом быть тебе винным погребом, ибо солененькое позывает на винопийство, — что, не правду я говорю, толстопузый? Дай патар за то, что я угадал.
— Сын мой, мы не носим с собой денег, — возражал монах.
— Стало быть, деньги носят тебя, — не сдавался Уленшпигель. — Я знаю, они у тебя в сандалиях. Дай сюда твои сандалии.
Но монах ему:
— Сын мой, это достояние обители! Впрочем, так и быть, вот тебе два патара за труды.
Монах протягивал деньги. Уленшпигель благосклонно их принимал.
Так показывал он изображения жителям Дамме, Брюгге, Бланкенберге и даже Остенде.
И, вместо того чтобы сказать по-фламандски: Ik ben и lieden spiegel, то есть: «Я ваше зеркало», он проглатывал слоги и произносил так, как и сейчас еще произносят в Восточной и Западной Фландрии: Ik ben ulen spiegel.
Вот откуда пошло его прозвище — Уленшпигель.
21
Придя в возраст, он повадился шататься по ярмаркам и рынкам. Если ему попадались гобоист, скрипач или же волынщик, то он за патар брал у них уроки музыки.
Особенно он навострился играть, на rommelpot'е — самодельном инструменте, состоявшем из горшка, пузыря и длинной тростинки. Мастерил он его так: с вечера натягивал смоченный пузырь на горшок, вставлял туда тростинку, так что она одним концом упиралась в дно, а верхнее ее коленце перевязывал и подпирал им пузырь, отчего пузырь натягивался до отказа. К утру пузырь высыхал и при ударах бухал, как тамбурин, а тростинка звучала под рукою приятней, чем виола. На Крещенье Уленшпигель брал свой горшок, хрипевший и лаявший, как цепной пес, и шел по домам Христа славить с гульбою мальчишек, один из которых нес блестящую бумажную звезду.
Если в Дамме появлялся живописец с целью увековечить на полотне членов какой-нибудь гильдии, Уленшпигель, только чтобы посмотреть, как он работает, предлагал ему свои услуги по части растирания красок за скромное вознаграждение в виде трех лиаров, ломтя хлеба и кружки пива.
Растирая краски, он изучал манеру мастера. Когда тот отлучался, он старался ему подражать, но злоупотреблял красной краской. Он пытался нарисовать Клааса, Сооткин, Катлину, Неле, а также горшки и кружки. Клаас, поглядев на его рисунки, предрек, что со временем он научится разрисовывать speelwagen'ы, — так во Фландрии и в Зеландии называются фургоны с бродячим цирком, — и будет загребать деньги лопатой.
У каменщика, который подрядился сделать на клиросе в Соборе богоматери для престарелого настоятеля сиденье, на котором тот, когда устанет, мог бы сидеть так, чтобы молящимся казалось, будто он стоит, Уленшпигель научился резать по камню и дереву.
Уленшпигель первый сделал резную рукоять для ножа, и в Зеландии такие рукояти не вывелись доныне. Он сделал ее в виде клетки. Внутрь положил выточенный череп. Сверху прикрепил к клетке выточенную лежащую собаку. Все это должно было означать: «Клинок, верный по гроб жизни».
Так начали сбываться предсказания Катлины, что, мол, кем-кем только Уленшпигель не будет; и ваятелем, и живописцем, и крестьянином, и дворянином, — должно заметить, что у рода Клаасов был свой герб, переходивший от отцов к детям: три серебряные кружки в натуральную величину на поле цвета bruinbier'а[40].
Но ни на одном ремесле Уленшпигель остановиться не мог, и в конце концов Клаас объявил ему, что если так будет продолжаться, то он его выгонит.
22
Однажды император, возвратившись из похода, спросил, почему его сын Филипп не вышел с ним поздороваться.
Архиепископ, воспитатель инфанта, ответил, что инфант не пожелал выйти, ибо, по его словам, он любит только книги и уединение.
Император осведомился, где в настоящую минуту находится инфант.
Воспитатель сказал, что его нужно искать по темным закоулкам. И они отправились на поиски.
Пройдя длинную анфиладу комнат, император и архиепископ в конце концов очутились в каком-то чулане с земляным полом, куда свет проникал через небольшое отверстие в стене. В землю был вбит столб, а к столбу подвешена маленькая славненькая мартышка, присланная его высочеству в подарок из Индии, с тем чтобы она своими резвостями его забавляла. Внизу еще дымились непрогоревшие дрова, в чулане стоял мерзкий запах паленой шерсти.
Зверек так мучился, издыхая на огне, что при взгляде на его маленькое тельце казалось, будто это не тельце существа, в котором только что билась жизнь, но какой-то кривой, узловатый корень. Рот, широко раскрытый точно в предсмертном крике, был полон кровавой пены, мордочка мокра от слез.
— Кто это сделал? — спросил император.
У воспитателя язык прилип к гортани. Оба молчали, сумрачные и возмущенные.
Внезапно в заднем темном углу кто-то как будто кашлянул. Его величество оглянулся и увидел инфанта Филиппа — тот, весь в черном, сосал лимон.
— Дон Фелипе, — сказал император, — подойди и поздоровайся со мной.
Инфант, не шевелясь, смотрел на него испуганным и недобрым взглядом.
— Это ты сжег обезьянку? — спросил император.
Инфант потупился.
— Если ты способен на такое зверство, то имей, по крайней мере, мужество в этом признаться, — молвил император.
Инфант не проронил ни слова.
Император выхватил у инфанта лимон, и, зашвырнув, бросился на сына с кулаками, сын от страха обмочился, но архиепископ остановил императора и сказал ему на ухо:
— Его высочество в один прекрасный день станет великим сожигателем еретиков.
Император усмехнулся, и они вышли, оставив инфанта один на один с обезьянкой.
Но далеко не одни обезьяны умирали тогда на кострах.
23
Пришел ноябрь, студеный месяц, когда кашлюны с наслаждением предаются музыке харканья. В эту пору мальчишки целыми стаями совершают набеги на чужие огороды и воруют что придется — к великой ярости крестьян, которые с вилами и дубинами попусту за ними гоняются.
Как-то вечером Уленшпигель, возвращаясь после одного из таких набегов домой, услышал, что под забором кто-то скулит. Нагнувшись, он увидел лежавшую на камнях собачку.
— Бедный песик! Что ты тут делаешь в такой поздний час? — спросил он.
Погладив собачонку и почувствовав, что спина у нее мокрая, словно ее незадолго перед тем кто-то швырнул в воду, Уленшпигель, чтобы согреть, взял ее на руки.
Придя домой, он сказал:
— Я раненого принес. Что с ним делать?
— Перевязать, — посоветовал Клаас.
Уленшпигель положил собаку на стол. При свете лампы Клаас, Сооткин и он обнаружили, что это рыженький люксембургский шпиц и что на спине у него рана. Сооткин промыла рану, смазала мазью и перевязала тряпочкой. Видя, что Уленшпигель несет шпица к себе на кровать, Сооткин выразила желание взять его к себе — она боялась, как бы Уленшпигель, который, по ее выражению, вертится во сне, точно бес под кропилом, не придушил собачонку.
Но Уленшпигель настоял на своем. И он так старательно ухаживал за раненым, что через неделю тот уже бегал с нахальным видом заправского барбоса.
А schoolmeester, школьный учитель, назвал пса Титом Бибулом Шнуффием[41]: Титом — в честь сердобольного римского императора, подбиравшего всех бездомных собак; Бибулом — за то, что он, как настоящий пьяница, пристрастился к bruinbier'у, а Шнуффием — за то, что он вечно что-то вынюхивал и совал нос во все крысиные и кротовые норы.
24
В конце Соборной улицы по берегам глубокого пруда стояли, одна против другой, две ивы.
Уленшпигель протянул между ивами канат и в одно из воскресений, когда в соборе кончилась служба, начал на этом канате плясать, да так ловко, что толпа зевак рукоплесканиями и криками выразила ему свое одобрение. Потом он спрыгнул наземь и обошел зрителей с тарелкой — тарелка быстро наполнилась, но из всей выручки Уленшпигель взял себе только одиннадцать ливров, а остальное высыпал в передник Сооткин.
В следующее воскресенье Уленшпигелю вздумалось еще разок поплясать на канате, однако гадкие мальчишки, позавидовав его ловкости, надрезали канат, и не успел Уленшпигель несколько раз подпрыгнуть, как он лопнул, а сам Уленшпигель полетел в воду.
В то время как он плыл к берегу, проказники кричали ему:
— Эй, Уленшпигель, знаменитый плясун, как твое драгоценное здоровье? Ты что же это, карпов плясать учишь?
Как скоро Уленшпигель вылез из воды, мальчишки со страху, что он им всыплет, дунули было от него, но он, отряхнувшись, крикнул:
— Чего вы? Приходите в воскресенье: я вам покажу разные фокусы на канате да еще выручкой поделюсь.
В следующее воскресенье мальчишки не надрезали канат — напротив, они смотрели в оба, как бы кто другой его не тронул, а то ведь народу собралась уйма.
— Уленшпигель им сказал:
— Дайте мне каждый по башмаку. Большие, маленькие — безразлично, — бьюсь об заклад, что они у меня все запляшут.
— А что мы получим, если ты проиграешь? — спросили мальчишки.
— Сорок кружек bruinbier'а, — отвечал Уленшпигель, — а если я выиграю, вы мне дадите три патара.
— Ладно, — согласились мальчишки.
Каждый дал ему по башмаку. Уленшпигель сложил их все к себе в фартук и с этим грузом заплясал на канате, хотя это ему было и нелегко.
Юные завистники крикнули:
— Ведь ты же хвалился, что они у тебя все запляшут? А ну, не финти, обуй-ка их!
Уленшпигель же, не переставая плясать, так им на это ответил:
— А я и не говорил, что обую ваши башмаки, — я только обещал поплясать с ними. Вот я и пляшу, и они пляшут вместе со мной в фартуке. Ну, что глаза-то вытаращили, как все равно лягушки? Пожалуйте сюда три патара!
Но они загалдели и потребовали обратно свою обувь.
Уленшпигель и ну швырять в них один за другим башмаки, вследствие чего произошла свалка в никто не мог разобрать, где же в этой куче его башмаки, никакими силами не мог до них дотянуться.
Тогда Уленшпигель слез с дерева и полил бойцов, но только не чистой водицей, а чем-то еще.
25
Инфант в пятнадцать лет имел обыкновение слоняться по всем дворцовым переходам, лестницам и залам. Чаще всего он бродил вокруг дамских покоев и затевал ссоры с пажами, которые тоже вроде него, с видом котов, подстерегающих мышку, вечно где-нибудь там торчали. Некоторые из них, задрав носы кверху, пели во дворе какую-нибудь трогательную балладу.
Услышав пение, инфант внезапно появлялся в окне, а бедные пажи, увидев вместо ласковых очей своей возлюбленной эту мертвенно-бледную харю, в испуге от нее шарахались.
Среди придворных дам была одна знатная фламандка родом из Дюдзееле, что неподалеку от Дамме, пышнотелая, напоминавшая прекрасный зрелый плод, зеленоглазая, златокудрая красавица. Пылкая и жизнерадостная, она не таила своей склонности к тому или иному счастливцу, который на этой прекрасной земле наслаждался неземным блаженством особого ее благоволения. В то время она питала нежные чувства к одному красивому и родовитому придворному. Каждый день в условленный час она приходила к нему на свидание и Филипп про это узнал.
Устроив засаду на скамье у окна, он подстерег ее, и когда она, во всей своей прельстительности, с разгоревшимися глазами и полуоткрытым ртом, шурша платьем из золотой парчи, прямо после купанья проходила мимо него, инфант, не вставая с места, обратился к ней:
— Сеньора, можно вас на минутку?
Сгорая от нетерпения, точно кобылица, которую остановили на всем скаку, когда она мчалась к красивому жеребцу, ржущему на лужайке, она молвила в ответ:
— Ваше высочество! Мы все здесь должны повиноваться вашей августейшей воле.
— Сядьте рядом со мной, — сказал инфант.
Окинув ее плотоядным, злобным и ехидным взглядом, он прибавил:
— Прочтите мне «Отче наш» по-фламандски. Я когда-то знал, да забыл.
Бедная придворная дама начала читать «Отче наш», а он все прерывал ее и просил читать как можно медленнее.
И так, в то самое время, когда бедняжка была уверена, что настал час для иных молитв, он заставил ее десять раз прочитать «Отче наш».
После этого он стал восхищаться ее чудными волосами, румянцем, ясными очами, но о роскошных плечах, о высокой груди и обо всем прочем ничего не посмел сказать.
Наконец она решила, что можно удалиться, и уже поглядывала во двор, где ее дожидался кавалер, но тут инфант задал ей вопрос, каковы суть добродетели женщины.
Боясь попасть впросак, она молчала — тогда он наставительным тоном ответил за нее:
— Добродетели женщины суть целомудрие, соблюдение чести и благонравие.
Засим он посоветовал ей одеваться поскромнее и не показывать своих прелестей.
Наклонив голову в знак согласия, дама сказала, что в присутствии его гиперборейского[42] высочества она скорей закутается в десять медвежьих шкур, чем нацепит на себя хоть один лоскуток муслина.
Сконфузив его этим ответом, она весело упорхнула.
Между тем пламя юности горело в груди инфанта, но это было не то яркое пламя, что влечет сильных духом к смелым подвигам, и не то тихое пламя, от которого чувствительные сердца проливают слезы, — нет, то было мрачное адское пламя, возжженное не кем-либо, а самим сатаною. Огонь этот мерцал в его серых глазах, точно лунный свет зимою над бойней. Но он жег его немилосердно.
Никого не любя, злосчастный нелюдим не решался заигрывать с женщинами. Он прятался в каком-нибудь дальнем закоулке, в какой-нибудь комнатушке с побеленными известью стенами и узкими окошками — там он грыз пирожное, и на крошки тучами летели мухи. Лаская сам себя, инфант медленно давил мух на оконном стекле, давил сотнями, и прекращал избиение только из-за сильной дрожи в пальцах. Жестокая эта забава доставляла ему какое-то пакостное наслаждение, ибо похоть и жестокость — это две отвратительные сестры. Выходил он из своего убежища еще мрачнее, чем прежде, с лицом, как у покойника, и все и вся бежали от него опрометью.
Его скорбящее высочество страдал, ибо кто других терзает, тот сам покоя не знает.
26
Знатная красавица покинула однажды Вальядолид и отправилась в свой дюдзеельский замок во Фландрии.
Проезжая вместе со своим толстым дворецким через Дамме, она увидела подростка лет пятнадцати — сидя возле лачуги, он играл на волынке. Перед ним стоял рыжий пес и, как видно не одобряя этой музыки, жалобно выл. Солнце светило ярко. Подле мальчика стояла пригожая девочка и при каждом душераздирающем завывании пса покатывалась со смеху.
Проезжая мимо лачуги, прекрасная дама и толстый дворецкий обратили внимание, что Уленшпигель играет, Неле хохочет, а Тит Бибул Шнуффий воет.
— Гадкий мальчик! — сказала Уленшпигелю дама. — Зачем ты дразнишь бедную собачку?
Но Уленшпигель поглядел на нее и еще сильнее надул щеки. Бибул Шнуффий еще отчаяннее завыл, а Неле еще громче засмеялась.
Дворецкого это взорвало, и, показав на Уленшпигеля, он обратился к даме:
— Вот я сейчас отхожу поганца ножнами шпаги — он у меня живо прекратит этот несносный гвалт.
Уленшпигель смерил его взглядом, обозвал пузаном я продолжал играть. Дворецкий подошел к нему и погрозил кулаком, но в эту минуту Бибул Шнуффий бросился на него и укусил за ногу. Дворецкий со страху шлепнулся и завопил: «Караул!»
Дама засмеялась и обратилась к Уленшпигелю с вопросом:
— Ты не знаешь, волынщик, дорога в Дюдзееле там же, где была раньше?
Уленшпигель, продолжая играть, кивнул головой и посмотрел на даму.
— Что ты на меня так смотришь? — спросила она.
Но он, не прекращая игры, по-прежнему, как бы в восторженном изумлении, таращил на нее глаза.
— Молод ты еще заглядываться на дам! — заметила та.
Уленшпигель слегка покраснел, но глаз не отвел и продолжал играть.
— Я тебя спрашиваю, не изменилась ли дорога в Дюдзееле, — повторила дама.
— С той поры как вы перестали по ней ездить, вся трава на ней высохла, — отвечал Уленшпигель.
— Ты меня не проводишь? — спросила дама.
Но Уленшпигель с места не сдвинулся и все так же пристально на нее смотрел. Она поняла, что он баловник, но вместе с тем ей казалось, что шалости его — чисто детские шалости, и она не могла на него сердиться. А он неожиданно встал и направился к дому.
— Куда же ты? — спросила она.
— Пойду надену все самое лучшее, — отвечал он.
— Ну, иди, — сказала дама.
Она села на скамейку, у самого входа в дом. Дворецкий последовал ее примеру. Дама попробовала заговорить с Неле, но та как воды в рот набрала — она ревновала.
Уленшпигель вымылся, надел бумазейный костюм и в таком виде вышел на улицу. Праздничный наряд был очень к лицу нашему шалунишке.
— Ты правда пойдешь проводить эту красивую даму? — (просила Неле.
— Я скоро вернусь, — отвечал Уленшпигель.
— Может, мне лучше пойти? — вызвалась Неле.
— Нет, — возразил он, — уж очень грязно.
— Почему ты, девочка, не хочешь, чтобы он пошел со мной? — раздраженным и тоже ревнивым тоном спросила дама.
Неле ничего ей не ответила, но на глазах у нее выступили крупные слезы, и она печально и вместе недобро посмотрела на даму.
Они отправились вчетвером: дама, восседавшая, как королева, на белом коне, покрытом черною бархатною попоной, дворецкий, толстое брюхо которого мерно колыхалось в лад шагам, Уленшпигель, который вел коня в поводу, и Бибул Шнуффий, бежавший рядом с гордо поднятым хвостом.
Так они уже довольно долго ехали и шагали, а Уленшпигель по-прежнему чувствовал себя неловко. Он был нем как рыба и все только втягивал в себя тонкий аромат бензоя, исходивший от дамы, и украдкой поглядывал на ее застежки, на ее драгоценности и побрякушки, на нежное ее лицо с блестящими глазами, на открытую грудь, на волосы, сверкавшие в лучах солнца, будто золотой чепец.
— Что ты все молчишь, мальчугашка? — спросила она.
Уленшпигель ничего не сказал ей в ответ.
— Хоть у тебя и отнялся язык, а все-таки ты исполнишь одну мою просьбу.
— Смотря какую, — отозвался Уленшпигель.
— Дальше ты меня не провожай, — сказала дама, — а пойди в Коолькерке, — оно вон в той стороне, — и передай от меня одному господину, одетому в черное с красным, чтобы он сегодня меня не ждал, а в воскресенье, в десять часов вечера, прошел ко мне в замок через потайной ход.
— Не пойду? — объявил Уленшпигель.
— Почему? — удивилась дама.
— Не пойду, да и все! — повторил он.
— Что это на тебя наехало, ослик упрямый?
— Не пойду! — уперся Уленшпигель.
— А если я тебе дам флорин?
— Нет.
— Дукат?
— Нет.
— Каролю?[43]
— Нет, — отрезал Уленшпигель. — Хотя, — прибавил он со вздохом, — монеты я люблю куда больше, чем всякие прочие штуки.
Дама улыбнулась, потом вдруг закричала:
— Ай! Я потеряла мою хорошенькую, дорогую, парчовую, расшитую бисером сумочку! Еще в Дамме она висела у меня на поясе.
Уленшпигель не пошевелился. В эту минуту к даме подскочил дворецкий.
— Сударыня, — сказал он, — не посылайте этого прощелыгу, он из молодых да ранний, — не видать вам тогда своей сумочки.
— Ну, а кто пойдет? — спросила дама.
— Я пойду, несмотря на мой преклонный возраст, — отвечал дворецкий и зашагал обратно.
Время подошло к полудню, жара была палящая, тишина стояла мертвая. Уленшпигель, ни слова не говоря, снял свою новенькую курточку и расстелил под липой, чтобы дама села на нее, а не на сырую траву. Сам же он стал поодаль и все вздыхал.
Она вскинула на него глаза и, почувствовав жалость к этому застенчивому мальчугану, спросила, не притомились ли его молодые ноги. Вместо ответа он стал медленно клониться к земле, но она подхватила его и привлекла на свою обнаженную грудь, — ему же так у нее понравилось, что она по доброте душевной не решилась сказать ему, чтобы он поискал себе другое изголовье.
Между тем вернулся дворецкий и объявил, что сумочки нигде нет.
— Сумочка нашлась, — я обнаружила ее, когда слезала с коня, — молвила дама, — она упала, но зацепилась за стремя. А теперь, — обратилась она к Уленшпигелю, — веди нас прямо в Дюдзееле да скажи, как тебя зовут.
— Я назван в честь святого Тильберта, — отвечал он, — имя это означает: быстрый в погоне за всем хорошим на свете, а по прозвищу я Уленшпигель. Если вы посмотрите в это зеркало, то увидите, что во всей Фландрии ни один самый чудный цветок не сравнится с благоуханною вашей красой.
Дама покраснела от удовольствия и не рассердилась на Уленшпигеля.
А Сооткин и Неле плакали все время, пока он был в отлучке.
27
Возвращаясь из Дюдзееле, Уленшпигель увидел, что на окраине Дамме у самой заставы стоит Неле и ощипывает гроздь черного винограда. Виноградинки, которые она уничтожала одну за другой, разумеется; были приятны на вкус и освежали ей рот, но на лире ее не отражалось ни малейшего удовольствия. Напротив, она, видимо, была не в духе и обрывала ягодки в сердцах. Ей было так тяжело на душе, такое у нее было скорбное, печальное и в то же время нежное выражение глаз, что в Уленшпигеле заговорили жалость и сердечное влечение, — он подошел и поцеловал ее в шейку.
Вместо ответа она закатила ему звонкую оплеуху.
— Это мне ничего не объясняет! — заметил Уленшпигель.
Она заплакала навзрыд.
— Неле, — сказал он, — разве теперь принято ставить фонтаны на окраинах?
— Уйди! — сказала она.
— Как же я могу уйти от тебя, девочка, когда ты плачешь, не осушая глаз?
— И вовсе я не девочка, и вовсе я не плачу! — отрезала Неле.
— Нет, нет, ты не плачешь, — у тебя вода льется из глаз.
— Уйдешь ты или нет? — спросила она.
— Не уйду, — отвечал он.
Она дрожащими руками теребила свой мокрый от слез передник.
— Неле, — снова обратился к ней Уленшпигель, — скоро распогодится?
Он смотрел на нее с доброй-доброй улыбкой.
— А тебе что? — спросила она.
— А то, что когда погода хорошая, то слезы не текут, — отвечал Уленшпигель.
— Ступай к своей красавице в парчовом платье — ее и весели, — сказала она.
Но Уленшпигель запел:
Если милая заплачет, Сердце рвется у меня, Смех ее подобен меду, Слезы милой — жемчуга. Как она мне дорога! За ее здоровье выпить Я лувенского хочу, За ее здоровье выпить, Если Неле улыбнется.— Подлый ты человек! — сказала она. — Еще насмехаешься надо мной!
— Нет, Неле, — возразил Уленшпигель, — я человек, но не подлый: у нашего почтенного рода — рода старшин — есть герб, и на нем, на поле цвета bruinbier'а, изображены три серебряные кружки. А скажи, пожалуйста, Неле, неужто во Фландрии кто сеет поцелуи, тот пожинает затрещины?
— Я с тобой не разговариваю, — объявила Неле.
— Не разговариваешь, а сама раскрываешь рот и говоришь.
— Это потому, что я на тебя зла, — призналась Неле.
Уленшпигель слегка толкнул ее локтем в бок и сказал:
— Поцелуй злючку — невзлюбит, дай тычка — приголубит. А ну, девчурка, я ж тебе дал тычка — приголубь меня!
Неле обернулась. Он раскрыл объятия — все еще плача, она кинулась к нему на шею и сказала:
— Ты больше не пойдешь туда, Тиль?
Но он ничего ей не ответил — ему было не до того; он сжимал ее дрожащие пальчики и осушал губами крупные капли горючих слез, ливнем хлынувших у нее из глаз.
28
Между тем доблестный город Гент отказался платить подать[44], которую наложил его уроженец — император Карл. Карл разорил Гент — платить ему было нечем. Это было тяжкое преступление, и Карл порешил сам учинить над ним расправу.
Сыновняя плеть больнее хлещет по отцовской спине, чем всякая другая.
Враг Карла, Франциск Длинноносый[45], предложил ему пройти через Францию. Карл согласился, и, вместо того чтобы заточить его в тюрьму, с ним там носились и воздавали ему царские почести. В борьбе против народов государи считают своим монаршим долгом объединиться.
Карл надолго задержался в Валансьенне[46] и все это время не показывал виду, что гневается. Его родной Гент жил спокойно, будучи уверен, что император простит ему его законное действие.
Карл, однако ж, с четырьмя тысячами всадников подступал к стенам города. С ним были Альба[47] и принц Оранский[48]. Простои народ и мелкие ремесленники сговорились не допустить этого сыновнего визита, для чего подняли на ноги восемьдесят тысяч горожан и селян. Однако зажиревшие купцы, так называемые hooghpoorter'ы[49], из страха, что народ возьмет власть в свои руки, воспротивились. А между тем Гент вполне мог бы разбить в пух и в прах своего сына и его четыре тысячи всадников. Но Гент любил своего сына; даже ремесленники и те вновь в него поверили.
Карл же любил не самый Гент, а те деньги, которые он от него получил в свое время, но этих денег ему было мало.
Овладев городом, он всюду расставил караулы и нарядил дозоры, которые днем и ночью должны были обходить улицы. Затем он с великой торжественностью объявил свой приговор.
Именитым гражданам вменялось в обязанность явиться с веревкой на шее к его престолу и всенародно принести повинную. Генту были предъявлены самые убыточные для него обвинения, как-то: в измене, несоблюдении соглашений, неподчинении, мятеже, бунте, оскорблении величества. Император отменил все и всяческие льготы, права, вольности, порядки и обычаи города Гента и, подобно господу богу, предначертал ему его будущее: отныне, согласно его именному указу, наследующие ему будут при восшествии на престол давать присягу в том, что они неуклонно соблюдут грамоту, которую Карл пожаловал городу Генту[50], — грамоту на его вечное порабощение.
Он сровнял с землей Сен-Бавонское аббатство, а на его месте построил крепость, откуда можно было беспрепятственно осыпать родной город ядрами.
Как любящий сын, спешащий завладеть наследством, он отобрал все имущество и все доходы Гента, дома, орудия и боевые припасы.
Найдя, что город слишком хорошо защищен, он велел снести Красную башню, башню в Жабьей норе, Браампоорт, Стинпоорт, Ваальпоорт, Кетельпоорт и много других строений, славившихся своими изваяниями и филигранной резьбой.
Когда потом в Гент заезжали иностранцы, они спрашивали друг друга:
— Почему нам про этот скучный, ничем не примечательный город рассказывали чудеса?
А гентцы отвечали:
— Император Карл снял с города его драгоценный пояс.
При этом они испытывали стыд и гнев.
Император распорядился употребить кирпич, оставшийся от разрушенных зданий, на постройку крепости.
Он положил дотла разорить Гент, дабы трудолюбие горожан, дабы промышленность и денежные средства города не помешали его, Карла, честолюбивым замыслам. С этой целью он повелел городу уплатить невнесенную дань в размере четырехсот тысяч червонцев, сверх того уплатить сто пятьдесят тысяч каролю единовременно, а помимо этого городу надлежало ежегодно уплачивать шесть тысяч. Когда-то Гент дал императору денег взаймы. Карл обязался выплачивать городу сто пятьдесят ливров ежегодно. Теперь Карл отобрал у Гента свои долговые обязательства. При таком способе платить долги Карл, естественно, разбогател.
Гент неоднократно выказывал ему свою любовь, не раз выручал его, но Карл вонзил ему в грудь кинжал. Ему уже недостаточно было отцовской поддержки — ему нужна была отцовская кровь.
Немного погодя он остановил свое внимание на красивом колоколе «Роланде». Он приказал повесить на его языке того, кто ударил в набат, призывая город к защите своих прав. Он не пощадил и «Роланда», не пощадил язык своего отца, язык, которым тот говорил с Фландрией, — «Роланда», гордый колокол, который сам о себе сказал так:
Если слышен мой гул — значит, где-то горит, Если звон — стране ураган грозит.Найдя, что его отец говорит слишком громко, он снял колокол. И тогда пошла среди окрестных сельчан молва: Гент умер, оттого что сын железными клещами вырвал у него язык.
29
В один из ясных и свежих весенних дней, когда вся природа полна любви, Сооткин шила у открытого окна, Клаас что-то напевал, а Уленшпигель напяливал на Тита Бибула Шнуффия судейскую шапочку. Пес преважно поднимал лапу, как будто выносил кому-то приговор; а на самом деле просто пытался стащить с себя украшение.
Внезапно Уленшпигель, захлопнув снаружи окно, вбежал в комнату и, растопырив руки, запрыгал по стульям и столам. Наконец Сооткин и Клаас сообразили, что всю эту возню он затеял для того, чтобы поймать прелестную маленькую птичку, которая прижалась к ребру потолочной балки и, трепеща крылышками, издавала испуганный писк.
Уленшпигель совсем уж было до нее дотянулся, как вдруг его окликнул Клаас:
— Ты чего прыгаешь?
— Хочу поймать птичку, — отвечал Уленшпигель, — потом я посажу ее в клетку, дам ей зерен, и пусть она поет мне песни.
Птичка между тем с жалобным писком летала по комнате и билась головкой об оконные стекла.
Уленшпигель опять было запрыгал, но Клаас положил ему на плечо свою тяжелую руку.
— Что ж, лови ее, — сказал он, — сажай в клетку, и пусть она прет тебе песни, ну, а я тебя самого посажу в клетку с толстыми железными прутьями и заставлю петь. Ты любишь бегать, а тогда уж не побегаешь. Будет холодно, а ты сиди себе в тени; будет жарко — сиди на солнцепеке. Потом как-нибудь в воскресенье мы уйдем, забудем оставить тебе еды и вернемся не раньше четверга, а когда вернемся, то увидим, что наш Тиль протянул лапки — умер с голоду.
Сооткин плакала. Уленшпигель рванулся.
— Ты куда? — спросил Клаас.
— Сейчас отворю птичке окно, — отвечал Уленшпигель.
И точно: птичка, оказавшаяся щеглом, выпорхнула в окно и с радостным криком полетела стрелой, затем опустилась на ближнюю яблоню, расправила крылышки, почистила клювиком перышки, потом вдруг рассердилась и на своем птичьем языке осыпала Уленшпигеля бранью. И тут Клаас сказал Уленшпигелю:
— Сын мой, никогда не лишай свободы ни человека, ни животное — свобода есть величайшее из всех земных благ. Предоставь каждому греться на солнце, когда ему холодно, и сидеть в тени, когда ему жарко. И пусть господь бог судит его святейшее величество за то, что он сперва заковал в цепи свободную веру во Фландрии, а потом засадил в клетку рабства доблестный Гент.
30
Женившись на Марии Португальской[51], Филипп принял ее владения под свой скипетр. Она родила ему дона Карлоса, жестокого безумца. Но Филипп не любил свою жену!
Роды у королевы были неблагополучные. Окруженная придворными дамами, среди которых была герцогиня Альба, она лежала на одре болезни.
Филипп часто покидал ее и шел смотреть, как жгут еретиков. Придворные, и мужчины и женщины, брали с него пример. В частности, так поступала знатная сиделка королевы, герцогиня Альба.
Как раз в то время инквизиция осудила одного фламандского скульптора католического вероисповедания: один монах не уплатил ему обещанных денег за деревянное изображение божьей матери, а скульптор сказал, что он лучше уничтожит свое творение, но за гроши не отдаст, и изрезал резцом весь лик.
Монах донес, что он святотатец, его пытали без всякого милосердия и приговорили к сожжению на костре.
Во время пытки ему сожгли подошвы ног, и по дороге из тюрьмы на костер скульптор, облаченный в сан-бенито[52], все кричал:
— Отрубите мне ноги! Отрубите мне ноги!
Филипп издали слышал эти вопли, они доставляли ему наслаждение, но смеяться он не смеялся.
Придворные дамы покинули королеву Марию, дабы присутствовать при сожжении. После всех, оставив королеву одну, ушла герцогиня Альба — услышав вопли фламандского скульптора, она возымела желание непременно полюбоваться этим забавным зрелищем.
Когда Филипп и все его приближенные — князья, графы, дворяне и дамы — были в сборе, фламандского скульптора длинною цепью приковали к столбу, стоявшему в центре огненного круга из пучков соломы и вязанок хвороста, так что осужденный мог при желании держаться поближе к столбу, подальше от самого жара, и жечься на медленном огне.
И все с любопытством смотрели, как он, почти голый, напрягает все свои душевные силы в борьбе с нестерпимою мукой.
А в это время королеве Марии захотелось пить. На блюде лежала половина дыни. Кое-как добрела она до стола, взяла кусок дыни и весь его съела.
От холодной дыни ее зазнобило, она вся покрылась ледяным потом и бессильно опустилась на пол.
— Ах! — простонала она. — Хоть бы кто-нибудь перенес меня на кровать — я бы согрелась!
Но тут до нее долетел вопль несчастного скульптора:
— Отрубите мне ноги!
— Ах! — воскликнула королева Мария. — Что это? Собака воет перед моей смертью?
В это мгновение скульптор, обведя глазами толпу и увидев одни свирепые лица испанцев, подумал о Фландрии — стране мужественных людей, — скрестил на груди руки и, влача за собой длинную цепь, направился прямо к горящей соломе и хворосту, а затем бестрепетно взошел на костер.
— Так умирают фламандцы на глазах у испанских палачей! — воскликнул он. — Отрубите ноги, но не мне, а им, чтобы они больше не сбегались на казни! Да здравствует Фландрия! Да здравствует во веки веков!
И тут все дамы, потрясенные твердостью его духа, наградили его рукоплесканиями и стали просить, чтобы скульптора пощадили.
Но скульптор умер.
Королева Мария дрожала всем телом, рыдала, зубы у нее стучали от холода близкой смерти, наконец, вытянув руки и ноги, она проговорила:
— Положите меня в постель, я хочу согреться!
И умерла.
Так, оправдывая предсказание доброй колдуньи Катлины, Филипп всюду сеял смерть, слезы и кровь.
31
А Уленшпигель и Неле были без памяти влюблены друг в друга.
Апрель подходил к концу, все деревья цвели, все растения, набухая соками, ожидали мая, а май всегда слетает на землю, радужный, как павлин, душистый, как букет цветов, и при его появлении запевают в садах соловьи.
Уленшпигель и Неле часто гуляли вдвоем. Неле прижималась к Уленшпигелю, держалась за него обеими руками. Уленшпигелю это было приятно; он обнимал ее за талию и говорил: «Так еще крепче будет». Ей это тоже доставляло удовольствие, но она молчала.
По дорогам лениво кружил ветерок, напоенный ароматами луга. Вдали под лучами солнца томно рокотало море. Уленшпигель был горд, как молодой бесенок, а Неле стыдилась своего блаженства, как юная святая в раю.
Она склоняла голову к нему на плечо, а он брал ее руки и на ходу целовал в лоб, в щеки, в хорошенькие губки. Но она все молчала.
Некоторое время спустя они, изнемогая от зноя, от жажды, заходили в деревню напиться молока, но это их не освежало. Они садились на траву у обрыва. Неле была бледна и задумчива. Уленшпигель с тревогой глядел на нее.
— Тебе грустно? — спрашивала она.
— Да, — отвечал он.
— Отчего? — допытывалась она.
— Сам не знаю, — отвечал он. — Но только эти яблони и вишни в цвету, душный воздух, как перед грозой, маргаритки, розовеющие в лугах, белый-белый боярышник, которым окружен наш сад… Да нет, разве поймешь, откуда это томление, почему мне хочется не то умереть, не то уснуть? Когда я слышу, как поутру на ветвях гомозятся птички, когда я вижу, что прилетели ласточки, сердце у меня готово выпрыгнуть из груди. Меня тянет взлететь выше солнца и месяца. Меня бросает то в жар, то в холод. Ах, Неле, как бы я хотел унестись прочь от земли! Или нет: я хотел бы отдать не одну, а тысячу жизней ради той, которая меня полюбит…
А Неле молча смотрела на Уленшпигеля и вся сияла от счастья.
32
В день поминовения усопших Уленшпигель вместе с несколькими озорниками, своими однолетками, вышел из собора. Ламме Гудзак в этой компании напоминал ягненка в стае — волков.
Мать Ламме по воскресным и праздничным дням давала сыну три патара, и сегодня он решил тряхнуть мошной и угостить приятелей.
С этой целью он их повел in den «Rooden Schildt»[53] к Яну ван Либеке, и спросил куртрейского dobbeleknollaert'а[54].
Пиво развязало языки, и, когда речь зашла о молитвах, Уленшпигель прямо заявил, что заупокойные службы выгодны только попам.
На беду, в их компанию затесался иуда — он донес, что Уленшпигель еретик. Невзирая на слезы Сооткин и настойчивые просьбы Клааса, Уленшпигеля схватили и бросили в тюрьму. Месяц и три дня сидел он в подвале, за решеткой, не видя живой души. Тюремщик съедал три четверти того, что Уленшпигелю полагалось из еды. За это время были наведены справки о том, какие за ним водятся добрые и худые дела. По справкам оказалось, что это всего-навсего злой насмешник, любящий дурачить честной народ, но что никогда не изрыгал он хулы ни на пречистую, деву, ни на святых угодников. По сему обстоятельству приговор был вынесен мягкий, в противном же случае ему выжгли бы на лбу клеймо и бичевали бы до крови.
Суд принял в соображение его несовершеннолетие, и Уленшпигель отделался тем, что в первом же крестном ходу он шел за духовенством босиком, с непокрытой головой, в одной рубахе, и держал в руке свечу.
Было это на Вознесение.
Когда же процессия снова приблизилась к соборной паперти, Уленшпигель во исполнение все того же приговора остановился и воскликнул:
— Благодарю тебя, господи Иисусе! Благодарю вас, отцы иереи! Ваши молитвы отрадны для душ, томящихся в чистилище, отрадны и освежительны, ибо каждая «Богородица» — это ведро воды, изливающееся на их спины, а каждый «Отче наш» — это целый ушат.
Народ внимал ему с великим благоговением, хоть и посмеиваясь в кулак.
В Троицын день Уленшпигелю еще раз надлежало пройти с крестным ходом. Опять он был в одной рубашке, босиком, с непокрытой головой и держал в руке свечу. На обратном пути он остановился у входа в собор и, набожно держа свечу, что не мешало ему, однако, строить уморительные рожи, сказал громко и внятно:
— Молитва каждого христианина несказанно облегчает душу, томящуюся в чистилище, молитва же настоятеля нашего собора, человека святого, всеми добродетелями украшенного, мгновенно гасит палящий огнь чистилища и превращает его в шербет. Но бесам, терзающим грешников, ни капельки не достается.
И опять народ внимал ему с великим благоговением, хоть и посмеиваясь в кулак, настоятель же улыбался улыбкой довольной и благостной.
После этого Уленшпигель был изгнан на три года из Фландрии, причем возвратиться на родину он имел право только в том случае, если за это время он совершит паломничество в Рим и если папа дарует ему отпущение грехов.
Клаас уплатил за приговор три флорина, а еще один флорин дал на дорогу Уленшпигелю и одел его, как приличествует паломнику.
Горько было Уленшпигелю прощаться с Клаасом и Сооткин — со своей скорбящей и плачущей матерью. Родители да несколько горожан и горожанок проводили его далеко.
Вернувшись в свою лачугу, Клаас сказал Сооткин:
— Уж больно они его строго, жена, — подумаешь, сболтнул малый сдуру!
— Ты плачешь, муженек? — молвила Сооткин. — Ты только никогда не показываешь, а, стало быть, крепко его любишь: ведь рыдания мужчины — это все равно что плач льва.
Но он ничего не сказал ей в ответ.
Неле забилась в сарай, чтобы никто не видел, что она плачет об Уленшпигеле. На росстанях она шла сзади Клааса, Сооткин, горожан и горожанок. Когда же Уленшпигель зашагал один, она догнала его и бросилась к нему на шею.
— Ты встретишь много красивых дам, — сказала она.
— Красивых — может быть, но таких свежих, как ты, не встречу, — возразил Уленшпигель, — они все изжарились на солнце.
Уленшпигель и Неле долго шли вместе. Уленшпигель был занят своими мыслями и лишь по временам ронял:
— Заплатят они мне за свои заупокойные службы!
— Какие службы? Кто заплатит? — допытывалась Неле.
Наконец Уленшпигель ответил ей так:
— Все настоятели, приходские и домашние священники, пономари и всякое прочее поповское отродье — все, кто нас морочит. Если б я был работягой, они бы из-за этого паломничества лишили меня плодов трехлетнего труда. В убытке бедный Клаас. Ну, они мне сторицей заплатят за эти три года, и я еще помяну их за упокой, да на их же денежки!
— Полно, Тиль, будь осторожен, а то они тебя на костре сожгут, — молвила Неле.
— Я в огне не горю, — возразил Уленшпигель.
И тут они расстались: она в слезах, а он — удрученный и озлобленный.
33
В Брюгге, куда Уленшпигель попал в среду, в базарный день, он увидел, что по рыночной площади палач и его подручные волокут женщину, за которой следует толпа других женщин, вопящих и осыпающих ее зазорной бранью.
Разглядев полосы красной материи, пришитые к ее одежде на спине и груди, разглядев у нее на шее камень правосудия, висевший на железной цепи, Уленшпигель догадался, что эта женщина торговала юным и свежим телом своих дочерей. Ему сказали, что зовут ее Барб, что она замужем за Язоном Дарю, что в этом одеянии ей надлежит обойти все площади и в конце концов вернуться на Большой рынок, где для нее уже воздвигнут эшафот. Уленшпигель пошел за галдевшей толпой. Как скоро преступница вернулась на Большой рынок, ее заставили взойти на эшафот и привязали к столбу, после чего палач насыпал у ее ног земли, а сверху травы, что должно было означать могилу.
Еще Уленшпигелю сказали, что ее уже секли в тюрьме.
Далее ему повстречался Генри Кузнец, проходимец и побирушка, всех уверявший, будто его вешали в Вест-Ипрском кастелянстве, и показывавший на шее ссадины от веревок. Свое «чудесное избавление» он изображал таким образом: повиснув в воздухе, он усердно помолился Гальской божьей матери, и в то же мгновение судьи удалились, веревка, уже не душившая его, лопнула, а он сам грохнулся наземь и спасся.
Однако позднее Уленшпигель узнал следующее: этому избавившемуся от петли проходимцу, выдававшему себя за Генри Кузнеца, не возбранялось рассказывать небылицы по той причине, что он запасся грамотой от настоятеля Собора Гальской божьей матери, настоятель же снабдил его грамотой за то, что благодаря россказням мнимого Генри Кузнеца в собор отовсюду стекались и делали изрядные вклады все те, кто чуял виселицу более или менее близко от себя. И долго потом Гальская божья матерь именовалась заступницей повешенных.
34
Между тем инквизиторы и богословы вторично заявили императору Карлу, что церковь гибнет, что влияние ее падает, что славными своими победами он обязан молитвам католической церкви, которая является верной опорой его могущественной державы.
Один испанский архиепископ потребовал, чтобы его величество отрубил шесть тысяч голов или сжег столько же тел, дабы искоренить в Нидерландах зловредную Лютерову ересь[55]. Его святейшее величество нашел, что этого еще мало.
Вот почему, куда бы ни заходил бедный Уленшпигель, всюду с ужасом видел он срубленные головы на шестах, видел, как на девушек накидывали мешки и бросали в реку, видел, как голых мужчин, растянутых на колесе, били железными палками, как женщин зарывали в землю и как палачи плясали на них, чтобы раздавить им грудь. За каждого из тех, кого удавалось привести к покаянию, духовники получали двенадцать солей.
В Лувене он видел, как палачи зажгли костер пушечным порохом и как на этом костре погибло тридцать лютеран сразу. В Лимбурге он видел, как целая семья — мужья и жены, дочери и зятья — с пением псалмов взошла на костер. Во время казни только у одного старика вырвался крик.
А Уленшпигель, устрашенный и удрученный, шел все дальше и дальше по этой несчастной земле.
35
В полях он отряхивался, как птица, как спущенная с цепи собака. При виде лугов, деревьев и ясного солнца на душе у него становилось легче.
Три дня спустя вошел он в богатое село Уккле, под Брюсселем. Возле гостиницы «Охотничий Рог» его остановил дивный запах жаркого. Он спросил юного попрошайку, который, задрав нос, с наслаждением втягивал аромат приправ, в честь чего поднимается к небу сей праздничный фимиам. Попрошайка ответил, что после вечерни сюда должны прийти члены братства «Толстая Морда», дабы отпраздновать годовщину освобождения Уккле, в стародавние времена совершенного женщинами и девушками.
Увидев издали шест с попугаем[56], а вокруг шеста — женщин, вооруженных луками, Уленшпигель спросил, давно ли бабы стали лучниками.
Попрошайка, по-прежнему вдыхая аромат приправ, ответил, что при Добром Герцоге укклейские бабы с помощью таких же вот луков отправили на тот свет более ста лиходеев.
Уленшпигель хотел еще кое о чем его расспросить, однако попрошайка объявил, что он алчет и жаждет и не вымолвит ни единого слова, пока не получит патар на выпивку и закуску. Уленшпигель из жалости выдал ему таковой.
Попрошайка схватил патар, проскользнул, точно лиса в курятник, в «Охотничий рог» и тотчас же возвратился оттуда с победой, держа в руках полкруга колбасы и краюху хлеба.
Тут послышались приятные звуки тамбуринов и виол, а вслед за тем Уленшпигель увидел многое множество пляшущих женщин, и среди них — красотку с золотой цепочкой на шее.
Попрошайка, с лица которого не сходила теперь, после того как он наелся, блаженная улыбка, пояснил Уленшпигелю, что юная красотка — царица всех лучниц, что зовут ее Митье и что она замужем за местным старшиной, мессиром Ренонкелем. Затем он попросил у Уленшпигеля еще шесть лиаров на выпивку — Уленшпигель и в этом ему не отказал. Выпив и закусив, попрошайка уселся на солнышке и принялся ковырять в зубах.
Как скоро Уленшпигель привлек внимание поселянок странническим своим одеянием, они тотчас же заплясала вокруг него, приговаривая:
— Здравствуй, пригожий богомолец! Издалека ли ты, богомолец молоденький?
Уленшпигель же на это ответил так:
— Я иду из Фландрии, из прекрасного края, где много влюбленных девушек.
При этом он с грустью подумал о Неле.
— Какой же ты грех совершил? — спросили они, перестав плясать.
— Грех мой так велик, что я не смею его назвать, — отвечал он. — Зато у меня есть еще кое-что, и тоже изрядной величины.
Бабенки прыснули и спросили, почему он странствует с посохом, с сумой и с прочими принадлежностями.
— Я сказал, что заупокойные службы выгодны только попам, вот и вся моя вина, — слегка прилгнув, отвечал он.
— За службы попы, правда, получают звонкой монетой, но службы приносят пользу душам в чистилище, — заметили они.
— Я там не был, — возразил Уленшпигель.
— Хочешь закусить с нами, богомолец? — спросила самая миловидная лучница.
— Хочу закусить с вами, — отвечал Уленшпигель, — хочу закусить тобой и всеми остальными по очереди: ведь вы самое лакомое блюдо, какое только можно себе представить, — куда там ортоланы, дрозды и бекасы!
— Господь с тобой! — воскликнули лучницы. — Да этой дичи цены нет.
— Вам тоже, красавицы, — ввернул Уленшпигель.
— Да ведь мы не продаемся, — сказали они.
— Стало быть, даром даете? — спросил Уленшпигель.
— Даем, — отвечали они, — наглецам по шее. Хочешь, мы тебя сейчас измолотим как сноп?.
— Нет уж, увольте, — сказал Уленшпигель.
— То-то! Пойдем-ка лучше закусим, — предложили они.
Они повели его во двор гостиницы, а он не отрывал веселых глаз от их юных лиц. Неожиданно во двор с великой торжественностью под звуки трубы, дудки и тамбурина, развернув стяг, вошли члены братства «Толстой Морды», все до одного — откормленные, вполне оправдывавшие уморительное это название. Они с изумлением уставились на Уленшпигеля, но женщины поспешили им сообщить, что странник встретился им на улице и морда его показалась им подходящей, вроде как у всех ихних женихов и мужей, а потому они пригласили его на праздник.
Мужчины одобрили их, и один из них обратился к Уленшпигелю:
— А что, странствующий странник, не желаешь ли ты постранствовать по жарким и подливкам?
— У меня есть сапоги-скороходы, — отвечал Уленшпигель.
Направляясь в пиршественную залу, Уленшпигель заметил, что по парижской дороге бредут двенадцать слепцов. Когда же они прошли мимо него, жалуясь на голод и жажду, он решил по-царски накормить, их ужином за счет укклейского священника и в память о заупокойных службах.
Он приблизился к ним и сказал:
— Вот вам девять флоринов. Пойдемте закусим! Чуете запах жаркого?
— Мы его за полмили почуяли, но увы! без всякой надежды, — отвечали они.
— На девять флоринов можно наесться, — сказал Уленшпигель.
На руки он им денег, однако, не дал.
— Спаси Христос, — поблагодарили слепцы.
Уленшпигель подвел их к небольшому столу, меж тем как вокруг большого рассаживались члены братства «Толстой Морды» со своими женами и дочерьми.
— Хозяин! — твердо рассчитывая на девять флоринов, с независимым видом молвили нищие. — Дай нам всего самого лучшего из еды и питья.
Трактирщик слышал разговор о девяти флоринах; будучи уверен, что деньги у них в кошелях, он спросил, чего бы им подать.
Тут все они загалдели наперебой:
— Гороху с салом, рагу из говядины, из телятины, из барашка, из цыплят! — А сосиски для собак, что ли? — А кто, внезапно почуяв запах колбасы, все равно — кровяной или же ливерной, не схватит ее за шиворот? Я ее видел — увы! — когда глаза мои мне еще светили. — А koekebakk'и[57] на андерлехтском масле есть? На сковородке они шипят, на зубах хрустят, съел — и кружку пива хлоп, съел — и кружку пива хлоп! — А мне яичницу с ветчиной или ветчину с яичницей, верных подруг моей глотки! — А дивные choesel'и[58] есть? Эти горделивые мяса плавают среди почек, петушьих гребешков, телячьих желез, бычьих хвостов, бараньих ножек, среди уймы луку, перцу, гвоздики, мускату, и все это долго тушилось, а соус к ним — три стакана белого вина. — Нет ли у вас божественной вареной колбасы? Она такая кроткая, что когда ее лопаешь, — она — ни слова. Попадает она к нам прямо из Luyleckerland'а[59], из сытного края блаженных бездельников, вылизывателей бессмертных подливок. Но где вы, листья осени минувшей? — Мне жареной баранины с бобами! — А мне свиные султаны, сиречь ушки! — А мне четки из ортоланов, только пусть, там заместо «Отче наш» будут бекасы, а заместо «Верую» — жирный каплун.
На это им трактирщик с невозмутимым видом сказал:
— Вам подадут яичницу из шестидесяти яиц, путеводными столбами для ваших ложек послужат пятьдесят жареных дымящихся колбасок, которые увенчают эту гору снеди, омывать же ее будет целая река dabbelpeterman'а[60].
У бедных слепцов потекли слюнки.
— Давай нам скорей и гору, и столбы, и реку, — сказали слепцы.
А члены братства «Толстая Морда» и их супруги, сидя вместе с Уленшпигелем, толковали о том, что для слепых это пирушка невидимая и что бедняги теряют половину удовольствия.
Как скоро трактирщик и четыре повара принесли яичницу, процветшую петрушкой и настурцией, слепцы набросились на нее и стали хватать руками, но трактирщик, хоть и не без труда, разделил ее поровну и разложил по тарелкам.
Лучницы невольно расчувствовались, видя, как изголодавшиеся слепцы, причмокивая от удовольствия, глотают колбаски, точно устрицы. Dobbelpeterman низвергался к ним в желудки, будто водопад с высокой горы.
Подчистив тарелки, они тотчас же потребовали koekebakk'ов, ортоланов и еще какого-нибудь жаркого.
Вместо этого трактирщик принес им огромное блюдо с отменной подливой, в коей плавали бычьи, телячьи и бараньи кости. По тарелкам он их уже не раскладывал.
Обмакнув куски хлеба в подливку, а затем погрузив в нее руки по локоть, слепцы извлекали оттуда обглоданные телячьи и бараньи ребра да лопатки, даже бычьи челюсти, но ничего больше, по каковой причине каждому пришло в голову, что все мясо захватил сосед, и они принялись изо всех сил лупить друг друга костями по лицу.
Члены братства «Толстая Морда», от души посмеявшись, в конце концов сжалились над слепцами и переложили часть своей снеди к ним на блюдо, и теперь уже слепцы, нашаривая себе оружие в виде кости, натыкались кто на дрозда, кто на цыпленка, кто на жаворонка, а кто и на двух сразу, меж тем как жалостливые бабочки запрокидывали им головы и, не жалея, лили в глотки брюссельское вино, слепцы же, стараясь нащупать, откуда льются потоки амброзии, хватали бабочек за юбки и тащили к себе. Но юбки мгновенно выскальзывали у них из рук.
Итак, слепцы хохотали, жрали, хлестали, распевали. Иные, почуяв женщин, в порыве страсти бегали как сумасшедшие по комнате, но плутовки увертывались и, прячась за «толстомордых братьев», кричали: «Поцелуй меня!» Слепцы целовали, да только не женское личико, а какого-нибудь бородача, и при этом неукоснительно получали тычка.
«Толстомордые братья» тоже затянули песню. И развеселившиеся бабочки, глядя на их веселье, улыбались довольной и умиленной улыбкой.
Хозяин, решив, что слепцам пора кончать гульбу, сказал:
— Поели, попили, а теперь с вас семь флоринов.
Слепцы всполошились: каждый клялся, что деньги не у него, и кивал на соседа. Тут снова возгорелась между ними битва, один норовил тюкнуть другого кулаком, каблуком, башкой, но они все промазывали, так как «толстомордые братья», видя, что дело скверно, стали их разнимать. Удары сыпались — впустую, за исключением одного, который, как на грех, пришелся по лицу хозяину, — тот, рассвирепев, учинил слепцам повальный обыск, но не обнаружил ничего, кроме старого нарамника, семи ливров, трех брючных пуговиц да четок.
Тогда хозяин решил загнать их всех в свиной хлев и держать там на хлебе и воде, пока они с ним не расплатятся.
— Хочешь, я за них поручусь? — обратился к нему Уленшпигель.
— Хочу, — отвечал хозяин, — но только если кто-нибудь поручится за тебя.
Вызвались «толстомордые», но Уленшпигель это отклонил.
— За меня поручится священник, — сказал он, — я сейчас пойду к нему.
Памятуя о заупокойных службах, он пришел к местному священнику и сказал, что хозяин «Охотничьего Рога», будучи одержим бесом, толкует лишь о свиньях да о слепых: то свиньи у него пожрали слепцов, то слепцы пожрали свиней, и все это ему, дескать, мерещится в богомерзком образе всевозможных жарких и фрикасе. Во время этих припадков хозяин будто бы все у себя переколотил. Того ради Уленшпигель молит-де его преподобие спасти несчастного от злого демона.
Священник пообещал прийти, но только не сейчас: дело в том, что он подсчитывал доходы причта и при этом старался отхватить львиную долю.
Видя, что священнику сейчас не до того, Уленшпигель объявил, что придет к нему с трактирщицей, — пусть, мол, он с ней поговорит.
— Приходите, — сказал священник.
Уленшпигель вернулся к трактирщику и сказал:
— Я только что был у священника — он согласен поручиться за слепых. Покараульте их пока, а хозяйка пусть пойдет со мной к священнику — он ей подтвердит.
— Сходи, жена, — сказал хозяин.
Хозяйка пошла с Уленшпигелем к священнику, а тот все еще высчитывал, как бы это ему побольше выгадать. Когда они вошли к нему, он сердито замахал на них руками, чтобы они удалились, и сказал трактирщице:
— Не беспокойся, дня через два я помогу твоему мужу.
По дороге в «Охотничий Рог» Уленшпигель сказал себе:
«Он уплатит семь флоринов, и это будет моя первая заупокойная служба».
И он и слепые поспешили покинуть трактир.
36
На другой день Уленшпигель пристал к толпе богомольцев, двигавшейся по большой дороге, и узнал от них, что в Альземберге нынче богомолье.
Нищие старухи шли босиком, задом наперед — они подрядились за флорин искупить грехи каких-то знатных дам. По краям дороги под звуки скрипиц, альтов и волынок паломники обжирались мясом и натягивались bruinbier'ом. Аппетитный запах рагу благовонным дымом возносился к небу.
Другие богомольцы, разутые, раздетые, шли тоже задом наперед, за что получали от церкви шесть солей.
Какой-то лысый коротышка с вытаращенными глазами и свирепым выражением лица прыгал за ними тоже задом наперед и все твердил молитвы.
Намереваясь вызнать, что это ему вздумалось подражать ракам, Уленшпигель стал перед ним и, ухмыляясь, запрыгал точь-в-точь как он. И вся эта пляска шла под звуки скрипиц, дудок, альтов и волынок, под стенания и бормотание паломников.
— Эй, голова как коленка, чего это ты так бегаешь? Чтобы вернее упасть? — спросил Уленшпигель.
Человечишка ничего не ответил и продолжал бормотать молитвы.
— Наверно, хочешь узнать, сколько деревьев по краям дороги, — высказал предположение Уленшпигель. — А может, ты и листья считаешь!
Человечишка, читавший в это время «Верую», сделал знак Уленшпигелю, чтобы тот замолчал.
— А может, — не унимался Уленшпигель, все так же прыгая перед его носом и передразнивая его, — ты спятил и оттого ходишь не по-людски? Впрочем, кто добивается от дурака разумного ответа, тот сам дурак. Верно я говорю, облезлый господин?
Человечишка по-прежнему ничего ему не отвечал, а Уленшпигель продолжал прыгать и так при атом топотал, что дорога под ним гудела, как пустой ящик.
— Вы что, милостивый государь, немой? — спросил Уленшпигель.
— Богородице, дево, радуйся… — бубнил человечек, — благословен плод чрева твоего…
— А может, ты еще и глухой? — спросил Уленшпигель. — Сейчас проверим. Говорят, будто глухие не слышат ни похвалы, ни брани. Посмотрим, из чего у тебя сделаны барабанные перепонки — из кожи или из железа. Ты воображаешь, огрызок, пирог ни с чем, что ты похож на человека? Ты тогда станешь похож на человека, когда людей будут делать из тряпья. Ну где можно увидеть такую желтую харю, такую лысую башку? Только на виселице. Ты, уж верно, когда-нибудь висел?
Уленшпигель все плясал, а человечишка, придя в раж, отчаянно прыгал задом наперед, с плохо сдерживаемой яростью бормоча молитвы.
— А может, — продолжал Уленшпигель, — ты не понимаешь книжного фламандского языка? Ну так я заговорю с тобой на языке простонародья: коли ты не обжора, то пьяница, а коли не пьяница, то водохлеб, а коли не водохлеб, то у тебя лютый запор, а коли не запор, то понос, а коли нет у тебя поноса, то ты потаскун, а коли не потаскун, то каплун, а коли есть на свете умеренность, то она обитает где угодно, только не в бочке твоего пуза, и коли на тысячу миллионов человек, живущих на земле, приходится один рогоносец — это, верно, ты.
Но тут Уленшпигель грохнулся задом об землю и задрал ноги кверху, ибо человечишка так двинул его по носу, что у него искры из глаз посыпались. Толщина не помешала человечишке в ту же минуту навалиться на Уленшпигеля и начать охаживать его. Под градом ударов, сыпавшихся на его тощее тело, Уленшпигель невольно выпустил из рук посох.
— Ты у меня забудешь, как морочить голову порядочным людям, идущим на богомолье, — приговаривал человечишка. — Я, было бы тебе известно, иду по обычаю в Альземберг помолиться божьей матери о том, чтобы моя жена скинула младенца, зачатого в мое отсутствие. Дабы испросить столь великую милость, надобно с двадцатого шага от своего дома и до нижней ступеньки церковной лестницы плясать молча, задом наперед. А теперь вот начинай все сначала!
Уленшпигель за это время успел поднять посох.
— А я тебя сейчас отучу, негодяй, обращаться к царице небесной с просьбой убить младенца во чреве матери! — воскликнул Уленшпигель и так отдубасил злого рогача, что тот замертво свалился на землю.
А к небу по-прежнему возносились стенания богомольцев, звуки дудок, альтов, скрипиц и волынок и, подобно чистому фимиаму, запах жареного.
37
Клаас, Сооткин и Неле сидели у камелька и говорили о странствующем страннике.
— Девочка! — молвила Сооткин. — Неужто чары твоей юности не могли удержать его?
— Увы, не могли! — отвечала Неле.
— Это потому, что какие-то другие чары принуждают его вечно шататься — ведь он сидит на месте, только когда трескает, — заметил Клаас.
— Бессердечный урод! — со вздохом проговорила Неле.
— Бессердечный, — это правда, но не урод, — возразила Сооткин. — Если у моего сына Уленшпигеля не греческий и не римский профиль, то это еще полбеды. Зато у него фламандские быстрые ноги, острые карие глаза, как у франка из Брюгге, а нос и рот точно делали две лисы, до тонкости изучившие хитрое искусство ваяния.
— А кто сотворил его ленивые руки и ноги, прыткие, когда его манят забавы? — спросил Клаас.
— Его еще очень юное сердце, — отвечала Сооткин.
38
Катлина вылечила целебными травами по просьбе Спейлмана его быка, трех баранов и свинью, но вылечить корову Яна Белуна ей не удалось. Тогда он обвинил ее в колдовстве. Он утверждал, что она испортила корову; когда она давала ей травы, то, дескать, гладила ее и говорила с ней на каком-то, очевидно, бесовском языке, ибо истинному христианину не должно разговаривать с животными.
Вышеназванный Ян Белун к этому присовокупил, что у его соседа Спейлмана она вылечила быка, баранов и свинью, а что его корову она отравила, разумеется, по наущению Спейлмана, который позавидовал, что его, Белуна, земля возделана лучше, нежели у него, и лучше родит. На основании показаний Питера Мелемейстера, человека во всех отношениях достойного, и самого Яна Белуна, засвидетельствовавших, что весь Дамме почитает Катлину за колдунью и что, вне всякого сомнения, это она отравила корову, Катлина была взята под стражу, и ее ведено было пытать до тех пор, пока она не сознается в своих преступлениях и злодеяниях.
Допрашивал ее старшина, который всегда был раздражен, оттого что целый день пил водку. По его приказу Катлина предстала перед ним и перед членами Vierschare[61] и была подвергнута первой пытке.
Палач раздел ее донага, сбрил все волосы на ее теле и всю осмотрел — нет ли где какого колдовства.
Ничего не обнаружив, он привязал ее веревками к скамье.
— Мне стыдно лежать голой перед мужчинами, — сказала Катлина. — Пресвятая богородица, пошли мне смерть!
Палач прикрыл ей мокрой простыней грудь, живот и ноги, а затем, подняв скамейку, стал вливать в горло Катлине горячую воду — и влил так много, что она вся словно разбухла. Потом опустил скамью.
Старшина спросил, признает ли Катлина себя виновной. Она знаком ответила, что нет. Палач влил в нее еще горячей воды, но Катлина все извергла.
Тогда по совету лекаря ее развязали. Она ничего не могла сказать — она только била себя по груди, давая понять, что горячая вода обожгла ее. Когда же старшина нашел, что она оправилась после первой пытки, он снова обратился к ней:
— Сознайся, что ты колдунья и что ты испортила корову.
— Нипочем не сознаюсь, — объявила Катлина. — Я люблю животных, люблю всем своим слабым сердцем, я скорей себе наврежу, только не им, беззащитным. Я лечила корову целебными травами — от них никакого вреда быть не может.
Но старшина стоял на своем:
— Ты дала корове отравы, иначе бы она не пала.
— Господин старшина, — возразила Катлина, — я сейчас вся в вашей власти, и все же смею вас уверить: костоправы и лекари что человеку, что скотине не всегда помогают. Клянусь вам Христом-богом, распятым на кресте за наши грехи, что я этой корове зла не желала — я хотела ее вылечить целебными травами.
Старшина рассвирепел:
— Вот чертова баба! Ну да она у меня сейчас перестанет запираться! Начать вторую пытку!
С последним словом он опрокинул большущий стакан водки.
Палач посадил Катлину на крышку дубового Гроба, стоявшего на козлах. Крышка, сделанная в виде кровли, оканчивалась острым щипцом. Дело было в ноябре — печка топилась вовсю.
Катлину, сидевшую на режущем деревянном щипце, как на лезвии ножа, обули в совсем новенькие тесные сапоги и пододвинули к огню. Как скоро острый деревянный щипец гроба впился в ее тело, как скоро и без того тесные сапоги от жары еще сузились, Катлина крикнула:
— Ой, больно, мочи нет! Дайте мне яду!
— Еще ближе к огню, — распорядился старшина и приступил к допросу: — Как часто садилась ты на помело и летала на шабаш? Как часто гноила хлеб на корню, плоды на деревьях, как часто губила младенцев во чреве матери? Как часто превращала родных братьев в заклятых врагов, а родных сестер — в злобных соперниц?
Катлина хотела ответить, но не могла, — она только шевельнула руками.
— Вот мы сейчас растопим ее ведьмовский жир, так небось заговорит, — произнес старшина. — Пододвиньте ее еще ближе к огню.
Катлина кричала.
— Попроси сатану — пусть он тебя охладит, — сказал старшина.
Она сделала такое движение, будто хотела сбросить дымившиеся сапоги.
— Попроси сатану — пусть он тебя разует, — сказал старшина.
Пробило десять часов — в это время изверг обыкновенно завтракал. Он ушел вместе с палачом и писцом; в застенке у огня осталась одна Катлина.
В одиннадцать часов они вернулись и увидели, что Катлина словно одеревенела.
— Должно быть, умерла, — сказал писец.
Старшина велел палачу спустить ее с гроба и разуть. Разуть он не смог — пришлось разрезать сапоги. Ноги у Катлины были красные и все в крови.
Старшина молча смотрел на нее — он вспоминал в это время свой завтрак.
Вскоре Катлина, однако, очнулась, но тут же упала и, несмотря на отчаянные усилия, так и не смогла подняться.
— Ты меня прежде сватал, — сказала она старшине, — ну, а теперь не получишь. Четырежды три — число священное, тринадцать — это суженый.
Старшина хотел что-то сказать, но она продолжала:
— Нишкни! У него слух тоньше, чем у архангела, который считает на небе стук сердца у праведников. Почему ты пришел так поздно? Четырежды три — число священное, оно убивает всех, кто меня хотел.
— Она прелюбодействует с дьяволом, — сказал старшина.
— Она сошла с ума под пыткой, — сказал писец.
Катлину увели в тюрьму. Через три дня суд старшин приговорил ее к наказанию огнем.
Палач и его подручные привели ее на Большой рынок и возвели на помост. Профос, глашатай и судьи были уже на своих местах.
Трижды протрубила труба глашатая, после чего он повернулся лицом к народу и сказал:
— Суд города Дамме сжалился над женщиной Катлиной и не стал судить ее по всей строгости закона, однако в удостоверение того, что она ведьма, волосы ее будут сожжены; кроме того, она уплатит двадцать золотых каролю штрафа и немедленно покинет пределы Дамме сроком на три года; буде же она решение суда нарушит, ее приговорят к отсечению руки.
Народ рукоплескал этому жестокому снисхождению.
Палач привязал Катлину к столбу и, положив пучок пакли на ее бритую голову, поджег. Пакля горела долго, а Катлина плакала и кричала.
Наконец ее развязали и вывезли за пределы Дамме в тележке, ибо ноги ее были обожжены.
39
Отцы города Хертогенбос, что в Брабанте, предложили Уленшпигелю пойти к ним в шуты, но он от этой чести отказался.
— Странствующему страннику надлежит шутовать не где-нибудь на одном месте, а по трактирам и по дорогам, — сказал он.
Между тем Филипп, который был также королем Английским, вздумал посетить будущее свое наследие — Фландрию, Брабант, Геннегау, Голландию и Зеландию. Ему шел двадцать девятый год. В сероватых его глазах таились безысходная тоска, злобное коварство и свирепая решимость. Неживое было у него лицо, словно деревянная была у него голова, покрытая рыжими волосами, деревянными казались его тощее тело и тонкие ноги. Медлительна была его речь и невнятна, словно рот у него был набит шерстью.
В промежутках между турнирами, потешными боями и празднествами он обозревал веселое герцогство Брабантское, богатое графство Фландрское и прочие свои владения. Всюду он клялся не посягать на их вольности. Но когда он в Брюсселе клялся на Евангелии соблюдать Золотую буллу[62] Брабанта, рука его судорожно сжалась и он принужден был убрать ее со священной книги.
Ко дню его прибытия в Антверпен там было сооружено двадцать три триумфальные арки. На эти арки, на костюмы для тысячи восьмисот семидесяти девяти купцов, которых одели в алый бархат, на пышные ливреи для четырехсот шестнадцати лакеев, а также на блестящее шелковое одеяние для четырех тысяч горожан Антверпен израсходовал двести восемьдесят семь тысяч флоринов. Риторы почти всех нидерландских городов блистали здесь своим красноречием.
Здесь можно было видеть со свитой шутов и шутих Принца любви, из Турне, верхом на свинье по имени Астарта; Короля дураков, из Лилля, шествовавшего со своей лошадью, держа ее за хвост; Принца утех, из Валансьенна, который ради собственного удовольствия считал, сколько раз пукнет его осел; Аббата веселий, из Арраса, который потягивал брюссельское вино из бутылки, имевшей вид служебника, и это было для него развеселое чтение; Аббата неги, из Атау, который не очень-то нежил свое тело, ибо на нем была лишь рваная простыня да стоптанные сапоги, но зато нежил свою утробу, до отказа набивая ее колбасой; Предводителя шалых — юношу, который ехал верхом на пугливой козе и которого толпа угощала тумаками, и, наконец, Аббата серебряного блюда, из Кенуа, который делал вид, что хочет усесться на блюде, привязанном к спине его лошади, и все приговаривал: «Нет такого крупного скота, который бы не изжарился на огне».
Но, несмотря на все эти невинные дурачества, король был печален и угрюм.
В тот же вечер маркграф Антверпенский, бургомистры, военачальники и священнослужители собрались на совещание, дабы придумать такую забаву, которая развеселила бы короля Филиппа.
— Вы не слыхали о Пьеркине Якобсене, шуте города Хертогенбоса, который славится как изрядный затейник? — спросил маркграф.
— Слыхали, — подтвердили все.
— Ну так пошлем за ним, — сказал маркграф, — пусть-ка он выкинет какое-нибудь колено, а то ведь у нашего шута ноги точно свинцовые.
— Пошлем, — согласились все.
Когда гонец из Антверпена прибыл в Хертогенбос, ему сообщили, что шут Пьеркин лопнул от смеха, но что здесь находится шут иноземный по имени Уленшпигель. Гонец сыскал его в таверне — тот в это время отщипывал разные лакомые кусочки и пощипывал девиц.
Уленшпигель был весьма польщен тем, что посланец антверпенской общины прискакал за ним на славном верн-амбахтском коне, а другого такого же держал в поводу.
Не слезая с коня, гонец спросил Уленшпигеля, знает ли он какой-нибудь новый фокус, который мог бы рассмешить короля Филиппа.
— У меня их целые залежи под волосами, — отвечал Уленшпигель.
И они помчались. Кони, закусив удила, уносили в Антверпен Уленшпигеля и гонца.
Уленшпигель предстал перед маркграфом, обоими бургомистрами и старшинами.
— Чем ты будешь нас забавлять? — спросил маркграф.
— Буду летать, — отвечал Уленшпигель.
— Как же это ты сделаешь? — спросил маркграф.
— А вы знаете, что стоит дешевле лопнувшего мыльного пузыря? — вопросом на вопрос отвечал Уленшпигель.
— Нет, не знаю, — признался маркграф.
— Разглашенная тайна, — сказал Уленшпигель.
Между тем герольды, разъезжая на славных конях в алой бархатной сбруе по всем большим улицам, по площадям и перекресткам, трубили в трубы и били в барабаны. Они оповещали signork'ов и signorkinn[63], что Уленшпигель, шут из Дамме, будет летать по воздуху над набережной и что при сем присутствовать будет сам король Филипп, вместе со своей благородной, знатной и достоименитой свитой восседая на возвышении.
Возвышение стояло напротив дома в итальянском вкусе. Слуховое окошко этого дома выходило прямо на водосточный желоб, тянувшийся во всю длину крыши.
В день представления Уленшпигель проехался по городу на осле. Рядом с ним бежал на своих на двоих лакей. На Уленшпигеле был алого шелка наряду которым его снабдила община. На голове у него был красный колпак с ослиными ушами, на которых висели бубенчики. На шее сверкало ожерелье из медных блях с гербами Антверпена. На рукавах, у локтей, позванивали бубенчики. На вызолоченных носках туфель также висели бубенчики.
Осел его был покрыт алого шелка попоной, по бокам которой был вышит золотой герб Антверпена.
Лакей одной рукой вертел ослиную голову, а другой — прут, на конце которого звякал колокольчик, снятый с коровьего ошейника.
Оставив лакея и осла на улице, Уленшпигель взобрался по водосточной трубе на крышу. Там он зазвенел бубенцами и широко расставил руки, словно собираясь лететь. Затем наклонился к королю Филиппу и сказал:
— Я думал, я единственный дурак во всем Антверпене, а теперь вижу, что их тут полным-полно. Скажи вы мне; что собираетесь лететь, я бы вам не поверил. А к вам приходит дурак, объявляет, что полетит, и вы ему верите. Да как же я могу летать, раз у меня крыльев нет?
Иные смеялись, иные бранились, но все говорили одно:
— А ведь дурак правду сказал!
Но король-Филипп словно окаменел.
— Стоило для этой надутой рожи закатывать такой роскошный праздник! — перешептывались старшины.
Они силком забрали у Уленшпигеля алый шелковый наряд, заплатили ему три флорина, и он удалился.
— Что такое три флорина в кармане у молодого парня, как не снежинка в огне, как не бутылка, стоящая перед вами, беспробудные пьяницы? Три флорина! Листья опадают с деревьев, потом опять вырастают, а вот если флорины вытекут из кармана, то уж пиши пропало. Бабочки пропадают в конце лета, и флорины тоже исчезают, хотя в них два эстерлина и девять асов весу.
Так рассуждал сам с собой Уленшпигель, внимательно разглядывая три флорина.
— На лицевой стороне — император Карл в панцире и шлеме, в одной руке меч, в другой жалкенький земной шарик, — ишь какую важность на себя напустил! Божией милостью император Римский, король Испанский, и прочая, и прочая, и прочая! И в самом деле, он милостив к нашим краям, этот броненосный император. А на оборотной стороне — щит, на котором выбиты гербы его герцогств, графств и других владений и вытеснены прекрасные слова: «Da mihi virtutem contra hastes tuos»[64]. И он, правда, был тверд в борьбе с реформатами[65] — отобрал у них все имущество и наложил на него лапу. Эх, будь я императором Карлом, я бы для всех людей начеканил флоринов, и все бы разбогатели и никто бы ничего не делал.
Сколько ни любовался Уленшпигель своими красивыми монетами, а все же они под стук кружек и звон бутылок угодили в Страну мотовства.
40
Когда Уленшпигель в своем алом шелковом наряде появился на крыше, он не заметил Неле, с улыбкой глядевшую на него из толпы. Она жила в это время в Боргерхауте, под Антверпеном, и, узнав, что какой-то шут собирается летать в присутствии короля Филиппа, решила, что это, уж верно, не кто иной, как ее дружок Уленшпигель.
Теперь он задумчиво брел по дороге и не слышал ее торопливых шагов у себя за спиной, но вдруг почувствовал, как на глаза ему легли две руки. Он сразу узнал Неле.
— Это ты? — спросил он.
— Да, — отвечала она, — я бегу за тобой от самого города. Пойдем ко мне.
— А где Катлина? — спросил он.
— Ты ведь не знаешь: на нее наговорили, будто она ведьма, пытали, потом изгнали на три года из Дамме, обожгли ей ноги, жгли паклю на голове, — отвечала Неле. — Я тебе для того про это рассказываю, чтобы ты не испугался, когда увидишь ее, — она помешалась от нечеловеческих мучений. Она иногда часами смотрит на свои ноги и все твердит: «Ганс, добрый мой бес, погляди, что сделали с твоею милой». Ее бедные ноги — точно две язвы. Потом как заплачет: «У всех, говорит, есть мужья или возлюбленные, одна я живу вдовой!» А я ей тогда стараюсь внушить, что если она еще кому-нибудь скажет про своего Ганса, то он ее возненавидит. И она слушается меня, как ребенок, но если, не дай бог, увидит корову или быка, — она ведь из-за животных пострадала, — пустится бежать со всех ног, и тогда уже ничто ее не остановит — ни забор, ни ручей, ни канава, будет бежать до тех пор, пока не свалится в изнеможении где-нибудь на распутье или возле какого-нибудь дома, и тут я ее поднимаю и перевязываю ей израненные ноги. По-моему, когда у нее на голове жгли паклю, то и мозги ей сожгли.
У обоих при мысли о Катлине больно сжалось сердце.
Приблизившись, они увидели, что Катлина сидит около дома на лавочке и греется на солнце.
— Ты меня узнаешь? — спросил Уленшпигель.
— Четырежды три — число священное, а тринадцать — чертова дюжина, — отвечала Катлина. — Кто ты, дитя жестокого мира?
— Я — Уленшпигель, сын Клааса и Сооткин, — отвечал тот.
Катлина подняла голову и, узнав Уленшпигеля, поманила его.
— Когда ты увидишь того, чьи поцелуи холодны, как лед, скажи ему, Уленшпигель, что я его жду, — прошептала она ему на ухо и, показав свою обожженную голову, продолжала: — Мне больно. Они отняли у меня разум, но когда Ганс придет, он вложит мне его в голову, а то она сейчас совсем пустая. Слышишь? Звенит, как колокол, — это моя душа стучится, просится наружу, а то ведь там, внутри, все в огне. Если Ганс придет и не захочет вложить мне в голову разум, я попрошу его проделать в ней ножом дыру, а то душа моя все стучится, все рвется на волю и причиняет мне дикую боль — я не вынесу, я умру от этой боли. Я уже не сплю, все жду его — пусть он вложит мне в голову разум, пусть вложит!
И тут она прислонилась к стене дома и застонала.
Крестьяне, заслышав колокольный звон, шли с поля домой обедать и, проходя мимо Катлины, говорили:
— Вон дурочка. — И крестились.
А Неле и Уленшпигель плакали. А Уленшпигелю надо было продолжать страннический свой путь.
41
Некоторое время спустя странник наш поступил на службу к некоему Иосту по прозвищу Kwaebakker, то есть «сердитый булочник» — такая у него была злющая рожа. Kwaebakker выдал ему на неделю три черствых хлебца, а для спанья отвел место на чердаке, где и лило и дуло на совесть.
В отместку за дурное обхождение Уленшпигель шутил с ним всевозможные шутки и, между прочим, сыграл такую… Кто задумал печь хлеб спозаранку, тот просеивает муку ночью. И вот однажды, лунной ночью, Уленшпигель попросил свечу, чтобы было виднее, но хозяин ему на это сказал:
— Просеивай там, где луна светит.
Уленшпигель стал послушно сыпать муку на землю — там, куда падал лунный свет.
Утром Kwaebakker пришел посмотреть работу Уленшпигеля и, увидев, что тот все еще просеивает, спросил:
— Ты зачем муку наземь сыплешь? Или она теперь нипочем?
— Я исполнил ваше приказание — просеивал муку там, где луна светит, — отвечал Уленшпигель.
— Осел ты этакий! — вскричал булочник. — Через сито надо было просеивать!
— Я думал, что луна — это новоизобретенное сито, — сказал Уленшпигель. — Впрочем, беда невелика, я сейчас соберу муку.
— Да ведь уж поздно месить тесто и печь хлеб, — возразил Kwaebakker.
— Baes[66], у твоего соседа, у мельника, есть готовое тесто. Давай я сбегаю? — предложил Уленшпигель.
— Иди на виселицу, — огрызнулся Kwaebakker, — может, там что-нибудь найдешь.
— Сейчас, baes, — молвил Уленшпигель.
С этими словами он побежал на Поле виселиц, нашел там высохшую руку преступника и принес ее Kwaebakker'у.
— Это рука заколдованная, — объявил он, — кто ее с собой носит, тот для всех становится невидимкой. Хочешь спрятать свой дурной нрав?
— Я пожалуюсь на тебя в общину, — сказал Kwaebakker, — там ты увидишь, что значит не слушаться хозяина.
Стоя вместе с Уленшпигелем перед бургомистром и собираясь развернуть бесконечный свиток злодеяний своего работника, Kwaebakker вдруг заметил, что тот изо всех сил пялит на него глаза. Это его так взбесило, что он прервал свою жалобу и крикнул:
— Что еще?
— Ты же сам сказал, что докажешь мою вину и я ее увижу, — отвечал Уленшпигель. — Вот я и хочу ее увидеть, потому в смотрю.
— Прочь с глаз моих! — взревел булочник.
— Будь я на твоих глазах, то, когда бы ты их зажмурил, я мог бы вылезти только через твои ноздри, — возразил Уленшпигель.
Бургомистр, видя, что оба порют чушь несусветную, не стал их слушать.
Уленшпигель и Kwaebakker вышли вместе. Kwaebakker замахнулся на него палкой, но Уленшпигель увернулся.
— Baes, — сказал он, — коль скоро ты замыслил побоями высеять из меня муку, то возьми себе отруби — свою злость, а мне отдай муку — мою веселость. — И, показав ему задний свой лик, прибавил: — А вот это устье печки — пеки на здоровье.
42
Уленшпигелю так надоело странствовать; что он с удовольствием заделался бы не вором с большой дороги, а вором большой дороги, да уж больно тяжелым была она вымощена булыжником.
Он пошел на авось в Ауденаарде, где стоял тогда гарнизон фламандских рейтаров, охранявший город от французских отрядов, которые, как саранча, опустошали край.
Фламандскими рейтарами командовал фрисландец Корнюин. Рейтары тоже рыскали по всей округе и грабили народ, а народ, как всегда, был между двух огней.
Рейтарам все шло на потребу: куры, цыплята, утки, голуби, телята, свиньи. Однажды, когда они возвращались с добычей, Корнюин и его лейтенанты обнаружили под деревом Уленшпигеля, спавшего и видевшего жаркое.
— Чем ты промышляешь? — осведомился Корнюин.
— Умираю с голоду, — отвечал Уленшпигель.
— Что ты умеешь делать?
— Паломничать за свои прегрешения, смотреть, как трудятся другие, плясать на канате, рисовать хорошенькие личики, вырезывать черенки для ножей, тренькать на rommelpot'е и играть на трубе.
О трубе Уленшпигель так смело заговорил потому, что после смерти престарелого сторожа Ауденаардского замка должность эта все еще оставалась свободной.
— Быть тебе городским трубачом, — порешил Корнюин.
Уленшпигель пошел за ним и был помещен в самой высокой из городских башен, в клетушке, доступной всем ветрам, кроме полдника, который задевал ее одним крылом.
Уленшпигелю было ведено трубить в трубу, чуть только он завидит неприятеля, но так как для этого голова должна быть ясная, а глаза постоянно открыты, Уленшпигеля держали впроголодь.
Военачальник и его рубаки жили в башне, и там у них шел непрерывный пир за счет окрестных деревень. Одних каплунов рейтары зарезали и сожрали невесть сколько, не найдя на них никакой другой вины, кроме той, что они были жирные. Об Уленшпигеле всегда забывали, и он, с тоской принюхиваясь к запаху кушаний, пробавлялся пустой похлебкой. Как-то раз налетели французы и увели много скота. Уленшпигель не трубил.
Корнюин поднялся к нему в каморку.
— Ты что же не трубил? — спросил он.
— У меня не хватило духу отблагодарить вас за харчи, — отвечал он.
На другой день военачальник задал самому себе и своим рубакам роскошный пир, а про Уленшпигеля опять позабыли. Как скоро они принялись уплетать, Уленшпигель затрубил в трубу.
Решив, что нагрянули французы, Корнюин и его рубаки побросали еду и вино и, вскочив на коней, поскакали за город, но обнаружили в поле только быка, лежавшего на солнце и пережевывавшего жвачку, и за неимением французов угнали его.
Тем временем Уленшпигель наелся, напился. Военачальник, вернувшись, застал такую картину: Уленшпигель, еле держась на ногах, стоял в дверях пиршественной залы и усмехался.
— Только изменник трубит тревогу, когда неприятеля нет, и не трубит, когда неприятель под носом, — сказал ему военачальник.
— Господин начальник, — возразил Уленшпигель, — там, наверху, меня так надувает ветром, что если б я вовремя на затрубил и не выпустил воздух, меня бы унесло, как все равно пузырь. Сделайте одолжение, вешайте меня — хотите сейчас, хотите как-нибудь другим разом, когда вам понадобится ослиная шкура для барабана.
Корнюин молча удалился.
Между тем до Ауденаарде дошла весть, что сюда направляется со своей доблестной свитой всемилостивейший император Карл. По сему обстоятельству старшины снабдили Уленшпигеля очками, дабы он мог издали разглядеть его святейшее величество. Уленшпигелю надлежало, как скоро он увидит, что император подходит к Луппегему, отстоявшему от Боргпоорта на четверть мили, трижды протрубить в трубу.
Мера эта была принята для того, чтобы горожане успели зазвонить в колокол, приготовить фейерверк, поставить на огонь кушанья и открыть бочки с вином.
И вот однажды, в ясный полдень, когда ветер дул со стороны Брабанта, Уленшпигель увидел на Луппегемской дороге множество всадников с развевающимися султанами и играющих под ними коней. Иные всадники держали знамена. На голове у того, кто ехал впереди, как-то особенно гордо сидела парчовая шляпа с длинными перьями. На нем был шитый золотом наряд из коричневого бархата.
Уленшпигель, оседлав нос очками, разглядел, что это император Карл, по доброте своей не воспретивший жителям Ауденаарде угостить его лучшими винами и лучшими яствами.
Вся эта кавалькада двигалась шагом, дыша свежим воздухом, возбуждающим в людях аппетит, но Уленшпигель решил, что все они едят до отвала и когда-нибудь могут и попоститься. Словом, он смотрел, как они приближаются, и не думал трубить.
Ехали они, смеясь и болтая, а его святейшее величество мысленно заглядывал в свой желудок — осталось ли там место для обеда в Ауденаарде. Он был неприятно удивлен тем, что ни один колокол не возвещал о его прибытии.
Тем временем в город прибежал крестьянин и сказал, что он своими глазами видел отряд французов, который-де движется по направлению к городу, чтобы все здесь сожрать и все как есть разграбить.
Выслушав его, привратник тотчас же запер ворота и послал общинного рассыльного оповестить других привратников. А рейтары, ничего не подозревая, бражничали себе и бражничали.
Чем ближе подъезжал император, тем сильнее разбирала его злость, что колокола не звонят, пушки не палят, аркебузы не трещат. Как ни напрягал он слух, ничего, кроме боя башенных часов, бивших каждые полчаса, до него не доносилось. Убедившись, что ворота заперты, он изо всех сил забарабанил.
Свита, раздосадованная не менее самого императора, громко выражала свое возмущение. Привратник крикнул с вала, что если они не уймутся, то он польет сверху картечью, дабы охладить их боевой пыл.
Его величество взбесился.
— Ах ты, слепая курица! — гаркнул он. — Ты что, не узнаешь своего императора?
— От курицы больше пользы, чем от иного павлина, — возразил привратник. — К тому же, господа французы — изрядные, знать, шутники: император-то Карл сейчас воюет в Италии — как же он может стоять у ворот Ауденаарде?
Тут Карл и его свита заорали во все горло:
— Если не откроешь, мы тебя изжарим на копье! А перед этим ты проглотишь свои ключи.
На шум прибежал из артиллерийского склада старый служивый и, выглянув из-за стены, сказал:
— Ты ошибся, привратник, — это наш император. Я его сразу узнал, хоть и постарел он с тех пор, как увез отсюда в Лаленский замок Марию ван дер Хейнст[67].
Привратник от страха лишился чувств; служивый взял у него ключи и побежал отворять ворота.
Император спросил, почему его так долго заставили ждать. Солдат объяснил, тогда император приказал ему опять запереть ворота и вызвать рейтаров Корнюина, а рейтарам велел идти вперед, дудеть в дудки и бить в барабаны.
Вслед за тем, сперва робко, потом все громче, зазвонили колокола. Только после этого его величество с подобающим его особе шумом и громом вступил на Большой рынок. Бургомистры и старшины находились в это время в зале заседаний. Старшина Ян Гигелер выбежал на шум. Обратно он прибежал с криком:
— Keyser Karel is alhier! (Император Карл здесь!)
Устрашенные этой вестью, бургомистры, старшины и советники в полном составе вышли из ратуши, дабы приветствовать императора, меж тем как слуги носились по всему городу и передавали их распоряжение готовить потешные огни, жарить птицу и открывать бочки.
Мужчины, женщины, дети бегали взад и вперед.
— Keyser Karel is op't Groot marckt! (Император Карл на Большом рынке!) — кричали они.
Там уже собралась огромная толпа.
Император, не помня себя от ярости, спросил обоих бургомистров, не заслуживают ли они виселицы за такое невнимание к своему государю.
Бургомистры ответили, что заслуживают, но что еще больше заслуживает ее городской трубач Уленшпигель, так как, едва до них дошел слух об ожидающемся прибытии его величества, они поместили трубача в башне, дали ему прекрасные очки и строго-настрого приказали трижды протрубить, как скоро он завидит вдали императора и его свиту. Но трубач ослушался.
Императора нимало не смягчившись, велел привести Уленшпигеля.
— Почему ты, хотя тебе дали такие хорошие очки, не трубил при моем приближении? — спросил он его.
Говоря это, император прикрыл глаза ладонью от солнца — он смотрел на Уленшпигеля сквозь пальцы.
Уленшпигель тоже прикрыл глаза ладонью и сказал, что как скоро он увидел, что его величество смотрит сквозь пальцы, то сей же час снял очки.
Император ему объявил, что его повесят, привратник одобрил этот приговор, а бургомистры онемели от ужаса.
Послали за палачом и его подручными. Те принесли с собой лестницу и новую веревку, схватили Уленшпигеля за шиворот, и тот, шепча молитвы, спокойно прошел мимо сотни корнюинских рейтаров.
Те над ним издевались. А народ, шедший за ним, говорил:
— За такой пустяк осудить на смерть бедного юношу — это бесчеловечно.
Тут было много вооруженных ткачей, и они говорили:
— Мы не дадим вешать Уленшпигеля. Это против законов Ауденаарде.
Между тем Уленшпигеля привели на Поле виселиц, заставили подняться на лестницу, и палач накинул ему на шею петлю. Ткачи сгрудились у самой виселицы. Профос, верхом на коне, упер коню в бок судейский жезл, которым он должен был по приказу императора подать знак к приведению приговора в исполнение.
Весь народ повторял:
— Помилуйте, помилуйте Уленшпигеля!
Уленшпигель, стоя на лестнице, крикнул:
— Сжальтесь, всемилостивейший император!.
Император поднял руку и сказал:
— Если этот мерзавец попросит меня о чем-нибудь таком, чего я не могу исполнить, я его помилую.
— Проси, Уленшпигель!
Женщины плакали и говорили между собой:
— Ни о чем таком он, бедняжечка, попросить не может — император всемогущ.
Но вся толпа, как один человек, кричала:
— Проси, Уленшпигель!
— Ваше святейшее величество, — начал Уленшпигель, — я не прошу ни денег, ни поместий, не прошу Даже о помиловании, — я прошу вас только об одном, за каковую мою просьбу вы уж не бичуйте и не колесуйте меня — ведь я и так скоро отойду к праотцам.
— Обещаю, — сказал император.
— Ваше величество! — продолжал Уленшпигель. — Прежде чем меня повесят, подойдите, пожалуйста, ко мне и поцелуйте меня в те уста, которыми я не говорю по-фламандски.
Император и весь народ расхохотались.
— Эту просьбу я не могу исполнить, — сказал император, — значит, тебя, Уленшпигель, не будут вешать.
Но бургомистров и старшин он присудил целых полгода носить на затылке очки, ибо, рассудил он, если ауденаардцы не умеют смотреть передом, пусть, по крайней мере, смотрят задом.
Так до сих пор эти очки и красуются по императорскому указу в гербе города Ауденаарде.
А Уленшпигель с мешочком серебра, которое ему собрали женщины, незаметно скрылся.
43
В Льеже, в рыбном ряду, Уленшпигель обратил внимание на толстого юнца, державшего под мышкой плетушку с битой птицей, а другую плетушку наполнявшего треской, форелью, угрями и щуками. Уленшпигель узнал Ламме Гудзака.
— Что ты здесь делаешь, Ламме? — спросил он.
— Ты же знаешь, как нас, фламандцев, радушно принимают в приветливом Льеже, — отвечал Ламме. — Я здесь обретаюсь ради предмета моей любви. А ты?
— Я ищу, где бы заработать на кусок хлеба, — отвечал Уленшпигель.
— Черствая пища, — заметил Ламме. — Лучше бы ты спустил в брюхо четки из ортоланов с дроздом заместо «Верую».
— Ты богат? — спросил Уленшпигель.
На это Ламме Гудзак ему сказал:
— Я потерял отца, мать и младшую сестру, которая так меня колотила. В наследство мне досталось все их имущество. Опекает же меня одноглазая служанка, великая мастерица по части стряпни.
— Понести тебе рыбу и птицу? — спросил Уленшпигель.
— Понеси, — сказал Ламме.
И они зашагали по рынку.
— А ведь ты дурак, — неожиданно изрек Ламме. — Знаешь почему?
— Нет, не знаю, — отвечал Уленшпигель.
— Ты носишь рыбу и птицу не в желудке, а в руках.
— Твоя правда, Ламме, — согласился Уленшпигель, — но, с тех пор как я сижу без хлеба, ортоланы и глядеть на меня не хотят.
— Ты их досыта наешься, Уленшпигель, — сказал Ламме. — Ты будешь мне прислуживать, если согласится моя стряпуха.
Дорогой Ламме показал Уленшпигелю славную, милую, прелестную девушку в шелковом платье — она семенила по рынку и, увидев Ламме, бросила на него нежный взгляд.
Сзади нее шел ее старый отец и нес две плетушки — одну с рыбой, другую с дичью.
— Вот на ком я женюсь, — сказал Ламме.
— Я ее знаю, — сказал Уленшпигель, — она — фламандка, родом из Зоттегема, живет на улице Винав д'Иль. Соседи уверяют, будто мать подметает за нее улицу перед домом, а отец гладит ее сорочки.
Но Ламме, пропустив его слова мимо ушей, с сияющим видом сказал:
— Она на меня посмотрела!
Они подошли к дому Ламме, у Пон-дез-Арш, и постучались, Им отворила кривая служанка. Это была старая ведьма, длинная и худая.
— Ла Санжин, — обратился к ней Ламме, — возьмешь этого молодца в помощники?
— Возьму на пробу, — отвечала та.
— Возьми, — сказал Ламме, — пусть он изведает всю прелесть твоей кухни.
Ла Санжин подала на стол три кровяные колбаски, кружку пива и краюху хлеба.
Уленшпигель ел за обе щеки, Ламме тоже угрызал колбаску.
— Ты знаешь, где у нас душа? — спросил он.
— Не знаю, — отвечал Уленшпигель.
— В желудке, — молвил Ламме. — Она постоянно опустошает его и обновляет в нашем теле жизненную силу. А кто самые верные наши спутники? Вкусные, изысканные блюда и маасское вино.
— Да, — сказал Уленшпигель, — колбаски — приятное общество для одинокой души.
— Он еще хочет, — сказал Ламме. — Дай ему, Ла Санжин.
На сей раз Ла Санжин подала Уленшпигелю ливерной колбасы. Пока Уленшпигель лопал ливерную колбасу, Ламме с глубокомысленным видом рассуждал:
— Когда я умру, мой желудок тоже умрет, а в чистилище меня заставят поститься, и буду я таскать с собой отвисшее, пустое брюхо.
— Кровяная мне больше понравилась, — заметил Уленшпигель.
— Ты уже шесть таких колбасок съел, хватит с тебя, — отрезала Ла Санжин.
— Ты у нас поживешь в свое удовольствие, — сказал Ламме, — есть будешь то же, что и я.
— Ловлю тебя на слове, — молвил Уленшпигель.
Видя, что он и впрямь питается не хуже хозяина, Уленшпигель был наверху блаженства. Уничтоженная им колбаса так его вдохновила, что в этот день он отчистил до зеркального блеска все котлы, сковороды и горшки.
Зажил он в этом доме, как в раю, часто наведывался в погреб и в кухню, а чердак предоставил кошкам. Однажды Ла Санжин велела ему приглядеть за вертелом, на котором жарились два цыпленка, а сама пошла на рынок купить зелени. Когда цыплята изжарились, Уленшпигель одного съел.
Ла Санжин, вернувшись, сказала:
— Тут было Два цыпленка, а сейчас я вижу одного.
— Открой другой глаз — увидишь двух, — посоветовал Уленшпигель.
Кухарка в ярости пошла жаловаться Ламме Гудзаку — тот явился на кухню и сказал Уленшпигелю:
— Что ж ты издеваешься над моей служанкой? Ведь было же два цыпленка.
— Так-то оно так, Ламме, — заметил Уленшпигель, — но когда я к тебе поступал, ты мне сказал, что я буду есть и пить то же, что и ты. Тут было два цыпленка — одного съел я, другого съешь ты, я уже получил удовольствие, а тебе оно еще предстоит. Кто же из нас счастливей — не ты ли?
— Выходит, что так, — молвил Ламме, — но все-таки ты беспрекословно слушайся Ла Санжин, и тогда тебе придется делать только половину работы.
— Постараюсь, Ламме, — сказал Уленшпигель.
На этом основании Уленшпигель, что бы Ла Санжин ему ни поручала, делал теперь только половину дела. Так, например, если она говорила ему, чтобы он принес два ведра воды, он притаскивал одно. Если она говорила ему, чтобы он слазил в погреб и нацедил из бочки кружку пива, по дороге он выливал полкружки себе в глотку, и все в таком роде.
В конце концов эти проделки надоели Ла Санжин, и она сказала Ламме напрямик: или, мол, этот мошенник, или она.
Ламме пошел к Уленшпигелю и сказал:
— Придется тебе уйти, сын мой, хоть ты у нас и отрастил ряшку. Слышишь? Петух поет. А сейчас два часа дня — это к дождю. Мне жаль выгонять тебя на дождь, но подумай, сын мой: Ла Санжин благодаря своему поваренному искусству является стражем моего бытия. Расстаться с ней я могу только с риском для жизни. Иди с богом, мой мальчик, возьми себе на дорогу три флорина и снизку колбасок.
И Уленшпигель со стыдом удалился, тоскуя о Ламме и об его кухне.
44
В Дамме, как и повсюду, стоял ноябрь, но зима запаздывала.
Ни снега, ни дождя, ни холода. Солнце не по-осеннему ярко светило с утра до вечера. Дети копошились в уличной и дорожной пыли. После ужина купцы, приказчики, золотых дел мастера, тележники и другие ремесленники выходили из своих домов поглядеть на все еще голубое небо, на деревья, с которых еще не падали листья, на аистов, облюбовавших конек крыши, на неотлетевших ласточек. Розы цвели уже трижды и опять были все в бутонах. Ночи были теплые, соловьи заливались.
Жители Дамме говорили:
— Зима умерла — сожжем зиму!
Они смастерили громадное чучело с медвежьей мордой, длинной бородой из стружек и косматой гривой из льна, надели на него белое платье, а потом торжественно сожгли.
Клаас закручинился. Его не радовало безоблачное небо, не радовали ласточки, не желавшие улетать. В Дамме никому не нужен был уголь — разве для кухни, а для кухни все им запаслись, и у Клааса, истратившего на закупку угля все свои сбережения, не оказалось покупателей.
Вот почему, когда, стоя на пороге своего дома, угольщик чувствовал, что свежий ветерок холодит ему кончик носа, он говорил:
— Эге! Ко мне идет мой заработок.
Но свежий ветерок стихал, небо по-прежнему было голубое, листья не желали падать. Клаас не уступил за полцены свой зимний запас угля выжиге Грейпстюверу, старшине рыботорговцев. И скоро Клаасу не на что стало купить хлеба.
45
А король Филипп не голодал — он объедался пирожными в обществе своей супруги Марии Уродливой[68] из королевского дома Тюдоров. Любить он ее не любил, но его занимала мысль, что, оплодотворив эту чахлую женщину, он подарит английскому народу монарха-испанца.
Брачный союз с Марией являлся для него сущим наказанием — это было все равно что сочетать булыжник с горящей головней. В одном лишь они выказывали трогательное единодушие — несчастных реформатов они жгли и топили сотнями.
Когда Филипп не уезжал из Лондона, когда он, переодетый, не отправлялся развлекаться в какой-нибудь притон, час отхода ко сну соединял супругов.
Королева Мария в отделанной ирландскими кружевами сорочке из фламандского полотна стояла возле брачного ложа, а король Филипп, длинный как жердь, оглядывал ее — нет ли каких-либо признаков беременности. Ничего не обнаружив, он свирепел и молча принимался рассматривать свои ногти.
Бесплодная сластолюбка говорила ему нежные слова и бросала на него нежные взгляды — она молила бесчувственного Филиппа о любви. Всеми доступными ей средствами — слезами, воплями, просьбами — добивалась она ласки от человека, который ее не любил.
Напрасно, ломая руки, падала она к его ногам. Напрасно, чтобы разжалобить его, хохотала и плакала, как безумная, но ни смех, ни слезы не смягчали это твердокаменное сердце.
Напрасно в порыве страсти она, как змея, обвивала его костлявыми руками и прижимала к плоской груди узкую клетку, где жила низкая душонка этого земного владыки, — он по-прежнему стоял столбом.
Злосчастная дурнушка старалась обаять его. Она называла его всеми ласковыми именами, какие дают избранникам своего сердца обезумевшие от страсти женщины, — Филипп рассматривал свои ногти.
Иногда он обращался к ней с вопросом:
— У тебя так и не будет детей?
Голова ее падала на грудь.
— Разве я виновата, что я бесплодна? — говорила она. — Пожалей меня — я живу, как вдова.
— Почему у тебя нет детей? — твердил Филипп.
Королева как подкошенная падала на ковер. Из глаз ее катились слезы, но если б эта злосчастная сластолюбка могла, она плакала бы кровью.
Так господь мстил палачам за то, что они устлали своими жертвами землю Английскую.
46
Народ поговаривал, что император Карл намерен лишить монахов права наследовать имущество лиц, умерших в монастырях, и что папа этим крайне недоволен.
Уленшпигель в это время бродил по берегам Мааса и думал о том, что император из всего умеет извлекать пользу: он наследует и выморочное имущество. В сих мыслях Уленшпигель сел на берегу и закинул старательно наживленную удочку. Жуя черствый кусок черного хлеба, он затосковал по бургонскому, но тут же подумал, что далеко не каждый человек наслаждается всеми благами жизни.
Рассуждая таким образом, Уленшпигель бросал в воду кусочки хлеба — он придерживался того мнения, что человек, который не делится пищей со своим ближним, сам недостоин ее.
Внезапно появился пескарь: обнюхал хлебный мякиш, дотронулся до него ртом, а затем разинул свою невинную пасть — видимо, он был уверен, что хлеб сам туда прыгнет. Но пока он пучил глаза, в воздухе стрельнула коварная щука и в одну секунду проглотила его.
Так же точно обошлась она с карпом, который, не чуя опасности, ловил на лету мошек. Наевшись досыта, щука, не обращая внимания на мелкую рыбешку, удиравшую от нее на всех плавниках, легла отдохнуть. Она все еще не изменила своей небрежной позы, когда на нее с разинутой пастью накинулась другая щука, прожорливая и голодная. Между ними вспыхнул ожесточенный бой. Один сокрушительный удар следовал за другим. Вода покраснела от крови. Пообедавшая щука оказала слабое сопротивление голодной. Наконец голодная отплыла подальше и с разгону налетела на свою противницу, а та, ожидавшая ее с разинутой пастью, нечаянно заглотала половину ее головы, тут же постаралась освободиться от нее, но не смогла — по причине изогнутости своих зубов. Обе барахтались, являя собою прежалкое зрелище.
Сцепившись, они не заметили привязанного к шелковой лесе основательного крючка, а между тем леса натянулась, и крючок, впившись в плавник щуки пообедавшей; вытащил ее вместе с противницей и без всяких церемоний выбросил на траву.
Вонзая в них нож, Уленшпигель сказал:
— Милые вы мои щучки! Вы как все равно император и папа: друг дружку едите. А я — народ: пока вы деретесь, я, господи благослови, раз, раз — и обеих на крючок!
47
Катлина по-прежнему жила в Боргерхауте, бродила по окрестностям и все говорила, говорила:
— Ганс, муж мой, они зажгли огонь на моей голове. Проделай в ней дыру, чтобы душа моя вырвалась оттуда! Ой, как она стучится! От каждого удара сердце заходится.
А Неле ухаживала за своей безумной матерью и думала грустную думу о своем Уленшпигеле.
А Клаас в Дамме вязал хворост, торговал углем и тужил при мысли о том, что изгнанный Уленшпигель долго еще не вернется в родную лачугу.
Сооткин целыми днями сидела у окна и смотрела, не видать ли ее сына Уленшпигеля.
А Уленшпигель, достигнув окрестностей Кельна, вообразил, что у него есть склонность к садоводству.
Он пошел в работники к Яну де Цуурсмулю, бывшему начальнику ландскнехтов, который некогда откупился от виселицы и с тех пор безумно боялся конопли, а конопля называлась тогда по-фламандски kennip.
Как-то раз Ян де Цуурсмуль, намереваясь задать Уленшпигелю очередной урок, привел его на свое поле, и тут они оба увидели, что один край участка сплошь зарос зеленым kennip'ом.
Ян де Цуурсмуль сказал Уленшпигелю:
— Где бы ты ни увидел вон ту мерзость, предавай ее позорному осквернению: сие есть орудие колесования и повешения.
— Предам, — обещал Уленшпигель.
Однажды, когда Ян де Цуурсмуль и его собутыльники сидели за столом, повар приказал Уленшпигелю:
— Сбегай в погреб и принеси zennip (то есть горчицу).
Уленшпигель, якобы нечаянно спутав zennip с kennip'ом, предал в погребе горшок с горчицей позорному осквернению и с усмешечкой подал его на стол.
— Ты чего смеешься? — спросил Ян де Цуурсмуль. — Ты думаешь, у нас носы бронзовые? Ты приготовил этот zennip — сам его и жри.
— Я предпочитаю жареное мясо с корицей, — возразил Уленшпигель.
Ян де Цуурсмуль вскочил и замахнулся на него.
— В горшке с горчицей — скверность! — крикнул он.
— Baes, — обратился к нему Уленшпигель, — а вы не помните, как вы меня привели на свой участок? Вы показали на zennip и сказали: «Как увидишь эту мерзость, предавай ее позорному осквернению: сие есть орудие колесования и повешения». Я его и осквернил, baes, осквернил самым оскорбительным для него образом. Я исполнил ваше приказание — за что же вы собираетесь меня колотить?
— Я сказал kennip, а не zennip! — в бешенстве крикнул Ян де Цуурсмуль.
— Нет, baes, вы сказали zennip, а не kennip, — упорствовал Уленшпигель.
Долго они еще пререкались: Уленшпигель возражал мягко, зато Ян де Цуурсмуль визжал, как будто его резали; он увяз, как муха в меду, во всех этих zennip, kennip, kemp, zemp, zemp, kemp и никак не мог из них выпутаться.
А гости хохотали, как черти, когда они едят котлеты из доминиканцев[69] и почки инквизиторов.
Со всем тем Уленшпигелю пришлось уйти от Яна де Цуурсмуля.
48
Неле по-прежнему страдала и за себя, и за свою безумную мать.
А Уленшпигель поступил к портному, и тот ему сказал:
— Когда ты шьешь, шей плотнее, чтобы не просвечивало.
Уленшпигель залез в бочку и принялся шить.
— Да разве я тебе про то говорил? — вскричал портной.
— Я уплотнился в бочке. Тут нигде не просвечивает, — возразил Уленшпигель.
— Иди сюда, — сказал портной, — садись за стол и делай стежки как можно чаще — сошьешь мне волка.
«Волком» в тех краях называют полукафтанье.
Уленшпигель разрезал материю на куски и сшил нечто похожее на волка.
Портной заорал на него:
— Что ты сделал, черт бы тебя драл?
— Волка, — отвечал Уленшпигель.
— Пакостник ты этакий! — вопил портной. — Я тебе, правда, велел сшить волка, но ты же прекрасно знаешь, что волком у нас называется деревенское полукафтанье.
Некоторое время спустя он сказал Уленшпигелю:
— Пока ты еще не лег, малый, подкинь-ка рукава вон в той куртке.
«Подкинуть» на портновском языке означает приметать.
Уленшпигель повесил куртку на гвоздь и всю ночь бросал в нее рукавами.
На шум явился портной.
— Ты опять безобразничаешь, негодник? — спросил он.
— Какое же безобразие? — возразил Уленшпигель. — Я всю ночь подкидывал рукава к куртке, а они не держатся.
— Само собой разумеется, — сказал портной. — Вот я тебя сейчас на улицу выкину — посмотрим, долго ли ты там продержишься.
49
Когда кто-нибудь из добрых соседей соглашался приглядеть за Катлиной, Неле отправлялась гулять одна и шла далеко-далеко, до самого Антверпена, бродила по берегам Шельды и в других местах и всюду искала — на речных судах и на пыльных дорогах, — нет ли где ее друга Уленшпигеля.
А Уленшпигель добрался до Гамбурга, и там, среди скопища купцов, его внимание привлекли старые евреи — ростовщики и старьевщики.
Уленшпигель решил тоже заделаться торговцем; того ради он подобрал с земли немного лошадиного навозу и отнес к себе, а приютом ему служил тогда редан крепостной стены. Там он высушил навоз. Потом купил алого и зеленого шелку, наделал из него мешочков, положил туда лошадиного навозу и перевязал ленточкой — будто бы они с мускусом.
Затем он сколотил из дощечек лоток, повесил его на старой бечевке себе на шею и, разложив на нем мешочки, вышел на рынок. По вечерам он зажигал прикрепленную посреди лотка свечечку.
Когда его спрашивали, чем он торгует, он с таинственным видом отвечал:
— Я могу вам на это ответить, но только не во всеуслышание.
— Ну? — допытывались покупатели.
— Это пророческие зерна, — отвечал Уленшпигель, — завезены они во Фландрию прямо из Аравии, а изготовлены изрядным искусником Абдул-Медилом, потомком великого Магомета.
Иные покупатели говорили между собой:
— Это турок.
А другие возражали:
— Нет, это фламандский богомолец — разве не слышите по выговору?
Оборванцы, голодранцы, горемыки подходили к Уленшпигелю и просили:
— Дай-ка нам этих пророческих зерен!
— Дам, когда у вас будет чем платить, — отвечал Уленшпигель.
Бедные оборванцы, голодранцы и горемыки в смущении отходили.
— На свете одним богачам раздолье, — говорили они.
Слух о пророческих зернах скоро облетел весь рынок. Обыватели говорили между собой:
— Тут у какого-то фламандца есть пророческие зерна, освященные в Иерусалиме на гробе господнем, но говорят, будто он их не продает.
И все шли к Уленшпигелю и просили продать им зерен.
Но Уленшпигель в чаянии крупных барышей отвечал, что они еще не созрели, а сам не спускал глаз с двух богатых евреев, расхаживавших по рынку.
— Я хочу знать, что с моим кораблем, который сейчас в море, — спросил один обыватель.
— Если волны будут высокие, то корабль дойдет до самого неба, — отвечал Уленшпигель.
Другой, показывая на свою хорошенькую дочку, которая при его словах вся вспыхнула, спросил:
— Должно полагать, она своего счастья не упустит?
— Никто не упускает того, что требует его природа, — отвечал Уленшпигель, ибо он видел, как девчонка передавала ключ какому-то парню, а парень, видимо заранее предвкушая удовольствие, сказал Уленшпигелю:
— Ваше степенство, продайте мне один из ваших пророческих мешочков — я хочу знать, один или не один я буду спать эту ночь.
— В Писании сказано: кто сеет рожь соблазна, тот пожнет спорынью рогоношения, — отвечал Уленшпигель.
Парень обозлился.
— Ты на кого это намекаешь? — спросил он.
— Зерна желают, чтобы ты был счастлив в семейной жизни и чтобы жена не подарила тебе Вулканова шлема[70]. Тебе известно, что это за убор? — обратившись к парню, спросил Уленшпигель и наставительным тоном продолжал: — Та, что дает жениху задаток еще до брака, даром раздает потом другим весь свой товар.
Тут девчонка, прикидывавшаяся непонимающей, задала Уленшпигелю вопрос:
— И все это видно в пророческих мешочках?
— Там виден еще и ключ, — шепнул ей на ушко Уленшпигель.
Но парень уже исчез вместе с ключом.
Тут Уленшпигель заметил, что какой-то воришка стащил у колбасника с полки колбасу в локоть длиной и сунул ее себе за пазуху. Продавец этого не видел. Воришка, весьма таковым обстоятельством довольный, подошел к Уленшпигелю и спросил:
— Чем торгуешь, предсказатель несчастий?
— Мешочками, в которых ты увидишь, что тебя повесят за пристрастие к колбасе, — отвечал Уленшпигель.
При этих словах воришка бросился наутек.
— Вор! Держите вора! — крикнул колбасник.
Но было уже поздно.
Все это время два богатых еврея с великим вниманием слушали, что говорит Уленшпигель, и наконец приблизились к нему.
— Чем торгуешь, фламандец? — спросили они.
— Мешочками, — отвечал Уленшпигель.
— Что можно узнать при помощи твоих пророческих зерен? — спросили они.
— Будущее, ежели их пососать, — отвечал Уленшпигель.
Евреи посовещались между собой, а затем старший сказал младшему:
— Давай погадаем, когда придет мессия, — это будет великое для нас утешение. Купим один мешочек. Почем они у тебя?
— По полсотне флоринов за штуку, — отвечал Уленшпигель. — А коли вам это дорого, так убирайтесь, откуда пришли. Кто не купил поля, тому и навоз не нужен.
Убедившись, что Уленшпигель цены не сбавит, они отсчитали Уленшпигелю пятьдесят флоринов и, взяв мешочек, припустились туда, где у них обыкновенно происходили сборища и куда вскорости, прослышав, что старый еврей приобрел таинственную вещицу, с помощью коей можно узнать и возвестить приход мессии, набежали все иудеи.
Каждому из них захотелось бесплатно пососать мешочек, но старик по имени Иегу, — тот самый, который его приобрел, — заявил на него свои права.
— Сыны Израиля! — держа в руке мешочек, возгремел он. — Христиане издеваются над нами, гонят нас, мы для них хуже воров. Эти сущие филистимляне втаптывают нас в грязь, плюют на нас, ибо господь ослабил тетиву наших луков и натянул удила наших коней. Доколе, господи, бог Авраама, Исаака и Иакова, доколе страдать нам? Когда же мы наконец возрадуемся? Доколе быть мраку? Когда же мы узрим свет? Скоро ли сойдешь ты на землю, божественный мессия? Скоро ли христиане, убоявшись тебя, явящегося во всей своей дивной славе, дабы покарать их, попрячутся в пещерах и ямах?
Тут все евреи закричали:
— Гряди, мессия! Соси, Иегу!
Иегу начал было сосать, но его сейчас же вырвало, и он жалобно молвил:
— Истинно говорю вам: это навоз, а фламандский богомолец — жулик.
При этих словах евреи кинулись к мешочку, развязали его и, определив, что собой представляет его содержимое, в порыве ярости устремились на рынок ловить Уленшпигеля, но его и след простыл.
50
Одному из жителей Дамме нечем было расплатиться с Клаасом за уголь, и он отдал ему лучшую свою вещь — арбалет с дюжиной отлично заостренных стрел.
В свободное время Клаас из этого арбалета постреливал. Изрядное количество зайцев было им истреблено за пристрастие к капусте и потом превращено в жаркое.
В такие дни Клаас наедался досыта, а Сооткин все поглядывала на пустынную дорогу.
— Тиль, сыночек, чувствуешь запах подливки?.. Голодает небось… — задумчиво добавляла она, испытывая неодолимое желание оставить сыну лакомый кусочек.
— Голодает — сам виноват, — возражал Клаас. — Вернется домой — будет есть то же, что и мы.
У Клааса были голуби. Кроме того, он любил слушать пенье малиновок и щеглов, чириканье воробышков и прочих певунов и щебетунов. Вот отчего ему доставляло удовольствие стрелять сарычей и ястребов — пожирателей птичьей мелкоты. И вот однажды, когда он во дворе отмеривал уголь, Сооткин обратила его внимание на большую птицу, ширявшую над голубятней.
Клаас схватил арбалет.
— Ну, теперь, ваше ястребительство, сам дьявол вас не спасет! — крикнул он.
Вложив стрелу, он, чтобы не промахнуться, стал внимательно следить за всеми движениями птицы. Быстро спускались сумерки. Клаас уже ничего не различал, кроме черной точки. Он пустил стрелу, и вслед за тем во двор упал аист.
Клаас был очень огорчен. Еще больше была огорчена Сооткин.
— Ты убил божью птицу, злодей! — крикнула она.
Подняв аиста и убедившись, что он только ранен в крыло, Сооткин смазала и перевязала ему рану.
— Аист, дружочек, — приговаривала она, — ты же наш любимец, — ну чего ты кружишь, ровно ястреб, которого все ненавидят? Этак народные стрелы будут попадать не в того, в кого нужно. Что, болит твое бедное крылышко, аист? А уж терпеливый ты: видно, чувствуешь, что ваши руки — это руки друзей.
Когда аист выздоровел, он ел все, что хотел. Особенно он любил рыбу, которую Клаас ловил для него в канале. Завидев возвращавшегося домой хозяина, божья птица всякий раз широко разевала клюв.
Аист бегал за Клаасом, как собачонка, но больше всего ему нравилось греться на кухне и бить Сооткин клювом по животу, как бы спрашивая; «Мне ничего не перепадет?»
Сердце радовалось, глядя, как по всему дому расхаживала на своих длинных ногах эта важная птица, приносящая счастье.
51
Между тем вновь настали тяжелые дни: Клаас уныло трудился в поле один — двоим там делать было нечего. Сооткин сидела дома одна-одинешенька и, боясь, что бобы в конце концов надоедят мужу, для разнообразия придумывала из них всевозможные кушанья. Не желая нагонять на Клааса тоску, она смеялась при нем и напевала. Спрятав свои клюв в перья, около нее стоял на одной ноге аист.
Как-то перед их домом остановился всадник, мрачный, худой и весь в черном.
— Есть кто дома? — спросил он.
— Да господь с вами, ваше прискорбие! — отозвалась Сооткин. — Чего вы спрашиваете, есть ли кто дома? А я-то что же, по-вашему, дух бесплотный?
— Где твой отец? — спросил верхоконный.
— Если вы имеете в виду Клааса, то он вон он, сеет в поле, — отвечала Сооткин.
Всадник уехал, а Сооткин, которую угнетала мысль, что ей в шестой раз приходится просить в долг, отправилась в булочную. Вернувшись с пустыми руками, она, к изумлению своему, увидела, что Клаас со славой и победой едет домой на коне черного человека, а тот идет пешком, ведя коня под уздцы. Клаас гордо прижимал к животу кошель, по-видимому набитый доверху.
Соскочив с коня, Клаас обнял гостя, весело похлопал его по плечу и, тряхнув кошель, воскликнул:
— Да здравствует мой брат Иост, добрый отшельник! Дай бог ему здоровья, счастья, миру и жиру! Радуйся, Иост благословенный, радуйся, Иост преизобильный, радуйся, Иост жирносупный! Не обманул, стало быть, аист!
С этими словами он положил кошель на стол.
Тут Сооткин со слезами в голосе ему объявила:
— Нам нынче есть нечего, муж, — булочник не дал мне в долг хлеба.
— Не дал хлеба? — переспросил Клаас, раскрывая кошель, из которого тотчас хлынул поток золота. — Хлеба? Вот тебе хлеб, масло, мясо, вино, пиво! Вот тебе ветчина, мозговые кости, паштеты из цапли, ортоланы, пулярки, каплуны, как все равно у важных господ! Вот тебе бочки пива и бочонки вина! Дурак булочник, что отказал нам в хлебе, — больше мы ничего не будем у него покупать.
— Но, муженек… — начала озадаченная Сооткин.
— Не тоскуй, а ликуй, — молвил Клаас. — Катлина не захотела весь срок своего изгнания проводить в Антверпенском маркизате, и Неле отвела ее в Мейборг. Там она увидела брата моего Иоста и сказала, что мы бьемся, бьемся, а из нужды никак не выбьемся. Славный гонец мне сейчас сообщил, — Клаас показал на черного всадника, — что Иост вышел из лона святой римской церкви и впал в Лютерову ересь.
На это ему человек в черном возразил:
— Еретики — те, что почитают великую блудницу[71]. Папа — предатель, он торгует святыней[72].
— Ах, сударь, говорите тише! — вмешалась Сооткин. — А то мы из-за вас на костер попадем.
— Одним словом, — снова заговорил Клаас, — Иост просил славного этого гонца передать нам, что он набрал и вооружил полсотни ратников и вступает с ними в ряды войск Фридриха Саксонского[73], а раз он идет на войну, значит, ему денег много не нужно: не ровен час, достанутся, мол, еще какому-нибудь подлецу-ландскнехту. Вот он и сказал гонцу: «Передай брату моему Клаасу вместе с моим благословением семьсот золотых флоринов: пусть живет — не тужит, да о душе думает».
— Да, — молвил всадник, — теперь как раз время о душе думать — господь грядет судить живых и мертвых и каждому воздаст по делам его.
— Однако, почтеннейший, ничего, по-моему, предосудительного нет в том, что я пока порадуюсь доброй вести, — возразил Клаас. — Прошу покорно: оставайтесь с нами, — для-ради такого торжественного случая мы в отменных потрохов покушаем, и жареного мясца вволю, и ветчинки — я только что видел у мясника такой аппетитный, жирный окорок, что у меня от зависти слюнки потекли.
— Горе вам, безумцы! — воскликнул приезжий. — Вы веселитесь, а между тем оку господню видны пути ваши.
— Вот что, гонец, — сказал Клаас, — хочешь ты выпить и закусить с нами или нет?
Гонец же на это ответил так:
— Для верных настанет пора предаваться земным утехам не прежде, чем падет великий Вавилон[74].
Сооткин и Клаас перекрестились, приезжий начал собираться.
Клаас же ему сказал:
— Если уж ты твердо решил уехать от нас не солоно хлебавши, так, по крайней мере, поцелуй от меня покрепче брата моего Поста, да смотри охраняй его в бою.
— Ладно, — сказал всадник и уехал.
А Сооткин пошла за покупками, чтобы ради такого счастливого случая попировать. В этот день аист получил на ужин двух пескарей и тресковую голову.
Немного погодя в Дамме распространился слух, что бедняк Клаас разбогател благодаря своему брату Иосту, а каноник высказал предположение, что Иоста, уж верно, околдовала Катлина, коль скоро Клаас получил от него большие деньги и хоть бы плохонький покров пожертвовал божьей матери.
Клаас и Сооткин блаженствовали. Клаас трудился в поле или торговал углем, а домашнее хозяйство лежало на хлопотунье Сооткин.
Но горевала она по-прежнему и так же часто поглядывала на дорогу, не идет ли сын ее Уленшпигель.
Все они трое были по-своему счастливы тем счастьем, какое послал им господь бог, а чего можно ждать от людей — этого они еще не знали.
52
В этот день император Карл получил от сына из Англии такое письмо:
«Государь и отец мой!
Мне тяжело жить в стране, где кишат, словно черви, словно блохи, словно саранча, окаянные еретики[75]. Ни огнем, ни мечом не удается очистить от них ствол животворящего древа святой нашей матери — церкви. Мало мне этой напасти, а тут еще и другая: все здесь на меня смотрят не как на короля, а только как на мужа их королевы, без которой я для них ничего собой не представляю. Они издеваются надо мной и в злобных пасквилях, коих авторы и издатели неуловимы, утверждают, что я, подкупленный папой безбожник, виселицами и кострами сею смуту и гублю королевство. Когда же мне в силу крайней необходимости приходится накладывать на них подать, так как они сплошь да рядом нарочно оставляют меня без денег, то в ответ на это они в злобных подметных письмах советуют мне обратиться за помощью к сатане, коему я-де служу. Члены парламента извиняются передо мной, лебезят, а денег все-таки не дают.
Между тем на всех лондонских домах расклеены пасквили, в коих я изображаюсь отцеубийцей, замыслившим лишить Ваше величество жизни, с тем чтобы занять Ваш престол.
Но Вы же знаете, государь и отец мой, что, несмотря на законное честолюбие и гордость, я желаю Вашему величеству долгих и славных дней царствования.
Еще они распространяют по городу в высшей степени искусно сделанную гравюру на меди, и на гравюре этой показано, как я заставляю играть на клавесине спрятанных внутри инструмента кошек, коих хвосты торчат из круглых дырок, где они защемлены железными зажимами. Какой-то человек, то есть я, прижигает им хвосты каленым железом, отчего коты стучат лапами по клавишам и отчаянно мяукают. Я на этой гравюре такой урод, что противно смотреть. Вдобавок я изображен смеющимся. Но можете ли Вы припомнить, государь и отец мой, чтобы я когда-нибудь прибегал к столь постыдному развлечению? Правда, я иногда забавлялся тем, что заставлял кошек мяукать, но никогда при этом не смеялся. На своем бунтовщическом языке они именуют сей клавесин «новоизобретенной пыткой» и возводят это в преступление, но ведь у животных нет души, и всякий человек, а в особенности отпрыск королевского рода, вправе замучить их для своего удовольствия. Но в Англии все помешаны на животных и обходятся с ними лучше, нежели со слугами. Конюшни и псарни здесь — настоящие дворцы, а некоторые дворяне даже спят на одном ложе со своими лошадьми.
В довершение всего королева, доблестная моя супруга, бесплодна. Они же, чиня мне кровную обиду, утверждают, что виноват в том я, а не она, ревнивая, раздражительная и до крайности похотливая женщина. Государь и отец мой, я всечасно молю бога о том, чтобы он сжалился надо мной и возвел меня на любой другой престол, хоть на турецкий, пока я еще не могу занять тот, на который меня призывает честь быть сыном Вашего единодержавного и преславного величества».
Подпись: Фил.
Император ответил на это письмо так:
«Государь и сын мой!
Затруднения у Вас немалые, — я этого не отрицаю, — однако ж запаситесь терпением в ожидании более блестящей короны. Я неоднократно заявлял о своем намерении отречься от нидерландского и других престолов: дряхл и немощен я стал и уже не в силах оказать должное сопротивление Генриху II[76], королю французскому, ибо Фортуна благоприятствует молодым. Примите в соображение еще и то обстоятельство, что в качестве властителя Англии Вы являете собой грозную силу, способную сокрушить нашу противницу — Францию.
Под Мецом я потерпел позорное поражение[77] и потерял сорок тысяч человек. Саксонцы обратили меня в бегство. Я склоняюсь к мысли, государь и сын мой, передать Вам свои владения, если только господь по великому и неизреченному милосердию своему чудом не возвратит мне былую силу и крепость.
Итак, вооружитесь терпением, а пока что неуклонно исполняйте свой долг по отношению к еретикам и не щадите никого — ни мужчин, ни женщин, ни девиц, ни младенцев, а то я, к немалому огорчению моему, проведал, что королева, супруга Ваша, нередко им мирволила.
Ваш любящий отец».
Подпись: Карл.
53
Долго шел Уленшпигель, сбил себе ноги в кровь, но в Майнцском епископстве повстречалась ему повозка с богомольцами, и в ней он доехал до Рима.
Прибыв в город и спрыгнув с повозки, он увидел на пороге таверны смазливую бабенку, — та, заметив, что он на нее смотрит, улыбнулась ему.
— Хозяйка, не приютишь ли ты странствующего странника? — ободренный ее лаской, спросил он. — А то мой срок подошел, мне пора разрешиться от бремени грехов.
— Мы привечаем всех, кто нам платит.
— В моей мошне сто дукатов, — сказал Уленшпигель (хотя на самом деле у него был всего-навсего один), — и первый из них я хотел бы истратить сей же час и распить с тобой бутылочку старого римского вина.
— Вино в нашем священном краю недорого, — заметила хозяйка. — Входи и выпей на один сольдо.
Пили они вдвоем так долго и осушили незаметно, за разговором, столько бутылок, что хозяйка вынуждена была оставить других гостей на попечение служанки, а сама удалилась с Уленшпигелем в соседнюю облицованную мрамором комнату, где было холодно, как зимой.
Склонив голову на его плечо, она спросила Уленшпигеля, кто он таков. Уленшпигель же ей на это ответил:
— Я — государь Обнищанский, граф Голодайский, барон Оборванский, а на моей родине в Дамме у меня двадцать пять боньеров лунного света.
— Это еще что за страна? — отпив из Уленшпигелева бокала, спросила хозяйка.
— Это такая страна, — отвечал он, — где сеют заблуждения, несбыточные надежды и пустые обещания. Но ты, милая хозяйка, от которой так хорошо пахнет и у которой глаза блестят, как драгоценные камни, — ты родилась не при лунном свете. Темное золото твоих волос — это цвет самого солнца. Твои полные плечи, пышную грудь, округлые руки, прелестные пальчики могла сотворить только Венера, которой чужда ревность. Давай вместе поужинаем?
— Красивый богомолец из Фландрии, зачем ты сюда пришел? — спросила она.
— Поговорить с папой, — отвечал Уленшпигель.
— Ах! — всплеснув руками, воскликнула она. — Поговорить с папой! Я — местная жительница, и то до сих пор этого не удостоилась.
— А я удостоюсь, — молвил Уленшпигель.
— А ты знаешь, где он бывает, какой он, каков его нрав и обычай? — спросила она.
— Дорогой я разведал, что зовут его Юлий Третий[78], что он блудник, весельчак и распутник, востер на язык и за словом в карман не лезет, — отвечал Уленшпигель. — Еще я слыхал, будто когда-то давно у него попросил милостыню черный, грязный, мрачного вида побирушка, ходивший с обезьянкой, и будущий папа будто бы так его вдруг полюбил, что потом, воссев на папский престол, сделал его кардиналом и теперь не может жить без него.
— Пей и говори тише, — молвила хозяйка.
— Еще про него говорят, — продолжал Уленшпигель, — что, когда ему как-то раз не подали холодного павлина, которого он заказал себе на ужин, он выругался, как солдат: Al dispetto di Dio, potta di Dio[79] и прибавил: «Я наместник бога. Коли всевышний разгневался из-за яблока, стало быть, я имею право выругаться из-за павлина!» Видишь, голубушка, я знаю папу, знаю, каков он.
— Ах! — воскликнула она. — Смотри ни с кем про это не говори! А все-таки ты его не увидишь!
— Я с ним поговорю, — сказал Уленшпигель.
— Если сумеешь, я тебе дам сто флоринов.
— Считай, что они уже у меня в кармане, — сказал Уленшпигель.
На другое утро Уленшпигель, хотя ноги у него все еще гудели, походил по городу и узнал, что папа сегодня служит обедню, у св.Иоанна Латеранского. Уленшпигель пошел туда и стал впереди, на самом виду, и, всякий раз, когда папа поднимал чашу с дарами, он поворачивался спиной к алтарю.
Папе сослужил кардинал, смуглый, свирепый и тучный, и, держа на плече обезьянку, причащал народ, сопровождая обряд непристойными телодвижениями. Он обратил внимание папы на поведение Уленшпигеля, и после обедни папа отрядил схватить паломника четырех бравых солдат, коими гордилась воинственная эта страна.
— Какой ты веры? — спросил его папа.
— Той же, что и моя хозяйка, святейший владыка, — отвечал Уленшпигель.
Папа послал за трактирщицей.
— Во что ты веруешь? — спросил он ее.
— В то же, что и ваше святейшество, — отвечала она.
— И я в это верую, — вставил Уленшпигель.
Тогда папа спросил, почему же он отворачивается от святых даров.
— Я считал себя недостойным смотреть на них, — отвечал Уленшпигель.
— Ты паломник? — спросил папа.
— Да, — отвечал Уленшпигель, — я пришел из Фландрии за отпущением грехов.
Тут папа благословил его, и Уленшпигель удалился вместе с хозяйкой, которая по возвращении домой отсчитала ему сто флоринов. С этим грузом он отчалил из Рима обратно во Фландрию.
Ему только пришлось уплатить семь дукатов за свидетельство об отпущении грехов.
54
В это время два монаха-премонстранта[80] явились в Дамме торговать индульгенциями[81]. Поверх монашеского одеяния на них были кружевные рубахи.
В хорошую погоду они торговали на паперти, в ненастную — в притворе, и там они вывесили тариф, указывавший, что за шесть лиаров, за патар, за пол парижского ливра, за семь или же за двенадцать флоринов вы можете получить отпущение грехов на сто, на двести, на триста, на четыреста лет, отпущение полное — подороже, отпущение наполовину — подешевле, прощение самых страшных грехов, даже нечистых помыслов о пресвятой деве. Но это стоило целых семнадцать флоринов.
Уплатившим сполна монахи выдавали кусочки пергамента, на которых был проставлен срок действия индульгенции. Под этим вы читали:
Грешник, когда не хочешь ты Печься, вариться, жариться Тысячу лет в чистилище И без конца в аду — Здесь добудь индульгенцию, Тяжких грехов прощение, И за толику малую Всевышний тебя спасет.И покупатель валил к ним отовсюду.
Один из честных иноков любил проповедовать. Краснорожий этот монах гордо выставлял напоказ свой тройной подбородок и толстое пузо.
— Несчастный! — восклицал он, воззрившись на кого-либо из слушателей. — Несчастный! Ты — в аду! Пламя жжет тебя нещадно. Ты кипишь в котле с маслом, в котором жарятся oliekoek'и[82] для Астарты. Ты — колбаса в печи Люцифера, ты — жаркое в печи главного беса Гильгирота, вот ты кто, и тебя еще сначала изрубили на мелкие кусочки. Взгляни на этого великого грешника, пренебрегшего индульгенциями, взгляни на это блюдо с фрикадельками — это ты, это ты, это твое грешное, твое окаянное тело. А какова подлива? Сера, деготь, смола! И все несчастные грешники употребляются в пищу, а потом вновь оживают для новых мучений — и так без конца. Вот где воистину плач и скрежет зубов! Сохрани, господи, и помилуй! Да, ты в аду, бедный грешник, и ты терпишь все эти муки. Но вот за тебя уплатили денье — и деснице твоей вдруг стало легче. Уплатили еще полденье — и обе руки твои уже не в огне. А прочие части тела? Всего лишь флорин — и они окроплены росой отпущения. О сладостное прохлаждение! Десять дней, сто дней, тысячу лет — в зависимости от взноса — ты не жаркое, не oliekoek'и, не фрикасе! А если ты не помышляешь о себе, окаянный, то разве в огненных глубинах преисподней нет других страждущих душ — душ твоих родственников, твоей любимой супруги, какой-нибудь смазливой девчонки, с которой ты часто грешил?
Тут монах толкал локтем в бок своего товарища, стоявшего рядом с серебряным блюдом в руках. А тот по этому знаку опускал очи долу и, призывая к пожертвованиям, благолепно встряхивал блюдо.
— Нет ли у тебя в этом страшном огне сына, дочери, милого твоему сердцу младенца? — продолжал проповедник. — Они кричат, они плачут, они взывают к тебе. Ужели ты пребудешь глух к их стенаниям? Нет, твое ледяное сердце растает, а обойдется это тебе недорого — всего-навсего один каролю. Но смотри: от звона каролю, стукнувшегося о презренный металл (при этих словах его товарищ опять тряхнул блюдо), пламя расступилось, и бедная душа выходит из жерла вулкана. И вот она уже на свежем воздухе, на вольном воздухе! Где пытка огнем? Пред нею море, она погружается в воду, плывет на спине, на животе, то нырнет, то вновь всплывет. Слышишь ли радостные ее воскликновения? Видишь ли, как она плещется? Ангелы смотрят на нее и ликуют. Они ждут ее, но ей все мало, ей хочется стать рыбкой. Она не знает, что там, на высоте небесной, ей уготованы приятные омовения в душистой влаге, в коей льдинами плавают горы белого и холодного леденца. Показалась акула, но душа не боится ее. Она вспрыгивает ей на спину, но акула этого не чувствует, и душа погружается с ней во глубину морскую. Там она приветствует ангелов вод, и те ангелы едят waterzoey[83], подаваемую в коралловых котелках, и свежие устрицы на перламутровых тарелках. И как же ее здесь встречают, чествуют, привечают! Ангелы же небесные неустанно зовут ее к себе. Наконец, освеженная, счастливая, она воспаряет и, с песней на устах, звонкой, как трели жаворонка, взлетает к самому высокому небу, где во всей своей славе сидит на престоле сам господь бог. Там видит она всех своих земных сродников и друзей, за исключением тех, что, усомнившись в пользе индульгенций и в силе молитв святой нашей матери-церкви, горят в огне преисподней. И гореть им ныне и присно, ныне и присно, ныне и присно, и во веки веков, — бурнопламенная уготована им бесконечность. А та душа — она у бога, совершает приятные омовения и хрупает леденец. Покупайте же индульгенции, братья. За какую угодно цену — за крузат, за червонец, за английский соверен! Мы и мелочью не побрезгуем. Покупайте! Покупайте! Мы торгуем священным товаром, а товар тот про всякого — и про богатого и про бедного, но только, братья, к великому нашему сожалению, в долг мы не отпускаем, ибо господь наказывает того, кто не платит наличными.
Другой монах все потряхивал да потряхивал блюдо. И туда градом сыпались флорины, крузаты, дукатоны, патары, соли и денье.
Клаас, на радостях, что разбогател, уплатил флорин и получил отпущение грехов на десять тысяч лет. Монахи выдали ему в виде удостоверения кусок пергамента.
Вскоре во всем Дамме осталось лишь несколько скаредов, так и не купивших индульгенций, и тогда монахи перебрались в Хейст.
55
Все в том же странническом одеянии, но уже очищенный от скверны греховной, Уленшпигель, оставив Рим, шел все прямо, прямо и наконец очутился в Бамберге, который славился на весь мир своими овощами.
Веселая хозяйка трактира, куда он первым делом заглянул, спросила его:
— Молодой человек! Не хочешь ли поесть за свои деньги?
— Хочу, — отвечал Уленшпигель. — А сколько это у вас стоит?
Хозяйка же на это ответила так:
— За господским столом — шесть флоринов, за мещанским — четыре, а за семейным — два.
— Чем дороже, тем лучше, — объявил Уленшпигель.
С этими словами он сел за господский стол. Наевшись досыта и запив рейнвейном, он обратился к хозяйке с такою речью:
— Сударушка! Ну, вот я и поел за свои деньги. Дай-ка мне шесть флоринов.
А хозяйка ему:
— Да ты что, смеешься? А ну, плати денежки!
— Миленькая baesine![84] — молвил Уленшпигель. — По твоему виду никак нельзя сказать, что ты — неисправная должница. Напротив, на лице твоем написана такая добросовестность, такая честность и такая любовь к ближнему, что ты не то что шесть флоринов, которые ты мне должна, а и все восемнадцать уплатишь. О, эти прекрасные глаза! Из них на меня льются солнечные лучи, и моя страсть к тебе, согретая этими лучами, растет, как бурьян на пустыре.
— Нужна мне больно твоя страсть и твой бурьян! — огрызнулась хозяйка. — Плати и убирайся вон.
— Уйти — это значит никогда больше тебя не увидеть! — воскликнул Уленшпигель. — Нет, лучше умереть! Baesine, прелестная baesine, я не привык обедать за шесть флоринов — ведь я бедный побродяжка, скитаюсь по горам и долам. Сейчас я налопался до того, что у меня, как у пса в жаркий день, язык скоро вывалится наружу. Будь настолько любезна, дай мне шесть флоринов — право же, я их заработал тяжким трудом моих челюстей. Дай мне шесть флоринов, а уж я тебя буду так ласкать, целовать, миловать, как двадцать семь любовников вместе взятые тебя бы не удовольствовали.
— Это ты так говоришь из-за денег, — сказала она.
— А ты хочешь, чтобы я тебя даром съел? — спросил он.
— Нет, не хочу, — отвечала она, высвобождаясь.
— Ах! — воскликнул он, продолжая преследовать ее. — Кожа у тебя точно сливки, волосы — точно золотистый фазан на вертеле, губы — точно вишни! Есть ли кто на свете вкуснее тебя?
— И ты еще, нахал этакий, денег с меня требуешь! — воскликнула она, смеясь. — Скажи спасибо, что я накормила тебя даром, ничего с тебя не взяла.
— Если б ты знала, сколько бы у меня еще туда вошло! — молвил Уленшпигель.
— Проваливай! — объявила хозяйка. — А то сейчас мой муж придет.
— Я не буду алчным заимодавцем, — снова заговорил Уленшпигель, — дай мне всего-навсего один флорин: пить захочется, а выпить не на что.
— На, паршивец! — сказала хозяйка и протянула ему монету.
— Можно, я к тебе еще зайду? — спросил Уленшпигель.
— Уходи добром! — прикрикнула на него хозяйка.
— Добром — это значит уйти к тебе же, милашка, — рассудил Уленшпигель. — Вот если б я никогда больше не увидел твоих прекрасных глаз, это было бы для меня большое зло. Дозволь мне остаться — я бы тебя съедал каждый день всего на один флорин.
— Вот я сейчас палку возьму! — пригрозила хозяйка.
— Возьми лучше мою, — предложил Уленшпигель.
Хозяйка прыснула, но уйти ему все же пришлось.
56
К этому времени в Льеже стало неспокойно из-за еретиков, и Ламме Гудзак возвратился в Дамме. Жена его была этому рада — ей надоели зубоскалы-льежцы, вечно поднимавшие на смех ее простодушного супруга.
Ламме часто виделся с Клаасом, а Клаас, разбогатев, стал завсегдатаем таверны Blauwe Torre[85] — там у него и у его собутыльников был облюбован столик. За соседним столиком обычно сидел и из скупости выпивал не больше полпинты прижимистый старшина рыботорговцев Иост Грейпстювер, жмот и скупердяй, питавшийся одной селедкой и думавший более о деньгах, нежели о спасении души. А у Клааса лежал в кошельке кусок пергамента, гласивший, что ему отпущены грехи на десять тысяч лет вперед.
Однажды вечером Клаас, сидя за столиком в Blauwe Torre вместе с Ламме Гудзаком, Яном ван Роозебеке и Матейсом ван Асхе по соседству с Постом Грейпстювером, изрядно выпил, и Ян Роозебеке по сему поводу заметил:
— Так много пить — это грех!
Клаас же ему на это сказал:
— За лишнюю пинту полагается гореть в аду всего полдня, а у меня в кошельке отпущение на десять тысяч лет. Кто купит у меня сто дней, тот потом хоть залейся пивом.
— А за сколько продашь? — крикнули все.
— За пинту, — отвечал Клаас, — а за muske conyn (то есть за порцию кролика) продам полтораста деньков.
Кое-кто из кутил поднес Клаасу по кружке пива, иные угостили ветчинкой, а он каждому отрезал по узенькой полоске пергамента. Однако на деньги, вырученные от продажи индульгенций, Клаас пил и ел не один — ему усердно помогал Ламме Гудзак и раздулся прямо на глазах, а Клаас между тем ходил по таверне и набивался со своим товаром.
Наконец Грейпстювер повернул к нему злющую свою морду.
— А десять дней продашь? — спросил он.
— Нет, — отвечал Клаас, — такой малюсенький кусочек не отрежешь.
Все покатились со смеху, а Грейпстюверу пришлось проглотить пилюлю.
Затем Клаас и Ламме побрели домой, и у обоих было такое чувство, будто ноги у них из хлопчатой бумаги.
57
К концу третьего года своего изгнания Катлина вернулась к себе домой в Дамме. Она все твердила в исступлении: «Огонь в голове, душа стучится, пробейте дыру, душа просится наружу». Завидев коров или овец, она по-прежнему убегала. Любила сидеть на лавочке под липами, позади своей хижины, — трясла головой, всматривалась в сограждан, проходивших мимо, но никого не узнавала, а те говорили: «Вот дурочка!»
А Уленшпигель, скитаясь по дорогам и тронам, увидел однажды на большаке осла в богатой сбруе с медным набором, с висюльками и кисточками из красной шерсти.
Осла окружали какие-то пожилые женщины в говорили все разом:
— На него никто не сядет — это колдовской осел страшного чародея барона де Ре[86], которого сожгли живьем за то, что од восьмерых детей своих продал черту.
— Осел, бабочки, бежал так быстро, что его не догнали. Его покровитель — сам сатана.
— А потом он все-таки уморился и стал на дороге, стражники скорей к нему, а он давай их лягать, давай верещать — они и заробели.
— Да и верещал-то он не по-ослиному — так только бесы воют.
— Ну, его и оставили тут пастись — и на суд не повели, и живьем за колдовство не сожгли.
— Трусы наши мужчины.
Храбрые на словах, эти кумушки, как только ослик прял ушами или же обмахивался хвостом, с криком разбегались кто куда, потом опять приближались, гуторя и тараторя, во при каждом новом движении серого неукоснительно применяли тот же прием.
Уленшпигель наблюдал за ними и посмеивался.
«Ох, уж эти бабы! — думал он. — До чего же любопытны и до чего же болтливы — слова у них текут, как вода, особенно у пожилых — молодым не до того: они заняты сердечными делами, и речь у них льется не беспрерывным потоком. — Затем он окинул взглядом ослика. — Эта колдовская животина, видать, проворна и из стороны в сторону не вихляется. Я буду на нем ездить, а не то так продам».
Не долго думая, Уленшпигель нарвал овса, накормил серого, затем мигом взобрался на него, натянул поводья и, обращаясь то на север, то на восток, то на запад, издали благословил женщин. Те в ужасе попадали на колени. А вечером уже переходила из уст в уста весть о том, что с неба слетел ангел в войлочной шляпе с фазаньим пером, благословил всех женщин и по милости божией угнал колдовского осла.
А Уленшпигель между тем трусил на ослике по злачным долинам, где резвились на воле скакуны, где коровы и телки, разнежившись, лежали на солнышке. И он дал ослу имя Иеф.
Осел то и дело останавливался и с удовольствием закусывал репейником. Время от времени он, однако, вздрагивал всем телом и бил себя хвостом по бокам — это он отгонял жадных оводов, которые, как и он, хотели заморить червячка, но не чем иным, как ослиным мясом.
Уленшпигель был не в духе — желудок у него кричал от голода.
— Тебе, господин осел, кроме этих сочных репьев, ничего и не надо, — обратился Уленшпигель к ослу, — ты был бы счастлив вполне, если б никто тебе не мешал ими наслаждаться, никто не напоминал, что ты смертей, — следственно, рожден, чтобы терпеть всякого рода низости. Как и у тебя, — продолжал он, сдавив ему коленками бока, — у человека, носящего священную туфлю, тоже есть свой овод — это господин Лютер. И у его величества Карла тоже есть свой овод, а именно — Франциск Первый, король с предлинным носом, и с еще более длинным мечом. А уж мне-то, бедняжке, мне, скитальцу на манер Вечного Жида[87], мне, господин осел, на роду написано иметь своего овода. Увы мне! Все мои карманчики в дырьях, и в эти дыры, как все равно мышки от кошки, юркнули все мои милые дукатики, флорины и daelder'ы. И что за притча — ума не приложу: я деньги люблю, а они меня — нет. Что бы там ни говорили, а Фортуна — не женщина: она любит только скопидомов и сквалыг, которые копят деньги, прячут, держат под семью замками и не позволяют им высунуть в окошко даже кончик золоченого носика. Вот какой овод язвит меня, жалит, щекочет — но так, что мне не смешно. Да ты не слушаешь меня, господин осел, ты думаешь только о том, как бы еще подкормиться. Ах ты, пузан, набивающий свое пузо! Твои длинные уши глухи к воплям пустого желудка. Нет, ты меня послушай!
С последним словом он больно хлестнул его. Осел заверещал.
— Ну, запел, стало быть, можно и в путь, — сказал Уленшпигель.
Но осел был неподвижен, как межевой столб, — видимо, он твердо решил обглодать весь придорожный репейник. А репейник тут рос в изобилии.
Приняв это в соображение, Уленшпигель соскочил на землю, нарезал репейнику, потом опять сел на осла и, держа репейник около самого его носа, заманил его таким образом во владения ландграфа Гессенского.
— Господин осел, — говорил он дорогой, — ты послушно бежишь за двумя-тремя жалкими головками репейника, а целое поле репейника ты бросил. Так же точно поступают и люди: одни гонятся за цветами славы, которые Фортуна держит у них перед носом, другие — за цветами барышей, третьи — за цветами любви. А в конце пути они, подобно тебе, убеждаются, что гнались за малостью, позади же оставили кое-что поважней — здоровье, труд, покой и домашний уют.
Разговаривая таким образом со своим ослом, Уленшпигель приблизился к ландграфскому замку.
На ступеньках подъезда двое старших аркебузиров играли в кости.
Один из них, рыжий великан, обратил внимание на Уленшпигеля — тот, приняв почтительную-позу, сидел на своем Нефе и наблюдал за их игрой.
— Чего тебе, голодная твоя паломничья рожа? — спросил он.
— Я и точно здорово голоден, — отвечал Уленшпигель, — а паломничаю я не по своей доброй воле.
— Ежели ты голоден, так накорми свою шею веревкой, — посоветовал аркебузир, — вон она болтается на виселице, предназначенной для бродяг.
— Ежели вы, ваше высокоблагородие, дадите мне хорошенький золотой шнурочек с вашей шляпы, то я, пожалуй, повешусь, — молвил Уленшпигель, — но только впившись зубами в жирный окорок — вон он болтается у колбасника.
— Ты откудова путь держишь? — спросил аркебузир.
— Из Фландрии, — отвечал Уленшпигель.
— Чего ты хочешь?
— Хочу показать его светлости господину ландграфу одну мою картину.
— Коли ты живописец, да еще из Фландрии, то войди — я отведу тебя к моему господину, — сказал аркебузир.
Представ перед ландграфом, Уленшпигель поклонился ему раза три с лишним.
— Простите мне, ваша светлость, мою дерзость, — начал он. — Я осмелился прибегнуть к благородным стопам вашим, дабы показать вам картину, которую я для вас написал, — я имел честь изобразить на ней царицу небесную во всей ее славе. Я высокого мнения о своем мастерстве, — продолжал он, — а потому льщу себя надеждой, что работа моя вам понравится и что постоянным моим местопребыванием будет вот это почетное кресло красного бархата, в котором при жизни сидел незабвенный живописец, состоявший при благородной вашей особе.
Господин ландграф нашел, что картина превосходна.
— Ты будешь нашим живописцем, садись в то кресло, — решил он и от восторга поцеловал его в обе щеки.
Уленшпигель сел.
— Ты обносился, — оглядев его, заметил господин ландграф.
Уленшпигель же ему на это сказал:
— То правда, ваша светлость. Мой осел Иеф хоть репьями закусил, а я нахожусь в последней крайности и уже три дня питаюсь только дымом надежд.
— Сейчас ты сытно поужинаешь, — сказал ландграф. — А где твой осел?
На это ему Уленшпигель ответил так:
— Я оставил его на площади перед замком вашего великодушия. Я буду счастлив, если Иеф тоже получит на ночь пристанище, подстилку и корм.
Господин ландграф тот же час приказал одному из слуг ходить за Уленпшигелевым ослом, как за его собственными.
Немного спустя сели ужинать, и уж тут пошел пир горой! От яств валил пар, всевозможных вин — разливанное море.
Уленшпигель и ландграф были оба красны, как жар. Уленшпигель веселился, ландграф пребывал в задумчивости.
— Живописец! — неожиданно обратился к Уленшпигелю ландграф. — Я хочу, чтобы ты меня написал, ибо это великое утешение для смертного государя — оставить свой образ на память потомкам.
— Конечно, господин ландграф, для меня ваша воля — закон, — сказал Уленшпигель, — а все же я худым своим умишком смекаю, что показаться грядущим столетиям в одиночестве — это для вашего высокопревосходительства не столь большая радость. Вас надлежит запечатлеть вместе с доблестною вашею супругою, госпожою ландграфиней, с вашими придворными дамами и вельможами, с вашими наиболее заслуженными военачальниками, и вот в их окружении вы с супругой воссияете, как два солнца среди фонарей.
— Твоя правда, живописец, — согласился ландграф. — Сколько же ты с меня возьмешь за свой великий труд?
— Сто флоринов — хотите вперед, хотите потом, — отвечал Уленшпигель.
— Возьми вперед, — предложил господин ландграф.
— Человеколюбивый сеньор, — воскликнул Уленшпигель, — вы наливаете масла в мою лампу, и она будет гореть в вашу честь!
На другой день он попросил господина ландграфа устроить так, чтобы перед его взором прошли те, кого ландграф удостоит чести быть изображенным на картине.
Первым явился герцог Люнебургский, начальник ландскнехтов, состоявших на службе у ландграфа. Это был толстяк, с великим трудом носивший свое готовое лопнуть пузо. Приблизившись к Уленшпигелю, он шепнул ему на ухо:
— Если ты не сбавишь мне на картине половину жира, мои солдаты тебя повесят.
С этими словами герцог удалился.
После него явилась высокая дама с горбом на спине и с грудью плоской, как меч правосудия.
— Господин живописец, — сказала она, — если ты не снимешь у меня одну округлость со спины и не приставишь двух к груди, я донесу, что ты отравитель, и тебя четвертуют.
С этими словами дама удалилась.
Затем вошла молоденькая, миленькая, свеженькая белокурая фрейлина, у которой, однако, недоставало трех верхних передних зубов.
— Господин живописец, — сказала она, — изволь написать меня так, чтобы я улыбалась и показывала все тридцать два зуба, иначе вот этот мой кавалер изрубит тебя на куски.
И, показав на того старшего аркебузира, который третьего дня играл на ступенях подъезда в кости, ушла.
Долго тянулась вереница. Наконец Уленшпигель остался наедине с ландграфом.
— Если ты, изображая все эти лица, покривишь душой хотя бы в единой черте, я велю отрубить тебе голову, как цыпленку, — пригрозил господин ландграф.
«Отсекут голову, четвертуют, изрубят на куски, в лучшем случае повесят, — подумал Уленшпигель. — Тогда уж лучше не писать вовсе. Ну, там дело видно будет».
— Какую залу мне надлежит украсить своею живописью? — осведомился он.
— Следуй за мной, — сказал ландграф.
Малое время спустя он привел его в обширную залу с высокими голыми стенами.
— Вот эту, — сказал ландграф.
— Нельзя ли затянуть стену большой завесой, чтобы уберечь мою живопись от мух и от пыли? — спросил Уленшпигель.
— Можно, — отвечал господин ландграф.
Когда же завеса была натянута, Уленшпигель Потребовал трех подмастерьев на предмет растирания красок.
Целых тридцать дней Уленшпигель и его подручные пировали на славу, не зная отказа ни в сладких яствах, ни в старых винах — об этом заботился сам ландграф.
Но на тридцать первый день ландграф просунул нос в дверную щель — входить в залу Уленшпигель ему воспретил.
— Ну, Тиль, как твоя картина? — осведомился он.
— До конца еще далеко, — отвечал Уленшпигель.
— Можно посмотреть?
— Нет еще.
На тридцать шестой день ландграф опять просунул нос в щель.
— Как дела, Тиль? — спросил он.
— К концу дело идет, господин ландграф, — отвечал Уленшпигель.
На шестидесятый день ландграф разгневался и вошел в залу.
— Сейчас же покажи мне картину, — приказал он.
— Быть по-вашему, грозный государь, — сказал Уленшпигель, — но только дозвольте не поднимать завесу до тех пор, пока не соберутся господа военачальники и придворные дамы.
— Хорошо, — сказал господин ландграф.
По его приказу все явились в залу.
Уленшпигель стал перед опущенной завесой.
— Господин ландграф, — начал он, — и вы, госпожа ландграфиня, и вы, господин герцог Люнебургский, и вы, прекрасные дамы и отважные военачальники! За этою завесой я постарался изобразить ваши прелестные и ваши мужественные лица. Каждый из вас узнает себя без труда. Вам хочется поскорей взглянуть, — ваше любопытство мне понятно, — однако ж будьте добры, наберитесь терпения: я намерен сказать вам два слова, а впрочем, может, и больше. Прекрасные дамы и отважные военачальники! В жилах у вас течет благородная кровь, а потому вы увидите мою картину и полюбуетесь ею. Но если в вашу среду затесался мужик, он увидит голую стену, и ничего больше. А теперь соблаговолите раскрыть ваши благородные очи.
С этими словами Уленшпигель отдернул завесу.
— Только знатным господам дано увидеть картину, картину дано увидеть только знатным дамам. Скоро все будут говорить: «Он слеп к живописи, как мужик. Он разбирается в живописи, как настоящий дворянин!»
Все таращили глаза, притворяясь, что смотрят на картину, показывали друг другу, кивали, узнавали, а взаправду видели одну голую стену и в глубине души были этим обстоятельством весьма смущены.
Внезапно шут, зазвенев бубенчиками, подпрыгнул на три фута от полу.
— Пусть меня ославят мужичонкой, мужиком, мужланом, мужичищей, а я в трубы затрублю и в фанфары загремлю, что вижу перед собой голую стену, белую стену, голую стену! Клянусь богом и всеми святыми! — воскликнул он.
— Когда в разговор встревают дураки, умным людям пора уходить, — изрек Уленшпигель.
Он уже выехал за ворота замка, как вдруг его остановил сам ландграф.
— Дурак ты, дурак! — сказал он. — Ходишь ты по белу свету, славишь все доброе и прекрасное, а над глупостью хохочешь до упаду. Как же ты перед такими высокопоставленными дамами и еще более высокопоставленными и важными господами посмел шутить мужицкие шутки над дворянской геральдической спесью? Ой, смотри, вздернут тебя когда-нибудь за твои вольные речи!
— Ежели веревка будет золотая, она при виде меня порвется от страха, — возразил Уленшпигель.
— На, держи, вот тебе кончик этой веревки, — сказал ландграф и дал ему пятнадцать флоринов.
— Очень вам благодарен, ваша светлость, — сказал Уленшпигель, — теперь каждый придорожный трактир получит от меня по золотой ниточке, и все мерзавцы-трактирщики превратятся в крезов.
Тут он заломил набекрень свою шляпу с развевающимся пером и припустил осла во весь дух.
58
Листья на деревьях желтели, выл осенний ветер. Катлина в иные дни часа на три приходила в разум. И тогда Клаас говорил, что это по великому милосердию своему на нее снизошел дух святой. В такие минуты она волшебной силой слов и движений наделяла Неле даром ясновидения, и мысленному взору Неле открывалось все, что происходило на сто миль в окружности — на площадях, на улицах и в домах.
И вот однажды Катлина, находясь в совершенном уме, сидела с Клаасом, Сооткин и Неле, ела oliekoek'и и запивала dobbelkuyt'ом.
Клаас сказал:
— Сегодня его святейшее величество император Карл Пятый отрекается от престола[88]. Неле, деточка, ты не можешь сказать, что сейчас творится в Брюсселе?
— Скажу, если Катлина захочет, — отвечала Неле.
Катлина велела девушке сесть на скамью и, творя заклинания и ворожа, погрузила Неле в сон.
— Войди в маленький домик в парке — здесь любит бывать император Карл Пятый, — сказала она.
— Я в маленькой комнатке, — тихим и как бы сдавленным голосом заговорила Неле, — стены ее выкрашены зеленой масляной краской. Здесь находится человек лет пятидесяти четырех, лысый, седой, с русой бородкой, с выдающейся нижней челюстью, с недобрым взглядом серых глаз, полных лукавства, жестокости и напускного добродушия. Этого человека именуют «его святейшим величеством». Он простужен и сильно кашляет. Перед ним стоит молодой человек, большеголовый, уродливый, как обезьяна. Я видела его в Антверпене — это король Филипп. Его святейшее величество распекает сына за то, что тот ночевал не дома. Наверно, добавляет его величество, спал в каком-нибудь вертепе с непотребной девкой. Его величество говорит сыну, что от него разит кабаком, что он выбирает себе развлечения, роняющие королевское достоинство, что к его услугам влюбленные знатные дамы с лилейными ручками, отличающиеся изяществом форм, освежающие свое атласное тело в ароматных ваннах, — неужели они хуже какой-нибудь грязной свиньи, еще не успевшей отмыть следы объятий пьяного солдафона? Его величество внушает сыну, что перед ним не устоит ни одна девица, ни одна замужняя женщина, ни одна вдова, ни одна из тех благородных и прекрасных дам, что освещают ложе страсти надушенными светильниками, а не вонючими сальными свечками.
Король отвечает его величеству, что впредь он будет повиноваться ему во всем.
Его святейшее величество кашляет, выпивает горячего вина.
«Ты скоро увидишь Генеральные штаты[89], — говорит он Филиппу, — увидишь прелатов, дворян и мещан, увидишь молчаливого Вильгельма Оранского[90], тщеславного Эгмонта[91], нелюдимого Горна[92], отважного, как лев, Бредероде[93] и всех кавалеров Золотого руна[94], предводителем которых я намерен сделать тебя. Ты увидишь множество честолюбцев, которые отрежут себе нос и на золотой цепочке повесят его на грудь, если только им скажут, что это знак принадлежности к высшей знати».
Затем его святейшее величество упавшим голосом говорит королю Филиппу:
«Тебе известно, сын мой, что я отрекаюсь от престола в твою пользу. Весь мир явится свидетелем величественного зрелища: я буду говорить перед несметной толпой, хотя я кашляю и икаю, — я всю свою жизнь чем-нибудь объедался, сын мой, — и если ты по окончании моей речи не прольешь слезу, значит, у тебя каменное сердце».
«Я поплачу, батюшка», — говорит король Филипп.
Тут его святейшее величество обращается к слуге по имени Дюбуа:
«Дюбуа, накапай мне на кусочек сахару мадеры, — у меня икота. Хоть бы уж она на меня не напала, когда я буду держать речь! Это все из-за вчерашнего гуся! Не выпить ли мне стаканчик орлеанского? Нет, не стоит, оно уж очень терпкое! Не съесть ли анчоус? Нет, они очень жирные. Дюбуа, дай мне бургонского!»
Дюбуа подает его святейшему величеству вино, затем облекает его в одежду алого бархата, сверху набрасывает на него парчовую мантию, препоясывает мечом, вкладывает в руки скипетр и державу, а на голову надевает корону.
Затем его святейшее величество выходит из домика в парке, садится на маленького мула, за ним следуют король Филипп и приближенные. Направляются они к большому зданию, которое они называют дворцом, и здесь в одном из покоев встречаются с высоким, стройным, нарядно одетым мужчиной — это принц Оранский.
Его святейшее величество обращается к нему с вопросом:
«Какой у меня сегодня вид, кузен Вильгельм?»
Тот не отвечает.
Его святейшее величество говорит ему полушутя, полусердито:
«Неужто ты во всех случаях жизни предпочитаешь безмолвствовать? Даже когда нужно сказать правду старой развалине? Царствовать мне еще или же отречься. Молчаливый?»
«Ваше святейшее величество, — вещает стройный мужчина, — когда приходит зима, то даже с самых могучих дубов опадает листва».
Бьет три часа.
«Дай я обопрусь на твое плечо, Молчаливый», — говорит его святейшее величество.
Вместе с Вильгельмом Оранским и со своей свитой он входит в большую залу, устланную алыми коврами, и садится на возвышении под алым шелковым балдахином. На возвышении стоят три трона; его святейшее величество садится на средний, наиболее богато убранный, увенчанный императорскою короною; король Филипп занимает трон по одну его руку, а третий предназначен для женщины, то есть для королевы[95]. Справа и слева на покрытых коврами скамьях сидят люди в красном одеянии с золотым агнцем на шее. За ними стоят, по всей видимости, принцы и вельможи. Напротив возвышения сидят на скамьях, не покрытых коврами, люди в одеждах суконных. Я слышу, как они говорят, что они потому так скромно одеты и такие скромные под ними сиденья, что вся тяжесть податей лежит на них. При появлении его святейшего величества все, как один, встают — его величество сейчас же садится и знаком предлагает всем остальным последовать его примеру.
Какой-то старик долго толкует о подагре, потом женщина — по всей вероятности, королева — подает его святейшему величеству пергаментный свиток, и его святейшее величество, кашляя, тихим, глухим голосом оглашает то, что там написано; огласив же, говорит:
«Я много странствовал по Испании, Италии, Нидерландам, Англии и Африке, и все эти мои походы были во славу божию, к чести нашего оружия и ко благу моих народов».
Говорит он долго и под конец объявляет, что он ослаб, что он устал и что он намерен передать своему сыну испанскую корону, а с нею все графства, герцогства и маркизаты.
Тут его величество проливает слезут а глядя на него, и все остальные.
Король Филипп встает и сейчас же опускается на колени.
«Ваше святейшее величество! — говорит он. — Прилично ли мне принимать из ваших рук корону, когда вы еще вполне можете ее носить?»
Тогда его святейшее величество шепчет ему на уход чтобы он обратился с благосклонной речью к тем, что сидят на покрытых коврами скамьях.
Король Филипп, не вставая с колен, поворачивается к ним лицом и говорит презрительным тоном:
«Я недостаточно хорошо знаю французский язык, чтобы на нем изъясняться. От моего имени к вам обратится с речью епископ Аррасский, кардинал Гранвелла[96]».
«Неловко у тебя вышло, мой сын», — говорит его святейшее величество.
И точно: гордость и надменность юного короля вызывают у присутствующих ропот. Королева воздает его святейшему величеству хвалу, а затем берет слово престарелый лекарь; когда же он умолкает, его святейшее величество знаком благодарит его. По окончании всех церемоний и речей его святейшее величество объявляет, что его подданные могут считать себя свободными от присяги, скрепляет подписью составленные на сей предмет бумаги, затем встает и возводит на престол своего сына. Все в зале плачут. А затем отец с сыном возвращаются в домик, что стоит в парке. Там они запираются вдвоем все в той же зеленой комнате, и тут его святейшее величество разражается хохотом и обращается к королю Филиппу, который, однако, не смеется.
«Ты видишь, как мало нужно, чтобы растрогать этих людишек? — говорит он, смеясь и икая. — Что слез, что слез! Толстяк Маас, кончая свою длинную речь, ревел, как теленок. Да и ты как будто был взволнован, но — недостаточно. Вот какие зрелища нужны народу. Сын мой! Чем дороже нам стоят наши возлюбленные, тем сильнее мы к ним привязываемся. Так же точно обстоит и с народами. Чем больше мы с них тянем, тем сильней они нас любят. В Германии я терпел реформацию, а в Нидерландах жестоко преследовал[97]. Если бы германские государи остались католиками[98], я бы сам перешел в лютеранство и отнял у них все достояние. Они убеждены; что я ревностный католик, и со всем тем жалеют, что я покидаю их. В Нидерландах я обрек на смерть по обвинению в ереси пятьдесят тысяч самых доблестных мужчин и самых хорошеньких девушек. Теперь я ухожу — нидерландцы сокрушаются. Не считая конфискаций, я выкачал оттуда денег больше, нежели из Вест-Индии и из Перу[99], — теперь они обо мне горюют[100]. Я нарушил Кадзанский мирный договор[101], усмирил Гент[102], отменил все, что мне мешало, — свободы, вольности, льготы, я все предоставил усмотрению королевских чиновников, а жалкие людишки все еще мнят себя свободными на том основании, что я им дозволил стрелять из арбалета и во время процессий носить цеховые знамена. Они постоянно чувствовали на себе мою властную руку. Они сидят в клетке, наслаждаются жизнью, поют и оплакивают меня. Сын мой, будь с ними, как я: благожелателен на словах, суров на деле. Лижи, пока можно не кусать. Клянись, неустанно клянись блюсти их свободы, вольности и льготы, но как скоро заметишь, что вольности сии таят в себе опасность, немедленно упраздняй их. Когда к подданным прикасаются робкой рукой, — они железные, но они же становятся стеклянными, когда ты дробишь их мощной дланью, Искореняй ересь, но не потому, что она противоречит римско-католической вере, а потому, что в Нидерландах она расшатывает устои нашей власти. Те, что нападают на папу, у которого целых три короны[103], мигом расправятся с государями, у которых корона всего лишь одна. Приравняй, как я, свободу совести к оскорблению величества, влекущему за собой конфискацию имущества, и ты будешь, как я, всю жизнь получать наследства. А когда ты отречешься от престола или Же умрешь, они скажут: «Добрый был государь!» — и заплачут».
— Больше ничего не слышно, — сказала Ноле, — его святейшее величество лег на кровать и уснул, а король Филипп, надменный и гордый, смотрит на него холодным взглядом.
Тут Катлина разбудила ее.
А Клаас задумчиво глядел на огонь, пылавший в печи.
59
Когда Уленшпигель, расставшись с ландграфом Гессенским, проезжал через площадь, на глаза ему попались сердитые лица дам и вельмож, но он не обратил на них никакого внимания.
Немного погодя он очутился во владениях герцога Люнебургского, и тут у него произошла встреча с компанией Smaedelyke broeder'ов[104] — веселых слейсских фламандцев, которые каждую субботу откладывали немного денег, чтобы иметь возможность раз в год ездить в Германию.
Ехали они обыкновенно в открытой повозке, которую шутя влек по дорогам и топям герцогства Люнебургского могучий верн-амбахтский конь, и орали песни. Иные с превеликим усердием дудели в дудки, другие пиликали на скрипочках, третьи играли на виолах, четвертые на волынках. Сбоку повозки какой-нибудь dikzak[105] шел пешком и играл на rommelpot'е — должно быть, надеялся спустить с себя таким образом жир.
Как раз, когда за душой у этой компании почти ничего уже не оставалось, ей повстречался нагруженный звонкой монетою Уленшпигель, и они пригласили его в трактир и угостили. Уленшпигель принял их приглашение охотно. Заметив, однако ж, что Smaedelyke broeder'ы поглядывают на него и перемигиваются, подливают ему и посмеиваются, он почуял недоброе, вышел и стал подслушивать за дверью. И вот, слышит он, dikzak про него говорит:
— Это живописец ландграфа — он ему дал за картину больше тысячи флоринов. Давайте напоим его вином и пивом — останемся в барышах.
— Аминь, — хором, произнесли его приятели.
Уленшпигель же отвел своего оседланного осла шагов за тысячу, к одному фермеру, дал работнице два патара, чтобы она за ним приглядела, и, вернувшись как ни в чем не бывало в трактир, сел за столик Smaedelyke broeder'ов. Те раскошелились и еще угостили его. А Уленшпигель, позвякивая в мошне ландграфскими флоринами, похвалился, что только сейчас продал одному крестьянину своего осла за семнадцать серебряных daelder'ов.
Так, выпивая и закусывая, играя на дудках, волынках и rommelpot'ах и подбирая по дороге всех мало-мальски смазливых бабенок, продолжали они свой путь. Этаким манером они произвели на свет младенчиков, в частности Уленшпигель, — его милка назвала впоследствии своего сына Эйленшпигелькен[106], что на нижненемецком языке означает зеркальце и сову: по-видимому, истинный смысл прозвища ее случайного сожителя остался ей неясен, а может быть, она назвала сына в память того часа, когда он был зачат. Это и есть тот самый Эйленшпигелькен, о котором пущен ложный слух, будто он родился в Книттингене, в Саксонии.
Добрый конь вез их по дороге, по обеим сторонам которой раскинулась деревенька и при которой стоял трактир под вывеской «In den ketele», то есть «В котле». Оттуда приятно пахло жареным мясом.
Игравший на rommelpot'е dikzak пошел к baes'у и сказал ему про Уленшпигеля:
— Это ландграфский живописец — он за всех заплатит.
Baes, убедившись, что лицо Уленшпигеля внушает доверие и послушав звон флоринов и daelder'ов, уставил стол выпивкой и закуской. Уленшпигель в грязь лицом не ударил. А в кошельке у него все время звенели монеты. Этого мало: время от времени он хлопал себя по шапке и приговаривал, что тут зашито главное его богатство. Пиршество длилось два дня и одну ночь. Наконец Smaedelyke broeder'ы объявили Уленшпигелю:
— Давай расплатимся и отчалим.
Уленшпигель же им задал вопрос:
— Если крыса забралась в сыр, думает она уходить?
— Нет, — отвечали они.
— А когда человек вдоволь ест и пьет, скучает он по дорожной пыли и по воде из луж, с пиявками?
— Нет, — отвечали они.
— Ну так поживем и мы здесь, — рассудил Уленшпигель, — до тех пор, пока мои флорины и daelder'ы служат воронкой, через которую в наши глотки льется живительная влага.
Он велел хозяину подать еще вина и колбасы.
Пока они ели и пили, Уленшпигель хвастался:
— Я плачу, я теперь ландграф. Ну, а когда в моей мошне будет пусто, что вы станете делать, друзья? Вы приметесь за мою мягкую войлочную шляпу и обнаружите, что там везде — и в тулье и по краям — зашиты каролю.
— Дай пощупать! — вскричали все разом.
Сопя от наслаждения, они принялись щупать монеты, которые оказались величиною с червонец. Один из breeder'ов до того проворно орудовал пальцами, что Уленшпигель вынужден был отобрать у него шляпу.
— Эй ты, рьяный доильщик, — сказал он, — доить еще не пора!
— Дай мне половину шляпы, — попросил Smaedelyh breeder.
— Не дам, — сказал Уленшпигель, — а то у тебя будет голова как у сумасшедшего: в одной половине тьма, а в другой свет. — И, передав шляпу baes'у, попросил: — Уж очень жарко, — спрячь ее пока у себя. Я на минутку выйду.
С этими словами он вышел, а хозяин спрятал шляпу.
Удрав из трактира, Уленшпигель побежал к крестьянину, вскочил на осла и во всю ослиную прыть помчался по направлению к Эмдену.
Smaedelyke broeder'ы, видя, что он не возвращается, всполошились:
— Не дал ли он тягу? Кто ж теперь будет платить?
Перепуганный baes одним взмахом ножа распорол Уленшпигелеву шляпу, но вместо каролю он между войлоком и подкладкой обнаружил медные бляшки.
Тут он напустился на Smaedelyke broeder'ов.
— Братья-надувалы! — сказал он. — Сбросьте с себя все, что на вас ни есть, кроме разве сорочек, а то я вас отсюда не выпущу.
В уплату за все Smaedelyke broeder'ы принуждены были разоблачиться.
Так, в одних сорочках, и колесили они теперь по горам и долам; продавать же коня и повозку им не хотелось.
И вид у них был до того плачевный, что все охотно давали им и хлеба, и пива, а кое-когда и мяса, они же всем рассказывали, что их обобрали разбойники.
А штаны у них были одни на всю братию.
И так они и возвратились к себе в Слейс — пританцовывая в повозке под звуки rommelpot'а, но в одних сорочках.
60
А Уленшпигель в это время разъезжал на Иефе по землям и топям герцога Люнебургского. Фламандцы прозвали этого герцога Wafersignorke[107], оттого что в его владениях всегда было сыро.
Иеф слушался Уленшпигеля, как собачка, пил bruinbier, танцевал под музыку лучше любого венгерского плясуна, по первому знаку хозяина ложился на спину и притворялся мертвым.
В Дармштадте, в присутствии ландграфа Гессенского, Уленшпигель высмеял герцога, и ему было известно, что герцог сердит и зол на него и что ему воспрещен въезд во владения герцога под страхом виселицы. И вдруг Уленшпигель видит: перед ним его светлость герцог, собственной персоной, а так как он был наслышан о свирепости герцога, то ему стало не по себе. И он обратился к своему ослу с такой речью:
— Иеф, гляди, вон монсеньер Люнебургский! — сказал он. — Веревка здорово щекочет мне шею. Лишь бы только мне ее палач не почесал! Пойми, Иеф, я хочу, чтобы меня почесали, но я не хочу, чтобы меня повесили. Подумай — ведь мы с тобой братья: оба бедствуем и у обоих длинные уши. Подумай еще и о том, какого верного друга лишаешься ты в моем лице.
Тут Уленшпигель отер глаза, и Иеф заревел.
— Мы делили с тобой пополам и радости и горести, — снова заговорил Уленшпигель. — Ты помнишь, Иеф?
Осел продолжал верещать, ибо он был голоден.
— И ты никогда меня не забудешь, — внушал ему его хозяин, — ибо какая еще дружба может быть крепче той, что радуется одним и тем же удачам и крушится от одних и тех же невзгод! Ложись на спину, Иеф!
Послушный осел повиновался, и вслед за тем пред взором герцога в воздухе взбрыкнули четыре копыта… Уленшпигель мигом сел к ослу на брюхо. Герцог приблизился.
— Что ты тут делаешь? — спросил он. — Разве ты не знаешь, что я именным указом воспретил тебе под страхом виселицы ступать своими грязными ногами по моей земле?
— Сжальтесь надо мной, всемилостивейший сеньор! — воскликнул Уленшпигель и, показав на осла, прибавил: — Тем более вам хорошо известно: кто находится меж четырех столбов, того по праву и закону нельзя лишить свободы.
— Вон из моих владений, а не то я тебя казню! — крикнул герцог.
— Ах, монсеньер, — молвил Уленшпигель, — я бы стрелой умчался отсюда верхом на флорине, а еще лучше — на паре!
— Нахал! — возопил герцог. — Мало того, что ты не подчинился моему указу, ты еще смеешь просить у меня денег!
— А что прикажете делать, монсеньер? Не могу же я у вас отнять их силком!..
Тут герцог пожаловал ему флорин.
Тогда Уленшпигель обратился к ослу:
— Встань, Иеф, и попрощайся с монсеньером.
Осел мгновенно вскочил и заверещал. Вслед за тем оба скрылись из виду.
61
Сооткин и Неле смотрели в окно.
— Не видать ли сына моего Уленшпигеля, деточка? — спросила Сооткин.
— Нет, — отвечала Неле, — мы никогда больше не увидим противного этого шатуна.
— Не сердись на него, Неле, — сказала Сооткин, — лучше пожалей бесприютного мальчонку.
— Знаем мы, какой он бесприютный, — молвила Неле. — Поди уже в каком-нибудь дальнем краю обзавелся домом получше этого, а может, и дамой сердца, и та, уж верно, дает ему приют.
— Это бы хорошо, — сказала Сооткин, — по крайности, ортоланов бы поел.
— Его бы камнями кормить, обжору, — живо вернулся бы домой! — вспылила Неле.
Сооткин фыркнула.
— Чего ты так на него взъелась, детка? — спросила она.
Тут вмешался Клаас, сидевший в углу и до сего времени задумчиво вязавший хворост.
— Ай ты не видишь, что она от него без ума? — обратился он к Сооткин.
— Видали вы такую скрытную плутовку? — вскричала Сооткин. — Хоть бы намек какой мне подала! Так это правда, деточка: люб он тебе?
— Пустое, — отрезала Неле.
— Славный муженек тебе достанется, — заметил Клаас, — с широкой глоткой, пустым брюхом и длинным языком, мастер из крупной монеты делать мелкую, трудом ломаного гроша не заработал, только и знает, что ворон считать да слоны слонять.
Но тут Неле вдруг вся покраснела от злости:
— А вы-то чего смотрели?
— Ишь до слез довел девочку! — вступилась Сооткин. — Ты бы уж помалкивал, мой благоверный!
62
Однажды Уленшпигель явился в Нюрнберг и выдал там себя за великого лекаря, от всех недугов целителя, знаменитого желудкоочистителя, лихорадок славного укротителя, всех язв известного гонителя, чесотки неизменного победителя.
В нюрнбергской больнице некуда было класть больных. Молва об Уленшпигеле дошла до смотрителя — тот разыскал его и осведомился, правда ли, что он справляется со всеми болезнями.
— Со всеми, кроме последней, — отвечал Уленшпигель. — А что касается всех прочих, то обещайте мне двести флоринов — я не возьму с вас и лиара до тех пор, пока все ваши больные не выздоровеют и не выпишутся из больницы.
На другой день, приняв торжественный и ученый вид, он уверенно пошел по палатам. Обходя больных, он к каждому из них наклонялся и шептал:
— Поклянись, — говорил он, — что свято сохранишь тайну. Чем ты болен?
Больной называл свою болезнь и Христом-богом клялся, что никому ничего не скажет.
— Так знай же, — говорил Уленшпигель, — что завтра я одного из вас сожгу, из пепла сделаю чудодейственное лекарство и дам его всем остальным. Сожжен будет лежачий больной. Завтра я прибуду сюда вместе со смотрителем, стану под окнами и крикну вам: «Кто не болен, забирай пожитки и выходи на улицу!»
Наутро Уленшпигель так именно и поступил. Тут все больные — хромающие, ковыляющие, чихающие, перхающие — заспешили к выходу. На улицу высыпали даже такие, которые добрый десяток лет не вставали с постели.
Смотритель спросил, точно ли они поправились и могут ходить.
— Да, — отвечали они в полной уверенности, что одного из них сжигают сейчас во дворе.
Тогда Уленшпигель обратился к смотрителю:
— Ну, раз все они вышли и говорят, что здоровы, — стало быть, плати.
Смотритель уплатил ему двести флоринов. И Уленшпигель был таков.
Но на другой день больные вновь явились пред очи смотрителя в еще худшем состоянии, чем вчера; лишь одного из них исцелил свежий воздух, и он, напившись пьяным, бегал по улицам с криком: «Слава великому лекарю Уленшпигелю!»
63
К тому времени, когда сгинули и эти две сотни флоринов, Уленшпигель добрался до Вены и поступил в услужение к каретнику, который вечно шпынял своих работников за то, что они слабо раздувают кузнечные мехи.
— Наддай! — то и дело покрикивал он. — Что вы тут завозились с мехами? А ну, раз, два, взяли — и дуй что есть мочи!
Каково же было изумление baes'а, когда Уленшпигель снял мех, взвалил его себе на плечо и сделал вид, что куда-то бежит с ним!
— Да вы же сами, baes, велели мне взять мех и дуть что есть мочи. Вот я с ним и дунул, — оправдывался Уленшпигель.
— Нет, милый мальчик, я тебе этого не говорил, — сказал baes. — Отнеси на место.
И он тут же решил отомстить Уленшпигелю. После этого случая он всякий раз поднимался в полночь, будил работников и приказывал браться скорей за дело.
— Что ты будишь нас ни свет ни заря? — возроптали работники.
— Таков мой обычай, — отвечал baes. — Первую неделю мои работники могут спать только половину ночи.
И опять он разбудил их в полночь. Уленшпигель, спавший в сарае, после побудки явился с сенником на спине в кузницу.
— Ты что, спятил? — обратился к нему baes. — Зачем ты притащил сюда сенник?
— Таков мой обычай, — отвечал Уленшпигель. — Всю первую неделю я полночи сплю на постели, а полночи — под постелью.
— Ну, а у меня есть еще один обычай, — подхватил хозяин, — дерзких работников я выбрасываю на улицу: пусть себе первую недельку спят на земле, а вторую — под землей.
— Ежели у вас в погребе, baes, подле бочек с bruinbier'ом, то я не откажусь, — сказал Уленшпигель.
64
Уйдя от каретника и возвратившись во Фландрию, Уленшпигель поступил в учение к сапожнику, который предпочитал торчать на улице, нежели орудовать шилом у себя в мастерской. Видя, что он уже в сотый раз намеревается шмыгнуть за дверь, Уленшпигель обратился к нему с вопросом, как надо кроить носки.
— Крои и на большие и на средние ноги, — отвечал baes, — так, чтобы всем, кто ведет за собой и крупный и мелкий скот, обувь была в самый раз.
— Будьте покойны, baes, — сказал Уленшпигель.
Когда сапожник ушел, Уленшпигель накроил таких носков, которые годились бы только кобылам, ослицам, телкам, свиньям и овцам.
Возвратившись в мастерскую, baes увидел, что вся его кожа изрезана на куски.
— Что ж ты наделал, олух ты этакий? — вскричал он.
— Наделал то, что вы приказали, — отвечал Уленшпигель.
— Я тебе велел выкроить башмаки, которые были бы впору всем, кто ведет за собой быков, хряков, баранов, — возразил baes, — а ты выкроил мне обувь, которая будет по ноге разве только этим самым животным.
На это Уленшпигель ему сказал:
— Baes! В то время года, когда любится всякая тварь, кто же, как не свинья, ведет за собою хряка, кто, как не ослица, — осла, кто, как не телка, — быка, кто, как не овечка, — барана?
После этого разговора Уленшпигель остался без крова.
65
Самое начало апреля, теплынь, потом вдруг морозит, да все крепче и крепче, а небо серое и скучное, как поминальный день. Третий год изгнания Уленшпигеля давно кончился, и Неле со дня на день ждет своего друга.
«Ой, беда! — думает она. — Побьет морозом и грушевый цвет, и жасмин, и все бедные цветики, — они поверили теплой ласке ранней весны и распустились. Вон, вон замелькали снежинки! Мое бедное сердце так же засыпано снегом. Куда девались яркие лучи солнца, от которых светлели лица людей, алели красные кровли, пламенели оконные стекла? Что не греют они небо и землю; букашек и пташек? Ох, и я, горемычная, ночью и днем коченею от тоски и от долгого ожиданья! Где ты, мой друг Уленшпигель?»
66
Подходя к Ренне, что во Фландрии, Уленшпигель томился голодом и жаждой, но не унывал — он смешил людей за кусок хлеба. Смешил он, однако ж, неудачно — люди проходили мимо и не давали ему ничего.
Погода была скверная: бродягу то засыпало снегом, то поливало дождем, то секло градом. Когда он шел через села, у него слюнки текли от одного вида собаки, которая где-нибудь в укромном уголке грызла кость. Ему очень хотелось заработать флорин, но он не знал, откуда могли бы флорины прыгнуть к нему в кошелек.
Он глядел вверх — и видел голубей, которые с высоты голубятни роняли на дорогу кусочки чего-то белого, но это были не флорины. Он глядел себе под ноги, но флорины — не из царства Флоры, и на дорогах они не растут.
Он глядел направо — и видел зловещую тучу, которая надвигалась громадной лейкой, но он отлично знал, что ливень из нее непременно хлынет, да только не флоринов. Он глядел налево — и видел жасминовый куст.
«Э-эх! — говорил он сам с собой. — Я бы предпочел не жасминовый куст, а флориновый! То-то красивый был бы кустик!»
Внезапно темная туча пролилась, и на Уленшпигеля посыпались градины, твердые, как булыжник.
— Ай! — крикнул он. — Камнями швыряют только в бездомных собак.
И пустился бежать.
«Я не виноват, что у меня не только что дворца, а и палатки нет, что мне негде укрыть мое тощее тело, — говорил он себе. — У, градины — гадины! Не градины, а прямо целые ядра. Никакого греха нет в том, что я, одетый в рубище, шатаюсь по всему белому свету, раз мне так нравится. Ах, зачем я не император? Градины так и лезут мне в уши, точно нехорошие слова».
Уленшпигель все бежал и бежал.
«Бедный мой нос! — причитал он. — Скоро град продырявит тебя насквозь, и будешь ты заместо перечницы на пирах у сильных мира сего, а их-то уж никогда градом не бьет. — Затем Уленшпигель потрогал свои щеки. — А щеки мои — чем не шумовочки? — рассудил он. — Отлично пригодятся поварам, когда те жарятся у печки. Подумал о поварах — невольно вспомнилась подливка. Эх, до чего есть хочется! Не ропщи, пустое брюхо, не урчите, страждущие кишки! Где ты, счастливая доля? Веди меня на свое пастбище».
Пока он сам с собой рассуждал, небо расчистилось, проглянуло солнышко, град перестал.
— Здравствуй, солнце, единственный друг мой! — воскликнул Уленшпигель. — Сейчас ты меня обсушишь!
Но ему было холодно, и он бежал не останавливаясь. Вдруг он увидел, что прямо на него бежит с выпученными глазами и высунутым языком собака — белая с черными пятнами.
«Это бешеная собака!» — подумал Уленшпигель и, схватив здоровенный камень, полез на дерево. Когда он добрался до первой ветки, собака пробегала уже мимо дерева, и тут Уленшпигель швырнул в нее камень и угодил ей в голову. Собака остановилась, предприняла жалкую и неуклюжую попытку вспрыгнуть на дерево и укусить Уленшпигеля, но не смогла, рухнула наземь и околела.
Уленшпигелю стало не по себе, в особенности когда он, спустившись с дерева, обнаружил, что нос у собаки влажный, — значит, она была здорова. Шкурка у нее оказалась славная, ее можно было продать — с этой мыслью Уленшпигель снял ее, вымыл, повесил сушить на своей палке, а затем сунул к себе в суму.
Терзаемый голодом и жаждой, он заходил на фермы, но не решался предложить шкуру из боязни, что кто-нибудь из крестьян узнает свою собаку. Он просил хлеба, но никто ему не подавал. Стемнело. Ноги у него подгибались, и он завернул в харчевню. В харчевне старая baesine ласкала старую, беспрерывно хрипевшую собаку, расцветкой шкуры похожую на ту, которую, убил Уленшпигель.
— Откуда бог несет, путник? — спросила старая baesine.
На это ей Уленшпигель ответил так:
— Я иду из Рима — там я вылечил папскую собаку, которую мучил бронхит.
— Так ты видел папу? — спросила старуха и тут же налила ему кружку пива.
— Увы! — опорожнив кружку, воскликнул Уленшпигель. — Я лишь удостоился приложиться к его святой стопе и священной туфле.
Между тем старая собака baesine хрипела, но не харкала.
— Когда ж это было? — спросила старуха.
— В прошлом месяце, — отвечал Уленшпигель. — Меня ждали, я приехал и постучался. «Кто там?» — спросил архикардинальный, архитайный и архичрезвычайный камерарий его пресвятейшего святейшества. «Это я, ваше высокопреосвященство, — отвечал я, — я прибыл из Фландрии, дабы облобызать стопу святейшего владыки и вылечить его собачку». — «А, это ты, Уленшпигель! — послышался из-за дверцы голос папы. — Я бы рад тебя повидать, да не могу. Священные декреталии[108] воспрещают мне показывать посторонним свой лик в то время, как по нему гуляет священная бритва». — «Эх ты, вот незадача! — воскликнул я. — А ведь я этакую даль тащился только для того, чтобы облобызать стопу вашего святейшества и вылечить вашу собачку. Стало быть, мне так ни с чем и возвращаться восвояси?» — «Нет», — отвечал святой отец. И вслед за тем я услышал его распоряжение: «Архикамерарий, придвиньте мое кресло к двери и откройте ее нижнее окошечко». Сказано — сделано. И тут я увидел в окошечке ногу в золотой туфле и услышал громоподобный голос: «Се грозная стопа царя царей, короля королей, императора императоров. Целуй же, христианин, целуй священную туфлю!» Я приложился к священной туфле, и нос мой ощутил дивное благоухание, исходившее от ноги. Затем окошечко захлопнулось, и тот же грозный голос велел мне ждать. Окошечко снова распахнулось, и на меня прыгнул, извините за выражение, облезлый кобель с гноящимися глазами, хрипящий, раздутый, как бурдюк, с раскоряченными, по причине толщины пуза, лапами. Тут святейший владыка соизволил снова обратиться ко мне: «Уленшпигель, — сказал он, — это моя собачка. У нее бронхит и другие болезни, которые она нажила себе тем, что глодала перебитые кости еретиков. Вылечи ее, сын мой, ты об этом не пожалеешь».
— Выпей еще, — предложила старуха.
— Налей, — согласился Уленшпигель и продолжал свой рассказ. — Я закатил псу чудодейственное мочегонное моего собственного изготовления. Пес три дня и три ночи сикал не переставая и выздоровел.
— Jesus God en Maria![109] — воскликнула старуха. — Дай я тебя поцелую, паломник, за то, что ты удостоился лицезреть папу! Теперь ты и мою собачку вылечи.
Уленшпигель, однако, уклонился от старухиных поцелуев.
— Тот, чьи уста коснулись священной туфли, в течение двух лет должен быть чист от поцелуев женщины, — возразил он. — Дай мне мясца, колбаски, не пожалей пива — и хрипота у твоей собаки пройдет бесследно: хоть в соборный хор ее посылай — любую ноту вытянет.
— Коли не обманешь, я тебе заплачу флорин, — слезно молила старуха.
— Вылечу, вылечу, — молвил Уленшпигель, — дай только поужинаю.
Она подала ему все, чего он просил. Напившись и наевшись, он так расчувствовался, что если б не зарок, то, верно уж, поцеловал бы старуху.
В то время как он пировал, старая собака положила ему лапы на колени в ожидании косточки. Уленшпигель бросил ей косточку-другую, а затем обратился к хозяйке с вопросом:
— Если б кто-нибудь у тебя наелся и не заплатил, как бы ты с ним поступила?
— Я бы у такого разбойника отобрала лучшее платье, — отвечала старуха.
— Так, так, — молвил Уленшпигель и, взяв собаку под мышку, пошел с ней в сарай. В сарае он дал ей косточку, запер ее, вынул из сумки шкуру убитой собаки и, вернувшись к старухе, спросил, точно ли она отнимет лучшее платье у того, кто не отдаст ей деньги.
— Отниму, — подтвердила старуха.
— Ну так вот: я твою собаку кормил, а она мне не заплатила. Я с ней поступил по-твоему: содрал с нее мало сказать лучшее — единственное платье.
С этими словами он показал старухе шкуру убитой собаки.
— Ах, какой ты жестокий, господин лекарь! — завыла старуха. — Бедный песик! Ведь он мне, убогой вдове, заместо ребенка был. Зачем ты отнял у меня единственного друга? Теперь я помру с горя.
— Я ее воскрешу, — сказал Уленшпигель.
— Воскресишь? — переспросила старуха. — И она по-прежнему будет ко мне ласкаться, в глаза заглядывать, лизать мне руки и вилять хвостиком? Воскресите ее, господин лекарь, и я вас накормлю самым дорогим обедом, и не только ничего с вас не возьму, а вам же еще уплачу флоринчик.
— Я ее воскрешу, — подтвердил Уленшпигель. — Но только мне нужна теплая вода, патока, чтобы смазать швы, иголка с ниткой и подлива к жаркому. Во время этой операции я должен быть один.
Старуха все ему дала. Он взял шкуру убитой собаки и пошел в сарай.
Войдя, он помазал старой собаке морду подливкой, что, видимо, доставило ей удовольствие, патокой провел до брюху широкую полосу, лапы тоже смазал патокой, а хвост подливкой.
После этого трижды издал какое-то восклицание, а затем сказал:
— Staet op! Staet op! IVt bevel vuilen hond![110]
Тут он второпях сунул шкуру убитой собаки к себе в суму и дал такого пинка живой собаке, что та мигом очутилась в харчевне.
Старуха, видя, что ее собачка цела и невредима, да еще в облизывается, хотела было поцеловать ее, но Уленшпигель воспротивился.
— Не ласкай собаку до тех пор, пока она всю патоку не слижет, а как слижет, стало быть, швы у нее зажили, — сказал он. — Ну, а теперь давай сюда десять флоринов.
— Я обещала всего один флорин, — возразила старуха.
— Один за операцию, девять за воскрешение, — в свою очередь возразил Уленшпигель.
Старуха дала ему десять флоринов. Перед тем как удалиться, Уленшпигель бросил на пол шкуру убитой собаки и сказал:
— Вот тебе, хозяйка, старая собачья шкура, — смотри не потеряй: когда новая прохудится, употреби ее на заплаты.
67
В это воскресенье в Брюгге по случаю праздника Крови Христовой был крестный ход. Клаас посоветовал жене и Неле туда сходить — ну как они встретят там Уленшпигеля? А он, мол, будет сторожить дом да поджидать паломника.
Женщины ушли. Клаас остался в Дамме и, усевшись на пороге, убедился, что в городе ни души. Из ближнего села доносился чистый звон колокола, а из Брюгге по временам долетали то трезвон, то орудийные залпы, то треск потешных огней, зажигавшихся в честь праздника Крови Христовой.
Клаас задумчивым взором высматривал Уленшпигеля, но не видел ничего, кроме безоблачного, ясного голубого неба, собак, лежавших, высунув язык, на солнцепеке, воробьев, с беззаботным чириканьем купавшихся в дорожной пыли, подкрадывавшегося к ним кота да солнечных лучей, имевших вольный доступ во все дома и зажигавших отблески на медных котелках и оловянных кружках.
Все вокруг Клааса ликовало; только он один тосковал, по-прежнему искал глазами сына и старался разглядеть его в сером тумане, застилавшем луга, старался различить его голос в радостном шелесте листьев, в веселом пении птиц. Внезапно на Мальдегемской дороге он увидел высокого человека и сразу понял, что это не Уленшпигель. Человек остановился возле чужой грядки, надергал моркови и с жадностью на нее набросился.
«Ишь как проголодался!» — подумал Клаас.
Незнакомец исчез, но минуту спустя вновь появился на углу Цапельной улицы, и тут Клаас узнал его: это был тот самый гонец, который привез ему от Иоста семьсот червонцев. Он устремился к нему навстречу и сказал:
— Пойдем ко мне!
— Блаженны странноприимцы, — отозвался тот.
Снаружи на подоконнике Сооткин никогда не забывала насыпать птицам крошек — они к ней и зимой прилетали кормиться. Незнакомец подобрал крошки и проглотил их.
— Ты, видно, хочешь есть и пить, — заметил Клаас.
— Неделю назад меня ограбили разбойники, — сказал тот, — все это время я питался одной морковкой да кореньями.
— Стало быть, пора закусить, — рассудил Клаас и открыл ларь. — Вот полная миска гороха, вот яйца, колбаса, ветчина, гентские сосиски, waterzoey (рыбное блюдо). Внизу, в погребе, дремлет лувенское вино, вроде бургонского, прозрачное и красное, как рубин, — оно только и ждет, чтобы пришли в движение стаканчики. Подбросим-ка хворосту в печь! Слышишь, как запела колбаска на рашпере? Это песнь во славу снеди.
Поворачивая и переворачивая колбасу, он спросил гостя:
— Не видал ли ты сына моего Уленшпигеля?
— Нет, — отвечал тот.
— А как поживает мой брат Иост? — продолжал расспрашивать Клаас, ставя на стол жареную колбасу, яичницу с жирной ветчиной, сыр, большие стаканы и бутылки с красным прозрачным искристым лувенским вином.
— Твоего брата Иоста колесовали в Зиппенакене под Аахеном за то, что он, впав в ересь, сражался с императором, — отвечал гость.
— Проклятые палачи! — дрожа всем телом от страшного гнева, в исступлении крикнул Клаас. — Иост! Несчастный мой брат!
— Все радости и горести посылаются нам свыше, — строго заметил гость и принялся за еду.
Утолив голод, он сообщил:
— Я выдал себя за нисвейлерского хлебопашца, родственника твоего брата, и навестил его в темнице. А к тебе я пришел потому, что он мне сказал: «Если ты не умрешь за веру, как я, то сходи к брату моему Клаасу и скажи, что я ему завещал жить по-божески, помогать бедным и тайно учить сына заповедям Христовым. Деньги, что я ему дал, нажиты на темноте народной — пусть же он употребит их на обучение Тиля, дабы тот познал истинного бога и был начитан от Писания».
Сказавши это, гонец поцеловал Клааса.
А Клаас в отчаянии все повторял:
— Несчастный мой брат! Умер на колесе!
Он обезумел от горя. И все же, заметив, что гость хочет пить и подставляет стакан, налил ему вина, но сам ел и пил без всякой охоты.
Обе женщины отсутствовали целую неделю. Все это время посланец Иоста прожил у Клааса.
По ночам до них доносились вопли Катлины:
— Огонь! Огонь! Пробейте дыру! Душа просится наружу!
Клаас шел к ней, успокаивал, затем возвращался к себе.
Прогостив неделю, посланец ушел, согласившись взять у Клааса всего-навсего два паролю на пропитание в ночлег.
68
Как-то раз, когда Ноле и Сооткин уже вернулись из Брюгге, Клаас, сидя в кухне на полу, точно заправский портной, пришивал к старым штанам пуговицы. Тут же в кухне Неле науськивала на аиста Тита Бибула Шнуффия, а пес то с громким лаем бросится на аиста, то отскочит. Аист, стоя на одной ноге, устремлял на пса важный и задумчивый взор, а затем, изогнув длинную шею, зарывал клюв в перья на груди. Невозмутимость аиста только ожесточала Тита Бибула Шнуффия. Но в конце концов аист решила что одна игра не потеха, и клюв его с быстротой стрелы вонзился в спину псу — тот с воем, выражавшим: «Спасите!», кинулся от него прочь.
Клаас хохотал, Неле тоже, а Сооткин все смотрела на улицу, не видать ли Уленшпигеля.
Вдруг она сказала:
— Идет профос и четыре стражника. Конечно, не к нам. Двое завернули за угол…
Клаас поднял голову.
— А двое остановились у дверей, — прибавила Сооткин.
Клаас вскочил.
— За кем это они пришли? — продолжала Сооткин. — Господи Иисусе! Клаас, да они к нам!
Клаас выбежал из кухни в сад, за ним Неле.
Он ей шепнул:
— Спрячь деньги — они за печной вьюшкой.
Неле поняла, но, увидев, что он перемахнул через изгородь, что стражники схватили его за шиворот и что он отбивается, заплакала и закричала:
— Он ни в чем не виноват! Он ни в чем не виноват! Не обижайте моего отца Клааса! Уленшпигель, где ты? Ты бы их убил!
С этими словами она бросилась на одного из стражников и впилась ногтями ему в лицо. Затем с криком: «Они его убьют!» — повалилась на траву в начала кататься по ней, как безумная.
На шум прибежала Катлина; остолбенев при виде этого зрелища, она затрясла головой и застонала:
— Огонь! Огонь! Пробейте дыру! Душа просится наружу!
Сооткин ничего этого не видела. Когда двое других стражников вошли в лачугу, она обратилась к ним с такими словами:
— Кого вы ищете, господа, в нашей убогой хижине? Если сына моего, то он далеко. Ноги у вас больно коротки — не догоните, — съязвила она, и это доставило ей удовлетворение.
Но тут послышался крик Неле, и Сооткин, выбежав в сад, увидела своего мужа за изгородью, на дороге, — стражники держали его за шиворот, а он вырывался.
— Бей их! Убей их! — крикнула она. — Уленшпигель, где ты?
Она бросилась на помощь к мужу, но стражник не без риска для себя успел схватить ее.
Клаас так здорово отбивался и дрался, что ему наверняка удалось бы вырваться, если б на подмогу державшим его стражникам не подоспели те двое, с которыми говорила Сооткин.
Стражники связали ему руки и привели в кухню. Сооткин и Неле плакали навзрыд.
— Господин профос, — обратилась к нему Сооткин, — чем провинился мой бедный муж? За что вы ему руки скрутили веревкой?
— Он еретик, — отвечал один из стражников.
— Еретик? Мой муж еретик? — вскричала Сооткин. — Врешь, сатанинское отродье!
— Господь меня не оставит, — молвил Клаас.
Его увели. Неле и Сооткин, обливаясь слезами, пошли за ним следом — они были уверены, что их тоже позовут к судье. По дороге к ним подходили друзья-приятели и соседки, но, узнав, что Клааса ведут, связанного, по подозрению в ереси, с перепугу разбегались по домам — и скорей все двери на запор! Только некоторые из соседских девочек осмелились подойти к самому Клаасу.
— Куда это ты со связанными руками, угольщик? — спросили они.
— Бог не без милости, девочки, — отвечал он.
Клааса заключили в общинную тюрьму. Обе женщины сели на пороге. Перед вечером Сооткин попросила Неле сбегать домой посмотреть, не вернулся ли Уленшпигель.
69
Вскоре окрестные села облетела весть о том, что кого-то посадили в тюрьму за ересь и что следствие ведет инквизитор Тительман[111], настоятель собора в Ренне, которого все ввали Неумолимый инквизитор. Уленшпигель жил тогда в Коолькерке и пользовался особым расположением одной пригожей фермерши, добросердечной вдовы, которая не могла отказать ему ни в чем из того, что принадлежало ей. Так, в неге, холе и ласке, жил он до того дня, когда подлый соперник, общинный старшина, подкараулил его при выходе из таверны и кинулся на него с дубиной. Однако Уленшпигель, дабы охладить боевой пыл старшины, столкнул его в пруд, откуда старшина еле выбрался — зеленый, как жаба, и мокрый, как губка.
Свершив этот славный подвиг, Уленшпигель принужден был покинуть Коолькерке, — опасаясь мести старшины, он со всех ног пустился бежать по дороге в Дамме.
Вечер был прохладный, Уленшпигель бежал быстро — ему хотелось поскорей домой. Он рисовал себе такую картину: Неле шьет, Сооткин готовит ужин, Клаас вяжет хворост, Шнуффий грызет кость, аист долбит хозяйку клювом по животу, чтобы ему что-нибудь перепало из еды.
Дорогой Уленшпигель повстречался с разносчиком.
— Куда это ты так мчишься? — спросил разносчик.
— В Дамме, к себе домой, — отвечал Уленшпигель.
— В городе небезопасно — реформатов хватают, — сообщил разносчик и пошел своей дорогой.
Добежав до таверны Roode Schildt[112], Уленшпигель завернул туда выпить стакан dobbelkuyt'а. Baes его спросил:
— Никак, ты сын Клааса?
— Да, я сын Клааса, — подтвердил Уленшпигель.
— Ну так не мешкай, — сказал baes, — страшный час пробил твоему отцу.
Уленшпигель спросил, что он хочет этим сказать.
Baes ответил, что он еще успеет об этом узнать.
И Уленшпигель побежал дальше.
На окраине Дамме собаки, лежавшие у дверей домов, с лаем и тявканьем стали хватать его за ноги. На шум выбежали женщины и заговорили все вдруг:
— Ты откуда? Ты знаешь, что с отцом? Где мать? Тоже в тюрьме? Ой! Только бы не сожгли!
Уленшпигель побежал что есть духу.
Ему встретилась Неле.
— Не ходи домой, Тиль, — сказала она, — там именем короля стража устроила засаду.
Уленшпигель остановился.
— Неле! — сказал он. — Это правда, что отец в тюрьме?
— Правда, — отвечала Неле, а Сооткин плачет на тюремном пороге.
Сердце блудного сына преисполнилось скорби, и он сказал Неле:
— Я пойду к отцу.
— Не надо, — возразила Неле, — слушайся Клааса, а он мне сказал перед тем, как его схватили: «Спаси деньги — они за печной вьюшкой». Вот о чем ты прежде всего подумай — о наследстве горемычной Сооткин.
Уленшпигель не послушал ее и побежал к тюрьме. На пороге сидела Сооткин. Она со слезами обняла его, и они вместе поплакали.
Когда стражники заметили, что вокруг Уленшпигеля и Сооткин столпился народ, они велели им убираться отсюда немедленно.
Мать с сыном пошли к Неле и, проходя мимо своего дома, стоявшего рядом с домом Неле, увидели одного из ландскнехтов, вызванных из Брюгге на случай беспорядков, которые могли возникнуть во время суда и казни, так как жители Дамме очень любили Клааса.
Ландскнехт сидел у двери, прямо на земле, и допивал водку. Как скоро он удостоверился, что вытянул все до последней капли, то швырнул фляжку и, вынув палаш, скуки ради принялся ковырять мостовую.
Сооткин, вся в слезах, вошла к Катлине.
А Катлина, качая головой, сказала:
— Огонь! Пробейте дыру — душа просится наружу.
70
Колокол, именуемый borgsform (городская буря), призывал судей на заседание, и в четыре часа дня они собрались около Vierschare, под сенью судебной липы.
Когда Клааса ввели, он увидел под балдахином коронного судью города Дамме, а по бокам и напротив расположились бургомистр, старшины и секретарь суда.
На звон колокола сбежалось видимо-невидимо народу.
Многие говорили:
— Судьи собрались здесь не для того, чтобы вершить правый суд, а чтобы выслужиться перед императором.
Секретарь объявил, что в предварительном заседании, имевшем место у Vierschare, под сенью липы, суд, приняв в рассуждение и соображение донесения и свидетельские показания, постановил взять под стражу угольщика Клааса, уроженца Дамме, мужа Сооткин, урожденной Иостенс. Сейчас, прибавил секретарь, суд намерен выслушать показания свидетелей.
Первым был вызван сосед Клааса цирюльник Ганс. Приняв присягу, он сказал:
— Клянусь спасением моей души, свидетельствую и удостоверяю, что невступно семнадцать лет знаю предстоящего пред судом Клааса за человека добропорядочного, соблюдающего все установления нашей матери — святой церкви, и что никогда не изрыгал он на нее хулы, никогда, сколько мне известно, не давал приюта еретикам, не прятал у себя Лютеровых писаний, ничего об упомянутых писаниях не говорил и не совершал ничего такого, что дало бы основания заподозрить его в нарушении правил-законов империи. И в том да будут мне свидетелями сам господь бог и все святые его!
Вызванный же затем в качестве свидетеля Ян ван Роозебеке показал, что он неоднократно слышал в отсутствие жены Клааса Сооткин доносившиеся из дома обвиняемого два мужских голоса и что по вечерам, после сигнала к тушению огней, он часто видел в чердачной каморке дома Клааса двух беседующих при свече мужчин, из коих один был Клаас. Кто же таков его собеседник — еретик или нет, того он, Ян ван Роозебеке, положительно не утверждает, ибо смотрел издали.
— Касательно самого Клааса, — добавил он, — я могу сказать по чистой совести, что посты он соблюдал, по большим праздникам причащался и каждое воскресенье ходил в церковь, за исключением того воскресенья, которое именуется днем Крови Христовой, и нескольких за ним следующих. Больше я ничего не имею сказать. И в том да будут мне свидетелями сам господь бог и все святые его!
Будучи спрошен, не продавал ли Клаас в его присутствий в таверне «Blauwe Torre» индульгенций и не насмехался ли над чистилищем, Ян ван Роозебеке ответил, что Клаас в самом деле продавал индульгенции, но без пренебрежения и без насмешки, что он, Ян ван Роозебеке, купил у него, а еще хотел купить находящийся в толпе старшина рыбников Иост Грейпстювер.
После этого коронный судья предуведомил, что сейчас будет объявлено во всеуслышание, за какие именно поступки и деяния Клаас подлежит суду Vierschare.
— «Доноситель, решив не тратить денег на пьянство и обжорство, коим во святые дни предаются многие, не пошел в Брюгге, остался в Дамме и, находясь в трезвом состоянии, вышел, подышать свежим воздухом, — начал секретарь суда. — Стоя на пороге своего дома, он обратил внимание, что по Цапельной улице кто-то идет. Заметив этого человека, Клаас пошел навстречу и поздоровался с ним. Человек тот был во реем черном. Он вошел к Клаасу; дверь осталась полуоткрытой. Движимый любопытством узнать, что что за человек, доноситель проник в прихожую и услышал, что в кухне Клаас говорит с пришельцем о некоем Иосте, брате Клааса, который, находясь в войсках реформатов, был взят в плен и колесован близ Аахена. Пришелец сказал Клаасу, что деньги, которые ему оставил брат, нажиты на темноте бедного народа и что Клаас должен употребить их на воспитание своего сына в реформатской вере. Кроме того, он уговаривал Клааса покинуть лоно нашей матери — святой церкви и произносил разные кощунственные слова, на что Клаас отвечал лишь: „Жестокосердные палачи! Несчастный мой брат!“ Упрекая в жестокосердии святейшего отца нашего — папу и его величество короля, справедливо карающих ересь как оскорбление величия божеского и человеческого, обвиняемый тем самым изрыгал на них хулу. Еще доноситель слышал, что, когда гость насытился, Клаас воскликнул: „Бедный Иост! Царство тебе небесное! Жестоко они с тобой обошлись!“ Следственно, допуская мысль, что всевышний отверзает райские врата еретикам, обвиняемый самого господа бога упрекает в нечестии. При этом Клаас все повторял: „Несчастный мой брат!“ А гость, придя в исступление, как настоящий протестантский проповедник, воскликнул: „Великий Вавилон падет, римская блудница станет гнездилищем бесов, пристанищем всякой нечисти!“ А Клаас твердил: „Жестокосердные палачи! Несчастный мой брат!“ Пришелец продолжал разглагольствовать: „Ибо ангел подымет камень величиною с жернов, и ввергнет его в море, и проречет: „Так будет низвергнут великий Вавилон, и никто его на дне моря не сыщет“. — „Государь мой, — сказал Клаас, — уста ваши исполнены гнева. Но скажите мне, когда же наступит царство, при котором кроткие будут спокойно жить на земле?“ — „Не наступит до тех пор, пока не падет царство антихриста, сиречь папы, врага всяческой истины“, — отвечал пришелец. „Напрасно вы поносите святейшего отца нашего, — заметил Клаас. — Я уверен, что он ничего не знает о тех жестоких пытках, коим подвергают несчастных реформатов“. — „Отлично знает, — возразил пришелец. — Кто же, как не он, составляет приговоры и передает их на утверждение императору, а теперь — королю, которому конфискации выгодны, так как имущество казненных отходит к нему, — оттого-то король столь рьяно и преследует богатых людей за ересь“. Клаас на это сказал: „Такие слухи ходят у нас во Фландрии, и ничего невероятного в них нет. Плоть человеческая немощна, даже плоть королевская. Несчастный мой Иост!“ Таким образом, Клаас высказался в том смысле, что его величество карает ересиархов из низкого сребролюбия. Пришелец снова пустился в рассуждения, но Клаас прервал его: «Пожалуйста, государь мой, не ведите со мной таких разговоров: не ровен час, подслушают — тогда мне несдобровать“.
Клаас сходил в погреб за пивом. «Дверь надо запереть», — сказал он. Доноситель бросился бежать, и больше он уже ничего не слышал. А некоторое время спустя, уже ночью, дверь снова отворилась. Пришелец вышел из дома Клааса, но сейчас же возвратился, постучался и сказал: «Клаас, я замерз, мне негде переночевать, приюти меня — никто не видит, кругом ни души». Клаас впустил его, зажег фонарь и повел еретика по лестнице в чердачную каморку, окно которой выходит в поле…»
— Я знаю, кто это наговорил! — вскричал Клаас. — Это ты, поганый рыбник! Я видел, как ты в воскресенье стоял столбом у своего дома и будто бы смотрел на ласточек!
Тут Клаас показал пальцем на старшину рыбников Иоста Грейпстювера, чья гнусная харя выглядывала из толпы.
Сообразив, что Клаас выдал себя, рыбник злобно усмехнулся. Весь народ — мужчины, женщины, девушки — зашептал:
— Эх, бедняга! За эти слева он поплатится жизнью.
А секретарь продолжал:
— «Еретик и Клаас проговорили всю ночь и еще шесть ночей подряд, во время каковых бесед пришелец беспрестанно делал то угрожающие, то благословляющие жесты и, подобно всем еретикам, воздевал руки к небу. Клаас, видимо, с ним соглашался. Разумеется, все эти дни, вечера и ночи они поносили мессу, исповедь, индульгенции и его величество короля…»
— Никто этого не слыхал, — прервал секретаря Клаас, — нельзя обвинять человека, не имея доказательств!
— Слышали другое, — возразил секретарь. — На седьмой день, в десятом часу, когда совсем уже стемнело, пришелец вышел из твоего дома, и ты его проводил до межи Катлининого поля. Тут пришелец спросил (при этих словах судья перекрестился), что ты сделал с погаными идолами[113], — так он обозвал изображения божьей матери, святителя Николая и святого Мартина. Ты ответил, что ты разбил их и выбросил в колодезь. И в самом деле: прошедшею ночью обломки были обнаружены в твоем колодце и теперь хранятся в застенке.
Клаас, видимо, был подавлен. Судья спросил, имеет ли он что-нибудь возразить, — Клаас отрицательно качнул головой.
Тогда судья задал ему вопрос, не намерен ли он осудить святотатственный свой умысел разбить священные изображения, а равно и пагубное заблуждение, внушившее ему кощунственные речи о великом боге и великом государе.
Клаас же на это ответил, что тело его принадлежит королю, а совесть — Христу и жить-де он хочет по завету Христову. Тогда судья задал ему вопрос, есть ли это завет нашей матери — святой церкви.
— Этот завет находится в святом Евангелии[114], — отвечал Клаас.
Будучи спрошен, признает ли Клаас папу наместником бога на земле, он отвечал:
— Нет.
На вопрос, почитал ли он за грех поклоняться изображениям божьей матери и святых угодников, Клаас ответил, что это идолопоклонство. Когда же его спросили, признает ли он благотворность и спасительность тайной исповеди, он ответил так:
— Христос сказал: «Исповедуйтесь друг у друга».
Он держался твердо, и все же было заметно, что ему стоит больших усилий преодолеть в себе страх и уныние.
В восемь часов вечера судьи удалились, отложив вынесение окончательного приговора на завтра.
71
В домике Катлины, обезумев от горя, обливалась слезами Сооткин. И все повторяла:
— Муж! Бедный мой муж!
Уленшпигель и Ноле с глубокой нежностью обнимали ее. Она прижимала их к себе и беззвучно рыдала. Потом сделала знак оставить ее одну. Неле сказала Уленшпигелю:
— Уйдем, ей хочется побыть одной! Спрячем деньги!
И они ушли. Тогда в комнату проскользнула Катлина. Она начала ходить вокруг Сооткин и приговаривать:
— Пробейте дыру — душа просится наружу.
А Сооткин смотрела на нее невидящим взглядом.
Домишки Клааса и Катлины стояли рядом. Перед домом Клааса был палисадник, перед домом Катлины — огород, засаженный бобами. Огород был обнесен живою изгородью, в которой Уленшпигель и Неле еще в раннем детстве, чтобы ходить друг к другу, устроили лазейку.
Из огорода Уленшпигелю и Неле было видно караулившего Клаасову лачужку солдата — голова у него качалась из стороны в сторону, он поминутно сплевывал слюну и аккуратно каждый раз попадал себе на камзол. Неподалеку валялась оплетенная фляжка.
— Неле, — зашептал Уленшпигель, — этот пьянчуга еще не упился, — надо его подпоить. Тогда мы все и спроворим. Прежде всего возьмем фляжку.
Услыхав шепот, ландскнехт повернул к ним свою тяжелую голову, поискал фляжку, но так и не нашел и опять начал плевать, пытаясь разглядеть при лунном свете, куда летят плевки.
— Эк его развезло! — заметил Уленшпигель. — И плюет-то с трудом.
Наконец солдат, вдоволь наплевавшись и наглядевшись на свои плевки, снова потянулся к фляжке. Нащупав, он припал ртом к горлышку, запрокинул голову, перевернул фляжку, постучал по донышку, чтобы там ничего не оставалось, и потом опять засосал, точно младенец материнскую грудь. Выцедив все, солдат примирился со своей печальной участью, положил фляжку рядом с собой, выругался на нижненемецком языке, опять сплюнул, покачал головой, что-то промычал и заснул.
Руководствуясь мыслью, что такой сон мимолетен и что его необходимо продлить, Уленшпигель юркнул в лазейку, схватил ландскнехтову фляжку и передал Неле, а та налила в нее водки.
Солдат храпел вовсю. Уленшпигель опять юркнул в лазейку и, поставив фляжку между ног солдата, вернулся на Катлинин двор, и тут они с Неле стали в ожидании у изгороди.
От прикосновения к фляжке, которую только что наполнили холодной влагой, солдат пробудился и первым делом решил удостовериться, отчего это вдруг стало холодно его ногам.
Смекалка пьяницы подсказала ему, что это, уж верно, полная фляжка, и он потянулся к ней. При свете луны Уленшпигелю и Неле было видно, как он встряхнул фляжку, чтобы убедиться, булькает или не булькает жидкость, попробовал, засмеялся, выразил на своем лице удивление, что фляжка снова полна, глотнул, потом хлебнул, потом поставил фляжку на землю, потом опять поднес ко рту и присосался.
Немного погодя он запел:
Как придет властитель Ман К даме Зэ в вечерний час…По-нижненемецки дама Зэ — это море, супруга властителя Мана, а властитель Ман — это месяц, покоритель женских сердец. Словом, вот что пел солдат:
Как придет властитель Ман К даме Зэ в вечерний час, Та нальет ему стакан Подогретого вина, Как придет властитель Ман. Ужин даст ему она, Поцелует много раз И уложит на постель, А постель ее пышна, Как придет властитель Ман. Дай мне, милая, того же: Сытный ужин и вина, Дай мне, милая, того же, Как придет властитель Ман.Так, то потягивая из фляжки, то распевая, солдат постепенно отошел ко сну. И он уже не мог слышать, как Неле сказала: «Они в горшке за вьюшкой», и не мог видеть, как Уленшпигель пробрался через сарай в кухню, отодвинул вьюшку, нашел горшок с деньгами, вернулся на Катлинин двор и, сообразив, что искать деньги будут в доме, а не снаружи, зарыл деньги возле колодца.
Потом Уленшпигель и Неле вернулись к Сооткин и застали несчастную супругу в слезах.
— Муж! Бедный мой муж! — все повторяла она.
Неле и Уленшпигель пробыли с ней до утра.
72
На другой день мощные удары borgstorm'а созвали судей к Vierschare.
Усевшись на четырех скамьях вокруг дерева правосудия, они снова задали Клаасу вопрос, не намерен ли он отказаться от своих заблуждений.
Клаас воздел руки к небу.
— Господь Иисус Христос видит меня с небесной вышины, — сказал он. — Христос показал мне свой свет в то самое мгновение, когда родился сын мой Уленшпигель. Где-то он теперь странствует? Сооткин, кроткая моя подруга, не падай духом!
Затем он обратил взор на липу и в гневе воскликнул:
— Полдник и сушь! Лучше бы вы погубили все деревья в отчем краю — только бы не видеть, как под их сенью выносят смертный приговор свободе совести. Где ты, мой сын Уленшпигель? Я был с тобою суров. Господа судьи, сжальтесь надо мной, судите меня, как судил бы всемилостивый господь.
Все, кроме судей, утирали слезы, слушая Клааса.
Затем он спросил, не заслужил ли он прощения.
— Я трудился без устали, зарабатывал мало, — сказал он, — я был добр к беднякам и приветлив со всеми. Я покинул лоно римской церкви по наитию духа святого. Я прошу лишь одной-единственной милости: заменить мне сожжение пожизненным изгнанием из Фландрии, — ведь это тоже тяжкое наказание.
Весь народ зашумел:
— Сжальтесь, господа судьи, помилуйте его!
Один лишь Иост Грейпстювер молчал.
Судья знаком призвал присутствующих к порядку и напомнил, что король именным указом воспрещает просить о помиловании еретиков; к этому он добавил, что если Клаас откажется от своих заблуждений, то сожжение будет ому заменено повешением.
А в народе говорили:
— Костер ли, веревка ли — все одно смерть.
И женщины плакали, а мужчины глухо роптали.
Но Клаас сказал:
— Я ни от чего отрекаться не стану. Поступайте с моим телом по своему милосердию.
Тут настоятель собора в Ренне Тительман воскликнул:
— Противно смотреть, как эта еретическая мразь задирается перед судьями! Сжечь тело еретика — это слишком легкое наказание. Надобно спасти его душу, надобно под пыткой заставить его отказаться от заблуждений, дабы народ не соблазнился, глядя, как умирают нераскаянные еретики.
При этих словах женщины зарыдали еще громче, а мужчины сказали:
— Раз человек признался, ему полагается наказанье, а не пытки.
Суд решил, что коль скоро законами пытка в сем случае не предусмотрена, то и не должно применять ее к Клаасу. Когда же ему еще раз предложили отречься, он отвечал:
— Не могу.
На основании таких-то и таких-то королевских указов Клаас был признан виновным в симонии, поелику он продавал индульгенции, в ереси и в укрывательстве еретиков и, вследствие того приговорен к сожжению перед зданием ратуши. В назидание всем прочим тело его в течение двух дней долженствовало быть выставлено у позорного столба, а затем предано земле там, где обыкновенно хоронили казненных.
Суд присудил доносчику Иосту Грейпстюверу, имя которого не было, однако, названо, пятьдесят флоринов с первой сотни и по десять с каждой следующей сотни той суммы, которая останется после смерти Клааса.
Выслушав приговор, Клаас обратился к старшине рыбников:
— Продажная душа! На гроши польстился — и сделал вдовой счастливую жену, а веселого сына — бедным сиротой! Помяни мое слово — ты умрешь не своею смертью.
Судьи не прерывали Клааса — они все, за исключением Тительмана, глубоко презирали доносчика.
Тот был бледен как полотно от стыда и от злобы.
А Клааса увели в тюрьму.
73
Неле, Уленшпигель и Сооткин узнали о приговоре на другой день, накануне дня казни Клааса.
Они обратились к судьям с просьбой о свидании; Уленшпигелю и Сооткин это было разрешено, а Неле получила отказ.
Уленшпигель и Сооткин вошли в тюрьму и увидели, что Клаас прикован длинной цепью к стене. В тюрьме было сыро, и оттого печку протапливали. Фландрские законы предписывают обходиться помягче с приговоренными к смертной казни: давать им хлеба, мяса, сыру, вина. Однако алчные тюремщики часто нарушают этот закон, многие из них съедают львиную долю и все самое лучшее из того, что полагается несчастным узникам.
Клаас со слезами обнял Уленшпигеля и Сооткин, однако первый, у кого глаза стали сухи, был он, как и подобало мужчине и главе семьи.
Сооткин рыдала, а Уленшпигель сказал:
— Я сейчас разобью проклятые эти оковы!
Сооткин, плача, промолвила:
— Я пойду к королю Филиппу — он тебя помилует.
— Король наследует достояние мучеников, — возразил Клаас. — Возлюбленные жена и сын! В муке суждено мне покинуть сей мир и в тревоге. Меня пугают телесные страдания и угнетает мысль, что без меня вы останетесь нищими и убогими, потому что король все у вас отберет.
— Вчера мы с Неле спрятали деньги, — шепнул Уленшпигель.
— Вот это хорошо! — молвил Клаас. — По крайней мере, доносчику ничего не достанется.
— Чтоб он сдох! — сказала Сооткин, и в ее сухих глазах сверкнула ненависть.
Но Клаас думал о деньгах.
— Милый мой Тилькен, ты молодчина! — сказал он. — Стало быть, моей вдове Сооткин на старости лет голодать не придется.
И тут Клаас прижал ее к своей груди, а Сооткин при мысли о том, что скоро она лишится нежной опоры, горькими слезами заплакала.
Клаас между тем вновь устремил взор на Уленшпигеля и сказал:
— Сын мой! Ты, как и все сорванцы, шатаясь по дорогам, немало грешил. Больше так не делай, мой мальчик, не оставляй убитую горем вдову — ведь ты мужчина, ты должен быть ей защитой и опорой.
— Хорошо, отец, — сказал Уленшпигель.
— Бедный мой муж! — обнимая Клааса, воскликнула Сооткин. — Чем мы с тобой провинились? Видит бог, жили мы с тобой тихо, скромно, честно и дружно, ранним утром брались за работу, вечером ели хлеб наш насущный и благодарили господа. Я пойду к королю и вопьюсь в него ногтями. Господи боже, мы ни в чем не виноваты!
Но тут вошел тюремщик и сказал, что пора уходить.
Сооткин попросила позволения остаться. Клаас чувствовал, как горит у нее лицо, как текут у нее по щекам обильные слезы, как дрожит и трепещет у него в объятиях все ее тело. Он тоже попросил тюремщика, чтобы тот позволил ей побыть с ним.
Но тюремщик снова напомнил, что пора уходить, и вырвал Сооткин из объятий Клааса.
Клаас сказал Уленшпигелю:
— Береги ее!
Тот обещал. Сооткин оперлась на руку Уленшпигеля, и они вышли.
74
Наутро, в день казни, пришли соседи и из жалости заперли в доме Катлины Уленшпигеля, Сооткин и Неле.
Но они не подумали о том, что те могут издали слышать вопли страдальца и видеть из окон пламя костра.
Катлина бродила по городу, качала головой и приговаривала:
— Пробейте дыру — душа просится наружу.
В девять часов утра Клаас в рубахе, со связанными за спиной руками, был выведен из тюрьмы. Согласно приговору, костер должны были разложить на Соборной улице, у столба, против входа в ратушу. Палач и его подручные еще не успели положить поленья.
Клаас терпеливо ждал под караулом, когда они кончат свое дело, а профос верхом на коне, стражники и девять вызванных из Брюгге ландскнехтов с трудом сдерживали глухо роптавшую толпу.
Все в один голос говорили, что бесчеловечно казнить ни в чем не повинного, безобидного, душевного старого труженика.
Вдруг все попадали на колени и закрестились. На колокольне Собора богоматери раздался похоронный звон.
Катлина тоже стояла в толпе, в первом ряду. Не отводя совершенно бессмысленного взгляда от Клааса и от костра, она качала головой и приговаривала:
— Огонь! Огонь! Пробейте дыру — душа просится наружу.
Услышав колокольный звон, Сооткин и Неле перекрестились. Но Уленшпигель не перекрестился — он сказал, что он не желает молиться богу так, как молятся эти палачи. Он бегал по всему дому, пытался выломать двери, выпрыгнуть в окно, но и двери и окна были на запоре.
Вдруг Сооткин вскрикнула и закрыла лицо передником:
— Дым!
В эту минуту все трое с ужасом увидели поднимающееся к небу черное облако дыма.
Палач с трех сторон, во имя отца и сына и святого духа, разжег костер, на котором стоял привязанный к столбу Клаас, и дым этот шел от костра.
Клаас посмотрел вокруг, и как скоро он уверился, что в толпе нет ни Сооткин, ни Уленшпигеля и что они не видят его мучений, у него отлегло от сердца.
Слышно было лишь, как молится Клаас, как трещат поленья, как ропщут мужчины, как плачут женщины, как приговаривает Катлина: «Потушите огонь, пробейте дыру — душа просится наружу», — и как заунывно перезванивают колокола.
Внезапно Сооткин стала белее снега, задрожала всем телом и, уже не плача, показала пальцем на небо. Над кровлями домишек взвился длинный и тонкий язык пламени. Язык этот, то поднимаясь, то прячась, причинял нестерпимые муки Клаасу: по воле ветра пламя то жгло ему ноги, то поджигало бороду, и она начинала дымиться, то лизало волосы на голове.
Уленшпигель схватил мать и попытался оторвать от окна. В это мгновение они услыхали пронзительный крик — это кричал Клаас, тело которого горело только с одной стороны. Потом он умолк. Слезы струились у него по лицу.
И тут послышался рев толпы. Мужчины, женщины, дети кричали:
— Клаас приговорен к сожжению на большом огне, а не на медленном! Раздуй огонь, палач!
Палач принялся раздувать, но пламя не разгоралось.
— Лучше удави его! — кричал народ.
В профоса полетели камни.
— Огонь! Большой огонь! — воскликнула. Сооткин.
И точно: багровое пламя вымахнуло к самому небу.
— Сейчас он умрет, — сказала вдова. — Господи боже! Прими с миром дух невинного страдальца! Почему здесь нет короля? Я бы своими руками вырвала ему сердце!
С соборной колокольни плыл похоронный звон.
И еще слышала Сооткин, как страшно закричал Клаас, но она не видела, как тело его корчилось на огне, как исказила мука его черты, как он вертел головой и как она ударялась о столб. Народ кричал, свистал, женщины и дети бросали камни, но вдруг костер запылал со всех сторон, и все ясно услышали голос Клааса, прорвавшийся сквозь дым и пламя:
— Сооткин! Тиль!
Затем голова его, точно налитая свинцом, бессильно свесилась на грудь.
И тогда жалобный, пронзительный крик донесся из дома Катлины. Потом все стихло, только бедная сумасшедшая качала головой и приговаривала:
— Душа просится наружу.
Клаас скончался. Костер догорал — пламя лизало подножье столба. Бедное тело Клааса, привязанное к столбу за шею, обуглилось.
А с соборной колокольни по-прежнему плыл похоронный звон.
75
В доме Катлины, прислонившись к стене и понурив голову, стояла Сооткин. Она молча, без слов, обнимала Уленшпигеля.
Уленшпигель тоже хранил молчание — его пугал лихорадочный огонь, сжигавший тело его матери.
Соседи, придя после казни, сказали, что Клаас отмучился.
— Он в селениях райских, — сказала вдова.
— Молись! — сказала Неле Уленшпигелю и дала ему свои четки, но он их не взял, потому что их освятил папа.
Когда настала ночь, Уленшпигель сказал вдове:
— Ложись, мать. Я посижу с тобой.
Но Сооткин воспротивилась.
— Незачем сидеть, — сказала она, — молодым людям сов необходим.
Неле постелила обоим в кухне и ушла.
Они остались вдвоем; печка дотапливалась.
Сооткин легла, Уленшпигель тоже, но он слышал, как она плачет под одеялом.
Ночную тишину нарушал предвестник осени — ветер: он то налетал на деревья, что росли у канала, и они шумели, как волны моря, то швырял в окна песком.
Уленшпигелю почудилось, что в кухне кто-то ходит. Он огляделся — никого нет. Прислушался — только ветер воет в трубе да Сооткин всхлипывает под одеялом.
Потом опять послышались шаги, и кто-то вздохнул у него над головой.
— Кто здесь? — спросил он.
Вместо ответа кто-то три раза ударил по столу. Уленшпигелю стало страшно.
— Кто здесь? — дрожащим голосом повторил он свой вопрос.
И снова ответом ему были три удара по столу, а вслед за тем чьи-то две руки обхватили его, кто-то с зияющей раной в груди наклонился над ним, и Уленшпигель почувствовал прикосновение шершавой кожи и запах горелого.
— Отец! — сказал Уленшпигель. — Это твое бедное тело наклонилось надо мной?
Ответа не последовало, и, несмотря на то, что призрак стоял рядом, Уленшпигель услыхал крик снаружи:
— Тиль! Тиль!
Сооткин вскочила и подошла к Уленшпигелю.
— Ты ничего не слышишь? — спросила она.
— Слышу, — отвечал он. — Отец меня кличет.
— Я почувствовала рядом с собою чье-то холодное тело, — сказала Сооткин. — Зашевелились простыни, заколыхался полог, и мне послышался голос: «Сооткин!» Голос был тихий, как дуновение ветерка, а затем — шаги, легкие, как полет мошки.
Тут она обратилась к духу Клааса:
— Муж мой! Если ты там, на небе, у бога, чего-нибудь хочешь, скажи нам, и мы исполним твое желание.
Внезапно бурный порыв ветра распахнул дверь, наполнив комнату пылью, и тогда Уленшпигель и Сооткин услышали, что вдали каркают вороны.
Уленшпигель и Сооткин пошли на место казни.
Ночь была темная; северный ветер гнал по небу облака, они мчались, как стадо оленей, и лишь кое-где, в прозорах, на мгновенье проглядывали звезды.
У костра ходил взад и вперед общинный стражник. Слышны были его шаги по сухой земле и карканье ворона — должно быть, ворон сзывал других, потому что издали доносилось ответное карканье.
Приблизившись к костру, Уленшпигель и Сооткин увидели, что ворон опустился на плечо Клааса, услыхали стук его клюва, и тут слетелось много воронья.
Уленшпигель хотел было разогнать воронье, но стражник ему сказал:
— Эй, колдун, ты пришел за рукой страстотерпца? Да будет тебе известно, что рука сожженного не поможет тебе стать невидимкой, — для этого нужна рука повешенного, а ведь тебя самого когда-нибудь повесят.
— Ваше благородие, — сказал Уленшпигель, — я не колдун, я осиротевший сын того, кто привязав к столбу, а эта женщина — его вдова. Мы хотим только приложиться к его телу и взять на память частицу праха. Не препятствуйте нам, ваше благородие, — вы ведь не чужеземный солдат, вы наш соотечественник.
— Ну, ладно, — сказал стражник.
Сирота и вдова поднялись по обуглившимся поленьям к телу Клааса. Обливаясь слезами, они поцеловали его лицо.
На месте сердца пламя выжгло у Клааса глубокую дыру, и Уленшпигель достал оттуда немного пепла, потом они с Сооткин опустились на колени и начали молиться. Когда забрезжил свет, они все еще были здесь. Но на рассвете стражник, подумав, Что ему может влететь за поблажку, прогнал их.
Дома Сооткин взяла лоскуток красного и лоскуток черного шелка, сшила мешочек и высыпала в него пепел. К мешочку она пришила две ленточки, чтобы Уленшпигель мог носить его на шее. Надевая на него мешочек, она сказала:
— Пепел — это сердце моего мужа, красный шелк — это его кровь, черный шелк — это знак нашего траура, — пусть же это вечно будет у тебя на груди, как пламя мести его палачам.
— Хорошо, — сказал Уленшпигель.
Вдова обняла сироту, и в этот миг взошло солнце.
76
На другой день общинные стражники и глашатаи явились в дом Клааса, с тем чтобы вынести все его пожитки на улицу и продать с молотка. Из окон Катлининого дома Сооткин было видно, как вынесли железную колыбель с медными украшениями, которая в доме Клаасов переходила от отца к сыну, в том самом доме, где когда-то родился несчастный страдалец и где родился Уленшпигель. Потом вынесли кровать, на которой Сооткин зачала, младенца и на которой она, положив голову на плечо мужа, провела столько счастливых ночей. За кроватью последовали, квашня, ларь, где в лучшие времена хранилось мясо, сковороды, чугуны, котлы, уже не блестевшие, как в пору благоденствия, но грязные и запущенные. Эти вещи напомнили Сооткин о семейных пиршествах, благоуханье которых привлекало соседей.
Потом показались на свет божий бочонок simpel'я[115], полубочонок dobbelkuyt'а и корзинка, по меньшей мере с тридцатью бутылками вина. Все это было вынесено на улицу, все до последнего гвоздя, — бедная вдова своими ушами слышала, как этот последний гвоздь со стуком и скрежетом вытаскивали из стены.
Без воплей и жалоб, с холодным отчаянием смотрела Сооткин, как расхищают ее скромное богатство. Глашатай зажег свечу, и началась распродажа. Свеча еще не догорела, а старшина рыботорговцев все уже скупил за бесценок, с тем чтобы потом перепродать. При этом у него было такое же сладострастное выражение лица, как у ласки, высасывающей куриный мозг.
«Недолго тебе радоваться, убийца», — думал Уленшпигель.
Торги между тем кончились, стражники перерыли весь дом, но денег не нашли.
— Плохо ищете! — возмущался рыбник. — Я знаю наверное, что полгода назад у Клааса было семьсот каролю.
«Денежки тебе улыбнулись, убийца», — думал Уленшпигель.
Неожиданно Сооткин обратилась к нему.
— Вон доносчик! — сказала она, показывая на рыбника.
— Я знаю, — сказал Уленшпигель.
— Ты примиришься с тем, что он завладеет кровью твоего отца? — спросила она.
— Я бы предпочел, чтобы меня целый день пытали, — отвечал Уленшпигель.
— Я тоже, — подхватила Сооткин. — Смотри только, не проговорись из жалости, как бы меня на твоих глазах ни терзали!
— Но ведь ты женщина! — возразил Уленшпигель.
— Дурачок! — сказала она. — Коли я тебя родила, стало быть, знаю, что такое муки. Но вот если я увижу, что тебя… — Она внезапно побледнела. — Тогда я помолюсь божьей матери, которая видела сына своего на кресте, — добавила Сооткин и со слезами стала ласкать Уленшпигеля.
Так был заключен между ними союз ненависти и стойкости.
77
Рыбник уплатил лишь половину стоимости всех вещей, а другая половина была ему пока что зачтена за донос впредь до нахождения тех самых семисот каролю, ради которых он и совершил злодеяние.
Сооткин проводила ночи в слезах, а днем хлопотала по хозяйству. Уленшпигель часто слышал, как она разговаривает сама с собой:
— Если деньги достанутся рыбнику, я руки на себя наложу.
Понимая, что это не пустые слова, Уленшпигель и Неле настойчиво уговаривали ее перебраться в Вальхерен, где жили ее родственники. Сооткин на это отвечала, что ей нет нужды убегать от червей, которые все равно скоро съедят ее вдовье тело.
Между тем рыбник снова явился к коронному судье и сказал, что покойный всего несколько месяцев назад получил семьсот каролю, что он был скупенек, неприхотлив и, конечно, не мог истратить такие большие деньги — наверно, они у него где-нибудь спрятаны.
Судья спросил его, что ему сделали Уленшпигель и Сооткин, почему он, отняв у Уленшпигеля отца, а у Сооткин мужа, продолжает так жестоко преследовать их.
Рыбник ему ответил, что он, как почетный гражданин города Дамме, намерен свято соблюдать законы империи и тем заслужить милость его величества.
Сказавши это, рыбник подал судье донос, а затем перечислил свидетелей, которые-де по совести вынуждены будут подтвердить его показания.
Суд старшин, выслушав свидетелей, нашел возможным применить пытку. Во исполнение сего решения суд направил стражников в дом Клааса для произведения вторичного обыска и уполномочил их препроводить мать и сына в тюрьму, где обвиняемых надлежало содержать впредь до прибытия из Брюгге палача, за которым был послан нарочный.
Когда Уленшпигель и Сооткин со связанными назади руками шли по городу, рыбник стоял на пороге своего дома и смотрел на них.
Все жители Дамме вышли из своих домов. Матиссен, ближайший сосед рыбника, слышал, как Уленшпигель крикнул доносчику:
— Бог тебя накажет, вдовий палач!
А Сооткин прибавила:
— Не своей ты смертью умрешь, мучитель сирот!
Поняв из этих слов, что вдову с сиротой ведут в тюрьму по новому доносу Грейпстювера, жители осыпали его бранью, а вечером выбили ему стекла, дверь вымазали нечистотами.
И он не смел выйти из дома.
78
К десяти часам утра Уленшпигеля и Сооткин привели в застенок.
Здесь находились коронный судья, секретарь суда, старшины, брюггский палач, его подручный и лекарь.
Судья задал Сооткин вопрос, не утаила ли она какого-либо имущества, принадлежащего императору. Она же ему на это ответила, что утаивать ей нечего, ибо у нее ничего нет.
— А ты что скажешь? — обратился судья к Уленшпигелю.
— Семь месяцев тому назад мы получили по завещанию семьсот каролю, — отвечал он. — Часть этих денег мы истратили. Где остальные — понятия не имею. Полагаю, однако ж, что их стащил тот самый прохожий, который, на нашу беду, заходил к нам, потому что с тех пор я денег не видел.
Судья спросил, настаивают ли они на своей невиновности. Уленшпигель и Сооткин ответили, что ничего принадлежащего императору они не укрывали.
Тогда судья с важным и печальным видом объявил:
— Улики против вас велики, обвинение обосновано, так что, если вы не сознаетесь, придется допросить вас с пристрастием.
— Пощадите вдову! — сказал Уленшпигель. — Рыбник скупил все наше добро.
— Дурачок! — молвила Сооткин. — Мужчине не вынести того, что вытерпит женщина.
Видя, что Уленшпигель от страха за нее стал бледен как смерть, она прибавила:
— У меня есть ненависть и стойкость.
— Пощадите вдову! — сказал Уленшпигель.
— Пытайте меня, а его не трогайте, — сказала Сооткин.
Судья спросил палача, запасся ли он всеми орудиями, с помощью коих узнается истина.
— Все под рукой, — отвечал палач.
Судьи, посовещавшись, решили, что для установления истины надобно начать с матери.
— Нет такого бессердечного сына, который, видя, как мать страдает, не сознался бы в преступлении, чтобы избавить ее от мук, — заметил один из старшин. — И то же самое сделает для своего детища всякая мать, хотя бы у нее было сердце тигрицы.
Судья обратился к палачу:
— Посади женщину на стул и зажми ей руки и ноги в тиски.
Палач исполнил приказ.
— Не надо, не надо, господа судьи! — вскричал Уленшпигель. — Посадите меня вместо нее, сломайте мне пальцы на руках и ногах, а вдову пощадите!
— Рыбник! — напомнила ему Сооткин. — У меня есть ненависть и стойкость.
Уленшпигель стал еще бледнее, весь затрясся и от волнения не мог произнести ни слова.
Тиски представляли собой самшитовые палочки; палочки эти вставлялись между пальцев как можно плотней и были столь хитроумно соединены веревочками, что палач по воле судьи мог сдавить сразу все пальцы, сорвать мясо с костей, раздробить кости или же причинить своей жертве легкую боль.
Палач вложил руки и ноги Сооткин в тиски.
— Зажми! — приказал судья.
Палач стиснул изо всех сил.
Тогда судья, обратившись Сооткин, сказал:
— Укажи место, где спрятаны деньги.
— Не знаю, — простонала она в ответ.
— Дави сильней, — приказал судья.
Чтобы помочь Сооткин, Уленшпигель пытался высвободить руки, связанные за спиной.
— Не давите, господа судьи! — умолял он. — Косточки у женщины тоненькие, хрупкие. Их птица клювом раздробит. Не давите! Я не с вами говорю, господин палач, — ваше дело подневольное. Я обращаюсь к вам, господа судьи: сжальтесь, не давите!
— Рыбник! — снова напомнила ему Сооткин.
И Уленшпигель смолк.
Однако, видя, что палач все сильнее сжимает тиски, он опять закричал:
— Сжальтесь, господа! Вы раздавите вдове пальцы, — как же она будет работать? Ой, ноги! Как же она будет ходить? Сжальтесь, господа!
— Не своей ты смертью умрешь, рыбник! — вскричала Сооткин.
А кости ее трещали, а кровь капала с ног на землю.
Уленшпигель все это видел и, дрожа, от душевной боли и гнева, твердил:
— Ведь это женские косточки — не сломайте их, господа судьи!
— Рыбник! — стонала Сооткин.
Голос у нее был точно у призрака — сдавленный и глухой.
Уленшпигель дрожал и кричал:
— Господа судьи, у нее и руки и ноги в крови! Переломали кости вдове!
Лекарь дотронулся пальцем — Сооткин дико закричала.
— Признайся за нее, — сказал судья Уленшпигелю.
Но тут Сооткин посмотрела на сына широко раскрытыми, как у покойника, глазами. И понял Уленшпигель, что говорить нельзя, и, не сказав ни слова, заплакал.
Тогда судья сказал:
— Эта женщина твердостью духа не уступит мужчине, — посмотрим, как она будет себя вести, когда мы начнем пытать ее сына.
Сооткин не слышала слов судьи — от страшной боли она потеряла сознание.
Лекарь не пожалел уксуса и привел ее в чувство. Уленшпигеля раздели догола, и так он стоял нагой перед матерью. Палач сбрил ему волосы на голове и на теле и осмотрел, нет ли где какого подвоха. На спине у Уленшпигеля он обнаружил черное родимое пятно. Несколько раз он втыкал в это место длинную иглу, но так как оттуда потекла кровь, то он решил, что ничего колдовского пятно в себе не заключает. По приказу судьи Уленшпигель был привязан веревками за руки к блоку, подвешенному к потолку, так что палач по воле судей мог рывком поднимать и опускать свою жертву, что он и проделал с Уленшпигелем девять раз подряд, предварительно привязав к его ногам две гири весом в двадцать пять фунтов каждая. После девятого рывка на запястьях и лодыжках лопнула кожа, кости ног начали выходить из суставов.
— Сознавайся, — сказал судья.
— Не в чем, — отвечал Уленшпигель.
Сооткин смотрела на сына, но не имела сил ни кричать, ни просить. Она лишь вытянула руки и шевелила окровавленными пальцами, как бы моля избавить ее от этого ужасного зрелища.
Палач еще раз вздернул и опустил Уленшпигеля. Кожа на лодыжках и запястьях лопнула еще сильнее, кости ног еще дальше вышли из суставов, но он даже не вскрикнул.
Сооткин шевелила окровавленными руками и плакала.
— Скажи, где прячешь деньги, и мы тебя простим, — сказал судья.
— Пусть просит прощения рыбник, — отвечал Уленшпигель.
— Ты что же это, смеешься над судьями? — спросил один из старшин.
— Смеюсь? Что вы! Я только делаю вид, уверяю вас, — отвечал Уленшпигель.
По приказу судьи палач развел в жаровне огонь, а подручный зажег две свечи.
Сооткин, увидев эти приготовления, приподнялась, но не могла стать на свои израненные ноги и снова села.
— Уберите огонь! — закричала она. — Господа судьи, пожалейте бедного юношу! Уберите огонь!
— Рыбник! — заметив, что дух ее слабеет, напомнил Уленшпигель.
— Поднимите Уленшпигеля на локоть от пола, подставьте ему под ноги жаровню, а свечи держите под мышками, — приказал судья.
Палач так и сделал. Оставшиеся под мышками у Уленшпигеля волосы дымились и потрескивали.
Уленшпигель закричал, а мать, рыдая, молила:
— Уберите огонь!
— Скажи, где прячешь деньги, и ты будешь освобожден, — сказал судья и обратился к Сооткин: — Сознайся за него, мать!
— А кто ввергнет рыбника в огонь вечный? — спросил Уленшпигель.
Сооткин отрицательно качнула головой в знак того, что ей сказать нечего. Уленшпигель скрежетал зубами, а Сооткин смотрела на него, и ее безумные глаза были полны слез.
Но когда палач, потушив свечи, подставил Уленшпигелю под ноги жаровню, Сооткин крикнула:
— Господа судьи, пожалейте его! Он сам не знает, что говорит.
— Почему же он не знает, что говорит? — задал ей коварный вопрос судья.
— Не спрашивайте ее ни о чем, господа судьи, — сказал Уленшпигель, — вы же видите, что она обезумела от боли. Рыбник солгал.
— И ты стоишь на том, женщина? — обратился к ней судья.
Сооткин утвердительно кивнула головой.
— Сожгите рыбника! — крикнул Уленшпигель.
Сооткин молча подняла кулак, точно проклиная кого-то.
Но вдруг она, увидев, что под ногами сына жарче разгорелся огонь, запричитала:
— Господи боже! Царица небесная! Прекратите эти мученья! Господа судьи, сжальтесь, уберите жаровню!
— Рыбник! — снова простонал Уленшпигель.
Кровь хлынула у него из носа и изо рта, голову он уронил на грудь и безжизненно повис над жаровней.
— Умер мой бедный сиротка! — воскликнула Сооткин. — Они его убили! И его тоже убили! Уберите жаровню, господа судьи! Дайте мне обнять его, дайте нам вместе умереть! Ведь не убегу же я на своих переломанных ногах!
— Отдайте сына вдове, — распорядился судья.
Затем судьи Начали совещаться.
Палач развязал Уленшпигеля, положил его, нагого и окровавленного, на колени к Сооткин, и тут лекарь принялся вправлять ему кости.
А Сооткин целовала Уленшпигеля, плакала и причитала:
— Сыночек мой, мученик несчастный! Если господа судьи позволят, я тебя выхожу, только очнись, мальчик мой Тиль! Если же вы убили его, господа судьи, я пойду к его величеству, ибо вы нарушили все права и законы, и тогда вы увидите, что может сделать бедная женщина со злыми людьми. Но вы отпустите нас, господа судьи. У нас с ним ничего не осталось, мы обездоленные люди, на которых отяготела десница господня.
Посовещавшись, судьи вынесли нижеследующий приговор:
«Исходя из того, что вы, Сооткин, вдова Клааса, и вы, Тиль, по прозвищу Уленшпигель, сын Клааса, будучи подвергнуты по обвинению в сокрытии имущества, в отмену ранее существовавших на него прав подлежавшего конфискации в пользу его величества короля, жестокой пытке и достаточно суровым испытаниям, ни в чем не сознались, суд за неимением достаточных улик, а также снисходя к плачевному состоянию ваших, женщина, членов и приняв в соображение претерпенные вами, мужчина, тяжкие муки, постановляет из-под стражи вас обоих освободить и разрешает вам поселиться у того горожанина или у той горожанки, коим заблагорассудится, несмотря на вашу бедность, пустить вас к себе.
Сей приговор вынесен в Дамме, в лето от рождества Христова 1558, октября двадцать третьего дня».
— Благодарствуйте, господа судьи! — сказала Сооткин.
— Рыбник! — простонал Уленшпигель.
Мать с сыном отвезли на телеге к Катлине.
79
В том же году, а именно в пятьдесят восьмом году того столетия, к Сооткин пришла Катлина и сказала:
— Нынче ночью я умастилась чудодейственной мазью, полетела на соборную колокольню и увидела духов стихий — они передавали молитвы людей ангелам, а те уносили их на небеса и повергали к подножию престола господня. Все небо было усеяно яркими звездами. Вдруг от костра внизу отделилась чья-то черная тень, взлетела на колокольню и очутилась рядом со мной. Я узнала Клааса — он был такой же, как в жизни, и одежда на нем была угольщицкая. «Ты зачем, спрашивает, прилетела на соборную колокольню?» — «А ты, говорю, чего порхаешь, как птичка, и куда путь держишь?» — «На суд, говорит. Ты разве не слыхала трубу архангела?» Он был от меня совсем близко, и я почувствовала, что тело у него не как у живых — бесплотное, воздушное, и я вошла в него, словно в теплое облако. Под ногами у меня была Фландрская земля, на ней там и сям мерцали огоньки, и я подумала: «На тех, кто рано встает и трудится допоздна, почиет благодать господня».
И гремела, гремела в ночи труба архангела. И появилась еще одна тень, и летела она из Испании. Гляжу: дряхлый старик, подбородок туфлей, губы в варенье. На нем алого бархата мантия, подбитая горностаем, на голове императорская корона, в одной руке рыбка, в другой кружка пива.
Как видно, он притомился и тоже сел на колокольне. Я опустилась перед ним на колени и говорю: «Ваше венценосное величество, я повергаюсь пред вами ниц, хоть и не знаю вас. Откуда вы и что вы делаете на земле?» — «Я, говорит, сейчас прямо из Эстремадуры, из монастыря святого Юста, я — бывший император Карл Пятый»[116]. — «А куда же, говорю, вы собрались в такую студеную ночь? Глядите, небо заволакивают снеговые тучи». Отвечает: «На суд». Только хотел император съесть свою рыбку и выпить пива, как вновь загремела труба архангела. Император заворчал, что ему не дали поужинать, но все-таки полетел. Я — за ним. Его мучила одышка, он икал, блевал — смерть застала его, когда у него был расстроен желудок. Мы поднимались все, выше и выше, подобно стрелам, пущенным из кизилового лука. Мимо нас мелькали звезды, чертя по небу огнистые линии. Мы видели, как звезды срывались и падали. А труба архангела все гремела. О, какой то был громоподобный трубный глас! При каждом раскате воздух сотрясался и облачная пелена разрывалась, как если бы на нее подул ураган. И перед нами открывалась даль. Когда же мы поднялись на высоту необозримую, то увидели Христа во всей его славе, сидящего на престоле звездном, одесную его — ангела, заносящего на бронзовую скрижаль все дела человеческие, ошую — матерь божью, неустанно молящую сына своего за грешников.
Клаас и император Карл преклонили колена пред престолом божиим.
Ангел сбросил с головы императора корону.
«Здесь нет другого царя, кроме Христа», — сказал он.
Его святейшему величеству это, видать, не понравилось, но все-таки он обратился с покорной просьбой:
«Путь, говорит, был долгий, я проголодался, — нельзя ли мне съесть рыбку и выпить пива?»
«Да ведь ты всю жизнь голодал, — отвечает ему ангел. — Ну да уж ладно, ешь и пей».
Император закусил и выпил.
А Христос его и спрашивает:
«С чистым ли сердцем явился ты на суд?»
«Думаю, что с чистым, милосердный боже, — ведь я исповедался», — отвечает император Карл.
«А ты, Клаас? — спрашивает Христос. — Император трепещет, а ты нет».
«Господи Иисусе, — отвечает Клаас, — совершенно чистых сердец, не бывает, и потому я тебя нисколько не боюсь, ибо ты един всеблаг и всеправеден, а все же мне страшно — больно много на мне грехов».
«Говори теперь ты, падаль», — обращается ангел к императору.
«Я, господи, перстами священнослужителей твоих был помазан на царство, — неуверенно начинает Карл, — я был королем кастильским, императором германским и королем римлян. Я неусыпно охранял власть, дарованную мне тобой, и того ради вешал, обезглавливал, живьем закапывал в землю и сжигал реформатов».
Но тут его перебил ангел.
«Ты, говорит, нас не проведешь, враль с больным животом! В Германии ты терпел реформатов, потому что ты их боялся, а в Нидерландах ты сек им головы, сжигал их, вешал и закапывал в землю живьем, потому что там у тебя была одна забота — как бы побольше взять меду с этих трудолюбивых пчел. Ты казнил сто тысяч человек не потому, чтобы ты возлюбил господа нашего Иисуса Христа, но потому, что ты был деспотом, тираном, разорителем своей страны, потому, что ты больше всего любил себя, а после себя — только мясо, рыбу, вино и пиво, — ведь ты был прожорлив, как пес, и впитывал в себя влагу, как губка».
«Теперь ты говори, Клаас», — сказал Христос.
Но тут поднялся ангел.
«Этому, говорит, нечего сказать. Он, как истинный сын бедного народа фламандского, был добр и работящ, любил трудиться, любил и веселиться, служил верой и правдой своим государям и полагал, что они будут к нему справедливы. У него были деньги, его схватили и, так как он приютил у себя реформата, сожгли на костре».
«Несчастный мученик! — воскликнула дева Мария. — Но здесь, на небе, в месте прохлаждения бьют ключи, текут реки молока и вина — пойдем, угольщик, я сама подведу тебя к ним».
Тут снова загремела труба архангела, и из преисподней взлетел к небу нагой красавец с железной короной на голове. На ободке короны было написано: «Отягчен печалью до Страшного суда».
Он приблизился к престолу божию и сказал Христу:
«Пока я твой раб, а потом стану твоим господином».
«Сатана! — сказала Мария. — Придет время, когда не будет ни рабов, ни господ и когда Христос, олицетворение любви, и сатана, олицетворение гордыни, будут называться: сила и мудрость».
«Женщина! Ты добра и прекрасна», — сказал сатана.
Затем он обратился к Христу и, указывая на императора, спросил:
«Что мне с ним делать?»
И сказал Христос:
«Отведи эту венценосную тлю в палату, где будут представлены все орудия пытки, применявшиеся в его царствование. Всякий раз, как кто-нибудь из невинных страдальцев подвергнется пытке водой, от которой люди надуваются, как пузыри, или пытке огнем, который жжет им подошвы и подмышки, или будет поднят на дыбу, на которой ему сломают кости, или же будет четвертован; всякий раз, как несчастная девушка, которую станут закапывать в землю живьем, воззовет к милосердию; всякий раз, как вольная человеческая душа испустит на костре последний вздох, пусть и он пройдет через все эти муки, пусть и он примет все эти казни, — тогда он наконец поймет, сколько горя может причинить злодей, властвующий над миллионами; пусть он гниет в тюрьме, умирает на плахе, томится в изгнании, вдали от отчизны; пусть он будет обесчещен, опозорен, бит плетьми; пусть он будет сначала богат, а потом пусть все его достояние отойдет в казну; пусть его схватят по оговору, пусть разорят дотла. Преврати его в смирное, забитое, полуголодное вьючное животное; преврати его в нищего — пусть просит милостыню и нарывается на оскорбления; преврати его в работника — пусть трудится, не жалея сил, и недоедает; когда же он примет множество телесных и душевных мук в образе человеческом, преврати его в пса — пусть он за свою верность получает одни побои; затем преврати его в невольника, и пусть его продадут на невольничьем рынке; затем — в солдата: пусть он повоюет за кого-то другого, пусть подставит грудь под пули неизвестно за что. Когда же, по прошествии трехсот лет, он изведает все муки и все напасти, отпусти его на свободу, и если он к этому времени станет таким же хорошим человеком, как Клаас, отведи его телу место вечного успокоения на зеленом лугу, под сенью чудного дерева, куда по утрам заглядывает солнышко и где в час полуденный бывает тень. И придут к нему друзья, и прольют слезу, и посадят на его могиле цветы воспоминания — фиалки».
«Смилуйся над ним, сын мой! — вступилась богородица. — Он не ведал, что творил, ибо власть ожесточает сердца».
«Нет ему прощенья», — молвил Христос.
«Нельзя ли мне хоть один стаканчик андалусского вина?» — взмолился его святейшее величество.
«Пойдем, — сказал сатана. — Время яств и питий для тебя миновало».
С этими словами он ввергнул в самую глубь преисподней душу злосчастного императора, все еще дожевывавшего рыбку. Сатана из жалости позволил ему доесть.
А душу Клааса матерь божья вознесла в самую высокую из горних обителей, туда, где звезды свешиваются гроздьями с небосвода. И там его омыли ангелы, и стал он юн и прекрасен. Потом они с серебряной ложечки накормили его rystpap'ом[117]. И тут в небесах протянулась завеса.
— Он в селениях райских, — сказала вдова.
— Пепел его бьется о мою грудь, — сказал Уленшпигель.
80
В продолжение следующих двадцати трех дней Катлина худела, бледнела, сохла — ее точно жег внутренний огонь, еще более жгучий, чем пламя безумия.
Она уже не кричала: «Огонь! Пробейте дыру! Душа просится наружу!» — теперь она все время находилась в восторженном состоянии и твердила своей дочке Неле:
— У меня есть муж. У тебя тоже должен быть муж. Красавец. Длиннокудрый. Ноги холодные, руки холодные, зато любовь жаркая!
Сооткин смотрела на нее грустным взглядом — ей казалось, что это какое-то новое помешательство.
А Катлина между тем продолжала:
— Трижды три — девять — священное число. У кого ночью глаза светятся, как у кошки, только тот видит тайное.
Однажды вечером Сооткин, слушая ее, жестом выразила недоверие. Но Катлина не унялась.
— Четыре в три под знаком Сатурна означают несчастье, под знаком Венеры — брак, — сказала она. — Руки холодные, ноги холодные, сердце горячее!
— Это все злочестивые языческие суеверия, — молвила Сооткин.
Катлина перекрестилась и сказала:
— Благословен Серый рыцарь! Неле надобен жених, красивый жених при шпаге, черный жених со светлым ликом.
— Вот, вот, — вмешался Уленшпигель, — побольше ей женихов, побольше, а я из них нарублю котлеток.
Эта вспышка ревности не укрылась от Неле, и она посмотрела на своего друга влажными от счастья глазами.
— Мне женихов не нужно, — сказала она.
— А придет он в серых одеждах, — твердила Катлина, — и новые сапожки на нем, и шпоры не такие, как у всех.
— Господи, спаси умалишенную! — воскликнула Сооткин.
— Уленшпигель! — обратилась к юноше Катлина. — Принеси нам четыре литра dobbelkuyt'a, а я пока что напеку heetekoek'ов: это во Франции такие оладьи пекут.
Сооткин на это заметила ей, что она не еврейка, почему же она празднует субботу?
— Потому что тесто подошло, — отвечала Катлина.
Уленшпигель взял английского олова кружку как раз на четыре литра.
— Как же быть? — обратился он к матери.
— Сходи! — сказала Катлина.
Сооткин сознавала, что она в этом доме не хозяйка, и оттого не стала перечить.
— Сходи, сынок, — сказала она.
Уленшпигель принес четыре литра dobbelkuyt'a.
Скоро кухня пропиталась запахом heetekoek'ов, и всем захотелось есть, даже горемычной Сооткин.
Уленшпигель ел с аппетитом. Катлина поставила перед ним большую кружку: он, мол, единственный мужчина в доме, глава семьи, и должен пить больше всех, а потом, дескать, споет.
Говоря это, она лукаво ему подмигнула, но Уленшпигель выпить выпил, а петь не пел. Глядя на бледную, как-то сразу рухнувшую Сооткин, Неле не могла удержаться от слез. Одна Катлина была весела.
После ужина Сооткин и Уленшпигель пошли, спать на чердаке; Катлина и Неле легли в кухне.
Уленшпигелю хмель ударил в голову, и в два часа ночи он спал как убитый; Сооткин, лежа, как все эти ночи, с открытыми глазами, просила царицу небесную послать ей сон, но царица небесная не слышала ее.
Внезапно на улице раздался крик, похожий на клекот орлана, — в ответ на кухне тоже раздался крик; вслед за тем до слуха Сооткин откуда-то издалека раз за разом долетели такие же, но только отдаленные крики, и всякий раз ей казалось, что ответные крики несутся из кухни.
Решив, что это ночные птицы, она не придала их крикам никакого значения. Но потом вдруг послышалось ржанье коней и стук подкованных копыт по камням мостовой. Сооткин распахнула слуховое окошко и увидела, что перед домом две оседланные лошади, фыркая, щиплют траву. Затем послышался женский крик, потом мужской угрожающий голос, удары, снова крики, вот хлопнула дверь, вот кто-то проворно взбирается по лестнице.
Уленшпигель храпел и ничего не слышал. Вдруг чердачная дверь отворилась. Всхлипывая и тяжело дыша, вбежала полураздетая Неле и сейчас же начала чем попало заставлять дверь: придвинула стол, стулья, ветхую жаровню. Гасли последние звезды, пели петухи.
Неле своей возней разбудила Уленшпигеля — он заворочался, но тут же уснул.
Неле кинулась да шею к Сооткин.
— Сооткин, — сказала она, — я боюсь, зажги свечку.
Сооткин зажгла. Неле тихо стонала.
Оглядев Неле, Сооткин обнаружила, что сорочка у нее разорвана на плече, а лоб, щека и шея точно исцарапаны ногтями.
— Неле! — обняв ее, воскликнула Сооткин. — Кто это тебя так изранил?
Девушка, все еще всхлипывая и дрожа, проговорила:
— Тише, Сооткин! А то нас сожгут на костре.
Между тем Уленшпигель, проснувшись, сощурился от пламени свечки.
— Кто там внизу? — спросила Сооткин.
— Тес! — прошептала Неле. — Тот, кого она мне прочит в мужья.
Вдруг послышался крик Катлины. У Неле и Сооткин подкосились ноги.
— Он бьет ее; он бьет ее из-за меня! — повторяла Неле.
— Кто там? — вскочив с постели, крикнул Уленшпигель.
Протерев глаза, он заметался по комнате и наконец схватил стоявшую в углу тяжеленную кочергу.
— Никого, никого! — зашептала Неле. — Не ходи туда, Уленшпигель!
Но он, не слушая, бросился к двери и расшвырял стол, стулья и жаровню. Внизу кричала не переставая Катлина. Неле и Сооткин держали Уленшпигеля на верхней ступеньке лестницы, одна за плечо, другая за ногу, и все твердили:
— Не ходи туда, Уленшпигель, — там бесы!
— Нелин жених — вот какой там бес! — кричал Уленшпигель. — Ну да я его сейчас женю на кочерге! Повенчаю железо с его спиной! Пустите!
Он долго не мог вырваться — у них был упор: одной рукой они держались за перила. Он протащил их несколько ступенек вниз, и от ужаса, что сейчас они встретятся лицом к лицу с бесами, они отпустили его. Уговоры на него не действовали. Как снежный ком, летящий с горы, он прыжками, скачками сбежал с лестницы, переступил порог кухни и застал Катлину в одиночестве — мертвенно-бледная при свете утренней зари, она бормотала:
— Ганс, не уезжай! Я не виновата, что Неле такая злая.
Уленшпигель не стал ее слушать. Он толкнул дверь в сарай и, уверившись, что там никого нет, забежал в огород, оттуда махнул на улицу: по улице, скрываясь, в тумане, мчались вдаль два коня. Он бросился в погоню, но они летели как вихрь, крутящий сухие листья.
Вернувшись, он, скрипя зубами от бессильной ярости, проговорил:
— Ее изнасиловали! Ее изнасиловали!
Произнося эти слова, он смотрел на Неле в упор, и глаза его горели недобрым огнем, а Неле, дрожа как в лихорадке, жалась к Сооткин и Катлине и говорила:
— Нет, Тиль, нет, мой любимый, нет!
И такие у нее были при этом печальные и правдивые глаза, что Уленшпигель не мог не поверить ей. Но все же забросал ее вопросами:
— Кто это кричал? Куда ускакали эти люди? Почему сорочка у тебя разорвана на плече и на спине? Почему у тебя лоб и щека расцарапаны?
— Слушай, Уленшпигель, — сказала Неле, — но только не подведи, а то нас сожгут. Вот уже двадцать три дня, как у Катлины — спаси господи ее душу! — завелся дружок — бес в черном одеянии, в сапогах со шпорами. Глаза у него сверкают, словно волны морские на ярком солнце.
— Зачем ты умчался, ненаглядный мой Ганс? — твердила Катлина. — А Неле злая.
А Неле продолжала свой рассказ:
— Он возвещает о своем прибытии орлиным клекотом. Видятся они по субботам. Мать говорит, что его поцелуи холодны и тело у него как лед. Когда она в чем-нибудь отказывает ему, он колотит ее. Один только раз получила она от него несколько флоринов — обыкновенно он у нее берет деньги.
Сооткин, сложив руки, молилась за Катлину. А Катлина с сияющим лицом говорила:
— Мое тело теперь не мое, душа моя теперь не моя — все твое. Ганс, ненаглядный мой, возьми меня опять на шабаш! Вот только Неле не хочет — Неле злая.
— На рассвете он уезжает, — продолжала девушка, — мать потом рассказывает мне очень странные вещи… Да не смотри ты на меня такими злыми глазами, Уленшпигель!.. Вчера она мне сказала, что какой-то красивый сеньор в сером одеянии, по имени Гильберт, сватается ко мне и скоро придет со мной познакомиться. Я ей на это ответила, что мне никакого мужа не надо — ни красавца, ни урода. И все-таки она материнскою властью заставила меня ждать, велела не ложиться, — ведь когда речь идет о сердечных делах, она рассуждает здраво. Мы уже почти разделись, обеим хотелось спать. Я задремала вон на том стуле. Когда они вошли, я не проснулась. Вдруг чувствую: кто-то меня обнимает и целует в шею. При свете полной луны глаза его сверкают, как гребни волн морских в июльский день перед грозой. Слышу, шепчет он мне: «Я Гильберт, твой муж. Будь моей — я тебя озолочу». От него пахло рыбой. Я оттолкнула его. Он хотел взять меня силой, но я справилась бы и с десятью такими, как он. Он только разорвал на мне сорочку, исцарапал лицо. И все твердил: «Будь моей — я тебя озолочу». А я ему: «Да, уж ты озолотишь, как все равно мою мать — ты у нее последний лиар готов выманить». Он с новой силой накинулся на меня, но ничего не мог поделать. А уж мерзок он, как труп. Я ему чуть глаза не выцарапала — он заорал от боли, а я вырвалась и убежала к Сооткин.
Катлина все твердила:
— А Неле злая. Зачем ты так быстро умчался, ненаглядный мой Ганс?
— Плохая ты мать, — сказала Сооткин, — твою дочь едва не обесчестили, а ты что глядела?
— А Неле злая, — твердила Катлина. — Я была с моим черным сеньором, как вдруг подбегает к нам серый дьявол с окровавленным лицом в говорит: «Поехали, приятель! В этом доме неладно: мужчины тут готовы биться насмерть, а у женщин на пальцах ножи». Оба бросились к своим коням и исчезли в тумане. А Неле злая!
81
На другой день, когда они пили горячее молоко, Сооткин сказала Катлине:
— Ты видишь, тоска и так меня скоро в могилу сведет, а ты мне и вовсе житья не даешь окаянным своим ведовством.
Но Катлина все твердила:
— Неле злая. Ганс, ненаглядный, вернись!
В ночь под среду опять явились оба беса. Неле с самой субботы ночевала у вдовы ван де Гауте — ей, дескать, неудобно ночевать у Катлины под одной кровлей с Уленшпигелем, молодым парнем.
Катлина приняла черного сеньора и его друга в keet'е — пристройке, предназначенной для стирки белья и печенья хлебов. Тут они натягивались старым вином и объедались копчеными бычьими языками — и то и другое всегда было к их услугам. Черный бес сказал Катлине:
— Нам для одного важного дела нужны большие деньги. Дай нам сколько можешь.
Катлина решила отделаться флорином, но они пригрозили убить ее. Помирились на двух золотых каролю и семи денье.
— В субботу не приходите, — сказала она. — Уленшпигель знает, что это ваш день, будет ждать вас с оружием и убьет. А тогда и я умру.
— Мы приедем во вторник, — объявили они.
В ту ночь Уленшпигель и Неле спали спокойно — они были уверены, что бесы являются только по субботам.
Катлина встала и заглянула в keet, не приехали ли ее дружки.
Она сгорала от нетерпения; с тех пор как она свиделась со своим Гансом, душевная ее болезнь пошла на убыль, так как подоплека болезни была, по уверению многих, любовная.
Бесы все не ехали, и Катлина томилась. Как скоро в стороне Слейса, в поле, раздался крик орлана, она пошла прямо на этот крик. Идя по лугу, она услыхала разговор двух бесов по ту сторону гатей.
Один настаивал:
— Половина — мне.
А другой возражал:
— Ничего ты не получишь. Все Катлинино — мое.
И пошла у них тут яростная перебранка, а поругались они из-за того, кому достанутся добро Катлины и Неле и-они сами. Полумертвая от страха, тише воды, ниже травы, Катлина услышала, что они дерутся. Потом один из них крикнул:
— Сталь холодна!
Вслед за тем — хрип и падение тяжелого тела.
В ужасе кинулась она домой. В два часа ночи снова раздался крик орлана, но уже в огороде. Она пошла отворить дверь и обнаружила, что на пороге стоит только один бес — ее дружок.
Она спросила:
— Что ты сделал с другим?
— Он больше не придет, — отвечал бес.
Он обнял ее, прижал к себе. И тело его показалось ей холоднее обычного.
А у Катлины голова была теперь ясная. Перед самым отъездом он потребовал у нее двадцать флоринов — все ее достояние. Она дала ему семнадцать.
На другой день она из любопытства пошла к гатям, но не обнаружила ничего — только в одном месте, на клочке земли величиною с могилу взрослого мужчины, нога ощутила, что почва под ней уходит, а на траве видны были следы крови. Но вечером дождик смыл кровь.
В следующую среду в огороде у Катлины опять клекотал орлан.
82
Всякий раз, когда нужно было платить Катлине часть общих расходов, Уленшпигель поднимал ночью камень, которым была завалена яма у колодца, и доставал каролю.
Как-то вечером все три женщины пряли. Уленшпигель вытачивал шкатулку, которую ему заказал коронный судья и на крышке которой он искусно вырезал великолепную псарню: свору геннегауских собак, критских сторожевых псов, отличающихся крайнею свирепостью, брабантских собак, так называемых ухоедов, которые всегда ходят парами, низеньких собачек на кривых лапках, собачек с хвостиком закорючкой, мопсов и борзых.
Неле при Катлине спросила Сооткин, хорошо ли спрятаны ее деньги. Сооткин в простоте души ответила, что как нельзя лучше — возле колодца.
В четверг около полуночи Сооткин разбудил яростный лай Бибула Шнуффия, но лай скоро стих. Решив, что это фальшивая тревога, Сооткин снова заснула.
В пятницу утром Сооткин и Уленшпигель встали чуть свет, но, против обыкновения, не обнаружили в кухне ни Катлины, ни огня в очаге, ни молока, кипящего на огне. Это их удивило, и они пошли посмотреть, нет ли ее в огороде. Там она и оказалась — простоволосая, в одной сорочке, она мокла и дрогла под дождем, а в дом войти не смела.
Уленшпигель подошел к ней и спросил:
— Что ты стоишь раздетая под дождем?
— Ах да, ах да, великое чудо? — отвечала она и показала на удавленную и уже окоченелую собаку.
У Уленшпигеля сейчас же мелькнула мысль о деньгах. Он бросился к колодцу. Яма была разрыта, на дне пусто.
Уленшпигель налетел на Катлину с кулаками.
— Где деньги? — крикнул он.
— Да, да, великое чудо, — твердила Катлина.
Неле заступилась за мать:
— Смилуйся, Уленшпигель, сжалься!
Уленшпигель перестал бить Катлину. Тут прибежала Сооткин и спросила, что случилось.
Уленшпигель показал ей удавленную собаку и пустую яму.
Сооткин побледнела и сказала:
— Боже, за что ты меня так наказываешь? Бедные мои ноги!
Сооткин вспомнила о мучительной пытке, которую она напрасно претерпела из-за этих червонцев. Видя, что Сооткин так кротко переносит новую невзгоду, Неле в отчаянии разрыдалась. А Катлина размахивала куском пергамента и говорила:
— Да, великое чудо. Он пришел ночью, добрый, красивый. В его глазах не было больше того бледного отсвета, который так меня прежде пугал. Заговорил он со мной ласково-ласково. Я была счастлива, сердце мое растаяло. «Я, говорит, разбогател, скоро принесу тебе тысячу золотых флоринов». — «Что ж, говорю, я не столько за себя рада, сколько за тебя, ненаглядный мой Ганс». — «А нет ли, спрашивает, у тебя в доме кого-нибудь еще, кто тебе дорог и кому бы я мог отвалить денег?» — «Нет, отвечаю, никто здесь в твоих деньгах не нуждается». — «Больно ты горда, говорит, а что ж, Сооткин и Уленшпигель уж так богаты?» — «Обходятся без посторонней помощи», — отвечаю я ему. «Несмотря, говорит, на конфискацию?» На это я ему сказала, что вы решили лучше перенести пытку, нежели расстаться со своим добром. «Так я и знал», — говорит. И тут он начал посмеиваться да подтрунивать над судьей и старшинами, что они, мол, ничего не сумели из вас вытянуть. И я себе смеюсь. А Ганс: «Они, говорит, не дураки — станут они дома деньги держать!» Я смеюсь. «И в погребе не станут». — «Нет, нет», — говорю. «И в огороде». Я молчу. «Это, говорит, было бы очень даже неосторожно». — «Не очень, говорю, вода и колодезный сруб никому не скажут». А он знай посмеивается.
В эту ночь он уехал раньше, чем обычно, и на прощанье дал мне принять порошок. «У этого, говорит, порошка такая сила, что ты попадешь на самый распрекрасный шабаш». Я в одной сорочке провожала его до самой калитки, и меня все клонило ко сну. Потом я полетела на шабаш, как он мне обещал, и вернулась только на заре прямо вот на это место, гляжу: собака удавлена, в яме пусто. Ох, как мне это тяжко — ведь я его так любила, всей душой! Но я вам отдам все, что у меня есть, руки мои и ноги будут на вас работать.
— Я как зерно меж двух жерновов: господь бог и чертов вор совсем меня раздавили, — молвила. Сооткин.
— Вором вы его не называйте, — возразила Катлина, — а что он черт, так это правда. И вот доказательства — на дворе он оставил пергамент. Глядите, что тут написано: «Всегда оказывай мне услуги. Через трижды две недели и пять дней я все верну тебе вдвое. Не сомневайся, иначе умрешь». Вот увидите: он свое слово сдержит.
— Бедная дурочка! — сказала Сооткин.
И то был последний ее упрек.
83
Трижды две недели прошли, прошли и пять дней, а сердечный друг, он же — бес, так и не явился. Катлина, однако ж, не отчаивалась.
Сооткин уже не могла работать — она все сидела сгорбившись у огня, и кашляла. Неле поила ее самыми целебными, самыми душистыми травами — ничто не помогало. Уленшпигель не выходил из дому: он боялся, как бы мать не померла в его отсутствие.
Немного спустя вдова уже не могла ни есть, ни пить — все вызывало у нее рвоту. Цирюльник отворил ей кровь. После этого она совсем ослабела и больше не поднималась. Наконец, однажды вечером, исстрадавшись, воскликнула:
— Клаас, муж мой! Тиль, сын мой! Благодарю тебя, боже, что ты берешь меня к себе!
Вздохнула и умерла.
Катлина побоялась остаться с покойницей — над ней бодрствовали Уленшпигель и Неле и всю ночь молились за усопшую.
На рассвете в открытое окно влетела ласточка.
— Добрый знак, — сказала Неле. — Это душа умершей. Сооткин — на небе.
Ласточка три раза облетела комнату и с криком вылетела наружу.
Затем влетела другая ласточка, больше и чернее первой. Она начала виться вокруг Уленшпигеля, и он сказал:
— Отец и мать! Ваш прах бьется о мою грудь. Я исполню ваш завет.
И вторая ласточка, так же как первая, улетела с криком. Светало. Уленшпигель посмотрел в окно: над лугом низко-низко летало множество ласточек, и солнце уже взошло.
А Сооткин похоронили на кладбище для бедных.
84
После смерти Сооткин Уленшпигель в раздумье, в тоске или же в ярости все ходил из угла в угол по кухне, не слышал, что ему говорят, ел и пил, не замечая, что ему дают. Часто вскакивал по ночам.
Напрасно ободрял его кроткий голос Неле, тщетно уверяла его Катлина, что Сооткин вместе с Клаасом в раю, — Уленшпигель на все отвечал:
— Прах бьется о мое сердце.
Он словно обезумел; Неле, глядя на него, плакала.
Между тем рыбник, точно отцеубийца, от всех прятался, выходил из дому только по вечерам, иначе мужчины и женщины улюлюкали ему вслед, кричали: «Душегуб!»; детям же сказали про него, что он палач, и они бежали от рыбника без оглядки. Он не смел войти ни в один из трех кабачков в Дамме: все на него пальцем показывали, как только он появлялся в дверях, посетители вставали и уходили.
В конце концов baes'ы стали запирать перед его носом дверь. На униженные его просьбы они отвечали, что кому они хотят, тому и отпускают.
Убедившись, что борьба бесполезна, рыбник отправлялся в Roode Vaick, в Красный Сокол — захудалый кабачок на отшибе, у Слейсского канала. Здесь ему подавали, оттого что хозяева были люди бедные: каждый грош был у них на счету, но ни baes Roode Vaick'а, ни его жена не разговаривали с рыбником. У них было двое детей и собака. Если рыбник пытался приласкать детей, они от него удирали; если он подзывал собаку, она норовила его укусить.
Однажды вечером Уленшпигель присел на пороге. Бочар Матиссен, видя, что он все о чем-то думает, сказал ему:
— Возьмись-ка за дело — и тоска пройдет.
— Пепел Клааса бьется о мою грудь, — отвечал Уленшпигель.
— Эх! — вздохнул Матиссен. — Несчастному рыбнику тяжелей, чем тебе. Никто с ним не разговаривает, все его избегают, из-за кружки bruinbier'а он тащится к этим голоштанникам в Roode Vaick и сидит там один — вот до чего дело дошло. Кара суровая.
— Пепел бьется о мое сердце! — сказал Уленшпигель.
В тот же вечер, когда на соборной колокольне пробило девять, Уленшпигель двинулся к Roode Vaick'у, но, уверившись, что рыбника там нет, стал прохаживаться под деревьями, росшими на берегу канала. Луна светила ярко.
И вот наконец он увидел душегуба.
Рыбник шел совсем близко от Уленшпигеля, так что тот мог хорошо его разглядеть, и по привычке одинокого человека говорил сам с собой:
— Куда они запрятали деньги?
— Туда, где их черт нашел, — отвечал Уленшпигель и ударил его кулаком по лицу.
— Ай! — вскрикнул рыбник. — Я тебя узнал: ты — сын. Сжалься надо мной — я стар и хил. Я так поступил не по злобе, но я слуга его величества. Смени гнев на милость! Я верну тебе все ваши вещи, которые я купил, ни единого патара за них не возьму. Хватит с тебя? Я за них заплатил семь золотых флоринов. А тебе я их даром отдам, да еще в придачу ты от меня полфлорина получишь, — ты не думай: ведь я человек небогатый.
Он хотел было стать на колени.
В эту минуту рыбник показался Уленшпигелю до того мерзким, до того трусливым и жалким, что Уленшпигель швырнул его в канал.
И пошел прочь.
85
На кострах дымилась плоть жертв. Уленшпигель, вспоминая Клааса и Сооткин, втихомолку плакал.
Однажды вечером он пошел к Катлине посоветоваться, как лучше всего отомстить.
Она сидела с Неле у лампы и шила. Когда он вошел, она медленно подняла голову, как бы пробуждаясь от тяжкого сна.
Он сказал ей:
— Пепел Клааса бьется о мою грудь, я хочу спасти землю Фландрскую. Я спрашивал творца неба и земли, но он мне ничего не ответил.
— Творец не станет тебя слушать, — возразила Катлина. — Тебе надобно было сперва обратиться к духам стихий: у этих духов две природы, небесная и земная, и они, выслушав жалобы несчастных людей, передают их ангелам, а те уже несут их к престолу всевышнего.
— Помоги мне осуществить мой замысел, — сказал Уленшпигель, — я заплачу тебе своей кровью, если понадобится.
— Помогу, — сказала Катлина, — но только если девушка, которая тебя любит, возьмет тебя с собой на шабаш весенних духов, на Пасху соков земли.
— Я возьму его с собой, — молвила Неле.
Катлина налила в хрустальный бокал какой-то мутной жидкости и дала обоим выпить. Затем она тою же самою жидкостью натерла им виски, ноздри, ладони и запястья, дала проглотить по щепотке белого порошка и велела смотреть друг другу в глаза, чтобы их души слились.
Уленшпигель посмотрел на Неле, и кроткие глаза девушки зажгли в нем жаркий огонь. Затем, под действием напитка, у него появилось такое чувство, как будто множество крабов впилось в его тело.
Потом Уленшпигель и Неле разделись — и оба они были прекрасны при свете лампы: он — во всей своей гордой силе, она — во всей своей хрупкой прелести. Но они уже не видели друг друга — они были словно во сне. Затем Катлина положила голову Неле на плечо Уленшпигеля, а его руку на сердце девушки.
Так они, обнаженные, лежали друг подле друга.
И казалось им, что тела их, соприкасаясь, излучают нежное тепло, греющее так же, как греет солнце в месяц роз.
Некоторое время спустя они встали, — так они сами потом рассказывали, — взобрались на подоконник, бросились из окна — и воздух подхватил и понес их, как вода несет корабли.
Теперь они уже не видели ни земли, где спали несчастные люди, ни неба, по которому плыли облака, — плыли у них под ногами. И вот они уже ступили на холодное светило — Сириус. Оттуда перенеслись на полюс.
Здесь они с некоторым страхом устремили взоры на голого, заросшего рыжей шерстью, сидевшего на льдине, прислонясь к ледяной стене, великана; — то была Зима. Вокруг великана, урча, ныряли в полыньях белые медведи и тюлени. Великан сиплым голосом скликал град, метель, вьюгу, свинцовые тучи, желтые зловонные пары, ветры и в первую очередь — со страшною силою дующий резкий северный ветер. И все это свирепствовало в том угрюмом краю.
Великан, посмеиваясь над стихийными этими бедствиями, улегся на цветы, под его рукою вянувшие, на листья, под его дыханием блекнувшие. Затем нагнулся и впился в землю ногтями и зубами — ему хотелось достать до сердца земли и проглотить его, чтобы дремучие леса превратились в уголь, хлеб на полях — в солому, плодородные земли — в песок. Но у земли сердце огненное — великан не дерзнул прикоснуться к нему и в ужасе отпрянул.
Затем он воссел на свой царский престол и, окруженный белыми медведями, тюленями и скелетами всех тех, кого он погубил в море, на суше и в ветхих лачугах, поднес ко рту кубок с ворванью. Слух его ласкало рычанье медведей, рев тюленей, хруст человечьих и звериных костей под когтями коршунов и воронов, слетевшихся на скелеты в надежде, что на них остался хоть кусочек мяса, грохот льдин, сталкивавшихся в черной воде.
А голос самого великана был подобен реву бури, вою вьюги, гуденью ветра в трубе.
— Мне холодно и страшно, — сказал Уленшпигель.
— Духи сильнее его, — заметила Ноле.
Внезапно тюлени всполошились, поскакали в воду, медведи, прижав в испуге уши, жалобно завыли, вороны зловеще закаркали и скрылись в тучах.
И вслед за тем Уленшпигель и Неле услышали глухие удары тарана в ледяную стену, служившую опорой великану Зиме. Стена раскололась и потряслась до самого основания.
Но великан Зима ничего не слышал. Он радостно ревел и гоготал, наполнял и осушал кубок, проникал к сердцу земли, чтобы оледенить его, но дотронуться до него все же не смел.
А удары между тем становились все громче, стена трескалась все сильнее, осколки льда взвивались и падали дождем вокруг великана.
Медведи жалобно и неумолчно ревели, тюлени плакались в черной воде.
Наконец стена рухнула, в небе загорелся день, и с заоблачных высот, опираясь на золотую секиру, спустился человек, нагой и прекрасный. То был царь Весны Светозар.
Увидев это, великан забросил как можно дальше свой кубок и стал молить не убивать его.
И от теплого дыхания царя Весны великан Зима обессилел. Царь взял алмазные цепи, скрутил великана и приковал его к полюсу.
Затем он воззвал — нежным и ласковым голосом. И с неба спустилась белокурая женщина, нагая и прекрасная. Она приблизилась к царю и сказала:
— Ты мой повелитель! Ты могуч!
Он же ей на это ответил:
— Если ты алчешь — вкушай, если ты жаждешь — пей, если тебе страшно — подойди ко мне: я твой покровитель.
— Я алчу и жажду только тебя, — сказала она.
И еще семь раз воззвал царь зычным голосом. Вслед за тем заблистали молнии, раздались страшные удары грома, и вдруг позади царя возник усеянный солнцем и звездами свод. И царь с царицей воссели на трон.
А воссев на трон, они, не меняя благородного выражения лиц своих, не нарушив царственного своего величия и спокойствия ни единым движением, бросили клич.
В ответ на их клич всколыхнулась земля, задрожали скалы и льдины. И тут Уленшпигелю и Неле послышался треск, как будто исполинские птицы разбивали своими клювами скорлупу огромных яиц.
И при этом мощном движении всей земли, напоминавшем морской прибой, возникали яйцевидные формы.
Внезапно вырос целый лес; сухие ветви деревьев сплетались, их стволы шатались, как пьяные. Потом деревья расступились, и между ними образовались широкие прогалины. Из все еще ходившей ходуном почвы возникли духи земли, из чащи леса — духи деревьев, из моря — духи воды.
Далее взору Уленшпигеля и Неле явились гномы, что сторожат подземные сокровища, — горбатые, криволапые, мохнатые, кривляющиеся уроды; владыки камней; лесовики: этим рот и желудок заменяют узловатые корни, которыми они высасывают пищу из недр земли; властелины руд, отсвечивающие металлическим блеском, лишенные дара речи, не имеющие ни сердца, ни внутренностей, движущиеся самопроизвольно. Тут были карлы с хвостами, как у ящериц, с жабьими головами, со светлячками на голове, — ночью они вскакивают на плечи к пьяным прохожим, к боязливым путникам, затем спрыгивают на землю и, мерцая своим огоньком, который злосчастные путники принимают за свет в окне своего дома, заманивают их в болота и ямы.
Были тут и феи цветов — цветущие, пышущие здоровьем девушки, нагие, но наготы не стыдившиеся, прикрывавшие ее лишь роскошными своими волосами, гордые своей красотой.
Влажные их глаза сверкали, точно жемчуг в воде; их упругое белое тело позлащал солнечный свет; дыхание, излетавшее из их полуотверстых румяных уст, было ароматней жасмина.
Это они мелькают по вечерам в садах и парках, в лесной глуши, по тенистым дорожкам и взором, жаждущим любви, ищут мужскую душу, чтобы насладиться ее обладанием. Если мимо проходят юноша и девушка, они стараются умертвить девушку, но это им не удается, — тогда они вселяют в сердце стыдливой красавицы такую силу страсти, что та поневоле отдается своему возлюбленному, а половина поцелуев достается фее цветов.
Затем на глазах у Неле и Уленшпигеля с небесной вышины слетели духи — покровители звезд, духи вихрей, ветерков и дождей — крылатые юноши, оплодотворяющие землю.
Внезапно видимо-невидимо птиц взреяло в небе — то были птицы-души, милые ласточки. С их появлением сразу стало светлее. Феи цветов, владыки камней, властелины руд, лесовики, духи воды, огня и земли хором воскликнули:
— Свет! Соки земли! Слава царю Весны!
Хотя единодушный их возглас прозвучал громче рева бушующего моря, громче раскатов грома и воя урагана, слух Уленшпигеля и Неле, боязливо и молча прижавшихся к корявому дубу, воспринял его как торжественную музыку.
Но им стало еще страшнее, когда мириады духов начали рассаживаться на громадных пауках, на жабах со слоновыми хоботами, на клубках змей, на крокодилах, которые стояли на хвосте и в пасти каждого из которых поместилось целое семейство духов, на змеях, — на кольцах каждой такой змеи уселось верхом более тридцати карликов и карлиц, — и на сотнях тысяч насекомых, каждое из которых было больше Голиафа[118], вооруженных мечами, копьями, зазубренными косами, семизубыми вилами и прочими ужасными смертоносными орудиями. Насекомые дрались между собой, стоял невообразимый шум, сильный поедал слабого и на глазах тучнел, доказывая этим, что Смерть проистекает из Жизни, а Жизнь — из Смерти.
И все это кишащее, неразличимое скопище духов гудело, как отдаленный гром, точно множество ткачей, сукновалов и слесарей, занятых своим делом.
Внезапно появились духи соков земли, приземистые крепыши, у которых бедра были как гейдельбергские бочки, ляжки — как мюиды с вином, а мускулы до того сильны и могучи, что при взгляде на этих духов можно было подумать, будто тела их состоят из больших и малых яиц, сросшихся между собой и покрытых красною жирною кожей, лоснившейся так же, как их редкая борода и рыжие волосы. И каждый из них держал в руках огромную чашу с какою-то странною жидкостью.
При виде их другие духи затрепетали от восторга. Кусты и деревья заколыхались, земля потрескалась, чтобы впитать в себя влагу.
И вот духи соков земли наклонили свои чаши — разом все вокруг распустилось, зазеленело, зацвело. Трава зашевелилась от множества стрекочущих насекомых, в воздухе замелькали птицы и бабочки. Духи между тем лили и лили из чаш, и все подставляли рты и пили сколько могли. Феи цветов кружились вокруг рыжих виночерпиев и целовали их, чтобы те не жалели им соку. Иные умоляюще складывали руки. Иные блаженствовали под этим дождем. Но все они, алчущие, жаждущие, летавшие, стоявшие, кружившиеся или же неподвижные, — все тянулись к чашам и с каждой выпитой каплей становились резвее. Между ними больше не было стариков; и уродливые, и прекрасные — все были преисполнены бодрости и юношеской живости.
И они смеялись, шумели, пели, гонялись друг за дружкой по веткам деревьев, как белки, в воздухе — как птицы, самцы преследовали самок и исполняли под божьим небом священный завет природы.
А затем духи соков земли поднесли царю с царицей по большому кубку. И царь с царицей выпили и поцеловались.
После этого царь, держа царицу в объятиях, вылил из своего кубка остаток на деревья, на цветы и на духов.
— Слава Жизни! Слава вольному воздуху! Слава Силе! — воскликнул царь.
И все воскликнули за царем:
— Слава Силе! Слава Природе!
И Уленшпигель заключил Неле в объятия. Как скоро их руки сплелись, начался танец, и все закружилось, словно листья на ветру, все пришло в движение — деревья, кусты, насекомые, бабочки, земля и небо, царь и царица, феи цветов, властелины руд, духи воды, горбатые гномы, владыки камней, лесовики, светляки, духи — покровители звезд, мириады чудовищных насекомых, сцепившихся копьями, зазубренными косами, семизубыми вилами, и эта заполнившая вселенную круговерть увлекла за собою и солнце, и месяц, и планеты, и звезды, и ветер, и облака.
Дуб, к которому прислонились Уленшпигель и Неле, тоже кружился в вихре танца, и Уленшпигель шептал Неле:
— Девочка моя, мы погибли!
Эти слова услышал дух, разглядел, что это смертные, крикнул:
— Люди! Здесь люди!
Оторвал их от дерева и швырнул в самую гущу танцующих.
И Уленшпигель и Неле мягко опустились на спины духов, а те начали их перебрасывать от одного к другому.
— Здравствуйте, люди! — восклицали они. — Добро пожаловать, черви земные! Кому нужны мальчишка с девчонкой? Эти заморыши пришли к нам в гости.
А Уленшпигель и Неле, перелетая с рук на руки, кричали:
— Не надо!
Но духи не слушали их, и они перекувыркивались в воздухе, кружились, как пушинки на зимнем ветру, а духи все приговаривали:
— Молодцы паренек с девчонкой, молодцы, что танцуют вместе с нами!
Феям цветов захотелось разлучить Уленшпигеля с Неле, и они принялись бить ее и могли бы забить до смерти, когда бы царь Весны одним мановением руки не остановил танец и не крикнул:
— Подведите ко мне этих двух блошек!
И Уленшпигеля разлучили с Неле. И каждая фея, пытаясь оторвать Уленшпигеля от своей соперницы, шептала:
— Тиль, ты готов умереть за меня?
— Я и так скоро умру, — отвечал Уленшпигель.
Карлы, духи лесов, несли Неле и вздыхали:
— Жаль, что ты не дух, как мы, — была бы ты нашей.
А Неле им в ответ:
— Потерпите.
Наконец Уленшпигель и Неле приблизились к престолу царя и, увидев золотую секиру и железную корону, задрожали от ужаса.
А царь спросил:
— Зачем вы явились сюда, заморыши?
Уленшпигель и Неле молчали.
— Я тебя знаю, ведьмино отродье, — продолжал царь, — и тебя, угольщиков отпрыск. Но ведь вы проникли в мастерскую природы силою волшебства — почему же вы сейчас онемели, точно каплуны, набившие себе рот хлебным мякишем?
Неле не могла без страха смотреть на грозного великана, но к Уленшпигелю вернулись свойственные ему хладнокровие и мужество, и он ответил так:
— Пепел Клааса бьется о мою грудь. Ваше божественное величество! Смерть именем папы косит во Фландрии самых сильных мужчин, самых красивых девушек. Все права у Фландрии отобраны, вольности ее упразднены, ее мучает голод, ткачи ее и суконщики покидают отчизну, уходят на чужбину в надежде найти такой уголок, где труд был бы свободен. Если не прийти на помощь Фландрии, она погибнет. Ваши величества! Я — бедный человек, появился на свет, как и всякий другой, жил ни шатко ни валко — словом, так себе человек, темный, недалекий, совсем не добродетельный, отнюдь не целомудренный, недостойный милости божеской и человеческой. Но Сооткин умерла от пыток и от горя, но Клаас умер мучительною смертью на костре, и я хочу за них отомстить и однажды уже отомстил. Еще я хочу, чтобы на той бедной земле, где покоятся их кости, жить стало лучше. Я просил бога о том, чтобы он умертвил гонителей, но он меня не услышал. Устав стенать, я вызвал вас силою волшебных чар Катлины, и вот мы, я и моя трепещущая подруга, ныне повергаем к стопам ваших божественных величеств просьбу — спасти наш истерзанный край.
На это ему царь и царица ответили так:
Средь воины и огня, Средь убийства и смерти Ищи Семерых. В смерти, в крови, В разрухе, в слезах Найди Семерых. — Уродливых, злых, Отечества бич, Сожги Семерых. Жди, слушай, смотри: Иль не рад, горемыка? Найди Семерых.И все духи запели хором:
В смерти, в крови, В разрухе, в слезах Найди Семерых. Жди, слушай, смотри: Иль не рад, горемыка? Найди Семерых.— Ваше величество, и вы, господа духи! — молвил Уленшпигель. — Ведь я же вашего языка не понимаю. Вы, верно, потешаетесь надо мной.
Не духи, не слушая его, продолжали:
В час, когда север Поцелует запад, Придет конец разрухе. Найди Семерых И Пояс.И до того это был стройный и мощный хор, что от такого громоподобного пения сотряслась земля и задрожал небосвод. И вороны заграяли, совы заухали, воробьи запищали от страха, орлы с тревожным клекотом взад и вперед залетали. И животные и звери — львы, змеи, медведи, олени, лани, волки, собаки и кошки — дикими голосами рычали, кричали, визжали, завывали, ревели, шипели.
А духи все пели:
Жди, слушай, смотри: Возлюби Семерых И Пояс.Но тут запели петухи, и все духи исчезли, кроме злого властелина руд, — этот дух схватил Уленшпигеля и Неле и безжалостно бросил в пропасть.
И вот они опять лежат друг подле друга и вздрагивают так, как вздрагивают люди спросонья от холодного утреннего ветру.
И Уленшпигель увидел, что прелестное тело Неле все озлащено лучами восходящего солнца.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Однажды, сентябрьским утром, Уленшпигель взял палку, три монетки, которые ему дала на дорогу Катлина, кусок свиной печенки, краюху хлеба и пошел по дороге в Антверпен искать Семерых. Неле еще спала.
За ним, почуяв запах печенки, увязалась собака и все прыгала на него. Уленшпигель прогонял ее, но это на нее не действовало, и в конце концов он обратился к ней с такою речью:
— Песик, милый, ну что ты затеял? Дома у тебя превкусное варево, дивные объедки, мозговые косточки, а ты все бросил и побежал искать приключений, и добро бы с кем — с бродягой, у которого, может, и кореньев-то для тебя не найдется! Послушайся ты меня, неблагоразумный песик, возвращайся к хозяину! Беги от дождя, снега, града, измороси, тумана, гололедицы и прочих невзгод, выпадающих на долю бродяги. А ну скорее — под кров, свернись клубком и грейся у домашнего камелька, а я побреду один по грязи, по пыли, невзирая ни на зной, ни на стужу, нынче изжарюсь на солнце, завтра замерзну, в пятницу сытый, в воскресенье голодный. Ступай, откуда пришел, — это самое умное, что ты можешь сделать, неопытный песик!
Но пес, видимо, не слушал. Он знай себе вилял хвостом, прыгал как сумасшедший и лаял от голода. Уленшпигель принимал это за бескорыстное выражение дружеских чувств, и невдомек было ему, что псу не давала покоя лежавшая в суме печенка.
Он шел себе и шел, а пес от него не отставал. Пройдя около мили, оба увидели, что на дороге стоит повозка, в которую впряжен понурый осел. На откосе, среди репейника, сидел какой-то толстяк; в одной руке он держал баранью кость, а в другой — бутылку. Поглодав кость и потянув из бутылки, он принимался нюнить и рюмить.
Уленшпигель остановился, пес, глядя на него, тоже. Почуяв запах мясного, пес взбежал вверх по откосу. Он сел подле толстяка и, мечтая разделить с ним трапезу, начал скрести ему лапами куртку. Но толстяк оттолкнул его локтем и, подняв повыше кость, жалобно захныкал. Голодный пес стал ему подвывать. Осел с досады, что ему не дотянуться до репейника, заверещал.
— Чего тебе, Ян? — обратился к ослу толстяк.
— Ничего, — отвечал за него Уленшпигель. — Просто ему захотелось полакомиться репейником, который цветет вокруг вас, как все равно на хорах в Тессендерлоо, вокруг и над Иисусом Христом. А пес не прочь был бы присоединиться к вашей косточке. Пока что я угощу его печенкой.
Когда пес съел печенку, толстяк осмотрел свою кость, еще раз обглодал и лишь после того, как на ней не осталось ни кусочка мяса, швырнул ее псу, а пес поставил на нее передние лапы — и давай грызть.
Тут только толстяк поднял глаза на Уленшпигеля.
Уленшпигель сразу узнал Ламме Гудзака из Дамме.
— Ламме! — сказал Уленшпигель. — Что, это ты тут жрешь, пьешь и ревешь? Не надрал ли тебе уши какой-нибудь невежа служивый?
— Жена моя! — возопил Ламме.
Тут он хотел было осушить бутылку, но Уленшпигель положил ему руку на плечо.
— Не пей больше, — сказал Уленшпигель. — Питье наспех полезно только для почек. Больше пользы возлияние принесет тому, у кого совсем нет вина.
— Говоришь ты складно, — заметил Ламме, — а вот посмотрим, как-то ты куликаешь.
С этими словами он протянул Уленшпигелю бутылку.
Уленшпигель взял бутылку, опрокинул, а затем, возвращая, сказал:
— Если там осталось чем напоить воробья, ты можешь звать меня испанцем.
Ламме оглядел бутылку, затем, не переставая хныкать, сунул руку в котомку, достал еще бутылку и кусок колбасы, отрезал несколько ломтиков и с унылым видом принялся жевать.
— Ты ешь не переставая, Ламме? — спросил Уленшпигель.
— Ем я много, сын мой, лгать не стану, — отвечал Ламме, — но только для того, чтобы отогнать черные думы. Где ты, жена моя? — воскликнул он и, отерев слезу, отрезал от колбасы еще десять кусочков.
— Не ешь так быстро, Ламме, будь милостив к бедному страннику, — молвил Уленшпигель.
Ламме, всхлипывая, дал ему четыре ломтика, и Уленшпигель с наслаждением уплел их.
А Ламме все ел, ревел и причитал:
— Жена моя, милая моя жена! Какая она была ласковая, стройная, легкая, как мотылек, быстрая, как молния, а пела, как жаворонок! Вот только уж очень она любила наряды! И то сказать: они так ей были к лицу! Ведь и у цветов пышный убор. Если б ты видел, сын мой, ее ручки, созданные для ласки, ты бы не позволил ей дотрагиваться до сковород и котлов. От кухонного чада потемнела бы ее белоснежная кожа. А что за глазки! Я млел от одного ее взгляда… Хлебни сначала ты, а потом я… Уж лучше бы она умерла! Ты знаешь, Тиль, я все сам делал по дому, освободил ее от всех забот: сам подметал, сам стелил наше брачное ложе, и она по вечерам, устав от безделья, на нем вытягивалась. Сам посуду мыл, сам стирал, сам гладил… Ешь, Тиль, — это гентская колбаса… Днем она уходила гулять и часто опаздывала к обеду, но я так бывал ей рад, что никогда не выговаривал. Я бывал счастлив, когда она не дулась на меня и ночью не поворачивалась ко мне спиной. Теперь я все потерял… Пей — это брюссельское вино, а напоминает бургонское.
— Из-за чего же она тебя бросила? — спросил Уленшпигель.
— А я почем знаю? — отвечал Ламме Гудзак. — Увы! Где то время, когда я за нее сватался, а она, уже любя меня, но робея, пряталась? Как скоро она замечала, что я смотрю на ее голые руки, на ее красивые пухлые белые руки, она сейчас же спускала рукава. Иной раз она позволяла мне приголубить ее: я целовал ее прекрасные глаза, а она жмурилась, я целовал ей сзади крепкую полную шею, а она вздрагивала, вскрикивала, вдруг запрокидывала голову — и прямо мне по носу! Я кричал: «ай!» — а она смеялась, а я ласково шлепал ее — все у нас, бывало, хиханьки да хаханьки… Тиль, есть еще что-нибудь в бутылке?
— Есть, — отвечал Уленшпигель.
Ламме выпил и продолжал свой рассказ:
— А иной раз нападет на нее стих: сама бросится на шею — «Ты, говорит, у меня красавец!» И поцелует взасос, сто раз подряд, в щеки и в лоб, а в губы — ни-ни! Я, бывало, спрашиваю, отчего это она всякие вольности себе разрешает, а насчет поцелуя в губы у нее так строго, — тут она мигом доставала куколку, всю в шелку да в бисере, баюкала ее и говорила: «Я вот чего боюсь». Видно, мать, блюдя ее целомудрие, внушила ей, что дети рождаются от поцелуя в губы. Эх, где вы, сладостные мгновенья? Где вы, нежные ласки?.. Погляди-ка, Тиль, не осталось ли в суме ветчинки.
— Пол-окорочка, — отвечал Уленшпигель и протянул кусок Ламме — тот съел его весь без остатка.
Глядя, как Ламме уничтожает окорок, Уленшпигель сказал:
— Ветчинка очень полезна для моего желудка.
— И для моего, — ковыряя пальцем в зубах, подхватил Ламме. — Да, но я уже не увижу мою птичку, она упорхнула из Дамме. Хочешь, поедем вместе искать ее?
— Хочу, — отвечал Уленшпигель.
— А в бутылке ничего не осталось? — спросил Ламме.
— Ничего, — отвечал Уленшпигель.
Оба сели в повозку, и осел, жалобно проверещав в знак того, что они отъезжают, тронулся с места.
А пес, наевшись досыта, удалился и даже не счел нужным поблагодарить.
2
Повозка катилась по плотине между каналом и прудом, а Уленшпигель задумчиво поглаживал ладанку с пеплом Клааса. Он спрашивал себя, что это было: сон или явь, посмеялись над ним духи или же обиняками дали понять, что он должен найти, дабы родная земля стала счастливой.
Тщетно напрягал он мысль, но так и не мог сообразить, что означают Семеро и что означает Пояс.
Мертвый император, живой король, правительница[119], папа римский, великий инквизитор[120] и генерал иезуитского ордена[121] — это всего только шесть главных палачей его отечества, которых он своими руками возвел бы на костер. Значит, это не Семеро; к тому же их найти легко. Значит, Семерых надо искать где-то еще.
И он все повторял про себя:
В час, когда север Поцелует запад, Придет конец разрухе. Возлюби Семерых И Пояс.«Горе мне! — говорил он сам с собой. — В смерти, в крови и слезах отыскать Семерых, сжечь Семерых, возлюбить Семерых! Мой бедный разум мутится — кто же сжигает милых сердцу людей?»
Когда они отъехали на довольно значительное расстояние, внезапно послышался скрип шагов по песку и чье-то пение:
Прохожие, ваш путь далек. Вам не встречался мой дружок? Где он сейчас, куда стремится? Где мой дружок? Украл он сердце у девицы, Как волк овечку уволок. Он безбород и быстроног. Где мой дружок? Коль встретите, скажите: Неле Его все ищет, сбившись с ног. Тиль, где ты бродишь без дорог? Где мой дружок? Голубка дышит еле-еле, Коль отлетает голубок. Страданья душу одолели. Где мой дружок?Уленшпигель хлопнул Ламме по животу и сказал:
— Не сопи, толстопузый!
— Увы! Это не так-то легко для человека моего телосложения, — отвечал Ламме.
Но Уленшпигель, уже не слушая его оправданий, сел поглубже, так что верх повозки укрыл его от постороннего взора, и, подражая голосу человека, охрипшего с перепою, запел:
А я видал, где твой дружок; Он правит, сев на облучок, А в кузове обжора лег — Вот твой дружок!— У тебя нынче злой язык, Тиль, — заметил Ламме.
Не обращая на него внимания, Уленшпигель просунул голову в дыру в парусиновом верхе и крикнул:
— Неле! Узнаешь?
Она вздрогнула от неожиданности и, смеясь сквозь слезы, сказала:
— Вон ты где, негодяй!
— Неле, — снова заговорил Уленшпигель, — ежели вам угодно меня побить, то у меня есть палка — здоровенная: ее живо восчувствуешь, и суковатая: рубцы от нее долго не заживут.
— Ты пошел искать Семерых, Тиль? — спросила Неле.
— Да, — отвечал Уленшпигель.
Неле несла набитую до отказа суму.
— Тиль! — протягивая ее Уленшпигелю, сказала она. — Я подумала, что если человек, отправляясь в путь, не возьмет с собой доброго жирного гуся, ветчины и гентской колбасы, то это скажется на его здоровье. Кушай и вспоминай меня.
Уленшпигель смотрел на Неле и, по-видимому, не думал брать сумку; наконец Ламме, просунув голову в другую дыру, сказал:
— Предусмотрительная девица! Он может ничего не взять по рассеянности. Давай-ка сюда ветчину и гуся, доверь мне и колбасу — я все сберегу.
— Что это еще за толстая морда? — спросила Неле.
— Это жертва супружеской жизни, — пояснил Уленшпигель. — Он высох бы от горя, как яблоко в печке, если б не подкреплял свои силы беспрерывным принятием пищи.
— Твоя правда, — молвил со вздохом Ламме.
Солнце напекло Неле голову. Она накрылась передником. Уленшпигелю хотелось побыть с ней вдвоем, и он обратился к Ламме:
— Видишь, по лугу идет женщина?
— Ну, вижу, — отвечал Ламме.
— Узнаешь ты ее?
— Увы! Это не моя жена, — сказал Ламме, — она в одета не по-городски.
— Ты все еще сомневаешься, слепой крот? — спросил Уленшпигель.
— Ну, а если это не она? — спросил Ламме.
— Ты и так ничего не потеряешь. Левее, к северу, стоит kaberdoesje[122], который славится своим bruinbier'ом. Там мы с тобой и встретимся. Захвати с собой ветчинки для возбуждения жажды.
Ламме спрыгнул с повозки и что есть духу помчался по направлению к женщине.
— Иди ко мне! — сказал Уленшпигель Неле.
Он помог ей взобраться, усадил рядом с собой, снял с головы передник, скинул с плеч накидку и, покрыв ее лицо поцелуями, спросил:
— Куда ты шла, моя ненаглядная?
Она была так счастлива, что ничего не могла ему ответить. А Уленшпигель, в таком же восторге, как и она, заговорил:
— Наконец ты со мной! Цвет шиповника не так нежно ал, как твоя молодая кожа. Ты не королева, а все же дай я возложу на тебя корону из поцелуев! Твои нежные розовые ручки Амур создал для объятий. Девочка моя любимая! Я боюсь, что от прикосновения моих грубых мужских рук будет больно твоим плечам. Легкокрылый мотылек садится на алую гвоздику, а я, увалень, могу смять белый, ослепительно-белый цвет твоей красоты. Бог на небе, король на троне, солнце в недоступной вышине. А я, когда ты со мной, — я и бог, и король, и свет дня! Кудри твои как шелк! Неле, я безумствую, я сатанею, я схожу с ума, но ты не бойся, голубка! А ножка у тебя до чего маленькая! Почему она такая белая? Ее мыли в молоке?
Она попыталась встать.
— Чего ты испугалась? — сказал Уленшпигель. — Солнца? Оно светит нам и всю тебя позлащает. Зачем ты потупила очи? Смотри на меня — видишь, какой яркий огонь зажигаешь ты в моих глазах? Слушай, моя любимая, прислушайся, моя дорогая: это час полуденной тишины — пахарь посвящает его трапезе, а нам с тобой, кажется, ничто не мешает посвятить его любви. Я бы целый век просидел у твоих колен — все бы гладил их, гладил и гладил!
— Краснобай! — сказала Неле.
Лучи его светлости солнца пробивались сквозь парусиновый верх повозки, жаворонок заливался над лугами, а Неле склонила голову на плечо к Уленшпигелю.
3
Между тем вернулся Ламме — он был весь потный и отфыркивался, как дельфин.
— Ах! — воскликнул он. — Я рожден под несчастной звездой. Я со всех ног побежал к этой женщине, но то была не моя жена, то была женщина пожилая: на вид ей можно дать лет сорок пять, а по ее чепчику я сейчас догадался, что она незамужняя. Она на меня напустилась: что это, мол, я, этакий пузан, ношусь по лугу? Я ей вежливо ответил: «Меня жена бросила, и я ее ищу, а к вам я прибежал, оттого что принял вас за нее». На это старая дева мне сказала, чтобы я убирался, откуда пришел, а жена моя, дескать, хорошо сделала, что меня бросила, потому все мужчины подлецы, обманщики, еретики, изменники, соблазнители, они, мол, даже зрелых девиц — и тех ухитряются совратить, и если я, дескать, сию же минуту не унесу отсюда ноги, то она натравит на меня свою собаку.
А возле нее разлеглась здоровенная собачища и все рычала — у меня, конечно, душа в пятки, и я скорей наутек. Перемахнул через межу, сел отдышаться — дай, думаю, подкреплюсь твоей ветчиной. Вдруг слышу за спиной шорох; оборачиваюсь, смотрю — бежит ко мне собака старой девы, но уже не рычит, а ласково, заискивающе виляет хвостом: ей тоже ветчинки захотелось. Только стал было я ее подкармливать, ан, глядь, бежит хозяйка и вопит: «Куси его, собачка, куси!» Я — бежать, но на моих штанах повисла собачища и вырвала клок вместе с моим собственным мясом. Я невзвидел света от боли, обернулся — хвать собаку палкой по передним лапам; одну-то уж наверняка перебил! Собака с ног долой и как закричит на своем собачьем языке: дескать, пощади! — ну, я ее и пощадил. А хозяйка за неимением камней давай пулять в меня комьями — я опять припустился.
Какая же она злая, какая же она вздорная баба! Чем я, несчастный, виноват, что она из-за своей неказистости никак не может найти себе жениха?
Пригорюнился я и пошел в тот самый kaberdoesje, который ты мне указал: думаю, bruinbier рассеет мою кручину. Не тут-то было: вхожу — и что же я вижу? Мужчина с женщиной дерутся. Я спросил, не соблаговолят ли они заключить перемирие для того, чтобы отпустить мне кувшинчик bruinbier'а вместимостью в одну, а то и в целых шесть пинт. Баба, настоящая stockvisch[123], взъерепенилась. «Брысь отсюда! — кричит. — Вот этим самым башмаком я мужа по голове бью — гляди, как бы и тебе не попало». Вот я, потный, усталый, сюда и прибежал. Нет ли у тебя чего-нибудь поесть?
— Найдется, — отвечал Уленшпигель.
— Слава богу! — сказал Ламме.
4
Итак, все в сборе — можно ехать дальше. Осел сдвигает с места повозку, и от напряжения ушки у него на макушке.
— Ламме! — говорит Уленшпигель. — Нас четверо попутчиков: во-первых, ослик, кроткая скотинка, кормится чем бог пошлет; во-вторых, ты, добродушный толстяк, — от тебя ушла жена, и ты ее ищешь; в-третьих, милая девушка с нежной душой — она нашла себе юношу по сердцу, но он ее не стоит, — это я: итого, стало быть, четверо… А ну, ребята, гляди веселей! Листья желтеют, скоро-скоро в небесах загорятся яркие звезды, солнышко скроют осенние тучи, придет прообраз смерти — зима, расстелет снежный саван над теми, кто лежит в сырой земле, а я все буду искать: куда делось счастье отчего края? Бедные покойники: ты, Сооткин, умершая от горя, ты, Клаас, сожженный на костре! Ты, могучий дуб, олицетворение незлобивости, ты, нежный плющ, олицетворение любви, я — ваш отпрыск, я тяжко скорблю, ваш милый прах бьется о мою грудь, и я за вас отомщу.
— Не надо оплакивать тех, кто умер за правду, — говорит Ламме.
Но Уленшпигель задумался.
— Настал час разлуки, Неле, — неожиданно обращается он к девушке. — Мы с тобой расстаемся надолго. Может быть, я никогда больше не увижу милое твое лицо.
Неле смотрит на него лучистыми, как звезды, глазами.
— Давай слезем с повозки и уйдем в лес! — говорит она. — Ты у меня с голоду не умрешь: я умею находить съедобные растения и приманивать птиц.
— Девушка! — вмешивается в разговор Ламме. — Ты Уленшпигеля не удерживай: он должен найти Семерых и помочь мне сыскать жену.
— Побудь со мной! — просит Неле, плача и улыбаясь сквозь слезы другу своему Уленшпигелю.
А Уленшпигель, видя ее слезы, обращается к Ламме:
— Как скоро тебе станет скучно без неурядиц, тут-то ты и найдешь жену.
— Ты что же это, Тиль, ради девчонки бросаешь меня одного? — говорит Ламме. — Молчишь? Запала дума о лесе? Но ведь в лесу нет ни Семерых, ни моей жены. Поищем-ка ее лучше на мостовой, благо по мостовой повозка так сама и катится.
— Ламме! — говорит Уленшпигель. — У тебя в повозке полная котомка еды, стало быть, ты и без меня за милую душу доедешь до Коолькерке, а там я тебя нагоню. Тебе даже лучше побыть в одиночестве — так ты скорей найдешь прямой путь к жене. Слушай и запоминай. Проедешь три мили — тут тебе будет Коолькерке, что значит «Холодная церковь»: называется она так потому, что ее со всех сторон овевает ветер, как, впрочем, и многие другие церкви. На колокольне увидишь флюгер в виде петуха — он вертится во все стороны на ржавых петлях. Скрип петель указывает горемыкам, потерявшим своих подружек, где их искать. Но только прежде должно семь раз ударить ореховым прутом по каждой из стен колокольни. Заскрипят петли под северным ветром — ступай на север, но только осторожно, ибо северный вечер — это ветер войны; под южным — лети на юг как на крыльях, ибо то ветер любви; под восточным — мчись крупной рысью: то ветер света и радости; под западным — иди не спеша: то ветер дождя и слез. Поезжай, Ламме, поезжай в Коолькерке и жди меня!
— Ин ладно, — говорит Ламме и уезжает.
Тем временем теплый, но сильный ветер гнал по небу, точно неких чудовищ, стаю серых осенних туч. Деревья шумели, как волны бурного моря. Уленшпигель и Неле давно уже бродили вдвоем по лесу. Уленшпигель проголодался; Неле искала сладких кореньев, но вместо кореньев находила одни только желуди да поцелуи милого.
Уленшпигель расставил силки и в чаянии жаркого посвистывал, приманивая птиц. Возле Неле на ветку сел соловей, но она его не тронула: пусть, мол, поет! Прилетела малиновка — Неле и ее пожалела: уж очень смешно она важничала! Потом прилетел жаворонок, но Неле ему внушила, что куда лучше воспарить ввысь и в песне прославить природу, чем попасть на смертоносное острие вертела, — это, мол, худые шутки!
И она говорила правду, ибо Уленшпигель уже развел костер, заострил палку в виде вертела, и самодельный этот вертел поджидал жертв.
Птицы, однако, не прилетали — одни лишь вороны зловеще каркали где-то высоко над головой. И Уленшпигель остался голодный.
А Неле пора было возвращаться к Катлине. И она, заливаясь слезами, пошла домой, а Уленшпигель смотрел ей вслед. Но она все же вернулась и бросилась к нему на шею.
— Сейчас уйду, — сказала она.
Прошла несколько шагов, опять вернулась и опять сказала:
— Сейчас уйду.
И так раз двадцать, если не больше.
Наконец она все-таки ушла, и Уленшпигель, оставшись один, кинулся догонять Ламме.
Приблизившись к колокольне, он увидел, что Ламме сидит у ее подножья и с мрачным видом грызет ореховый прутик, а между ног у него стоит большой кувшин с bruinbier'ом.
— Уленшпигель! — сказал Ламме. — Сдается мне, что ты услал меня сюда только для того, чтобы побыть вдвоем с девушкой. Я по твоему совету семь раз бил прутом по каждой стене, ветер дул неистово, и хоть бы одна петля скрипнула!
— Наверно, их маслом смазали, — высказал предположение Уленшпигель.
И поехали они в герцогство Брабантское.
5
Король Филипп в дурном расположении духа по целым дням, а иногда и ночам, марал бумагу и царапал пергамент[124]. Бумаге и пергаменту вверял он думы твердокаменного своего сердца. Никого не любя на всем свете, зная, что и его никто не любит, ни с кем не желая делить бремя своей неограниченной власти, этот страждущий Атлант сгибался под ее тяжестью. Непосильные заботы изнуряли слабое тело этого флегматика и меланхолика по, натуре. Он не переваривал веселых лиц, и наш край он возненавидел именно за его жизнерадостность; возненавидел наших купцов за роскошество и богатство; возненавидел наших дворян за вольные речи, за независимый нрав, за пылкость их полнокровного и отважного жизнелюбия. Ему было известно, что еще задолго до того, как кардинал де Куза[125] в 1380 году обличил беззакония, творимые церковью, и указал на необходимость реформ, возмущение папой и римскою церковью проявлялось у нас в образовании различных сект и бурлило в людских умах, будто вода в закрытом котле.
Упрямый, как мул, король Филипп был убежден, что воля его, подобно воле божьей, должна властвовать над миром. Он мечтал о том, чтобы наши края, отвыкшие от покорности, снова впряглись в старое ярмо, так и не добившись никаких реформ. Он хотел видеть свою святую мать — римско-католическую апостольскую церковь единой, нераздельной, вселенской, без всяких новшеств и преобразований, причем никаких разумных доводов в защиту своего хотения он привести бы не мог, за исключением довода взбалмошной бабы, что он, мол, так хочет, и даже ночью не давали ему покоя все те же неотвязные думы, и он метался по постели, точно под ним было терновое ложе, метался и бормотал:
— Обещаю тебе, святой апостол Филипп, обещаю тебе, господь мой и бог: пусть я превращу Нидерланды в братскую могилу и брошу туда всех жителей, но они вернутся к тебе, блаженный мой покровитель, к тебе, пречистая дева, к вам, святые угодники!
И, осуществляя задуманное, он старался быть более римским, нежели сам папа, и более католическим, нежели Вселенские соборы[126].
И Уленшпигель, Ламме и весь нидерландский народ, содрогаясь от ужаса, представляли себе этого венценосного длиннолапого паука, с открытым ротовым отверстием ткущего паутину в мрачном Эскориале[127], чтобы запутать их и высосать самую чистую их кровь.
При Карле папская инквизиция сожгла на кострах, живьем закопала в землю и удавила сто тысяч христиан; достояние казненных, точно дождевая вода в водосточную трубу, стекло в императорские в королевские сундуки, но Филиппу все было мало: он создал в Нидерландах новые епархии и принял решение учредить здесь испанскую инквизицию[128].
И, скликая народ трубным звуком и барабанным боем, глашатаи читали во всех городах королевские указы, грозившие еретикам смертью на костре, если они не отрекутся от своих заблуждений, и смертною казнью через повешение, если они отрекутся. Женщины же и девушки предуведомлялись, что их закопают в землю живьем и на их телах будут плясать палачи.
И по всей стране побежал огонь народного гнева.
6
Пятого апреля, перед Пасхой, к брюссельскому дворцу правительницы, герцогини Пармской, приблизились граф Людвиг Нассауский[129], графы Кюлембург[130] и Бредероде, кутила Геркулес, и с ними еще триста дворян. По четверо в ряд поднялись они на самый верх широкой дворцовой лестницы.
Войдя в залу, они передали герцогине бумагу, в которой просили ее добиться от короля Филиппа отмены указов о вероисповедании и об учреждении испанской инквизиции, ибо, утверждали они, помянутые указы вызывают в народе недовольство, недовольство же может вылиться в мятеж и повлечь за собой разор и оскудение всей земли.
Это ходатайство получило название «Соглашения»[131].
Берлеймон[132], который впоследствии предал родину и учинил в отечестве своем жестокую расправу, находился в эту минуту подле герцогини; глумясь над бедностью некоторых конфедератов-дворян, он сказал правительнице:
— Не бойтесь, ваша светлость, — это же нищие — это же гезы!
Этим он хотел сказать, что дворяне разорились то ли на коронной службе, то ли стараясь перещеголять по части роскоши испанских сеньоров.
Выражая свое презрение к словам Берлеймона, конфедераты потом объявили, что они «почитают за честь именоваться и называться Гезами, ибо они обнищали, служа королю и заботясь о благе народном».
Они стали носить на шее золотую медаль, на одной стороне которой было вычеканено изображение короля, а на другой — две руки, сплетенные над нищенской сумой, и надпись: «Верны королю вплоть до нищенской сумы». На шляпах и шапках они носили золотые бляшки в виде кружек и шапчонок, какие бывают у нищих.
А Ламме между тем по всему городу проминал свое пузо в поисках бесследно пропавшей жены.
7
В одно прекрасное утро Уленшпигель ему сказал:
— Пойдем засвидетельствуем свое почтение одной высокопоставленной, родовитой, могущественной и грозной особе.
— А эта особа скажет, где моя жена? — осведомился Ламме.
— Коли знает, так скажет, — отвечал Уленшпигель.
И они отправились к кутиле Геркулесу Бредероде.
Он был во дворе своего замка.
— Ты зачем пришел? — спросил он Уленшпигеля.
— Поговорить с вами, ваше сиятельство, — отвечал Уленшпигель.
— Говори, — сказал Бредероде.
— Вы — прекрасный, отважный, могущественный рыцарь, — начал Уленшпигель. — Много лет назад вы раздавили одного француза в панцире, как слизняка в ракушке. Но вы человек не только могущественный и отважный, но еще и мудрый. Зачем же вы носите медаль с надписью: «Верны королю вплоть до нищенской сумы»?
— Вот именно: почему, ваше сиятельство? — подхватил Ламме.
Бредероде молча смотрел на Уленшпигеля. Тот продолжал:
— Почему вы все, важные господа, желаете пребывать верными королю вплоть до нищенской сумы? За какие такие особые милости, за какие такие благодеяния? Не лучше ли, чем присягать ему на верность вплоть до нищенской сумы, отобрать у этого палача все его владения, чтобы он сам присягнул на верность нищенской суме?
Ламме одобрительно кивал головой.
Бредероде окинул Уленшпигеля зорким взглядом и, удостоверившись, что лицо у парня хорошее, усмехнулся.
— Если ты не лазутчик короля Филиппа, то ты добрый фламандец, — молвил он. — Я тебя награжу и в том и в другом случае.
Он повел Уленшпигеля в буфетную, Ламме последовал за ними. В буфетной Бредероде изо всех сил дернул Уленшпигеля за ухо.
— Это если ты лазутчик, — пояснил Бредероде.
Уленшпигель не пикнул.
— Принеси ему глинтвейну, — обратился к ключнику Бредероде.
Ключник принес чашу с душистым глинтвейном и большой кубок.
— Ива, — сказал Уленшпигелю Бредероде, — это за то, что ты добрый фламандец.
— Ах, добрый фламандец! — воскликнул Уленшпигель. — На каком прекрасном, на каком душистом языке говоришь ты со мною! Святые и те так не говорят.
Выпив с полкубка, он отдал остальное Ламме.
— А кто этот пузан, который получает награды, ничего не свершив? — осведомился Бредероде.
— Это мой друг Ламме, — пояснил Уленшпигель. — Когда он пьет глинтвейн, ему кажется, что он непременно найдет жену.
— Да, да — подтвердил Ламме, благоговейно прикладываясь к кубку.
— Куда же вы теперь направляетесь? — спросил Бредероде.
— Мы идем искать Семерых, которые должны спасти землю Фландрскую, — отвечал Уленшпигель.
— Кто эти Семеро? — спросил Бредероде.
— Дайте найти — тогда я вам скажу, кто они такие, — отвечал Уленшпигель.
Ламме повеселел от вина.
— Тиль, — сказал он, — а не поискать ли нам мою жену на луне?
— Вели поставить лестницу, — отвечал Уленшпигель.
Был май, зеленый май, и Уленшпигель сказал Ламме:
— Вот и чудный май на дворе! Заголубели небеса, залетали веселые ласточки, ветви деревьев покраснели от сока, земля жаждет любви. Самая пора вешать и сжигать людей за веру! Славные, милые инквизиторы и до нас добираются. Какие у них честные лица! Им дана власть исправлять, карать, позорить, предавать светскому суду, им дано право иметь свои особые тюрьмы (чудный месяц май!)… хватать, судить не по закону, сжигать, вешать, сечь головы, закапывать живьем женщин и девушек… (Зяблики поют!) Милые инквизиторы учредили особый надзор за людьми зажиточными. Король унаследует их достояние… Танцуйте же, девушки, на лугу под звуки волынок и свирелей! О чудный май!
Пепел Клааса бился о грудь Уленшпигеля.
— Идем! — сказал Уленшпигель Ламме. — Блажен, кто в эти черные дни сохранит прямоту души и меч свой будет держать высоко!
8
В один из августовских дней Уленшпигель шел в Брюсселе по Фландрской улице мимо дома Яна Сапермиллементе, которого называли так потому, что его дед со стороны отца в гневе употреблял это слово как бранное, дабы не изрыгать хулы на пресвятое имя господне. Помянутый Сапермиллементе был по роду своих занятий вышивальщик, но так как он не только оглох, но и ослеп от пьянства, то вместо него вышивала господам камзолы, плащи и туфли его жена, старая ведьма. Их миловидная дочка тоже в помощь матери занималась этим прибыльным делом.
И вот, проходя мимо их дома, Уленшпигель увидел в окне девушку и услышал ее голос:
Август, август, месяц теплый, Ты без лжи мне скажи: Замуж кто меня возьмет? Ты без лжи мне скажи!— А хоть бы и я! — молвил Уленшпигель.
— Ты? — спросила девушка. — Ну-ка, подойди поближе, я на тебя погляжу!
А он ей:
— Отчего это ты в августе спрашиваешь о том, о чем брабантские девушки спрашивают в самом конце февраля?
— Им только один месяц в году посылает женихов, а мне все двенадцать, — отвечала девушка. — И вот перед наступлением каждого из них, в шесть часов вечера, я вскакиваю с постели, задом наперед делаю три шага к окошку и говорю то, что ты сейчас слышал. Затем поворачиваюсь и делаю задом наперед три шага к кровати — и так до самой полуночи, а в полночь ложусь и засыпаю в надежде, что мне приснится суженый. Но месяцы, милые месяцы — они ведь злые насмешники, и снится мне не один суженый, а целых двенадцать сразу. Коли хочешь, будь тринадцатым.
— Другие приревнуют, — возразил Уленшпигель. — Твой клич тоже, стало быть, «Избавление»?
Девушка зарделась.
— Да, «Избавление», — отвечала девушка, — я знаю, чего хочу.
— И я знаю, — подхватил Уленшпигель, — вот я тебе его и несу.
— Подожди! — сказала она, улыбаясь и показывая белые зубки.
— Да чего ждать-то? — возразил Уленшпигель. — Не ровен час, дом мне свалится на голову, ураган сбросит в ров, бешеная собака укусит за ногу. Нет, я не согласен ждать!
— Я еще молода, — сказала девушка, — я гадаю о суженом только по обычаю.
Уленшпигель опять подумал о том, что брабантские девушки гадают о суженом перед наступлением марта, а не в пору жатвы, и в сердце к нему закралось сомнение.
— Я еще молода, я гадаю о суженом только по обычаю, — улыбаясь, повторила девушка.
— Будешь ждать, пока состаришься? — снова заговорил Уленшпигель. — Прогадаешь!.. В первый раз вижу такую округлую шею, такие белые фламандские груди, полные сытного молока, которым вскармливают сильных мужчин.
— Полные? — переспросила она. — Пока еще нет. Уж больно ты скор, прохожий!
— Ждать? — повторил Уленшпигель. — До тех пор, пока у меня все зубы выпадут и я уже не смогу тебя съесть в сыром виде, красотка? Что ж ты не отвечаешь? Только карие глазки твои и вишневые губки смеются.
Девушка бросила на него лукавый взгляд.
— Неужто ты в меня сразу влюбился? — спросила она. — Чем же ты занимаешься? Кто ты, гез или богач?
— Я — гез, я — бедняк, — отвечал Уленшпигель, — но я мигом разбогатею, как только стану обладать такой красавицей, как ты.
— Я тебя не о том спрашиваю, — сказала девушка. — Ты в церковь ходишь? Ты настоящий христианин? Где ты живешь? Уж не Гез ли ты — из тех Гезов, что не признают королевских указов и инквизиции?
Пепел Клааса бился о грудь Уленшпигеля.
— Да, я — Гез, — отвечал Уленшпигель. — Я хочу отдать червям на корм всех; кто утесняет нидерландский народ. Ты смотришь на меня растерянным взглядом. Во мне горит пламя любви к тебе, красотка, — то пламя юности. Его зажег господь бог, и оно, как солнце, будет пылать, пока не погаснет. Но в сердце у меня полыхает и огонь мести, возжженный тоже господом богом. Зазвенят мечи, зажгутся костры, загуляет удавка, вспыхнут пожары, будет запустение, будет война и гибель палачей.
— Ты пригож, — с печальным видом сказала девушка и поцеловала его в обе щеки, — но только помалкивай.
— О чем ты плачешь? — спросил Уленшпигель.
— Всегда надо прежде оглядеться, а потом уж болтать, — сказала девушка.
— А что, разве у этих стен есть уши? — спросил Уленшпигель.
— Кроме моих ушей, никаких других здесь нет, — отвечала она.
— Твои ушки сотворил Амур; и я их сейчас завешу поцелуями.
— Слушай, что я тебе говорю, ветрогон!
— А что такое? Что ты мне хочешь сказать?
— Да слушай же! — повторила с досадой девушка. — Вон идет моя мать… Не болтай, не болтай, особенно при ней!..
Подошла старуха Сапермиллементе. Уленшпигель оглядел ее с головы до ног.
«Рожа точно шумовка, — подумал он, — глаза холодные и лживые, вместо улыбки выходит гримаса — премилая, я вам доложу, старушка!»
— Здравствуйте, сударь, здравствуйте! — сказала она ему и обратилась к девушке: — Ну, дочка, хорошо мне заплатил, щедро мне заплатил граф Эгмонт — я ведь ему на плаще шутовской колпак вышила. Да, сударь, шутовской колпак — назло Красной собаке[133].
— Кардиналу Гранвелле? — спросил Уленшпигель.
— Да, да, Красной собаке, — повторила старуха. — Говорят, будто он доносит на них королю, — вот они и хотят его изничтожить. Хорошо сделают, как вы скажете?
Уленшпигель молчал.
— Вы поди встречали их на улице: на них камзолы и серые opperstkleed'ы, какие носит простой народ, с длинными рукавами я монашескими капюшонами, и на всех opperstikleed'ах вышит шутовской колпак. Я их вышила по меньшей мере двадцать семь, а дочка — пятнадцать. Красная собака обозлилась!
Тут старуха зашептала Уленшпигелю на ухо:
— Теперь они решили заменить шутовской колпак снопом колосьев — знаком единения, это я знаю наверное. Да, да, они встают мятежом на короля и на инквизицию. Молодцы! Правда, сударь?
Уленшпигель молчал.
— Господин приезжий, видно, чем-то огорчен: как воды в рот набрал, — заметила старуха.
Уленшпигель молча удалился.
Малое время спустя он, чтобы не разучиться пить, вошел в трактир с музыкой. Трактир был поло-н посетителей, и они громко говорили о короле, о ненавистных указах, об инквизиции и о том, что Красную собаку нужно выгнать вон. Вдруг Уленшпигель увидел старуху: одетая в рубище, она как будто подремывала над стаканчиком водки. Так она сидела долго, потом вынула из кармана тарелочку и начала обходить столики, особенно настойчиво прося милостыню у самых невоздержных на язык.
И простаки, не скупясь, бросали ей флорины, денье и патары.
В надежде выведать у девушки то, чего ему не сказала старуха Сапермиллементе, Уленшпигель опять прошел мимо их дома. На этот раз девушка не гадала о суженом — она улыбнулась ему и подмигнула, словно обещая приятную награду.
Уленшпигель невзначай оглянулся — сзади стояла старуха.
Уленшпигель в бешенстве с быстротой оленя бросился бежать по улице, крича: 'Tbrandt! 'Tbrandt! (Пожар! Пожар!) И так добежал он до дома булочника Якоба Питерсена. Окна этого дома, застекленные по немецкому образцу, пламенели в багровых лучах заката. Как раз в это время у булочника жарко топилась печь, и из трубы валил густой дым. Уленшпигель все бежал и, указывая на дом Якоба Питерсена, вопил: 'Tbrandt! 'Tbrandt! Сбежался народ и, увидев красные окна и густой дым, тоже давай кричать: 'Tbrandt! 'Tbrandt! (Дом горит! Дом горит!) Соборный сторож затрубил в рог, а звонарь что было мочи зазвонил в сполошный колокол. С пеньем и свистом налетели стайки мальчишек и девчонок.
Старуха Сапермиллементе, удостоверившись, что колокол и рог гудят не переставая, сорвалась с места и умчалась.
Уленшпигель за ней следил. Когда она скрылась из виду, он вошел к ним в дом.
— Это ты? — спросила девушка. — Да ведь там же горит?
— Там ничего не горит, — отвечал Уленшпигель.
— А почему так заунывно гудит колокол?
— Он сам не знает, что делает, — отвечал Уленшпигель.
— А почему зловеще воет рог, а почему народ бежит?
— Число глупцов бесконечно.
— Так где же горит? — спросила девушка.
— Горят твои глаза, и пылает мое сердце, — отвечал Уленшпигель и впился в ее губы.
— Ты съешь меня! — сказала девушка.
— Я люблю вишни, — сказал Уленшпигель.
Она посмотрела на него улыбчивым и вместе грустным взглядом. И вдруг расплакалась.
— Не ходи ко мне больше, — сказала она. — Ты — Гез, враг папы, не ходи!..
— Твоя мать…
— Да, да, — вся вспыхнув, перебила его девушка. — Знаешь, где она сейчас? На пожаре, слушает, что говорят. А знаешь, куда она пойдет потом? К Красной собаке — рассказать обо всем, что вызнала, чтобы облегчить труд герцога, который скоро к нам явится. Беги, Уленшпигель! Я тебя не выдам. Беги! Еще разок поцелуй меня — и больше не приходи! Ну, еще раз! Пригожий ты мой! Ты видишь: я плачу. Нет, нет, уходи, уходи!
— Хорошая ты девушка! — сжимая ее в объятиях, сказал Уленшпигель.
— Прежде я была плохая, такая же, как мать… — сказала девушка.
— Стало быть, эти зазывы, это привораживанье женихов…
— Да, да, — сказала девушка. — Так мне приказывала мать. Но тебя я не выдам — я тебя полюбила. Других я тоже не выдам — в память о тебе, мой любимый. А когда ты будешь далеко, твое сердце напомнит тебе о раскаявшейся девушке? Поцелуй меня, милый! Она уже не будет за деньги поставлять жертвы на костер. Уходи! Нет, побудь еще! Какая у тебя нежная рука! Гляди — я целую твою руку: это знак покорности, ты мой властелин. Слушай! Стань ближе и молчи! Нынче ночью у нас в доме собрались недобрые люди, между прочим какой-то итальянец; входили они поодиночке. Мать провела их вот в эту комнату, а мне велела выйти и запереть дверь. До меня доносились отдельные слова: «Каменное распятие… Боргергутские ворота… Крестный ход… Антверпен… Собор богоматери…», приглушенный смех и звон флоринов, которые кто-то считал на столе… Беги! Мать идет! Беги, мой любимый! Не поминай меня лихом! Беги!..
Уленшпигель послушался ее, дал стрекача и, прибежав в таверну «Старый Петух» — in den «Ouden Haen», застал там Ламме: тот уныло жевал колбасу и допивал седьмую кружку лувенского peterman'а[134].
Проникшись доводами Уленшпигеля, Ламме, несмотря на свою толщину, пустился бежать вместе с ним.
9
Духом домчались они до улицы Эйкенстраат, и там Уленшпигель обнаружил злобный пасквиль на Бредероде. С этим пасквилем он пошел прямо к нему.
— Ваше сиятельство! — сказал Уленшпигель. — Я тот самый добрый фламандец и королевский лазутчик, которому вы так здорово надрали уши и которого вы угостили таким превосходным глинтвейном. Я вам принес подметное письмецо, где вас, между прочим, обвиняют в том, что вы, подобно королю, именуете себя графом Голландским. Письмецо прямо из печатни Яна Наушникена, проживающего близ Мерзавской набережной, в Лиходейном тупике.
Бредероде засмеялся и сказал:
— Если ты мне не откроешь, кто сочинял письмо, я велю тебя сечь два часа без передышки.
— Секите меня, ваше сиятельство, не два часа, а хоть два года без передышки, — подхватил Уленшпигель, — все равно мой зад не скажет вам того, чего не знают мои уста.
Как бы то ни было, он получил флорин за труды и с тем удалился.
10
В июне, месяце роз, во всех концах земли Фландрской началась открытая проповедь евангельского учения.
Приверженцы церкви первых веков христианства проповедовали везде и всюду[135]: в полях и садах, на холмах, где спасаются от наводнения животные, на речных судах.
На суше они проповедовали как бы в укрепленных лагерях — со всех сторон их окружали повозки. На реках и в гаванях охраняли проповедников сторожевые лодки с вооруженными людьми.
В лагерях несли караул мушкетеры и аркебузиры, дабы неприятель не напал врасплох.
И свободное слово звучало из края в край нашей родной земли.
11
В Брюгге Уленшпигель и Ламме оставили повозку на постоялом дворе, а сами пошли не в таверну, ибо в их кошельках не раздавалось более веселого звяканья монет, а в Храм Спасителя.
На кафедре неистовствовал грязный, нахальный, злобный крикун — монах-минорит Корнелис Адриансен.
Вокруг кафедры теснились молоденькие, хорошенькие святоши.
Отец Корнелис говорил о страстях Христовых. Дойдя до того места в святом Евангелии, где рассказывается, как иудеи кричали Пилату, указывая на Иисуса Христа: «Распни, распни его! Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть», проповедник воскликнул:
— Слышите, братья и сестры? Почему господь наш Иисус Христос претерпел смерть, страшную и позорную? Потому что и тогда существовали законы еретиков. Значит, он был осужден справедливо, ибо преступил закон. И ныне злочестивцы ни во что не ставят эдикты и указы. Господи Иисусе! За что проклял ты наши края! Пресвятая матерь божья! Что, если бы жив был император Карл? Что, если бы он видел, до чего дошли в своем нечестии дворяне-конфедераты, дерзнувшие ходатайствовать перед правительницей об упразднении инквизиции и об отмене указов, изданных не сгоряча, а по зрелом размышлении, после долгих раздумий, и преследующих благую цель — уничтожение всех и всяческих сект и ересей! И вот эти-то самые указы, которые человеку нужнее хлеба и сыра, конфедераты стремятся упразднить! В какую зловонную, смрадную, мерзкую бездну хотят они нас столкнуть! Лютер, гнусный Лютер, этот бешеный бык, одержал победу в Саксонии, в Брауншвейге, в Люнебурге, в Мекленбурге[136]. Бренциус[137], бренную плоть свою поддерживавший в Германии желудями, от которых свиньи и те воротили рыло, одержал победу в Вюртемберге. Бес и балбес Сервет[138], тринитарий Сервет царит в Померании, Дании и Швеции, изрыгая хулу на пресвятую, преславную и всемогущую Троицу. Да. Впрочем, я слыхал, будто его живьем сжег Кальвин[139] — хоть одно доброе дело сделал. Да, этот самый вонючий Кальвин, от которого несет потом, у которого голова продолговатая, как у выдры, у которого щеки лоснятся от жира, а зубы — что лопаты. Да, волки пожирают друг друга. Да, бык Лютер, бешеный бык Лютер поднял немецких государей на анабаптиста Мюнцера[140], а Мюнцер, говорят, был человек хороший и жил по Писанию. И во всей Германии слышен рев этого быка! Да!
Да, а что же мы видим во Фландрии, Гельдерне, Фрисландии, Голландии, Зеландии? Адамиты[141] бегают по улицам нагишом. Да, братья и сестры, по улицам нагишом, бесстыдно выставляя напоказ тощие свои телеса. Вы скажете, что нашелся только один? Хорошо, пусть только один, но один стоит сотни, а сотня стоит одного. Вы скажете, он был сожжен, он был сожжен живьем по просьбе кальвинистов и лютеран? А я говорю вам: это волки пожирают друг друга!
Да, что же мы видим во Фландрии, Гельдерне, Фрисландии, Голландии, Зеландии? Вольнодумцев, учащих, что всяческое рабство противно богу. Лгут, злосмрадные еретики! Нам надлежит быть покорными святой матери нашей — римской церкви. А они там, в Антверпене, этом гнездилище еретической сволочи всего мира, осмеливаются утверждать, будто мы изготовляем священное миро из собачьего сала. На перекрестке восседает на ночном горшке оборванец и орет: «Нет ни бога, ни вечной жизни, ни воскресения, ни вечной муки». Другой кричит дурным голосом: «Можно крестить без соли, без жира, без плевков, без заклинаний, без свечей!» Третий вопит: «Никакого чистилища нет!». Никакого чистилища нет! Ведь это что ж такое, други мои, а? Лучше согрешить с матерями, с сестрами, с дочерьми, нежели усомниться в чистилище.
Да, а они еще задирают нос перед инквизитором, перед этим святым человеком, да! Четыре тысячи кальвинистов нагрянули в Белем, неподалеку отсюда, с вооруженной охраной, со знаменами и барабанами. Да! Даже сюда доносится чад от их стряпни. Они завладели храмом святой Катлины и позорят его, поганят, сквернят богопротивными своими проповедишками.
О зловредная, о непростительная терпимость! Тысяча исчадий ада! Что же вы, мягкотелые католики, тоже не беретесь за оружие? Ведь у вас, как и у окаянных кальвинистов, есть и панцири, и копья, и алебарды, и шпаги, и мечи, и арбалеты, и ножи, и дубины, и пики, и фальконеты, и кулеврины.
Вы скажете, что они миролюбивы, что они хотят лишь свободно и спокойно внимать слову божию? По мне, все едино. Гоните их из Брюгге, гоните в три шеи, перебейте мне их, вышвырните всех кальвинистов из храма! Как, вы еще здесь? Эх вы, мокрые курицы! Я провижу то время, когда окаянные кальвинисты станут бить ваших жен и дочерей по животу, как в барабан, а вы за них не заступитесь, тряпки, размазни! Нет уж, не ходите, не ходите… а то еще в штаны напустите. Позор жителям Брюгге! Позор католикам! Какие же вы после этого католики? Жалкие трусы — вот вы кто! Как вам не стыдно, селезни, утки, гусыни, индюшки вы этакие?
У вас есть прекрасные проповедники, — зачем же вы ходите толпами слушать, как еретики изблевывают свои враки? Девчонки бегают по ночам на проповеди, да, а девять месяцев спустя наплодят вам гезенят обоего пола. На церковном погосте проповедовали четверо нахальных сквернавцев. Один из сих сквернавцев, тощий, бледный, уродливый за…нец, был в грязной шляпенке. Он так ее нахлобучил, что ушей не было видно. Кто-нибудь из вас видел уши проповедника? Сорочки на нем не было, из рукавов-камзола торчали голые руки. Я хорошо его разглядел, хоть он и кутался в грязный плащишко. Мне хорошо было видно через его сквозные, словно колокольня антверпенского собора, штаны, как раскачивались там его колокольчики, видел я и естественное его било. Другой сквернавец проповедовал в одном камзоле и босиком. Ушей у него тоже никто не видал. На середине своей проповедишки он запнулся, а детвора давай его дразнить: «У! У! Не выучил урока!» Третий нахальный сквернавец был в грязной дрянной шляпенке с перышком. Ушей у него тоже не было видно. Четвертый сквернавец, Германус, был одет поприличней, но, говорят, палач дважды накладывал ему клеймо на плечо, да!
У всех под шляпами засаленные шелковые ермолки, прикрывающие им уши. Вы когда-нибудь видели у лютеранского проповедника уши? Кто из этих сквернавцев отважился показать уши? Да, уши! Не так-то это просто — показать уши, когда они отрезаны! Палач — вот кто отрезал им уши, да!
И все-таки этим вот нахальным сквернавцам, карманным воришкам, тунеядцам и шалопаям, голоштанным проповедникам, народ кричит: «Да здравствует Гез!», точно все повзбесились, с ума посходили, не то перепились.
Если в Нидерландах можно безнаказанно горланить: «Да здравствует Гез! Да здравствует Гез!», то нам, бедным служителям римско-католической церкви, остается только уйти. Господи Иисусе Христе! Какое страшное проклятье отяготело над этим обмороченным глупым народом! Богатые и бедные, благородные и худородные, старые и молодые, мужчины и женщины — все в один голос орут: «Да здравствует Гез!»
Но что же это за голь перекатная явилась к нам из Германии? Все свое достояние эти господа ухлопали на блуд, на игорные притоны, на шлюшек, на потаскушек, на бесчинство, на непотребство, на мерзостную игру в кости, на пышные наряды. У этой гольтепы ржавого гвоздя не осталось, чтобы поскрести там, где чешется. Теперь они подбираются к церковному и монастырскому имуществу.
На пиру у сквернавца Кюлембурга был другой сквернавец Бредероде, и они оба пили из деревянных кружек, чтобы выразить свое презрение к мессиру Берлеймону и к правительнице, да! И оба кричали: «Да здравствует Гез!» Ну, уж если б я, — прости, господи, мое согрешение, — был богом, я бы превратил их напиток, будь то пиво или вино, в отвратительные грязные помои, да, в грязную, мерзкую, вонючую воду, в которой стирались их загаженные сорочки и простыни.
Да, да, ослы вы этакие, ревите, ревите: «Да здравствует Гез!» Да, я ваш пророк! Все проклятия, все казни — горячка, чума, пожары, разорение, запустение, моровая язва, лихорадка, черная оспа — падут на головы нидерландцев, да! Так будет отомщен господь за ваш подлый рев: «Да здравствует Гез!» Камня на камне не останется от ваших домов, и ни одна косточка не уцелеет от ваших проклятых ног, бежавших за этой прохвостней-кальвинистней. И да сбудется все мною реченное! Аминь! Аминь! Аминь!
— Пойдем-ка отсюда, сын мой, — сказал Уленшпигель Ламме.
— Сейчас, — сказал Ламме.
Он поискал жену среди молоденьких хорошеньких святош, внимавших проповеди, но так и не нашел.
12
Уленшпигель и Ламме приблизились к месту, получившему название Minnewater — «Вода любви». Впрочем, великие ученые, умники-разумники, утверждают, что надо говорить Minrewater — «Вода миноритов»[142]. Усевшись на бережку, Уленшпигель и Ламме увидели, что под густолиственными деревьями, образовавшими как бы низкий свод, гуляют под руку, тесно прижавшись, глаза в глаза, мужчины и женщины, девушки и парни, все в цветах, и так они были полны друг другом, что, казалось, весь остальной мир перестал для них существовать.
Уленшпигель невольно вспомнил о Неле. От этого воспоминания ему стало грустно, и он сказал:
— Пойдем выпьем!
Но Ламме не слышал — он тоже смотрел на влюбленные пары.
— Вот так когда-то и мы, я и моя жена, миловались перед носом у тех, кто, вроде нас с тобой, посиживал без подруги на бережку, — сказал он.
— Пойдем выпьем, — повторил Уленшпигель, — мы найдем Семерых на дне кружки.
— Ты что, пьян? — возразил Ламме. — Ты же знаешь, что Семеро — это великаны и что им не выпрямиться во весь рост даже в Храме Спасителя.
Грустная дума о Неле не мешала Уленшпигелю думать и о том, что в какой-нибудь гостинице его, быть может, ожидают надежное пристанище, сытный ужин и радушная хозяйка.
— Пойдем выпьем! — в третий раз проговорил он.
Но Ламме не слушал его, он смотрел на колокольню Собора богоматери и молился:
— Пресвятая богородица, покровительница состоящих в законном браке, дай мне еще раз увидеть мягкую подушечку — белую ее грудь!
— Пойдем выпьем, — настаивал Уленшпигель, — она, уж верно, в трактире — показывает свою белую грудь пьянчугам.
— Как ты смеешь худо о ней думать? — воскликнул Ламме.
— Пойдем выпьем, — твердил Уленшпигель, — она, конечно, держит где-нибудь трактир.
— Тебе выпить хочется — вот ты и злишься, — огрызнулся Ламме.
А Уленшпигель продолжал:
— А что, если она приготовила для бедных путников отменную тушеную говядину с острыми приправами, благоухающими на весь трактир, говядину не жирную, сочную, нежную, как лепестки розы, плавающую, будто рыба на масленице, меж гвоздики, мускатного ореха, петушьих гребешков, телячьих желез и прочих дивных яств?
— Вот пакостник! — вскричал Ламме. — Ты что, задался целью меня уморить? Забыл, что мы уже два дня пробавляемся черствым хлебом да скверным пивом?
— Тебе есть хочется — вот ты и злишься. Скулишь от голода. Ну так давай выпьем и закусим! — предложил Уленшпигель. — У меня еще осталось полфлорина — на это можно устроить целое пиршество.
Ламме повеселел. Оба сели в повозку и поехали по городу, высматривая трактир получше. Но им все попадались угрюмого вида baes'ы и не весьма приветливые baesin'ы, и потому они, полагая, что злющая рожа — плохая вывеска для странноприимных заведений, нигде не решались остановиться.
Наконец они доехали до Субботнего рынка и зашли в трактир под вывеской «Blauwe Lanteern» — «Синий Фонарь». Наружность baes'а на сей раз показалась им располагающей.
Повозку они вкатили под навес, а осла оставили в стойле, в обществе торбы с овсом. Потом заказали себе ужин, вволю наелись, отлично выспались, встали — и опять за еду.
Ламме ел так, что за ушами трещало, и все приговаривал:
— В животе у меня небесная музыка.
Когда настало время расплачиваться, baes подошел к Ламме и сказал:
— С вас десять патаров.
— Деньги у него, — показав на Уленшпигеля, молвил Ламме.
— У меня денег нет, — сказал Уленшпигель.
— А где же твои полфлорина? — спросил Ламме.
— Нет у меня полфлорина, — отвечал Уленшпигель.
— Нет так нет, — сказал baes, — тогда я сниму с вас обоих куртки и рубахи.
Но тут вдруг Ламме начал спьяну куражиться:
— А если я хочу еще выпить и закусить, выпить и закусить, а? Хоть на двадцать семь флоринов? Кто мне может запретить? Ты, брат, не думай, мое пузо особенное. Вот тебе крест, оно до сего дня одними ортоланами питалось. У тебя под твоим грязным ремнем никогда такого пуза не будет. Ты нехороший человек, и у тебя весь жир на воротнике твоей куртки, а у меня на пузе аппетитное сальце в три пальца толщиной!
Baes пришел в совершенное неистовство. Он был заика, а ему хотелось все сразу выпалить, и чем больше он торопился, тем сильнее фыркал, точно собака, сейчас только, вылезшая из воды. Уленшпигель швырял ему в нос хлебные шарики, а Ламме, все более и более воодушевляясь, продолжал:
— Ты думаешь, мне нечем заплатить за трех твоих дохлых кур, за четырех паршивых цыплят и за дурака павлина, что метет обгаженным хвостом твой птичий двор? Когда бы твоя кожа не была суше, чем у старого петуха, когда бы твои кости уже не крошились, я бы еще наскреб денег, чтобы и тебя самого съесть, и твоего сопливого слугу, и твою кривую служанку, и твоего кухаря, который и почесаться-то не сможет, ежели его мучает зуд, — до того короткие у него руки. Какой нашелся: за полфлорина хочет отнять у нас куртки и рубахи! Ты лучше скажи, что стоит все твое платье, драный нахал, — я тебе больше трех лиаров за него все равно не дам.
А baes все пуще и пуще гневался и все сильнее пыхтел.
А Уленшпигель между тем бросал хлебные шарики прямо ему в лицо.
Ламме, исполнившись львиной отваги, продолжал:
— Как по-твоему, дохлятина, сколько стоит прекрасный осел с тонкой мордочкой, длинными ушами и широкой грудью, неутомимый в пути? По малой мере восемнадцать флоринов — ведь так, паскудный трактирщик? Чем бы ты заплатил за такое чудное животное? Ржавыми гвоздями от сундуков?
Baes еще сильней запыхтел, но, видимо, боялся пошевелиться.
А Ламме говорил не умолкая:
— Ну, а сколько, по-твоему, стоит превосходная ясеневая повозка, выкрашенная в ярко-красный цвет, с верхом из куртрейской парусины, защищающим от дождя и солнца? По малой мере двадцать четыре флорина, верно? А сколько будет двадцать четыре и восемнадцать? Отвечай, невежественный скаред! Нынче базарный день, в твоей грязной харчевне полно мужиков, и я им свой товар живо спущу!
Все его тут знали, и он мигом продал и осла и повозку. Получил он за все про все двадцать четыре флорина десять патаров.
— Понюхай, чем пахнет! — сказал он, поднеся деньги к самому носу baes'а. — Ведь правда, пирушкой?
— Пирушкой, — подтвердил хозяин и прибавил шепотом: — Когда ты будешь продавать свою кожу, я ее куплю за лиар и сделаю из нее талисман, помогающий от мотовства.
Между тем в окно со скотного двора поглядывала на Ламме премиленькая, прехорошенькая бабеночка, но как скоро он оборачивался, славное личико мгновенно скрывалось.
А вечером, когда он, спотыкаясь под действием винных паров, поднимался в темноте по лестнице, какая-то женщина обняла его, крепко поцеловала в щеки, в губы и даже в нос, смочила ему лицо слезами любви и так же внезапно исчезла.
Ламме порядком развезло, он лег и сейчас же уснул, а наутро отправился с Уленшпигелем в Гент.
13
Здесь он искал жену по всем kaberdoesj'ам, трактирам с музыкой и тавернам. Вечером он встретился с Уленшпигелем in de «Zingende Zwaan», в «Поющем Лебеде». Уленшпигель всюду, где только мог, сеял бурю и поднимал народ на палачей, терзавших родимый край.
На Пятничном рынке, возле Большой пушки, именовавшейся Dulle Griet[143], Уленшпигель лег плашмя на мостовую.
Мимо проходил угольщик.
— Ты что это? — спросил он.
— Мочу нос, чтобы узнать, откуда ветер дует, — отвечал Уленшпигель.
Потом прошел столяр.
— Никак, ты принял мостовую за перину? — спросил он.
— Скоро она кое для кого одеялом станет, — отвечал Уленшпигель.
Затем подле него остановился монах.
— Что ты тут делаешь, лоботряс? — спросил он.
— Я распростерся ниц, дабы испросить у вас благословение, отец мой.
Монах благословил его и пошел своей дорогой.
Уленшпигель приложил ухо к земле. В это время к нему подошел крестьянин.
— Ты что-нибудь слышишь? — спросил он.
— Слышу, — отвечал Уленшпигель, — слышу, как растут деревья, которые пойдут на костры для несчастных еретиков.
— А больше ничего не слышишь? — спросил общинный стражник.
— Слышу, как идет испанская конница, — отвечал Уленшпигель. — Если у тебя есть что спрятать, то зарой в землю: скоро от воров в городах житья не станет.
— Он дурачок, — сказал стражник.
— Он дурачок, — повторяли горожане.
14
А Ламме ничего не пил, не ел — все думал о светлом видении на лестнице Blauwe Lanteern'а. Душа его стремилась в Брюгге, но Уленшпигель потащил его в Антверпен, и там он продолжал напрасные поиски.
Уленшпигель ходил по тавернам и растолковывал добрым фламандцам-реформатам и свободолюбивым католикам, куда метят королевские указы:
— Король вводит в Нидерландах инквизицию, чтобы очистить нас от ереси, но этот ревень подействует на наши кошельки, и ни на что больше. Мы принимаем только такие снадобья, которые нам нравятся. А коли снадобье нам не по нраву, мы обозлимся, возмутимся и вооружимся. И король это прекрасно знает. Как скоро он удостоверится, что ревеню мы не хотим, он выставит против нас клистирные трубки, то бишь тяжелую и легкую артиллерию: серпентины, фальконеты и широкожерлые мортиры. Королевское промывательное! После него Фландрию так пронесет, что во всей стране не останется ни одного зажиточного фламандца. Какой мы счастливый народ: лекарем при нас состоит сам король!
Горожане смеялись.
А Уленшпигель говорил им:
— Сегодня, пожалуй, смейтесь, но в тот день, когда в Соборе богоматери хоть что-нибудь разобьется, немедля разбегайтесь или же беритесь за оружие.
15
Пятнадцатого августа, в день Успения пресвятой богородицы и в день освящения плодов и овощей, в день, когда сытые куры бывают глухи к призывам вожделеющих петухов, у Антверпенских ворот некий итальянец, состоявший на службе у кардинала Гранвеллы, разбил большое каменное распятие[144], а в это самое время из Собора богоматери вышел крестный ход, впереди которого шли дурачки, придурки и дураки.
Но по дороге какие-то неизвестные люди надругались над статуей богоматери, и ее сейчас же унесли обратно в церковь, поставили на амвоне и заперли на замок решетчатую ограду.
Уленшпигель и Ламме вошли в Собор богоматери. У амвона юные оборванцы, голоштанники и какие-то совсем неизвестные люди кривлялись и делали друг другу таинственные знаки. Они топали ногами и прищелкивали языком. Никто их в Антверпене ни прежде, ни после не видел. Один из них, похожий лицом на печеную луковицу, спросил Мике (так называл он божью матерь), почему она так быстро вернулась в церковь, кого она испугалась.
— Уж конечно, не тебя, эфиопская твоя рожа, — вмешался Уленшпигель.
Парень полез было к нему с кулаками, но Уленшпигель схватил его за шиворот и сказал:
— А ну попробуй тронь — я у тебя язык вырву!
Затем он обратился к находившимся в соборе антверпенцам.
— Signork'и и pagader'ы[145], не слушайте вы их! — указывая на юных голодранцев, сказал он. — Это не настоящие фламандцы, это предатели, нанятые для того, чтобы нам навредить, чтобы разорить и погубить нас. — Потом он повел речь с незнакомцами. — Эй вы, ослиные морды! — крикнул он. — Ведь вы с голоду подыхали — откуда же у вас нынче деньги завелись? Ишь как звенят в кошельках! Или вы запродали свою кожу на барабаны?
— Подумаешь, какой проповедник! — огрызались незнакомцы.
Потом они заговорили все вдруг о божьей матери:
— На Мике нарядное платье! На Мике Красивый венец! Вот бы моей милке такой!
Затем они направились к выходу, но в это время один из них поднялся на кафедру и оттуда стал молоть всякий вздор — тогда его товарищи вернулись и опять загалдели:
— Сойди к нам, Мике, сойди, пока мы сами за тобой не пришли! Довольно тебя на руках носили, лентяйка, — сотвори чудо, покажи, что ты умеешь ходить!
Напрасно Уленшпигель кричал:
— Прекратите гнусные речи, громилы! Всякий грабитель — преступник!
Они продолжали глумиться, а иные подстрекали товарищей сломать решетку и стащить Мике с амвона.
Тут старуха, продававшая свечи, швырнула им в глаза золой из своей жаровни. Оборванцы бросились на нее, повалили на пол, избили — и начался кавардак.
В собор явился маркграф со своими стражниками. Увидев все это сонмище, он приказал очистить храм, но Приказал так нерешительно, что удалились немногие. Прочие же объявили:
— Мы хотим отстоять всенощную в честь Мике.
— Всенощной не будет, — сказал маркграф.
— Тогда мы сами отслужим, — объявили никому не ведомые оборванцы.
И тут во всех приделах и в притворе раздалось пение. Некоторые играли в krieke steenen (в вишневые косточки) и кричали:
— Мике, ты в раю никогда не играешь, тебе поди скучно, — поиграй с нами!
Так, не умолкая ни на минуту, они богохульствовали, галдели, гикали, свистели.
Маркграф будто бы с перепугу исчез. По его распоряжению все двери храма были заперты, за исключением одной.
Народ не принимал во всем этом никакого участия, по пришлая рвань все наглела и вопила все громче и громче. Своды храма дрожали, как от залпа сотни орудий.
Наконец прощелыга, у которого морда была как печеная луковица, — по-видимому, главарь всей шайки, — влез на кафедру, сделал знак рукой и произнес проповедь.
— Во имя отца и сына и святаго духа, бога, единого по существу, но троичного в лицах! — начал он. — Господи, хоть бы в раю ты избавил нас от арифметики! Двадцать девятого сего августа Мике в пышном уборе явила свой деревянный лик антверпенским signork'ам и pagader'ам. Но во время крестного хода ей повстречался сам сатана и сказал в насмешку: «Вырядилась ты, как королева, Мике, несут тебя четыре signork'а, вот ты и заважничала и даже не взглянешь на сатану, а он, бедный pagader, идет пешком». Мике ему на это сказала: «Отойди, сатана, не то я сокрушу твою главу, окаянный змий!» — «Мике, — говорит ей сатана, — ведь ты уже полторы тысячи лет только этим и занимаешься, но дух господа, твоего повелителя, освободил меня. Теперь я сильнее, чем ты, ты мне уже на голову не наступишь, ты у меня запляшешь!» Тут сатана схватил хлесткую плеть — и ну стегать Мике, а Мике, чтобы не показать, что она испугалась, даже не вскрикнула и припустилась рысью, signork'ам же, которые ее несли, ничего не оставалось делать, как тоже перейти на рысь, иначе они бы ее на глазах у нищего люда уронили вместе с ее золотым венцом и побрякушками. И теперь Мике тихо, смирно стоит у себя в нише и смотрит на сатану, а тот уселся на колонне под куполом, грозит ей плеткой и издевается: «Ты мне заплатишь за всю кровь и за все слезы, пролитые во имя твое! Ну, Мике, как твое девственное здравие? Выходи-ка, выходи! Сейчас тебя разрубят пополам, скверная ты деревяшка, за всех живых людей, которых без милосердия сжигали, вешали, закапывали во имя твое!» Так говорил сатана — и он говорил дело. Видно, придется тебе вылезти из своей ниши, Мике кровожадная, Мике жестокая, непохожая на сына своего Христа!
И тут вся орава проходимцев загикала, завопила, завыла:
— Выходи, выходи, Мике! Небось обмочилась со страху? А ну, кто добрый герцог, тому и Брабант! Круши истуканов! Выкупаем их в Шельде! Дерево плавает получше рыб!
Народ слушал молча.
Вдруг Уленшпигель взбежал на кафедру и заставил «проповедника» пересчитать ступеньки.
— Вы что, — свихнулись, рехнулись, спятили? — крикнул он горожанам. — Неужто вы дальше своего сопливого носа ничего не видите? Неужто вы не понимаете, что тут орудуют предатели? Все это они подстраивают нарочно, чтобы потом вас же обвинить в святотатстве и грабеже, чтобы ославить вас бунтовщиками и в конце концов повыкинуть все добро из ваших сундуков, а вас самих обезглавить или сжечь на костре. Имущество же ваше достанется королю. Signork'и и pagader'ы, не слушайте вы смутьянов! Оставьте в покое божью матерь, трудитесь, веселитесь, живите-поживайте и добра наживайте! Черный дух погибели уставил на вас свое око — это он подбивает вас на грабеж и погром, чтобы наслать на вас неприятельское войско, чтобы с вами обошлись потом как с бунтовщиками, чтобы поставить над вами Альбу[146], а тот, облеченный неограниченной властью, будет править, опираясь на инквизицию, будет вас дотла разорять и казнить! А достояние ваше отойдет к нему!
— Эй, не громите, signork'и и pagader'ы! — крикнул Ламме. — Король и так уже гневается. Мой друг Уленшпигель слышал об этом от дочери вышивальщицы. Не надо громить, господа!
Но народ не слышал, что они говорили.
Проходимцы орали во всю глотку:
— Грабь, хватай! Кто добрый герцог, тому и Брабант! Истуканов в воду! Они плавают получше рыб!
Напрасно Уленшпигель кричал с кафедры:
— Signork'и и pagader'ы, не давайте им громить! Не погубите родной город.
Как он ни отбивался руками и ногами, его все же стащили с кафедры, исцарапали ему лицо и изорвали на нем куртку и штаны. Окровавленный, он продолжал взывать к народу:
— Не давайте им громить!
Но это ни к чему не привело.
Пришлые и местный сброд с криком: «Да здравствует Гез!» — бросились к амвону и сломали решетку.
И пошли крушить, хватать, громить! К полуночи весь громадный храм с семьюдесятью престолами, с великим множеством прекрасных картин и драгоценностей напоминал пустой орех. Престолы были повалены, статуи сброшены, все замки взломаны.
Учинив разгром собора, те же самые проходимцы положили разнести миноритскую церковь, францисканскую, церковь во имя апостола Петра, Андрея Первозванного, Михаила Архангела, апостола Петра на Гончарной, пригородную церковь, церковь Белых сестер, церковь Серых сестер, церковь Третьего ордена, церковь доминиканцев и все остальные храмы и часовни. Расхватав свечи и факелы, они разбежались по разным церквам.
Между ними не возникало ни ссор, ни раздоров. Во время этого великого разрушения летели камни, обломки, осколки, но никто из них не был ранен.
Затем они перебрались в Гаагу и там тоже сбрасывали статуи и громили алтари, но ни в Гааге, ни где-либо еще реформаты к ним не присоединялись[147].
В Гааге бургомистр спросил подстрекателей, есть ли у них на то дозволение.
— Вот оно где, — отвечал один из них и приложил руку к сердцу.
— Вы слышите, signork'и и pagader'ы? Дозволение! — узнав об этом, вскричал Уленшпигель. — Стало быть, по чьему-нибудь дозволению можно совершать святотатство? Это все равно, как если бы в мою лачугу ворвался разбойник, а я бы, по примеру гаагского бургомистра, снял шляпу и сказал: «Милейший вор, любезнейший грабитель, почтеннейший жулик, предъяви мне, пожалуйста, дозволение!» А он бы мне ответил, что оно в его сердце, алчущем моего добра. И тогда я бы ему отдал ключи. Пораскиньте умом, пораскиньте умом, кому может быть на руку это разграбление! Не верьте Красной собаке! Преступление совершено, преступники должны быть наказаны. Не верьте Красной собаке! Каменное распятие свалено. Не верьте Красной собаке!
В Мехельне Большой совет устами своего председателя Виглиуса[148] объявил, что чинить препятствия тем, кто разбивает церковные статуи, воспрещается.
— Горе нам! — вскричал Уленшпигель. — Жатва для испанских жнецов созрела. Герцог Альба, герцог Альба идет на нас! Вздымается волна, фламандцы, вздымается волна королевской злобы! Женщины и девушки, бегите, иначе вас зароют живьем! Мужчины, бегите — вам угрожают виселица, меч и огонь! Филипп намерен довершить злое дело Карла. Отец казнил, изгонял — сын поклялся, что он предпочтет царить на кладбище, чем над еретиками. Бегите! Палач и могильщики близко!
Народ прислушивался к словам Уленшпигеля, и сотни семейств покидали города, и все дороги были запружены телегами с поклажею беглецов.
А Уленшпигель шел из города в город, сопутствуемый безутешным Ламме, который все еще разыскивал свою любимую.
А в Дамме Неле не отходила от сумасшедшей Катлины и обливалась слезами.
16
Стоял месяц ячменя, то есть октябрь, когда Уленшпигель повстречал в Генте графа Эгмонта, возвращавшегося с попойки а пирушки, происходившей под гостеприимным кровом сенбавонского аббата. Он был в веселом расположении духа и, отдавшись на волю своего коня, о чем-то задумался. Внезапно его внимание обратил на себя шедший рядом человек с фонарем.
— Чего ты от меня хочешь? — спросил Эгмонт.
— Хочу вам же добра, — отвечал Уленшпигель, — хочу вам посветить.
— Пошел прочь! — прикрикнул на него граф.
— Не пойду, — объявил Уленшпигель.
— Вот я тебя хлыстом!
— Хоть десять раз подряд, лишь бы мне удалось зажечь у вас в голове такой фонарь, чтоб вам отсюда видно было до самого Эскориала.
— Мне от твоего фонаря и от твоего Эскориала ни тепло, ни холодно, — возразил граф.
— Ну, а я так горю, — подхватил Уленшпигель, — горю желанием подать вам благой совет.
С этими словами он взял графского скакуна под уздцы; конь было на дыбы, но Уленшпигель его удержал.
— Подумайте вот о чем, монсеньер, — снова заговорил он. — Пока что вы лихо гарцуете на своем коне, а ваша голова не менее лихо гарцует на ваших плечах. Но до меня дошел слух, что король намерен положить конец лихому этому гарцеванью: тело он вам оставит, а голову снимет и пошлет гарцевать так далеко, что вам ее тогда уже не догнать. Дайте мне флорин — я его заслужил.
— Хлыста я тебе дам, если не уйдешь, дурной советчик!
— Монсеньер! Я — Уленшпигель, сын Класса, сожженного на костре за веру, и Сооткин, умершей от горя. Прах моих родителей бьется о мою грудь и говорит мне, что доблестный воин граф Эгмонт может противопоставить герцогу Альбе в три раза более сильное войско, чем у него.
— Поди прочь, я не изменник! — вскричал Эгмонт.
— Спаси отчизну, только ты можешь ее спасти! — сказал Уленшпигель.
Граф замахнулся на него хлыстом, но Уленшпигель ловко увернулся и на бегу успел крикнуть:
— Смотрите в оба, граф! И спасите отчизну!
В другой раз Эгмонт остановился напиться in't «Bondt Verkin» (в «Полосатой Свинье») — трактире, который держала смазливая куртрейская бабенка по прозвищу Musekin, то есть Мышка.
— Пить! — приподнявшись на стременах, крикнул граф.
Прислуживавший у Мышки Уленшпигель вышел с оловянной кружкой в одной руке и с бутылкой красного вина в другой.
Граф узнал его.
— А, это ты, ворон, каркал мне черные вести? — спросил он.
— Черные они оттого, что не простираны, монсеньер, — отвечал Уленшпигель. — А вы мне лучше скажите, что краснее: вино, льющееся в глотку, или же кровь, которая брызжет из шеи? Вот о чем вас спрашивал мой фонарь.
Граф молча выпил, расплатился и ускакал.
17
Уленшпигель и Ламме верхом на ослах, которых им дал один из приближенных принца Оранского Симон Симонсен, ездили всюду, оповещая граждан о черных замыслах кровавого короля и выведывая, нет ли каких-нибудь новостей из Испании.
Переодевшись крестьянами, они продавали овощи и шатались по всем базарам.
Возвращаясь однажды с Брюссельского рынка по Кирпичной набережной, они увидели в окне нижнего этажа одного из каменных домов красивую даму в атласном платье, с румянцем во всю щеку, с высокой грудью и живыми глазами.
— Масла не жалей, — говорила она молоденькой свеженькой кухарке, — я не люблю, когда соус пристает к сковородке.
Уленшпигель заглянул в окно.
— А я люблю всякие соусы, — сказал он, — голодный желудок непривередлив.
Дама обернулась.
— Ты что это, мальчишка, суешь нос в мои кастрюли? — спросила она.
— Ах, прекрасная дама! — воскликнул Уленшпигель. — Если бы вы только согласились немножко постряпать вместе со мной, вы бы удостоверились, какими вкусными блюдами может угостить неведомый странник прелестную домоседку. Ой, как хочется! — прищелкнув языком, добавил он.
— Чего? — спросила она.
— Тебя, — отвечал он.
— Он хорош собой, — сказала барыне кухарка. — Давайте позовем его — он вам расскажет о своих приключениях.
— Да ведь их двое, — заметила дама.
— За другим я поухаживаю, — вызвалась кухарка.
— Да, сударыня, нас двое, — подтвердил Уленшпигель, — я и мой бедный Ламме: на плечах он вам и ста фунтов не потащит, а в животе все пятьсот пронесет — и не охнет, лишь бы это были еда и питье.
— Сын мой, — заговорил Ламме, — не смейся надо мной, горемычным, мне не дешево стоит напитать мою утробу.
— Сегодня это тебе не будет стоить ни лиара, — сказала дама. — Войдите оба!
— А как же наши ослы? — спросил Ламме.
— В конюшне у графа Мегема овса предовольно, — отвечала дама.
Кухарка, бросив печку, побежала отворять ворота, Уленшпигель и Ламме въехали на ослах во двор, и во дворе ослы немедленно заревели.
— Это сигнал к принятию пищи, — заметил Уленшпигель. — Бедные ослики трубят свою радость.
Уленшпигель и Ламме спешились.
— Если бы ты была ослица, приглянулся бы тебе такой осел, как я? — спросил кухарку Уленшпигель.
— Если б я была женщиной, мне бы приглянулся веселый парень, — отвечала кухарка.
— Раз ты не женщина и не ослица, то кто же ты такая? — спросил Ламме.
— Я девушка, — отвечала кухарка, — а девушка — не женщина и не ослица. Понял, толстопузый?
— Не верь ей, — предостерег Ламме Уленшпигель, — она наполовину шлюшка и только наполовину девушка, да и из этой-то половины одна четвертинка равна двум дьяволицам. Ей за шашни уже уготовано место в аду — будет там на тюфячке ублажать Вельзевула.
— Насмешник! — сказала стряпуха. — Твоя грива, как погляжу на тебя, и на тюфяк-то не годится.
— А вот я бы тебя съел со всеми твоими кудряшками, — сказал Уленшпигель.
— Язык без костей! — вмешалась дама. — Неужели ты настолько жаден?
— Нет, — отвечал Уленшпигель, — одной такой, как вы, я бы удовольствовался.
— Прежде всего, — предложила дама, — выпей кружку bruinbier'а, скушай кусочек ветчинки, положи себе баранинки, отрежь кусок пирога да пожуй салату.
Уленшпигель сложил руки на груди.
— Ветчина — хорошая вещь, — сказал он, — bruinbier — божественный напиток; баранина — одно объеденье; когда режешь пирог — язык дрожит от восторга; сочный салат — это царская жвачка. Но блажен тот, кому вы подадите на ужин ваши прелести.
— Что он болтает! — воскликнула дама. — Сначала поешь, балаболка!
— А не прочитать ли нам прежде Benedicite?[149] — спросил Уленшпигель.
— Нет, — отвечала она.
— Мне есть хочется! — захныкал Ламме.
— Сейчас поешь, — сказала прекрасная дама, — у тебя одна еда на уме!
— Но только свежая, как моя жена, — добавил Ламме.
При слове «жена» кухарка насупилась. Как бы то ни было, Уленшпигель и Ламме наелись до отвала и здорово клюкнули. Вдобавок хозяйка ночью дала Уленшпигелю поужинать. И так продолжалось несколько дней кряду.
Ослики получали двойную порцию овса, а Ламме двойную порцию всех блюд. Целую неделю не вылезал он из кухни, но резвился только с кушаньями, а не со стряпухой, ибо все его мысли были заняты женой.
Девицу это злило, и она не раз уже намекала, что тем, дескать, кто помышляет только о своем брюхе, негоже бременить землю.
А Уленшпигель с хозяйкой жили дружно. Однажды она ему сказала:
— Ты дурно воспитан, Тиль. Кто ты таков?
— Меня прижила Удача со Счастливым случаем, — отвечал Уленшпигель.
— Однако ты не из скромных, — заметила дама.
— Боюсь, как бы меня другие не стали хвалить, — сказал Уленшпигель.
— Хочешь стать на защиту гонимых братьев?
— Пепел Клааса бьется о мою грудь, — отвечал Уленшпигель.
— Молодчина! — сказала хозяйка. — А кто это Клаас?
— Это мой отец — его сожгли на костре за веру, — отвечал Уленшпигель.
— Граф Мегем[150] не таков, — сказала хозяйка. — Он хочет залить кровью мою любимую родину — я ведь родилась в славном городе Антверпене. Да будет тебе известно, что он сговорился с брабантским советником Схейфом послать в Антверпен десять отрядов пехоты.
— Надо немедленно дать знать об этом антверпенцам, — решил Уленшпигель. — Вихрем помчусь!
И он полетел в Антверпен. На другой же день все горожане были под ружьем.
Уленшпигель и Ламме поставили своих ослов на одну из ферм Симона Симонсена, а сами принуждены были скрыться от графа Мегема, который собирался изловить их и повесить, ибо ему донесли, что два еретика ели его хлеб и пили его вино.
Мучимый ревностью, он стал выговаривать прелестной своей супруге, а та скрежетала зубами от ярости, плакала и семнадцать раз падала в обморок. Кухарка тоже лишалась чувств, но не так часто, и клялась, что не быть ей в раю и не спасти ей свою душу, если она и ее госпожа позволили себе что-нибудь лишнее, что они, мол, только отдали остатки обеда двум голодным богомольцам, которые проезжали мимо на заморенных ослах и заглянули в кухонное окно.
По сему случаю было пролито море слез. При виде такого наводнения граф Мегем не мог не поверить жене и служанке.
Ламме даже тайком не отваживался навестить кухарку — она его задразнила женой.
Сперва он было затосковал по сытной пище, но Уленшпигель стал носить ему лакомые куски — он пробирался в дом Мегема со стороны улицы св.Екатерины и прятался на чердаке.
Однажды вечером граф Мегем сообщил супруге, что на рассвете он со своей конницей выступает в Хертогенбос. Как скоро он уснул, дражайшая половина побежала на чердак и все рассказала Уленшпигелю.
18
Уленшпигель переоделся паломником и, даром времени не теряя, без еды и без денег, помчался с этой вестью в Хертогенбос. Он надеялся взять по дороге лошадь у Иеруна Праата, брата Симона, к которому у него были письма от принца, а оттуда кратчайшим путем достигнуть своей цели.
Когда же он вышел на большую дорогу, то увидел приближающееся войско. Тут он вспомнил про письма, и ему стало не по себе.
Однако, решив, что самое лучшее — взять быка за рога, он с невозмутимым видом, бормоча молитвы, подождал солдат, а когда войско с ним поравнялось, он пошел сбоку и очень скоро узнал, что идет оно в Хертогенбос.
Впереди двигался валлонский отряд. Во главе его находился капитан Ламот со своей охраной, состоявшей из шести алебардиров. За ним, по чину, выступал знаменщик, у которого охрана была меньше, потом профос, его алебардиры и два его сыщика, начальник дозора, начальник обоза; палач с подручным, трубачи и барабанщики, старавшиеся изо всех сил.
За валлонским отрядом следовал фламандский, численностью в двести человек, со своим капитаном и знаменщиком; он был разделен на две центурии под командой сержантов, лихих вояк, а центурии, в свою очередь, делились на декурии под командой ротмистров. Впереди профоса и stokknecht'ов, его помощников по палочной части, гремели барабаны и ревели трубы.
За войском, в двух открытых повозках, кто — стоя, кто — лежа, кто — сидя, хохотали, ласточками щебетали, соловьями распевали, ели, выпивали, танцевали солдатские подружки — смазливые потаскушки.
Некоторые из них были одеты как ландскнехты, но одежду они себе сшили из тонкой белой ткани, с вырезом на груди, с разрезами на рукавах, на бедрах и на спине, и в разрезах этих просвечивало их нежное тело. На голове у них были шитые золотом шапочки из тонкого льняного полотна, украшенные колыхавшимися на ветру красивыми страусовыми перьями. На златотканых, отделанных алым атласом поясах висели ножны из золотой парчи для кинжалов. Туфли, чулки, шаровары, куртки — все это у них было из белого шелка, а шнуры и застежки — золотые.
Другие тоже вырядились в ландскнехтскую форму, но — самых разных цветов: в синюю, в зеленую, в пунцовую, в голубую, в алую, с разрезами, с вышивками, с гербами — как кому нравилось, и у всех на рукавах был пестрый кружок, указывавший на их род занятий.
Hoerweyfel, их надзиратель, пытался утихомирить девиц, но девицы не слушались: они отпускали такие словечки и отмачивали такие штучки, что надзиратель при всем желании не мог удержаться от смеха.
Одетый богомольцем, Уленшпигель шел в ногу с войском, напоминая шлюпку рядом с кораблем. И все время бормотал молитвы.
Неожиданно к нему обратился Ламот[151]:
— Ты куда путь держишь, богомолец?
— Я, господин капитан, совершил великий грехи был присужден капитулом Собора богоматери сходить пешком в Рим и получить от святейшего отца отпущение, и святейший отец мне его дал, — отвечал проголодавшийся Уленшпигель. — После того как я очистился, святейший отец дозволил мне возвратиться на родину, с условием, однако ж, что по дороге я буду проповедовать слово божие всем родам войск, воины же за мою проповедь должны кормить меня хлебом и мясом. Вы мне дозволите на ближайшем привале исполнить мой обет?
— Дозволяю, — отвечал Ламот.
Уленшпигель с самым дружелюбным видом присоединился к войску, а присоединившись, поминутно поглаживал свою куртку — тут ли письма.
Девицы крикнули ему:
— Эй, паломник! Пригожий паломник! А ну-ка покажи, хороши у тебя?..
Уленшпигель, сделав постное лицо, приблизился к ним.
— Сестры мои во Христе! — заговорил он. — Не смейтесь над бедным странником, ходящим по горам и долам и проповедующим слово божие воинам.
А сам не отводил взгляда от их прелестей.
Девицы стреляли в него живыми своими глазками.
— Молод ты еще поучать солдат! — говорили они. — Полезай к нам в повозку — у нас пойдет разговор повеселее.
Уленшпигеля так и подмывало вскочить в повозку, но он боялся за письма. Две девицы, протянув свои белые полные ручки, пытались втащить Уленшпигеля, однако hoerweyfel приревновал их к нему.
— Пошел прочь! — крикнул он Уленшпигелю. — А то сейчас зарублю!
Уленшпигель рассудил за благо отойти подальше, но, и отойдя, он все украдкой поглядывал на соблазнительных девиц, освещенных ярким солнцем.
Между тем войско вступило в Берхем. Начальник фламандцев Филипп де Лануа[152], сьер де Бовуар, приказал сделать привал.
Тут стоял невысокий дуб; все сучья на нем были срублены, за исключением одного, самого толстого, — у этого была срублена только половина: в прошлом месяце на нем был повешен один анабаптист.
Солдаты остановились. Набежали маркитанты и стали предлагать хлеба, вина, пива и всякой всячины. Девицы покупали у них леденец, печенье, миндаль, пирожки. При виде всего этого у Уленшпигеля потекли слюнки.
Вдруг он с ловкостью обезьяны взобрался на дерево, сел верхом на толстый сук, на высоте семи футов от земли, и принялся бичевать себя плетью, а вокруг него тотчас же столпились солдаты и девицы.
— Во имя отца и сына и святаго духа, аминь! — начал он. — В Писании сказано: «Кто подает неимущему, тот подает господу богу». Воины и вы, прекрасные дамы, славные подружки доблестных ратников, подайте богу, то есть мне, — дайте мне хлеба, мяса, вина, если можно, то и пива, а буде на то ваше соизволение, так и пирожков, у бога же всего много, и он вам за это воздаст горами ортоланов, реками мальвазии, скалами леденца и rystpap'ом, который вы будете кушать в раю серебряными ложечками. — Тут у него в голосе послышались слезы. — Ужели вы не видите, какими жестокими муками стараюсь искупить я грех мой? Неужто вы не утишите жгучую боль, которую мне причиняет плеть, обагряющая кровью мои плечи?
— Что это за дурачок? — спрашивали солдаты.
— Други мои, — отвечал Уленшпигель, — я не дурачок — я кающийся и голодный. Пока дух мой оплакивает мои грехи, желудок мой плачет от отсутствия пищи. Блаженные воины и вы, прелестные девицы, я вижу у вас там жирную ветчину, гуся, колбасу, вино, пиво, пирожки! Дайте чего-нибудь страннику!
— Сейчас дадим! — крикнули фламандские солдаты. — Уж больно у этого проповедника славная морда.
И давай кидать ему, как мячики, куски всякой снеди!
А Уленшпигель ел, сидя верхом на суку, да приговаривал:
— Голод делает человека черствым и не располагает к молитве, а от ветчины дурное расположение духа сразу проходит.
— Берегись! Голову проломлю! — крикнул один из сержантов и бросил ему початую бутылку.
Уленшпигель поймал ее на лету и, отхлебывая по чуточке, продолжал:
— Острый, мучительный голод вреден для бедного тела человеческого, но есть нечто более опасное: щедрые солдаты дают убогому страннику кто — кусочек ветчинки, кто — бутылку пива, но странник испытывает тревогу — ведь он должен быть всегда трезв, а между тем если у него в животе пустовато, так он мигом нарежется.
Тут Уленшпигель поймал на лету гусиную лапку.
— Да это просто чудо! — воскликнул он. — Я поймал в воздухе луговую рыбку! Ну, вот она уже исчезла, и даже с костями! Что жаднее сухого песка? Бесплодная женщина и голодное брюхо.
Вдруг Уленшпигель почувствовал, что кто-то кольнул его алебардой в зад. Он оглянулся и увидел знаменщика.
— С каких это пор богомольцы стали презирать бараньи отбивные? — спросил знаменщик, протягивая ему на кончике алебарды баранью отбивную котлету.
Уленшпигель не отказался от нее и продолжал:
— Я не люблю, когда из меня делают отбивную, а вот бараньи отбивные я очень даже люблю. Из косточки я сделаю флейту и воспою тебе хвалу, сострадательный алебардир. И все же, — обгладывая косточку, продолжал он, — что такое обед без сладкого, что такое отбивная котлетка, самая что ни на есть сочная, ежели из-за нее не будет выглядывать светлый лик какого-нибудь пирожка?
С последним словом он схватился за лицо, ибо в эту минуту из толпы девиц в него полетели сразу два пирожка, причем один из них угодил ему в глаз, а другой в щеку. Девицы ну хохотать, а Уленшпигель им:
— Большое вам спасибо, милые девушки, за то, что вы меня целуете пирожками с вареньем!
Но пирожки упали на землю.
Внезапно забили барабаны, запели трубы, и войско снова двинулось в поход.
Мессир де Бовуар приказал Уленшпигелю слезть с дерева и идти вместе с войском, а Уленшпигелю это совсем не улыбалось, ибо по намекам некоторых косившихся на него солдат он догадался, что он на подозрении, что его вот-вот схватят как лазутчика, обыщут, обнаружат письма и вздернут.
По сему обстоятельству он нарочно упал с дерева в канаву и крикнул:
— Сжальтесь надо мной, господа солдаты! Я сломал себе ногу, идти не могу — позвольте мне сесть в повозку к девушкам!
Он прекрасно знал, что ревнивый hoerweyfel этого не допустит.
Девицы из обеих повозок закричали:
— А ну, иди к нам, хорошенький богомолец, иди к нам! Мы тебя будем миловать, целовать, угощать, врачевать — и все пройдет.
— Я уверен! — отозвался Уленшпигель. — Женские ручки — целебный бальзам при любых повреждениях.
Однако ревнивый hoefweyfel обратился к мессиру де Ламоту.
— Мессир! — сказал он. — Я так полагаю, что этот богомолец морочит нас своею сломанною ногой, только чтобы залезть в повозку к девушкам. Лучше не брать его с собой!
— Согласен, — изрек мессир де Ламот.
И Уленшпигель остался лежать в канаве.
Некоторые солдаты, решив, что этот веселый малый в самом деле сломал себе ногу, пожалели его и оставили ему мяса и вина дня на два. Как ни хотелось девицам поухаживать за ним, они принуждены были отказаться от этой мысли, зато побросали ему оставшееся печенье.
Как скоро войско скрылось из виду, у несчастного калеки засверкали обе пятки — и на сломанной, и на здоровой ноге, а вскоре ему удалось купить коня, и он, не разбирая дороги, быстрее ветра прилетел в Хертогенбос.
Едва лишь горожане услышали, что на них идут мессиры де Бовуар и де Ламот, тот же час стало в ружье восемьсот человек, были избраны военачальники, а переодетый угольщиком Уленшпигель снаряжен в Антверпен просить подмоги у кутилы Геркулеса Бредероде.
И войско мессиров де Ламота и де Бовуара так и не вошло в Хертогенбос, ибо город был начеку и изготовился к мужественной обороне.
19
Месяц спустя некий доктор Агилеус дал Уленшпигелю два флорина и письма к Симону Праату, а Праат должен был сказать ему, как быть дальше.
Праат его напоил, накормил и спать уложил. И сон Уленшпигеля был столь же безмятежен, сколь добродушно было его пышущее здоровьем молодое лицо. А Праат являл собою полную противоположность: это был человек тщедушный, с испитым лицом, вечно погруженный в тяжелое раздумье. Уленшпигеля удивляло одно обстоятельство: если он нечаянно просыпался ночью, до него неизменно доносился стук молотка.
Как бы рано Уленшпигель ни встал, Симон Праат уже на ногах, и час от часу заметнее спадал он с лица, все печальнее и все задумчивее становился его взор, как у человека, готовящегося к смерти или же к бою.
Праат часто вздыхал, молитвенно складывал руки, а внутри у него все кипело. Руки у него были так же черны и так же замаслены, как и его рубашка.
Уленшпигель дал себе слово выяснить, отчего по ночам стучит молоток, отчего у Праата черные руки и отчего он так мрачен. Однажды вечером Уленшпигель затащил Симона в таверну «Blauwe Gans» («Синий Гусь») и, выпив, притворился, что он вдребезги пьян и что ему только бы до подушки.
Праат с мрачным видом привел его домой.
Уленшпигель спал на чердаке, вместе с кошками, Симон — внизу, возле погреба.
Продолжая разыгрывать пьяного, Уленшпигель, держась за веревку, заменявшую перила, и спотыкаясь на каждом шагу, как будто он вот сейчас упадет, полез на чердак. Симон дел его бережно, как родного брата. Наконец он уложил его и, попричитав над ним и помолившись о том, чтобы господь простил ему это прегрешение, спустился вниз, а немного погодя Уленшпигель услышал знакомый стук молотка.
Уленшпигель бесшумно встал и начал спускаться босиком по узкой лестнице, а насчитав семьдесят две ступеньки, наткнулся на маленькую неплотно запертую дверцу, из-за которой просачивался свет.
Симон печатал листки старинными литерами — времен Лоренца Костера[153], великого распространителя благородного искусства книгопечатания.
— Ты что делаешь? — спросил Уленшпигель.
— Если ты послан дьяволом, то донеси на меня — и я погиб; если же ты послан богом, то да будут уста твои темницею для твоего языка, — в страхе вымолвил Симон.
— Я послан богом и зла тебе не хочу, — сказал Уленшпигель. — Что это ты делаешь?
— Печатаю Библии, — отвечал Симон. — Днем я, чтобы прокормить жену и детей, выдаю в свет свирепые и кровожадные указы его величества, зато ночью я сею слово истины господней и тем упраздняю зло, содеянное мною днем.
— Смелый ты человек! — заметил Уленшпигель.
— Моя вера крепка, — сказал Симон.
И точно: именно эта священная книгопечатня выпускала на фламандском языке Библии, которые потом распространялись по Брабанту, Фландрии, Голландии, Зеландии, Утрехту, Северному Брабанту, Оверэйсселю и Гельдерну вплоть до того дня, когда был осужден и обезглавлен Симон Праат, пострадавший за Христа и за правду.
Однажды Симон спросил Уленшпигеля:
— Послушай, брат мой, ты человек храбрый?
— Достаточно храбрый для того, чтобы хлестать испанца, пока он не издохнет, чтобы уложить на месте убийцу, чтобы уничтожить злодея.
— У тебя хватит выдержки притаиться в каменной трубе и послушать, о чем говорят в комнате? — спросил книгопечатник.
Уленшпигель же ему на это сказал:
— Слава богу, спина у меня крепкая, а ноги гибкие, — я, как кошка, могу примоститься где угодно.
— А как у тебя насчет терпенья и памяти? — спросил Симон.
— Пепел. Клааса бьется о мою грудь, — отвечал Уленшпигель.
— Ну так слушай же, — сказал книгопечатник. — Возьми эту сложенную игральную карту, поди в Дендермонде и постучи два раза сильно и один раз тихо в дверь дома, который вот тут нарисован. Тебе откроют и спросят, не трубочист ли ты, а ты на это скажи, что ты худ и карты не потерял. И покажи карту. А потом, Тиль, исполни свой долг. Черные тучи надвигаются на землю Фландрскую. Тебе покажут каминную трубу, заранее приготовленную и вычищенную. Там ты найдешь упоры для ног и накрепко прибитую дощечку для сиденья. Когда тот, кто тебе отворит, велит лезть в трубу — полезай и сиди смирно. В комнате, у камина, где ты будешь сидеть, соберутся важные господа[154]. Господа эти — Вильгельм Молчаливый (принц Оранский), графы Эгмонт, Горн, Гоохстратен[155] и Людвиг Нассаускнй, доблестный брат Молчаливого. Мы, реформаты, должны знать, что эти господа могут и хотят предпринять для спасения родины.
И вот первого апреля Уленшпигель, исполнив все, что ему было приказано, засел в каминной трубе. Он с удовольствием заметил, что в камине огня не было. «А то дым мешал бы слушать», — подумал он.
Не в долгом времени дверь распахнулась, и его просквозило ветром. Но он и это снес терпеливо, утешив себя тем, что ветер освежает внимание.
Затем он услышал, как в комнату вошли принц Оранский, Эгмонт и другие. Они заговорили о своих опасениях, о злобе короля, о том, что в казне пусто, несмотря на лихие поборы. Один из них говорил резко, заносчиво и внятно — то был Эгмонт, и Уленшпигель сейчас узнал его. А Гоохстратена выдавал его сиплый голос, Горна — его зычный голос, Людвига Нассауского — его манера выражаться по-военному властно, Молчаливого же — то, как медленно, будто взвешивая на весах, цедил он слова.
Граф Эгмонт спросил, для чего они собрались вторично: разве в Хеллегате им было недосуг порешить, что надо делать?
— Время летит, король разгневан, медлить нельзя, — возразил Горн.
Тогда заговорил Молчаливый:
— Отечество в опасности. Мы должны отразить нашествие вражеских полчищ.
Эгмонт, придя в волнение, заговорил о том, что его удивляет, почему король находит нужным посылать сюда войско, меж тем как стараниями дворян, и в частности его, Эгмонта, стараниями, мир здесь водворен.
— В Нидерландах у Филиппа четырнадцать воинских частей, и части эти всецело преданы тому, кто командовал ими под Гравелином и под Сен-Кантеном[156], — заметил Молчаливый.
— Не понимаю, — сказал Эгмонт.
— Больше я ничего не скажу, — объявил принц, — но для начала вашему вниманию, граф, равно как и вниманию всех здесь присутствующих сеньоров, будут предложены письма одного лица, а именно — несчастного узника Монтиньи[157].
В этих письмах мессир де Монтиньи писал:
«Король возмущен тем, что произошло в Нидерландах, и в урочный час он покарает зачинщиков».
Тут граф Эгмонт заметил, что его знобит, и попросил подбросить поленьев в камин.
Пока два сеньора толковали о письмах, была предпринята попытка затопить камин, но труба была так плотно забита, что огонь не разгорелся и в комнату повалил дым.
Затем граф Гоохстратен, кашляя, передал содержание перехваченных писем испанского посланника Алавы[158] к правительнице:
— Посланник пишет, что в нидерландских событиях повинны трое, а именно принц Оранский, граф Эгмонт и граф Горн. Однако ж, — замечает далее посланник, — налагать на них опалу до поры до времени не следует, — напротив того, должно дать им понять, что усмирением Нидерландов король всецело обязан им. Что же касается двух других, то есть Монтиньи и Бергена[159], то они там, где им быть надлежит.
«Да уж, — подумал Уленшпигель, — по мне, лучше дымящий камин во Фландрии, нежели прохладная тюрьма в Испании: там на сырых стенах петли растут».
— Далее посланник сообщает, что король произнес в Мадриде такую речь: «Беспорядки, имевшие место в Нидерландах, подорвали устои нашей королевской власти, нанесли оскорбление святыням, и если мы не накажем бунтовщиков, то это будет соблазн для других подвластных нам стран. Мы положили самолично прибыть в Нидерланды и обратиться за содействием к папе и к императору[160]. Под нынешним злом таится грядущее благо. Мы окончательно покорим Нидерланды и по своему усмотрению преобразуем их государственное устройство, вероисповедание и образ правления».
«Ах, король Филипп! — подумал Уленшпигель. — Если б я мог преобразовать тебя по-своему, то как бы славно преобразовались твои бока, руки и ноги под моей фламандской дубиной! Я бы прибил твою голову двумя гвоздями к спине и послушал, как бы ты в таком положении, окидывая взором кладбище, которое ты за собой оставляешь, запел на свой лад песенку о тиранических твоих преобразованиях».
Принесли вина. Гоохстратен встал и провозгласил:
— Пью за родину!
Все его поддержали. Он осушил кубок и, поставив его на стол, сказал:
— Для бельгийского дворянства настает решительный час. Надо условиться о том, как мы будем обороняться.
Он вопросительно посмотрел на Эгмонта; но граф не проронил ни звука.
Тогда заговорил Молчаливый:
— Мы устоим в том случае, если Эгмонт, который дважды, под Сен-Кантеном и Гравелином, повергал Францию в трепет, если Эгмонт, за которым фламандские солдаты пойдут в огонь и в воду, поможет нам и преградит путь испанцам в наши края.
— Я благоговею перед королем и далек от мысли, что он способен вынудить нас на бунт, — сказал Эгмонт. — Пусть бегут те, кто страшится его гнева. А я остаюсь — я не могу без него жить.
— Филипп умеет жестоко мстить, — заметил Молчаливый.
— Я ему доверяю, — объявил Эгмонт.
— И голову свою ему доверяете? — спросил Людвиг Нассауский.
— Да, — отвечал Эгмонт, — и головами тело, и мое верное сердце — все принадлежит ему.
— Я поступлю, как ты, мой досточтимый, — сказал Горн.
— Надо смотреть вперед и не ждать, — заметил Молчаливый.
Тут мессир Эгмонт вскипел.
— Я повесил в Граммоне двадцать два реформата![161] — крикнул он. — Если реформаты прекратят свои проповеди, если святотатцы будут наказаны, король смилостивится.
— На это надежда плоха, — возразил Молчаливый.
— Вооружимся доверием! — молвил Эгмонт.
— Вооружимся доверием! — повторил за ним Горн.
— Мечами должно вооружаться, а не доверием, — вмешался Гоохстратен.
Тут Молчаливый направился к выходу.
— Прощайте, принц без земли! — сказал ему Эгмонт.
— Прощайте, граф без головы! — отвечал Молчаливый.
— Барана ждет мясник, а воина, спасающего родимый край, ожидает слава, — сказал Людвиг Нассауский.
— Не могу и не хочу, — объявил Эгмонт.
«Пусть же кровь невинных жертв падет на голову царедворца!» — подумал Уленшпигель.
Все разошлись.
Тут Уленшпигель вылез из трубы и поспешил с вестями к Праату.
— Эгмонт изменник, — сказал Праат. — Господь — с принцем Оранским.
А герцог Альба? Он уже в Брюсселе. Прощайтесь с нажитым добром, горожане!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Молчаливый выступает в поход — сам господь ведет его.
Оба графа уже схвачены.[162] Альба обещает Молчаливому снисхождение и помилование, если тот явится к нему.
Узнав об этом, Уленшпигель сказал Ламме:
— Герцог, черт бы его душу взял, по настоянию генерал-прокурора Дюбуа предлагает принцу Оранскому, его брату Людвигу, Гоохстратену, ван ден Бергу[163], Кюлембургу, Бредероде и всем друзьям принца явиться к нему, обещает им правосудие и милосердие и дает полтора месяца сроку. Послушай, Ламме: как-то раз один амстердамский еврей стал звать своего врага. Вызывающий стоит на улице, а вызываемый у окна. «Выходи! — кричит вызывающий вызываемому. — Я тебя так стукну по башке, что она в грудную клетку уйдет, и будешь ты смотреть на свет божий через ребра, как вор через тюремную решетку». А тот ему: «Обещай, говорит, что стукнешь меня хоть сто раз, — все равно я к тебе не выйду». Вот так же может ответить принц Оранский и его сподвижники.
И они в самом деле отказались явиться. Эгмонт же и Горн поступили иначе. А тех, кто не исполняет своего долга, ждет кара господня.
2
Между тем в Брюсселе на Конном базаре были обезглавлены братья д'Андло, сыновья Баттенбурга и другие славные и отважные сеньоры за то, что они попытались с налету взять Амстердам.
А когда они, в количестве восемнадцати человек, с пением молитв шли на казнь, впереди и позади них всю дорогу били барабаны.
А испанские солдаты, которые вели осужденных на казнь, нарочно обжигали их факелами. А когда те корчились от боли, солдаты говорили; «Что, лютеране? Больно? Погодите: будет еще больнее!»
А того, кто их предал, звали Дирик Слоссе; он заманил их в Энкхейзен, который был тогда еще католическим, и выдал сыщикам Альбы.
А смерть они встретили мужественно.
А все их достояние отошло к королю.
3
— Видел ты его? — обратился переодетый дровосеком Уленшпигель к так же точно наряженному Ламме. — Видел ты этого гнусного герцога с низким лбом, как у орла, с бородой, напоминающей веревку на виселице? Удуши его, господь! Видел ты этого паука с длинными мохнатыми лапами, которого изверг сатана, когда он блевал на нашу страну? Пойдем, Ламме, пойдем набросаем камней в его паутину!..
— Горе нам! — воскликнул Ламме. — Нас сожгут живьем.
— Идем в Гронендаль, идем в Гронендаль, милый друг, там есть красивый монастырь, а в том монастыре его паучья светлость молит бога помочь ему довершить его дело — ему хочется потешить свою черную душу мертвечиной. Теперь у нас пост, но от крови его светлость никакими силами не может заставить себя отказаться! Пойдем, Ламме! Возле дома в Оэне стоят пятьсот вооруженных всадников. Триста пехотинцев выступили небольшими отрядами и вошли в Суарский лес. Как скоро Альба станет на молитву, мы его схватим, посадим в железную клеточку и пошлем принцу.
Но Ламме трясся от страха.
— Это очень опасно, сын мой, очень опасно! — сказал он. — Я бы тебе помог в твоем начинании, да ноги у меня ослабели и брюхо раздулось от кислого брюссельского пива.
Разговор этот происходил в яме, вырытой в чаще леса и сверху заваленной буреломом. Затем они выглянули из своей норы и увидели сквозь ветви желтые и красные мундиры шедших по лесу и сверкавших на солнце оружием герцогских солдат.
— Нас предали! — сказал Уленшпигель.
Едва лишь солдаты скрылись из виду, он сломя голову побежал в Оэн. Он был в одежде дровосека и нес на спине вязанку дров, и солдаты не обратили на него внимания. Он пробрался к всадникам и все им рассказал — всадники поскакали кто куда и скрылись, за исключением де Бозара д'Армантьера — этот был схвачен. Пехотинцам, шедшим из Брюсселя, также удалось ускользнуть.
Всадников и пехотинцев едва не погубил один подлый изменник из полка сьера де Ликса.
Д'Армантьер принял мучительную казнь за всех.
Заранее содрогаясь от ужаса, Уленшпигель пошел в Брюссель, на Конный базар, смотреть на его адские муки.
Несчастный д'Армантьер, распяленный на колесе, получил тридцать семь ударов железным прутом по рукам и ногам, ибо палачам, дробившим его кость за костью, хотелось подольше посмотреть на его мучения.
И только от тридцать восьмого удара — прямо в грудь — он скончался.
4
Ясным и теплым июньским днем в Брюсселе, на площади перед ратушей, был воздвигнут обитый черным сукном эшафот, а по бокам поставлены два столба с железными остриями. На эшафоте виднелись две черные подушки и серебряное распятие на столике.
И вот на этом-то эшафоте претерпели мечное сечение благородный Эгмонт и благородный Горн[164]. А достояние их отошло к королю.
А посланник Франциска I так сказал об Эгмонте:
— Я только что видел, как отрубили голову тому, перед кем дважды трепетала Франция.
А головы казненных были насажены на железные острия.
А Уленшпигель сказал Ламме:
— Тела и кровь накрыты черным. Благословенны те, кто в эти черные дни сохранит высокий дух и в чьей твердой руке не дрогнет меч!
5
Молчаливый набрал войско[165], и оно с трех сторон хлынуло в Нидерланды.
А Уленшпигель на сборище Диких гезов[166] держал такую речь:
— По наущению инквизиции король Филипп объявил, что всем жителям Нидерландов, обвиненным в оскорблении величества, в ереси, а равно и в недонесении на еретиков, грозят соответственно тяжести преступлений установленные для подобных злодеяний наказания, без различия пола и возраста и без всякой надежды на помилование, за исключением особо поименованных лиц. Достояние осужденных наследует король.
Смерть косит людей[167] в богатой и обширной стране, лежащей между Северным морем, графством Эмден, рекою Эме, Вестфалией, Юлих-Клеве и Льежем, епископством Кельнским и Трирским, Лотарингией и Францией. Смерть косит людей на пространстве в триста сорок миль, в двухстах укрепленных городах, в ста пятидесяти селениях, существующих на правах городов, в деревнях, местечках и на равнинах. А достояние наследует король.
— Одиннадцати тысяч палачей, которых Альба именует солдатами, едва-едва хватает, — продолжал Уленшпигель. — Родимый наш край превратился в бойню, и из него бегут художники, его покидают ремесленники, его оставляют торговцы — бросают родину и обогащают чужбину, где им предоставляется свобода вероисповедания. Смерть и Разор косят у нас в стране. А наследник — король.
Наша страна купила за деньги у обедневших государей льготы. Ныне эти льготы отняты. Страна надеялась, что она не зря заключила договоры с владетельными князьями, что она насладится плодами трудов своих, что она расцветет. Но она ошиблась — каменщик строит для пожара, ремесленник работает на вора. Наследник — король.
Кровь и слезы! Смерть косит всюду: на кострах; на превратившихся в виселицы деревьях, которыми обсажены большие дороги; в ямах, куда бедных девушек бросают живьем; в тюремных колодцах; на грудах хвороста, которым обкладывают страстотерпцев, чтобы они горели на медленном огне; в соломенных хижинах, где в пламени и в дыму гибнут невинные жертвы. А достояние их забирает король.
Так восхотел папа римский.
В городах кишат соглядатаи, алчущие своей доли имущества жертв. Чем человек богаче, тем он виновнее — ведь его достояние отходит к королю.
Но страна наша не оскудела храбрыми людьми, и они не допустят, чтобы их резали, как баранов. У многих беглецов есть оружие, и они прячутся в лесах. Монахи их выдают, монахи хотят, чтобы смельчаков перебили и чтобы все у них отняли. Но смельчаки ходят стаями, точно дикие звери, днем и ночью нападают на монастыри и отбирают уворованные у бедного люда деньги в виде подсвечников, золотых и серебряных рак, дароносиц, дискосов и драгоценных сосудов. Не так ли, добрые люди? Там они пьют вино, которое монахи берегли для себя. Сосуды, переплавленные или заложенные, пойдут на нужды священной войны. Да здравствует Гез!
Смельчаки неотступно преследуют королевских солдат, убивают их и, захватив добычу, снова укрываются в своих берлогах. В лесах днем и ночью вспыхивают и передвигаются с места на место огни. Это огни наших пиршеств. Всякая дичь — и косматая и пернатая — какая ни на есть, вся она наша. Хозяева — мы. Хлебом и салом подкармливают нас крестьяне. Взгляни на этих смельчаков, Ламме: одетые в рубище, исполненные решимости, неумолимые, с гордым блеском в глазах, они бродят по лесам, вооруженные топорами, алебардами, шпагами, мечами, пиками, копьями, арбалетами, аркебузами, — они никаким оружием не брезгуют; маршировать же, как солдаты, они не желают. Да здравствует Гез!
И Уленшпигель запел:
Slaet op den trommele van dirre dom deyne, Slaet op den trommele van dirre dom, dom. Бей в барабан van dirre dom deyne, Бей в барабан войны. Выпустим герцогу Альбе кишки, Ими по морде отхлещем его! Slaet op den trommele, бей в барабан, Герцог, будь проклят! Убийце смерть! Бросим его на съедение псам! Смерть палачу! Да здравствует Гез! Повесим его за язык И за руку, за кричащий приказы язык И руку, скрепившую смертные приговоры. Slaet op den trommele. Бей в барабан войны. Да здравствует Гез! Заживо, с трупами жертв его, Альбу, зароем! В смраде, в зловонье Пусть он издохнет от трупной заразы! Бей в барабан войны. За здравствует Гез! С горних высот узри свое войско, Христос: Слыша глагол твой, оно Стали, веревки, огня не боится. Жаждут солдаты отчизну избавить от гнета. Slaet op den trommele van dirre dom deyne. Бей в барабан войны. Да здравствует Гез!И тут все выпили разом и крикнули:
— Да здравствует Гез!
А Уленшпигель, осушив вызолоченный монашеский кубок, окинул взглядом мужественные лица Диких гезов — он явно ими гордился.
— Вы — дикие! — сказал он. — Вы — тигры, волки и львы. Истребите же собак кровавого короля!
— Да здравствует Гез! — воскликнули они и запели:
Slaet op den trommele van dirre dom deyne, Slaet op den trommele van dirre dom, dom. Бей в барабан войны. Да здравствует Гез!6
Уленшпигель вербовал в Ипре солдат для принца. Преследуемый герцогскими сыщиками, он поступил причетником в монастырь св.Мартина. Сослуживцем его оказался звонарь Помпилий Нуман, трусливый верзила, принимавший собственную тень за черта, а сорочку за привидение.
Настоятель был жирен и упитан, как откормленная пулярка. Уленшпигель скоро догадался, на каких лугах честной отец нагуливает жир. Он узнал от звонаря, а потом убедился воочию, что настоятель завтракал в девять, а обедал в четыре. До половины девятого он почивал, затем перед завтраком шел в церковь поглядеть, каков кружечный сбор в пользу бедных. Половину сбора он пересыпал в свою мошну. В девять часов он съедал тарелку молочного супа, половину бараньей ноги, пирог с цаплей и опорожнял пять стаканчиков брюссельского вина. В десять часов съедал несколько слив, поливая их орлеанским вином и молил бога не дать ему впасть в чревоугодие. В полдень от нечего делать обгладывал крылышко и гузку. В час дня, подумывая об обеде, лил в свою утробу испанское вино. После этого ложился в постель, дабы подкрепить свои силы, и подремывал.
Пробудившись, он для аппетита отведывал солененькой лососинки и опрокидывал немалых размеров кружку антверпенского dobbelknol'я. Засим переходил в кухню, усаживался перед пылавшим камином и наблюдал за тем, как жарится и подрумянивается для братии телятина или же предварительно ошпаренный поросенок, на которого он особенно умильно поглядывал. Но все же зверского аппетита он еще не испытывал. Того ради он предавался созерцанию вертела, который точно по волшебству вращался сам собой. То было дело рук кузнеца Питера ван Стейнкисте, проживавшего в Куртрейском кастелянстве. Настоятель заплатил ему за такой вертел пятнадцать парижских ливров.
Затем он опять ложился в постель, отдыхал с устатку, а в два часа пробуждался, кушал свиной студень и запивал его бургонским по двести сорок флоринов за бочку. В три часа съедал цыпленка в мадере и запивал его двумя стаканами мальвазии по семнадцать флоринов за бочонок. В половине четвертого съедал полбанки варенья и запивал его медом. Тут сонливость его проходила, и, обхватив руками колено, он погружался в размышления.
Когда наступал вожделенный час обеда, настоятеля частенько проведывал священник церкви св.Иоанна. Иной раз они вступали в соревнование, кто из них больше скушает рыбки, дичинки, птицы или же мясца. Быстрее насыщавшийся должен был угостить своего соперника жаренным на угольках мясом с четырьмя видами пряностей, с гарниром из семи видов овощей и тремя сортами подогретого вина.
Так они выпивали и закусывали, беседовали о еретиках и сходились на том, что сколько их ни бей — все будет мало. И никогда между ними не возникало никаких разногласий; впрочем, единственным предметом спора служили им тридцать девять способов приготовления вкусного пивного супа.
Затем, склонив свои высокопочтенные головы на священнослужительские свои пуза, они похрапывали. Время от времени кто-нибудь их них продирал глаза и сквозь сон бормотал, что жизнь хороша и напрасно-де бедняки сетуют.
При этом-то святом отце Уленшпигель и состоял в причетниках. Он исправно прислуживал ему во время мессы, дважды наливал в чашу вина для себя и единожды для настоятеля. Звонарь Помпилий Нуман в этом ему помогал.
Однажды Уленшпигель спросил цветущего, толстопузого и румянолицего Помпилия, не на службе ли у здешнего настоятеля он стал отличаться таким завидным здоровьем.
— Да, сын мой, — отвечал Помпилий. — Затвори получше дверь, а то как бы кто не услышал, — прибавил он и заговорил шепотом: — Ты знаешь, что наш отец настоятель любит всякое вино, всякое пиво, всякое мясо и всякую живность. Мясо он хранит в кладовой, вино — в погребе, а ключи всегда у него в кармане. Когда спит, и то придерживает карман рукой… По ночам я подкрадываюсь к нему, к спящему, достаю из кармана, который у него на пузе, ключи, а потом не без опаски кладу на место, потому, сын мой, если он только узнает о моем преступлении, то сварит меня живьем.
— Ты берешь на себя лишний труд, Помпилий, — заметил Уленшпигель. — Потрудись однажды, возьми ключи — я по ним смастерю другие, а те путь себе покоятся на пузе у его высокопреподобия.
— Ну так смастери, сын мой, — сказал Помпилий.
Уленшпигель смастерил ключи. Часов в восемь вечера, когда его высокопреподобие, по их расчетам, отходил ко сну, он и Помпилий нахватывали всевозможных яств и питий. Уленшпигель нес бутылки, а Помпилий — еду, ибо он дрожал, как лист, окорока же и задние ноги не разбиваются, когда падают. Брали они иной раз и живую птицу, в каковом преступлении подозревались обыкновенно соседские кошки, за что их неукоснительно истребляли.
Затем два приятеля шли на Ketelstraat — на улицу гулящих девиц. Там они сорили деньгами и угощали на славу своих красоток копченой говядинкой, ветчинкой, сервелатной колбаской, птицей, поили орлеанским, бургонским, ingelsche bier'ом, который за морем называется эль, — вино и пиво лилось потоками в молодые глотки милашек. А те платили им ласками.
Но однажды утром, после завтрака, настоятель позвал их обоих к себе. С грозным лицом он яростно обсасывал мозговую кость из супа.
Помпилий дрожал всем телом, пузо его ходило ходуном от страха. Зато Уленшпигель был невозмутим и не без приятности ощупывал в кармане ключи от погреба.
Настоятель обратился к ним с вопросом:
— Кто это пьет мое вино и ест мою птицу? Не ты ли, сын мой?
— Нет, не я, — отвечал Уленшпигель.
— Может статься, звонарь причастен к этому преступлению? — указывая на Помпилия, вопросил настоятель. — Он бледен как мертвец, — должно полагать, краденое вино действует на него, как яд.
— Ах, ваше высокопреподобие, зачем вы возводите на звонаря напраслину? — воскликнул Уленшпигель. — Он и впрямь бледен с лица, но не потому, чтобы он потягивал вино, — как раз наоборот: именно потому, что он к нему не прикладывается. И до того он по сему обстоятельству ослабел, что, если не принять никаких мер, душа его, того и гляди, утечет через штаны.
— Есть же еще бедняки на свете! — воскликнул настоятель и как следует тяпнул винца. — Однако скажи мне, сын мой, — ведь у тебя глаза, как у рыси, — ты не видел вора?
— Я его выслежу, ваше высокопреподобие.
— Ну, да возрадуется душа ваша о господе, чада мои! — сказал настоятель. — Соблюдайте умеренность, ибо в сей юдоли слез все бедствия проистекают из невоздержности. Идите с миром.
И он благословил их.
А засим, обсосал еще одну мозговую кость и опять хлопнул винца.
Уленшпигель и Помпилий вышли.
— Этот поганый скупердяй не дал тебе даже пригубить, — сказал Уленшпигель. — Поистине благословен тот хлеб, который мы у него утащим. Но что с тобой? Чего ты так дрожишь?
— У меня все штаны мокрые, — отвечал Помпилий.
— Вода сохнет быстро, сын мой, — сказал Уленшпигель. — А ну, гляди веселей! Вечерком у нас с тобой зазвенят стаканчики на Ketelstraat. А трех ночных сторожей мы напоим допьяна: пусть себе храпят да охраняют город.
Так оно и вышло.
Между тем подходил день св.Мартина. Церковь была убрана к празднику. Уленшпигель и Помпилий забрались туда ночью, заперлись, зажгли все свечи и давай играть на виоле и на волынке! А свечи горели вовсю. Но это были только еще цветочки. Приведя замысел свой в исполнение, Уленшпигель с Помпилием пошли к настоятелю, а тот, несмотря на ранний час, был уже на ногах, жевал дрозда, запивал его рейнвейном и вдруг, увидев свет в окнах церкви, вытаращил глаза от изумления.
— Ваше высокопреподобие! — обратился к нему Уленшпигель. — Угодно вам удостовериться, кто поедает у вас мясо и пьет ваше вино?
— А что означает это яркое освещение? — указывая на церковные витражи, спросил настоятель. — Господи владыко! Ужели ты дозволил святому Мартину бесплатно жечь по ночам свечи бедных иноков?
— Это еще что, отец настоятель! — сказал Уленшпигель. — Пожалуйте с нами!
Настоятель взял посох и последовал за ними. Все трое вошли в храм.
Что же там увидел настоятель! Все святые, выйдя из своих ниш, собрались в кружок посреди храма, видимо под предводительством св.Мартина, который был на целую голову выше всех и в руке, протянутой для благословения, держал жареную индейку. У других во рту или же в руках были куски курицы, гуся, колбаса, ветчина, рыба сырая, рыба жареная и, между прочим, щука в добрых четырнадцать фунтов весу. А в ногах у каждого стояло по бутылке вина.
При виде этого зрелища настоятель побагровел от злости и так надулся, что Помпилий и Уленшпигель опасались, как бы он не лопнул. Однако настоятель, не обращая на них внимания, с грозным видом направился прямо к св.Мартину, коего, должно думать, почитал за главного виновника, вырвал у него индейку и изо всей мочи хватил его по руке, по носу, по митре и посоху.
Не пожалел он колотушек и для других, по каковой причине многие Святые лишились рук, ног, митр, посохов, кос, секир, решеток, пил и прочих знаков своего достоинства и мученической своей кончины. Затем настоятель с великой яростью и великой поспешностью, тряся животом, самолично потушил все свечи.
Ветчину, птицу и колбасу, сколько могли захватить его руки, он взял с собой и, переобремененный своею ношей, дотащил ее до опочивальни, и был он так расстроен и до того раздосадован, что почел за нужное опрокинуть раз за разом три большущие бутылки вина.
Когда же настоятель уснул, Уленшпигель отнес все, что тот спас, а также все, что оставалось в церкви, на Ketelstraat, предварительно запихнув себе в рот наиболее лакомые кусочки. Объедки же они с Помпилием сложили у ног святых.
На другой день, в то время как Помпилий звонил к утрене, Уленшпигель вошел к настоятелю в опочивальню и предложил ему еще раз сходить в церковь.
Там он показал ему на объедки и сказал:
— Не послушались они вас, отец настоятель, — опять наелись.
— Да, — молвил настоятель, — они даже ко мне в опочивальню пробрались, яко тати, и утащили все, что я спас. Ну погодите вы у меня, господа святые, я на вас пожалуюсь его святейшеству!
— Так-то оно так, — сказал Уленшпигель, — но послезавтра крестный ход, скоро в церковь придут мастеровые, увидят, что вы тут всех несчастных святых изувечили, так как бы вас потом в иконоборчестве не обвинили.
— Святой Мартин! — возопил настоятель. — Избавь меня от костра! Я не ведал, что творил.
Тут он обратился к Уленшпигелю, меж тем как малодушный звонарь все еще раскачивался на веревках:
— К воскресенью починить святого Мартина не успеют. Как же мне быть? Что скажет народ?
— Придется пойти на невинную хитрость, ваше высокопреподобие, — сказал Уленшпигель. — Мы приклеим Помпилию бороду, а у Помпилия и без того вид весьма мрачный, и это невольно внушает к нему почтение. Наденем на него и митру, и стихарь, и ризу, и широкую мантию из золотой парчи, велим ему стоять смирно на своем подножье, и народ примет его за деревянного святого Мартина.
Настоятель направился к Помпилию, который все еще раскачивался на веревках.
— Перестань звонить! — сказал он. — Послушай, хочешь заработать пятнадцать дукатов? В воскресенье во время крестного хода ты будешь изображать святого Мартина. Уленшпигель облачит тебя, нести тебя будут четверо, но если ты пошевелишь хотя единым членом или проронишь единое слово, я велю швырнуть тебя живьем в огромный котел с кипящим маслом — такой котел только что по заказу палача обмуровали на рыночной площади.
— Покорнейше благодарю за высокую честь, отец настоятель, — сказал Помпилий, — но вы же знаете, что я страдаю недержанием!
— Ничего не поделаешь — надо! — возразил его высокопреподобие.
— Надо так надо, отец настоятель! — с убитым видом сказал Помпилий.
7
На другой день при ярком солнечном свете крестный ход вышел из храма. Уленшпигель, как мог, починил двенадцать святых, и они покачивались теперь на своих подножиях, среди цеховых знамен; за ними двигалась статуя божьей матери; за нею шли девы в белых одеждах и пели молитвы; за ними шли лучники и арбалетчики; ближе всех к балдахину, особенно сильно качаясь и сгибаясь под тяжестью облачения св.Мартина, двигался Помпилий.
Уленшпигель, запасшись чесательным порошком, своими руками надел на Помпилия епископское облачение, натянул ему перчатки, вложил в руку посох и научил благословлять народ по латинскому обряду. Помогал он облачаться и духовенству: на того наденет епитрахиль, на другого — ризу, на дьяконов — стихари, носился по церкви, кому разглаживал складки камзола, кому — штанов. Любовался и восхищался начищенным до блеска оружием арбалетчиков и грозным оружием лучников. И каждому ухитрялся при этом насыпать порошку за воротник, на шею или же в рукав. Львиная доля досталась настоятелю и четырем носильщикам св.Мартина. Единственно, кого он пощадил, так это дев — во внимание к их пригожеству.
Итак, с колышущимися хоругвями, с развевающимися знаменами крестный ход в полном порядке вышел из храма. Встречные крестились. Солнце сияло.
Настоятель первый почувствовал действие порошка и почесал за ухом. Потом, сначала робко, и священнослужители, и лучники, и арбалетчики стали чесать себе шею, руки и ноги. Четыре носильщика св.Мартина тоже чесались, и только один звонарь, палимый жгучими лучами солнца, страдавший более чем кто-либо, не смел пошевельнуться из страха, что его сварят живьем. Он морщил нос, корчил рожи, а всякий раз, когда кому-нибудь из носильщиков припадала охота почесаться, ощущал дрожь в коленях и чуть не валился с ног.
Все же он заставлял себя стоять неподвижно и только пускал от страха струю, а носильщики говорили:
— Святой Мартин! Никак, дождь пошел?
Священнослужители славословили богородицу:
Si de coe-coe-coe-lo descenderes, O sancta-a-a Ma-a-ria…[168]Голоса у них дрожали от нестерпимого зуда, но они старались чесаться незаметно. Как бы то ни было, настоятель и четыре носильщика расцарапали себе шею и руки в кровь. Помпилий стоял смирно, и только ноги его, особенно сильно зудевшие, дрожали мелкою дрожью.
Но вдруг и арбалетчики, и лучники, и дьяконы, и священники, и настоятель, и носильщики св.Мартина — все остановились и давай скрестись. У Помпилия чесались пятки, но он, боясь упасть, стоял неподвижно.
А в толпе зевак говорили, что св.Мартин дико вращает глазами и бросает свирепые взгляды на бедный люд.
По знаку настоятеля процессия двинулась дальше.
Однако вскоре от жарких лучей солнца, отвесно падавших на спины и животы участников процессии, зуд, причиняемый порошком, стократ усилился.
И тут священники, лучники, арбалетчики, дьяконы и настоятель остановились и, точно стадо обезьян, начали, уже не стесняясь, скрести все места, какие только у них чесались.
А девы между тем пели, как ангелы, и звонкие их голоса возносились к небу.
Наконец все бросились кто куда: настоятель, почесываясь, улепетнул со святыми дарами, благочестивые люди отнесли святыни обратно в церковь, а четыре носильщика св.Мартина уронили Помпилия. Не смея почесаться, пошевельнуться, не смея слово сказать, несчастный звонарь благоговейно закрыл глаза.
Два мальчугана хотели было понести его, но это им оказалось не под силу, и они поставили его стоймя к стене, а по лицу Помпилия катились крупные слезы.
Вокруг него собрался народ. Женщины белыми, тонкого полотна, платочками вытирали ему лицо и сейчас же как святыню прятали эти платочки, орошенные потом св.Мартина.
— Жарко тебе, святой Мартин! — говорили они.
Звонарь смотрел на них скорбно и невольно морщил нос.
А слезы лились у него и лились.
— Святой Мартин! — приглядевшись к нему, воскликнула женщина. — Ты, уж верно, оплакиваешь прегрешения города Ипра? А отчего дергается кончик твоего доблестного носа? Ведь мы же вняли наставлениям Луиса Вивеса[169], и теперь у бедняков города Ипра будет и работа, и кусок хлеба. Ах, какие крупные слезы! Что жемчуг! Вот оно где, спасение!
А мужчины говорили:
— Как по-твоему, святой Мартин: может быть, следует снести все непотребные дома на Ketelstraat? Но отучим ли мы бедных девушек убегать по ночам из дому ради любовных похождений? Вот ты что скажи!
Внезапно весь народ закричал:
— Причетник идет!
Уленшпигель подошел, схватил Помпилия в охапку, взвалил его себе на закорки и понес, а за ним последовали набожные мужчины и женщины.
— Горе мне! — шепнул Уленшпигелю на ухо несчастный звонарь. — Смерть как хочется почесаться, сын мой!
— Не смей! — цыкнул на него Уленшпигель. — Забыл, что ты — деревянный святой?
Тут он прибавил шагу и доставил Помпилия к настоятелю, а настоятель в это время неистово чесался.
— Ну что, звонарь, ты чесался, как все? — спросил настоятель.
— Нет, ваше высокопреподобие, — отвечал Помпилий.
— Говорил ты или же шевелился?
— Нет, ваше высокопреподобие, — отвечал Помпилий.
— В таком случае ты получишь пятнадцать дукатов. А теперь можешь чесаться.
8
На другой день народ, узнав от Уленшпигеля всю правду, возмутился тем, какую злую сыграли с ним шутку, заставив поклоняться вместо святого какому-то плаксе, который прудит в штаны.
И многие после этого стали еретиками. Они уходили со всем своим скарбом, и так пополнялось войско принца Оранского.
А Уленшпигель возвратился в Льеж.
Как-то раз присел он, один-одинешенек, отдохнуть в лесу и задумался. Уставив глаза в ясное небо, он говорил себе:
«А войне конца не видно: испанцы истребляют мой бедный народ, грабят нас, насилуют наших жен и дочерей. Утекают наши денежки, ручьями льется наша кровь, а выгодно это кровопролитие только венчанному злодею, мечтающему украсить свою корону еще одним узором своего владычества — узором крови, узором пожарищ, узором, который он вменяет себе в особую заслугу. Эх, если бы я мог разузорить тебя, как мне хочется, с тобой одни бы только мухи водились!»
Вдруг мимо него пробежало целое стадо оленей. Мчались старые крупные самцы, они гордо несли могучие свои привески и девятиконечные рога. Рядом, точно их телохранители, дробно стучали копытцами стройные однолетки — казалось, они были готовы в любую минуту защитить их острыми своими рожками. Уленшпигель решил, что они спешат к своему пристанищу.
— Эх, эх, эх! — вздохнул он. — Вы, старые олени, и вы, стройные однолетки, — все вы гордо и весело мчитесь в чащу леса, к своему пристанищу, обгладываете по дороге молодые побеги, вдыхаете в себя чудесные запахи леса и наслаждаетесь жизнью до тех пор, пока не придет охотник-палач. Так-то вот, олени, и мы живем-поживаем.
А пепел Клааса бился о грудь Уленшпигеля.
9
В сентябре, в ту пору, когда перестают кусать комары, Молчаливый с шестью полевыми и четырьмя тяжелыми орудиями, говорившими от его имени, с четырнадцатью тысячами фламандцев, валлонов и немцев переправился через Рейн у Санкт-Фейта.
Под желто-красными полотнищами знамен на суковатых бургундских палках (а бургундская суковатая палка давно уже гуляла по нашей спине, от нее-то и пошло наше закабаление, ею-то и размахивал кровавый герцог Альба) шли двадцать шесть тысяч пятьсот человек, катились семнадцать полевых и девять тяжелых орудий.
Этот поход не принес побед Молчаливому — Альба все время уклонялся от боя.
А брат Вильгельма Оранского Людвиг, этот фламандский Баярд, заняв ряд городов и взяв выкуп со многих судов на Рейне, дал бой сыну герцога под фрисландским городом Эммингеном и из-за подлости наемных солдат, потребовавших денег перед самой битвой, потерял шестнадцать пушек, полторы тысячи лошадей и двадцать знамен.
А Уленшпигель, идя мимо развалин, всюду видя слезы и кровь, терялся в догадках, кто же спасет его родину.
А палачи всюду вешали, обезглавливали, сжигали несчастных, ни в чем не повинных людей.
А их достояние забирал король.
10
Постранствовав по земле Валлонской, Уленшпигель удостоверился, что принцу неоткуда ждать помощи, а дошел он почти до самого города Бульона.
По дороге стали ему попадаться горбуны обоего пола, разного возраста и разного звания. У всех были крупные четки, и горбуны с благоговением их перебирали.
Они громко читали молитвы, и это напоминало кваканье лягушек в пруду теплым вечером.
Были тут горбатые матери с горбатыми младенцами на руках, а другие малыши того же выводка держались за их юбки. Горбуны были и на холмах, горбуны были и в полях. Всюду на фоне ясного неба вырисовывались их остроугольные силуэты.
Уленшпигель приблизился к одному-из них испросил:
— Куда идут эти горемыки — мужчины, женщины, дети?
Тот ему на это ответил так:
— Мы идем помолиться святому Ремаклю, чтобы он осуществил заветное наше желание и снял с наших спин унизительную эту кладь.
— А не может ли святой Ремакль осуществить и мое заветное желание и снять со спин несчастных общин кровавого герцога, который давит их, как свинцовый горб? — спросил Уленшпигель.
— Святой Ремакль не властен снимать горбы, ниспосланные в наказание, — отвечал богомолец.
— А хоть какие-нибудь-то он снимал? — спросил Уленшпигель.
— Только совсем свежие. И когда совершается чудо исцеления, мы пируем и веселимся. Каждый богомолец дает серебряную монету, а многие даже золотой флорин исцеленному счастливцу — теперь он через это сам стал святым, и молитвы его скорее услышит господь.
— Почему же святой Ремакль, такой богач, взимает плату за исцеления, словно какой-нибудь презренный аптекарь? — спросил Уленшпигель.
— Нечестивый прохожий! Святой Ремакль наказывает богохульников! — яростно тряся своим горбом, воскликнул паломник.
— Ой, ой, ой! — вдруг завыл Уленшпигель и, скрючившись, свалился под дерево.
Богомолец поглядел на него и сказал:
— Святой Ремакль бьет без промаха.
Уленшпигель весь изогнулся; он скреб себе спину и причитал:
— Сжалься надо мной, святой Ремакль! Ты мне воздал по грехам моим. Я чувствую жгучую боль между лопатками. Ой! Ай! Прости меня, святой Ремакль! Уйди, богомолец, уйди, оставь меня одного, а я, как отцеубийца, буду рыдать и каяться!
Но богомолец уже давно дунул от него и бежал не останавливаясь до Большой площади в Бульоне, где собирались все горбуны.
Тут он прерывающимся от страха голосом заговорил:
— Встретился богомолец, стройный как тополь… богохульствовал… на спине вырос горб… адская боль!
Услышав это, паломники радостно воскликнули на разные голоса:
— Святой Ремакль! Коль скоро ты посылаешь горбы, стало быть дана тебе власть и снимать их! Сними с нас горбы, святой Ремакль!
Тем временем Уленшпигель вылез из-под дерева. Проходя по безлюдной окраине, он увидел, что у входа в таверну по случаю колбасной ярмарки — panchkermis'а, как говорят в Брабанте, — мотаются на палке два свиных пузыря.
Уленшпигель взял один из этих пузырей, поднял валявшийся на земле позвоночник сушеной камбалы, нарочно порезался, напустил в пузырь крови, потом надул его, завязал, прикрепил к нему позвоночник камбалы и сунул себе за шиворот. С этаким-то приспособлением, выгнув спину, тряся головой и пошатываясь — ни дать ни взять старый горбун, — приплелся он на площадь.
Богомолец, присутствовавший при падении Уленшпигеля, воскликнул, завидев его:
— Вон богохульник идет!
И показал на него пальцем. И все сбежались поглядеть на страждущего.
Уленшпигель сокрушенно качал головой.
— Ах! — вздыхал он. — Я не достоин ни милости, ни сожаления. Убейте меня, как бешеную собаку.
А горбуны потирали руки и говорили:
— Нашего полку прибыло!
Уленшпигель пробурчал себе под нос: «Вы мне за это заплатите, злыдни!» — а вслух с видом величайшей покорности сказал:
— Я не буду ни пить, ни есть, хотя бы от этого затвердел мой горб, пока святой Ремакль не исцелит меня так же чудодейственно, как и покарал.
Прослышав о чуде, из собора вышел каноник. Это был человек высокий, дородный и важный. Задрав нос, он, точно корабль волну, разрезал толпу богомольцев.
Канонику показали Уленшпигеля, и он обратился к нему:
— Это тебя, голубчик, коснулся бич святого Ремакля?
— Да, выше высокопреподобие, — подтвердил Уленшпигель, — не кого иного, как меня, и теперь я, смиренный богомолец, хочу умолить его избавить меня от моего еще совсем свежего горба.
— Дай мне пощупать твой горб, — заподозрив мошенничество, сказал каноник.
— Сделайте одолжение, — молвил Уленшпигель.
— Горб совершенно свежий и еще влажный, — пощупав, изрек каноник. — Уповаю, однако ж, что святой Ремакль будет к тебе милостив. Следуй за мной.
Уленшпигель последовал за каноником и вошел в церковь. А горбуны шли сзади и кричали:
— У, проклятый! У, богохульник! Сколько весит твой новенький горб? Сделай из него кошель и клади туда грошики. Ты всю жизнь смеялся над нами, потому что ты был прямой, — теперь пришел наш черед. Спасибо тебе, святой Ремакль!
Уленшпигель, не говоря ни слова, с поникшей головой, следовал за каноником и наконец очутился в тесном помещении, где, накрытая большой мраморной плитой, стояла мраморная гробница. Между гробницей и стеной был оставлен узенький проход. Богомольцы шли там гуськом и молча терлись спинами о плиту. Так они надеялись получить исцеление. Те, что терлись горбом, не пускали тех, кто еще не потерся, и из-за этого начинались драки, впрочем бесшумные, ибо из уважения к святому месту горбуны тузили друг друга исподтишка.
Каноник велел Уленшпигелю влезть на плиту, дабы все богомольцы могли его видеть.
— Сам я не влезу, — сказал Уленшпигель.
Каноник подсадил Уленшпигеля, стал около него и велел опуститься на колени. Уленшпигель опустился и, понурив голову, застыл в этом положении.
Каноник, собравшись с духом, велегласно возопил:
— Чада и братья во Христе! У ног моих вы видите величайшего из всех нечестивцев, пакостников и богохульников, каких когда-либо поражал гнев святого Ремакля.
— Confiteor![170] — бия себя в грудь, проговорил Уленшпигель.
— Прежде он был прям, словно древко алебарды, и хвастал этим. А теперь посмотрите, как его скрючила и согнула кара небесная.
— Confiteor! Сними с меня горб! — молил Уленшпигель.
— Да, — продолжал каноник, — да, великий подвижник, святой Ремакль, ты, после твоей славной кончины, совершивший тридцать девять чудес, сними с этих плеч давящее их бремя, дабы мы могли возносить тебе хвалу во веки веков — in saecula saeculorum! И мир всем благонамеренным горбунам!
И тут горбуны заголосили хором:
— Да, да, мир всем благонамеренным горбунам! Не надо больше горбов, довольно уродств, будет с нас унижений! Освободи нас от горбов, святой Ремакль!
Каноник приказал Уленшпигелю сойти с гробницы и потереться горбом о плиту. Уленшпигель, исполняя его веление, все приговаривал:
— Mea culpa, confiteor, сними с меня горб!
Так он терся на совесть, у всех на виду.
А горбуны орали:
— Глядите-ка, горб оседает! — Гляньте-ка, подается! — Справа идет на убыль! — Нет; он вдавится в грудь. Горбы не исчезают, они выходят из внутренностей и туда же уходят. — Нет, они опять попадают в желудок и восемьдесят дней подряд питают его. — Это дар святого избавленным от горбов. — Куда же деваются старые горбы?
Вдруг все горбуны дико закричали, ибо Уленшпигель что было мочи уперся в плиту, и горб его лопнул. Кровь проступила на куртке и потекла на пол. Уленшпигель выпрямился и, вытянув руки, воскликнул:
— Я исцелился!
А горбуны завопили:
— Святой Ремакль его благословил! К нему он милостив, к нам суров. — Сними с нас горбы, угодник божий! — Жертвую тебе теленка! — А я — семь баранов! — А я — все, что настреляю за целый год! — А я — шесть окороков! — А я отдаю церкви мой домишко! — Сними с нас горбы, святой Ремакль!
Все они смотрели на Уленшпигеля со смешанным чувством зависти и почтения. Один из них решил пощупать, что у него там под курткой, но каноник сказал:
— Там рана, которую нельзя выставлять напоказ.
— Я буду за вас молиться, — сказал Уленшпигель.
— Помолись, богомолец! — все вдруг заговорили горбуны. — Помолись, выпрямленный! Мы над тобой насмехались. Прости нас — мы не ведали, что творили. Христос прощал на кресте, прости и ты нас!
— Прощаю, — милостиво изрек Уленшпигель.
— Ну так возьми патар! — Прими от нас флорин! — Позвольте, ваша прямизна, вручить вам реал! — Позвольте предложить вам крузат! — Дайте я вам насыплю каролю!
— Не показывайте каролю! — шепнул им Уленшпигель. — Пусть ваша левая рука не знает, что делает правая.
Сказал он гак из-за каноника, который издали пожирал глазами деньги горбунов, но не мог разглядеть, где золото, а где серебро.
— Благодарим тебя, святость свою нам явивший! — говорили Уленшпигелю горбуны.
А Уленшпигель, величественный, как настоящий чудотворец, принимал от них даяния.
И только скупцы молча терлись горбами о плиту.
Вечером Уленшпигель попировал и повеселился в таверне.
Перед самым сном Уленшпигель, сообразив, что каноник не преминет явиться если не за всей добычей, то, по крайней мере, за ее частью, подсчитал доход и обнаружил больше золота, нежели серебра, — целых триста каролю! Обратив внимание на горшок с засохшим лавровым кустиком, он взял его за макушку и вытащил с корнями и с землей, положил золото на самое дно, а куст сунул обратно в горшок. Полуфлорины, патары и мелочь он разложил на столе.
Каноник явился в таверну и проследовал к Уленшпигелю.
— Чему я, убогий, обязан столь высоким посещением, отче? — спросил Уленшпигель.
— Я пекусь о твоем благе, сын мой, — отвечал тот.
— Ой, ой, ой! — простонал Уленшпигель. — Уж не о том ли благе, что лежит на столе?
— О том, — подтвердил каноник, простер длань, сгреб все деньги, какие были на столе, и ссыпал в мешок, который он для этой цели захватил с собой.
Уленшпигель все еще притворялся плачущим, и каноник пожаловал ему флорин.
А потом спросил, как тот подстроил чудо.
Уленшпигель показал ему позвоночник камбалы и свиной пузырь.
Каноник отобрал их у Уленшпигеля, а тот все плакался и умолял дать ему еще хоть сколько-нибудь — до Дамме, мол, отсюда далеко, и он, бедный странник, наверняка помрет с голоду.
Но каноник молча удалился.
Оставшись один, Уленшпигель поглядел на лавровый куст и, довольный, уснул. Встал он на зорьке, взял свою выручку и, явившись в стан Молчаливого, отдал ему все деньги, рассказал, откуда они у него, и прибавил, что это самый законный вид контрибуции.
Принц дал ему десять флоринов.
А позвоночник камбалы был положен в хрустальный ларец, ларец же подвесили к распятию в главном приделе Бульонского собора.
И все в городе были уверены, что в ларце хранится горб исцеленного богохульника.
11
Прежде чем переправиться через Маас, Молчаливый ложными маневрами в окрестностях Льежа сбивал с толку герцога.
Уленшпигель добросовестно исполнял свои солдатские обязанности, научился метко стрелять из аркебузы, ко всему прислушивался и приглядывался.
В расположение войск принца Оранского прибыли фламандские и брабантские дворяне; они быстро сдружились со знатью, с высшими чинами, составлявшими свиту Молчаливого.
Вскоре в лагере образовались две враждующие партии. Одни говорили: «Принц — предатель»; другие говорили, что это клевета и что они им заткнут их лживую глотку. Недоверие росло, точно жирное пятно. Дело доходило до того, что человек шесть, восемь, двенадцать бились врукопашную, а иногда брались и за оружие, вплоть до аркебуз.
Однажды на шум явился сам принц и прошел между двух огней. Пуля сбила у него шпагу. Он приказал немедленно прекратить стычку, а сам нарочно обошел весь лагерь и всем показался, чтобы никто не мог сказать: «Конец Молчаливому — конец войне».
Миновал день, а когда Уленшпигель выходил в туманную полночь из дома, где он мелким фламандским бесом рассыпался перед некоей валлонской девицей, из соседнего дома до него донеслось троекратное карканье. Где-то вдали тотчас послышалось ответное карканье, тоже троекратное. На порог вышел сельчанин. Вслед за тем на дороге раздались шаги.
Два человека, говорившие между собой по-испански, подошли к сельчанину, и сельчанин обратился к ним на том же языке:
— Что вами сделано?
— Нами сделано много хорошего, — отвечали они. — Мы лгали для пользы короля. Мы посеяли недоверие к герцогу среди военачальников и солдат, и они повторяют наши слова; «Принц сопротивляется королю из низкого честолюбия. Он хочет набить себе цену, завоеванные города и области нужны ему только в качестве залога. За пятьсот тысяч флоринов он бросит на произвол судьбы сеньоров, грудью защищающих родину. Герцог обещал ему полное прощение и дал клятву возвратить ему и всем высшим чинам их владения, если они вновь присягнут на верность королю. Принц Оранский тайно от всех пойдет на переговоры с герцогом». А приспешники Молчаливого возражают: «Предложения герцога — это ловушка. Принц Оранский не забыл Эгмонта и Горна, и он в нее не попадется. Когда обоих графов схватили, кардинал Гранвелла сказал в Риме: „Пескарей ловят, а щуку упускают. Не поймать Молчаливого — это все равно что никого не поймать“.
— Велик ли раскол в лагере? — осведомился сельчанин.
— Раскол велик, — отвечали те, — и усиливается с каждым днем. Где письма?
Они вошли в дом, и там сейчас же зажегся фонарь. Прильнув к окну, Уленшпигель понаблюдал, как они распечатывали письма, с какою радостью их читали, как потом пили мед и, наконец, ушли, сказав по-испански сельчанину:
— Лагерь развалится, Оранского схватят, тогда и нам перепадет.
«Ну, они у меня долго не нагуляют», — сказал себе Уленшпигель.
Снаружи их сразу окутал густой туман. На глазах у Уленшпигеля хозяин вынес им фонарь, и они его взяли.
Свет фонаря поминутно застилала черная тень, и Уленшпигель понял, что они идут гуськом.
Он зарядил аркебузу и выстрелил в черную тень. Фонарь запрыгал, из чего Уленшпигель заключил, что один из них упал, а другой пытается осмотреть рану. Он снова зарядил аркебузу. Фонарь, качаясь, начал быстро удаляться в сторону лагеря — Уленшпигель выстрелил еще раз. Фонарь дрогнул, упал и погас. Стало темно.
По дороге к лагерю Уленшпигель встретил профоса и солдат, которых разбудили выстрелы. Он подбежал к ним и сказал:
— Я охотник, пойдите поднимите дичь.
— Ты, веселый фламандец, говоришь, как видно, не только языком, — сказал профос.
— Слова, что срываются с языка, — это ветер, — возразил Уленшпигель, — а вот слова свинцовые впиваются в тело изменникам. Идите за мной.
Они освещали ему дорогу фонарем, и он их привел к тому месту, где лежали оба. Один был уже мертв, а другой хрипел, последним усилием воли сжимая в руке, лежавшей на груди, скомканное письмо.
По одежде они сразу определили, что это дворяне, и, освещая себе дорогу фонарями, понесли трупы прямо к принцу, который из-за этого вынужден был прервать совещание с Фридрихом Голленгаузеном, маркграфом Гессенским и другими важными особами.
С толпою ландскнехтов и рейтаров в зеленых и желтых мундирах они приблизились к палатке Молчаливого и потребовали, чтобы он их принял.
Молчаливый вышел. Профос уже откашлялся и хотел было начать обвинительную речь против Уленшпигеля, но тот опередил его:
— Ваше высочество! Я целился в воронов, а попал в двух знатных изменников, состоявших в вашей свите.
И тут он рассказал обо всем, что видел, слышал и совершил.
Молчаливый не проронил ни звука. Трупы были обысканы в присутствии его самого, Вильгельма Оранского по прозванию Молчаливый, Фридриха Голленгаузена, маркграфа Гессенского, Дитриха ван Схоненберга, графа Альберта Нассауского, графа Гоохстратена, Антуана де Лалена, губернатора Мехельнского, солдат и Ламме Гудзака, дрожавшего всем своим тучным телом. На убитых дворянах были найдены письма за печатями Гранвеллы и Нуаркарма[171], в которых им было приказано сеять раздоры среди приближенных принца с целью ослабить его, заставить пойти на уступки и сдаться герцогу, а тот-де воздаст принцу по заслугам и отрубит ему голову. «Нужно исподволь, обиняками внушать войску, что Молчаливый, дабы спасти себя, уже вступил в тайные переговоры с герцогом, — говорилось в письмах. — Военачальники, и солдаты в конце концов возмутятся и схватят его». Далее сообщалось, что впредь до окончательного расчета они, могут получить в Антверпене у Фуггеров[172] по пятьсот дукатов на брата; следующую же тысячу они получат-де, как скоро в Зеландию придут из Испании ожидаемые четыреста тысяч…
Итак, заговор был раскрыт, и принц, молча повернувшись к дворянам, сеньорам и простым солдатам, среди которых многие не доверяли ему, с молчаливым укором показал на трупы. И тут раздался многоголосый рев:
— Да здравствует принц Оранский! Принц Оранский не изменил отечеству!
Солдаты, проникшись презрением, хотели бросить трупы собакам, но Молчаливый сказал:
— Не тела убитых надо бросить собакам, а нашу собственную душевную дряблость, которая верит наговорам на чистых сердцем людей!
И в ответ ему сеньоры и солдаты грянули:
— Да здравствует принц! Да здравствует принц Оранский, друг своего отечества!
И голоса их звучали как гром, поражающий неправду.
А принц показал на трупы и распорядился:
— Похороните их по христианскому обряду.
— А что будет с моим верным своей родине скелетом? — спросил Уленшпигель. — Ежели я поступил дурно — пусть мне всыплют, а ежели хорошо, то пусть меня наградят.
— Этот аркебузир получит при мне полсотни палок за то, что он самовольно убил двух дворян, то есть совершил тягчайшее воинское преступление, — объявил Молчаливый. — А потом он получит тридцать флоринов за выказанную им зоркость и тонкость слуха.
— Ваше высочество! — обратился к принцу Уленшпигель. — Прикажите выдать мне сначала тридцать флоринов — так мне легче будет терпеть палки.
— Да, да, — плачущим голосом подхватил Ламме, — дайте ему сначала тридцать флоринов — так ему легче будет терпеть!
— А кроме того, — продолжал Уленшпигель, — совесть у меня чиста, ее незачем мыть дубиной и оттирать лозой.
— Да, да, — плачущим голосом опять подхватил Ламме. — Уленшпигеля не надо ни мыть, ни тереть. Совесть у него чиста. Не мойте его, господа, не мойте!
Как скоро Уленшпигель получил тридцать флоринов, профос велел stockmeester'у, то есть своему помощнику по палочной части, взяться за него.
— Посмотрите, господа, какое у него скорбное выражение лица! — сказал Ламме. — Мой друг Уленшпигель не любит дерева.
— Нет, люблю, — возразил Уленшпигель, — я люблю тянущийся к солнцу могучий густолиственный ясень, но я ненавижу смертельной ненавистью уродливые палки без листьев, без веток, без сучков, еще липкие от сока, — мне неприятен их злобный вид и грубое прикосновение.
— Ты готов? — осведомился профос.
— Готов? К чему готов? — переспросил Уленшпигель. — К битью? Нет, совсем даже не готов и не собираюсь быть готовым, господин stockmeester. У вас рыжая борода и свирепое выражение лица, но сердце у вас, я уверен, доброе, вам не доставляет удовольствия спускать шкуру с таких вот, как я, горемык. Доводись хоть до меня, я не то чтобы кого лупцевать, а и смотреть-то на это не могу, потому спина христианина — это храм священный, который, как и грудь, заключает в себе легкие, а через легкие мы вдыхаем дар божий — воздух. Ведь если вы тяжким ударом отобьете мне легкие, вас же самого потом совесть замучает!
— Скорей, скорей! — сказал stockmeester.
— Поверьте мне, ваше высочество, — обратился к принцу Уленшпигель, — с этим торопиться не следует. Прежде должно высушить палки, а то я слыхал, будто сырое дерево, впиваясь в живое тело, вводит в него смертельный яд. Неужто ваше высочество хочет, чтобы я умер такой позорной смертью? Ваше высочество! Я предоставляю верноподданную мою спину в полное распоряжение вашего высочества — прикажите вспрыснуть ее розгами, исхлестать бичом, но если только вы не хотите моей смерти, то от палок, будьте настолько любезны, увольте!
— Простите его, принц! — сказали одновременно мессир Гоохстратен и Дитрих ван Схоненберг.
Прочие умильно улыбались.
И Ламме туда же:
— Ваше высочество, ваше высочество! Простите его! Сырое дерево — это же яд!
— Я его прощаю, — сказал наконец принц.
Уленшпигель несколько раз подпрыгнул, хлопнул Ламме по пузу и стал тащить его плясать.
— Прославь вместе со мною принца, избавившего меня от палок! — сказал он.
И Ламме пустился было в пляс, но ему мешало пузо.
И Уленшпигель выставил ему вина и закуски.
12
Герцог, по-прежнему не решаясь дать бой[173], все время пытался нанести урон Молчаливому, маневрировавшему в долине между Юлихом и Маасом и в разных местах обследовавшему реку: под Хонтом, Мехеленом, Эльсеном, Мейрсеном — везде дно реки было усеяно колышками с той целью, чтобы как можно больше людей и коней вышло у Молчаливого из строя при переправе.
Под Стокемом дно оказалось чистое. Принц приказал перейти реку. Рейтары, перейдя Маас, в боевом порядке выстроились на том берегу, прикрывая переправу со стороны епископства Льежского. Затем от берега до берега поперек реки построились в десять рядов лучники и аркебузиры, среди коих находился Уленшпигель.
Вода доходила ему до колен; несколько раз предательская волна приподнимала его вместе с лошадью.
Мимо него, привязав к шляпам пороховницы и высоко держа аркебузы, шла пехота. За пехотой двигался обоз, мушкетеры, саперы, фейерверкеры, кулеврины, двойные кулеврины, фоконы, фальконеты, серпентины, полусерпентины, двойные серпентины, мортиры, двойные мортиры, пушки, полупушки, двойные пушки и сакры — небольшие полевые орудия, поставленные на передок, запряженные, парой коней, отличавшиеся чрезвычайной подвижностью и представлявшие собой точную копию с так называемых «императорских пистолетов». Тыловой дозор составляли ландскнехты и фламандские рейтары.
Уленшпигелю страх как хотелось чего-нибудь пропустить, чтобы согреться. Рядом с ним, сидя на коне, храпел лучник Ризенкрафт — немец из Верхней Германии, высоченный, тощий и злой, и от него разило водкой. Уленшпигель поискал глазами на крупе его коня, нет ли фляжки, но оказалось, что фляжка висела у немца через плечо на бечевке, и Уленшпигель эту бечевку перерезал и с восторгом припал к фляжке.
— Дай и нам! — попросили другие лучники.
Уленшпигель исполнил их просьбу. Как скоро водка была выпита, он связал бечевку и водворил фляжку на прежнее место. Однако, вешая ее Ризенкрафту через плечо, он нечаянно задел его рукой, и тот пробудился. Первым делом немец схватил флягу, с тем чтобы подоить свою дойную коровку. Когда же он удостоверился, что коровка не дает больше молока, то пришел в неописуемую ярость.
— Разбойник! — заорал он. — Что ты сделал с моей водкой?
— Я ее выпил, — отвечал Уленшпигель. — Промокшие конники делят водку по-братски. Нехорошо быть таким жадюгой.
— Завтра же у нас будет с тобой поединок, и я изрублю тебя на куски, — объявил Ризенкрафт.
— Да, уж мы порубимся, — подхватил Уленшпигель, — напрочь головы, руки, ноги и все прочее! А с чего, это у тебя такая злющая рожа? От запора, что ли?
— От запора, — подтвердил Ризенкрафт.
— Куда же тебе драться? — подивился Уленшпигель. — Надо сперва желудок очистить.
Немец предложил, предоставив выбор наряда и верхового животного на благоусмотрение каждого, встретиться завтра же и сделать друг другу прокол с помощью коротких негнущихся шпаг.
Уленшпигель попросил дозволения заменить шпажонку палкой; немец против этого не возражал.
Между тем все войско, в том числе и лучники, перешло реку и по команде военачальников в полном боевом порядке выстроилось на том берегу.
— На Льеж! — возгласил Молчаливый.
Уленшпигель взыграл духом и вместе со всеми фламандцами крикнул:
— Да здравствует принц Оранский! На Льеж!
Однако чужеземцы, главным образом — верхнегерманцы, объявили, что они вымокли до нитки, до костей, и двигаться дальше отказываются наотрез. Напрасно принц убеждал их, что победа будет за ними, что льежцы ждут их с распростертыми объятиями, они ничего не желали слушать — расседлали коней, зажгли жаркие костры и принялись сушиться.
Взятие Льежа было отложено на завтра. Смелая переправа через Маас, осуществленная Молчаливым, привела Альбу в крайнее смятение, а тут вдруг лазутчики ему доносят, что войско Молчаливого еще не готово к походу на Льеж!
Воспользовавшись этим обстоятельством, он пригрозил Льежу и всей округе: пусть только, мол, тайные пособники принца шевельнут пальцем — он все здесь предаст огню и мечу. Испанский прихвостень епископ Герард ван Хрусбеке[174] успел вооружить своих солдат, и когда принц, промедливший из-за верхнегерманцев, не захотевших сражаться в мокрых штанах, подошел к Льежу; то было уже поздно.
13
Секунданты, которых взяли себе Уленшпигель и Ризенкрафт, уговорились, что те будут драться пешими и, если захочет победитель, вплоть до смертельного исхода, — таковы были условия Ризенкрафта.
Местом поединка была выбрана поляна.
Ризенкрафт прямо с утра нацепил на себя все снаряжение лучника. Надел шлем с ожерельником, но без забрала, и кольчугу без рукавов. Одну из своих рубах разорвал на бинты и сунул в шлем. Взял свой арбалет из доброго арденнского дерева, колчан с тридцатью стрелами и длинный кинжал, двуручного же меча, коим обыкновенно бывали вооружены лучники, не захватил. И прибыл он на коне под боевым седлом, в украшенном перьями налобнике.
Уленшпигель снарядился как истинный рыцарь. Боевого коня заменяя ему осел. Седлом служила ему юбка девицы легкого поведения. Вместо налобника с перьями на морде осла красовалась плетушка из ивовых прутьев, украшенная стружками, трепетавшими на ветру. Позаботился он и о латах — то была его рубашка в заплатах, ибо, пояснил он, железо дорого, к стали приступу нет, а меди столько ушло за последнее время на пушки, что кролику бы на вооружение не хватило. На голове вместо шишака шишом торчал лист салата, увенчанный лебединым пером, — то был прообраз лебединой песни на тот случай, если бы Уленшпигель приказал долго жить.
Взамен легкой негнущейся шпаги Уленшпигель захватил добрую длинную толстую еловую жердь с метелкой из еловых веток на конце. Слева к седлу был приторочен деревянный нож, а справа булава, которую изображала ветка бузины с насаженной на нее репой.
Когда он, этаким образом снаряженный, прибыл на место поединка, секунданты Ризенкрафта покатились со смеху, меж тем как рожа самого Ризенкрафта оставалась непроницаемой.
Секунданты Уленшпигеля, обратившись к секундантам Ризенкрафта, потребовали, чтобы немец снял кольчугу и латы, раз на Уленшпигеле, кроме обносков, ничего нет. Ризенкрафт согласился. Тогда его секунданты спросили Уленшпигелевых секундантов, зачем Уленшпигелю понадобилась метелка.
— Палку вы мне сами разрешили, а украсить ее зеленью, я думаю, разрешите и подавно, — отвечал Уленшпигель.
— Ты в том волен, — порешили четыре секунданта.
Ризенкрафт в это время молча сбивал короткими ударами шпаги тонкие головки вереска.
Секунданты потребовали, чтобы он по примеру Уленшпигеля тоже заменил шпагу метелкой.
Ризенкрафт же ответил так:
— Если этот мошенник по своей доброй воле избрал столь необычный вид оружия, стало быть он определенно рассчитывает защитить им свою жизнь.
Уленшпигель подтвердил, что он будет сражаться метелкой, — тогда секунданты объявили, что все улажено.
Уленшпигель и Ризенкрафт находились как раз друг против друга — один уже не в латах, а другой весь в заплатах.
Взяв метлу наперевес, точно это было копье, Уленшпигель выехал на середину поляны.
— По мне, — заговорил он, — хуже чумы, проказы и смерти те зловредные негодяи, которые, попав в дружную солдатскую семью, ходят со злющей рожей и брызжут ядовитой слюной. Где они — там замирает смех и смолкают песни. Вечно они к кому-то пристают, с кем-то дерется, и из-за них наряду с правым боем за родину идут поединки на погибель войску и на радость врагу. Вот этот самый Ризенкрафт убил ни за что двадцать одного соратника, а в бою или же в стычке с неприятелем чудес храбрости не показал и ни одной награды не получил. Вот почему я с особым удовольствием поглажу этого шелудивого пса против его облезлой шерсти.
Ризенкрафт же ответил так:
— Этот забулдыга черт знает чего наплел о беззаконности поединков. Вот почему я с особым удовольствием раскрою ему череп; чтобы все убедились, что у него голова набита соломой.
Секунданты предложили обоим спешиться. Когда Уленшпигель спрыгнул, с головы у него упал лист салата, и его мгновенно ухватил осел, но в эту минуту один из секундантов дал ему пинка, так что осел вынужден был прекратить мирное свое занятие и удалиться с поля боя. Ризенкрафтова коня тоже прогнали. И оба верховых животных рассудили за благо пойти вдвоем попастись.
Наконец секунданты свистком подали знак к началу боя.
И вспыхнула яростная битва: Ризенкрафт наносил удары шпагой, Уленшпигель отражал их метлою; Ризенкрафт чертыхался, Уленшпигель увертывался, бегал от него по косой, по кругу, зигзагами, показывал ему язык, корчил рожи, а тот, тяжело дыша, в исступлении разрезал воздух шпагой. Он уже совсем было нагнал Уленшпигеля, но Уленшпигель неожиданно обернулся и со всего размаху ткнул его метлой в нос. Ризенкрафт упал и, точно околевающая лягушка, растопырил руки и ноги.
Уленшпигель подскочил к нему и начал без милосердия водить по его лицу метлой — и по шерстке и против шерстки, водил да приговаривал:
— Проси пощады, не то я тебя досыта накормлю метелкой.
Уж он его тер, уж он его тер, к великому восторгу присутствовавших, и все приговаривал:
— Проси пощады, не то я тебя накормлю метелкой!
Ризенкрафт, однако, ничего уже не мог сказать, ибо он умер от злости.
— Упокой, господи, твою душу, бедный злюка! — молвил Уленшпигель и, отягченный печалью, удалился с поля боя.
14
Был конец октября. Принц нуждался в деньгах, войско его голодало. Солдаты роптали. Он двигался по направлению к Франции и все хотел дать герцогу бой, но тот уклонялся.
По дороге из Кенуа-ле-Конт в Камбрези он наткнулся на неприятеля. Ему пришлось вступить в бой с десятью немецкими ротами, восемью отрядами испанской пехоты и тремя эскадронами легкой кавалерии под командой сына герцога, дона Рафаэля Энрике. Дон Рафаэль Энрике был там, где завязалась особенно жаркая схватка.
— Бей! Бей! Пощады не давай! Да здравствует папа римский! — крикнул он по-испански и ударил со своими людьми на ту роту аркебузиров, где Уленшпигель был взводным.
— Сейчас я отсеку этому палачу язык! — сказал своему сержанту Уленшпигель.
— Отсеки, — сказал сержант.
И Уленшпигель метко пущенной пулей раздробил челюсть и вырвал язык сыну герцога, дону Рафаэлю Энрике.
Вслед за тем он сбил с коня сына маркиза Дельмареса.
Враг был разбит.
После победы Уленшпигель поискал в лагере Ламме, но не нашел.
— Ай, ай, ай! — сказал он. — Нет моего друга Ламме, нет моего толстого друга! В боевом пылу он, верно, позабыл о тяжести своего пуза и устремился в погоню за испанскими беглецами. Летел, летел, запыхался — и свалился, как мешок, на дороге; А они его подобрали и возьмут с него выкуп — его же собственным христианским салом. Где ты, мой друг Ламме, где ты, мой жирный друг?
Уленшпигель искал его всюду и, не найдя, закручинился.
15
В ноябре, месяце метелей и вьюг, Молчаливый позвал к себе Уленшпигеля. Когда Уленшпигель к нему вошел, он в нетерпении покусывал шнур от своей кольчуги.
— Слушай и запоминай, — сказал принц.
На это ему Уленшпигель заметил:
— Мои уши — что двери темницы: войти легко, а выйти не так-то просто.
Молчаливый сказал:
— Обойди Намюр, Фландрию, Геннегау, Южный Брабант, Антверпен, Северный Брабант, Гельдерн, Оверэйссель, Северную Голландию и всюду говори о том, что если не судьба нам защитить наше святое христианское дело на суше, то борьба с беззаконными насильниками будет продолжаться на море[175]. Сам господь благословил нас на этот подвиг, и он не оставит нас своею милостью и в счастье и в несчастье. В Амстердаме побывай у преданного мне человека Пауля Бойса и доложи ему обо всем, что тебе удалось предпринять и совершить. Вот тебе три пропуска, подписанные самим Альбой, — их нашли на трупах убитых под Кенуа-ле-Конт. Мой секретарь вписал имена. Хорошо, если бы тебе попался такой попутчик, которому ты мог бы довериться. Кто на трель жаворонка ответит боевым кличем петуха, тот — наш. Вот тебе пятьдесят флоринов. Будь отважен и стоек.
— Пепел бьется о мое сердце, — отвечал Уленшпигель и пустился в путь.
16
Пропуск, скрепленный именами короля и герцога, давал ему право носить любое оружие. Он взял с собой свою аркебузу, патронов и сухого пороха. Надел на себя рваный плащ, драный камзол, испанского покроя штаны, шляпенку с пером, прицепил шпагу и, простившись со своим войском у французской границы, зашагал по направлению к Маастрихту.
Предвестники холода корольки летали вокруг жилищ и просили пустить их погреться. Третьи сутки шел снег.
Уленшпигелю то и дело приходилось предъявлять пропуск. Его пропускали. Он шел в Льеж.
В поле вьюга лепила снегом в лицо. Кругом ничего не было видно — только белое-белое поле да снежные вихри. За Уленшпигелем пошли было три волка, но одного из них он уложил на месте, тогда двое других бросились на сраженного пулей товарища и, разорвав его на части, убежали с кусками мяса в лес.
Избавившись от этих трех волков, Уленшпигель посмотрел вокруг, не бежит ли еще где-нибудь стая, и различил на горизонте как бы серые изваяния, двигавшиеся сквозь метель, а за ними черные фигуры всадников. Он влез на дерево. Ветер издалека донес до него стены. «Может, это паломники в белых балахонах, — сказал он себе, — они сливаются со снегом». Но тут он разглядел, что это бегут голые люди, а гонят несчастное стадо бичами два рейтара в черном одеянии, верхом на строевых конях. Уленшпигель зарядил аркебузу. Среди этих страдальцев были и старые и молодые, — голые, продрогшие, окоченевшие, съежившиеся, они под страхом бича бежали из последних сил, а рейтарам, тепло одетым, сытым, раскрасневшимся от водки, доставляло видимое удовольствие хлестать голых людей.
— Я мщу за тебя, пепел Клааса! — сказал Уленшпигель и выстрелил одному из рейтаров прямо в лицо — рейтар свалился с коня. Другого рейтара испугал этот неожиданный выстрел. Вообразив, что в лесу засада, он решил спастись бегством и увести коня своего спутника. Но когда он, схватив его за узду, спешился, чтобы пошарить в карманах убитого, вторая пуля угодила ему в затылок, и он грохнулся оземь.
Голые люди, вообразив, что их спас ангел небесный в образе меткого аркебузира, пали на колени. Уленшпигель слез с дерева, и тут некоторые, служившие вместе с ним в армии принца, узнали его.
— Уленшпигель, мы французы, — сказали они. — В таком ужасном виде нас гнали в Маастрихт, где сейчас находится герцог. На нас смотрят как на мятежников, выкупа мы за себя дать не можем и потому заранее обречены на пытки и казни, а кого не казнят, тех, как воров и разбойников, пошлют на королевские галеры.
Уленшпигель отдал самому старому свой opperstkleed и сказал:
— Пойдемте! Я отведу вас в Мезьер, но только прежде снимем все с солдат и уведем их коней.
После того, как снятые с солдат куртки, штаны, сапоги, шапки и латы были распределены между самыми слабыми и больными, Уленшпигель сказал:
— Пойдемте лесом — там тише и теплей. Бежим, братья!
Вдруг один человек упал.
— Мне холодно и голодно, — сказал он, — я иду к богу и буду свидетельствовать перед ним, что папа — антихрист.
И тут он испустил дух. Товарищи решили понести его тело, а затем похоронить по христианскому обряду.
На большой дороге им повстречался крестьянин в крытой повозке. Он сжалился над голыми людьми и посадил их к себе в повозку. Там они зарылись в сено и накрылись пустыми мешками. Им стало тепло, и они возблагодарили бога. Уленшпигель ехал рядом о-двуконь.
В Мезьере они остановились. Им дали вкусного супу, пива, хлеба и сыра, а старикам и женщинам еще и мяса. Их приютили, одели и снова вооружили на средства общины. И все благодарили и обнимали Уленшпигеля, а ему это было приятно, и он не противился.
Рейтарских коней он продал за сорок восемь флоринов и тридцать флоринов отдал французам.
Продолжая свой путь в одиночестве, он говорил себе: «Я иду мимо развалин, вижу кругом слезы и кровь — и ничего не нахожу. Видно, налгали мне бесы. Где Ламме? Где Неле? Где Семеро?»
А пепел Клааса по-прежнему бился о его грудь. И тут он услышал голос, тихий, как дуновение ветерка:
— Ищи в смерти, среди развалин, в слезах.
И он пошел дальше.
17
В марте Уленшпигель подошел к Намюру. И здесь он встретился с Ламме — тот, пристрастившись к маасской рыбке, главным образом к форели, нанял лодку и с дозволения общины занялся рыбной ловлей. Рыбникам он уплатил за это пятьдесят флоринов.
Пойманную рыбу он ел и продавал и благодаря этому прибавился в весе и поправил свои дела.
Увидев своего друга-приятеля, который бродил по берегу Мааса и не знал, на чем переправиться в город, Ламме обрадовался, направил лодку к берегу, вскарабкался по крутому склону и, отдуваясь, подошел к Уленшпигелю.
— Вот ты где, сын мой, сын мой во Христе! — заикаясь от радости, заговорил он. — Да, сын, ибо ковчег моей утробы вместит двоих таких, как ты. Куда ты путь держишь? К чему ты стремишься? Надеюсь, ты жив? Не видал ли ты моей жены? Я тебя попотчую маасской рыбкой — это лучшее, что есть в дольнем мире. Здесь умеют делать такие соусы, что не только пальчики, а и все руки, по самые плечи, оближешь. От порохового дыма ты похорошел, у тебя появилась гордая осанка. Так вот где ты, сын мой, друг мой Уленшпигель, веселый бродяга! — Затем он понизил голос до шепота: — Сколько ты испанцев убил? Ты не видел мою жену где-нибудь в повозке с ихними шлюхами? И вином маасским я тебя угощу — дивное средство от запора! Ты не ранен, сын мой? Поживи здесь со мной — сразу посвежеешь, наберешься сил, расправишь крылья, что твой орленок. И угорьков отведаешь. Ни малейшего запаха тины. Поцелуй меня, пузанок! Ах ты, господи, как же я рад!
И Ламме танцевал, плясал, тяжело дышал и вовлекал в пляс Уленшпигеля.
Затем они отправились в Намюр. У городских ворот Уленшпигель предъявил подписанный герцогом пропуск, и Ламме повел его к себе.
Готовя обед, он выслушал повесть о его приключениях и рассказал о своих, которые начались с того, что он оставил войско и пошел за одной девушкой, показавшейся ему похожей на жену. Так он добрался до Намюра. Свой рассказ он то и дело перебивал вопросом:
— Ты ее не видал?
— Видал других, очень даже хорошеньких, — отвечал Улешпигель, — и как раз в этом городе: они тут все наперебой занимаются такими делами.
— Верно, верно, — подтвердил Ламме. — Они и на меня сколько раз покушались, но я был тверд, ибо мое бедное сердце полно воспоминаний о моей единственной.
— Так же, как твое брюхо полно многоразличной снеди, — ввернул Уленшпигель.
— Когда я горюю, я должен есть, — возразил Ламме.
— И кручина не покидает тебя ни на мгновенье? — спросил Уленшпигель.
— Увы, нет! — отвечал Ламме и, достав из котла форель, воскликнул: — Погляди, какая она красивая, какая она жирная! Тело у нее розовое, как у моей жены. Завтра мы с тобой уедем из Намюра. У меня полный мешок флоринов. Мы с тобой купим по ослу — и трюх-трюх во Фландрию.
— Порастрясешь ты мошну, — заметил Уленшпигель.
— Я всем сердцем стремлюсь в Дамме — там она меня, любила. Может, она туда вернется.
— Ну, раз ты так хочешь, выедем завтра утром, — сказал Уленшпигель.
И точно: на другой же день они загарцевали рядышком на ослах.
18
Дул резкий ветер. Небо, с утра ясное, как молодость, вдруг нахмурилось, точно старость. Пошел дождь с градом.
Как скоро дождь перестал, Уленшпигель отряхнулся и сказал:
— Уж очень много туманов впитывает в себя небо — надо ему когда-нибудь и облегчиться.
Опять полил дождь, и еще крупнее посыпался на путников град.
— Мы и так славно помылись, — зачем же нас еще скребницами тереть? — захныкал Ламме.
Солнце проглянуло, и они весело затрусили дальше.
Опять хлынул дождь, а крупным, сыпавшимся со страшною силою, градом посбивало с деревьев сухие ветки, точно срезанные множеством острых ножей.
— Эх! Под крышу бы сейчас! — застонал Ламме. — Бедная моя жена! Где вы, жаркий огонь, нежные поцелуи и наваристые супы?
И, сказавши это, толстяк заплакал.
Но Уленшпигель пристыдил его.
— Вот мы все жалуемся, — сказал он, — а не мы ли сами виноваты в наших злоключениях? Нас поливает дождем, но этот декабрьский дождь обернется клевером в мае. И коровы замычат от радости. Мы — бесприютные, а кто нам мешает жениться? Я разумею себя и маленькую Неле, такую хорошую, такую пригожую, — она бы мне теперь говядинки с бобами приготовила. Мы страдаем от жажды, хотя на нас льется вода, а почему мы не сидели дома и не учились чему-нибудь одному? Кто в мастера вышел, у того теперь полон погреб бочек с bruinbier'ом.
Но тут пепел Клааса забился о его грудь, небо разъяснилось, солнце засияло, и Уленшпигель обратился к нему:
— Ясное солнышко! Спасибо тебе, что ты нас обогрело! А ты, пепел Клааса, греешь мое сердце и говоришь о том, что блаженны странствующие ради освобождения отчего края.
— Я проголодался, — сказал Ламме.
19
На постоялом дворе их провели наверх и подали обед. Уленшпигель отворил окно в соседний сад и увидел смазливую девицу, полную, с налитой грудью и золотистыми волосами, в белой полотняной кофточке, в юбке и в черном полотняном переднике, отделанном кружевами.
На веревках белели сорочки и прочее женское белье. Девица, поминутно оглядываясь на Уленшпигеля и улыбаясь ему, то снимала, то вешала сорочки, а затем, не сводя глаз с Уленшпигеля, села на одну из протянутых веревок и начала качаться, как на качелях.
На соседнем дворе пел петух, кормилица поворачивала младенца лицом к стоявшему перед вей мужчине и говорила:
— Улыбнись папе, Боолкин!
Младенец ревел.
А хорошенькая девушка опять принялась снимать и вешать белье.
— Это наушница, — сказал Ламме.
Девушка закрыла лицо руками и, улыбаясь сквозь пальцы, посмотрела на Уленшпигеля.
Потом обеими руками приподняла груди, тут же опустила их и опять начала качаться, не касаясь ногами земли.
Юбки у нее раздувались, придавая ей сходство с волчком. Уленшпигелю были видны ее голые до плеч, белые полные руки, на которые падал тусклый солнечный свет. Качаясь и улыбаясь, она смотрела на Уленшпигеля в упор. Уленшпигель пошел к ней. Ламме — за ним. Уленшпигель поискал в изгороди лаз, но не нашел.
Девушка, угадав намерение Уленшпигеля, снова улыбнулась ему сквозь пальцы.
Уленшпигель хотел было перемахнуть изгородь, но Ламме удержал его.
— Не ходи, — сказал он, — это наушница, нас сожгут.
А девушка между тем гуляла по саду, прикрываясь передником и глядя сквозь кружево, не идет ли случайный ее дружок.
Уленшпигель снова попытался перескочить через изгородь, но Ламме схватил его за ногу и стащил на землю.
— Петля, меч и костер! — сказал он. — Это наушница. Не ходи.
Уленшпигель барахтался с ним на земле. А девушка, выглянув из-за ограды, крикнула:
— Прощайте, сударь! Желаю вашему долготерпению, чтобы Амур всегда держал его в висячем положении.
Вслед за тем послышался ее хохот.
— Ай! — вскрикнул Уленшпигель. — Точно сто иголок впились мне в уши.
Где-то хлопнули дверью.
Уленшпигель пригорюнился. А Ламме, все еще не отпуская его, сказал:
— Ты перебираешь в уме все ее дивные красы, которые от тебя ускользнули. Это наушница. Ты на свое счастье грохнулся. Да и я не внакладе: по крайности, насмеюсь досыта.
Уленшпигель ничего ему не ответил. Оба сели и поехали.
20
Так, обнимая ногами своих ослов, двигались они дальше.
Ламме все никак не мог всласть насмеяться. Ни с того ни с серо Уленшпигель ожег его хлыстом по заду, а зад его подушкой возвышался на седле.
— За что ты меня? — жалобно воскликнул Ламме.
— Что такое? — спросил Уленшпигель.
— За что ты меня хлыстом? — спросил Ламме.
— Каким хлыстом?
— Таким, которым ты меня ударил, — отвечал Ламме.
— Слева?
— Да, слева, по моей заднице. За что ты меня, нахал бессовестный?
— По недомыслию, — отвечал Уленшпигель. — Я прекрасно знаю, что такое хлыст, прекрасно знаю, что такое поджарый зад в седле. Но когда я увидел твой зад, широкий, толстый, в седле не умещающийся, я себе сказал: «Ущипнуть его не ущипнешь, да и хлыст навряд его проберет». Не рассчитал!
Ламме эти насмешило, а Уленшпигель продолжал:
— Да ведь не я первый, не я последний согрешил по недомыслию. На свете немало выставляющих свой жир на седле остолопов, которые могли бы мне по части таких прегрешений нос утереть. Ежели мой хлыст согрешил перед твоим задом, то ты совершил еще более тяжкое преступление перед моими ногами, не пустив их бежать к девушке, которая заигрывала со мной в саду.
— Стерва ты этакая! — воскликнул Ламме. — Так это была месть?
— Мелкая, — отвечал Уленшпигель.
21
А Неле грустила — она была в Дамме совсем одинока, хоть и жила с Катанной, но Катлина все звала своего возлюбленного — холодного беса, а тот к ней не шел.
— Ах, Ганс, милый мой Ганс! — говорила она. — Ведь ты богат — ну что тебе стоит отдать мне семьсот каролю? Тогда бы Сооткин живая вернулась из чистилища к нам на землю, а Клаас возрадовался на небе. Тебе ничего не стоит отдать мне долг. Уберите огонь, душа просится наружу, пробейте дыру, душа просится наружу!
Говоря это, она все показывала на голову — в том месте, где жгли паклю.
Катлина бедствовала, но соседи делились с ней бобами, хлебом, мясом, кто чем мог. Община давала ей денег. Неле шила на богатых горожанок, ходила гладить белье и зарабатывала флорин в неделю.
А Катлина все твердила:
— Пробейте дыру, выпустите мою душу! Она стучится, просится наружу. Он отдает семьсот каролю.
А Неле не могла ее слушать без слез.
22
Между тем Уленшпигель и Ламме, снабженные пропусками, заехали в трактир, прилепившийся к одной их тех, кое-где поросших лесом скал, что возвышаются на берегу Мааса. На вывеске заведения было написано: «Трактир Марлера».
Распив несколько бутылок маасского вина, букетом напоминавшего бургонское, и закусив изрядным количеством рыбы, они разговорились с хозяином, ярым папистом, болтливым, однако ж, как сорока, оттого что был навеселе, и все время лукаво подмигивавшим. Уленшпигель, заподозрив, что за этим подмигиваньем что-то кроется, подпаивал его, и в конце концов хозяин, заливаясь хохотом, пустился в пляс, а потом опять сел за стол и провозгласил:
— За ваше здоровье, правоверные католики!
— И за твое, — подхватили Ламме и Уленшпигель.
— И за то, чтобы скорей покончить с бунтовщической и еретической чумой!
— Пьем, — отвечали Ламме и Уленшпигель, а сами все подливали хозяину, хозяин же видеть не мог, чтобы его стакан был полон.
— Вы славные ребята, — продолжал он. — Пью за вашу щедрость. Чем больше вы у меня напьете, тем мне выгоднее. А пропуски-то у вас есть?
— Вот они, — сказал Уленшпигель.
— Подписано герцогом, — сказал хозяин. — Пью за герцога!
— Пьем за герцога, — подхватили Ламме и Уленшпигель.
А хозяин опять начал занимать их разговором:
— Чем ловят крыс, мышей и кротов? Крысоловками, мышеловками и капканами. Кто есть крот? Это есть самый главный еретик оранжевого цвета — цвета адского пламени. С нами бог! Они сейчас придут. Хе-хе! Выпьем! Налей! Душа горит! Выпьем! Трое славных реформатских проповедничков… то есть, я хотел сказать, трое славных, храбрых солдатиков, могучих, как дубы… Выпьем! Вы не хотите пройти с ними в лагерь главного еретика? У меня есть пропуски, подписанные им самим… Посмотрите, как солдатики будут действовать.
— Ну что ж, сходим, — согласился Уленшпигель.
— Уж они маху не дадут! Ночью, ежели ничто не помешает… — тут хозяин присвистнул и сделал такое движение, будто хотел кому-то перерезать горло. Стальной ветер не даст больше петь нассаускому дрозду. А посему давайте выпьем!
— Веселый же ты человек, хотя и женатый! — заметил Уленшпигель.
— Я не женат и никогда не женюсь, — возразил хозяин. — Я храню государственные тайны. Выпьем? Жена выведает их у меня в постели, чтобы отправить меня на виселицу и овдоветь раньше, чем того захочет природа. Они придут вот как бог свят… Где мои новые пропуски? На моем христианском сердце. А ну, хлопнем! Они там, там, в трехстах шагах отсюда на дороге, близ Марш-ле-Дам. Вон они, видите? А ну, хлопнем!
— Хлопни, хлопни! — сказал Уленшпигель. — Я пью за короля, за герцога, за проповедников, за Стальной ветер, за тебя, за себя, за вино и за бутылку. Что же ты не пьешь?
При каждой здравице Уленшпигель наливал хозяину полный стакан, а тот пил до дна.
Испытующе посмотрев на хозяина, Уленшпигель наконец встал.
— Заснул, — сказал он. — Пойдем, Ламме!
Они вышли.
— Жены у него нет, стало быть выдать нас некому… — продолжал Уленшпигель. — Скоро стемнеет… Ты слышал, что говорил этот мерзавец? Ты понял, кто эти трое проповедников?
— Да, — сказал Ламме.
— Они идут от Марш-ле-Дам берегом Мааса, и хорошо бы нам их перехватить, пока не подул Стальной ветер.
— Да, — сказал Ламме.
— Надо спасти жизнь принца, — сказал Уленшпигель.
— Да, — сказал Ламме.
— На, возьми мою аркебузу, — сказал Уленшпигель, — спрячься вон в той расселине, в кустах, заряди аркебузу двумя пулями и, когда я прокаркаю, стреляй.
— Хорошо, — сказал Ламме и скрылся в кустах.
Уленшпигель слышал, как щелкнул курок.
— Ты видишь их? — спросил он.
— Вижу, — отвечал Ламме. — Их трое, идут в ногу, как солдаты, один выше других на целую голову.
Уленшпигель сел на обочине, вытянул ноги и, словно нищий, перебирая четки, забормотал молитву. Шляпу он положил на колени.
Когда три проповедника с ним поравнялись, он протянул им шляпу, но они ничего ему не подали.
Уленшпигель приподнялся и давай канючить:
— Не откажите, милостивцы, в грошике бедному каменолому, — намедни в яму упал и разбился. Здесь народ черствый, никто не пожалеет несчастного калеку. Подайте грошик, заставьте вечно бога за себя молить! А господь вам за это счастье пошлет, кормильцы!
— Сын мой, — заговорил один из проповедников, человек крепкого телосложения, — пока на земле царят папа и инквизиция, мы не можем быть счастливы.
Уленшпигель вздохнул ему в тон и сказал:
— Ах, государь мой, что вы говорите! Тише, благодетель, умоляю вас! А грошик мне все-таки дайте!
— Сын мой, — заговорил низкорослый проповедник с воинственным выражением лица. — У нас, несчастных страдальцев, денег в обрез, дай бог, чтобы на дорогу хватило.
Уленшпигель опустился на колени.
— Благословите меня! — сказал он.
Три проповедника небрежным движением благословили его.
Заметив, что у отощавших проповедников животики, однако, изрядные, Уленшпигель, вставая, будто нечаянно уткнулся головой в пузо высокому проповеднику и услыхал веселое звеньканье монет.
Тут Уленшпигель выпрямился и вытащил меч.
— Честные отцы, — оказал он, — нынче холодно, я, можно сказать, не одет, а вы разодеты. Дайте мне вашей шерсти, а я выкрою себе из нее плащ. Я — Гез. Да здравствует Гез!
На это ему высокий проповедник сказал:
— Ты, носатый Гез, больно высоко нос задираешь — мы тебе его укоротим.
— Укоротите? — подавшись назад, вскричал Уленшпигель. — Как бы не так! Стальной ветер, прежде чем подуть на принца, подует на вас. Я Гез, и да здравствует Гез!
Оторопевшие проповедники заговорили между собой:
— Почем он знает? Нас предали! Бей его! Да здравствует месса!
С этими словами они выхватили отточенные мечи.
Уленшпигель, однако ж, не дожидаясь, пока они его зарубят, отступил к кустарнику, где прятался Ламме. Когда же проповедники, по его расчету, приблизились на расстояние аркебузного выстрела, он крикнул:
— Эй, вороны, черные вороны, сейчас подует свинцовый ветер! Я вам спою отходную!
И закаркал.
Из кустов раздался выстрел, и высокий проповедник упал ничком на дорогу, а второй выстрел свалил другого проповедника.
И тут перед взором Уленшпигеля мелькнула в кустах добродушная морда Ламме и его поднятая рука, проворно заряжавшая аркебузу.
А над черными кустами вился сизый дымок.
Третий проповедник, не помня себя от ярости, кинулся на Уленшпигеля с мечом.
— Не знаю, каким ветром — стальным или же свинцовым, — крикнул Уленшпигель, — а все-таки тебя сдует на тот свет, подлый убийца!
И с этими словами он ринулся на него. И храбро бился.
И стояли они как вкопанные на дороге друг против друга, нанося и отражая удары. Уленшпигель был уже весь в крови, оттого что противник, матерый вояка, ранил его в голову и в ногу. Но он по-прежнему нападал и защищался, как лев. Кровь заливала ему глаза и мешала видеть — он отскочил, отер левой рукой кровь и вдруг почувствовал, что слабеет. И несдобровать бы ему, когда бы Ламме метким выстрелом не уложил и третьего проповедника.
И вслед за тем Уленшпигель увидел и услышал, как тот изрыгает проклятия, кровь и предсмертную пену.
А в черных кустах, над которыми вился сизый дымок, снова мелькнула добродушная морда Ламме.
— Все кончено? — спросил он.
— Да, сын мой, — отвечал Уленшпигель. — Поди-ка сюда…
Выйдя из засады, Ламме увидел, что у Уленшпигеля кровь так и хлещет из ран. Несмотря на толщину, он с быстротой оленя подскочил к Уленшпигелю, сидевшему на земле подле убитых.
— Милый друг мой ранен, ранен этим гнусным убийцей! — сказал он и ударом каблука выбил зубы ближайшему проповеднику. — Ты молчишь, Уленшпигель? Ты умираешь, сын мой? Где же бальзам? А, в котомке, под колбасой! Уленшпигель, ты слышишь меня? Ай-ай-ай! Нечем мне промыть твои раны, нет у меня теплой воды, и негде ее достать. Ну, ничего, сойдет и вода из Мааса. Поговори со мной, дружок! Ведь уж не так тяжело ты ранен. Немножко водички холодненькой, хорошо? Ага! Очнулся! Это я, сын мой, твой друг. Все убиты! Эх, тряпочек бы, тряпочек — перевязать раны! Нет у меня тряпок. А рубашка на что? — Ламме снял с себя рубашку и продолжал: — Рубашку — в клочья! Кровь останавливается. Мой друг не умрет. Ой, как холодно! — воскликнул он. — Спина здорово мерзнет. Скорей, скорей одеваться! Он не умрет! Это я, Уленшпигель, я, твой друг Ламме! Эге! Улыбается!. Сейчас я обчищу убийц. У них животы набиты флоринами. У них золотые кишки, тут и каролю, и флорины, и daelder'ы, и патары — и письма! Теперь мы с тобой разбогатели. Больше трехсот каролю на двоих. И оружие заберем и деньги. Стальной ветер уже не подует на принца.
Уленшпигель встал, стуча зубами от холода.
— Вот ты и на ногах, — сказал Ламме.
— Бальзам действует, — заметил Уленшпигель.
— Это бальзам мужества, — подхватил Ламме.
Он сбросил три мертвых тела одно за другим в расселину и туда же побросал их оружие и одежду, всю, кроме плащей.
И в небе, почуяв добычу, сейчас же закаркали вороны.
И под серым небом катила стальные волны река Маас.
И падал снег и смывал кровь.
И оба они были мрачны. И Ламме сказал:
— Мне легче убить цыпленка, нежели человека.
И оба сели на ослов.
Когда же они подъехали к Гюи, раны у Уленшпигеля все еще кровоточили. Уленшпигель и Ламме сделали вид, будто ссорятся, соскочили с ослов и разыграли жаркий бой, затем, перестав махать мечами, снова сели на ослов и, предъявив пропуск у городских ворот, въехали в Гюи.
Женщины, глядя на окровавленного Уленшпигеля и гарцевавшего с видом победителя на своем ослике Ламме, прониклись жалостью к раненому, а Ламме показали кулаки.
— Этот негодяй изранил своего друга! — говорили они.
Ламме пробегал жадными глазами по их лицам, нет ли среди них его жены.
Но высматривал он ее напрасно, в тоска теснила ему грудь.
23
— Куда же мы теперь? — спросил Ламме.
— В Маастрихт, — отвечал Уленшпигель.
— Но ведь говорят, сын мой, что там кругом войска герцога, а сам герцог в городе. Пропуски нам не помогут. Пусть даже испанские солдаты пропустят — все равно задержат в городе и подвергнут допросу. А тем временем пройдет слух об убийстве проповедников — и нам конец.
Уленшпигель же ему на это ответил так:
— Вороны, совы и коршуны скоро их расклюют. Лица их и теперь, уж верно, нельзя узнать. Пропуски могут и не подвести, но ты прав: если прослышат об убийстве, то нас с тобой сцапают. Надо постараться пройти в Маастрихт через Ланден.
— На виселицу попадем, — сказал Ламме.
— Нет, пройдем, — возразил Уленшпигель.
Разговаривая таким образом, они приблизились к гостинице «Сорока» и там славно закусили, славно отдохнули и скотов своих накормили.
А наутро выехали в Ланден.
Приблизившись к обширной подгородней усадьбе, Уленшпигель запел жаворонком, и тотчас же изнутри ему ответил боевой клич петуха. На пороге появился добродушного обличья фермер. Он им сказал:
— Раз вы, друзья, люди вольные, то да здравствует Гез! Пожалуйте!
— Кто это? — спросил Ламме.
— Томас Утенхово, доблестный реформат, — отвечал Уленшпигель. — Все его слуга и служанки стоят, как и он, за свободу совести.
— Стало быть, вы от принца? — обратился к ним Утенхове. — Ну так ешьте и пейте!
И тут ветчинка на сковородке зашипела, и колбаска тоже, и бутылочка прибежала, и стаканчики — доверху, а Ламме давай пить, как сухой песок, и есть, так что за ушами трещало.
Работники и работницы то и дело заглядывали в щелку и наблюдали за работой его челюстей. Мужчины завидовали ему и говорили, что, мол, и они бы не отказались.
По окончании трапезы Томас Утенхове сказал:
— На этой неделе сто крестьян уйдут отсюда якобы винить плотины в Брюгге и его окрестностях. Будут они идти партиями, человек по пять, по шесть, разными дорогами. А из Брюгге переправятся морем в Эмден.
— А деньги и оружие у них будут? — спросил Уленшпигель.
— У каждого по десять флоринов и по большому ножу.
— Господь бог и принц вознаградят вас, — сказал Уленшпигель.
— Я не из-за награды, — возразила Томас Утенхове.
— Как это у вас получается, хозяин, такое душистое, сочное и нежное блюдо? — угрызая толстую кровяную колбасу, спросил Ламме.
— А мы кладем туда корицы и майорану, — отвечал хозяин и обратился к Уленшпигелю: — А что Эдзар, граф Фрисландский, по-прежнему на стороне принца?
— Он этого не показывает, но укрывает в Эмдене его корабли, — отвечал Уленшпигель. — Нам нужно в Маастрихт, — прибавил он.
— Туда не пробраться, — молвил хозяин, — кругом войска герцога.
Он провел их на чердак и показал оттуда стяги и знамена конницы и пехоты, гарцевавшей и шагавшей в поле.
— Вас здесь все уважают, — обратился к хозяину Уленшпигель, — добудьте мне разрешение жениться, и я прорвусь. От моей невесты требуется, чтобы она была мила, хороша, благонравна и чтобы она изъявила желание выйти за меня — если не навсегда, то, по крайности, на неделю.
Ламме вздохнул и сказал:
— Не женись, сын мой, — жена оставит тебя одного сгорать на огне любви. Мирное ложе твое обернется остролистовым тюфяком, и сладкий сон отлетит от тебя.
— Все-таки я женюсь, — объявил Уленшпигель.
А Ламме, ничего съестного больше на столе не обнаружив, огорчился. Но тут взгляд его упал на блюдо, полное печений, и он с мрачным видом тотчас же захрустел.
Уленшпигель снова обратился к Томасу Утенхове:
— А ну, давайте выпьем! Вы мне раздобудете жену, можно богатую, можно бедную. Я пойду с нею в церковь, и поп обвенчает нас. Он выдаст нам брачное свидетельство, но оно не будет иметь никакого значения, понеже оно выдано папистом-инквизитором. Мы получим удостоверение в том, что мы истинные христиане, поелику мы исповедуемся и причащаемся, живем по заветам апостолов, соблюдаем обряды святой нашей матери — римской церкви, сжигающей своих детей живьем, и призываем на себя благословение святейшего отца нашего — папы, воинства небесного и земного, святых угодников и угодниц, каноников, священников, монахов, солдафонов, сыщиков и всякой прочей нечисти. Запасшись таковым свидетельством, мы отправимся в свадебное путешествие.
— Ну, а жена? — спросил Томас Утенхове.
— Жену мне подыщете вы, — отвечал Уленшпигель. — Словом, я беру две повозки, украшаю их гирляндами из еловых и остролистовых ветвей, бумажными цветами и сажаю туда несколько славных парней, которых вы бы хотели переправить к принцу.
— Ну, а жена? — спросил Томас Утенхове.
— И она, понятно, тут же, — отвечал Уленшпигель и продолжал: — В одну повозку я впрягу пару ваших лошадей; а в другую — пару наших ослов. В первую сядет моя жена, я, мой друг Ламме и свидетели, во вторую — барабанщики, дудочники и свирельщики. А затем под веселыми свадебными знаменами, барабаня, горланя, распевая, выпивая, мы во весь конский мах помчимся по большой дороге, и дорога эта приведет нас либо на Galgenveld, то есть на Поле виселиц, либо к свободе.
— Я рад бы тебе помочь, — молвил Томас Утенхове, — но ведь жены и дочери захотят сопровождать мужей и отцов.
— Поедем с богом! — просунув голову в дверь, крикнула смазливая девчонка.
— Если нужно, я могу предоставить и четыре повозки, — предложил Томас Утенхове, — так мы провезем человек двадцать пять, а то и больше.
— А герцога обведем вокруг пальца, — ввернул Уленшпигель.
— Зато флот принца пополнится храбрыми воинами, — подхватил Томас Утенхове и, ударив в колокол и созвав всех слуг своих и служанок, повел с ними такую речь: — Слушайте все, зеландцы и зеландки: вот этот самый фламандец Уленшпигель намерен вместе с вами в свадебном поезде прорваться сквозь войско герцога.
Зеландцы и зеландки хором воскликнули:
— Мы смерти не боимся!
Мужчины говорили между собой:
— Сменить землю рабов на вольное море, — это великое счастье. Коли с нами бог, кто же нам тогда страшен?
А женщины и девушки говорили:
— Мы пойдем за нашими мужьями, за нашими Женихами. Зеландия — наша родина, и она примет нас.
Уленшпигель высмотрел молоденькую хорошенькую девушку и шутя сказал ей:
— Я на тебе женюсь.
А девчонка зарделась и так ему ответила:
— Обвенчайся — тогда выйду за тебя.
Женщины рассмеялись.
— Ей приглянулся Ганс Утенхове, сын нашего baes'а, — сказали они. — Верно, они поедут вместе.
— Я поеду с ней, — подтвердил Ганс.
И отец ему сказал:
— Поезжай!
Мужчины вырядились во все праздничное: надели бархатные куртки и штаны, длинные opperstkleed'ы и широкополые шляпы, защищающие и от солнца и от дождя. Женщины надели черные шерстяные чулки, бархатные открытые туфли с серебряными пряжками; на лбу у них сияли золотые украшения, у девушек — слева, у замужних женщин — справа; еще на них были белые воротнички, шитые золотом алые или же голубые нагрудники и черные шерстяные юбки с широкими бархатными нашивками тоже черного цвета.
Затем Томас Утенхове пошел в церковь и за два rycksdaelder'а[176] подговорил священника немедленно повенчать Тильберта, сына Клааса, то есть Уленшпигеля, с Таннекин Питере, на что священник изъявил согласие и тут же получил мзду.
Коротко говоря, Уленшпигель в сопровождении свидетелей и гостей проследовал в церковь и там обвенчался с Таннекин, такой миленькой, хорошенькой, полненькой и славненькой девушкой, что ему страх как захотелось куснуть ее похожие на два помидора щеки. И он ей в этом признался, добавив, что не решается только из благоговения перед ее дивной красой.
Но девушка надула губки и сказала:
— Оставьте меня! Ганс смотрит на вас таким взглядом, что, кажется, вот сейчас убьет.
А девушка, завидовавшая ей, сказала Уленшпигелю:
— Поищи другую. Разве ты не видишь, что она побаивается своего сердечного друга?
Ламме, потирая руки, приговаривал:
— На всех рот не разевай, негодник!
И ликовал.
Уленшпигель смирился и вместе со всеми направил свои стопы назад к усадьбе. Там он веселился, пел песни и пил за здоровье завистливой девицы. И, глядя на них, веселился Ганс, но не Таннекин и, уж конечно, не суженый завистливой девицы.
В полдень, при ярком солнце, овеваемый свежим ветром, увитый зеленью и цветами, развернув знамена, под веселые звуки тамбуринов, свирелей, волынок и дудок тронулся свадебный поезд.
А в лагере герцога был свой праздник. Разведчики и дозорные трубили тревогу, прибегали один за другим и докладывали:
— Неприятель подходит! Мы слышали барабаны и трубы, видели знамена. Это сильный кавалерийский отряд — его дело заманить нас. Главные же силы расположены, вне всякого сомнения, дальше.
Герцог без дальних размышлений приказал всем военачальникам приготовиться к бою и выслал разведку.
И вдруг аркебузиры увидели, что прямо на них мчатся четыре повозки. В повозках мужчины и женщины плясали, бутылочки у них в руках так и ходили, дудки весело дудели, волынки гудели, свирели играли, барабаны гремели.
Затем свадебный поезд остановился, навстречу ему, привлеченный шумом, вышел сам Альба и увидел в одной из четырех повозок новобрачную и рядом с ней украшенного цветами ее супруга Уленшпигеля, поселяне же и поселянки, спрыгнув с повозок, плясали и угощали солдат вином.
Беззаботность поселян, певших и веселившихся, когда кругом шла война, привела герцога купно с его свитой в немалое изумление.
А крестьяне между тем все вино роздали солдатам.
А солдаты славили их и величали.
Засим поселяне и поселянки под звуки тамбуринов, дудок и волынок беспрепятственно тронулись в путь.
И солдаты, подгуляв, выпалили в их честь из аркебуз.
А свадебный поезд прибыл в Маастрихт, и там Уленшпигель сговорился с тайными реформатами касательно того, как доставить в лодках флоту Молчаливого оружие и боевые припасы.
И такие же переговоры вел он и в Ландене.
И так, в крестьянской одежде, разъезжали они всюду.
В конце концов герцог узнал об их хитрости. Про них сложили песню и послали герцогу, а припев у песенки был такой:
Альба, герцог дурачок! Ты невесту не видал?И всякий раз, когда герцог допускал какой-нибудь промах, солдатня пела:
Герцог Альба вовсе спятил, Как невесту увидал.24
Король Филипп между тем не находил себе места от тоски и от злобы. Болезненно честолюбивый, он молился о том, чтобы господь помог ему завоевать Англию, покорить Францию, захватить Милан, Геную, Венецию, стать владыкой морей и таким образом сосредоточить в своих руках власть над всею Европой.
Но даже мысль о конечном торжестве не веселила его.
Ему всегда было холодно. Ни вино, ни огонь в камине, где постоянно жгли душистое дерево, не согревали его. Он сидел в своем покое; заваленный таким количеством писем, что ими можно было наполнить сто бочек, все что-то писал; писал, мечтал о мировом господстве, каким обладали римские императоры, и задыхался от завистливой злобы к своему сыну дону Карлосу, которого он возненавидел с тех пор, как тот возымел желание сменить герцога Альбу в Нидерландах — без сомнения, для того чтобы там воцариться, как думал Филипп. То, что сын у него был некрасивый, уродливый, злой, бешеный и свирепый, еще усиливало его ненависть. Но он никому про это не говорил.
Слуги не знали, кого им больше бояться: сына, стремительного, кровожадного, впивавшегося ногтями в тех, кто ему прислуживал, или же трусливого и вероломного отца, убивавшего чужими руками и, точно гиена, обожавшего трупы.
У слуг мороз подирал по коже при виде того, как отец и сын кружили друг подле друга. Слуги поговаривали, что в Эскориале не в долгом времени будет покойник.
И точно: не в долгом времени они узнали, что дон Карлос по обвинению в государственной измене брошен в темницу[177]. Еще им стало известно, что дон Карлос изнывает в тюрьме, что при попытке к бегству он, пролезая через решетку, поранил себе лицо и что мать его, Изабелла Французская[178], плачет не осушая глаз.
Но король Филипп не плакал.
Затем прошел слух, что дону Карлосу дали недозрелых фиг и что на другой же день он умер — уснул и не проснулся. Врачи сказали: как скоро он поел фиг, сердце у него перестало биться, все естественные отправления прекратились — он не мог ни плевать, ни блевать, ни что-либо извергать из своего тела. Живот у него вздулся, и наступила смерть.
Король Филипп выстоял заупокойную обедню по доне Карлосе, велел похоронить его в часовне королевского дворца и положить надгробную плиту, но плакать он не плакал.
А слуги сочинили принцу издевательскую эпитафию:
Здесь тот лежит, кто съел незрелых фиг И, не болея, умер вмиг. Aqui yaco quien, para decit verdad, Murio sin enfermedad.А король Филипп бросал плотоядные взгляды на замужнюю женщину принцессу Эболи[179]. В конце концов она уступила его домогательствам.
Изабелла Французская, о которой ходили слухи, что она поощряла дона Карлоса в его стремлении прибрать к рукам Нидерланды, зачахла от горя. Волосы у нее падали целыми прядями. Ее часто рвало, на руках и ногах у нее выпали ногти. И она умерла.
И Филипп не плакал.
У принца Эболи тоже выпали волосы. Он все грустил и охал. Потом и у него выпали ногти на руках и ногах.
И король Филипп велел похоронить его.
Он утешал вдову в ее горе, а сам не плакал.
25
А тем временем в Дамме женщины и девушки пришли к Неле узнать, не желает ли она стать «майской невестой» и спрятаться в кустах с тем женихом, какого ей найдут, а то, мол, добавляли они не без зависти, нет в Дамме и во всей округе такого парня, который не хотел бы высватать такую всегда красивую, всегда свежую и сметливую девушку, как она, — это ей, дескать, мать-колдунья наворожила.
— Передайте, голубушки, парням, которые за меня сватаются, — сказала Неле: — Сердце, мол, Неле не здесь — оно с тем, кто странствует ради освобождения отчего края. А что я, как вы говорите, не утратила свежести, так в том никакого колдовства нет, — я девушка здоровая, только и всего.
— А все-таки с Катлиной дело нечисто, — возразили женщины.
— Не верьте наветам злых людей, — сказала Неле. — Катлина — не колдунья. Судейские жгли паклю у нее на голове, и она повредилась в уме.
При этих словах Катлина, примостившаяся в углу, затрясла головой и забормотала:
— Уберите огонь! Мой милый Ганс вернется.
На вопрос женщин, кто этот Ганс, Неле ответила так:
— Это сын Клааса, мой молочный брат. С тех пор как господь посетил ее, ей все кажется, что она его потеряла.
Сердобольные женщины дали Катлине немного денег. А она стала показывать новенькие монетки кому-то невидимому и все приговаривала:
— Я теперь богата — ишь как блестит серебро! Приходи, мой милый Ганс, я заплачу тебе за твою любовь!
А когда женщины ушли, Неле долго плакала в опустевшей лачуге. И думала она о том, что Уленшпигель скитается в далеких краях, а она должна сидеть дома, думала о том, что Катлина все просит: «Уберите огонь!» — и хватается за грудь как бы в знак того, что в голове у нее и во всем теле пышет пламя безумия.
А между тем в кустах схоронились «майский жених» с «майской невестой».
Тот или та, кому посчастливится найти их, должны стать королем или же королевой праздника.
Неле услыхала радостные крики парней и девушек, раздавшиеся в то мгновенье, когда «майская невеста» была найдена в глухом овраге.
И, вспомнив о той счастливой поре, когда «майскую невесту» искала она с Уленшпигелем, Неле снова заплакала.
26
Между тем Ламме и Уленшпигель ехали, обняв ногами своих ослов.
— Послушай, Ламме, — заговорил Уленшпигель, — нидерландское дворянство из зависти к принцу Оранскому изменило делу конфедератов, изменило священному союзу — благородному этому соглашению, заключенному для спасения отчего края. Эгмонт и Горн тоже оказались предателями, но это им не помогло. Бредероде умер — стало быть, войну вести некому, кроме бедного люда Брабанта и Фландрии, а бедному люду нужны честные вожди, чтобы было за кем идти. Да, сын мой, и еще прими в соображение острова, Зеландские острова, да Северную Голландию, которой правит принц[180], а еще дальше, на море, графства Эмден и Восточную Фрисландию — там граф Эдзар.
— Ох-ох-ох! — отозвался Ламме. — Ходим мы между петлей, колесом и костром, алчем и жаждем, а надежды на отдыха как видно, никакой.
— Это еще только начало, — заметил Уленшпигель. — Согласись, что для нас с тобой настало раздолье: мы убиваем наших врагов, издеваемся над ними, кошельки наши туго набиты флоринами, еды, пива, вина и водки у нас вдосталь. Чего тебе еще, перина ты этакая? Не продать ли ослов и не купить ли коней?
— Сын мой, — возразил Ламме, — рысь коня тяжеловата для человека моего телосложения.
— Все крестьяне ездят на таких вот животинах, — ну и ты езди, — молвил Уленшпигель, — и никому не придет в голову над тобой потешаться: все одно к одному — ты и одет по-крестьянски, и у тебя копье, а не меч.
— Сын мой, — спросил Ламме, — а ты уверен, что наши пропуски не подведут нас в маленьких городках?
— А у меня есть еще брачное свидетельство с огромной, красного сургуча церковной печатью на двух пергаментных хвостиках и свидетельства об исповеди, — отвечал Уленшпигель. — Люди, у которых столько всяких бумаг, не могут вызвать подозрений ни у солдатни, ни у герцогских сыщиков. А черные четки, которыми мы торгуем? Мы с тобой рейтары, — ты фламандец, я немец, — странствуем по особому распоряжению герцога, торгуем святынями и через то обращаем еретиков в святую католическую веру. Под таким благовидным предлогом мы проникнем всюду — и к вельможам, и к жирным аббатам. И жирные аббаты окажут нам свое елейное гостеприимство. И мы выведаем их тайны. Оближи губки, мой милый друг!
— Сын мой, мы с тобой исполняем обязанности лазутчиков, — заключил Ламме.
— Таково право и таков закон войны, — заметил Уленшпигель.
— Если случай с тремя проповедниками выйдет наружу, мы пропали, — сказал Ламме.
Вместо ответа Уленшпигель запел:
Жить — вот призыв мои боевой, Под солнцем жить — всего дороже! Я защищен двойною кожей: Своей природной и стальной.Но Ламме продолжал сетовать:
— У меня кожа нежная; до нее только чуть дотронуться кинжалом — и уже дыра. Лучше бы нам заняться каким-нибудь полезным ремеслом, чем скитаться по горам и долам и угождать вельможам, которые носят бархатные штаны и едят ортоланов на золоченых столах. Нам — колотушки, всякие страхи, стычки, дождь, град, снег, постный страннический суп. А им — сосисочки, жирные каплуны, аппетитно пахнущие дрозды, сочные пулярки.
— У тебя слюнки текут, милый друг, — заметил Уленшпигель.
— Где вы, свежий хлеб, поджаристые koekebakk'и, дивный крем? Где ты, моя жена?
— Пепел бьет о мою грудь и влечет в бой, — молвил Уленшпигель. — Ты же, кроткий агнец, не должен мстить ни за смерть родителей, ни за горе твоих близких, ни за свою бедность. Так вот, если тяготы походной жизни тебя пугают; предоставь мне одному идти, куда меня призывает мой долг.
— Одному? — переспросил Ламме и осадил осла, а осел, не долго думая, потянулся к репейнику, росшему тут в изобилии.
Осел Уленшпигеля тоже остановился и тоже начал жевать.
— Одному? — повторил Ламме. — Если ты оставишь меня одного, то это будет неслыханная жестокость. Потерять жену, а потом еще и друга? Нет, это немыслимо. Я больше не буду роптать, обещаю тебе. И если понадобится — тут он гордо поднял голову, — я тоже пойду туда, где свищут пули, да, пойду! И туда, где звенят мечи, да, и туда! И встречусь лицом к лицу с волчьей стаей кровожадных рубак. И когда я, смертельно раненный, упаду, истекая кровью, к твоим ногам, то похорони меня, а если встретишь мою жену, то скажи ей, что жить на этом свете без любви я не мог и оттого погиб. Нет, сын мой Уленшпигель, расстаться с тобою свыше моих сил!
И тут Ламме заплакал. И Уленшпигель был тронут этим проявлением кроткого мужества.
27
Герцог Альба между тем разделил свою армию на две и одну из них двинул к герцогству Люксембургскому, а другую — к маркизату Намюрскому.
— Тут какая-нибудь военная хитрость, мне, однако ж, непонятная, — заметил Уленшпигель. — Ну да это не меняет дела — мы с тобой будем неуклонно продвигаться к Маастрихту.
Когда же они берегом Мааса подъезжали к городу, от Ламме не укрылось, что Уленшпигель внимательно разглядывает все суда на реке, а немного погодя Уленшпигель остановился перед баркой, на носу которой была изображена сирена. Сирена же эта держала в руках щит, на черном фоне коего выступали золотые буквы Г.И.Х., то есть начальные буквы слов: Господь Иисус Христос.
Уленшпигель сделал знак Ламме остановиться, а сам весело запел жаворонком.
На палубу вышел какой-то человек и запел петухом — тогда Уленшпигель заревел по-ослиному и показал на толпу, сновавшую по набережной, на что незнакомец ответил ему столь же несносным для ушей ослиным ревом. Вслед за тем ослы Уленшпигеля и Ламме, поставив уши торчком, затянули родную песню.
Мимо проходили женщины, проезжали мужчины верхом на лошадях, тянувших суда вдоль берега, и Уленшпигель сказал Ламме:
— Судовщик смеется над нами и над нашими животинами. Что, если мы нападем на его барку?
— Пусть лучше он сюда причалит, — возразил Ламме.
В их разговор встряла какая-то женщина:
— Если вы не хотите вернуться со сломанными руками, перебитыми ногами и с разбитой мордой, то не мешайте Пиру Силачу реветь.
— И-а, и-а, и-а! — ревел судовщик.
— Пусть себе распевает, — сказала женщина. — Недавно он у нас на глазах поднял тележку с огромными пивными бочками и остановил за колеса другую, которую тащил тяжеловоз. А вон там, — женщина показала на таверну «Blauwe Toren» («Голубая Башня»), — он бросил нож и за двенадцать шагов пробил дубовую бочку в двенадцать дюймов толщиной.
— И-а, и-а, и-а! — ревел судовщик.
А в это время на палубу выскочил мальчишка лет двенадцати и подтянул ему.
Уленшпигель же обратился к женщине с такими словами:
— Чихали мы на твоего Пира Силача! Мы посильней его будем. Мой друг Ламме двоих таких, как он, съест и даже не икнет.
— Что ты говоришь, сын мой? — вмешался Ламме.
— Сущую правду, — возразил Уленшпигель, — не перечь мне из скромности. Да, добрые люди, вы, бабочки, и вы, мастеровые, сейчас вы увидите, как он будет орудовать кулаками и как он сотрет в порошок знаменитого Пира Силача.
— Замолчи! — взмолился Ламме.
— Ты славишься своей силой, — продолжал Уленшпигель, — не к чему прибедняться.
— И-а! — ревел судовщик.
— И-а! — ревел мальчуган.
Неожиданно Уленшпигель снова, весьма приятно для слуха, запел жаворонком, так что прохожие, и мужчины и женщины, а равно и мастеровые, пришли в восторг и пристали к нему с вопросами, где он научился такому дивному пению.
— В раю — я ведь прямо оттуда, — отвечал Уленшпигель и, обратившись к судовщику, который ревел не переставая и в насмешку показывал на него пальцем, крикнул:
— Что ж ты, обормот, торчишь на своем суденышке? Ты бы на сушу ступил да тут бы и посмеялся над нами и над нашими осликами. Что, брат, кишка тонка?
— Что, брат, кишка тонка? — подхватил Ламме.
— И-а, и-а! — ревел судовщик. — Господа ослиные ослы, пожалуйте на мое судно!
— Во всем подражай мне, — шепнул Уленшпигель Ламме и снова обратился к судовщику: — Ты — Пир Силач, ну а я — Тиль Уленшпигель, а вот это наши ослы Иеф и Ян, и ревут они лучше тебя, потому что у них это выходит естественно. А к тебе на твое утлое суденышко мы не пойдем. Твоя посудина, как все равно корыто, пляшет от самой легкой зыби, да и плавает-то она бочком, по-крабьи.
— Во, во, по-крабьи! — подхватил Ламме.
Тут судовщик обратился к нему:
— А ты что бормочешь, шматок сала?
Ламме обозлился.
— Ты дурной христианин, коли хватает у тебя совести колоть мне глаза моим недугом! — крикнул он. — Да будет тебе известно, что это сало благоприобретенное, от хорошего питания, а ты, ржавый гвоздь, всю жизнь пробавлялся тухлыми селедками, свечными фитилями да рыбьей чешуей, о чем свидетельствует твой скелет, просвечивающий в дырки на штанах.
— Ух, и сцепятся же они сейчас — только пух полетит! — предвкушая удовольствие, говорили прохожие и мастеровые.
— И-а, и-а! — ревел судовщик.
Ламме надумал слезть с осла, набрать камней и начать обстреливать судовщика.
— Камнями не бросайся, — сказал ему Уленшпигель.
Судовщик что-то сказал на ухо мальчишке, иакавшему рядом с ним на палубе. Тот отвязал шлюпку и, ловко орудуя багром, направился к берегу. Подъехав на близкое расстояние, он приосанился и сказал:
— Мой baes спрашивает, осмелитесь ли вы явиться к нему на судно и переведаться с ним кулаками и пинками. А мужчины и женщины будут свидетелями.
— Мы ничего не имеем против, — с достоинством отвечал Уленшпигель.
— Мы принимаем вызова — необыкновенно гордо сказал Ламме.
Был полдень. Плотинщики, мостовщики, судостроители, их жены, принесшие мужьям еду, дети, пришедшие посмотреть, как отцы их будут подкрепляться бобами и вареным мясом, — все, сгрудившись на набережной, хохотали, хлопали в ладоши при мысли о предстоящем сражении и тешили себя надеждой, что кому-нибудь из воителей проломят башку, а кто-нибудь всем на потеху шлепнется в воду.
— Сын мой, — тихо сказал Ламме, — он бросит нас в воду!
— Небось не бросит, — отвечал Уленшпигель.
— Толстяк струсил, — говорили мастеровые.
Ламме, все еще сидевший на осле, обернулся и сердито посмотрел на них, но они загоготали.
— Едем к нему, — объявил Ламме, — сейчас они увидят, какой я трус.
При этих словах гогот усилился.
— Едем к нему, — сказал Уленшпигель.
Сойдя со своих серых, они бросили поводья мальчугану, а тот ласково потрепал осликов и повел их к кустам репейника.
Уленшпигель взял в руки багор и, как скоро Ламме вошел в шлюпку, направил ее к барке, а приблизившись вплотную, вслед за вспотевшим, отдувавшимся Ламме влез по веревке на палубу.
На палубе Уленшпигель нагнулся, будто для того, чтобы завязать башмак, а сам в это время что-то прошептал судовщику, судовщик же усмехнулся и посмотрел на Ламме. Затем он с налету осыпал его бранью, обозвал негодяем, заплывшим жиром от сидения по тюрьмам, papeter'ом[181], обжорой и спросил:
— Сколько бочек ворвани выйдет из тебя, рыба-кит, если тебе жилу открыть?
Тут Ламме, не говоря худого слова, ринулся на него как разъяренный бык, повалил на пол и давай молотить, однако судовщик сильной боли не испытывал, оттого что мускулы у Ламме были дряблые. Судовщик сопротивлялся только для вида, Уленшпигель же приговаривал:
— Выставишь ты нам, мошенник, вина!
Прохожие и мастеровые, следившие с берега за ходом сражения, говорили:
— Кто бы мог подумать, что этот толстяк такой горячий?
Все рукоплескали Ламме, и это его пуще раззадоривало. А судовщик только прикрывал лицо. Вдруг у всех на глазах Ламме уперся Пиру Силачу коленом в грудь и, одной рукой схватив его за горло, другою замахнулся.
— Проси пощады, — в бешенстве крикнул он, — а не то я тобой вышибу дно твоего корыта!
Судовщик захрипел в знак того, что не может говорить, в попросил пощады движением руки.
Тогда Ламме великодушно поднял противника, а тот, ставши на ноги, повернулся спиной к зрителям и показал Уленшпигелю язык, Уленшпигель же покатывался со смеху, глядя, как Ламме, гордо встряхивая пером на шляпе, величественно расхаживает по палубе.
А мужчины, женщины, мальчишки и девчонки, столпившиеся на берегу, изо всех сил хлопали в ладоши и кричали:
— Да здравствует победитель Пира Силача! Вот это здоровяк! Видели, ка-к он его кулаками? Видели, как он ему головой в живот наподдал, а тот — бряк? Теперь будут пить мировую. Вон уж Пир Силач с вином в колбасой вылезает из трюма.
И точно: Пир Силач принес два стакана и большущую кружку белого маасского вина. И они с Ламме выпили мировую. И Ламме, в восторге от своей победы, от вина и от колбасы, обратился к Пиру Силачу, и, показав на густой черный дым, валивший из судовой трубы, спросил, что за жаркое готовится в трюме.
— Там у меня боевая кухня, — усмехаясь, отвечал Пир Силач.
Мастеровые, женщины и ребятишки разошлись — кто на работу, кто по домам, и стоустая молва затрубила, что какой-то толстяк, приехавший на осле с юным богомольцем тоже верхом на осле, оказался сильнее Самсона и что с ним-де лучше не связываться.
Ламме пил и свысока поглядывал на Пира.
Вдруг судовщик сказал:
— Ваши ослы соскучились.
Подведя судно к берегу, он ступил на сушу, схватил одного осла за ноги, понес его, как Иисус Христос ягненка, и доставил на палубу. Затем он то же самое проделал с другим ослом и, нимало не запыхавшись, предложил:
— Выпьем!
Мальчик прыгнул на палубу.
И они выпили. Ламме сам на себя дивился: он ли это поколотил ражего детину, и теперь он лишь украдкой, отнюдь не победоносно, поглядывал на него и думал: а что, если судовщику припадет охота схватить его, как только что осла, и, отмщая за позор, швырнуть в Маас?
Судовщик, однако ж, с веселой улыбкой потчевал его, и Ламме, расхрабрившись, снова устремил на него самоуверенный и горделивый взор.
А судовщик и Уленшпигель хохотали.
Ослов между тем волновала новая для них почва под ногами — почва отнюдь не твердая, и они понурили головы, опустили уши и от страха не могли даже пить. Судовщик принес им по торбе с овсом, который он сам купил для тащивших его барку лошадей, чтобы погонщики не взяли с него лишнего.
Увидев торбы, ослы громко прочли благодарственную молитву, но на палубу взирали с тоской и от страха поскользнуться не смели пошевелить копытом.
Наконец судовщик сказал Ламме и Уленшпигелю:
— Сойдем в кухню!
— Но ведь это же боевая кухня! — с тревогой заметил Ламме.
— Да, боевая, но ты, мой победитель, можешь спуститься туда безбоязненно.
— А я и не боюсь, я следом за тобой, — объявил Ламме.
Мальчик стал у руля.
Спустившись, они увидели мешки с зерном, бобами, горохом, морковью и прочими овощами.
Судовщик отворил дверь в маленькую кухню и сказал:
— Как вы есть люди храбрые, знаете пение вольной пташки — жаворонка, и боевой клич петуха, и рев смирного труженика-осла, то я вам покажу мою боевую кухню. Вот такую маленькую кузницу вы найдете почти на всех маасских судах. Она никому не может внушить подозрения — на корабле непременно должна быть кузня для починки железных частей, но не у всякого есть такие прекрасные овощи.
Тут он Отодвинул камни на полу трюма, поднял половицу, вытащил составленные в козлы аркебузные стволы, поднял их, как перышко, и поставил на место, а затем показал наконечники для копий и алебард, клинки мечей, сумки для пуль и пороховницы.
— Да здравствует Гез! — воскликнул он. — Тут вам и бобы и подлива. Приклады — это бараньи ножки, наконечники копий — это салат, а аркебузные стволы — это бычьи колена для похлебки освобождения. Да здравствует Гез! Куда доставить продовольствие? — обратился он с вопросом к Уленшпигелю.
— В Нимвеген, — отвечал Уленшпигель, — туда твоя барка войдет с еще большим грузом настоящих овощей, которые тебе принесут крестьяне в Этсене, Стефансверте и Руремонде. И они тоже запоют вольной пташкой — жаворонком, ты же им ответишь боевым кличем петуха. Ты зайдешь к лекарю Понтусу, что живет на берегу Ньюве-Вааля, и скажешь, что ты приехал в город с овощами, но боишься жары. Крестьяне заломят на рынке за овощи такую невероятную цену, что никто у них ничего не купит, а лекарь тебе скажет, как поступить с оружием. Я полагаю, что он велит тебе, хотя это и небезопасно, спуститься по Ваалю, Маасу и Рейну и выменять овощи на сети, чтобы потом пойти вместе с гарлингенскими рыболовными судами, на которых много моряков, знающих, как поет жаворонок. Идти надо в виду берега, огибая отмели, и, дойдя до Лауэрзее, выменять сети на железо и свинец, вырядить твоих крестьян в одежды, какие носят в Маркене, Флиланде и Амеланде, немножко половить рыбку, но заходя далеко в море, и не продавать ее, а солить впрок: вино пьют свежее, а едят на войне соленое — это уж так заведено.
— Выпьем по сему случаю, — предложил судовщик.
И они поднялись на палубу.
Тут Ламме взгрустнулось.
— Господин судовщик, — неожиданно заговорил он, — в вашей кузне горит такой жаркий огонек, что на нем за милую душу можно соорудить отменную похлебку со свежим мясом. Моя глотка жаждет горячего.
— Сейчас я утолю твою жажду, — отвечал судовщик.
И он мигом сварил ему жирную похлебку, в которую положил добрый кусок солонины.
Проглотив несколько ложек, Ламме сказал судовщику:
— Глотка у меня шелушится, язык горит — это не похлебка со свежим мясом.
— Вино пьют свежее, а едят на войне соленое — это уж такой закон, — заметил Уленшпигель.
Судовщик снова наполнил стаканы и провозгласил:
— Я пью за жаворонка — птицу свободы!
Уленшпигель сказал:
— Я пью за петуха, скликающего на войну!
Ламме сказал:
— Я пью за мою жену — пусть она, моя любимая, никогда не испытывает жажды!
— Ты пойдешь в Эмден Северным морем, — сказал судовщику Уленшпигель. — Эмден — это наше убежище.
— Уж очень море-то большое, — сказал судовщик.
— Зато есть там простор для боя, — сказал Уленшпигель.
— С нами бог! — сказал судовщик.
— А кто же нам тогда страшен? — подхватил Уленшпигель.
— Вы когда едете? — спросил судовщик.
— Сейчас, — отвечал Уленшпигель.
— Счастливого пути и попутного ветра! Вот вам порох, вот пули.
И, расцеловавшись с ними, он, как ягнят, перенес на спине обоих ослов, а затем проводил их хозяев.
Уленшпигель и Ламме сели на ослов и поехали в Льеж.
— Сын мой, — заговорил дорогою Ламме, — почему этот сильный человек допустил, что я на нем живого места не оставил?
— Для того он это сделал, чтобы ты на всех наводил страх, — отвечал Уленшпигель. — Страх — это такой эскорт, который двадцать ландскнехтов заменит. Кто теперь посмеет затронуть могучего победоносца Ламме? Бесподобного, крепыша Ламме, который у всех на глазах, ударив головой в живот Пира Силача, таскающего ослов, как ягнят, и поднимающего тележку с пивными бочками, сшиб его с ног? Теперь все здесь тебя знают: ты — Ламме-грозный, ты — Ламме-непобедимый, а я нахожусь под твоею охраной. Куда бы мы ни направили путь, тебя каждый встречный и поперечный узнает, никто не посмеет кинуть на тебя недоброжелательный взгляд, и, приняв в рассуждение, как много на свете храбрецов, отныне ты можешь быть уверен, что по пути твоего следования тебя ожидают лишь поклоны, приветственные крики, почести и изъявления преданности, коими ты будешь обязан не чему иному, как силе устрашающего твоего кулака.
— Ты дело говоришь, сын мой, — заметил Ламме и выпрямился в седле.
— Я говорю правду, — подхватил Уленшпигель. — Ты видишь любопытные лица в окнах первых домов вон того селения? Все показывают пальцем на грозного победителя, на Ламме. Ты видишь, с какою завистью смотрят на тебя эти мужчины, как эти жалкие трусы, завидев тебя, снимают шляпы? И ты им поклонись, голубчик Ламме, — не презирай малодушную толпу. Слышишь, слышишь? Малые ребята уже знают твое имя и со страхом повторяют его.
И Ламме, точно король, с гордым видом раскланивался направо и налево. И слух о его отваге, перелетал из села в село, из города в город, вплоть до Льежа, Шокье, Невиля, Везена и Намюра, однако из-за происшествия с тремя проповедниками заглянуть в Намюр ни Уленшпигель, ни Ламме не рискнули.
Так они ехали долго по берегам речек, рек и каналов. И всюду на песню жаворонка отзывался петух. И всюду отливали, ковали и точили огнестрельное и холодное оружие для борьбы за свободу и доставляли на суда, плывшие неподалеку от берега.
А от таможенного досмотра оружие прятали в бочки, ящики и в корзины.
И везде находились добрые люди, принимавшие оружие на хранение и прятавшие его вместе с порохом и пулями в надежном месте до богом предустановленного часа.
И слава победителя все время бежала впереди Ламме, путешествовавшего вместе с Уленшпигелем, так что в конце концов он и сам поверил в свою неимоверную силу, преисполнился гордости и воинственного духа и отпустил бороду. И Уленшпигель прозвал его Ламме Лев.
Растительность, однако, вызывала у Ламме раздражение, и на четвертый день он не выдержал. Он дозволил бритве пройтись по его победоносному лику, и перед взором Уленшпигеля лик сей вновь воссиял, как солнце, — круглый, полный, лоснящийся от сытной пищи.
Наконец они прибыли в Стокем.
28
Когда смерклось, они оставили ослов в Стокеме, а сами пошли в Антверпен.
И в Антверпене Уленшпигель сказал Ламме:
— Смотри, какой большой город! Сюда стекаются сокровища со всего света: золото, серебро, пряности, золоченая кожа, гобелены, сукна, бархат, шерсть, шелк; бобы, горох, зерно, мясо, сало, мука; вино лувенское, намюрское, люксембургское, льежское, брюссельское и арсхотское, вино из Бюле, виноградники которого подходят к Намюрским воротам, рейнское, испанское и португальское, арсхотская изюмная наливка, которую там называют landolium, бургонское; мальвазия и многие другие. Пристани завалены товарами. И все эти земные блага и плоды человеческих рук привлекают сюда самых смазливых потаскушек, каких только видел свет.
— Уже разлакомился, — заметил Ламме.
А Уленшпигель ему:
— У них мне могут встретиться Семеро. Ведь мне было сказано: «В разрухе, крови и слезах — ищи».
А кто же главная причина слез, как не распутные девки? Не на них ли несчастные безумцы тратят блестящие и звенящие каролю, не их ли оделяют они драгоценностями, цепочками, кольцами, а от них уходят оборванные, обобранные, без камзолов, а то и без белья, и не на разорении ли этих безумцев бесстыжие девки наживаются? Где чистая красная кровь, прежде струившаяся в жилах у этих безумцев? Теперь это помои, а не кровь. И еще: разве за обладание нежным телом прелестниц безумцы не вонзают друг в друга ножи и кинжалы, не дерутся без всякой пощады на шпагах? Хладные, окровавленные трупы, уносимые с места дуэли, — это трупы несчастных, сошедших с ума от любви. Если отец в отчаянии проклинает кого-то, если волосы его, в которых еще прибавилось седины, стали дыбом, если он уже выплакал все слезы и в его сухих глазах неугасимым пламенем горит скорбь о погибшем сыне; если мертвенно-бледная мать тихими слезами плачет — плачет так неутешно, как будто на всем свете она одна такая несчастная, — кто же тому виной? Продажные девки, — ведь они любят только себя да деньги, к своим золотым поясам они ухитрились привязать весь думающий, действующий и философствующий мир. Да, Семеро у них — пойдем к девкам, Ламме! Может, и твоя жена там — стало быть, двух зайцев убьем.
— Ин ладно, — молвил Ламме.
Разговор этот происходил в июне, когда листья каштанов уже краснеют от солнца, когда птички поют на ветках, когда крохотные букашки и те жужжат от радости, что им так тепло в траве.
Ламме шагал рядом с Уленшпигелем по антверпенским улицам, понурив голову и еле волоча ноги, как будто он двигал целый дом.
— Ты впал в уныние, Ламме, — заметил Уленшпигель. — А знаешь ли ты, что это очень вредно для кожи? Если ты не разгонишь тоски, то кожа у тебя будет сходить клоками. Неужели же слух твой будет ласкать прозвище: Ламме-облезлый?
— Я хочу есть, — объявил Ламме.
— Пойдем закусим, — сказал Уленшпигель.
И они пошли на Старый спуск и до отвала наелись choesol'ей и напились dobbelknol'я.
И Ламме больше не хныкал.
И Уленшпигель сказал:
— Благословенно доброе пиво за то, что оно как солнце озарило-твою душу! Живот твой трясется от смеха. До чего ж я люблю смотреть на развеселую пляску твоих кишок!
— Они бы еще и не так заплясали, сын мой, когда бы мне посчастливилось найти жену, — подхватил Ламме.
— Пойдем поищем, — сказал Уленшпигель.
В таких-то разговорах дошли они до квартала Нижней Шельды.
— Посмотри на этот деревянный домик с хорошенькими резными окошечками, обрати внимание на желтые занавески и красный фонарь, — обратился к Ламме Уленшпигель. — Там, за четырьмя бочками bruinbier'а, uitzet'а[182], dobbelknol'я и амбуазского вина, восседает прелестная baesine лет этак пятидесяти с хвостиком. Что ни год, она покрывается новым слоем жира. На одной из бочек горит свеча, к балке подвешен фонарь. Там и светло и темно — темно для любви, светло для расчета.
— Стало быть, это обитель дьявольских черниц, а baesine — ихняя настоятельница, — заключил Ламме.
— Твоя правда, — подтвердил Уленшпигель. — Это она во имя господина Вельзевула ведет по греховной стезе пятнадцать миловидных девушек — охотниц до любовных похождений; она их и кормит, и дает им приют, вот только ночевать им здесь возбраняется.
— Так ты уже успел побывать в этой обители? — спросил Ламме.
— Я хочу поискать там твою жену. Пойдем!
— Нет, — объявил Ламме, — я раздумал, я туда не ходок.
— Что ж, ты пустишь своего друга одного к этим Астартам? — спросил Уленшпигель.
— А пусть и он туда не ходит, — отвечал Ламме.
— А если он туда за делом — посмотреть, нет ли там Семерых и твоей жены? — настаивал Уленшпигель.
— Я бы сейчас поспал, — признался Ламме.
— Ну так войди, — подхватил Уленшпигель и, отворив дверь, втолкнул Ламме. — Смотри: вон там, за бочками, меж двух свечей, — baesine. Комната большая, дубовый потолок потемнел, балки закоптились. По стенам лавки, кругом колченогие столы, уставленные стаканами, кружками, бокалами, кубками, кувшинами, посудинами, бутылками и прочими орудиями гульбы. Посреди комнаты тоже столы и стулья, а на них дамские накидки, золотые пояса, бархатные туфельки, волынки, дудки, свирели. Вон в том углу ведет наверх лестница. Лысый горбун играет на клавесине, стоящем на стеклянных ножках, — поэтому клавесин дребезжит. Потанцуй, пузанок! Вот они, все пятнадцать смазливых шлюшек: кто сидит на столе, кто верхом на стуле, одна наклонилась, другая распрямилась, третья облокотилась, четвертая развалилась, эта лежит на спине, та — на боку, кому как нравится, кто в белом платье, кто в красном, с голыми руками, с голыми плечами, с голой грудью. На все вкусы — выбирай любую! Иным пламя свечей озаряет светлые волосы, а их голубые глазки остаются в тени — виден только их влажный блеск. Другие, закатив глаза, томно выводят под звуки виолы какую-нибудь немецкую балладу. Третьи, дебелые, раздобревшие, наглые, хлещут стакан за стаканом амбуазское вино, показывают свои полные руки, голые до плеч, яблоки грудей, вылезающие из открытого платья, и, не стесняясь, орут во всю глотку — то по очереди, а то и все вдруг.
— Провались они нынче, деньги! Нынче мы кого хотим, того любим, — говорили красотки, — хотим — мальчика, хотим — юнца; кто нам взглянется — того и полюбим, бесплатно полюбим! — Смилуйся над нами, господи, пошли ты нам нынче таких, которые наделены от природы мужской силой, пошли нам настоящих мужчин — пусть они придут к нам сюда! — Вчера за плату, а нынче ради удовольствия! — Кто хочет пить из наших уст? Они еще влажны от вина. Вино и поцелуи — это верх блаженства! — Пропади они пропадом, вдовы, раз они спят одни! — А мы — девчоночки! Этот день отведен для добрых дел. Юным, сильным, красивым — вот кому раскрываем мы сегодня объятия. Выпьем! Выпьем! Эй, милашка, это перед любовной битвой твое сердце, как барабан, бьет тревогу! — Ну и маятник! Маятник от поцелуйных часов! — Скоро к нам придут долгожданные гости с полным сердцем и с пустым кошельком? — Поди уже чуют, чем пахнет? — Какая разница между юным Гезом и господином маркграфом? — Господин маркграф платит флоринами, а юный Гез — ласками. Да здравствует Гез! От нашего крика мертвые проснутся в гробах!
Так говорили меж собой самые добрые, самые пылкие и самые, веселые из охотниц до любовных похождений.
Но были среди них и другие — с испитыми лицами, с костлявыми плечами; их тощее тело было похоже на сквалыгу, откладывающего по грошику. Эти ворчали:
— У нас работа трудная — дуры мы будем, коли откажемся от платы из-за того, что на наших порочных дев блажь наехала. У них не все дома, а у нас все — они на старости лет будут в от-репьях по канавам валяться, а мы не желаем: коли мы продажные, стало быть плати денежки! — К чертовой матери даровщинку! Все мужчины безобразные, вонючие, брюзгливые, все они обжоры и пьяницы. Это они сбивают с пути истинного бедных женщин!
Но красивые и молодые не слушали их — они куликали в свое удовольствие и орали:
— Слышите похоронный звон соборного колокола? А у нас тут жизнь кипит! Мы мертвых разбудим в гробах!
При виде такого множества женщин, темноволосых и белокурых, свежих и увядших, Ламме смутился. Он опустил глаза, но сейчас же подал голос:
— Уленшпигель, где ты?
— Был, да весь вышел, мой свет, — сказала толстая девка и схватила его за руку.
— Как это весь вышел? — переспросил Ламме.
— А так, — отвечала она, — помер триста лет тому назад, за компанию с Якобом де Костером ван Маарланд[183].
— Отстаньте, не держите меня! — вскричал Ламме. — Уленшпигель, где ты? Заступись за своего друга! Если вы не отстанете, я сейчас уйду.
— Нет, не уйдешь! — объявили девицы.
— Уленшпигель! — опять жалобно крикнул Ламме. — Где же ты, сын мой? Сударыня, не дергайте меня за волосы! Это не парик, уверяю вас! Караул! У меня уши и без того краевые — зачем же вы еще по ним кровь разгоняете? А эта меня по носу щелкает! Мне же больно! Ай, ай, чем это мне лицо намазали? Дайте зеркало! Я черен, как устье печки. Перестаньте, не то я рассержусь! Как вам не стыдно мучить ни в чем не повинного человека? Оставьте меня! Зачем вы меня тянете в разные стороны за штаны? Что я вам, ткацкий челнок? Какая вам от того прибыль? Честное слово, я рассержусь!
— Он рассердится, он рассердится! Вот чудачок! — дразнили они его. — Развеселись-ка лучше и спой нам про любовь.
— Я вам про тумаки спою, только оставьте меня в покое.
— Кого из нас ты любишь?
— Никого — ни тебя, ни других. Я пожалуюсь властям, и вас высекут.
— Скажи пожалуйста, высекут! — удивились они. — А что, если мы тебя еще до порки возьмем да и расцелуем?
— Кого, меня? — переспросил Ламме.
— Да, тебя! — хором воскликнули они.
И тут все, красивые и безобразные, свежие и увядшие, темноволосые и белокурые, кинулись к Ламме, — куда полетели его шляпа и плащ! — и ну ласкать его, ну целовать — в щеки, в нос, в пузо, в спину — взасос.
Между свечей тряслась от хохота baesine.
— На помощь! На помощь! — вопил Ламме. — Уленшпигель, разгони эту рвань! Отстаньте от меня! Не нужны мне ваши поцелуи! Я, слава тебе господи, женат и все берегу для жены.
— Ах, ты женат? — вскричали они. — Ну так что ж: эдаких размеров мужчинка — не слишком ли это много для нее одной? Дай и нам немножко! Верная жена — это хорошо, а верный муж — это каплун. Боже тебя избави! Ну, выбирай, а то как бы мы тебя не высекли!
— Не стану я выбирать, — объявил Ламме.
— Выбирай! — настаивали они.
— Не выберу, — отрезал Ламме.
— Не хочешь ли меня? — спросила славненькая белокурая девчонка. — Я девушка не гордая — кто меня любит, того и я.
— Отстань! — сказал Ламме.
— А меня не хочешь? — спросила прехорошенькая, черноволосая, черноглазая смуглая девушка, точно изваянная ангелами.
— Я пряничной красоты не люблю, — отрезал Ламме.
— А меня не возьмешь? — спросила мощная девица с заросшим волосами лбом, густыми сросшимися бровями, большими, с поволокой, глазами, ярко-красными мясистыми, как угри, губами, красным лицом, красной шеей и красными плечами.
— Я не люблю раскаленные кирпичи, — отрезал Ламме.
— Возьми меня! — предложила девочка лет шестнадцати, о мордочкой, как у белки.
— Я грызунов не люблю, — отрезал Ламме.
— Что ж, придется высечь! — рассудили девицы. — Но только чем? Ременными кнутиками. Славно взбодрим! Самая толстая шкура не выдержит. Возьмите десять кнутов. Как у возчиков и у погонщиков.
— Уленшпигель, спаси! — взревел Ламме.
Уленшпигель, однако ж, не отзывался.
— Нехороший ты человек! — сказал Ламме, ища его глазами по всей комнате.
Кнуты тем временем были принесены. Две девушки принялись стаскивать с Ламме куртку.
— Ай-ай-ай! — стонал Ламме. — Бедный мой жир! Я с таким трудом накопил его, а они мне его сейчас спустят жгучими своими бичами. Да послушайте вы, злые бабы, от моего жира вам никакого толку, ведь он даже на подливку не годится!
— А мы из пего свечей наделаем, — отвечали они. — Бесплатное освещение — это тоже подай сюда! Если кто-нибудь из нас скажет потом, что из кнута можно делать свечи, всякий подумает, что она рехнулась. Ну, а мы за нее горой, побьемся об заклад и выиграем. Намочите кнутики в уксусе! Ну, вот ты и без куртки. У святого Якова бьют часы. Девять. Если не выберешь, то с последним ударом мы начнем тебя лупцевать.
Ламме, похолодев от ужаса, лепетал:
— Сжальтесь, смилуйтесь надо мной! Я клялся в верности моей жене — и я сдержу свою клятву, хотя она самым подлым образом меня бросила. Уленшпигель, голубчик, на помощь!
Но Уленшпигель не показывался.
— Смотрите, смотрите: я перед вами на коленях! — говорил Ламме распутным девицам. — Это ли не смирение? Ведь это значит, что я поклоняюсь, как святыне, несказанной вашей красоте. Блажен, кто, не будучи женат, имеет право наслаждаться вашими прелестями! Уж верно, это рай! Только, пожалуйста, не бейте!
Внезапно раздался зычный и грозный голос baesine, восседавшей меж двух свечей.
— Бабы и девки! — возгласила она. — Если вы сей же час смешком да лаской не склоните этого человека ко благу, то есть к себе в постель, то, вот вам самый главный черт, я пойду за ночными сторожами, и они вас тут же, на месте, исполосуют. Коль скоро вам напрасно даны, чтобы разжигать мужиков, нескромный язык, резвые руки и горящие глаза, вроде как фонарики у женских особей светлячков, у которых на сей предмет, кроме фонарика, ничего нет в заводе, стало быть вы недостойны названия охотниц до любовных похождений. И за вашу глупость будут вас бить нещадно.
Настала очередь девиц трястись от страха, зато Ламме повеселел.
— Ну, бабоньки, — заговорил он, — что нового в стране хлестких ремней? Я сейчас сам схожу за сторожами. Они не преминут исполнить свой долг, а я им помогу. С великим удовольствием помогу.
Но тут премиленькая пятнадцатилетняя девочка упала перед Ламме на колени.
— Я вся в вашей воле, сударь, — сказала она. — Но если только вы не соблаговолите кого-нибудь из нас выбрать, то неужели же мне нужно из-за вас, сударь, ложиться под кнут? Этого мало: хозяйка бросит меня потом в грязное, подземелье под Шельдой, а там со стен вода капает, и сидеть я буду там на одном хлебе.
— Ее в самом деле высекут из-за меня, хозяюшка? — спросил Ламме.
— До крови, — отозвалась хозяйка.
Тогда Ламме посмотрел на девочку и сказал:
— Ты свежа и благоуханна, твое плечо выглядывает из платья, подобно лепестку белой розы. Я не хочу, чтобы прелестную эту кожу, под которой течет молодая кровь, терзал бич, я не хочу, чтобы эти глаза, в которых горит огонь юности, плакали от боли, я не хочу, чтобы твое тело — тело богини любви — дрожало от холода в темнице. Словом, я выбираю тебя — это мне легче, нежели предать тебя в руки бичующих.
Девчонка увела его. И Ламме, если когда и грешивший, так только по доброте душевной, того же ради согрешил и на этот раз.
А прямо перед Уленшпигелем стояла красивая стройная девушка с пышными темными волосами.
— Полюби меня! — сказал он.
— Тебя, дружочек? — спросила девушка. — Да ведь ты шалый, у тебя ветер в голове!
Уленшпигель же ей на это ответил так:
— Птичка пролетит у тебя над головой, прощебечет — и нет ее! Так вот и я, сердце мое! Давай прощебечем вдвоем!
— Ну что ж, прощебечем — песню смеха и слез! — сказала девушка и кинулась к нему на шею.
Меж тем как Уленшпигель и Ламме все еще млели в объятиях своих милашек, вдруг под окнами запели, засвистели, зашумели, заревели, загалдели, задудела дудка, забил барабанчик, и в дом, толпясь и теснясь, ввалились веселые meesevanger'ы — так в Антверпене называют тех, кто ловит синиц. И точно: они принесли с собой корзины и клетки с пойманными синичками и своих помощниц во время ловли — сов, таращивших на свет золотистые глаза.
Meesevanger'ов было человек десять; щеки у них побагровели и раздулись от вина и пива, головы качались, колени подгибались, и орали они такими хриплыми, надорванными голосами, что испуганным девицам почудилось, будто они не в доме, а в лесу, и не среди людей, а среди хищных зверей.
Однако они все твердили, то поодиночке, то хором:
— Кого полюблю, того и захочу! — Кто придется нам по душе, тому мы и достанемся. Завтра мы с теми, кто богат флоринами. Нынче — с теми, кто богат любовью!
На это им meesevanger'ы сказали:
— У нас и флорины есть и любовь — стало быть, разгульные девушки наши! Отступаются одни каплуны. Они — синички, мы — птицеловы. Вперед! Кто добрый герцог, тому и Брабант!
Но девушки издевались над ними:
— С такими рылами, а туда же: полакомиться нами захотели! Хряков шербетом не кормят. Мы выберем тех, кто нам по нраву придется, а вас мы не хотим. Бочки с маслом, мешки с салом, ржавые гвозди, тупые клинки! От вас потом и грязью воняет! Убирайтесь вон! Вы и без нашей помощи в ад попадете!
А те:
— Нынче француженки что-то уж больно разборчивы. Эй вы, привередницы, ведь вы же это продаете кому попало, а почему нам отказываете?
А девушки им:
— Завтра мы ваши собаки, рабыни, завтра мы вам услужим, а сегодня мы свободные женщины, и мы вас от себя гоним.
А те как заорут:
— Довольно языком болтать! Кто пить захотел? Рви яблочки!
С этими словами они бросились на девушек, не разбирая ни возраста их, ни пригожества. Красотки, однако, не сдавались — в голову meesevanger'ам полетели стулья, кружки, кувшины, бокалы, кубки, посудины, бутылки, и от крупного этого града кто охромел, кто окривел, кого изувечило, кого искалечило.
На шум прибежали сверху Ламме и Уленшпигель, а трепещущие их возлюбленные дальше верхней ступеньки лестницы не пошли. Увидев, что мужчины напали на женщин, Уленшпигель выбежал во двор, схватил палку от метлы, другую вручил Ламме, и они вдвоем ударили на meesevanger'ов.
В конце концов столь нещадно вздрюченным пьянчугам все это показалось не весьма приятным развлечением, и они приостановились, а этим сейчас же воспользовались тощие девки, которые даже и в этот великий день добровольной любви, той любви, какой требует природа, желали продаваться, но не отдаваться. Уж они вокруг, увечных увивались, перед ними пресмыкались, к ним ласкались, раны их врачевали, за их здоровье выпивали, а свои кошельки флоринами и всякой другой монетой так туго набивали, что у meesevanger'ов ломаного гроша и того не осталось. Как же скоро был подан сигнал тушить огни, девки выставили их за дверь, куда еще раньше успели проскользнуть Уленшпигель и Ламме.
29
Уленшпигель и Ламме по дороге в Гент прибыли на рассвете в Локерен. Вся земля кругом была в росе; над лугами вился белый холодный пар. Проходя мимо кузницы, Уленшпигель запел, подражая голосу вольной пташки — жаворонка. И тотчас из кузницы выглянула седая косматая голова, и чей-то слабый голос воспроизвел боевой клич петуха.
— Это smitte[184] Вастеле, — пояснил Уленшпигель, — днем он кует лопаты, заступы, сошники, кует, пока железо горячо, решетки для церковных клиросов, а по ночам частенько кует и вострит оружие для борцов за свободу совести. От такой игры он хорошей мины не нажил: бледен он — краше в гроб кладут, мрачен, как проклятый богом, и до того худ — одна кожа да кости. Он еще и не ложился, всю ночь напролет работал.
— Войдите, — сказал smitte Вастеле, — а ослов отведите на лужайку за домом.
Когда Ламме и Уленшпигель пришли с лужайки в кузницу, smitte Вастеле перетаскивал в подвал наточенные им клинки мечей и отлитые им наконечники для копий и готовил подручным дневной урок.
Посмотрев своими тусклыми глазами на Уленшпигеля, он спросил:
— Ну что Молчаливый?
Уленшпигель же ему ответил так:
— Принц со своим войском вытеснен из Нидерландов, а виной тому подлость его наемников, которые, когда надо сражаться, орут: Geld! Geld! (Денег! Денег!) Во главе преданных ему солдат, вместе со своим братом графом Людвигом и герцогом Цвейбрюкенским, он двинулся во Францию на помощь королю Наваррскому и гугенотам[185]. Оттуда он проследовал в Германию, и там, в Диленбурге[186], его войско пополнилось многочисленными беженцами из Нидерландов. Ты перешли ему туда оружие и деньги, которые тебе удалось собрать, а мы будем за свободу бороться на море.
— Я сделаю все, что нужно, — сказал smitte Вастеле, — у меня есть оружие и девять тысяч флоринов. А вы ведь на ослах?
— На ослах, — отвечали они.
— А вы ничего не слыхали дорогой о трех проповедниках, будто бы их убили, ограбили и бросили в расселину между скал, на берегу Мааса?
— Слыхали, — не моргнув глазом, отвечал Уленшпигель, — эти три проповедника оказались лазутчиками герцога, наемными убийцами, которые должны были уничтожить принца за то, что он друг свободы. Мы с Ламме отправили их на тот свет. Нашли у них деньги и бумаги. Из этих денег мы возьмем себе сколько нужно на дорогу, а остальные отдадим принцу.
С этими словами Уленшпигель распахнул свою куртку и куртку Ламме и достал бумаги и пергамента. Smitte Вастеле прочитал их.
— Это планы военных действий и заговоров, — сказал он. — Я отошлю их принцу, и он узнает, что преданные ему бродяги Уленшпигель и Ламме Гудзак спасли его высочеству жизнь. Ослов ваших я продам, а то как бы вас по ним не признали.
— А что, разве суд намюрских старшин уже направил по нашему следу сыщиков? — спросил Уленшпигель.
— Я расскажу вам все, что мне известно, — отвечал Вастеле. — На днях ко мне приезжал из Намюра кузнец, стойкий реформат, под предлогом дать мне подряд на решетки, флюгера и прочие кузнечные поделки для одной крепостцы, которую сейчас строят. Так вот, судебный пристав ему говорил, что старшины уже собирались и вызывали трактирщика, который живет в нескольких сотнях туаз от места происшествия. Его спросили, не видел ли он убийц и кого он подозревает, а он ответил так: «Я, говорит, видал сельчан и сельчанок верхом на ослах: одни просили у меня пить, но с ослов не слезали, а другие слезали и шли ко мне в трактир; мужчины пили пиво, а женщины и девушки — мед. Видел я двух славных сельчан — они говорили о том, что хорошо бы, мол, укоротить на один фут мессира Оранского». Тут трактирщик присвистнул и сделал такое движение, каким втыкают нож в горло. «А насчет Стального ветра я, говорит, вам по секрету скажу — мне кое-что известно». Он рассказал, и его отпустили. После этого, должно думать, высшие судебные власти разошлют низшим надлежащие распоряжения. Так вот, трактирщик сказал, что видел сельчан и сельчанок верхом на ослах — этого довольно для того, чтобы задерживать всякого, кто трусит на ослике. А вы нужны принцу, дети мои.
— Ослов продай, а деньги пусть поступят в казну принца, — сказал Уленшпигель.
Ослы были проданы.
— Теперь пусть каждый из вас что-нибудь мастерит на дому — с цехами связываться не стоит, — продолжал Вастеле. — Ты умеешь делать клетки для птиц и мышеловки?
— Когда-то умел, — отвечал Уленшпигель.
— А ты? — обратился Вастеле к Ламме.
— Я стану торговать heetekoek'ами и oliekoek'ами — это оладьи и лепешки, жаренные в масле.
— Идите сюда. Вот тут готовые клетки и мышеловки, инструмент и медная проволока, чтобы чинить старые и делать новые. Клетки и мышеловки мне принес один из моих лазутчиков. Это по твоей части, Уленшпигель. А ты, Ламме, гляди сюда: вот небольшой горн и мех. Я дам тебе муки и масла — жарь heetekoek'и и oliekoek'и.
— Да он сам все съест! — ввернул Уленшпигель.
— Когда же мы приступим? — осведомился Ламме.
— Сначала вы поможете мне, — отвечал Вастеле, — ночку, а то и две со мной поработаете: у меня столько дела, что одному не управиться.
— Мне есть хочется — объявил Ламме. — У тебя в доме ничего нет?
— Могу предложить хлеба и сыра, — отвечал Вастеле.
— Без масла? — спросил Ламме.
— Без масла, — отвечал Вастеле.
— А пиво и вино у тебя есть? — спросил Уленшпигель.
— Я непьющий, — отвечал Вастеле, — но, если хотите, я схожу in het Pelicaen[187] и принесу вам — это тут близко.
— Сходи, — сказал Ламме, — и ветчинки заодно принеси.
— Ладно, принесу, — сказал Вастеле и с нескрываемым презрением посмотрел на Ламме.
Все же он принес им dobbeleclauwaert'у[188] и ветчины. И Ламме, в восторге, ел за пятерых.
А потом спросил:
— Когда же мы начнем?
— Нынче ночью, — отвечал Вастеле. — Ты будешь в кузне. Работников моих тебе бояться нечего — они такие же реформаты, как и ты.
— А, вот это хорошо! — сказал Ламме.
Вечером, после сигнала к тушению огней, при затворенных дверях Вастеле с помощью Уленшпигеля и Ламме перетаскал из подвала в кузницу тяжелые тюки с оружием.
— Я должен починить двадцать аркебуз, наточить тридцать наконечников для копий и отлить полторы тысячи пуль, — сказал он. — Вот вы мне и подсобите.
— Я жалею, что у меня не четыре руки, — сказал Уленшпигель.
— Ничего, Ламме нам поможет, — сказал Вастеле.
— Помогу, — жалобным голосом отозвался Ламме, осоловевший от еды и питья.
— Ты будешь лить пули, — сказал Уленшпигель.
— Пули так пули, — повторил Ламме.
Ламме плавил свинец, отливал пули и бросал злобные взгляды на smitte Вастеле, который заставлял его бодрствовать, в то время как он клевал носом. Он отливал пули со сдержанной яростью; ему страх как хотелось вылить расплавленный свинец на голову кузнецу Вастеле. Все же он подавил в себе это желание. Но к полуночи, меж тем как smitte Вастеле с Уленшпигелем терпеливо полировали стволы аркебуз и точили наконечники для копий, у Ламме бешенство и усталость достигли крайней степени, и он свистящим от злости голосом повел такую речь:
— Посмотри на себя: ты худ, бледен и хил, а все оттого, что уж очень ты предан всяким принцам и сильным мира сего, уж очень ты для них стараешься, а о теле, о драгоценном теле своем забываешь, не печешься о нем, пренебрегаешь им, и оно у тебя хиреет. А ведь бог и госпожа природа не для этого сотворили его. Да будет тебе известно, что душе нашей, — а душа есть дыхание жизни, — для того, чтобы дышать, потребны бобы, говядина, пиво, вино, ветчина, колбасы и покой, а ты сидишь на хлебе и воде, да еще и не спишь.
— Эк его прорвало! — воскликнул Уленшпигель.
— Он сам не знает, что говорит, — печально заметил Вастеле.
— Получше тебя знаю! — огрызнулся Ламме. — Я говорю, что все мы дураки — и я, и ты, и Уленшпигель: мы слепим глаза ради принцев и сильных мира сего, а они животики бы надорвали с хохоту, когда бы узнали, что мы с ног валимся, оттого что всю ночь ковали для их надобностей оружие и отливали пули. Они себе попивают из золотых кубков французское вино, едят на английского олова тарелках немецких каплунов и знать не хотят, что мы ищем попусту истинного бога, по милости которого они забрали такую силу, а враги косят нас косами и живыми бросают в колодцы. И ведь они не реформаты, не кальвинисты, не лютеране, не католики — они скептики, они во всем сомневаются, они покупают или же завоевывают себе княжества, отбирают добро у монахов, у аббатов, у монастырей, у них есть и девушки, и женщины, и шлюхи, и пьют они из золотых кубков за нескончаемое свое веселье, за нашу вековечную глупость, дурость и бестолковость и за все семь смертных грехов, которые они совершают прямо под твоим, smitte Вастеле, носом, который у тебя заострился от излишнего рвения. Окинь взглядом поля и луга, окинь взглядом посевы, плодовые сады, скот, сокровища, выступающие из недр земли. Окинь взглядом лесных зверей, птиц небесных, дивных ортоланов, нежных дроздов, кабаньи морды и окорока диких коз, все это — им, охота, рыбная ловля, земля, море — все им. А ты сидишь на хлебе и воде, и мы все здесь из кожи вон лезем для них, ночей недосыпаем, не едим и не пьем. А когда мы подохнем, они пнут ногой наши трупы и скажут нашим матерям: «Наделайте новых — эти уже не годятся».
Уленшпигель посмеивался, но не говорил ни слова, Ламме сопел от злости, а Вастеле кротко ему ответил:
— Ты все это сказал не подумав. Я живу не ради ветчины, пива и ортоланов, а ради торжества свободы совести. Принц — друг свободы — живет ради того же самого. Он жертвует своим довольством, своим покоем для того, чтобы изгнать из Нидерландов палачей и тиранов. Бери пример с него и постарайся спустить с себя жир. Народ спасают не брюхом, а беззаветной храбростью и безропотным несением тягот до последней минуты жизни. А сейчас, если ты устал, то поди и ляг.
Но Ламме устыдился и не пошел.
И они до рассвета ковали оружие и отливали пули. И так они провели три ночи подряд.
А на четвертую ночь Уленшпигель с Ламме направились в Гент, и дорогою Уленшпигель продавал клетки и мышеловки, а Ламме — oliekoek'и.
Поселились же они в Мелестее, городке мельниц, красные кровли которого видны отовсюду, и уговорились заниматься своим делом порознь, а вечером, до сигнала к тушению огней, сходиться in de Zwaan, то есть в таверне «Лебедь».
Ламме его новый промысел понравился, и он охотно бродил по улицам Гента, искал жену, без счета осушал кружки и все время ел. А Уленшпигель вручил письма принца лиценциату медицины Якобу Скулапу, портному Ливену Смету, Яну Вульфсхагбру, красильщику Жилю Коорну и черепичнику Яну де Роозе, а они отдали ему деньги, собранные для принца, и уговорили еще на несколько дней задержаться в Генте или в его окрестностях — тогда они, мол, еще соберут ему денег.
Впоследствии все эти люди были повешены на Новой виселице по обвинению в ереси, а тела их были погребены у Брюггских ворот, на Поле виселиц.
30
Между тем профос Спелле Рыжий[189] разъезжал с красным жезлом на худой кляче по разным городам и всюду воздвигал помосты, разжигал костры и рыл ямы, в которые потом закапывали живыми несчастных женщин и девушек. А достояние убиенных отходило к королю.
Однажды Уленшпигель сидел вместе с Ламме в Мелестее под деревом, и ему стало грустно-грустно. В июне вдруг завернули холода. С неба, затянутого серыми тучами, падал град.
— Сын мой, — обратился к нему Ламме, — у тебя ни стыда, ни совести: вот уже четыре дня ты где-то шляешься, бегаешь к податливым девицам, ночуешь in de Zoeten Inval (в сладостном грехопадении), а кончишь ты тем же, чем кончил человек, намалеванный на одной вывеске: угодишь головой прямо в пчелиный улей. А я-то тебя жду in de Zwaan! Смотри, брат: такой распутный образ жизни до добра не доводит. Почему бы тебе не вступить на путь добродетели и не жениться?
— Послушай, Ламме! — молвил Уленшпигель. — Человек, для которого в той упоительной битве, что зовется любовью, одна — это все, а все — это одна, не должен легкомысленно торопиться с выбором.
— А про Неле ты забыл?
— Неле далеко, в Дамме.
Он все еще грустил, а град усиливался, когда мимо них, накрыв голову подолом; пробежала молоденькая смазливая бабенка.
— Эй, ротозей, о чем это ты замечтался под деревом? — крикнула она.
— Я мечтаю о женщине, которая накрыла бы меня подолом от града, — отозвался Уленшпигель.
— Вот она, — сказала бабенка. — Вставай!
Уленшпигель встал и направился к ней.
— Ты опять меня бросаешь? — вскричал Ламме.
— Да, — отвечал Уленшпигель — а ты ступай in de Zwaan, съешь одну, а то и две порции жареной баранины, выпей десять кружек пива, потом ложись спать — так ты и не соскучишься.
— Я последую твоему совету, — сказал Ламме.
Уленшпигель приблизился к бабенке.
— Подними мне юбку с одного боку, а я с другого, и побежим, — предложила она.
— А зачем бежать? — спросил Уленшпигель.
— Я бегу из Мелестее, — отвечала она. — Сюда нагрянул профос Спелле с двумя сыщиками и поклялся, что перепорет всех гулящих девок, которые не захотят уплатить ему пять флоринов. Потому-то я и бегу, и ты тоже беги и в случае чего защити меня.
— Ламме! — крикнул Уленшпигель. — Спелле в Мелестее! Беги в Дестельберг, в «Звезду Волхвов»!
Ламме в ужасе вскочил и, поддерживая обеими руками живот, пустился бежать.
— А куда этот толстый заяц помчался? — спросила девица.
— В норку, где мы с ним должны свидеться, — отвечал Уленшпигель.
— Ну, бежим! — сказала девица и, точно горячая кобылка, топнула ножкой.
— По мне, лучше остаться добродетельным и не бежать, — сказал Уленшпигель.
— Это еще что? — спросила девица.
— Толстый заяц требует, чтобы я отказался от доброго вина, от пива и от нежного женского тела, — пояснил Уленшпигель.
Девица бросила на него косой взгляд.
— Ты запыхался, тебе надо передохнуть, — сказала она.
— Я не вижу той сени, под которой я мог бы отдохнуть, — возразил Уленшпигель.
— Покровом послужит тебе твоя добродетель, — молвила девица.
— Я бы предпочел твою юбку, — заметил Уленшпигель.
— Ты метишь в святые, а юбка моя недостойна прикрывать святых, — возразила девушка. — Пусти, я побегу одна!
— А разве ты не знаешь, что собака на четырех лапах бежит быстрее, нежели человек на двух? — спросил Уленшпигель. — Вот и мы с тобой на четырех лапах помчимся быстрее.
— Уж больно ты востер на язык — добродетельному человеку это не пристало.
— Востер, — согласился он.
— А вот мне так добродетель всегда казалась чем-то вялым, сонным, неповоротливым, хлипким, — сказала девица. — Это личина, прикрывающая недовольное выражение; это бархатный плащ, который накидывает на себя твердокаменная натура. Я же больше люблю таких мужчин, в груди у которых горит неугасимый светильник мужественности, влекущий к смелым подвигам и веселым приключениям.
— Такие речи вела прелестная дьяволица со всехвальным святым Антонием, — заметил Уленшпигель.
Шагах в двадцати виднелась придорожная таверна.
— Говорила ты складно, — молвил Уленшпигель, — а теперь надо изрядно выпить.
— У меня еще во рту не пересохло, — сказала девица.
Они вошли. На ларе дремал огромный жбан, за толстое свое брюхо именуемый «пузаном».
Уленшпигель обратился к baes'у:
— Ты видишь вот этот флорин?
— Вижу, — отвечал baes.
— Сколько же ты выдоишь из него патаров, чтобы наполнить dobbeledauwaert'ом вон того пузана?
Baes ему на это сказал:
— Уплати negen mannekens (девять человечков), и мы будем с тобой в расчете.
— То есть шесть фландрских митов, — стало быть, два мита ты берешь с меня лишку, — заметил Уленшпигель. — Ну так и быть, наливай.
Уленшпигель наполнил стакан своей спутницы, встал, приосанился и, приставив ко рту носик жбана, вылил его содержимое себе в глотку. И шум от сего был подобен шуму водомета.
Ошеломленная девица спросила:
— Как это тебе удалось перелить пиво из этого толстого пуза в свой тощий живот?
Уленшпигель ничего не ответил и обратился к baes'у:
— Принеси ветчинки, хлеба и еще один полный пузан — мы хотим еще выпить и закусить.
Как сказано, так и сделано.
Девица угрызала кожицу от окорока, а в это время Уленшпигель столь нежно ее обнял у что это ее поразило и вместе с тем пленило и покорило. Затем, оправившись от изумления, она обратилась к нему с вопросом:
— А как уживаются с вашей добродетелью жажда, точно у губки, волчий голод и любовная отвага?
Уленшпигель же ей на это ответил так:
— Я уйму нагрешил и, как ты знаешь, дал-обет покаяться. Покаяние мое длилось целый час. У меня было время подумать о своем будущем, и я представил себе, что придется мне сидеть на одном хлебе, хоть сие и не прельстительно; довольствоваться одной водичкой исключительно; отказываться от любви неукоснительно; не шевелиться и не чихать, дабы невзначай не поступить предосудительно; быть всеми уважаемым и всеми избегаемым; жить в одиночестве, как прокаженный; тосковать, как пес, потерявший своего хозяина, и, лет этак пятьдесят промаявшись, издохнуть в нищете неупустительно. Итак, покаяние мое было долгое. Поцелуй же меня, красотка, — и вон из чистилища!
— Ах! — с радостью повинуясь ему, воскликнула девушка. — Добродетель — что вывеска, ее место на шесте.
В любовных шалостях время проходило незаметно. Девица, однако ж, побаивалась, как бы их блаженству внезапно не помешал профос Спелле и его сыщики; того ради они порешили убраться, пока не поздно.
— А ну, подбери юбку! — сказал Уленшпигель.
Как два оленя, понеслись они в Дестельберг и застали Ламме закусывающим в Звезде Волхвов.
31
В Генте Уленшпигель часто виделся с Якобом Скулапом, Ливеном Сметом и Яном Вульфсхагером; и те сообщали ему об удачах и неудачах Молчаливого.
И всякий раз, когда Уленшпигель возвращался в Дестельберг, Ламме задавал ему один и тот же вопрос:
— С какими ты вестями? Приятными или же неприятными?
— Беда! — отвечал Уленшпигель. — Молчаливый, брат его Людвиг, другие вожди, а равно и французы положили идти в глубь Франции на соединение с принцем Конде[190]. Так бы они спасли несчастную Бельгию и свободу совести. Но бог не захотел этого: немецкие рейтары и ландскнехты отказались идти дальше на том основании, что они-де присягали воевать с герцогом Альбой, но не с Францией. Напрасно принц убеждал их исполнить свой долг — в конце концов ему все же пришлось вывести их через Шампань и Лотарингию в Страсбург, а оттуда они возвратились в Германию. Как скоро наемники заартачились и ушли от принца, дела его сразу пошатнулись: король Французский[191], невзирая на договор с принцем, отказал ему в деньгах; королева Английская[192] пообещала принцу денежную помощь с условием, что он освободит Кале[193] со всею округой, но письма ее перехватили и передали кардиналу Лотарингскому, а кардинал, подделав подпись принца, послал ей отказ. Так, словно призраки от пенья петуха, рассеивается у нас на глазах славное войско, рассеиваются наши надежды. Но с нами бог, и если даже оплошает земля, то уж вода наверное не подведет. Да здравствует Гез!
32
Однажды к Ламме и Уленшпигелю вся в слезах прибежала давешняя девица.
— В Мелестее Спелле выпускает за деньги душегубов и воров, а ни в чем не повинных людей казнит, — сказала она. — Погиб и мой брат Михилькин! Ой, беда! Выслушайте меня и отомстите — ведь вы же мужчины! Это все наделал грязный и мерзкий развратник Питер де Роозе, растлитель малолетних. Ой, беда! Как-то вечером мой несчастный брат Михилькин и Питер де Роозе случайно сошлись в таверне Vaick[194], но не за одним столом — от Питера де Роозе все как от чумы.
Брату моему противно было сидеть с ним в одной зале — он обозвал его распутной сволочью и велел убираться. А Питер де Роозе ему и говорит: «Брату продажной девки нос задирать негоже». И ведь соврал — никакая я не продажная, я гуляю только с теми, кто мне нравится.
Тут Михилькин швырнул ему в морду кружкой с пивом, сказал, что он, мол, такой-сякой мерзкий распутник, врет и велел выкатываться, а не то, мол, он ему руку по локоть в рот засунет.
Тот попробовал что-то сказать, но Михилькин привел свою угрозу в исполнение: стукнул его разочка два по зубам и, как Питер ни кусался, схватил его прямо за челюсть и вышвырнул на дорогу, и так Питер, нещадно избитый, и остался лежать на земле.
А потом, когда он очнулся, ему скучно стало одному, и дошел он in't Vagevuur[195] — в дрянной, захудалый трактир — туда одни бедняки ходят. И там его голь перекатная и та сторонилась. И никто с ним не заговаривал, кроме сельчан, которые его не знали, да проходимцев, да дезертиров. А он еще ко всему задира, так что его и тут несколько раз молотить принимались.
Когда в Мелестее прибыл с двумя сыщиками профос Спелле, Питер де Роозе стал бегать за ними, как собачонка, угощал их вином, мясом, доставлял им на свой счет всевозможные платные увеселения. Через то стал он их другом-приятелем и изо всех своих злых сил постарался напакостить тем, кого он ненавидел, а ненавидел он всех жителей Мелестее, но больше всех — моего бедного брата.
С него-то он и начал. Лжесвидетели, корыстолюбивые мерзавцы, показали, что Михилькин еретик, что он говорил нехорошие слова о божьей матери и не раз в трактире Vaick поносил бога и святых, и что, мол, в сундуке у него спрятано флоринов триста — не меньше.
О свидетелях шла худая молва, и все-таки Михилькина схватили, Спелле и его сыщики сочли улики достаточными для того; чтобы подвергнуть его пытке, и Михилькина подвесили на блоке к потолку, а к каждой ноге привязали гирю весом в пятьдесят фунтов.
Он отрицал свою вину и говорил, что если есть в Мелестее жулик, паскудник, богохульник и развратник, так это, конечно, Питер де Роозе, а не он.
Но Спелле ничего не желал слушать — он велел сыщикам подтянуть Михилькина к самому потолку, а потом с грузом на ногах рывком опустить. И сыщики так зверски с ним обошлись, что кожа у него на лодыжках лопнула, мускулы порвались, ступни болтались.
И все-таки Михилькин сказал, что вины за собой не признает, — тогда Спелле велел его снова пытать, но намекнул, что если Михилькин даст ему сто флоринов, то он отпустит его на все четыре стороны.
Михилькин сказал, что ему легче умереть.
А жители Мелестее как узнали, что Михилькина схватили и теперь пытают, всем скопом явились для дачи свидетельских показаний, — это называется «свидетельство всех добрых людей общины». И стояли они на том, что Михилькин совсем не еретик — он-де каждое воскресенье ходит в церковь, по большим праздникам причащается, имя матери божьей поминает, лишь когда просит избавить его от напасти; он, мол, и про земных-то женщин никогда худого слова не сказал, а уж о царице-то небесной и подавно. А что лжесвидетели уверяют, будто он при них богохульствовал в таверне Vaick, так это, мол, все ложь и клевета.
Михилькина отпустили, лжесвидетелей наказали, а Питера де Роозе профос Спелле притянул было к суду, но тот от него откупился сотней флоринов, и профос не подвергнул его ни допросу, ни пытке.
Питер де Роозе побоялся, что оставшиеся у него деньги вновь привлекут к нему внимание Спелле, и бежал из Мелестее, а бедный мой брат Михилькин умер от антонова огня.
Прежде он не хотел меня видеть, а перед смертью велел позвать и сказал, чтобы я боялась огня, горящего в моем теле, потому что он может ввергнуть меня в огонь адский. А я молча плакала — ведь огонь-то во мне и правда горит! Скончался Михилькин у меня на руках.
— Ах! — воскликнула девица. — Кто отомстит профосу Спелле за смерть моего любимого, милого Михилькина, тот будет мой господин, а я ему буду вечная раба.
Уленшпигель слушал ее, а пепел Клааса бился о его грудь. И он дал себе слово привести злодея Спелле на виселицу.
Боолкин — так звали девушку — вернулась в Мелестее; теперь она уже не боялась мести Питера де Роозе, так как один погонщик, гнавший скот через Дестельберг, сообщил ей, что священник и горожане предупредили: если, мол, Спелле пальцем тронет сестру Михилькина, то будет держать ответ перед самим герцогом.
Уленшпигель пошел с ней в Мелестее и, войдя в дом Михилькина и увидев в одной из нижних комнат портрет пирожника, подумал, что это, верно, портрет покойного.
Боолкин ему сказала:
— Это мой брат.
Уленшпигель взял портрет и сказал:
— Спелле повесят!
— Как ты этого добьешься? — спросила она.
— Будешь заранее знать — потом никакого удовольствия не получишь, — отвечал Уленшпигель.
Боолкин сокрушенно покачала головой.
— Ты мне не доверяешь, — сказала она.
— Напротив, я оказал тебе высшее доверие уже одним тем, что сказал тебе: «Спелле повесят!», — возразил Уленшпигель, — только за одни эти слова ты можешь привести меня на виселицу раньше, чем я приведу его.
— И то правда, — согласилась она.
— Ну так вот, — продолжал Уленшпигель, — поди принеси мне хорошей глины, двойную пинту bruinbier'а, чистой воды и телятинки. Все это мы разделим по-братски. Телятинка пойдет мне, bruinbier пойдет теляти, вода пойдет для глины, а глина для изваяния.
Уленшпигель мял глину, выпивая и закусывая, и даже время от времени по рассеянности вместо мяса запихивал в рот кусок глины, оттого что неотрывно глядел на портрет. Размяв глину, он смастерил из нее маску, и Боолкин, сравнив рот, нос, глаза и уши, была поражена сходством с покойным.
Затем Уленшпигель положил маску в печь, а когда она высохла, он сделал ее по цвету точно такой, какие бывают лица у покойников, придал ей суровое, мрачное выражение, а черты исказил как бы судорогой. Девушка, перестав ахать от изумления, долго не могла отвести глаза от маски, потом вдруг побледнела как полотно, закрыла лицо руками и, содрогнувшись, вымолвила:
— Это он, бедный мой Михилькин!
Еще Уленшпигель вылепил две окровавленные ноги.
Боолкин, оправившись от первого потрясения, сказала:
— Да будет благословен тот, кто убьет убийцу!
Взяв маску и ноги, Уленшпигель сказал:
— Мне нужен помощник.
Боолкин дала ему совет:
— Пойди in den «Blauwe Gans» (в «Синий Гусь») и обратись к содержателю таверны Иоосу Лансаму из Ипра. Это был закадычный друг моего брата. Скажи, что ты от Боолкин.
Уленшпигель так и сделал.
Послужив делу смерти, профос Спелле обыкновенно захаживал in't «Vaick» (в «Сокол») и пил горячую смесь из dobbeleclauwaert'а, корицы и сахара. Боясь попасть на виселицу, ему здесь ни в чем не отказывали.
Питер де Роозе, осмелев, возвратился в Мелестее. Чтобы чувствовать себя под охраной Спелле и его сыщиков, он так за ними и ходил. Кое-когда Спелле угощал его. И они вместе весело пропивали деньги несчастных жертв.
Таверна Сокол теперь уже не так посещалась, как в доброе старое время, когда горожане жили в радости, молились богу по католическим правилам и не подвергались гонениям за веру. Ныне городок был словно в трауре — по крайней мере, такое впечатление производило множество пустых или же запертых домов и пустынные его улицы, по которым бродили отощавшие псы и разгребали мусорные кучи.
Зато двум лиходеям было теперь где разгуляться в Мелестее. Напуганные жители могли наблюдать, как эти двое, совсем обнаглев, днем намечают жертвы, оглядывают их дома, составляют списки обреченных, а вечером, возвращаясь из Сокола под охраной сыщиков, таких же пьяных, как и они, орут непристойные песни.
Уленшпигель пошел in den «Blauwe Gans» (в «Синий Гусь») и застал Иооса Лансама за стойкой.
Уленшпигель вытащил из кармана бутылочку водки и сказал:
— Боолкин продает две бочки такой водки.
— Пойдем в кухню, — сказал baes:
Заперев за собой дверь, он пытливо взглянул на Уленшпигеля.
— Ты же сам водкой не торгуешь, — заметил он. — Чего ты моргаешь? Кто ты таков?
Уленшпигель же ему на это ответил так:
— Я сын Клааса, сожженного в Дамме. Пепел его бьется о мою грудь. Я хочу уничтожить убийцу-Спелле.
— Тебя ко мне Боолкин послала? — спросил хозяин.
— Боолкин, — отвечал Уленшпигель. — Я убью Спелле, а ты мне поможешь.
— Согласен, — молвил baes. — А как за это дело взяться?
Уленшпигель же ему на это сказал:
— Пойди к священнику, доброму пастырю, врагу Спелле. Собери своих друзей и выйди с ними завтра после сигнала к тушению огней на Эвергемскую дорогу, между «Соколом» и домом Спелле. Будьте все в темных одеждах и станьте в тени. В десять часов из кабачка выйдет Спелле, а с противоположной стороны подъедет повозка. Нынче своим друзьям ты ничего не говори — они-спят слишком близко к ушам своих жен. Пойди к ним завтра. Отправляйтесь туда, слушайте хорошенько и все запоминайте.
— Запомним; — обещал Иоос и, подняв стакан, провозгласил: — Пью за веревку для Спелле!
— За веревку! — подхватил Уленшпигель.
После этого они с baes'ом вышли в общую залу, где пили гентские старьевщики, возвращавшиеся с брюггского субботнего базара, на котором они втридорога продали золотой парчи камзолы и серебряной парчи накидки, купленные за гроши у обедневших дворян, некогда тянувшихся за испанцами в их любви к роскоши.
И теперь у старьевщиков шел пир горой по случаю изрядных барышей.
Уленшпигель и Иоос Лансам сидели в уголке, выпивали и шепотом уславливались, что прежде всего Иоос пойдет к священнику, доброму пастырю, ненавидевшему Спелле — убийцу невинных. А потом, пойдет к друзьям.
На другой день Иоос Лансам и предуведомленные друзья Михилькина после сигнала к тушению огней вышли из Blauwe Gans'а, где они, по обыкновению, пили пиво, и, дабы скрыть истинные свои намерения, пошли разными путями, а сошлись на Эвергемской дороге. Было их семнадцать человек.
В десять часов Спелле вместе с двумя сыщиками и Питером де Роозе вышел из «Сокола». Лансам со своими людьми спрятался в амбаре у Самсона Буне, который тоже дружил с Михилькином. Дверь амбара была растворена. Спелле, однако ж, их не заметил.
А они видели, как он, Питер де Роозе и два сыщика, захмелев, качались из стороны в сторону, и им была слышна его поминутно прерываемая икотой пьяная болтовня:
— Профосы! Профосы! Профосам хорошо живется на свете. Поддерживайте меня; висельники, — вам же от меня перепадает!
Из-за города внезапно донеслось верещанье осла и щелканье бича.
— Вот упрямый осел! — заметил Спелле. — Его так вежливо просят, а он хоть бы что!
Но тут послышался стук колес и тарахтенье повозки, мчавшейся под гору и подскакивавшей на камнях.
— Остановить! — взревел Спелле.
Как скоро повозка поравнялась, Спелле и два сыщика схватили осла под уздцы.
— В повозке никого, — сказал один из сыщиков.
— Дурья голова! — вскричал Спелле. — Статочное ли это дело, чтобы повозки ездили ночью порожняком и без никого? Кто-нибудь, уж верно, спрятался. Зажгите фонари и поднимите их повыше, я сейчас посмотрю.
Спелле полез с фонарем в повозку, но тотчас же, испустив вопль, грянулся оземь.
— Михилькин! Михилькин! Боже, спаси меня! — вскричал он.
И тут в повозке стал во весь рост человек, одетый в белое, будто пирожник, и в руках он держал две окровавленные ноги.
Как скоро Питер де Роозе и оба сыщика увидели при свете фонарей эту внезапно выросшую фигуру, у них тоже вырвался вопль:
— Это Михилькин! Мертвый! Спаси нас, господи!
На шум сбежались все семнадцать человек и ужаснулись сходству ярко освещенного луной изваяния с их усопшим другом Михилькином.
А привидение к тому же еще размахивало окровавленными ногами.
Лицо у привидения было такое же круглое и полное, как у Михилькина, но только синее, словно у покойника, изъеденное червями под подбородком, и с грозным выражением.
Не переставая размахивать окровавленными ногами, привидение обратилось к лежавшему навзничь и стонавшему Спелле:
— Спелле, профос Спелле, очнись!
Спелле, однако ж, не шевелился.
— Спелле! — снова воззвал призрак. — Очнись, а не то я тебя столкну в разверстую адову пасть!
Спелле поднялся; волосы у него стояли дыбом от страха.
— Михилькин! Михилькин! — умоляюще заговорил он. — Помилуй меня!
Между тем собрались горожане, но Спелле не видел ничего, кроме фонарей, которые он принимал за глаза дьявола. Так, по крайней мере, он сам впоследствии рассказывал.
— Спелле! — возгласил дух Михилькина. — Готов ли ты к смерти?
— Нет, нет, мессир Михилькин, напротив, совсем не готов! — отвечал профос. — Я не хочу предстать перед богом с душою, черною от грехов.
— Узнаешь ты меня? — спросил призрак.
— Укрепи меня, боже! — воскликнул Спелле. — Да, я узнаю тебя: ты — дух пирожника Михилькина, безвинно пострадавшего и, умершего на своей постели от последствий пытки, а эти две окровавленные ноги — те самые, к которым я велел привесить по пятидесяти, фунтов к каждой. Прости меня, Михилькин! Это меня Питер де Роозе соблазнил: он мне пообещал, а потом и взаправду дал полсотни флоринов за то, чтоб я внес тебя в список.
— Хочешь покаяться? — вопросил дух.
— Да, мессир, я хочу покаяться, во всем сознаться и принести повинную. Но только будьте добры — прогоните этих бесов, а то они меня сожрут. Я все скажу! Уберите горящие глаза! Я так же точно поступил в Турне с пятью горожанами, а в Брюгге — с четырьмя. Я позабыл, как их звали, но если вы будете настаивать, я припомню. В других местах я тоже грешил, сеньор, — по моей вине шестьдесят девять невинных страдальцев лежат в сырой земле. Королю нужны деньги, Михилькин. Так мне сказали. Но ведь и мне нужны деньги. Часть их я закопал в Генте, в погребе у старухи Гровельс, моей настоящей матери. Я все вам сказал, все! Спасите меня и помилуйте! Прогоните чертей! Господи боже, пресвятая дева, Иисусе Христе, заступитесь за меня! Только уберите адские огни, а я все продам, все раздам бедным и покаюсь!
Уленшпигель, видя, что толпа горожан ему сочувствует, соскочил с повозки и, схватив Спелле за горло, начал душить.
Но тут вмешался священник.
— Оставь его, — сказал он, — пусть лучше он умрет на виселице, нежели от руки привидения.
— А как вы собираетесь с ним поступить? — спросил Уленшпигель.
— Мы пожалуемся на него герцогу, и его повесят, — отвечал священник. — Но ты-то кто таков?
— Я бедная фламандская лисичка в обличье Михилькина, — отвечал Уленшпигель, — сейчас я опять уйду в норку, а то как бы испанские охотники не поймали.
Питер де Роозе тем временем бежал со всех ног.
А Спелле был повешен, и имущество его было конфисковано.
И отошло оно к королю.
33
На другой день Уленшпигель шагал вдоль прозрачной речки Лис по направлению к Куртре.
У Ламме был очень несчастный вид.
— Ах ты нюня этакая! — сказал ему Уленшпигель. — Плачешь по жене, которая надела на тебя венец с рогами!
— Сын мой, — возразил Ламме, — она всегда была мне верна и даже любила меня, а уж я-то как ее любил, господи Иисусе! Но однажды она отправилась в Брюгге, а вернулась — как будто ее кто подменил. С той поры, когда мне хотелось ее ласк, она неизменно отвечала: «Мы должны жить с тобой только как друзья». А я с сокрушенным сердцем говорил ей: «Красавица ты моя ненаглядная, ведь нас с тобой господь сочетал. Я же малейшие твои желания исполнял. Я ходил в черной холщовой куртке и в бумазейной накидке, а тебя, невзирая на королевские указы, рядил в шелк да в бархат. Красавица моя, неужто ты меня разлюбила?» А она мне и отвечает: «Я, говорит, тебя люблю, как то заповедано в законе господнем и в правилах церковных. Все же я останусь твоею спутницею, но только добродетельною». — «Не нужна мне, говорю, твоя добродетель, мне нужна ты, моя супруга». А она покачала головой, да и говорит: «Я знаю, ты добрый. Все это время ты был у нас за повара, чтобы избавить меня от стряпни. Ты гладил простыни, воротнички и сорочки, чтобы мне не возиться и тяжелыми утюгами. Ты стирал белье, подметал комнаты и перед домом, чтобы я себя не утруждала. Теперь я сама всем этим займусь, но уж больше ты от меня ничего не требуй, муженек». — «Нет, говорю, пусть все остается по-прежнему: я буду твоей горничной, гладильщицей, кухаркой, прачкой, верным твоим рабом, но только помни, что муж и жена — это едина душа и едина плоть, и не разрывай нежных уз любви, которые столь ласково нас с тобой соединили». — «Так надо», — говорит. «Это ты в Брюгге, спрашиваю, пришла к столь жестокому решению?» А она отвечает: «Я дала обет богу и святым угодникам». — «Кто же, спрашиваю, принудил тебя дать обет не исполнять супружеских обязанностей?» — «Тот, говорит, на ком благодать господня, принял меня в число своих духовных дочерей». И вот с того самого дня она точно стала верной женой кого-то другого — до такой степени чужой стала она мне. Я ее умолял, и терзал, и угрожал, и рыдал, и увещал — ничего не помогло. Как-то вечером возвращаюсь из Бланкенберга, — мне там нужно было получить арендную плату за одну из моих ферм, гляжу: нет ее. Верно, наскучили ей мои просьбы, тошно и горько ей стало глядеть на унылое мое лицо, и она от меня убежала. Где-то она теперь?
Тут Ламме сел на берегу Лиса и, опустив голову, устремил взгляд на воду.
— Ах, подружка, подружка! — запричитал он. — Какая ты была пухлая, нежная и главная! Такой молодки мне уж теперь не найти! Таких любовных яств мне уже не отведать! Где твои поцелуи, благоуханные, как тимиан, твои прелестные губки, с которых я собирал наслаждение, как пчела собирает мед с розового куста? Где твои белые руки, нежно меня обнимавшие? Где твое горячее сердце, твоя полная грудь, где этот дивный трепет, пробегавший по божественному твоему телу, дышавшему любовью? Э, да что вспоминать о твоих прежних зыбях, прохладная речка, когда ты уже весело катишь под солнцем новые волны?
34
Подойдя к опушке Петегемского леса, Ламме сказал Уленшпигелю:
— Я сейчас изжарюсь. Посидим в тени!
— Посидим, — согласился Уленшпигель.
Они сели на траву, под деревом, и в эту минуту мимо них пробежало стадо оленей.
— Будь начеку, Ламме! — заряжая свою немецкую аркебузу, сказал Уленшпигель. — Вон старые крупные самцы, — они гордо носят могучие свои привески и девятиконечные рога. Рядом дробно стучат копытцами стройные однолетки — их телохранители, готовые в любую минуту защитить стариков острыми своими рожками. Они спешат к своему пристанищу. А теперь я взведу курок, и ты тоже. Огонь! Старый олень ранен. Однолетку попало в бедро. Удирает. Будем гнать его, пока не свалится. А ну, за мной, беги, скачи, лети!
— Узнаю своего взбалмошного друга, — заметил Ламме. — И что выдумал — гнаться за оленями! Без крыльев летать — напрасный труд. Все равно не догонишь. О жестокий мой спутник! Откуда ты взял, что я так же проворен, как ты? Я обливаюсь потом, сын мой, я обливаюсь потом и сейчас упаду. Смотри: поймает тебя лесничий — попадешь на виселицу. Олени — королевская дичь. Пусть они себе бегут, сын мой, — ведь все равно не поймаешь.
— Вперед, вперед! — вскричал Уленшпигель. — Слышишь, как шуршат его рога в листве? Словно ветер шумит. А что сломанных веток, что листьев-то на земле! Так, еще одна пуля угодила ему в бедро! Будет у нас сегодня обед!
— Да ведь олень пока еще не изжарен! — заметил Ламме. — Пусть себе мчатся бедные животные. Ой, как жарко! Сейчас упаду и не встану.
Внезапно отовсюду набежали оборванные и вооруженные люди. Залаяли собаки и бросились в угон за оленями. Четверо угрюмого вида мужчин, окружив Ламме и Уленшпигеля, повели их в глубь леса, и в самой лесной глухомани глазам Уленшпигеля и Ламме открылась поляна, а на той поляне они увидели целый табор: тут были женщины, дети и великое множество мужчин, вооруженных кто чем — и шпагами, и арбалетами, и аркебузами, и копьями, и рогатинами, и рейтарскими пистолетами.
Уленшпигель обратился к ним с вопросом:
— Кто вы, разбойнички или же Лесные братья?[196] Сдается мне, что вы тут целым станом, спасаетесь от преследований.
— Мы — Лесные братья, — отвечал сидевший у огня и жаривший на сковороде птицу старик. — А ты кто таков?
— Я родом из прекрасной Фландрии, — отвечал Уленшпигель, — я и живописец, я и крестьянин, я и дворянин, я и ваятель. И странствую я по белу свету, славя все доброе и прекрасное, а над глупостью хохоча до упаду.
— Коли ты видел много стран, — снова заговорил старик, — стало быть, сумеешь выговорить Schild ende Vriendt (щит и друг) так, как выговаривают гентцы. А не сумеешь — значит, ты не настоящий фламандец и будешь казнен.
— Schild ende Vriendt, — произнес Уленшпигель.
— А ты, толстопузый, чем занимаешься? — обратившись к Ламме, спросил старик.
— Я проедаю и пропиваю мои имения, поместья, фермы, хутора, разыскиваю мою жену и всюду следую за другом моим Уленшпигелем.
— Коли ты много странствуешь, стало быть знаешь, как зовут в Лимбурге уроженцев Веерта, — сказал старик.
— Нет, не знаю, — отвечал Ламме. — А вот не знаете ли вы, как зовут того мерзавца и негодяя, который похитил мою жену? Назовите мне его имя, и я уложу его на месте.
Старик же ему сказал:
— На этом свете не возвращаются, во-первых, истраченные монеты, а во-вторых, жены, сбежавшие от опостылевших им мужей. — Затем старик обратился к Уленшпигелю. — А ты знаешь, как зовут в Лимбурге уроженцев Веерта? — спросил он.
— Raeksteker'ами (заклинателями скатов), и вот почему, — отвечал Уленшпигель. — Однажды с повозки рыбника упал живой скат, а старухи, глядя, как он трепыхается, решили, что в него вселился бес, и говорят: «Пойдем за священником — пусть он из него изгонит беса». Священник беса изгнал, а ската унес с собой и отлично поджарил его во славу жителей Веерта. Такую же участь да пошлет господь бог и кровавому королю!
В лесу между тем заливались собаки. По лесу бежали вооруженные люди и пугали зверя криками.
— Это они за теми двумя, которых я ранил, — заметил Уленшпигель.
— Они пойдут нам на обед, — сказал старик. — А как называют в Лимбурге уроженцев Эндховена?
— Pinnemaker'ами (засевщиками), — отвечал Уленшпигель. — Когда неприятель подошел к их городу, они вместо засова задвинули городские ворота морковью. Откуда ни возьмись, набежали гуси, жадные их клювы мигом расклевали морковь, и в Эндховен ворвался враг. А чтобы расклевать тюремные засовы, за которыми томится свобода совести, нужны клювы железные.
— Коли с нами бог, то кто же нам тогда страшен? — заметил старик.
— Собаки лают, люди воют, ветки хрустят — точно буря мчится по лесу, — сказал Уленшпигель.
— А что, оленье мясо вкусно? — поглядывая на сковороду, спросил Ламме.
— Крики загонщиков не умолкают, — обратившись к Ламме, сказал Уленшпигель. — Собаки совсем близко. Экий содом! Олень! Олень! Берегись, мой сын! Ах, проклятый зверь! Свалил моего толстого друга вместе со всеми сковородками, горшками, котлами и кусками мяса. А женщины и девушки в ужасе разбегаются. Никак, у тебя кровь течет, сын мой?
— Ты еще смеешься, негодник! — вскричал Ламме. — Да, у меня течет кровь, он наподдал мне рогами в зад. Вот гляди: и штаны разорваны, и мякоть, да еще и превосходное жаркое валяется на земле. Ой! Так у меня через седалище вся кровь утечет.
— Этот олень оказался предусмотрительным хирургом: он спас тебя от апоплексии, — заметил Уленшпигель.
— Скотина ты бесчувственная! — вознегодовал Ламме. — Не буду я больше с тобой странствовать. Я останусь с этими добрыми людьми. Как тебе не совестно? Ты меня совсем не жалеешь, а я за тобой, как собачонка, невзирая ни на метель, ни на стужу, ни на дождь, ни на град, ни на ветер, и в такую жару, когда у меня душа вместе с потом выходит!
— Рана у тебя пустячная, — заметил Уленшпигель. — Приложи к ней oliekoek'и — это будет для нее лакомый пластырь. Ты знаешь, как зовут лувенцев? Не знаешь? Жаль мне тебя! Ну ладно, уж так и быть, скажу, только не хнычь. Их называют koeyeschieter'ами (стрелками по коровам), и вот почему: в один прекрасный день эти обалдуи приняли коров за неприятельских солдат — и давай палить. Ну, а мы стреляем по испанским козлам — мясо у них, правда, вонючее, но кожа годится на барабаны: А как зовут тирлемонцев? Тоже не знаешь? Эх, ты! Они носят славное имя kweker'ов, и вот почему. На Троицу в ихнем соборе утка пролетела от хоров к алтарю, а они приняли ее за святого духа. Приложи еще к ране koekebak'ов. Я вижу, ты молча подбираешь горшки и куски мяса, которые опрокинул олень. Вот это, я понимаю, любовь к поваренному искусству! Разводишь огонь, ставишь котел с супом на треножник. Ты весь ушел в стряпню. А знаешь, какие такие четыре чуда в Лувене? Не знаешь? Сейчас я тебе скажу. Первое чудо — живые проходят там под мертвецами, и вот каким образом: церковь во имя Михаила Архангела стоит у городских ворот, а кладбище — над воротами, на валу. Второе чудо — колокола там не внутри колоколен, а снаружи, как, например, в церкви во имя апостола Иакова: там есть большой колокол и маленький колокол; маленький на колокольне не поместился, и его повесили снаружи. Третье чудо — в этой же самой церкви алтарь тоже снаружи: ее портал похож на алтарь. Четвертое чудо — Башня без гвоздей: шпиль церкви святой Гертруды построен не из дерева, а из камня, камни гвоздями не прибивают, за исключением каменного сердца кровавого короля — я бы его своими руками прибил к главным воротам в Брюсселе. Но ты меня не слушаешь. В подливку соли подбавить не требуется? А знаешь, почему термондцев прозвали грелками, vierpann'ами? Потому что зимой некий юный принц остановился в гостинице «Герб Фландрии», а у хозяина грелки не оказалось, и он не знал, чем согреть простыни. Наконец сообразил — велел своей молоденькой дочке лечь в постель и нагреть ее, но девушка, заслышав шаги принца, опрометью бросилась вон из комнаты, а принц потом недоумевал: почему вынули грелку? Дай-то бог, чтобы Филиппа поместили когда-нибудь в докрасна раскаленный ящик и сунули в виде грелки под простыню к госпоже Астарте!
— Да замолчи ты! — взмолился Ламме. — Мне сейчас не до тебя, не до vierpann'ов, не до Башни без гвоздей и не до всех прочих врак. Я занят подливкой.
— Берегись! — сказал Уленшпигель. — Лай не стихает — напротив, усиливается. Слышишь, как завывают собаки, слышишь, как трубит рог? Берегись оленя! Беги! Рог трубит!
— Это конец охоты, — заметил старик. — Вернись, Ламме, и займись стряпней. Оленя прикончили.
— Роскошная будет у нас трапеза, — молвил Ламме. — Вы, конечно, меня пригласите — ведь я для вас немало потрудился. Соус к птице получился вкусный, вот только на зубах похрустывает маленько — ведь это все попадало в песок, когда этот чертов олень проткнул мне и одежду и ягодицу. А лесничих вы не боитесь?
— Нас много, — отвечал старик, — они нас боятся, а не мы их, и потому не трогают. Сыщики и судьи тоже. Горожане нас любят, оттого что мы ничего худого никому не делаем. Сами мы в драку не сунемся. Ну, а если испанское войско нас окружит, то уж тогда, старые, молодые, женщины, девушки, мальчишки, девчонки — все мы дорого продадим свою жизнь, мы лучше перебьем друг друга, но только не дадимся в руки кровавому герцогу, который нас запытает.
Тут Уленшпигель молвил Лесным братьям:
— Было время, когда мы воевали с палачом на суше. Теперь надобно его разбить на море. Проберитесь на Зеландские острова через Брюгге, Хейст и Кнокке.
— У нас денег нет, — объявили Лесные братья.
Уленшпигель же им сказал:
— Вот вам тысяча каролю от принца. Пробирайтесь водными путями — каналами, речками, реками. Как увидите корабли с буквами Г.И.Х., пусть кто-нибудь из вас запоет жаворонком. Вам ответит боевой клич петуха. Стало быть, вы среди друзей.
— Так мы и сделаем, — сказали Лесные братья.
Немного спустя, таща за собой на веревках убитого оленя, показались охотники с собаками.
Лесные братья, Уленшпигель и Ламме уселись вокруг костра. Всех Лесных братьев — мужчин, женщин, детей — было шестьдесят. Они достали хлеб из котомок, вынули из ножен ножи, разделали оленя, сняли с него шкуру, освежевали и вместе с мелкой дичью стали жарить на вертеле. И к концу трапезы Ламме прислонился к дереву, свесил голову на грудь и захрапел.
Вечером Лесные братья ушли спать в землянки, Уленшпигель же и Ламме последовали их примеру.
Лагерь охраняли вооруженные часовые. Уленшпигелю было слышно, как шуршат сухие листья у них под ногами.
На другой день Уленшпигель вместе с Ламме пошел дальше, и Лесные братья ему сказали:
— Счастливого пути! А мы двинемся к морю.
35
В Гарлебеке Ламме снова запасся oliekoek'ами, тут же съел двадцать семь штук, а остальные тридцать положил в корзинку. Уленшпигель нес клетки. К вечеру приятели добрались до Куртре и остановились in de Вie, в гостинице «Пчела», у Жилиса ван ден Энде, который, едва заслышав пение жаворонка, бросился отворять дверь.
Встретил он Уленшпигеля и Ламме как родных. Прочитав письма принца, попросил Уленшпигеля передать ему пятьдесят каролю и ничего не взял с гостей ни за индейку, ни за dobbeleclauwaert. Он предупредил их, что в Куртре шныряют сыщики кровавого трибунала, и что там надо держать язык за зубами.
— Мы их распознаем, — сказали Уленшпигель и Ламме и вышли из гостиницы.
Заходящее солнце позлащало кровли, на ветвях лип пели птицы, на порогах судачили кумушки, в пыли копошились детишки, а Уленшпигель и Ламме бродили без цели по улицам.
Вдруг Ламме сказал:
— Я спрашивал ван ден Энде, не видел ли он женщину, похожую на мою жену, и обрисовал ему милый ее облик, а он мне сказал, что за городом, на Брюггской дороге, в Радуге, у старухи Стевен, по вечерам собирается много женщин. Я пойду туда.
— Я тоже туда скоро приду, — сказал Уленшпигель. — Мне хочется осмотреть город. Если мне встретится твоя жена, я ее сей же час пошлю к тебе. Помни наставления baes'а: коли жизнь тебе дорога, то помалкивай.
— Буду помалкивать, — сказал Ламме.
Пока Уленшпигель разгуливал, солнце успело скрыться. Когда он вышел на Pierpotstraetfe, то есть на Гончарную улицу, было уже совсем темно. Здесь до него донеслись нежные звуки виолы. Пройдя несколько шагов, Уленшпигель различил белую фигуру — она манила его за собой, а сама все удалялась, играя на виоле. И пела она под виолу ангельским голоском протяжную и приятную для слуха песню, останавливалась, вглядывалась и вновь удалялась.
Уленшпигель, однако, бежал быстро. Он нагнал ее и хотел было заговорить, но она закрыла ему рот надушенной бензоем ручкой.
— Ты из простых или же из благородных? — спросила она.
— Я Уленшпигель.
— Ты богат?
— Достаточно богат, чтобы заплатить за большое удовольствие, и недостаточно богат, чтобы выкупить свою душу.
— Почему ты ходишь пешком? У тебя нет лошади?
— У меня есть осел, но я оставил его в стойле, — отвечал Уленшпигель.
— Почему ты бродишь по чужому городу один, без друга?
— Потому что мой друг идет своей дорогой, а я — своей, любопытная красотка.
— Я совсем не любопытна, — возразила она. — Твой друг богат?
— Богат жиром, — отвечал Уленшпигель. — Скоро ты перестанешь допрашивать?
— Уже перестала. А теперь пусти меня.
— Пустить? — переспросил Уленшпигель. — Это все равно что оторвать голодного Ламме от блюда с ортоланами. Я хочу тебя съесть.
— Ты же меня еще не видел, — сказала девушка и внезапно осветила свое лицо фонарем.
— Хороша! Ну и ну! — сказал Уленшпигель. — Золотистая кожа, милые глазки, алые губки, стройный стаи — все это будет мое.
— Все, — подтвердила она и повела его на Брюггскую дорогу, в «Радугу» (in de «Reghenboogh»), к старухе Стевен. Там Уленшпигель увидел многое множество девиц, носивших на рукавах кружочки, отличавшиеся по цвету от их бумазейных платьев.
У спутницы Уленшпигеля к платью из золотой парчи был пришит кружок из парчи серебряной. Девицы поглядывали на нее с завистью. Войдя, она сделала baesine знак, но Уленшпигель этого не заметил. Они сели вдвоем за отдельный столик и начали пить.
— Кто меня полюбил, тот будет мой навеки, — тебе это известно? — спросила она.
— Ах ты раскрасавица моя душистая! — воскликнул Уленшпигель. — Всегда питаться твоим мясом — да мне лучшего угощения и не нужно.
Вдруг Уленшпигель увидел Ламме — тот сидел в уголке за маленьким столиком, а перед ним стояла свеча, блюдо с ветчиной и кружка пива, но он был озабочен тем, как спасти ветчину и пиво от двух девиц, которые напрашивались на угощение.
Заметив Уленшпигеля, Ламме вскочил и, подпрыгнув на три фута от полу, воскликнул:
— Слава богу, мой друг Уленшпигель снова со мной! Baesine, еще пива!
Уленшпигель достал кошелек, сказал:
— Будем пить, пока вот тут не станет пусто!
Тряхнул его, и Ламме услыхал звон монет.
— Счастлив наш бог! — сказал Ламме и ловко вытащил у Уленшпигеля кошелек. — Плачу я, а не ты — это мой кошелек.
Уленшпигель пытался вырвать у него кошелек, но Ламме держал его крепко. Пока они боролись — один за то, чтобы удержать кошелек в своих руках, а другой за то, чтобы его отбить, — Ламме прерывистым шепотом успел сообщить Уленшпигелю:
— Слушай… тут сыщики… четверо… в маленькой зале с тремя девками… Двое снаружи… следят за тобой и за мной… Хотел улизнуть… не удалось… Девка в парче — наушница… Хозяйка тоже наушница…
Они все еще боролись, а Уленшпигель ухитрялся внимательно слушать, крича:
— Отдай кошелек, негодяй!
— Не получишь, — отвечал ему Ламме.
Наконец они сцепились и, грохнувшись, покатились по полу, причем Ламме и тут продолжал наставлять Уленшпигеля.
Неожиданно в залу вошел хозяин «Пчелы» и с ним еще семь человек, но он делал вид, что ничего общего с ними не имеет. Войдя, он закричал петухом, а Уленшпигель в ответ запел жаворонком.
— Кто эти двое? — спросил у старухи Стевен хозяин «Пчелы».
— Этих сорванцов надо скорее разнять, — сказала старуха Стевен, — они до того у меня тут разбуянились, что как бы им на виселицу не угодить.
— Пусть только попробует разнять, — вскричал Уленшпигель, — мы его булыжник заставим жрать!
— Да, мы его булыжник заставим жрать, — подтвердил Ламме.
— Baes нас спасет, — сказал Уленшпигель на ухо Ламме.
Baes, догадавшись, что за этой дракой что-то кроется, поспешил в нее сунуться. Ламме шепотом спросил его:
— Ты вызволишь нас? А как?
Baes тряс для вида Уленшпигеля за уши и чуть слышно приговаривал:
— Семеро за тебя заступятся… Силачи, мясники… А я отсюда тягу… Меня весь город знает… Я уйду — кричи: 'Т is van te beven de klinkaert… Чтоб все здесь разгромить!..
— Хорошо, — сказал Уленшпигель и, поднявшись, дал ему пинка.
Baes ответил тем же.
— Лихо бьешь, пузан, — сказал Уленшпигель.
— Как град, — отвечал baes и, выхватив у Ламме кошелек и отдав его Уленшпигелю, сказал: — Ну, мошенник, я тебе вернул твое достояние — теперь угощай меня.
— Так и быть, угощу, мерзавец ты этакий, — согласился Уленшпигель.
— Ну и нахал! — заметила старуха Стевен.
— Я, моя ненаглядная, такой же нахал, как ты — красавица, — отрезал Уленшпигель.
А старухе Стевен перевалило уже за шестьдесят, лицо у нее все сморщилось, как сушеный кизиль, и пожелтело от злости. Нос у нее напоминал совиный клюв. В глазах застыло алчное выражение. В иссохшем ее рту торчало два клыка. На левой щеке багровело огромное родимое пятно.
Девицы захохотали и начали над ней потешаться:
— Красавица, красавица, налей ему! — Он тебя поцелует! — Сколько лет прошло с твоей первой свадьбы? — Берегись, Уленшпигель, она тебя съест! — Посмотри ей в глаза — они горят не злобой, а любовью. Как бы она тебя не закусала до смерти! — Не бойся! Все влюбленные женщины кусаются. — Ей нужен не ты, а твои денежки. — Какая она у нас нынче веселая!
И точно: старуха Стевен смеялась и подмигивала Жиллине — потаскушке в парче.
Baes выпил, расплатился и ушел. Семеро мясников понимающе переглядывались со старухой Стевен и сыщиками.
Один из них жестом дал понять, что считает Уленшпигеля дурачком и сейчас его оплетет за милую душу. Показав старухе Стевен язык, отчего та расхохоталась, обнажив свои клыки, он шепнул Уленшпигелю:
— 'Т is van te beven de klinkaert. (Пора звенеть бокалами.) — И, указывая на сыщиков, громко сказал: — Любезный реформат! Мы все на твоей стороне. Выставь нам вина и закуски!
А старуха Стевен хохотала до упаду и, как скоро Уленшпигель поворачивался к ней спиной, показывала ему язык. А Жиллина, тварь, разряженная в парчу, тоже показывала язык.
А девицы шушукались:
— Посмотрите на эту наушницу: пленяя своей красотой, она послала на мучительную пытку и на еще более мучительную казнь двадцать семь реформатов. Жиллина заранее облизывается при мысли о том, сколько ей дадут за донос, а дают ей сто флоринов из наследства ее жертв. Но радость ее меркнет, когда она думает, что надо будет поделиться со старухой Стевен.
И сыщики, мясники, девицы — все, издеваясь над Уленшпигелем, показывали ему язык. А Ламме побагровел от злости, как петушиный гребень, пот с него катился градом, но он молчал.
— Выставь нам вина и закуски, — сказали мясники и сыщики.
— Ну-с, моя ненаглядная, — снова позвякивая монетами, обратился Уленшпигель к старухе Стевен, — раз такое дело, давай нам вина и закуски, а вино мы будем пить в звонких бокалах.
Тут девицы снова прыснули, а старуха Стевен опять показала клыки.
Со всем тем она сходила в кухню и на погреб и принесла ветчины, колбасы вареной, яичницы с колбасой и звонкие бокальчики, названные так потому, что они стояли на ножках и при малейшем толчке звенели, как колокольчики.
И тогда Уленшпигель сказал:
— Кто хочет есть — ешьте, кто хочет пить — пейте!
Сыщики, девицы, мясники, Жиллина и старуха Стевен от радости затопали ногами и забили в ладоши. Потом все расселись: Уленшпигель, Ламме и семь мясников — вокруг большого почетного стола, а сыщики с девицами — вокруг двух небольших столиков. И принялись пить и есть, громко чавкая, а тем двум сыщикам, что оставались снаружи, их товарищи предложили тоже принять участие в пирушке. И из котомок у этих двух сыщиков торчали веревки и цепи.
А старуха Стевен высунула язык и, хихикнув, сказала:
— Отсюда никто не уйдет не расплатившись!
И тут она заперла все двери, а ключи положила в карман. Жиллина подняла бокал и сказала:
— Птичка — в клетке. Выпьем по этому случаю!
А две девушки, Гена и Марго, спросили ее:
— Ты опять кого-то предашь на смерть, злая женщина?
— Не знаю, — отвечала Жиллина. — Выпьем!
Но три девушки не захотели пить с нею.
Тогда Жиллина взяла виолу и запела:
Под звон моей виолы Я день и ночь пою; Мой норов развеселый: Любовь я продаю. А старта захотела Свой пыл в меня вдохнуть — В божественное тело, В трепещущую грудь. Полна мошна тугая? Пусть ливень золотых Прольется вмиг, сверкая, У белых ног моих. Мне мать — нагая Ева, Отец мне — сатана. Твои мечтанья дева В явь обратить вольна. Я буду робкой, властной, Холодною, шальной, Стыдливой, сладострастной — Что хочешь, дорогой! Все продается ныне: Терзанья, благодать, Душа и взор мой синий… Могу и смерть продать! Под звон моей виолы Я день и ночь пою, Мой норов развеселый: Любовь я продаю.И пока Жиллина пела, она была так хороша, так мила, так обворожительна, что все мужчины — сыщики, мясники, Ламме и Уленшпигель — были растроганы и, околдованные ее чарами, молча улыбались.
Но вдруг Жиллина расхохоталась и, взглянув на Уленшпигеля, сказала:
— Вот как заманивают птичек в клетку!
И чары ее мгновенно рассеялись.
Уленшпигель, Ламме и мясники переглянулись.
— Ну как, заплатите вы мне? — обратилась к Уленшпигелю старуха Стевен. — Заплатите вы мне, мессир Уленшпигель, молодец по части добывания жира из проповедников?
Ламме хотел было ей ответить, но Уленшпигель сделал ему знак молчать и сказал старухе Стевен:
— Мы вперед не платим.
— Я свое получу из твоего наследства, — ввернула старуха Стевен.
— Гиены питаются трупами, — отрезал Уленшпигель.
— Да, да, — вмешался один из сыщиков, — эти двое ограбили проповедников — больше трехсот флоринов! Жиллине есть чем поживиться.
А Жиллина опять запела:
Купи лобзаний счастье, Улыбок благодать, Смех, слезы, сладострастье… Могу и смерть продать!И, смеясь, воскликнула:
— Выпьем!
— Выпьем! — крикнули сыщики.
— Выпьем! — подхватила старуха Стевен. — Слава тебе, господи: двери заперты, на окнах крепкие решетки, птички в клетке — выпьем!
— Выпьем! — сказал Уленшпигель.
— Выпьем! — сказал Ламме.
— Выпьем! — сказали семеро.
— Выпьем! — сказали сыщики.
— Выпьем! — наигрывая на виоле, сказала Жиллина. — Выпьем за то, что я красивая! В сети моей песенки я могла бы самого архангела Гавриила залучить.
— Стало быть, выпьем, — подхватил Уленшпигель, — и, чтобы увенчать наше пиршество, выпьем самого лучшего вина. Пусть в каждую частицу наших жаждущих тел проникнет капля жидкого огня!
— Выпьем! — сказала Жиллина. — Еще двадцать таких пескарей, как ты, и щуки перестанут петь.
Старуха Стевен принесла еще вина. Сыщики и девицы жрали и лакали. Семеро, сидя за одним столом с Уленшпигелем и Ламме, бросали девицам ветчину, колбасу, куски яичницы, бутылки, а те ловили все это на лету, подобно тому как заглатывают карпы пролетающих низко над прудом мошек. А старуха Стевен хохотала, обнажая клыки, и все доказывала на фунтовые пачки свечей по пяти в каждой, висевшие над стойкой. То были свечи для девиц. Затем она обратилась к Уленшпигелю:
— На костер идут со свечкой сальной в руке. Хочешь, я тебе загодя подарю одну?
— Выпьем! — сказал Уленшпигель.
— Выпьем! — сказали семеро.
А Жиллина сказала:
— Глаза у Уленшпигеля мерцают, как у умирающего лебедя.
— А если их бросить свиньям? — ввернула старуха Стевен.
— Ну что ж, они полакомятся фонарями. Выпьем! — сказал Уленшпигель.
— Когда тебе на эшафоте просверлят язык каленым железом, как ты будешь себя чувствовать? — спросила старуха Стевен.
— Удобнее будет свистеть, только и всего, — отвечал Уленшпигель. — Выпьем!
— Когда тебя повесят, а твоя сударка придет на тебя полюбоваться, ты будешь не таким речистым.
— Пожалуй, — сказал Уленшпигель. — Но зато я стану тогда тяжелее и упаду прямо на твою очаровательную харю. Выпьем!
— А что ты скажешь, когда тебя высекут и выжгут клейма на лбу и плечах?
— Скажу, что это ошибка, — отвечал Уленшпигель, — вместо того чтобы изжарить свинью Стевен, ошпарили хряка Уленшпигеля.
— Ну, раз все это тебе не по вкусу, — сказала старуха Стевен, — то тебя отправят на королевские корабли, привяжут к четырем галерам и четвертуют.
— В сем случае акулы съедят мои четыре конечности, а что им не понравится, то доешь после них ты. Выпьем! — сказал Уленшпигель.
— Ты сам лучше съешь свечку, — сказала старуха Стевен, — в аду она тебе осветит место твоей вечной муки.
— Я вижу достаточно хорошо, чтобы разглядеть твое лоснящееся рыло, свинья недошпаренная. Выпьем! — сказал Уленшпигель.
При этих словах он постучал ножкой бокала по столу, а затем изобразил руками, как тюфячник мерными ударами взбивает шерсть для тюфяка, но только изобразил чуть слышно.
— 'Т is (tijdt) van te beven de klinkaerti (Пора попугать бокальчики — пусть они себе от страха звенят!) — сказал он.
Так во Фландрии говорят бражники, когда они обозлены и собираются разнести дом с красным фонариком.
Уленшпигель выпил, стукнул бокалом о стол и крикнул:
— 'Т is van te beuen de klinkaert!
Его примеру последовали семеро.
Все притихли. Жиллина побледнела, старуха Стевен опешила. Сыщики переговаривались:
— Разве эти семеро на их стороне?
Мясники успокаивающе подмигивали им, а сами все громче и без перерыва повторяли за Уленшпигелем:
— 'Т is van te beuen de klinkaert, 't is van te beven de klinkaert!
Старуха Стевен выпила для храбрости вина.
Уленшпигель опять, подражая тюфячнику, взбивающему шерсть, застучал кулаком по столу. Семеро тоже застучали. Стаканы, кувшины, миски, кружки, бокалы — все это, постепенно вовлекаясь в танец, опрокидывалось, разбивалось, с боку на бок переворачивалось. И все грознее, суровее, воинственнее и однообразнее звучало:
— 'Т is van te beven de klinkaert!
— Ой, беда! — закричала старуха Стевен. — Они все как есть у меня переколотят!
И от ужаса оба ее клыка готовы были выскочить изо рта.
А у семерых, у Ламме и Уленшпигеля закипела кровь от бешеной злобы. Не прекращая однозвучного грозного пения, они мерно стучали стаканами по столу, а затем, перебив их, сели верхом на скамьи и выхватили ножи. И так они громко пели, что во всем доме дрожали стекла.
Потом они, точно хоровод разъяренных бесов, обошли залу и все столы под неумолчное пение:
— 'Т is van te beven de klinkaert!
Наконец, трясясь от страха, вскочили сыщики и выхватили веревки и цепи. Но тут мясники, Уленшпигель и Ламме, спрятав ножи, схватили скамьи и, размахивая ими, точно дубинами, пошли крушить направо и налево, щадя только девиц, колошматя все подряд: столы, стекла, лари, кружки, миски, стаканы, бутылки, без милосердия молотя сыщиков, носясь по всей комнате и распевая в лад воображаемому стуку тюфячника, взбивающего шерсть: 'Т is van te beven de klinkaert, {t is van te beven de klinkaert, а Уленшпигель вдобавок смазал старуху Стевен по роже и, отняв у нее ключи, заставил жрать свечи.
Красавица Жиллина, точно перепуганная кошка, скребла ногтями двери, ставни, стекла, оконные переплеты, лишь бы куда-нибудь шмыгнуть. Затем, мертвенно-бледная, оскалив зубы и дико вращая глазами, держа перед собой, точно средство защиты, виолу, она села на корточки в углу.
Семеро и Ламме предупредили девиц: «Мы вас не тронем», — и с их помощью связали сыщиков веревками и цепями, а у сыщиков зуб на зуб не попадал от страха, и они не оказывали ни малейшего сопротивления, так как чувствовали, что мясники, стоит им только пикнуть, изрежут их на куски своими ножами (хозяин «Пчелы» нарочно выбрал самых больших силачей).
Заставляя старуху есть свечи, Уленшпигель приговаривал:
— Вот эту — за повешенье; вот эту — за сечение; вот эту — за клейма; вот эту, четвертую, за мой просверленный язык; вот эти две превосходные свечи, на которые пошло особенно много сала, — за королевские корабли и четвертование на четырех галерах; вот эту — за притон соглядатаев; вот эту — за твою паскуду в парчовом платье, а все остальные — ради моего удовольствия.
А девицы, глядя, как старуха Стевен злобно фыркает и пытается выплюнуть свечи, помирали со смеху. Однако старуха напрасно старалась, — все равно свечей у нее был полон рот.
Уленшпигель, Ламме и семеро продолжали петь в лад:
— 'Т is van te beven de klinkaert!
Наконец Уленшпигель смолк и сделал им знак петь вполголоса. Они повиновались, а он обратился к сыщикам и к девицам с такими словами:
— Кто крикнет «караул!», того мы уложим на месте.
— На месте! — подхватили мясники.
— Мы будем молчать, только не трогай нас, Уленшпигель! — сказали девицы.
А Жиллина по-прежнему сидела в углу на корточках, скалила зубы, но ничего не могла сказать и только молча прижимала к себе виолу.
А семеро все гудели в лад:
— 'Т is van te beven de klinkaert!
Старуха Стевен, показывая на свечи во рту, знаком поясняла, что тоже не проронит ни звука. Сыщики дали такую же клятву.
Тогда Уленшпигель заговорил снова:
— Вы в нашей власти. Ночь темна, Лис отсюда близко — если вас туда бросить, вы мигом потонете. Куртрейские ворота на запоре. Если ночной дозор и слышал шум, все равно с места не двинется: во-первых, дозорные — изрядные лентяи, а во-вторых, они подумают, что это добрые фламандцы кутят и весело распевают под звон кружек и бутылок. Помните, стало быть, что вы у нас в руках; будьте послушны — одни, как овны, другие, как овечки. — Затем он обратился к семерым: — Вы пойдете в Петегем к Гезам?
— Мы стали собираться, как скоро узнали, что ты здесь.
— А оттуда к морю?
— К морю, — отвечали они.
— Как по-вашему, кто из сыщиков мог бы нам потом сослужить службу? Мы бы тех отпустили.
— Двое: Никлас и Иоос, — отвечали мясники, — они не преследовали несчастных реформатов.
— Мы люди надежные, — сказали Никлас и Иоос.
— Вот вам двадцать флоринов, — сказал Уленшпигель, — это вдвое больше позорной платы за донос.
Тут другие сыщики вскричали:
— Двадцать флоринов! За двадцать флоринов и мы согласны служить принцу. Король платит мало. Дай каждому из нас половину — и мы покажем в суде все, что тебе угодно.
Мясники и Ламме приглушенными голосами напевали:
— 'Т is van te beven de klinkaert! 'T is van te beven de klinkaert!
— Чтобы вы слишком много не болтали, семеро доставят вас связанными в Петеген, к Гезам, — продолжал Уленшпигель. — В море вам выдадут по десять флоринов на брата, а до тех пор вы пребудете верны хлебу и вареву из походной кухни, в чем мы и не сомневаемся. Если вы докажете свою храбрость, то при дележе добычи вас не забудут. Если попытаетесь бежать, вас повесят. Если избегнете веревки, то уж от ножа не уйдете.
— Мы служим тому, кто нам платит, — сказали сыщики.
— 'Т is van te beven de klinkaert! 'T is van te beven de klinkaert! — повторяли семеро и Ламме, постукивая по столу черепками горшков и осколками бокалов.
— Вы возьмете с собой старуху Стевен, Жиллину в еще трех девок, — сказал Уленшпигель. — Если кто-нибудь из них попробует улизнуть, зашейте беглянку в мешок — и в воду.
— Он меня не убил! — выскочив из своего угла, воскликнула Жиллина и, размахивая виолой, запела:
Мучений, крови, гнева Мечта моя полна. Мне мать — нагая Ева, Отец мне — сатана.Старуха Стевен и три девки чуть не плакали.
— Не бойтесь, красотки, — сказал девкам Уленшпигель. — Вы такие славненькие и хорошенькие, что все вас будут целовать, миловать, ласкать. Вам выделят часть всего, что удастся захватить у неприятеля.
— Мне-то уж ничего не дадут, — я стара, — захныкала старуха Стевен.
— Грош в день положат тебе, крокодил, — сказал Уленшпигель, — и будешь ты прислуживать этим четырем прелестным девушкам: будешь стирать им юбки, простыни и сорочки.
— Это я-то? О господи! — простонала старуха.
— Ты долго ими помыкала, — осадил ее Уленшпигель. — Они торговали своей красотой, а денежки ты забирала себе да еще держала девушек в черном теле. Можешь хныкать и реветь сколько душе угодно — все будет так, как я сказал.
Тут четыре девки давай хохотать, давай над старухой Степей глумиться и показывать ей язык.
— Всему на свете бывает конец, — говорили они. — Кто бы мог подумать, что выжигу Стевен ожидает такая участь? Она будет работать на нас, как рабыня. Дай бог здоровья сеньору Уленшпигелю!
А Уленшпигель приказал мясникам и Ламме:
— Очистите винный погреб и заберите деньги — это пойдет на содержание старухи Стевен и четырех девиц.
— Старая жадюга зубами скрежещет, — говорили девицы. — Ты нас не жалела, и мы тебя не пожалеем. Дай бог здоровья сеньору Уленшпигелю!
Затем три девицы обратились к Жиллине:
— Ты была ей дочерью и добытчицей, ты делилась с ней деньгами, которые тебе платили за твое подлое наушничанье. Хоть ты и в парчовом платье, а посмей-ка нас теперь бить и оскорблять! Ты нас презирала, потому что на нас бумазейные платья. Но ведь все твои наряды — это кровь твоих жертв. Давайте стащим с нее платье — между ней и нами не должно быть никакого различия.
— Этого я вам не позволю, — объявил Уленшпигель.
Тут Жиллина бросилась ему на шею.
— Дай бог тебе здоровья! — сказала она. — Ты не только не убил меня — ты не хочешь, чтобы я ходила замарашкой!
Девицы ревниво поглядывали на Уленшпигеля и говорили между собой:
— Он, как и все, без ума от нее.
А Жиллина запела под звуки виолы.
Семеро двинулись по берегу Лиса в Петегем, уводя с собой сыщиков и девиц. Дорогой они напевали:
— 'Т is van te beven de klinkaert! 'T is van te beven de klinkaert!
На рассвете они приблизились к лагерю и запели жаворонком, а в ответ им раздался боевой клич петуха. Над девицами и сыщиками был учрежден строгий надзор. Со всем тем на третий день Жиллину нашли мертвой — кто-то воткнул ей в сердце длинную булавку. Три девицы заподозрили старуху Стевен, и она предстала перед военным судом, состоявшим из капитана, взводных и сержантов. На суде она добровольно созналась, что убила Жиллину из зависти к ее красоте и за то, что Жиллина обходилась с ней как со своей рабыней. И старуху Стевен повесили, а потом закопали в лесу.
А прекрасное тело Жиллины предали земле лишь после того, как над ней были прочтены заупокойные молитвы.
Между тем два сыщика, подученные Уленшпигелем, явились к куртрейскому кастеляну, ибо дело о шуме, гаме и погроме в заведении старухи Стевен должен был разбирать не кто иной, как помянутый кастелян, поелику дом старухи Стевен находился в черте его кастелянства и, следственно, весь этот ночной переполох городским властям был неподсуден. Рассказав сеньору кастеляну все по порядку, сыщики заговорили в высшей степени уверенным, естественным и в то же время смиренным тоном:
— Уленшпигель и его верный и близкий друг Ламме Гудзак, заходившие в «Радугу» отдохнуть, никакого касательства к убийству проповедников не имеют. У них даже есть пропуски, подписанные самим герцогом, — мы их собственными глазами видели. Убили проповедников вовсе не они, а два гентских купца: один — тощий, а другой — во какой толстый. Купцы все как есть у старухи Стевен разнесли и дернули во Францию да еще четырех девок угнали для забавы. Мы совсем уж было их сцапали, да за них заступились семеро мясников, самых здоровенных во всем городе. Они связали нас и увели, а отпустили уже во Франции. Вот и рубцы от веревок. Еще четыре сыщика следуют за ними по пятам и только ждут подмоги, чтобы схватить их.
Кастелян за верную службу пожаловал им по два каролю и велел выдать им новую одежду.
Затем он поставил в известность Фландрский совет, Куртрейский суд старшин и другие суды о том, что настоящие убийцы обнаружены.
Сообщил он об этом во всех подробностях.
Члены Фландрского совета, а равно и других судов, были ошеломлены.
И все превозносили кастеляна до небес за его прозорливость.
А тем временем Уленшпигель и Ламме в мире и согласии двигались по берегу Лиса в Гент, и оба мечтали попасть в Брюгге, где Ламме надеялся найти жену, и в Дамме, куда не чаял как добраться Уленшпигель, все мысли которого были теперь с Неле, страдавшей за свою безумную мать.
36
В Дамме и его окрестностях с некоторых пор чинились неслыханные злодейства. Если было заранее известно, что какой-нибудь паренек, девушка или же старик собираются в Брюгге, в Гент, в любой другой фландрский город, в любое селение и берут с собой деньги, то их неукоснительно находили потом убитыми и раздетыми догола, со следами чьих-то длинных и острых зубов, перегрызших им шейные позвонки.
Лекари и цирюльники определили, что это зубы крупного волка. «Загрызал волк, а грабили потом, конечно, воры», — говорили они.
Сколько ни искали воров — так и не нашли. Про волка скоро забыли.
Именитые граждане, самонадеянно пускавшиеся в путь без охраны, исчезали бесследно, и все же бывали случаи, когда хлебопашец, ранним утром выходивший работать в поле, обнаруживал волчьи следы, а затем его собака, разрывая лапами землю, откапывала мертвое тело с отпечатком волчьих зубов на затылке, за ухом, иногда на ноге, причем непременно сзади, с раздробленными шейными позвонками, с раздробленной костью на ноге.
Крестьянин в ужасе бежал к коронному судье, а тот вместе с секретарем суда, двумя старшинами и двумя лекарями немедленно выезжал на место происшествия. Тщательно и внимательно осмотрев мертвое тело, а если лицо еще не было изъедено червями, то и установив звание убитого, как его имя и какого он роду-племени, они всякий раз невольно дивились тому, что волк, обыкновенно загрызающий свою жертву с голодухи, тут не польстился на мясо.
Жители Дамме были до того напуганы, что никто из них не решался выйти ночью без охраны.
И вот наконец на волка устроили облаву: нескольким храбрым солдатам был дан приказ искать его днем и ночью среди дюн, вдоль морского побережья.
Однажды они обследовали дюны недалеко от Хейста. Спустилась ночь. Один из них, понадеявшись на свою силу, отделился от товарищей и пошел с аркебузой на волка один. Товарищи не стали его отговаривать — они были уверены, что он, человек бесстрашный и хорошо вооруженный, наверняка убьет волка, если тот где-нибудь объявится.
Как скоро товарищ ушел, солдаты развели огонь и, прикладываясь к фляжкам с водкой, стали играть в кости.
Время от времени они покрикивали:
— Эй, приятель, вернись! Волк тебя испугался. Иди лучше выпей!
Но товарищ не откликался.
Вдруг до них долетел страшный, как бы предсмертный вопль, и они стремглав пустились бежать в ту сторону, откуда он доносился.
— Держись! Мы бежим на помощь! — кричали они.
Но они долго не могли найти своего приятеля — одни говорили, что вопль доносится с поля, а другие — что с самой высокой дюны.
Наконец, оглядев с фонарем дюну и поле, они обнаружили тело товарища: он был укушен сзади в руку и в ногу, и шейные позвонки у него были сломаны, как и у других жертв.
Он лежал навзничь и в судорожно сжатой руке держал шпагу. На песке валялась аркебуза. Поодаль лежали три отрубленных пальца, но это были не его пальцы; солдаты подобрали их. Сумка была похищена.
Солдаты взвалили тело товарища себе на плечи, взяли его верную шпагу и доблестную аркебузу и, исполненные гневя и скорби, двинулись по направлению к окружному суду и застали там судью, секретаря, двух старшин и двух лекарей.
Осмотр отрубленных пальцев показал, что это пальцы старика, никогда не занимавшегося ручным трудом, ибо пальцы у пего были тонкие, а ногти длинные, как у судейского или же как у духовной особы.
На другой день судья, старшины, секретарь, лекари и солдаты отправились на то место, где был искусан несчастный, и обнаружили кровь на траве и следы, которые вели к морю и там обрывались.
37
Настала пора спелого винограда, настал месяц вина, настал четвертый его день, когда в Брюсселе с колокольни церкви святителя Николая после поздней обедни бросают в толпу мешки с орехами.
Ночью Неле разбудили крики на улице. Она оглядела комнату — Катлины не было. Тогда она бросилась к выходу, отворила дверь, и в комнату вбежала Катлина.
— Спаси меня! Спаси меня! Волк! Волк! — кричала она.
И вслед за тем до Неле донесся с поля далекий волчий вой. Вся дрожа, она зажгла светильники, сальные и восковые свечи.
— Что с тобой? — обняв мать, спросила она.
Глаза у Катлины блуждали; она села и, взглянув на свечи, молвила:
— Вот солнышко и прогнало злых духов. Волк, волк воет в поле!
— Зачем тебе понадобилось вставать? — спросила Неле. — В постели ты угрелась, а в сентябре ночи холодные — долго ли простудиться?
А Катлина ей:
— Нынче ночью Ганс заклекотал орлом, а я ему дверь отворила. А он мне: «Выпей, говорит, колдовского зелья». Я и выпила. Ганс красивый! Уберите огонь! Ганс подвел меня к каналу и сказал: «Катлина, я верну тебе семьсот каролю, а ты их отдай Уленшпигелю, сыну Клааса. Вот тебе два на платье. Скоро получишь тысячу». — «Тысячу? — спрашиваю. — Милый ты мой, да ведь я буду богатая!» — «Получишь, — говорит. — А в Дамме есть богатые женщины или девушки?» — «Не знаю», — говорю. Я не хотела никого называть, чтобы он их не полюбил. А он мне и говорит: «Разузнай и в следующий раз, когда я к тебе приду, скажи мне, как их зовут».
А холодно было, туман расстилался по лугу, сухие ветки падали с деревьев. И луна светила, а в канале на воде огни горели. Ганс говорит: «Это ночь оборотней. Все грешные души выходят из ада. Нужно три раза перекреститься левой рукой в крикнуть: „Соль, соль, соль!“ То знак бессмертия. Тогда они тебя не тронут». А я ему: «Как хочешь, так я и сделаю, ненаглядный мой Ганс». Тут он меня поцеловал. «Ты, говорит, моя жена». — «Да, говорю, жена». И от этих его ласковых слов я испытала неземное блаженство, точно на тело мое источился бальзам. А он надел на меня венок из роз и говорит: «Ты красивая». А я ему: «Ты, мой ненаглядный Ганс, тоже красивый. На тебе дорогой, зеленого бархата, шитый золотом наряд, на шляпе развевается большое страусовое перо, глаза у тебя сверкают, как гребни волн. Все девушки в Дамме побегут за тобой, — только покажись им, — будут добиваться твоей любви, но ты люби только меня, Ганс». А он мне на это: «Выведай, кто из них побогаче, — их деньги достанутся тебе». С этими словами он и ушел, а мне не велел за ним идти.
Осталась я одна, стою, позвякиваю двумя золотыми, а сама вся дрожу, насквозь продрогла — уж очень туман был холодный, — вдруг смотрю, волк: морда у него зеленая, в белой шерсти длинные камышинки торчат. Я как закричу: «Соль, соль, соль!» — и крещусь, и крещусь, а ему хоть бы что. Я — бежать, я — кричать, а он — завывать! Слышу: позади меня щелкает зубами, совсем близко, вот сейчас схватит. Тут я еще припустила. На мое великое счастье, встретился мне на углу Цапельной улицы ночной сторож с фонарем. «Волк! Волк!» — кричу. А старик: «Не бойся, говорит, дурочка Катлина, я тебя домой отведу». Взял он меня за руку, а я чувствую — и его рука дрожит. Значит, тоже испугался.
— Видно, опять набрался храбрости, — заметила Неле. — Слышишь его протяжное пение? De clock is tien, tien aen de clock! (Десять часов пробило, пробило десять часов!) И колотушкой стучит.
— Уберите огонь! — сказала Катлина. — Голова горит. Вернись ко мне, Ганс ненаглядный!
А Неле смотрела на Катлину, просила богородицу исцелить ее от огня безумия и плакала над ней.
38
В Беллеме, на берегу Брюггского канала, Уленшпигель и Ламме повстречали всадника с тремя петушьими перьями на войлочной шляпе, мчавшегося в Гент. Уленшпигель запел жаворонком — всадник остановился и ответил боевым кличем певца зари.
— Какие у тебя вести, неугомонный всадник? — спросил Уленшпигель.
— Важные, — отвечал всадник. — По совету французского адмирала де Шатильона принц — друг свободы — отдал приказ, помимо тех военных судов, что стоят в Эмдене и в Восточной Фрисландии, снарядить еще несколько кораблей. Приказ этот получили доблестные мужи Адриан ван Берген, сьер де Долен; его брат Людвиг Геннегауский; барон де Монфокон; сьер Людвиг де Бредероде; Альберт Эгмонт, сын казненного и не изменник, как его брат; фрисландец Бертель Энтенс де Ментеда; Адриан Меннинг; гордый и пылкий гентец Хембейзе и Ян Брук[197]. Принц пожертвовал на это все свое достояние — пятьдесят с лишним тысяч флоринов.
— У меня еще есть пятьсот для него, — сказал Уленшпигель.
— Иди с ними к морю, — сказал всадник.
И ускакал.
— Принц отдал все свое достояние, — сказал Уленшпигель. — А мы можем отдать только свою шкуру.
— По-твоему, это мало? — спросил Ламме. — Настанет ли такое время, когда мы уже не услышим ни о бое, ни о разбое? Принц Оранский во прахе.
— Да, во прахе, как сваленный дуб, — сказал Уленшпигель. — Но из дуба строят корабли свободы!
— А выгодно это принцу, — ввернул Ламме. — Вот что: коль скоро опасность миновала, купим ослов! Я предпочитаю двигаться сидя и без колокольчиков на подошвах.
— Ладно, купим ослов, — согласился Уленшпигель. — Покупатели на них всегда найдутся.
Они отправились на рынок и купили двух превосходных ослов вместе со сбруей.
39
Так, обняв ногами своих ослов, добрались они до селения Оост-Камп, расположенного возле густого леса, за которым был прорыт канал.
В чаянии благоуханной тени забрели они в лес и увидели множество длинных просек, тянувшихся во всех направлениях: и к Брюгге, и к Генту, и к Южной и к Северной Фландрии.
Вдруг Уленшпигель соскочил с осла.
— Ты ничего не видишь?
— Вижу, — отвечал Ламме и дрожащим голосом воскликнул: — Моя жена! Милая моя жена! Это она, сын мой! Но я к ней не подойду — это свыше моих сил! В каком виде я ее нахожу!
— Да чего ты хнычешь? — спросил Уленшпигель. — Она сейчас прелестна — в муслиновом платье с разрезами, в которые проглядывает ее свежее тело. Нет, это не твоя жена — слишком молода.
— Это она, сын мой, это она! — возразил Ламме. — Я ее сразу узнал. Поддержи меня — мне силы изменяют. Кто бы мог подумать? Она — и вдруг танцует в цыганском наряде, без всякого стеснения! Да, это она! Погляди на ее стройные ноги, на голые до плеч руки, на полные золотистые груди, только до половины прикрытые муслиновым платьем. Гляди: за ней носится огромный пес, а она его дразнит красным платком.
— Это египетская собака, — заметил Уленшпигель, — в Нидерландах нет такой породы.
— Египетская?.. Не знаю… Но это она. Ах, сын мой, мне больно глазам! Она подбирает юбку, чтобы видны были ее округлые колени. Она нарочно смеется, чтобы показать свои белые зубки, и не просто смеется, а заливается хохотом, чтобы слышен был ее нежный голосок. Она расстегивает платье и нарочно откидывается. О, эта шея — шея пылающего любовью лебедя, эти голые плечи, эти ясные и смелые глаза! Бегу к ней.
Тут Ламме спрыгнул с осла.
Уленшпигель, однако, удержал его.
— Эта девушка совсем не твоя жена, — сказал он. — Мы недалеко от цыганского табора. Гляди в оба! Видишь там, за деревьями, дым? Слышишь лай собак? Вон они уже нас заметили — как бы не кинулись. Юркнем лучше в чащу!
— Нет, я не юркну, — объявил Ламме. — Это моя жена, такая же фламандка, как мы с тобой.
— Ты слепой дурак, — заметил Уленшпигель.
— Слепой? Нет, не слепой. Я прекрасно вижу, как она, полураздетая, танцует, смеется и дразнит огромного пса. Она притворяется, что не видит нас. На самом деле она нас видит, уверяю тебя. Тиль, Тиль, гляди! Собака бросилась на нее, повалила и хочет вырвать красный платок. А она жалобно кричит.
И с этими словами Ламме устремился к ней.
— Жена моя, жена моя! — воскликнул он. — Ты ушиблась, моя ненаглядная? Что ты так хохочешь? А взгляд у тебя растерянный. — Он целовал ее, гладил и говорил: — А где же твоя милая родинка под левой грудью? Что-то я ее не вижу. Где же она? Нет, ты не моя жена. Господи твоя воля!
А она все хохотала.
Вдруг Уленшпигель крикнул:
— Берегись, Ламме!
Ламме обернулся и увидел рослого цыгана с испитым смуглым лицом, напоминавшим peperkoek, то есть французский пряник.
Тогда Ламме взял копье и, изготовившись, к обороне, крикнул:
— Уленшпигель, на помощь!
Уленшпигель тут как тут со своей острой саблей.
Цыган обратился к Ламме на нижненемецком языке:
— Gibt mi Ghelt, ein Richsthaler auf tsein (дай мне денег, один рейхсталер или десять).
— Смотри, — сказал Уленшпигель, — девушка бежит, хохочет и все оглядывается — не идет ли кто за ней.
— Gibt mi Ghelt, — повторил цыган. — Заплати за шашни. Мы люди бедные, а тронуть мы тебя не тронем.
Ламме дал ему паролю.
— Чем ты промышляешь? — спросил Уленшпигель.
— Чем придется, — отвечал цыган. — Мы мастера на все руки, чудеса показываем, ворожим. Бьем в бубен, танцуем венгерские танцы. Кое-кто мастерит клетки и рашперы, на которых изготовляется отменное жаркое. Но фламандцы и валлоны боятся нас и гонят. Честным трудом нам жить не дают — поневоле приходится воровать: таскаем у крестьян овощи, мясо, птицу, — что ж поделаешь, когда они и продавать не продают, и даром ничего не дают?
— А кто эта девушка, которая так похожа на мою жену? — спросил Ламме.
— Это дочь нашего вожака, — отвечал цыган и, точно боясь чего-то, заговорил тихо: — Господь послал ей любовный недуг — женский стыд ей незнаком. Как увидит мужчину, сейчас на нее нападает буйное веселье и неудержимый смех. Говорит она мало — ее долгое время считали даже немой. По ночам сидит-тоскует у костра, то плачет, то смеется без причины, то показывает на живот — говорит, что там у нее болит. В настоящее исступление она впадает летом, в полдень, после еды. Почти голая танцует неподалеку от табора. Она ничего не хочет носить, кроме тюля и муслина. Зимой мы с превеликим трудом надеваем на нее подбитый козьим мехом плащ.
— А разве нет у нее милого дружка, который не позволял бы ей отдаваться первому встречному? — спросил Ламме.
— Нет у нее дружка, — отвечал цыган. — Когда путники подходят к ней и видят ее безумные глаза, то они испытывают не столько сердечное влечение, сколько страх. Этот толстяк не робкого, знать, десятка, — указывая на Ламме, добавил он.
— Не прерывай его, сын мой, — вмешался Уленшпигель. — Треска пусть себе хает кита, а кто из них больше дает ворвани?
— Ты нынче не в духе, — заметил Ламме.
Но Уленшпигель, не слушая его, обратился к цыгану с вопросом:
— А как она обходится с теми, кто не менее храбр, чем мой друг Ламме?
— Получает и удовольствие и барыш, — с грустью в голосе отвечал цыган. — Кто с ней побаловался, тот платит за развлечение, а деньги эти идут на ее наряды и на нужды стариков и женщин.
— Стало быть, она никого не слушается? — спросил Ламме.
— Пусть те, кого посетил господь, живут по своей воле в хотению. Таков наш закон, — отвечал цыган.
Уленшпигель и Ламме продолжали свой путь. А цыган с величественным и невозмутимым видом направился к табору. А девушка танцевала на поляне и заливалась хохотом.
40
По пути в Брюгге Уленшпигель обратился к Ламме:
— Мы много потратили на вербовку солдат, на сыщиков, на подарок цыганке и на oliekoek'и, — ведь ты их в огромном количестве поедал сам, а продать ни одного не продал. Ну так вот, пусть твое чрево умерит свои желания — нам нужно сократиться. Дай мне твои деньги — общее хозяйство буду вести я.
— Хорошо, — сказал Ламме и протянул ему кошелек. — Только не мори меня-голодом — прими в соображение, что я толстяк и крепыш, а значит, мне необходим питательный и обильный стол. Ты же худ и тщедушен, тебе можно так жить: день прошел — и слава богу, нынче поел, а завтра как-нибудь, ты, ни дать ни взять, дощатая мостовая на набережной — способен питаться одним воздухом да дождем. Ну, а у меня от воздуха под ложечкой начинает сосать, от дождя голод только усиливается, так что мне нужна иная пища.
— У тебя и будет иная пища, — подхватил Уленшпигель, — пища постная, душеспасительная. Супротив нее не устоит самое толстое брюхо: мало-помалу оно опадает, так что самый грузный человек становится легким. И скоро милый моему сердцу обезжиренный Ламме будет бегать, что твои олень.
— Горе мне! — воскликнул Ламме. — О, мой тощий удел! Я проголодался, сын мой, и не прочь был бы поужинать.
Вечерело. Они приблизились к Брюгге со стороны Гентских ворот. Тут им пришлось предъявить пропуски. Уплатив по полсоля за себя и по два соля за ослов, они въехали в город. Слова Уленшпигеля, видимо, навели Ламме на грустные размышления.
— Скоро мы будем ужинать? — спросил он.
— Скоро, — отвечал Уленшпигель.
Остановились они in de Meermin (в «Сирене») — на постоялом дворе с позолоченным флюгером в виде сирены, вертевшимся на крыше.
Путники поставили своих ослов в конюшню, и Уленшпигель заказал себе и Ламме на ужин хлеба, сыра и пива.
Хозяин, подавая скудный этот ужин, ухмылялся. Ламме ел неохотно и с тоской смотрел на Уленшпигеля, который тем временем с таким аппетитом угрызал черствый хлеб и молодой сыр, точно это были ортоланы. И кружку пива Ламме выцедил без удовольствия. Уленшпигель посмеивался, глядя, как он страждет. И посмеивался еще кто-то во дворе, по временам заглядывавший в окно. Уленшпигель заметил, что это женщина и что она прячет свое лицо. Решив, что это какая-нибудь служанка-насмешница, он тут же перестал о ней думать. А Ламме был бледен, скучен и вял, оттого что страсть его чрева не была утолена, и, глядя на него, Уленшпигель в конце концов проникся к нему состраданием и только хотел было заказать для своего товарища яичницу с колбасой, говядину с бобами или же еще что-нибудь в этом роде, как вдруг вошел baes и, сняв шляпу, молвил:
— Ежели господам проезжающим хочется чего-нибудь получше, то пусть только скажут и объяснят, что им угодно.
Ламме широко раскрыл глаза, еще шире разинул рот и, сгорая от нетерпения, воззрился на Уленшпигеля.
Уленшпигель же сказал baes'у:
— Странствующие подмастерья небогаты.
— Им самим иногда невдомек, чем они обладают; — возразил baes и указал на Ламме. — Одно это располагающее к себе лицо чего стоит! Ну так что же угодно вашим милостям приказать по части выпивки и закуски? Яичницу с жирной ветчиной, choesel'ей сегодняшнего изготовления, слоеных пирожков, каплуна, — каплун так и тает во рту, — жирного мяса с пряностями, антверпенского dobbelknol'я, брюггского dobbelkuyt'а, лувенского вина, изготовляемого по способу бургонского? Денег я с вас не возьму.
— Всего принесите, — сказал Ламме.
Скоро все это появилось на столе, и Уленшпигелю было приятно смотреть, как бедный Ламме, более чем когда-либо изголодавшийся, набросился на яичницу, на choesel'и, на каплуна, на ветчину, на жареное мясо и как он целыми литрами лил себе в глотку dobbelknol, dobbelkuyt, а равно и лувенское, изготовляемое по способу бургонского.
Наевшись вволю и ублаготворившись, он хотя и отдувался, как кит, а все оглядывал стол, не осталось ли еще чего-нибудь такого, что бы можно было положить в рот. И на зубах у него похрустывали остатки слоеных пирожков.
Ни Уленшпигель, ни он не замечали славной мордашки, улыбавшейся им в окно и мелькавшей во дворе. Когда же baes принес им глинтвейну, они опять начали пить. И пели песни.
После сигнала к тушению огней baes спросил, не угодно ли ям пройти в большие хорошие комнаты. Уленшпигель на это ему ответил, что с них довольно и одной маленькой.
— Маленьких комнат у меня нет, — возразил baes. — Я бесплатно предоставляю каждому по комнате для господ.
И точно: он проводил их в комнаты с роскошной мебелью и коврами. В комнате Ламме высилась двуспальная кровать.
Уленшпигель изрядно выпил, его развезло, а потому он в Ламме не чинил никаких препятствий по части отхода ко сну и сам тот же час започивал.
В полдень он заглянул к Ламме в комнату — тот еще храпел. Поодаль лежала прехорошенькая сумочка, набитая деньгами. Уленшпигель раскрыл сумочку и узрел золотые каролю в серебряные патары.
Он растолкал Ламме — тот протер заспанные глаза и, с беспокойством осмотрев комнату, воскликнул:
— Моя жена! Где моя жена?
Указав на пустое место рядом с собой в постели, Ламме прибавил:
— Она только что была здесь.
Тут он спрыгнул с кровати, снова обшарил глазами комнату, заглянул во все уголки, осмотрел альков и шкафы, и, никого не обнаружив, затопал ногами и закричал:
— Моя жена! Где моя жена?
На шум прибежал baes.
— Подлец! — схватив его за горло, взвизгнул Ламме. — Где моя жена? Куда ты дел мою жену?
— Вот беспокойный постоялец! — заметил baes. — Жена, жена! Какая жена? Ты приехал без жены. Я знать ничего не знаю.
— А, не знаешь! — завопил Ламме и опять давай шарить по всем углам. — Вот горе! Ведь ночью-то она была здесь, лежала рядом со мной, как в пору нашей страстной взаимной любви. Да, была. Где же ты сейчас, моя ненаглядная?
С этими словами он швырнул сумочку.
— Мне твои деньги не нужны — мне нужна ты, моя любимая, твое нежное тело, твое доброе сердце! О неизреченное счастье! Ты ушло безвозвратно. Я было отвык от тебя, мое сокровище, отвык от твоих ласк. Ты вновь взяла меня в полон — и снова покинула. Нет, лучше смерть! Ах, жена моя! Где моя жена?
Он повалился на пол и зарыдал. Потом вдруг вскочил, распахнул дверь и, промчавшись в одной сорочке через весь постоялый двор, выбежал на улицу.
— Моя жена! Где моя жен-а? — крикнул он.
Но сейчас же вернулся, оттого что гадкие мальчишки свистели и бросались в него камнями.
Тут Уленшпигель заставил его одеться и сказал:
— Не отчаивайся. Увиделся ты с ней и увидишься снова. Она тебя не разлюбила: она к тебе пришла, и потом это она, конечно, заплатила за ужин и за господские комнаты и положила на кровать полную сумочку денег. Пепел у меня на груди говорит мне, что неверная жена так не поступает. Не плачь! Идем на защиту отчего края!
— Побудем еще немного в Брюгге! — молвил Ламме. — Я обегу весь город и найду ее.
— Нет, не найдешь, — возразил Уленшпигель, — она от тебя прячется.
Ламме потребовал объяснений от baes'а, но тот ничего ему не сказал.
И приятели двинулись в Дамме.
В дороге Уленшпигель задал Ламме вопрос:
— Почему ты мне не рассказал, каким образом она очутилась ночью рядышком и как она от тебя ушла?
— Сын мой, — отвечал Ламме, — ты же знаешь: мы с тобой отдали такую обильную дань мясу, пиву и вину, что, когда мы шли спать, я еле дышал. Шел я со свечой, как барин, а перед сном поставил подсвечник на сундук. Дверь была приотворена, сундук стоит у самой двери. Раздеваясь, я сонным и ласковым взором окинул мое ложе. В то же мгновенье свеча потухла. Кто-то будто на нее дунул, затем послышались чьи-то легкие шаги, однако ж сон взял верх над чувством страха, и я заснул как убитый. Когда же я засыпал, чей-то голос, — о, это был твой голос, жена моя, милая моя жена! — спросил: «Ты сытно поужинал, Ламме?» И голос ее звучал совсем близко, и лицо ее, и все ее нежное тело было вот тут, подле меня.
41
В этот день король Филипп, объевшись пирожным, был мрачнее обыкновенного. Он играл на своем живом клавесине — на ящике, где были заперты кошки, головы которых торчали из круглых отверстий над клавишами. Когда король ударял по клавише, клавиша колола кошку, и животное мяукало и пищало от боли.
Но Филипп не смеялся.
Он все время ломал себе голову над тем, как свергнуть с английского престола великую королеву Елизавету и возвести Марию Стюарт[198]. Он писал об этом обедневшему, запутавшемуся в долгах папе римскому[199], и папа ему на это ответил, что ради такого дела он не задумываясь продал бы священные сосуды храмов и сокровища Ватикана.
Но Филипп не смеялся.
Фаворит королевы Марии — Ридольфи[200] — в надежде на то, что, освободив ее, он на ней женится и станет королем Англии, явился к Филиппу, чтобы сговориться об убийстве Елизаветы. Но он оказался таким «болтунишкой», как назвал его в письме сам король, что его замыслы обсуждались вслух на антверпенской бирже. И убить королеву ему не удалось.
И Филипп не смеялся.
Позднее кровавый герцог по приказу короля направил в Англию двух убийц, потом еще двух. Все четверо угодили на виселицу.
И Филипп не смеялся.
И так господь наказывал этого вампира за честолюбие, а между тем вампир уже представлял себе, как он отнимет у Марии Стюарт сына[201] и вдвоем с папой будет править Англией. И, видя, что благородная эта страна день ото дня становится влиятельнее и могущественнее, убийца злобствовал. Он не сводил с нее своих тусклых глаз и все думал, как бы ее раздавить, чтобы потом завладеть всем миром, истребить реформатов, особливо богатых, и прибрать к рукам их достояние.
Но он не смеялся.
И ему приносили мышей, домашних и полевых, в высоком железном ящике, с одной прозрачной стенкой. И он ставил ящик на огонь и с наслаждением смотрел и слушал, как несчастные зверьки мечутся, пищат, визжат, издыхают.
Но не смеялся.
Затем, бледный, с дрожью в руках, шел к принцессе Эболи и охватывал ее пламенем своего сладострастия, которое он разжигал соломой своей жестокости.
И не смеялся.
А принцесса Эболи не любила его и принимала только страха ради.
42
Стояла жара. Ни единого дуновения ветерка не долетало с тихого моря. Листья деревьев, росших вдоль канала в Дамме, едва-едва трепетали. Кузнечики притаились в луговой траве. А в полях церковные и монастырские батраки собирали для священников и аббатов тринадцатую долю урожая. С высокого огнедышащего голубого неба солнце изливало зной, и природа под его лучами дремала, словно нагая красавица в объятиях своего возлюбленного. Охотясь за мошкарой, гудевшей, точно вода в котле, над водой канала, в воздухе кувыркались карпы, а длиннокрылые, с вытянутым тельцем ласточки перехватывали у них добычу. От земли, колыхаясь и искрясь на солнце, поднимался теплый пар. Звонарь, ударяя в треснутый колокол, как в разбитый котел, возвещал с колокольни, что настал полдень и жнецам пора обедать. Женщины, воронкой приложив руки ко рту, окликали по именам своих мужей, братьев и сыновей: Ганс, Питер, Иоос. Над изгородью мелькали их красные наколки.
Ламме и Уленшпигель издалека завидели высокую четырехугольную громоздкую колокольню Собора богоматери.
— Там, сын мой, все твои горести и радости, — сказал Ламме.
Но Уленшпигель ничего ему не ответил.
— Скоро я увижу мой старый дом, а может, и жену, — продолжал Ламме.
Но Уленшпигель ничего ему не ответил.
— Сам ты, как видно, деревянный, а сердце у тебя каменное, — заметил Ламме. — Ничто на тебя не действует: ни то, что ты скоро увидишь места, где протекло твое детство, ни дорогие тени двух страдальцев — несчастного Клааса и несчастной Сооткин. Как же так? Ты и не грустишь и не радуешься? Кто же иссушил твое сердце? Ты погляди на меня: я в тревоге, в волнении, живот у меня трясется. Погляди на меня…
Тут Ламме вскинул глаза на Уленшпигеля и увидел, что тот побледнел, что голова у него свесилась на грудь, что губы у него дрожат и что он беззвучно рыдает.
И тогда Ламме примолк.
Так, не обменявшись ни единым словом, добрались они до Дамме и пошли по Цапельной улице, но там они никого не встретили — все попрятались от жары. У дверей домов, высунув язык, лежали на боку и позевывали собаки. Ламме и Уленшпигель прошли мимо ратуши, напротив которой был сожжен Клаас, и тут губы у Уленшпигеля задрожали еще сильнее, а слезы мгновенно высохли. Подойдя к дому Клааса, где жил теперь другой угольщик, Уленшпигель решил войти.
— Ты меня — узнаешь? — обратился он к угольщику. — Можно мне здесь отдохнуть?
— Я тебя узнал, — молвил угольщик. — Ты сын мученика. Весь дом в твоем распоряжении.
Уленшпигель прошел в кухню, потом в комнату Клааса и Сооткин и дал волю слезам.
Когда же он вышел оттуда, угольщик ему сказал:
— Вот хлеб, сир и пиво. Коли хочешь есть — ешь; коли хочешь пить — пей.
Уленшпигель знаком дал понять, что не хочет ни того, ни другого.
Затем приятели снова двинулись в путь; Ламме — восседая на осле, а Уленшпигель — ведя своего за недоуздок.
Приблизившись к лачужке Катлины, они привязали ослов в вошли. Попали они как раз к обеду. На столе стояло блюдо с вареными бобами в стручках и с бобами белыми. Катлина ела. Неле стояла около нее и собиралась налить ей подливы с уксусом, которую она только что сняла с огня.
Когда Уленшпигель вошел, Неле до того растерялась, что вылила всю подливу в Катлинину миску, а Катлина затрясла головой и то принималась подбирать ложкой бобы вокруг соусника, то била себя ею по лбу.
— Уберите огонь! Голова горит! — бессмысленно повторяла она.
Запах уксуса возбудил у Ламме аппетит.
Уленшпигель смотрел на Неле, и улыбка любви озарила великую его печаль.
А Ноле, не долго думая, обвила ему шею руками. Она тоже как будто сошла с ума — плакала, смеялась и, залившись румянцем несказанного счастья, все лепетала:
— Тиль! Тиль!
Уленшпигель, в восторге, не сводил с нее глаз. Потом она разжала руки, отступила на шаг, вперила в Уленшпигеля радостный взор и вновь обвила ему шею руками. И так несколько раз подряд. Уленшпигель, ликуя, сжимал ее в объятиях до тех пор, пока она, обессилевшая и окончательно потеряв голову, не опустилась на скамью.
— Тиль! Тиль! Любимый мой! Наконец ты вернулся! — не стыдясь, повторяла Неле.
Ламме стоял у порога. Как скоро Неле немного успокоилась, она показала на него и спросила:
— Где я могла видеть этого толстяка?
— Это мой друг, — отвечал Уленшпигель. — Он разъезжает вместе со мной и ищет свою жену.
— Теперь я вспомнила, — обращаясь к Ламме, сказала Неле. — Ты жил на Цапельной улице. Я видела твою жену в Брюгге — ее там знают за женщину благочестивую и богобоязненную. Когда же я ее спросила, как у нее достало духу бросить мужа, она мне ответила так: «На то была воля божья и такая была наложена на меня епитимья, так что жить я с ним больше не стану».
При этом известии Ламме огорчился, но тут же обратил взор на бобы с уксусом. А в поднебесье пели жаворонки, и разомлевшая природа безвольно отдавалась ласкам солнечных лучей. А Катлина ложкой подбирала со стола бобы и стручки вместе с подливкой.
43
Через дюны из Хейста в Кнокке шла среди бела дня пятнадцатилетняя девочка. Никто за нее не беспокоился, так как все знали, что оборотни и грешные души нападают по ночам. Девочка несла в сумочке сорок восемь солей серебром, что равнялось четырем золотым флоринам, которые ее мать Тория Питерсен, проживавшая в Хейсте, взяла взаймы, когда ей надо было что-то купить, у ее дяди Яна Ранена, проживавшего в Кнокке. Девочка по имени Беткин надела свое самое красивое платье и, очень довольная, пустилась в дорогу.
К вечеру девочка домой не вернулась — у матери заскребло было на сердце, но, решив, что дочка, верно, осталась ночевать у дяди, она успокоилась.
На другой день рыбаки, выходившие в море на лов рыбы, причалили к берегу и, вытащив лодку на песок, побросали рыбу в повозки, с тем чтобы продать ее оптом, прямо целыми повозками, на рынке в Хейсте. Поднимаясь в гору по усеянной ракушками дороге, они обнаружили на дюне мертвую девочку, совершенно раздетую, — воры не оставили на ней даже сорочки, — и пятна крови вокруг. Рыбаки приблизились и увидели на ее прокушенной шее следы длинных и острых зубов. Девочка — лежала навзничь, глаза у нее были открыты и смотрели в небо, изо рта, тоже открытого, словно исходил предсмертный вопль.
Прикрыв тело девочки opperstkleed'ом, рыбаки отнесли его в Хейст, в ратушу. Там скоро собрались старшины и лекарь, и лекарь объявил, что у обыкновенного волка таких зубов не бывает, что это зубы исполненного адской злобы weerwolf'а, оборотня, и что надо молить бога, чтобы он избавил от него землю Фландрскую.
И тогда было повелено: во всем графстве, особливо в Дамме, Хейсте и Кнокке, служить молебны и читать особые молитвы.
И народ, громко вздыхая, теснился в храмах.
В хейстской церкви, где стоял гроб с телом девочки, ни мужчины, ни женщины не могли удержаться от слез при виде ее окровавленной искусанной шеи. А мать кричала на всю церковь:
— Я сама пойду на weerwolf'а и загрызу его!
И женщины, рыдая, одобряли ее за это намерение. А некоторые говорили:
— Ты не вернешься.
И все же она пошла, а с нею муж и два брата, и все они были вооружены, и все искали волка на берегу, на дюнах и в долине, но так и не нашли. А ночи были холодные, и она простудилась, и муж отвел ее домой. И он, и ее братья ухаживали за ней и, готовясь к лову, чинили сети.
Коронный судья Дамме, решив, что weerwolf питается кровью, но не грабит убитых, объявил, что по его следу, должно полагать, идут воры, укрывающиеся среди дюн, и пользуются таковым случаем в своих гнусных целях. Того ради он распорядился ударить в набат и велел всем и каждому, схватив что попадется под руку: оружие так оружие, палку так палку, учинить облаву на нищих и бродяг, всех их переловить и обыскать, нет ли у них в сумах золота или же лоскутов одежды убитых, после чего здоровые нищие будут-де препровождены на королевские галеры, старые же и больные отпущены на свободу.
Искали, однако, впустую.
Тогда Уленшпигель пришел к судье и сказал:
— Я убью weerwolf'а.
— Почему ты в этом так уверен? — спросил судья.
— Пепел бьется о мою грудь, — отвечал Уленшпигель. — Дозвольте мне потрудиться в общинной кузнице.
— Потрудись, — сказал судья.
Никому во всем Дамме ни слова не сказав о своем замысле, Уленшпигель пошел в кузницу и тайком от всех выковал большой превосходный капкан для ловли диких зверей.
На другой день, то есть в субботу, — а по субботам weerwolf особенно свирепствовал, — Уленшпигель захватил с собой письмо от судьи к хейстскому священнику, сунул под плащ капкан, вооружился добрым арбалетом и острым ножом и вышел из Дамме, так объяснив жителям цель своего похода:
— Пойду чаек настреляю, а из их пуха сделаю подушечки для госпожи судейши.
Дорога в Хейст шла около моря, а море в тот день разбушевалось: громадные волны с громоподобным грохотом то накатывались на песок, то вновь откатывались; ветер, дувший со стороны Англии, завывал в снастях прибитых к берегу кораблей.
Один рыбак сказал Уленшпигелю:
— Этот резкий ветер — наша погибель. Еще ночью море было спокойно, а как солнце взошло — вдруг рассвирепело. Теперь о лове и думать нечего.
Уленшпигель обрадовался — ночью в случае чего будет к кому обратиться за помощью.
В Хейсте он пошел прямо к священнику и передал письмо от судьи. Священник же ему сказал:
— Ты смельчак, но только вот что прими в рассуждение: кто бы ночью в субботу ни шел через дюны, всех потом находят на песке мертвыми, загрызенными. Плотинщики ходят на работу по нескольку человек. Вечереет. Слышишь, как воет в долине weerwolf? Неужели он, как и накануне, всю мочь будет выть так ужасно на кладбище? Да благословит тебя бог, сын мой, но лучше бы ты не ходил.
Священник перекрестился.
— Пепел бьется о мою грудь, — молвил Уленшпигель.
Тогда священник сказал:
— Коль скоро ты исполнен непреклонной решимости, я тебе помогу.
— Ваше преподобие, — сказал Уленшпигель, — сходите к Тории — матери убитой девочки, а также к двум братьям Тории, и скажите, что волк близко и что я его подстерегу и убью, — сделайте это для меня и для всего нашего истерзанного края!
— Я тебе советую караулить волка на дороге к кладбищу, — сказал священник. — Дорога эта пролегает между изгородями. На ней двум человекам не разойтись.
— Там я его и подкараулю, — решил Уленшпигель. — А вы, доблестный священнослужитель, радеющий об освобождении родной страны, прикажите и велите матери убитой девочки, отцу ее и двум дядям взять оружие и, пока еще не подан сигнал к тушению огней, идти в церковь. Если они услышат, что я кричу чайкой, значит, я видел оборотня. Тогда пусть ударят в набат — и скорей ко мне на помощь. А еще есть у вас тут смелые люди?..
— Нет, сын мой, — отвечал священник. — Рыбаки боятся weerwolf'а больше, чем чумы и смерти. Не ходи!
Но Уленшпигель ему на это ответил:
— Пепел бьется о мою грудь.
Тогда священник сказал:
— Я исполню твою просьбу. Господь с тобой! Ты есть хочешь или пить?
— И то и другое, — отвечал Уленшпигель.
Священник угостил его пивом, вином и сыром.
Уленшпигель поел, попил и ушел.
Дорогой он поднял глаза к озаренному ярким лунным сиянием небу, и ему привиделся отец его Клаас сидящим во славе подле господа бога. Уленшпигель смотрел на море и на тучи, слушал, как неистово завывал ветер, дувший со стороны Англии.
— О черные быстролетные тучи! — говорил он. — Преисполнитесь мести и цепями повисните на ногах злодея! Ты, рокочущее море, ты, небо, мрачное, как зев преисподней, вы, огнепенные гребни, скользящие по темной воде, в нетерпении и в гневе наскакивающие один на другой, вы, бесчисленные огненные звери, быки, барашки, кони, змеи, плывущие по течению или же вздымающиеся и рассыпающиеся искрометным дождем, ты, черное-черное море, ты, трауром повитое небо, помогите мне одолеть злого вампира, убивающего девочек! И ты помоги мне, ветер, жалобно воющий в зарослях терновника и корабельных снастях, ты, голос жертв, взывающих о мести к господу богу, на которого я в начинании своем уповаю!
Тут он спустился в долину, раскачиваясь на своих естественных подпорках так, словно в голову ему ударил хмель-л словно он поел лишнего.
Он напевал, икал, пошатывался, зевал, плевал, останавливался, будто бы оттого, что его тошнит, на самом же деле зорко следил за всем, что творилось кругом, и вдруг, услыхав пронзительный вой, остановился, делая вид, что его выворачивает наизнанку, и при ярком лунном свете перед ним явственно обозначилась длинная тень волка, направлявшегося в кладбищу.
Все так же шатаясь из стороны в сторону, Уленшпигель пошел по тропинке, проложенной в зарослях терновника. На тропинке он будто нечаянно растянулся, но это ему нужно было для того, чтобы поставить капкан и вложить стрелу в арбалет, затем поднялся, отошел шагов на десять и, продолжая разыгрывать пьяного, остановился, пошатываясь, икая и блюя, на самом же деле все существо его было натянуто, как тетива, слух и зрение напряжены.
И видел он лишь черные тучи, мчавшиеся, как безумные, по небу, да длинную крупную, хотя и невысокую черную фигуру, приближавшуюся к нему. И слышал он лишь жалобный вой ветра, громоподобный грохот волн морских да скрежет ракушек под чьим-то тяжелым скоком.
Будто бы намереваясь сесть, Уленшпигель грузно, как пьяный, повалился на тропинку и опять сделал вид, что его рвет.
— Вслед за тем в двух шагах от него лязгнуло железо, со стуком захлопнулся капкан и кто-то вскрикнул.
— Weerwolf попал передними лапами в капкан, — сказал себе Уленшпигель. — Вот он с ревом встает, сотрясает капкан, хочет освободиться. Нет, теперь уж не убежит!
Уленшпигель пустил стрелу и попал ему в ногу.
— Ранен! Упал! — сказал он и крикнул чайкой.
В ту же минуту зазвонил сполошный колокол; в разных концах селения слышался звонкий мальчишеский голос:
— Вставайте, кто спит! Weerwolf пойман!
— Слава богу! — сказал Уленшпигель.
Раньше всех прибежали с фонарями мать Беткин, Тория, ее муж Лансам, ее братья Иост и Михель.
— Пойман? — спросили они.
— Вот он, на тропинке, — сказал Уленшпигель.
— Слава богу! — воскликнули они и перекрестились.
— Кто это звонит? — спросил Уленшпигель.
— Это мой старший сын, — отвечал Лансам. — Младший бегает по всему городу, стучится в двери и кричит, что волк пойман. Честь тебе и слава!
— Пепел бьется о мою грудь, — отвечал Уленшпигель.
— Сжалься надо мной, Уленшпигель, сжалься! — неожиданно заговорил weerwolf.
— Волк заговорил! — воскликнули все и перекрестились. — Это дьявол — ему даже известно, что юношу зовут Уленшпигель.
— Сжалься! Сжалься! — повторял пойманный. — Прекрати колокольный звон — это звон похоронный. Пожалей меня! Я не волк. Руки мне перебил капкан. Я стар, я истекаю кровью. Пожалей меня! Чей это звонкий детский крик будит село? Пожалей меня!
— Я узнал тебя по голосу! — с жаром воскликнул Уленшпигель. — Ты — рыбник, убийца Клааса, вампир, загрызавший бедных девочек! Горожане и горожанки, не бойтесь! Это старшина рыбников, который свел в могилу Сооткин.
С этими словами он одной рукой схватил его за горло, а другою выхватил нож.
Но Тория, мать Беткин, удержала Уленшпигеля.
— Его надо взять живьем! — крикнула она и, бросившись на рыбника, стада рвать клоками его седые волосы и царапать ему лицо.
И она выла от горя и злобы.
Руки weerwolf'у защемил капкан; weerwolf бился на земле от дикой боли и вопил:
— Сжальтесь! Сжальтесь! Оттащите эту женщину! Я вам дам два каролю. Разбейте колокола! Зачем так громко кричат дети?
— Не убивайте его! — кричала Тория. — Не убивайте его — пусть заплатит сполна! Это по тебе похоронный звон, по тебе, убийца! На медленном огне тебя, калеными тебя щипцами! Не убивайте его! Пусть заплатит сполна!
Тория нашла на земле вафельницу с длинными ручками. Осмотрев ее при свете факелов, Тория обнаружила вырезанные в железных пластинках ромбы (обычная в Брабанте форма для вафель), а также длинные острые зубья, придававшие вафельнице сходство с железной пастью. Когда Тория раскрыла ее, то она приобрела сходство с пастью борзой собаки.
Охваченная бешеной злобой, Тория то открывала, то закрывала вафельницу, потом вдруг, скрипя зубами, хрипя, точно в агонии, крича от боли, которую ей причиняла неутоленная месть, принялась вонзать зубья этого орудия в руки рыбнику, в ноги, куда попало, и все старалась укусить его в шею и при каждом укусе приговаривала:
— Вот так он кусал железными зубами мою Беткин. А теперь расплачивается. Что, течет у тебя кровь, душегуб? Господь справедлив. Слышишь похоронный звон? Кровь Беткин вопиет к отмщению. Чувствуешь, как впиваются зубы? Это пасть господня.
Она кусала его беспрерывно и беспощадно, а когда не могла укусить, то била вафельницей. Но так сильна была в ней жажда мести, что она не забила его до смерти.
— Смилуйтесь! — кричал рыбник. — Уленшпигель, ударь меня ножом — я хочу скорой смерти! Оттащи эту женщину! Разбей похоронные колокола, умертви кричащих детей!
А Тория все кусала его, пока один старик не сжалился над рыбником и не отобрал у нее вафельницу.
Тогда Тория плюнула в лицо weerwolf'у и, вцепившись ему в волосы, крикнула:
— Ты за все заплатишь на медленном огне, под калеными щипцами! Я тебе глаза выцарапаю!
Между тем, прослышав, что weerwolf не дьявол, а человек, прибежали хейстские рыбаки, хлебопашцы и женщины. Одни пришли с фонарями, другие с горящими факелами. И все кричали:
— Убийца! Грабитель! Где деньги, которые ты отнял у несчастных жертв? Отдавай!
— У меня ничего нет. Пощадите! — бормотал рыбник.
А женщины швырялись в него камнями и песком.
— Вот она, расплата! Вот она, расплата! — кричала Тория.
— Сжальтесь! — стонал рыбник. — Я истекаю кровью. Сжальтесь!
— У тебя еще хватит крови на расплату! — вскричала Тория. — Смажьте ему бальзамом раны. Он расплатится на медленном огне, расплатится, когда ему руки вырвут калеными щипцами. За все заплатит, за все!
И она опять кинулась бить его, но вдруг замертво упала на песок. И ее не трогали, пока она сама не очнулась.
Уленшпигель между тем, высвободив руки рыбника, обнаружил, что на правой руке у него не хватает трех пальцев.
Он велел связать его потуже и положить в корзину для рыбы. Мужчины, женщины, подростки, сменяя друг друга, понесли его в Дамме на суд и расправу. И освещали они себе дорогу факелами и фонарями.
А рыбник все повторял:
— Разбейте колокола! Умертвите кричащих детей!
А Тория твердила:
— Пусть он за все заплатит на медленном огне, пусть за все заплатит под калеными щипцами!
Потом оба смолкла. Уленшпигель слышал только прерывистое дыхание Тории, тяжелые шаги мужчин и громоподобный грохот волн.
С тоскою глядел он на тучи, как безумные мчавшиеся по небу, на огненные барашки в море и на освещенное факелами и фонарями бледное лицо рыбника, который следил за ним злыми своими глазами.
И пепел бился о грудь Уленшпигеля.
Так шли они четыре часа, а когда приблизились к Дамме, то их встретила толпа народа, уже обо всем осведомленного. Горожанам хотелось посмотреть на пойманного, и все шла за рыбаками с криком, с гиком, танцуя, ликуя.
— Weerwolf пойман, лиходей пойман! — кричали они. — Спасибо Уленшпигелю! Да здравствует наш брат Уленшпигель! Long leven onsen breeder Ulenspiegel!
Это было настоящее народное торжество.
Когда толпа проходила мимо дома судьи, тот вышел на шум и обратился к Уленшпигелю:
— Ты одолел. Честь тебе и хвала!
— Пепел Клааса бился о мою грудь, — отвечал Уленшпигель.
Тогда судья сказал:
— Ты получишь половину достояния убийцы.
— Раздайте ее родственникам погибших, — сказал Уленшпигель.
Пришли Ламме и Неле. Неле, смеясь и плача от радости, целовала своего дорогого Уленшпигеля; Ламме, тяжело подпрыгивая, хлопал его по животу и приговаривал:
— Вот кто храбр, надежен и предан! Это мой лучший друг. Среди вас, мужланов, таких людей не найдешь.
Рыбаки, однако ж, потешались над ним.
44
На другой день зазвонил колокол, так называемый borgstorm, созывая судей, старшин и секретарей к Vierschare, на четыре дерновые скамьи под дерево правосудия — под красивую липу. Кругом толпился народ. На допросе рыбник ни в чем не сознался, даже когда ему показали отрубленные солдатом три пальца, которых у него не хватало на правой руке. Он все повторял:
— Я беден и стар — пощадите меня!
Народ, однако ж, ревел:
— Ты старый волк, ты загрызал детей! Нет пощады ему, господа судьи!
Женщины кричали:
— Не смотри на нас холодными своими глазами! Ты не дьявол — ты человек, мы тебя не боимся. Кровожадная тварь! Ты трусливее кошки, загрызающей птенцов в гнезде. Ты убивал бедных девочек, с малолетства мечтавших честно прожить свою жизнь.
— Пусть за все заплатит на медленном огне, под калеными щипцами! — твердила Тория.
Невзирая на стражу, матери научили ребят бросать камни в рыбника. Ребята не заставляли себя упрашивать, улюлюкали, когда рыбник смотрел на них, и кричали не переставая:
— Bloedzuyger! (Кровопийца!) Sla dood! (Убейте его!)
А Тория продолжала кричать:
— Пусть за все заплатит на медленном огне, пусть за все заплатит род калеными щипцами!
А толпа шумела.
— Глядите! — говорили между собой женщины. — Нынче день жаркий, солнечный, а его знобит, он старается выставить на солнце свои седые космы и лицо, а как ему Тория лицо-то исцарапала!
— Дрожит от боли!
— Гнев божий!
— Какой у него пришибленный вид!
— Поглядите на руки злодея — они у него связаны и кровоточат — капканом-то его поранило!
— Пусть за все заплатит, за все! — кричала Тория.
А он плакался:
— Я беден — отпустите меня!
Но все, даже судьи, смеялись над ним. Он выдавливал из себя слезы, чтобы разжалобить их. Но женщины смеялись.
Так как основания для пытки были, то суд постановил пытать его до тех пор, пока он не сознается, как именно он убивал, откуда появлялся, где вещи убитых и где он прятал награбленные деньги.
В застенке на него надели совсем новенькие тесные сапоги, и судья спросил его, каким образом сатана внушил ему столь злые умыслы и толкнул его на столь ужасные преступления, он же судье ответил так:
— Сатана — это я сам, таково мое естество. Я родился на свет уродцем, неспособным к телесным упражнениям, и меня все почитали за дурачка и часто били. Меня никто не жалел — ли мальчики, ни девочки. Когда я вырос, ни одна женщина не желала иметь со мной дело, даже за деньги. Тогда я возненавидел смертельной ненавистью все, что происходит от женщины. Я донес на Клааса, оттого что его все любили. Я любил только денежки — это были мои белокурые или же золотистые подружки. Казнь Клааса обогатила меня и доставила наслаждение. Но меня час от часу сильнее манило стать волком, мне до страсти хотелось кусаться. В Брабанте я увидел вафельницу и подумал, что из такой вафельницы можно сделать отличную железную пасть. О, если б я мог схватить вас за горло, кровожадные тигры, забавляющиеся муками старика! Я бы вас искусал с еще большим наслаждением, нежели солдата или же девочку. Когда она, такая хорошенькая, беззащитная, спала на солнышке, зажав в руках сумочку с деньгами, во мне заговорили жалость и вожделение. Но так как я уже стар и обладать ею не мог, то я укусил ее…
На вопрос судьи, где он живет, рыбник ответил так:
— В Рамскапеле. Оттуда я хожу в Бланкенберге, в Хейст в даже в Кнокке. Но воскресеньям и праздничным дням я делаю в этой самой вафельнице по брабантскому способу вафли и хожу по городам и селам. Вафельница у меня всегда чистая, смазанная жиром. На вафли, на эту иноземную новинку, большой спрос. Если же вы полюбопытствуете, почему никто не мог меня узнать, то я вам скажу, что я красил и лицо и волосы в рыжий цвет. Что касается волчьей шкуры, на которую вы, вопрошая, злобно указываете пальцем, то я из презрения к вам отвечу и на этот вопрос: я убил двух волков в Равесхоольском и Мальдегемском лесах. Я сшил обе шкуры, вышла одна большая, и в нее я влезал. Прятал я ее в ящике среди хейстских дюн. Там и награбленная одежда — я хотел продать ее как-нибудь при случае по выгодной цене.
— Подведите его к огню, — распорядился судья.
Палач исполнил приказание.
— А где деньги? — спросил судья.
— Этого король не узнает, — отвечал рыбник.
— Жгите его свечами, — приказал судья. — Поближе, поближе к огню!
Палач исполнил приказ, а рыбник закричал:
— Я ничего больше не скажу! Я и так много наговорил, и вы меня сожжете. Я не колдун — зачем вы подвигаете меня к огню? И так ноги у меня в ожогах, в крови! Я ничего не скажу. Зачем еще ближе? Ноги у меня все в крови, говорят вам, в крови! Эти сапоги из раскаленного железа. Деньги? Это мои единственные друзья на всем свете… Ну хорошо… Только не надо огня! Деньги у меня в погребе, в Рамскапеле, в сундуке… Не отнимайте их у меня! Помилосердствуйте и пощадите, господа судьи! Убери свечи, проклятый палач!.. А он еще сильнее стал жечь… Деньги в сундуке с двойным дном, завернуты в шерстяную ткань, чтобы не слышно было звяканья, если кто-нибудь тряхнет сундук. Ну теперь я все сказал. Отведите меня от огня!
Его отвели от огня, и он злобно усмехнулся.
Судья спросил, чему он смеется.
— От радости, что больше не жжет, — отвечал рыбник.
Судья задал ему вопрос:
— Тебя никто не просил показать твою вафельницу с зубьями?
Рыбник же ему на это ответил так:
— У других точно такие же, только в моей дырочки, куда я ввинчивал железные зубья. На рассвете я их вынимал. Крестьяне охотней покупали вафли у меня, чем у других продавцов. Они их называют waefels met brabandsche knoopen (вафли с брабантскими пуговочками): когда зубьев нет, то от пустых углублений на вафлях остаются кружочки, похожие на пуговочки.
А судья ему опять:
— Когда ты нападал на несчастные жертвы?
— И днем и ночью. Днем я со своей вафельницей обходил дюны, выходил на большие дороги и подстерегал прохожих, а уж по субботам всегда караулил, потому что в Брюгге большой базар в этот день. Если мимо меня шагал крестьянин и вид у него был мрачный, я его не трогал: коли крестьянин закручинился, значит, в кошельке у него отлив. Если же я видел веселого путника, то шел за ним по пятам, неожиданно бросался на него сзади, прокусывал затылок и отбирал кошелек. И так я грабил не только в дюнах, а и на всех дорогах и тропах.
Тут судья сказал ему:
— Кайся и молись богу.
Но рыбник стал богохульствовать:
— Таким меня господь бог сотворил. Я не по своей воле так поступал — во мне говорила природа. Тигры свирепые, вы наказываете меня несправедливо! Не сжигайте меня — я не по своей воле так поступал! Сжальтесь надо мной — я беден и стар. Я все равно умру от ран. Не сжигайте меня!
Его привели под липу возле Vierschare, чтобы при народе объявить ему приговор.
И, как страшный злодей, разбойник и богохульник, он был приговорен к просверлению языка каленым железом, к отсечению правой руки и к сожжению на медленном огне у ворот ратуши.
А Тория кричала:
— Правосудие свершилось, он заплатит за все!
А народ кричал:
— Lang leven de Heeren van de Wet! (Да здравствуют господа судьи!)
Рыбника отвели в тюрьму, и там ему дали мяса и вина. И рыбник обрадовался, — по его словам, он никогда еще так сладко не ел и не пил; король, мол, заберет себе все его достояние и потому может позволить себе роскошь в первый и последний раз угостить его на славу.
И, говоря это, рыбник горьким смехом смеялся.
Наутро его чуть свет вывели на казнь, и, увидев Уленшпигеля возле костра, он показал на него и крикнул:
— Его тоже надо казнить, как убийцу старика! Назад тому десять лет он тут, в Дамме, бросил меня в канал за то, что я донес на его отца. А донес я как верноподданный его католического величества.
С колокольни Собора богоматери плыл похоронный звон.
— Это и по тебе звон, — сказал Уленшпигелю рыбник, — тебя повесят, потому что ты убийца!
— Лжет рыбник! — кричал весь народ. — Лжет лиходей, душегуб!
А Тория, метнув в него камень и поранив ему лоб, кричала как безумная:
— Если б он тебя утопил, ты бы, кровопийца, не загрыз мою доченьку!
Уленшпигель ничего не говорил.
— Кто видел, как он бросал рыбника в воду? — спросил Ламме.
Уленшпигель молчал.
— Никто не видел! — кричал народ. — Лжет злодей!
— Нет, не лгу! — завопил рыбник. — Я его молил о прощении, а он меня все-таки швырнул, и спасся я только потому, что уцепился за шлюпку, причаленную к берегу. Я вымок, весь дрожал и еле добрался до убогого моего жилья. Я схватил горячку, ходить за мной было некому, и я чуть не умер.
— Лжешь! — сказал Ламме. — Никто этого не видел.
— Никто, никто не видел! — подхватила Тория. — В огонь его, злодея! Перед смертью ему понадобилась еще одна невинная жертва! Пусть за все заплатит! Он лжет! Если ты и швырнул его в воду, Уленшпигель, все равно не признавайся. Свидетелей нет. Пусть заплатит за все на медленном огне, под калеными щипцами!
— Ты покушался на его жизнь? — обратился к Уленшпигелю с вопросом судья.
Уленшпигель же ему ответил так:
— Я бросил в воду доносчика — убийцу Клааса. Пепел отца моего бился о мою грудь.
— Сознался! — крикнул рыбник. — Его тоже казнят! Где виселица? Я хочу посмотреть. Где палач с мечом правосудия? Это по тебе похоронный звон, оттого что ты, негодяй, покушался на жизнь старика!
На это ему Уленшпигель сказал:
— Да, я хотел тебя уничтожить и швырнуть в воду — пепел бился о мою грудь.
А женщины из толпы кричали:
— Зачем ты сознаешься, Уленшпигель? Ведь никто этого не видел! Теперь тебя тоже казнят.
А рыбник заливался злорадным смехом, подпрыгивал и шевелил связанными руками, обмотанными окровавленным тряпьем.
— Его казнят! — кричал рыбник. — Он перейдет из здешнего мира в ад с веревкой на шее, как бродяга, как вор и разбойник. Его казнят — бог его накажет.
— Нет, его не казнят, — объявил судья. — По фландрским законам убийство, совершенное десять лет тому назад, не карается. Уленшпигель учинил злое дело, но из любви к отцу. К суду его не привлекут.
— Да здравствует закон! — крикнул весь народ. — Lang leven de wet!
С колокольни Собора богоматери плыл похоронный звон. И тут осужденный заскрежетал зубами, понурил голову и уронил первую слезу.
И тогда ему отрубили правую руку, язык просверлили каленым железом, а затем он был сожжен на медленном огне у ворот ратуши.
Перед смертью он крикнул:
— Не достанутся королю мои денежки! Я солгал!.. Я еще вернусь к вам, свирепые тигры, и загрызу вас!
А Тория кричала:
— Час расплаты настал! Час расплаты настал! Корчатся его руки, корчатся его ноги, спешившие на разбой! Дымится тело душегуба! Горит белая шерсть, шерсть гиены, на его помертвелой морде! Час расплаты настал! Час расплаты настал!
И рыбник умер, воя по-волчьи.
А с колокольни Собора богоматери плыл похоронный звон.
А Ламме и Уленшпигель снова сели на своих осликов.
А Ноле осталась мучиться с Катлиной, твердившей одно и то же:
— Уберите огонь! Голова горит! Вернись ко мне, Ганс, ненаглядный!
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
В Хейсте Уленшпигель и Ламме смотрели с дюны, как одно за другим прибывали из Остенде, из Бланкенберге, из Кнокке рыбачьи суда с вооруженными людьми, а на шляпах у вооруженных людей, как у зеландских Гезов, был нашит серебряный полумесяц с надписью; «Лучше служить султану турецкому, чем папе».
Уленшпигель был весел, пел жаворонком, в ответ ему со всех сторон раздавался боевой клич петуха.
Распродав наловленную рыбу, люди выгружались в Эмдене[202]. Там все еще находился Гильом де Блуа[203] и по распоряжению принца Оранского снаряжал корабль.
Уленшпигель и Ламме прибыли в Эмден, как раз когда корабли Гезов по распоряжению Долговязого вышли в открытое море.
Долговязый сидел в Эмдене уже около трех месяцев и отчаянно скучал. Он все ходил, точно медведь на цепи, с корабля на сушу, с суши на корабль.
Бродя по набережной, Уленшпигель и Ламме повстречали некоего сеньора с добродушным лицом, от скуки выковыривавшего копьем булыжник. Хотя усилия его были по видимости тщетны, он все же не оставлял намерения довести дело до конца. А в это время сзади него собака грызла кость.
Уленшпигель подошел к собаке и сделал вид, что хочет отнять у нее кость. Собака заворчала. Уленшпигель не унялся. Собака громко залаяла.
Обернувшись на шум, сеньор спросил Уленшпигеля:
— Чего ты пристаешь к собаке?
— А чего вы, мессир, пристаете к мостовой?
— Это не одно и то же, — отвечал сеньор.
— Разница не велика, — возразил Уленшпигель. — Собака держится за кость и не отдает ее, но ведь и булыжник держится за набережную и не желает с ней расставаться. Уж если такие люди, как вы, затевают возню с мостовой, то таким людям, как мы, не грешно затеять возню с собакой.
Ламме прятался за спину Уленшпигеля и в разговор не вступал.
— Ты кто таков? — осведомился сеньор.
— Я Тиль Уленшпигель, сын Клааса, умершего на костре за веру.
И тут он запел жаворонком, а сеньор закричал петухом.
— Я адмирал Долговязый, — сказал он. — Чего тебе от меня нужно?
Уленшпигель поведал ему свои приключения и передал пятьсот каролю.
— А кто этот толстяк? — показав пальцем на Ламме, спросил Долговязый.
— Мой друг-приятель, — отвечал Уленшпигель. — Он, как и я, хочет спеть на твоем корабле мощным голосом аркебузы песнь освобождения родного края.
— Вы оба молодцы, — рассудил Долговязый. — Я возьму вас на свой корабль.
Это было в феврале: дул пронизывающий ветер, мороз крепчал. Наконец, проведя еще три недели в томительном ожидании, Долговязый, доведенный до исступления, покинул Эмден. Выйдя из Фли, он взял курс на Тессель, но затем вынужден был повернуть на Виринген, и тут его корабль затерло льдами.
Скоро глазам его представилось веселое зрелище: катанье на санках, катанье на коньках; конькобежцы-юноши были одеты в бархат; на девушках были кофты и юбки, у кого — шитые золотом, у кого — отделанные бисером, у кого — с красной, у кого — с голубой оборкой. Юноши и девушки носились взад и вперед, скользили, шутили, катались гуськом, парочками, пели про любовь, забегали выпить и закусить в украшенные флагами лавочки, где торговали водкой, апельсинами, фигами, peperkoek'ами, schol'ями[204], яйцами, вареными овощами, heetekoek'ами, то есть оладьями, и винегретом, а вокруг под полозьями санок и салазок поскрипывал лед.
Ламме в поисках жены по примеру всего этого веселого люда тоже катался на коньках, но то и дело падал.
Уленшпигель между тем захаживал утолять голод и жажду в дешевенькую таверну на набережной и там не без приятности беседовал со старой baesine.
Как-то в воскресенье около девяти часов он зашел туда пообедать.
— Однако, помолодевшая хозяйка, — сказал он смазливой бабенке, подошедшей услужить ему, — куда девались твои морщины? Зубы у тебя белые, молодые и все до одного целы, а губы красные, как вишни. А эта ласковая и лукавая улыбка предназначается мне?
— Как бы не так! — отвечала она. — Чего подать?
— Тебя, — сказал Уленшпигель.
— Пожалуй, слишком жирно будет для такого одра, как ты, — отрезала бабенка. — Не желаешь ли какого-нибудь другого мяса?
Уленшпигель молчал.
— А куда ты девал красивого парня, статного, полного, который всюду ходил с тобой? — спросила бабенка.
— Ламме? — спросил Уленшпигель.
— Куда ты его девал? — повторила она.
Уленшпигель же ей на это ответил так:
— Он ест в лавчонках крутые яйца, копченых угрей, соленую рыбу, zuurtje[205], — словом, все, что только можно разгрызть, а ходит он туда в надежде встретить жену. Ах, зачем ты не моя жена, красотка! Хочешь пятьдесят флоринов? Хочешь золотое ожерелье?
Но красотка перекрестилась.
— Меня нельзя ни купить, ни взять насильно, — сказала она.
— Ты никого не любишь? — спросил Уленшпигель.
— Я люблю тебя как своего ближнего. Но больше всего я люблю господа нашего Иисуса Христа и пресвятую деву, которые велят мне блюсти мою женскую честь. Это трудно и тяжко, но господь помогает нам, бедным женщинам. Впрочем, иные все же поддаются искушению. А что твой толстый друг-весельчак?
— Он весел, когда ест, печален, когда голоден, и вечно о чем-то мечтает, — отвечал Уленшпигель. — А у тебя какой нрав — жизнерадостный или же унылый?
— Мы, женщины, рабыни нашей госпожи, — отвечала она.
— Какой госпожи? Причуды? — спросил Уленшпигель.
— Да, — отвечала она.
— Я пришлю к тебе Ламме.
— Не надо, — сказала она. — Он будет плакать, и я тоже.
— Ты когда-нибудь видела его жену? — спросил Уленшпигель.
— Она грешила с ним, и на нее наложена суровая епитимья, — вздохнув, сказала она. — Ей известно, что он уходит в море ради того, чтобы восторжествовала ересь, — каково это ее христианской душе? Защищай его, если на него нападут; ухаживай за ним, если его ранят, — это просила тебе передать его жена.
— Ламме мне друг и брат, — молвил Уленшпигель.
— Ах! — воскликнула она. — Ну что бы вам вернуться в лоно нашей матери — святой церкви!
— Она пожирает своих детей, — сказал Уленшпигель и вышел.
Однажды, мартовским утром, когда бушевал ветер и лед сковывал реку, преграждая путь кораблю Гильома, моряки и солдаты развлекались и забавлялись катаньем на салазках и на коньках.
Уленшпигель в это время был в таверне, и смазливая бабенка, чем-то расстроенная, словно бы не в себе, неожиданно воскликнула:
— Бедный Ламме! Бедный Уленшпигель!
— Чего ты нас оплакиваешь? — спросил он.
— Беда мне с вами! — продолжала она. — Ну почему вы не веруете в таинство причащения? Тогда вы бы уж наверно попали в рай, да и в этой жизни я могла бы содействовать вашему спасению.
Видя, что она отошла к двери и насторожилась, Уленшпигель спросил:
— Ты хочешь услышать, как падает снег?
— Нет, — отвечала она.
— Ты прислушиваешься к вою ветра?
— Нет, — отвечала она.
— Слушаешь, как гуляют в соседней таверне отважные наши моряки?
— Смерть подкрадывается неслышно, как вор, — сказала она.
— Смерть? — переспросил Уленшпигель. — Я не понимаю, о чем ты говоришь. Подойди ко мне и скажи толком.
— Они там! — сказала она.
— Кто они?
— Кто они? — повторила она. — Солдаты Симонсена Роля — они кинутся на вас с именем герцога на устах. Вас кормят здесь на убой, как быков. Ах, зачем я так поздно об этом узнала! — воскликнула она и залилась слезами.
— Не плачь и не кричи, — сказал Уленшпигель. — Побудь здесь.
— Не выдай меня! — сказала она.
Уленшпигель обегал все лавочки и таверны.
— Испанцы подходят! — шептал он на ухо морякам и солдатам.
Все бросились на корабль и, в мгновенье ока изготовившись к бою, стали ждать неприятеля.
— Погляди на набережную, — обратился к Ламме Уленшпигель. — Видишь, там стоит смазливая бабенка в черном платье с красной оборкой и надвигает на лоб белый капор?
— Мне не до нее, — сказал Ламме. — Я озяб и хочу спать.
С этими словами он закутался в opperstkleed и сделался глух как стена.
Уленшпигель узнал женщину и крикнул ей с корабля:
— Поедем с нами?
— С вами я рада бы и в могилу, да нельзя… — отвечала она.
— Право, поедем! — крикнул Уленшпигель. — Впрочем, подумай хорошенько! В лесу соловей счастлив, в лесу он поет. А вылетит из лесу — морской ветер переломает ему крылышки, и он погиб.
— Я пела дома, пела бы и на воздухе, если б могла, — отвечала она и подошла поближе к кораблю. — На, возьми — это снадобье для тебя и для твоего друга, хотя он и спит, когда нужно бодрствовать. Ламме! Ламме! Да хранит тебя господь! Возвращайся цел и невредим!
И тут она открыла лицо.
— Моя жена, моя жена! — вскричал Ламме и хотел было спрыгнуть на лед.
— Твоя верная жена! — крикнула та и бросилась бежать без оглядки.
Ламме приблизился к борту, но один из солдат схватил его за opperstkleed и удержал. Ламме кричал, плакал, умолял отпустить его, но профос ему сказал:
— Если ты уйдешь с корабля, тебя повесят.
Ламме предпринял еще одну попытку спрыгнуть на лед, но один из старых Гезов предотвратил прыжок.
— На сходнях мокро — ноги промочишь, — сказал он.
Тогда Ламме сел на пол и заревел.
— Моя жена! Моя жена! Пустите меня к моей жене! — без конца повторял он.
— Ты еще увидишься с ней, — сказал Уленшпигель. — Она тебя любит, но еще больше любит бога.
— Чертова сумасбродка! — вскричал Ламме. — Если она любит бога больше, чем мужа, так зачем же она предстает предо мной столь прелестной и соблазнительной? А если она меня все-таки любит, то зачем уходит?
— Ты в глубоком колодце дно видишь? — спросил Уленшпигель.
— Я умру от горя! — по-прежнему сидя на палубе, в полном отчаянии твердил мертвенно-бледный Ламме.
Между тем приблизились солдаты Симонсена Роля с изрядным количеством артиллерийских орудий.
Они стреляли по кораблю — с корабля им отвечали. И неприятельские ядра пробили весь лед кругом. А вечером пошел теплый дождь.
Ветер дул с запада, бурлившее море приподнимало огромные льдины, и льдины становились стоймя, опускались, сталкивались, громоздились одна на другую, грозя раздавить корабль; а корабль, едва лишь утренняя заря прорезала черные тучи, развернул полотняные свои крылья и вольной птицей полетел к открытому морю.
Здесь корабль присоединился к флотилии генерал-адмирала голландского и зеландского, мессира де Люме де ла Марк[206]; на мачте его судна, как на мачте судна флагманского, виднелся фонарь.
— Посмотри на адмирала, сын мой, — обратился к Ламме Уленшпигель. — Если ты задумаешь самовольно уйти с корабля, он тебя не помилует. Слышишь, какой у него громоподобный голос? Какой он плечистый; крепкий и какого же он высокого роста! Посмотри на его длинные руки с ногтями, как когти. Обрати внимание на его холодные круглые орлиные глаза, на его длинную, клинышком; бороду, — он не будет ее подстригать до тех пор, пока не перевешает всех попов и монахов, чтобы отомстить за смерть обоих графов. Обрати внимание; какой у него свирепый и грозный вид. Если ты будешь не переставая ныть и скулить: «Жена моя! Жена моя!» — он, даром времени не теряя, тебя вздернет.
— Сын мой, — заметил Ламме, — кто грозит веревкой ближнему своему, у того уже красуется на шее пеньковый воротничок.
— Ты наденешь его первый, чего я тебе от души желаю, — сказал Уленшпигель.
— Я вижу ясно, как ты болтаешься на веревке, высунув на целую туазу свой злой язык, — отрезал Ламме.
Обоим казалось, что это милые шутки.
В тот день корабль Долговязого захватил бискайское судно, груженное ртутью, золотым песком, винами и пряностями. И из судна был извлечен экипаж и груз, подобно тому как из бычьей кости под давлением львиных зубов извлекается мозг.
Между тем герцог Альба наложил на Нидерланды непосильно тяжкие подати[207]: теперь всем нидерландцам, продававшим свое движимое или недвижимое имущество, надлежало отдавать в королевскую казну тысячу флоринов с каждых десяти тысяч. И налог этот сделался постоянным. Чем бы кто ни торговал, что бы кто ни продавал, королю поступала десятая часть выручки, и народ говорил, что если какой-нибудь товар в течение недели перепродавался десять раз, то в таких случаях вся выручка доставалась королю.
На путях торговли и промышленности стояли Разруха и Гибель.
А Гезы взяли приморскую крепость Бриль[208], и она была названа Вертоградом свободы.
2
В начале мая корабль под ясным небом гордо летел по волнам, а Уленшпигель пел:
Пепел бьется о сердце. Пришли палачи, принялись за работу. Меч, огонь и кинжал — инструменты у них. Ждет подлых доносчиков, щедрая плата. Где раньше Любовь и Вера царили, Насадили они Подозренье и Сыск. Рази палачей ненасытных! Бей в барабаны войны! Да здравствует Гез! Бей в барабан! Захвачен Бриль, А также Флиссинген, Шельды ключ; Милостив бог, Камп-Веере взят[209], Что же молчали зеландские пушки? Есть у нас пули, порох и ядра, Железные ядра, чугунные ядра. Если с нами бог, то кто же нам страшен? Бей в барабан войны и славы! Да здравствует Гез! Бей в барабан! Меч обнажен, воспарили сердца, Руки тверды, и меч обнажен. Провались, десятина, в тартарары![210] Смерть палачу, мародеру веревка. Король вероломный, восстал народ! Меч обнажен ради наших прав, Наших домов, наших жен и детей. Меч обнажен, бей в барабан! Сердца воспарили, руки тверды. К чертям десятину с позорным прощеньем. Бей в барабан войны, бей в барабан!— Да, товарищи и друзья, — сказал Уленшпигель, — они воздвигли в Антверпене, перед ратушей, великолепный эшафот, крытый алым сукном. На нем, словно король, восседает герцог в окружении прислужников своих и солдат. Он пытается благосклонно улыбнуться, но вместо улыбки у него выходит кислая мина. Бей в барабан войны!
Он дарует прощенье — внимайте! Его золоченый панцирь сверкает на солнце. Главный профос на кот, около самого балдахина. Вон глашатай с литаврщиками. Он читает. Он объявляет прощенье всем[211], кто ни в чем не повинен. Остальные будут строго наказаны.
Слушайте, товарищи: он читает указ, обязывающий всех, под страхом обвинения в мятеже, к уплате десятой и двадцатой части.
И тут Уленшпигель запел:
О герцог! Ты слышишь ли голос народа, Рокот могучий? Вздымается море, Вскипают на нем штормовые валы. Довольно поборов, довольно крови, Довольно разрухи! Бей в барабан! Меч обнажен. Бей в барабан скорби! Коготь ударил по ране кровавой. После убийства — грабеж. Ты хочешь Золото наше и кровь нашу выпить, смешав? Преданны были бы мы государю, Но клятву свою государь нарушил, И мы от присяги свободны. Бей в барабан войны! Герцог Альба, кровавый герцог, Видишь ли эти закрытые лавки? Бакалейщики, пекари, пивовары Не торгуют, чтоб не платить тебе подать. Кто привет тебе шлет, когда проезжаешь? Никто! Ты чуешь, как гнев и презренье Дыханьем чумы тебя обдают? Фландрии край прекрасный, Брабанта край веселый Печальны, словно кладбища. Где некогда, в пору свободы, Пели виолы и флейты визжали, — Ныне безмолвье и смерть. Бей в барабан войны! Вместо веселых лиц Бражников и влюбленных Видны бледные лики Ждущих смиренно, Что сразит их неправедный меч. Бей в барабан войны! Больше не слышно в тавернах Веселого звона кружек, И не поют на улицах Девичьи голоса. Брабант и Фландрия, страны веселья, Ныне вы стали странами слез. Бей в барабан скорби! Страждущая возлюбленная, родина бедная наша, Ты под пятой убийцы голову не клони. Трудолюбивые пчелы, яростным роем бросайтесь На злобных испанских шершней! Трупы зарытых женщин и девушек, Ко Христу воззывайте: «Отмсти!» Ночью в полях бродите, бедные души, К господу воззывайте! Руке ударить не терпится, Меч обнажен. Герцог, брюхо тебе мы вспорем, И кишками — нахлещем по морде! Бей в барабан. Меч обнажен. Бей в барабан. Да здравствует Гез!И все моряки и солдаты с корабля Уленшпигеля и с других кораблей подхватили:
Меч обнажен. Да здравствует Гез!И, как гром свободы, гремели их голоса.
3
Стоял январь, жестокий месяц, способный заморозить теленка в животе у коровы. Снег падал и тут же замерзал. Воробьи искали на обледенелом снегу каких-нибудь жалких крох, а мальчишки подманивали их на клей и притаскивали эту дичь домой. На светло-сером небе отчетливо вырисовывались неподвижные костяки деревьев с пуховиками снега на ветках, и такие же снежные пуховики лежали на кровлях и на оградах, а на пуховиках были видны следы кошачьих лап — кошки тоже охотились на воробьев. Тем же чудодейственным руном, охраняющим земное тепло от зимней стужи, были покрыты дальние луга. Над домами и над лачугами поднимались к нему черные столбы дыма. Ни единый звук не нарушал тишины.
А Катлина и Неле сидели дома, и Катлина, тряся головой, бормотала:
— Ганс! Сердце мое стремится к тебе. Отдай семьсот каролю. Уленшпигелю, сыну Сооткин. Если у тебя денег нет, все равно приходи ко мне — я хочу видеть светоносный твой лик. Убери огонь — голова горит. Ах, где твои снежные поцелуи? Где твое ледяное тело, милый мой Ганс?
Она стояла у окна. Вдруг мимо рысью пробежал voetlooper — гонец с бубенчикам на поясе.
— Едет наместник, наместник Дамме!
И так он, созывая бургомистров и старшин, добежал до ратуши.
Внезапно в глубокой тишине запели две трубы. Жители Дамме, вообразив, что это возвещает прибытие его королевского величества, бросились к дверям.
И Катлина с Неле вышли за порог. Они еще издали увидели отряд блестящих всадников, а впереди отряда ехал человек в opperstkleed'е из черного бархата с куньей оторочкой, в бархатном камзоле с золотым шитьем и в опойковых сапогах на куньем меху. И в этом человеке Катлина и Неле узнали наместника.
За ним ехали молодые дворяне, бархатная одежда которых, несмотря на запрет покойного императора, была отделана вышивкой, галунами, лентами, золотом, серебром и шелком. Их opperstkleed'ы были, как и у наместника, оторочены мехом. На их шляпах с золотыми пуговицами и шнурками красовались, весело колыхались и на ветру развевались большие страусовые перья.
Было видно, что все это приближенные наместника, особливо один, с недовольным выражением лица; на нем был зеленый бархатный, шитый золотом камзол, черный бархатный плащ и черная шляпа с большими перьями. А нос у него напоминал ястребиный клюв, губы у него были тонкие, волосы рыжие, лицо бледное, осанка горделивая.
Как скоро отряд поравнялся с домом Катлины, она подбежала к бледному всаднику, схватила за узду его коня и, не помня себя от радости, крикнула:
— Ганс, любимый мой, я знала, что ты вернешься! Как тебе идут бархат и золото! Ты весь сверкаешь, ровно солнце на снегу! Ты привез мне семьсот каролю? Я вновь услышу орлий твой клекот?
Наместник сделал знак отряду остановиться.
— Что от меня нужно этой нищенке? — воскликнул бледный сеньор.
Но Катлина крепко держала коня за узду.
— Не уезжай! — повторяла она. — Я так по тебе плакала! Сладкие ночи, мой милый со мной, снежные поцелуи, ледяное тело. А вот и дитя!
Тут она показала ему на Неле, а Неле смотрела на него с ненавистью, оттого что он в эту минуту занес над Катлиной хлыст. А Катлина плакала и причитала:
— Неужто ты забыл? Смилуйся над своей рабыней! Возьми меня с собой! Убери огонь, Ганс, пожалей меня!
— Прочь! — крикнул он и так пришпорил коня, что Катлина выпустила из рук узду и грянулась оземь. Конь прошелся по ней и поранил копытом ей лоб.
Тогда наместник спросил бледного сеньора:
— Вы знаете эту женщину, мессир?
— В первый раз вижу, — отвечал сеньор, — это какая-то сумасшедшая.
Но тут, подняв Катлину, заговорила Неле:
— Может, она и сумасшедшая, да я-то не сумасшедшая, монсеньер! Пусть я сейчас поем снегу и умру, — Неле взяла горсточку снега, — если этот человек не знал мою мать, если он не выманил у нее все деньги и если он не убил Клаасову собаку, чтобы вырыть из земли у колодца на нашем дворе семьсот каролю, принадлежавшие покойному.
— Ненаглядный мой Ганс, милый мой Ганс! — стоя на коленях, плакала ограбленная Катлина. — Поцелуй меня, и мы с тобой помиримся! Видишь, как у меня течет кровь? Душа пробила дыру и рвется наружу. Я сейчас умру. Не покидай меня! — Тут она понизила голос до шепота: — Ведь ты из ревности убил своего товарища возле гатей. — Она показала в сторону Дюдзееле. — Тогда ты меня любил!
Тут она обхватила руками колено всадника, потом поцеловала его сапог.
— Кто этот убитый? — спросил наместник.
— Понятия не имею, монсеньер, — отвечая всадник. — Эта тварь бог знает что городит — не стоит обращать на нее внимание. Едем!
Собрался народ. Богатые и бедные горожане, мастеровые, хлебопашцы — все вступились, за Катлину.
— Правосудия, господин наместник, правосудия! — кричали они.
А наместник обратился к Неле:
— Кто этот убитый? Говори правду, как велит господь бог.
Неле, указав на бледного всадника, начала так:
— Вот этот господин каждую субботу приходил к нам в keet — там он виделся с моей матерью и вымогал у нее деньги. Убил он своего друга Гильберта на поле Серваса ван дер Вихте, но не из ревности, как думает несчастная умалишенная, а для того, чтобы все семьсот каролю достались ему одному.
И тут Неле рассказала о сердечных делах Катлины и о том, что слышала в ту ночь Катлина, спрятавшись за гатями на поле Серваса ван дер Вихте.
— Неле злая, — твердила меж тем Катлина, — она грубо говорит со своим отцом Гансом.
— Клянусь вам, он клекотал орлом, чтобы известить ее о своем приезде, — сказала Неле.
— Лжешь! — крикнул дворянин.
— Нет, не лгу! — возразила Неле. — Сам господин наместник и все вельможи видят, что бледен ты не от холода, а от страха. Почему твое лицо уже не светится? Значит, у тебя уже нет того снадобья, которым ты мазался, чтобы лицо у тебя сверкало, как гребни волн при вспышке молнии! Все равно тебя, проклятый колдун, сожгут перед ратушей. Из-за тебя умерла Сооткин, ты разорил ее сына, сироту. Ты, видать по всему, дворянин, и ты приезжал к нам, бедным горожанам, и только раз за все время дал моей матери денег, а потом отнял у нее все до последнего гроша.
— Ганс! — говорила Катлина. — Намажь меня волшебной мазью и возьми опять на шабаш! Не слушай Неле — она злая. Ты видишь кровь? Душа пробила дыру и рвется наружу. Я сейчас умру и попаду в рай — там меня не будет жечь огонь.
— Замолчи, сумасшедшая ведьма! — крикнул всадник. — Я тебя в первый раз вижу и не понимаю, о чем ты говоришь.
— А все-таки это ты приезжал к нам с товарищем и, сватал мне его, — снова заговорила Неле. — Ты отлично помнишь, как я отбивалась. Во что превратились глаза твоего друга после того, как я в них вцепилась?
— Неле злая, — твердила Катлина. — Не верь ей, ненаглядный мой Ганс! Она до сих пор сердита на Гильберта за то, что он хотел взять ее силой, но теперь уж Гильберт ее не возьмет — его съели черви. И Гильберт был некрасив — это ты, мой ненаглядный Ганс, красавец. А Неле злая.
Тут наместник сказал:
— Женщины, идите с миром!
Но Катлина не желала уходить от своего дружка. Пришлось силком увести ее домой.
А весь народ требовал:
— Правосудия, монсеньер, правосудия!
На шум явились общинные стражники; наместник приказал им не уходить и обратился к своей свите:
— Монсеньеры и мессиры! Невзирая на все те вольности, коими пользуется во Фландрии славное сословие дворянское, я принужден задержать мессира Иооса Даммана вплоть до того дня, когда его будут судить по законам и Правилам, существующим в нашей империи, — столь тяжки выдвинутые против него обвинения, в частности — обвинение в колдовстве. Мессир Иоос, отдайте мне вашу шпагу!
— Господин наместник, — заговорил Иоос Дамман, весь вид которого выражал крайнее высокомерие и дворянскую спесь. — Задерживая меня, вы нарушаете законы Фландрии, ибо сами вы не судья. А между тем вам известно, что без постановления суда дозволено задерживать лишь фальшивомонетчиков, разбойников с большой дороги, поджигателей, насильников, воинов, бросивших своего начальника, чародеев, отравляющих источники ядом, беглых монахов и монахинь, а равно и изгнанников. На этом основании я обращаюсь к вам, мессиры и монсеньеры: защитите меня!
Некоторые из них послушались было его, но наместник сказал им:
— Монсеньеры и мессиры! Я представляю здесь короля, графа и сеньора, мне дано право в трудных случаях выносить решения, а потому я повелеваю вам и приказываю, под страхом быть обвиненными в мятеже, вложить шпаги в ножны.
Дворяне повиновались, но мессир Иоос Дамман все еще колебался.
— Правосудия, монсеньер, правосудия! — закричал народ. — Пусть отдаст шпагу!
Иоос Дамман волей-неволей покорился; он слез с коня, и два стражника отвели его в тюрьму.
В подземелье он, однако же, брошен не был; ему отвели камеру с зарешеченным окном, и за плату его там хорошо обогревали, мягко ему стелили и вкусно кормили, хотя, впрочем, половину съестного брал себе тюремщик.
4
На другой день наместник, два секретаря, двое старшин и лекарь пошли по направлению к Дюдзееле, чтобы удостовериться, не отроют ли они мертвое тело на поле Серваса ван дер Вихте возле гатей.
Неле объявила Катлине:
— Твой возлюбленный Ганс просит принести ему отрезанную руку Гильберта. Сегодня вечером он закричит орлом, войдет к нам и отдаст тебе семьсот каролю.
— Я отрежу руку, — сказала Катлина.
И точно: она взяла нож и зашагала, а за ней Неле и судейские чины.
Шла она рядом с Неле быстро и уверенно, и на свежем воздухе милое лицо Неле раскраснелось.
Судейские чины — два старых хрыча — шли и тряслись от холода, и казались они черными тенями на белой равнине. А Неле несла заступ.
Когда же они достигли поля Серваса ван дер Вихте, Катлина, ступив на гати, показала направо.
— Ганс! — молвила она. — Ты и не подозревал, что я там пряталась и вздрагивала от звона шпаг. А Гильберт кричал: «Сталь холодна!» Гильберт был страшный, а Ганс — красавец. Я тебе дам руку, не ходи за мной.
Она сошла налево, стала на колени прямо в снег и трижды испустила крик, призывая духа.
Затем Неле протянула ей заступ, Катлина трижды перекрестила его, потом начертила на льду изображение гроба и три передернутых креста, один ближе к востоку, другой — к западу, а третий — к северу.
— Три — это Марс подле Сатурна, и три — это обретение под ясной звездой Венерой, — сказала она и очертила гроб широким кругом. — Сгинь, злой дух, стерегущий тело! — Тут она молитвенно опустилась на колени: — Друг-дьявол Гильберт! Ганс, мой господин и повелитель, приказал мне прийти сюда, отрезать тебе руку и принести ему. Я не могу его ослушаться. Не обожги меня подземным огнем за то, что я нарушаю торжественный покой твоей могилы. Прости меня ради господа бога и всех святых его!
Затем она разбила лед по линии гроба, добралась сначала до влажного дерна, потом до песка, и наконец наместник, судейские, Неле и сама Катлина увидели тело человека, белое, как известка, оттого что оно лежало в песке. На нем был серого сукна камзол и такой же точно плащ; шпага лежала рядом. На поясе висела вязаная сумка; под сердцем торчал широкий кинжал. Камзол был залит кровью. Кровь просочилась и за воротник. Убитый был человек молодой.
Катлина отрезала ему руку и положила к себе в кошель. Наместник ей это позволил и приказал снять с убитого одежду и знаки достоинства. На вопрос Катлины, чье это распоряжение: Ганса или же еще чье-либо, наместник ответил, что он выполняет волю Ганса. Катлина повиновалась.
Когда с трупа сняли одежду, оказалось, что он высох, как дерево, но не сгнил. Затем его опять засыпали песком, после чего наместник и судейские удалились. Одежду несли стражники.
Как же скоро они приблизились к тюрьме, наместник сказал Катлине, что Ганс ждет ее, и она, ликуя, вошла туда.
Неле попыталась остановить ее, но Катлина несколько раз повторила:
— Я хочу к Гансу, к моему господину.
А Неле села на пороге и зарыдала — она поняла, что Катлину взяли под стражу как колдунью: за то, что Катлина творила заклинания и чертила на снегу.
И в Дамме говорили, что ее не помилуют.
И посадили Катлину в западное подземелье тюрьмы.
5
На другой день подул ветер со стороны Брабанта, снег растаял, луга залило водой.
А колокол, именуемый borgstorm, созвал судей на заседание Vierschare под навес, так как дерновые скамьи были мокры.
И народ окружил судей.
Иооса Даммана привели не связанного, в дорожаем платье. Катлину же привели в арестантском халате и со связанными руками.
На допросе Иоос Дамман признался, что заколол своего друга Гильберта шпагой на поединке. Когда же ему возразили, что в груди у Гильберта торчал кинжал, Иоос Дамман ответил:
— Я ударил его кинжалом, когда он уже упал, потому что он долго не мог умереть. Я сознаюсь в убийстве безбоязненно, памятуя о том, что по законам Фландрии убийство, совершенное назад тому десять лет, не наказуемо.
— Ты не колдун? — спросил судья.
— Нет, — отвечал Дамман.
— Докажи, — сказал судья.
— В свое время и в надлежащем месте я это докажу, а сейчас не желаю, — сказал Иоос Дамман.
Судья начал допрашивать Катлину, но она ничего не слышала — она-смотрела на Ганса и повторяла:
— Ты — изумрудный мой повелитель, прекрасный, как солнце. Убери огонь, ненаглядный!
За Катлину ответила Неле:
— Она может сознаться только в том, что вам уже известно, господа судьи. Она не колдунья, она просто сумасшедшая.
Тут заговорил судья:
— Колдун тот, кто пытается достигнуть своей цели сознательно употребляемыми дьявольскими средствами. Значит, оба они, и мужчина и женщина, колдуны как по своим умыслам, так и по своим действиям, ибо он давал снадобье для участия в шабаше и, дабы выманить деньги и утолить свою похоть, делал так, что лицо у него светилось, как у Люцифера; она же, принимая его за дьявола, покорялась ему и во всем подчинялась его воле. Он — злоумышленник, а она — явная его сообщница. Здесь не должно быть места состраданию — говорю я это к тому, что старшины и народ, сколько я понимаю, слишком снисходительно относятся к этой женщине. Правда, она не убивала, не воровала, не наводила порчи ни на людей, ни на скот, никого не лечила запрещенными средствами, применяла лишь всем известные целебные травы, врачевала честно и по-христиански. Но она хотела отдать свою дочь черту, и когда бы дочь, несмотря на свой юный возраст, открыто, смело и мужественно не воспротивилась этому, то Гильберт ею бы овладел и она стала бы такой же ведьмой, как ее мать. Приняв все сие в соображение, я обращаюсь к господам судьям с вопросом: не почитают ли они за должное подвергнуть обоих пытке?
Старшины хранили молчание, показывая этим, что Катлину они пытать не хотят.
Тогда судья заговорил снова:
— Я, как и вы, проникся к ней жалостью и состраданием, но разве эта, столь покорная дьяволу сумасшедшая ведьма, в случае если бы распутный ее сообщник от нее этого потребовал, не могла бы отрубить косарем голову родной дочери, как то по наущению дьявола учинила во Франции со своими двумя дочерьми Катерина Дарю? Разве она, если б ей так велел страшный ее муж, не поморила бы скот, не испортила бы масло на маслобойне, подбросив в него сахару? Разве она не принимала бы участие в черных мессах, в плясаниях, волхвованиях и всяких мерзостях? Разве она не могла бы есть человеческое мясо, убивать детей, печь пироги с детским мясом и продавать их, как это делал один парижский пирожник? Не могла бы отрубать у повешенных ляжки, уносить их с собой и впиваться в них зубами, тем самым учиняя гнуснейшее воровство и святотатство? Вот почему суду, по крайнему моему разумению, надлежит, дабы установить, не совершали ли Катлина и Иоос Дамман каких-либо иных преступлений, кроме уже открытых и всем известных, подвергнуть их обоих пытке. Ввиду того, что Иоос Дамман сознался только в убийстве, а Катлина тоже не все рассказала, нам по законам империи надлежит поступить именно так.
И старшины постановили пытать их в пятницу, то есть послезавтра.
А Неле кричала:
— Смилуйтесь, господа!
И народ кричал вместе с ней. Но все было напрасно.
А Катлина, не сводя глаз с Иооса Даммана, твердила:
— Рука Гильберта у меня. Приходи за ней нынче ночью, радость моя!
А затем их обоих увели в тюрьму.
В тюрьме по распоряжению суда тюремщик приставил к Катлине и к Иоосу Дамману по два сторожа, которым вменялось в обязанность бить их, чуть только они задремлют. Сторожа Катлины дали ей, однако, выспаться, а сторожа Иооса Даммана били его нещадно всякий раз, как он закрывал глаза или хотя бы опускал голову.
Всю среду и весь четверг до позднего вечера им не давали ни есть, ни пить, а вечером накормили соленым мясом с селитрой и напоили соленой водой, тоже с селитрой. Это было начало пытки. А утром, когда оба кричали от жажды, стражники отвели их в застенок.
Здесь их посадили друг против друга и привязали к скамьям, обвитым узловатыми веревками, и веревки эти причиняли им сильную боль.
И оба они должны были выпить стакан соленой соды с селитрой.
Иоос Дамман сидя задремал — стражники принялись колотить его.
Тут Катлина взмолилась:
— Не бейте его, господа, вы сломаете его бедные кости! Он повинен только в одном преступлении: он из ревности убил Гильберта. Я пить хочу! И ты тоже хочешь пить, милый мой Ганс. Напоите его первого! Воды! Воды! У меня все тело горит. Пощадите его! Лучше меня убейте! Пить!
— Ведьма проклятая! — крикнул ей Иоос. — Чтоб ты сдохла, сука, чтоб ты околела! Бросьте ее в огонь, господа судьи! Воды!
Писцы записывали каждое его слово.
Судья обратился к нему с вопросом:
— Так тебе не в чем сознаться?
— Мне больше нечего прибавить, вы все знаете; — отвечал Дамман.
— Коль скоро он все еще запирается, — объявил судья, — мы его продержим на этой скамье, связанного веревками, до тех пор, пока он не сознается решительно во всем, и просидит он тут без воды и без сна.
— И просижу, — сказал Иоос Дамман, — и буду с наслаждением смотреть на мучения этой ведьмы. Как тебе нравится это брачное ложе, моя любезная?
А Катлина простонала ему в ответ:
— Руки у тебя холодные, а сердце горячее, милый мой Ганс. Я пить хочу! Голова горит!
— А тебе, женщина, не в чем больше сознаться? — спросил судья.
— Я слышу скрип колесницы смерти и сухой стук костей, — отвечала она. — Пить хочу! И везет меня колесница по широкой реке, а в реке вода, холодная прозрачная вода. Нет, это не вода — это огонь. Ганс, дружочек, развяжи веревки! Да, я в чистилище. Я смотрю на небо и вижу в раю господа Иисуса и милосердную матерь божью. Царица моя всеблагая, подай мне капельку воды! Брось мне хоть один из этих чудных плодов!
— Эта женщина не в своем уме, — сказал один из старшин. — Ее должно освободить от пытки.
— Она такая же безумная, как я, — все это одно притворство и ломанье, — вмешался Иоос Дамман и с угрозой в голосе обратился к ней: — Как бы искусно ты ни прикидывалась сумасшедшей, а все-таки тебя на моих глазах сожгут на костре.
Тут он заскрежетал зубами и посмеялся злостной своей выдумке.
— Пить! — молила Катлина. — Сжальтесь надо мной, дайте мне напиться! Ганс, милый, дай мне попить! Какое у тебя белое лицо! Позвольте мне подойти к нему, господа судьи! — И тут она дурным голосом закричала: — Да, да, теперь они зажгли огонь у меня в груди, а бесы привязали меня к этому адскому ложу! Ганс, возьми меч и поруби их — ведь ты такой сильный! Воды! Пить! Пить!
— Хоть бы ты скорей издохла, ведьма! — крикнул Иоос Дамман. — Засуньте ей кляп в глотку! Она мужичка, она не смеет так говорить с дворянином.
Тут один из старшин, враг дворянства, заметил:
— Господин судья! Законы и обычаи империи не дозволяют совать на допросах кляп в глотку: ведь допрашивают людей для того, чтобы они говорили всю правду и чтобы мы могли судить их на основании их показаний. Засовывать в глотку кляп дозволяется лишь в том случае, когда обвиняемый, будучи уже осужден, взывает на эшафоте к толпе, дабы разжалобить ее и вызвать народные волнения.
— Пить хочу! — твердила Катлина. — Дай мне попить, ненаглядный мой Ганс!
— Что, не сладко тебе, ведьма проклятая? — вскричал тот. — Из-за тебя я переношу все эти мучения. Погоди, то ли еще будет: в застенке тебя свечами станут жечь, на дыбу вздернут, клинья вгонят под ногти. Посадят голую верхом на гроб, на острую, как лезвие, крышку, и тогда ты признаешься, что ты не сумасшедшая, что ты злая ведьма, что тебя подучил сатана строить козни благородным людям. Пить!
— Милый мой Ганс! — говорила Катлина. — Не гневайся на рабу свою. Ради тебя, мой повелитель, я терплю такие муки. Смилуйтесь над ним; господа судьи, дайте ему полную кружку, а с меня довольно одной капельки. Ганс, не пора ли клекотать орлу?
Тут судья обратился с вопросом к Иоосу Дамману:
— Из-за чего у вас вышла драка и за что ты убил Гильберта?
— Мы оба влюбились в одну девчонку из Хейста, оттого и драка у нас вышла, — отвечал Иоос.
— В девчонку из Хейста? — порываясь встать, вскричала Катлина. — Так ты мне изменял с другой, подлый обманщик? А ты знаешь, что я сидела по ту сторону гатей и слышала, как ты говорил, что хочешь взять себе все деньги Клааса? Стало быть, они нужны были тебе, чтобы пить с ней да гулять? А я, несчастная, отдала бы ему свою кровь, если б он мог превратить ее в золото! А ты — все для другой! Будь же ты проклят!
Тут она вдруг разрыдалась, задвигалась на скамье и заговорила снова:
— Нет, нет, Ганс, скажи, что ты опять полюбишь бедную свою рабыню, и я землю стану рыть ногтями и откопаю для тебя клад. Я знаю, где зарыт клад. Я пойду туда с веточкой орешника, а ветка орешника наклоняется в том месте, где есть металл. Я найду клад и принесу тебе. Поцелуй меня, мой ненаглядный, и ты будешь богат! Каждый день мы будем с тобой есть мясо, пить пиво, холодное, пенистое пиво. Ах, государи мои, дайте мне капельку воды, я вся горю! Ганс, я знаю, где растет орешник, только надо подождать весны.
— Замолчи, ведьма, я тебя в первый раз вижу! — крикнул Иоос Дамман. — Ты приняла меня за Гильберта, — это он приходил к тебе, а ты от своей подлости называла его Гансом. Да будет тебе известно, что меня зовут не Гансом, а Иоосом. Мы с Гильбертом были одного роста. Я же тебя не знаю. Семьсот каролю украл, разумеется, Гильберт. Пить! Дайте мне стаканчик водички — мой отец заплатит вам сто флоринов. Я не знаю, кто эта женщина.
— Господин судья, господа старшины! — воскликнула Катлина. — Он говорит, что не знает, кто я, ну, а я хорошо знаю, кто он. Я даже знаю, что на спине у него коричневая родинка с волосками, большая — не меньше боба. А, так ты путался с девкой из Хейста? Разве тот, кто любит взаправду, стыдится своей милой? Разве я уже не хороша собой, Ганс?
— Хороша! — возмутился тот. — У тебя лицо похоже на сушеный кизиль, а тело — на вязанку хвороста. Дворянин найдет себе получше любовницу — очень ему нужна такая рвань. Пить!
— Ты со мной не так говорил, Ганс, ласковый мой повелитель, когда я была на шестнадцать лет моложе, — сказала Катлина и ударила себя по голове и груди. — Вот здесь у меня огонь — это он сушит мне и лицо и сердце. Не кори меня! Помнишь, как мы с тобой ели соленое — чтобы, как ты говорил, побольше выпить? Теперь соль у нас внутри, а господин судья пьет бургонское. Мы не хотим вина — дайте нам воды! По лугу течет ручеек, прозрачный ключ. Вода в нем хорошая, холодная. Нет, нет, она жжет! Это адская вода. — Катлина заплакала. — Я никому зла не делала, а меня все бросают в огонь! Пить! Бродячим собакам — и тем дают воды, а я христианка. Дайте же мне воды! Я никому зла не делала. Пить!
Тут вмешался один из старшин:
— Эта ведьма выказывает безумие, только когда толкует об огне, который будто бы жжет ей голову, а во всем остальном она обнаруживает светлый ум. Только человек здравомыслящий мог оказать нам такую помощь в нахождении останков убитого. Если на теле у Иооса Даммана есть родинка с волосками, — значит, перед нами точно тот самый черт по имени Ганс, который свел с ума Катлину. Палач, покажи нам пятно!
Палач оголил Иоосу Дамману шею и спину, и все увидели коричневую родинку с волосками.
— Ах, какая у тебя белая кожа! — воскликнула Катлина. — Плечи совсем как у девушки. Ганс, милый, до чего же ты красив! Пить!
Палач воткнул в родинку длинную иглу. Кровь, однако ж, не выступила.
И тут старшины заговорили между собой:
— Это черт. Он убил Иооса Даммана и принял его обличье, — так ему легче дурачить бедных людей.
На судью и на старшин напал страх.
— Это черт, у него тело заколдовано.
А Иоос Дамман сказал:
— Да вы же сами отлично знаете, что колдовство тут ни при чем: бывают такие наросты на теле — их колешь, а кровь не течет. Если Гильберт в самом деле взял деньги у этой ведьмы, — а она точно ведьма, коль скоро признается, что спала с чертом, — значит, на то была добрая воля этой мужички: она платила дворянину за его ласки. Так сплошь да рядом поступают распутные девки. Разве мало на свете таких же распутных молодых людей, которым женщины платят за их силу и красоту?
Старшины между тем переговаривались:
— Какая дьявольская самоуверенность! Из его родинки кровь не выступила. Он — убийца, черт, колдун, а хочет сойти всего лишь за дуэлиста, свалив другие преступления на своего друга, такого же черта, как и он сам, но хоть он его и убил, а душу-то убить не смог… Обратите внимание, какое у него белое лицо. Так выглядят все черти: в аду они багровы, на земле бледны — ведь у них нет огня жизни, от которого на лице играет краска, внутри у них пепел. Его надо снова ввергнуть в огонь — тогда он побагровеет и сгорит.
Но тут опять заговорила Катлина:
— Да, да, он черт, но только добрый черт, ласковый черт. И апостол Иаков, его покровитель, дозволил ему уйти из ада. Апостол каждодневно молит за него господа Иисуса. В чистилище ему положено быть всего лишь семь тысяч лет — так судила божья матерь, а сатана воспротивился. Но только божья матерь настоит на своем. Неужто вы пойдете ей наперекор? Посмотрите на него хорошенько: дьявольского в нем только его холодное тело да лик, сверкающий, как гребни волн морских в летнюю грозу.
— Замолчи, ведьма, я из-за тебя на костер попаду! — прикрикнул на нее Иоос Дамман и обратился к судье и старшинам: — Посмотрите на меня! Ну какой я черт? Мое тело состоит из мяса, костей, крови и воды. Я пью, ем, перевариваю и извергаю, как вы. Кожа у меня такая же, как у вас, и ноги такие же точно. Палач, сними с меня сапоги, я не могу пошевелить связанными ногами!
Палач с некоторым страхом исполнил его просьбу.
— Смотрите! — показывая свои белые ноги, снова заговорил Иоос. — Похожи они на копыта, как у чертей? Ну, а касательно бледности, то разве среди вас не найдется таких же бледных, как я? Я уже вижу трех. Я ни в чем не виноват, виновата мерзкая эта ведьма и ее дочка, подлая доносчица. Откуда у этой ведьмы деньги, которые она дала Гильберту, откуда у нее червонцы? Не сам ли дьявол платил ей за то, что она клеветала на людей благородных и невинных и обрекала их на смерть? Это у них обеих надо спросить, кто удавил во дворе собаку, кто вырыл клад — вырыл, уж верно, для того, чтобы зарыть где-нибудь в другом месте. Вдова Сооткин никакой тайны мне не доверила, она меня и не знала, а им доверила, она с ними виделась каждый день. Они и похитили деньги, принадлежащие императору.
Секретарь записал его показание, а судья обратился к Катлине:
— Женщина у что ты можешь сказать в свое оправдание?
Катлина взглянула на Иооса Даммана и ласково заговорила?
— Пора клекотать орлу. Ганс, милый, рука Гильберта у меня. Они говорят, что ты мне отдашь семьсот каролю. Уберите огонь! Уберите огонь! — вдруг закричала она. — Пить! Пить! Голова горит. Бог и ангелы его едят в раю яблочки.
И тут она потеряла сознание.
— Развяжите ее, — сказал судья.
Палач и его подручные исполнили это распоряжение. Ноги у Катлины распухли, оттого что палач слишком сильно стянул их; стоять она не могла.
— Дайте ей напиться, — сказал судья.
Ей дали холодной воды; она глотала ее с жадностью, вгрызаясь зубами в кружку, точно собака в кость, и долго не могла оторваться. Затем ей дали еще воды, и она хотела было напоить Иооса Даммана, но палач вырвал у нее кружку. Катлина упала и мгновенно заснула мертвым сном.
Иоос Дамман пришел в ярость.
— Я тоже хочу пить и спать! — заорал он. — Почему вы даете ей пить? Почему вы ей позволяете спать?
— Она слаба, она женщина, она невменяема, — отвечал судья.
— Ее невменяемость — это одно притворство, — возразил Иоос Дамман. — Она — ведьма. Я хочу пить, я хочу спать!
Он закрыл глаза, но подручные палача стали бить его по лицу.
— Дайте мне нож! — крикнул он. — Я искрошу все это мужичье. Я — дворянин, меня никто никогда не бил по лицу. Воды! Дайте мне поспать! Я ни в чем не виноват. Я не брал семисот каролю, — это Гильберт. Пить! Я не занимался ни ворожбой, ни чародейством. Я ни в чем не виноват. Отпустите меня! Пить!
Но тут судья задал ему вопрос:
— А что ты делал после того, как расстался с Катлиной?
— Не знаю я никакой Катлины и не расставался с ней, — объявил он. — Вы спрашиваете меня о вещах, к делу не идущих. Я не обязан отвечать на такие вопросы. Пить! Дайте мне поспать! Я же вам сказал, что все это Гильберт.
— Развяжите его, — сказал судья. — Отведите в тюрьму. Но не давайте ни пить, ни спать, пока он не признается в ворожбе и в чародействе.
И то была для Даммана нестерпимая пытка. Он так громко кричал в тюрьме: «Пить! Пить!», что народ слышал эти вопли, но жалости к нему не испытывал. Когда же он засыпал, тюремщики били его по лицу, а он приходил в исступление и кричал:
— Я — дворянин, я вас всех перебью, мужичье! Я до самого государя дойду! Пить!
Но сознаться он так и не сознался.
6
Был май, липа правосудия стояла зеленая, и зелеными были дерновые скамьи, на которых сидели судьи. Ноле позвали как свидетельницу. В этот день ожидали вынесения приговора.
А вокруг толпился народ — мужчины, женщины, мещане, мастеровые. И сияло яркое солнце.
Привели на суд Катлину и Иооса Даммана. Дамман, казалось, еще побледнел после пытки жаждой и после стольких бессонных ночей.
У Катлины подгибались колени; она показывала на солнце, говорила:
— Уберите огонь, голова горит!
И устремляла взгляд, полный нежной любви, на Иооса Даммана.
А тот смотрел на нее с ненавистью и презрением.
А его друзей-дворян вызвали в Дамме на суд как свидетелей, и они все здесь присутствовали.
Судья начал так:
— Девушка Неле, с такой необыкновенной отвагой и горячностью защищающая свою мать Катлину, обнаружила в зашитом кармане материнского праздничного платья письмо за подписью Иооса Даммана. Среди вещей убитого Гильберта Рейвиша я обнаружил сумку, а в ней другое письмо, которое ему написал подсудимый Иоос Дамман. Я сохранил оба письма, дабы в случае надобности, — а сейчас как раз такой случай, — предъявить их суду, вы же получите по этим письмам представление об упорстве этого человека, а затем, на основании действующих законов, оправдаете его или же признаете виновным. Вот пергамент, обнаруженный в сумке. Я до него не дотрагивался и не знаю, поддается он прочтению или же не поддается.
Старшины пришли в крайнее замешательство.
Судья попытался развернуть скомканный пергамент, но это ему не удалось, и Иоос Дамман засмеялся.
Один из старшин сказал:
— Давайте положим комок в воду, а потом нагреем на огне. Ежели пергамент слипся от какого-нибудь неведомого состава, то огонь и вода все равно откроют нам тайну.
Принесли воды. Палач развел большой костер. Меж зеленых ветвей липы правосудия к ясному небу поднимался сизый дым.
— Не кладите письмо в таз, — сказал другой старшина, — ежели оно написано разведенным в воде нашатырем, то буквы расплывутся.
— Нет, — возразил лекарь, — буквы не расплывутся. Вода только растворит волшебное клейкое вещество, коим смазан этот пергамент.
Пергамент опустили в воду. Он размяк, и тогда его развернули.
— Теперь подержите его над огнем, — сказала Неле. — Убийца побледнел, ноги у него дрожат, значит, господин лекарь на пути к истине.
Но тут к Неле обратился мессир Иоос Дамман:
— Ничуть я не побледнел и не дрожу, мужицкое ты отродье, змееныш, жаждущий крови дворянина! Но только ничего у тебя не выйдет. Пергамент пролежал шестнадцать лет в земле и, уж верно, сгнил.
— Пергамент не сгнил, — возразил старшина. — Сумка на шелковой подкладке, а шелк в земле не тлеет, так что черви не тронули пергамента.
Пергамент подержали над огнем.
— Господин судья, господин судья! — вскричала Неле. — Глядите: на огне проступили чернила. Прикажите прочитать, что там написано!
Мессир Иоос Дамман протянул было руку, чтобы вырвать у лекаря пергамент, однако Неле с быстротою ветра кинулась к нему и отвела его руку.
— Ты не притронешься к пергаменту, — сказала она. — На нем начертана твоя смерть или же смерть Катлины. Сейчас твое сердце истекает кровью, убийца, а наши сердца целых пятнадцать лет истекают кровью. Вот уж пятнадцать лет страдает Катлина. Вот уж пятнадцать лет пылает из-за тебя мозг у нее в голове. Вот уж пятнадцать лет, как умерла после пытки Сооткин. Вот уж пятнадцать лет, как мы бедствуем, пятнадцать лет мы ходим, как нищие, и гордо несем бремя нужды. Прочтите письмо! Судьи творят на земле волю божью, ибо они — сама справедливость. Прочтите письмо!
— Прочтите письмо! — со слезами в голосе подхватили мужчины и женщины. — Молодец Неле! Прочтите письмо! Катлина не ведьма!
И тогда секретарь прочел:
«Дворянину Гильберту, сыну Виллема Рейвиша, дворянин Иоос Дамман шлет свой привет.
Любезный друг! Не играй ни в карты, ни в кости — не трать деньги зря. Я тебя научу, как можно выиграть наверняка. Давай с тобой превратимся в бесов, красавцев бесов, покорителей женских и девичьих сердец. Будем обольщать красивых и богатых, безобразных же и нищих оставим в покое — пусть богатые платят за удовольствие. В Германии этот промысел дал мне в полгода пять тысяч rixdaelder'ов. Женщины последнюю рубашку способны отдать любимому человеку. Избегай скупердяек с поджатыми губами — эти платить не торопятся. Чтобы сойти за настоящего беса, злого духа, ты, сговорившись с бабой провести у нее ночь, возвещай о своем прибытии особым криком, похожим на крик ночной птицы. А чтобы придать себе устрашающее дьявольское обличье, натирай себе лицо фосфором — влажный фосфор светится. Пахнет он дурно, но они подумают, что так именно пахнет в аду. Убивай всех, кто станет тебе поперек дороги, будь то мужчина, женщина или животное.
Скоро мы с тобой навестим Катлину, красивую добрую бабу. Если только Катлина была мне верна, то ее дочка Неле — от меня; девчонка миловидна и приветлива. Ты овладеешь ею без хлопот. Дарю ее тебе — мне эти приблудные детки, о которых никогда нельзя сказать наверное, твои они или не твои, ровно ни на что не нужны. У ее матери я уже выудил двадцать три с лишним каролю — все ее достояние, но у нее хранятся деньги, если не ошибаюсь, еретика Клааса, сожженного на костре в Дамме: семьсот каролю, подлежащие конфискации. Добрый король Филипп, который сжег столько своих подданных, для того чтобы унаследовать их достояние, на сей раз не сумел наложить лапу на денежки, до которых он такой охотник. Впрочем, у меня в кошельке они будут весить больше, нежели у него в казне. Катлина мне скажет, где зарыт клад. Мы с тобой разделим его. Львиную долю я, однако ж, возьму себе — ведь открыл местонахождение червонцев я.
А тех женщин, которые будут нам верными служанками и покорными рабынями, мы возьмем с собой в Германию. Там мы их научим, как превращаться в дьяволиц и чертовок и влюблять в себя богатых горожан и дворян. За их любовь им будут платить полновесными rixdaelder'ами, бархатом, шелком, золотом, жемчугом и разными драгоценностями — на это мы с ними будем жить. Так мы, не прилагая усилий, скоро разбогатеем и за спиной у дьяволиц и чертовок будем развлекаться с красотками, которых мы, однако, тоже заставим платить за любовь. Все женщины глупеют и шалеют в присутствии мужчины, сумевшего разжечь огонь любви, который вложил им внутрь господь бог. Катлина и Неле еще глупее других: поверив, что мы и правда бесы, они будут слушаться нас беспрекословно. Можешь называться своим собственным именем, только ни под каким видом не открывай имени твоего отца — Рейвиш. Если бабы угодят под суд, мы мигом скроемся, и бабы так никогда и не узнают, кто мы, и не смогут на нас донести.
Ну, желаю тебе успеха, мой драгоценный! Судьба к молодым людям благосклонна, как говаривал его святейшее величество в бозе почивший император Карл Пятый, вельми искушенный как в военной, так равно и в любовной науке».
Кончив читать, секретарь сказал:
— Вот и все. А подписано письмо: «Дворянин Иоос Дамман».
И тут народ закричал:
— Смерть убийце! Смерть колдуну! В огонь соблазнителя! На виселицу разбойника!
— Тише, добрые люди! Дайте нам спокойно разобрать его дело, — сказал судья и обратился к старшинам: — Я хочу прочитать вам другое письмо, которое Неле обнаружила в зашитом кармане праздничного платья, Катлины. Письмо это следующего содержания:
«Прелестная ведьмочка! Вот рецепт снадобья, присланный мне самой супругой Люцифера. Благодаря этому снадобью ты сможешь взлететь на солнце, на луну, на звезды, побеседовать с духами стихий, возносящими к богу молитвы людей, пронестись над всеми городами, селами, реками и лугами. Смешай равные доли stramonium'а[212], solanum somniferum'а[213], белены, опия, только что сорванные головки конопли и белладонну.
Если хочешь, мы с тобой нынче же вечером отправимся на шабаш духов, только люби меня крепче и не будь такой скрягой, как прошлый раз, когда ты мне объявила, что у тебя нет десяти флоринов. Я знаю, что ты хранишь клад и не желаешь мне его открыть. Неужто ты меня разлюбила, моя зазноба?
Твой холодный бес Ганс».
— Смерть колдуну! — кричал народ.
— Надобно сличить почерки, — заметил судья.
Оказалось, что почерк один и тот же.
Тогда судья обратился к присутствовавшим на суде дворянам:
— Подтверждаете ли вы, что это точно мессир Иоос Дамман, сын старшины города Кейре, что под Гентом?
— Подтверждаем, — объявили дворяне.
— А знали ли вы, — продолжал судья, — мессира Гильберта, сына дворянина Виллема Рейвиша?
На это ему один из дворян по имени ван дер Зикелен ответил так:
— Я из Гента. Мой steen[214] находится на площади Михаила Архангела. Я знаю дворянина Виллема Рейвиша, старшину Кейре, что под Гентом. Назад тому пятнадцать лет у него пропал двадцатитрехлетний сын, кутила, игрок, шалопай. Все это ему прощалось по молодости лет. С тех пор о нем ни слуху ни духу. Прошу показать мне шпагу, кинжал и сумку покойного.
Осмотрев их, он сказал:
— На рукоятях шпаги и кинжала герб Рейвишей: три серебряные рыбы на голубом поле. Тот же самый герб воспроизведен на золотом замочке сумки. А это что за кинжал?
— Этот кинжал был найден вонзенным в тело Гильберта Рейвиша, сына Виллема, — отвечал судья.
— Я вижу на нем герб Дамманов: зубчатая башня на серебряном поле, — сказал дворянин. — И в том да будут мне свидетелями сам господь бог и все святые его!
Другие дворяне не разошлись с ним в показаниях:
— Мы подтверждаем, что это гербы Рейвишей и Дамманов. И в том да будут нам свидетелями господь бог и все святые его!
Тогда судья сказал:
— Из свидетельских показаний, а равно и из бумаг, оглашенных на суде старшин, явствует, что мессир Иоос Дамман — колдун, убийца, соблазнитель и похититель королевского имущества и, как таковой, повинен в оскорблении величия божеского и человеческого.
— Говорить вы можете все, что угодно, господин судья, — начал Иоос, — но осудить меня за неимением непреложных доказательств вам не удастся. Я не колдун и никогда таковым не был. Бесом я только прикидывался. Что касается моего светящегося лица, то секрет его вам известен; в состав же снадобья, за исключением белены; растения ядовитого, входят средства только снотворные. Когда эта женщина, действительно — ведьма, его принимала, она мгновенно погружалась в сон, и снилось ей, будто она летит на шабаш, будто она водит там хоровод, спиной к центру круга, и поклоняется дьяволу, стоящему в обличье козла на престоле. Еще ей снилось, будто по окончании хоровода она подходила к дьяволу и, как все колдуньи, целовала его под хвост, а затем предавалась со мной противоестественным ласкам, тешившим извращенное ее воображение. Она утверждает, что руки у меня были ледяные, а тело прохладное; но это от молодости, колдовство тут ни при чем. Любовные игры быстро согревают. Катлина, однако ж, невесть что выдумала да сама же в это и поверила и упорно принимала меня за беса, хотя я самый настоящий человек, с кровью в жилах, такой, каким вы меня сейчас видите. Виновен не я, а только она: она принимала меня за беса и все-таки делила со мною ложе, а это значит грешить и помышлением и делом богу и духу святому. Следственно, это она, а не я, повинна в преступлении, которое именуется колдовством, и ее надлежит сжечь на костре, как заправскую хитрую ведьму, прикинувшуюся сумасшедшей, чтобы скрыть свои темные дела.
Но тут вмешалась Неле.
— Что вы слушаете убийцу? — воскликнула она. — Он, как продажная девка с кружком на рукаве, превратил любовь в ремесло и в товар. Что вы его слушаете? Чтобы спастись самому, он хочет послать на костер женщину, которая все ему отдала.
— Неле злая, — сказала Катлина. — Не слушай ее, милый Ганс!
— Нет, нет, — продолжала Неле, — ты не человек — ты трусливый и злобный бес. — Обняв Катлину, она обратилась к судьям: — Господа судьи, не слушайте бледнолицего этого злодея! У него одно желание — чтобы сожгли мою мать, а она виновна лишь в том, что господь посетил ее безумием и она верит всему, что ей чудится. Она много страдала — и телом и душой. Не казните же ее, господа судьи! Дайте ей, ни в чем не повинной, спокойно дожить ее нелегкую жизнь!..
А Катлина все твердила:
— Неле злая! Не верь ей, Ганс, мой повелитель!
В толпе плакали женщины, а мужчины говорили:
— Помилуйте Катлину!
Иооса Даммана вновь подвергли пытке, он сознался наконец во всем, и суд вынес ему приговор. Он был приговорен к лишению всех прав состояния и к сожжению на медленном огне, и муку эту он претерпел на другой день перед ратушей. И пока не испустил дух, он все твердил: «Казните ведьму! Это она во всем виновата! Будь проклят бог! Мой отец перебьет всех судей!»
А народ говорил:
— Слышите, как он кощунствует и богохульствует? Собаке собачья смерть.
Еще через день судьи вынесли приговор Катлине. Ее решили подвергнуть испытанию водой в Брюггском канале. Если она выплывет — значит, она ведьма и ее сожгут. Если же она пойдет ко дну и утонет — значит, она христианка, и тело ее будет погребено в церковной ограде.
Еще через день Катлину со свечой в руках, босую, в черной холщовой рубахе, торжественно повели под деревьями к каналу. Впереди с пением заупокойных молитв шли настоятель Собора богоматери, викарии и церковный сторож, которому было поручено нести крест, а сзади — судьи, старшины, писцы, общинные стражники, профос, палач и двое подручных. На этом и на том берегу канала собралось много народа; женщины плакали, мужчины роптали, и все жалели Катлину, а Катлина шла покорно, как ягненок, который не понимает, куда его ведут; и все повторяла:
— Уберите огонь, голова горит! Ганс, где ты?
Неле, стоя в толпе женщин, кричала:
— Бросьте и меня в воду!
Женщины, однако, не пускали ее к Катлине.
С моря дул резкий ветер. С пасмурного неба падал в воду мелкий град. К берегу была причалена лодка — палач и его прислужники именем короля заняли ее. Они приказали Катлине прыгнуть туда. И на глазах у всего народа палач, стоявший в лодке и державший Катлину, по знаку профоса; который взмахнул жезлом правосудия, столкнул Катлину в воду. Катлина попыталась вынырнуть; но не смогла и, крикнув: «Ганс! Ганс! Спаси меня!» — пошла ко дну.
И народ сказал:
— Эта женщина не ведьма.
Несколько человек бросились в воду и вытащили Катлину — она была без чувств и вся закоченела, как мертвец. Ее отнесли в таверну и положили около жарко пылавшего очага. Неле сняла с Катлины мокрую одежду и надела сухую. Катлина пришла в себя и, дрожа всем телом и стуча зубами, сказала:
— Ганс, дай мне шерстяную накидку!
И согреться она уже не согрелась. И на третий день умерла. И похоронили ее в церковной ограде.
А Неле, осиротев, перебралась в Голландию к Розе ван Аувегем.
7
Тиль Клаас Уленшпигель ходил на зеландских шхунах, на буерах и корветах.
По свободному морю движутся славные флиботы, и на каждом из них — восемь, десять, а то и двадцать чугунных пушек, несущих смерть и гибель злодеям-испанцам.
Тиль Уленшпигель, сын Клааса, стал искусным канониром. Надо видеть, как он наводит, как целится, как пробивает суда палачей, точно они из коровьего масла.
На шляпе у него серебряный полумесяц с надписью: Liever den Turc als den Paus. (Лучше служить турецкому султану, нежели папе.)
Моряки, глядя, как он, ловкий, словно кошка, быстрый, словно белка, взбегает с песней или же с прибауточкой на корабль, в изумлении спрашивают его:
— Отчего это ты, паренек, такой молодой? Ведь говорят, много лет прошло с тех пор, как ты родился в Дамме[215].
— У меня нет тела, у меня есть только дух, — отвечает он, — а моя подруга Неле похожа на меня. Дух Фландрии, Любовь Фландрии — мы никогда не умрем.
— А все-таки, когда ты бываешь ранен, кровь у тебя идет, — возражают моряки.
— Это одна видимость, — говорит Уленшпигель. — Из меня течет вино, а не кровь.
— Вот мы проткнем тебе пузо вертелом!
— Ну что ж, я опорожнюсь, только и всего, — говорит Уленшпигель.
— Зубоскал!
— Смеются удачливые, — бросает Уленшпигель.
А на мачтах развеваются вышитые хоругви католических церквей, и, одетые в бархат, в парчу, в шелк, в золотом и серебряном облачении, какое бывает на аббатах во время торжественных богослужений, в митрах и с посохами, попивая монастырское вино, стоят на вахте Гезы.
И как тут не подивиться, когда из богатых одежд высовывается грубая рука, привыкшая сжимать аркебузу или же арбалет, пику или же алебарду, и как тут не подивиться на всех этих людей с суровыми лицами, увешанных сверкающими на солнце пистолетами и ножами, пьющих из золотых чаш аббатское вино, которое ныне стало вином свободы!
И они пели, и они восклицали: «Да здравствует Гез», — и так они носились по океану и Шельде.
8
Гезы, среди которых находились Ламме и Уленшпигель, взяли Хоркум[216]. Командовал же ими военачальник Марин. Этот самый Марин, бывший плотинщик, отличался крайним высокомерием и самодовольством. Он подписал с защитником Хоркума Гаспаром Турком капитуляцию, дававшую право самому Гаспару Турку, монахам, горожанам и солдатам, засевшим в крепости, беспрепятственно выйти с мушкетом на плече, с пулей во рту и со всем, что можно унести на себе, за исключением церковного имущества, которое должно было отойти к осаждавшим.
Однако ж, по приказу мессира де Люме, военачальник Марин солдат и горожан выпустил, а девятнадцать монахов задержал.
— Слово солдата — закон, — сказал Уленшпигель. — Почему он не держит своего слова?
На это ему один старый Гез ответил так:
— Монахи — исчадья ада, проказа, губящая народ, позор для страны. С тех пор как сюда прибыл герцог Альба, они стали задирать нос в Хоркуме. Особливо один из них, иеромонах Николай, — спесивей павлина и кровожаднее тигра. Проходя по улице со святыми дарами, с облатками, которые изготовлялись на собачьем сале, он окидывал злобным взглядом те дома, откуда женщины не выходили преклонить колена, и потом доносил судье на всех, кто не склонялся перед идолом, сделанным из глины и золоченой меди. Другие монахи брали с него пример. Вот отчего в Хоркуме пылало столько костров, творились такие ужасы, чинились такие жестокие расправы. Военачальник Марин хорошо сделал, что взял в плен монахов, а то бы они объединились с другими чернецами и пошли бы по деревням и селам, по городкам и городам, стали бы натравливать на нас народ и наущать сжигать несчастных реформатов. Псов держат на цепи, пока не издохнут. На цепь монахов, на цепь bloedhond'ов, кровавых псов герцога, в клетку палачей! Да здравствует Гез!
— Да, но друг свободы принц Оранский требует, чтобы всем, кто сдается, была обеспечена неприкосновенность имущества и свобода совести, — возразил Уленшпигель.
На это ему старые Гезы сказали:
— Адмирал монахам этого не предоставляет, а он сам себе господин, он взял Бриль. В клетку монахов!
— Слово солдата — закон. Почему он его не держит? — стоял на своем Уленшпигель. — Над монахами издеваются в тюрьмах.
— Видно, пепел уже не бьется о твою грудь, — заметили Гезы. — Сто тысяч семейств из-за королевских указов вынуждены были переселиться на северо-запад, в Англию, и вместе с ними ушли из нашего края ремесла, промышленность, наша страна обеднела, а ты жалеешь тех, кто вызвал разруху! При императоре Карле Пятом, Палаче Первом, и при ныне царствующем кровавом короле Палаче Втором сто восемнадцать тысяч человек умерли в страшных мучениях. Когда лились слезы, когда людей вели на смерть, кто нес погребальный факел? Монахи и испанские солдаты. Ужели ты не слышишь, как стонут души погибших?
— Пепел бьется о мою грудь, но слово солдата — закон, — молвил Уленшпигель.
— А кто хотел через отлучения извергнуть нашу отчизну из семьи народов? — продолжали Гезы. — Кто вооружил бы против нас, если б только мог, небо и землю, господа бога со всем его небесным воинством и сатану со аггелы его? Кто подливал в чаши со святыми дарами бычьей крови? Кто подстраивал так, что у деревянных статуй текли слезы? Кто заставил весь наш отчий край петь De profundis?[217] Кто, как не проклятые попы, кто, как не прорва ленивых монахов, которые думают только о том, как бы сберечь свои сокровища, как бы сохранить свое влияние на идолопоклонников, как бы утвердить свою власть в нашей несчастной стране разрухой, кровью, огнем? В клетку волков, нападающих на народ, в клетку гиен! Да здравствует Гез!
— Слово солдата — закон, — молвил Уленшпигель.
На другой день от мессира де Люме прибыл гонец с приказом переправить девятнадцать пленных монахов из Хоркума в Бриль, где в то время находился адмирал.
— Их повесят, — сказал Уленшпигелю военачальник Марин.
— Пока я жив, этого не случится, — возразил Уленшпигель.
— Сын мой, — сказал Ламме, — с мессиром де Люме ты так не говори. Нрав у него свирепый, и он без дальних размышлений повесит тебя за компанию с монахами.
— Я скажу ему то, что думаю, — объявил Уленшпигель, — слово солдата — закон.
— Если ты полагаешь, что тебе удастся спасти пленных, то поезжай с ними в лодке в Бриль, — предложил Марин. — Рулевыми возьми Рохуса и, если хочешь, возьми с собой еще Ламме.
— Хочу, — сказал Уленшпигель.
В лодку, причаленную у Зеленой набережной, сели девятнадцать монахов. Трусоватый Рохус взялся за руль. Уленшпигель и Ламме, хорошо вооруженные, заняли места на носу. Голодных монахов караулили негодяи-солдаты, затесавшиеся к Гезам ради грабежа. Уленшпигель напоил и накормил монахов.
— Это изменник! — говорили про Уленшпигеля негодяи-солдаты.
Девятнадцать монахов с видом крайнего смирения сидели посреди лодки и тряслись от страха, хотя их припекало яркое июльское солнце и овевал теплый ветер, надувавший паруса пузатой лодки, тяжело рассекавшей зеленые волны.
Иеромонах Николай спросил рулевого:
— Рохус, неужто нас везут на Поле виселиц? — С этими словами иеромонах встал и, повернувшись лицом к Хоркуму, протянул руку. — О город Хоркум, город Хоркум! — воскликнул он. — Ты будешь ввергнут в пучину зол! Все города проклянут тебя, ибо ты взрастил в стенах своих семена ереси! О город Хоркум! Ангел господень уже не будет стоять на страже у врат твоих. Он уже не будет охранять невинность дев твоих, вселять отвагу в сердца мужей, стеречь богатства торговых людей твоих! Будь же ты проклят, злосчастный город Хоркум!
— Проклят, проклят! — заговорил Уленшпигель. — Разве заслуживает проклятия гребень, вычесавший испанских вшей, пес, порвавший свою цепь, гордый конь, сбросивший жестокого всадника? Сам ты будь проклят, безмозглый проповедник, коли ты не любишь, когда обламывают палку, хотя бы и железную, о спину тирана!
Монах умолк и, опустив глаза, как бы застыл в священной злобе.
Негодяи-солдаты, затесавшиеся к Гезам ради грабежа; не отходили от монахов, а те опять проголодались. Уленшпигель спросил лодочника, не найдется ли у него сухарей и селедки.
— Брось их в Маас — там они отведают свежей селедки, — отвечал лодочник.
Тогда Уленшпигель отдал монахам весь запас хлеба и колбасы, какой был у него и у Ламме. Владелец лодки и негодяи-солдаты говорили между собой:
— Это изменник — он кормит монахов. Надо на него донести.
В Дордрехте лодка пристала к Bloemenkeu (к Набережной цветов). Мужчины, женщины, мальчишки, девчонки сбежались толпой поглазеть на монахов; показывая на них пальцами и грозя кулаками, они говорили друг другу:
— Поглядите на этих обманщиков, на этих святош! Сколько тел тащили они на костер, сколько душ тащили они в огонь вечный! Поглядите на этих разжиревших тигров, на этих пузатых шакалов!
Монахи сидели с поникшими головами и не отвечали ни слова. Уленшпигель заметил, что они опять начали дрожать.
— Мы снова проголодались, добрый солдатик, — обратились они к нему.
Тут вмешался владелец лодки:
— Кто всегда пьет? Сухой песок. Кто всегда ест? Монах.
Уленшпигель сходил в город и принес хлеба, ветчины и изрядный жбан пива.
— Ешьте и пейте, — сказал он монахам. — Вы наши пленники, но я постараюсь спасти вас. Слово солдата — закон.
— Зачем ты их кормишь? Ведь они тебе не заплатят, — сказали ему негодяи-солдаты и начали перешептываться: — Он обещал спасти их — надо за ним следить!
В Бриль они приехали на рассвете. Ворота перед ними распахнулись, и voetlooper (вестовой) побежал сообщить об их прибытии мессиру де Люме.
Получив донесение, мессир де Люме второпях оделся, сел на коня и в сопровождении нескольких всадников и вооруженных пехотинцев поспешил к городским воротам.
И тут Уленшпигель еще раз увидел свирепого адмирала, одетого, как одеваются важные и живущие в довольстве господа.
— Доброго здоровья, честные отцы! — заговорил он. — Покажите руки. Где же кровь графов Эгмонта и Горна? Вы мне суете белые ручищи, а ведь кровь убиенных на вас!
Ему ответил монах по имени Леонард:
— Делай с нами что хочешь. Мы — монахи, за нас никто не заступится.
— Он справедливо молвил, — вмешался Уленшпигель. — Монах порывает со всем миром, с родителями, братьями, сестрами, с женой и возлюбленной, и в смертный его час за него и правда некому заступиться. И все-таки, ваше превосходительство, я попробую. Военачальник Марин подписал капитуляцию Хоркума, в которой оговорено, что монахи наравне со всеми, кто оставался в городе, могут беспрепятственно его покинуть. Со всем тем их без всякого законного основания задержали, и я даже слышал, что их собираются повесить. Ваше превосходительство! Я обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой помиловать их, ибо слово солдата — закон.
— Кто ты таков? — спросил мессир де Люме.
— Я, ваше превосходительство, фламандец, — отвечал Уленшпигель, — я родом из прекрасной Фландрии, я и крестьянин, и дворянин, и брожу я по белу свету, славя все доброе и прекрасное, а над глупостью хохоча до упаду. И вас я прославлю, если только вы исполните обещание военачальника Марина, — ведь слово солдата — закон.
Но тут заговорили негодяи-солдаты, сопровождавшие монахов:
— Ваше превосходительство, это изменник! Он обещал их спасти, он давал им хлеба, ветчины, колбасы, пива, а нам ничего!
Мессир де Люме объявил Уленшпигелю:
— Вот что, фламандский бродяга, кормилец монахов: тебя повесят вместе с ними.
— Не запугаете, — молвил Уленшпигель, — а слово солдата — закон.
— Эк распетушился! — сказал де Люме.
— Пепел бьется о мою грудь, — сказал Уленшпигель.
Монахов заперли в сарае, а вместе с ними и Уленшпигеля. В сарае они, призвав на помощь свои познания в области богословия, попытались вернуть его в свою веру, но он заснул под их разглагольствования.
Мессир де Люме сидел за столом, уставленным питиями и яствами, когда из Хоркума прибыл гонец от военачальника Марина с копией письма Молчаливого, принца Оранского, приказывавшего «всем городским и сельским властям блюсти неприкосновенность, безопасность и права духовенства так же, как и всех прочих сословий».
Гонец попросил, чтобы его провели прямо к де Люме — он, дескать, должен вручить ему копню письма.
— А где подлинник? — спросил де Люме.
— У моего начальника Марина, — отвечал гонец.
— Этот мужик смеет посылать мне копию! — вскричал де Люме. — Где твой пропуск?
— Вот он, монсеньер, — сказал гонец.
Мессир де Люме начал читать вслух:
— «Монсеньер и полководец Марин Бранд приказывает всем начальникам, губернаторам и должностным лицам республики беспрепятственно пропускать…»
Тут де Люме стукнул кулаком по столу и разорвал пропуск.
— А чтоб его, этого Марина! — взревел он. — Зазнался, голоштанник, а ведь до взятия Бриля ему хвост селедки показался бы лакомым блюдом. Величает себя монсеньером, полководцем, посылает мне свои распоряжения! Приказывает и повелевает! Скажи своему начальнику, славному полководцу и важному господину, верховному повелителю и отменному распорядителю, что во исполнение его воли я сей же час, без дальних слов, вздерну монахов, а ежели ты отсюда не уберешься, то и тебя заодно.
И тут мессир де Люме дал гонцу такого пинка, что тот в мгновенье ока вылетел из комнаты.
— Пить! — заорал мессир де Люме. — Ну и наглец же этот Марин! Меня сейчас вырвет от злости. Без промедления повесить монахов в сарае, бродягу же фламандца заставить присутствовать при казни, а потом привести ко мне! Пусть только посмеет сказать, что я поступил не так! Зачем здесь все эти кружки и стаканы? К чертям их!
Де Люме перебил всю посуду, грохот в комнате стоял невообразимый, но никто не посмел ему слово сказать. Слуги хотели подобрать осколки, но он не позволил. Он опорожнял бутылку за бутылкой, отчего злоба его только усиливалась, потом начал ходить большими шагами по осколкам, с остервенением давя их.
Наконец к нему привели Уленшпигеля.
— Ну? — обратился к нему де Люме. — Что сталось о твоими дружками монахами?
— Их повесили, — отвечал Уленшпигель. — А мерзавец-палач, повесивший их, из корыстных побуждений распорол одному из них после смерти, точно заколотой свинье, живот и бока — думал сбыть сало аптекарю. Слово солдата больше уже не закон.
Под ногами у де Люме захрустели осколки.
— Ты дерзишь мне, грубая скотина! — гаркнул де Люме. — Тебя тоже казнят, но казнью позорного — не в сарае, а на площади, на глазах у всех.
— Срам на вашу голову, срам и на нашу голову, — молвил Уленшпигель. — Слово солдата больше уже не закон.
— Замолчи, медный лоб! — рявкнул мессир де Люме.
— Срам на твою голову, — не унимался Уленшпигель. — Слово солдата больше уже не закон. Ты бы лучше карал прохвостов, торгующих человеческим жиром.
При последних словах мессир де Люме кинулся к нему и замахнулся.
— Бей, — сказал Уленшпигель. — Я твой пленник, но я тебя не боюсь. Слово солдата больше уже не закон.
Мессир де Люме выхватил шпагу и, уж верно, заколол бы Уленшпигеля, когда бы Долговязый не схватил его за руку и не сказал:
— Помилуйте его! Он смел и удал и не совершил никакого преступления.
Де Люме одумался.
— Пусть попросит прощения, — сказал он.
Уленшпигель не пошевелился.
— Не стану, — сказал он.
— Пусть, по крайней мере, признает, что я был прав! — снова придя в ярость, вскричал де Люме.
Уленшпигель же ему на это ответил так:
— Я не лижу сапоги господам. Слово солдата уже не закон.
— Поставить виселицу! — распорядился де Люме. — Увести его! Там он узнает, что слово пеньки — закон.
— Добро! — молвил Уленшпигель. — А я тебе при всем народе крикну: «Слово солдата больше уже не закон!»
Виселицу поставили на Большом рынке. Немного погодя весь город облетела весть о том, что будут вешать Уленшпигеля, храброго Геза. И народ проникся к нему жалостью и состраданием. И бросился на Большой рынок. Туда же прибыл верхом мессир де Люме — ему хотелось самому подать знак к приведению в исполнение своего приговора.
Он окинул суровым взглядом сперва Уленшпигеля, — тот, как и полагалось осужденному, в одной рубахе стоял на лестнице, руки у него были прикручены к туловищу, на шее болталась веревка, — а затем палача, готового взяться за дело.
К мессиру де Люме обратился Долговязый:
— Мессир, помилуйте его! Он не изменник! Не было еще такого случая, чтобы человека вешали за чистосердечие и доброту.
Услышав, что говорит Долговязый, мужчины и женщины закричали:
— Сжальтесь, мессир! Пощадите, помилуйте Уленшпигеля!
— Этот медный лоб мне надерзил, — сказал де Люме. — Пусть попросит прощения и признает мою правоту.
— Попроси прощения и признай его правоту, — предложил Уленшпигелю Долговязый.
— Слово солдата больше уже не закон, — отрезал Уленшпигель.
— Вздернуть его! — приказал де Люме.
Палач только было схватил веревку, как вдруг на помост взбежала, не помня себя, девушка в белом платье, с венком на голове, кинулась Уленшпигелю на шею и крикнула:
— Этот юноша мой, я выхожу за него замуж!
Весь народ рукоплескал ей, а женщины кричали:
— Молодец, девушка, молодец! Спасла Уленшпигеля!
— Это еще что такое? — спросил мессир де Люме.
Ему ответил Долговязый:
— В этом городе таков обычай, что невинная или незамужняя девушка имеет полное право спасти от петли мужчину, если она у подножья виселицы объявит, что согласна стать его женой.
— Сам бог за него, — сказал де Люме. — Развяжите!
Проезжая мимо помоста, он увидел, что девушка пытается разрезать веревки на Уленшпигеле, а палач не дает.
— Кто мне за них заплатит? — говорил палач.
Но девушка ничего не желала слушать.
Де Люме был растроган при виде этой стройной, проворной, пылкой девушки.
— Кто ты? — спросил он.
— Я его невеста Неле, — отвечала она, — я пришла за ним из Фландрии.
— Хорошо сделала, — сухо сказал де Люме и уехал.
К Уленшпигелю приблизился Долговязый.
— Юный фламандец! Ты и после свадьбы не уйдешь из нашего флота? — спросил он.
— Не уйду, мессир, — отвечал Уленшпигель.
— А ты, девушка, что будешь делать без мужа?
— Если позволите, мессир, я буду свирельщицей на его корабле, — отвечала Неле.
— Будь по-твоему, — молвил Долговязый и подарил ей к свадьбе два флорина.
А Ламме, смеясь и плача от радости, говорил:
— Вот еще три флорина! Мы будем есть все подряд. Плачу я. Идем в «Золотой Гребешок»! Мой друг уцелел! Да здравствует Гез!
А народ рукоплескал, а они пошли в «Золотой Гребешок», и там начался пир на весь мир, и Ламме бросал из окна деньги в толпу.
А Уленшпигель говорил Неле:
— Любимая моя, наконец ты со мной! Слава богу! Она здесь, моя милая подружка, она со мной — и телом, и сердцем, и душою! О, эти ласковые глаза, этот хорошенький алый ротик, откуда исходят одни только добрые слова! Ты спасла мне жизнь, моя нежно любимая! Ты заиграешь на наших кораблях песню свободы. Помнишь?.. Нет, не надо вспоминать… Этот веселый час — наш, и это личико, нежное, как июньский цветок, — мое. Я в раю. Но ты плачешь?..
— Они ее убили, — сказала она и поведала ему свое горе.
И, глядя друг другу в глаза, они плакали слезами любви и скорби.
И на пиру они ели и пили, а Ламме смотрел на них грустным взглядом и говорил:
— Жена моя! Где ты?
И пришел священник и обвенчал Неле и Уленшпигеля.
А утреннее солнце застало их лежащими друг подле друга на брачном ложе.
И головка Неле покоилась на плече Уленшпигеля. Когда же солнце разбудило Неле, Уленшпигель сказал:
— Свежее мое личико, доброе мое сердечко! Мы отомстим за Фландрию.
Она поцеловала его в губы.
— Удалая ты моя голова, сильные руки! — сказала она. — Господь благословит союз свирели и шпаги.
— Я надену на тебя военную форму.
— Прямо сейчас? — спросила она.
— Прямо сейчас, — отвечал Уленшпигель. — А кто это сказал, что утром хорошо есть клубнику? Губы твои куда слаще!
9
Уленшпигель, Ламме и Неле, так же как их соратники и однокашники, отбирали у монахов все, что те ловко выуживали у народа с помощью крестных ходов, ложных чудес и прочих плутней в римско-католическом вкусе. Уленшпигель и его товарищи поступали так в нарушение приказа, отданного Молчаливым, другом свободы, но на военные расходы нужны были деньги. Впрочем, Ламме Гудзак не довольствовался звонкой монетой — он забирал в монастырях окорока, колбасы, бутылки пива и вина и возвращался оттуда с веселым видом, обвешанный битой птицей: гусями, индейками, каплунами, курами и цыплятами, ведя на веревке монастырских телят и свиней.
— Это все — по праву войны, — говорил он.
Радуясь всякой добыче, он приносил ее на корабль в надежде попировать на славу, но его неизменно ожидало разочарование — кок ничего не смыслил в науке изготовления жарких и подливок.
Однажды Гезы, по случаю очередной победы хлопнув винца, сказали Уленшпигелю:
— Что бы ни творилось на суше, от тебя ничто не укроется, тебе известны все походы. Спой нам про них! Ламме будет бить в барабан, а миловидная свирельщица станет тебе подыгрывать.
И Уленшпигель начал:
— Ясным и прохладным майским днем Людвиг Нассауский, вознамерившись войти в Монс[218], не нашел ни пехоты своей, ни конницы. Кучка его приверженцев уже открыла ворота и опустила мост, дабы он мог взять город, однако большинству горожан удалось овладеть воротами и мостом. Где же солдаты графа Людвига? Горожане сейчас поднимут мост. Граф Людвиг Нассауский трубит в рог.
И тут Уленшпигель запел:
Где твои пешие, где верховые? Топчут они, блуждая в лесу, Ветки сухие, ландыш цветущий. Солнце, его сиятельство, ныне Гонит пот из красных свирепых лиц И лоснящихся конских крупов. Граф Людвиг в рог затрубил. Солдаты его услыхали. Тихо бей в барабан. Крупной рысью, отпустив поводья, Молнией, вихрем, Железным грохочущим смерчем Тяжелые всадники мчатся! На выручку! Эй! Живее! Живее! Мост поднимается… Шпору вонзай В окровавленный бок скакуна боевого! Мост поднимается — город потерян. Близко они. Не слишком ли поздно? Во весь опор! Отпусти поводья! Гитуа де Шомон на лихом скакуне Взлетел на мост, и мост опустился. Город взят! Слышите, слышите, Как по улицам Монса Молнией, вихрем, Смерчем железным скачут они! Слава Шомону и его скакуну! Труби в трубу, бей в барабан. Пора косить, луга благоухают; С песней жаворонок в небо взвился. Да здравствует свободная птица! Бей в барабан славы! Слава Шомону и его скакуну! Выпьем за них! Город взят! Да здравствует Гез!И Гезы пели на кораблях:
Христос, воззри на воинов своих! Господь, навостри клинки! Да здравствует Гез!А Неле, смеясь, играла на свирели, а Ламме бил в барабан, и ввысь, к небесам, к престолу господа бога, поднимались златые чаши и летели песни свободы. А вокруг корабля сиренами плескались прохладные светлые волны и мерным шумом своим нежили слух.
10
В один из жарких и душных августовских дней Ламме предавался унынию. Веселый его барабан притих и заснул; из сумки торчали палочки. Уленшпигель и Неле грелись на солнце и, преисполненные любовной неги, улыбались. На марсах, пробегая глазами по морю, не видать ли где какой добычи, свистели и пели дозорные. Долговязый время от времени обращался к ним с вопросом. Но они всякий раз отвечали:
— Niets (ничего).
А Ламме, бледный и вялый, жалобно вздыхал. И Неле его спросила:
— Что это ты, Ламме, такой скучный?
А Уленшпигель добавил:
— Ты похудел, мой сын.
— Да, — сказал Ламме, — я скучаю и худею. Сердце мое теряет свою веселость, а славная моя морда — свою свежесть. Ну что ж, смейтесь надо мной — вы, избегнув многих опасностей, отыскали друг друга. Глумитесь над бедным Ламме — он хотя и женат, но живет вдовцом, а вот она, — тут он указал на Неле, — сумела избавить своего мужа от поцелуев веревки и теперь будет последней его любовью. Она поступила благородно, пошли ей бог счастья за это! Но только пусть она надо мной не насмехается. Да, милая Неле, не смейся над бедным Ламме. Моя жена смеется за десятерых. О женщины, женщины, вы глухи к страданиям ближнего! Да, меч разлуки пронзил мое сердце, и оно у меня болит. Исцелить же его никто не властен, кроме моей жены.
— И еще кроме куска мяса, — ввернул Уленшпигель.
— Да, — согласился Ламме, — но где ты найдешь мясо на этом жалком суденышке? На королевских судах в мясоед четыре раза в неделю дают мясное и три раза — рыбное. Кстати о рыбе: клянусь богом, эта мочалка только зря распаляет мне кровь, мою бедную кровь, которая скоро вся вытечет из меня вместе с другой жидкостью. А у них там и пиво, и сыр, и похлебка, и винцо. Да, там есть все для угождения их чрева: и сухари, и ржаной хлеб, и пиво, и масло, и копченый окорок. Да, да, все: и вяленая рыба, и сыр, и горчица, и соль, и бобы, и горох, и крупа, и уксус, и постное масло, и сало, и дрова, и уголь. А нам недавно воспретили забирать чей бы то ни было скот — хоть мещанский, хоть поповский, хоть дворянский. Мы едим селедку и пьем дрянное пиво. Горе мне! Я всего лишен: и ласки жены, и доброго вина, и dobbelebruinbier'а, и сытной пищи. В чем же наша отрада?
— Сейчас тебе скажу, Ламме, — отозвался Уленшпигель. — Око за око, зуб за зуб. В Париже, в одном только Париже они истребили в Варфоломеевскую ночь[219] десять тысяч человек — загубили десять тысяч вольных душ. Сам король стрелял в народ. Пробудись, фламандец, берись за топор и позабудь о милосердии — вот она, наша отрада! Бей наших врагов испанцев, бей католиков, бей их повсюду! Перестань думать о жратве. Они отвозили и мертвых и живых к реке и целыми повозками сбрасывали в воду. И мертвых и живых — ты слышишь, Ламме? Девять дней Сена была багровая от крови, вороны тучами летали над городом. Была учинена страшная резня в Ла Шаритэ, Руане, Тулузе, Бордо, Бурже, Мо. Видишь стаи объевшихся собак, валяющихся около трупов? У них устали зубы. Вороны тяжело машут крылами — слишком много съели они человеческого мяса. Ты слышишь, Ламме, как стонут души погибших? Они вопиют к отмщению, молят о сострадании. Пробудись, фламандец! Ты все толкуешь о своей жене. Я не думаю, чтобы она тебе изменила. По-моему, она от тебя без ума: да, она все еще любит тебя, бедный мой друг. Она не была в толпе тех придворных дам, которые в ночь резни нежными своими ручками снимали с убитых мужчин одежду, дабы удостовериться, сколь велики у них принадлежности. И они смеялись, эти знатные дамы, знаменитые своею порочностью. Возвеселись же, сын мой, невзирая на рыбу и на дрянное пиво! Пусть после селедки во рту остается скверный вкус — гораздо хуже запах от подобных мерзостей. Убийцы еще не успели смыть с рук своих кровь, и вот они уже за пиршественным столом режут жирных гусей и предлагают парижским красоткам кто — крылышко, кто — лапку, кто — гузку. А ведь только что они этими же самыми руками трогали другое, холодное мясо.
— Я больше не буду роптать, сын мой, — молвил Ламме и встал. — Для свободных людей селедка — ортолан, дрянное пиво — мальвазия.
А Уленшпигель запел:
Да здравствует Гез! Полно плакать, братья. Среди разрухи и крови Расцветает роза свободы. Коли с нами бог, кто же нам тогда страшен? Пока торжествует гиена, Подходит время льва. Удар — и у твари он брюхо вспорол. Око за око, зуб за зуб. Да здравствует Гез!И песнь его подхватили Гезы на всех кораблях:
Герцог обходится с нами не лучше. Око за око, зуб за зуб. Рану за рану. Да здравствует Гез!11
Темною ночью, когда в недрах туч громыхал гром, Уленшпигель сидел с Неле на палубе и говорил:
— Все огни у нас погашены. Мы — лисицы, мы ночью подкрадываемся к испанской дичи — к двадцати двум роскошным кораблям, на которых горят огни, и то не огни — то звезды, предвещающие им гибель. А мы мчимся навстречу им.
Неле сказала:
— Чародейная ночь! На небе темно, как в аду, зарницы сверкают, точно улыбка сатаны, вдали глухо ворчит гром, с резкими криками носятся чайки, светящимися ужами извиваются серебристые волны. Тиль, любимый мой, давай унесемся в царство духов! Прими порошок, навевающий сонные грезы!..
— А Семерых я увижу, моя дорогая?
И они приняли порошок, навевающий сонные грезы.
И Неле закрыла глаза Уленшпигелю, а Уленшпигель закрыл глаза Неле. И страшное зрелище им явилось.
Небо, земля, море были полны мужчин, женщин, детей, трудившихся, плывших, шагавших, мечтавших. Море их колыхало, земля их носила. И они копошились, точно угри в корзинке.
В небе сидели на престолах семь мужчин и женщин с яркими звездами во лбу, но лики их были смутны — Неле и Уленшпигель ясно видели одни лишь звезды.
Морские валы взлетали к самому небу, неся на вспененных своих гребнях бесчисленное множество кораблей, и под напором бушующих волн корабельные мачты и снасти сшибались, сцеплялись, ломались, разрывались. Затем один корабль отделился от других. Подводная его часть была из раскаленного железа. Нос его резал волны точно ножом. Вода под ним кричала от боли. На корме сидела и хихикала Смерть; в одной руке она держала косу, а в другой бич, которым она хлестала Семерых. Один из этих Семерых был человек худой, мрачный, надменный, молчаливый. В одной руке он держал скипетр, в другой — меч. Около него сидела верхом на козе багроволицая, быстроглазая девка в расстегнутом платье, с голой грудью. Она сладострастно тянулась к старому еврею, собиравшему гвозди, и к заплывшему жиром толстяку, которого она все время поднимала, так как он то и дело падал, а какая-то худая разъяренная женщина колотила их обоих. Толстяк сдачи не давал, а равно и багроволицая его подружка. Тут же ел колбасу монах. Еще одна женщина по-змеиному ползала по земле. Она кусала старого еврея за то, что гвозди у него ржавые, заплывшего жиром мужчину — за то, что он чересчур благодушен, багроволицую деву — за влажный блеск в ее глазах, монаха — за то, что он ел колбасу, худого мужчину — за то, что у него в руке скипетр. Немного погодя все они передрались.
Тот же час на море, в небе и на земле возгорелась лютая битва. Полил кровавый дождь. Корабли были порублены топорами, расстреляны из пушек и аркебуз. По воздуху в пороховом дыму носились обломки. На суше — одна медная стена на другую — шли войска. Пылали города, деревни, посевы, всюду слышались вопли, всюду лились слезы. Внезапно на фоне огня отчетливо вырисовывался гордый силуэт высокой кружевной колокольни, а мгновенье спустя она падала, как срубленный дуб. Черные всадники, вооруженные пистолетами и мечами, похожие издали на муравьев, — такая была их тут гибель, — избивали мужчин, женщин, детей. Иные, пробив лед, живыми бросали в прорубь стариков. Одни отрезали у женщин груди и посыпали раны перцем, другие вешали на печных трубах детей. Те, кто устал убивать, насиловали девушек и женщин, пьянствовали, играли в кости, погружали окровавленные пальцы в груды награбленного золота.
Семь звездоносцев кричали:
— Пожалейте несчастный мир!
А семь призраков хохотали. И хохот их был подобен клекоту тысячи орланов. А Смерть размахивала косой.
— Слышишь? — сказал Уленшпигель. — Эти хищные птицы охотятся на несчастных людей. Они питаются маленькими пташками, простыми и добрыми.
Семь звездоносцев кричали:
— Где же любовь? Где справедливость? Где милосердие?
А семь призраков хохотали. И хохот их был подобен клекоту тысячи орланов. А Смерть бичевала их.
А корабль их шел по волнам, надвое разрезая корабли, лодки, мужчин, женщин, детей. Над морем гулко раздавались стоны жертв, моливших:
— Сжальтесь над нами!
А красный корабль шел по телам, меж тем как призраки хохотали и клекотали орлами.
А Смерть, хихикая, пила воду с кровью.
А затем корабль скрылся во мгле, битва кончилась, семь звездоносцев исчезли.
И Уленшпигель и Ноле ничего уже больше не видели, кроме темного неба, бурных волн, черных туч над светящимся морем да красных звезд, мерцавших совсем-совсем близко.
То были огни двадцати двух кораблей.
Хор грома и моря рокотал на просторе.
И тогда Уленшпигель осторожно ударил в колокол и крикнул:
— Испанцы! Испанцы! Держать на Флиссинген!
И крик этот был подхвачен всем флотом.
А Неле Уленшпигель сказал:
— Серая пелена распростерлась над небом и морем. Огни горят тускло, встает заря, ветер свежеет, брызги взлетают выше палубы, льет дождь, но скоро перестанет, вот уже всходит лучезарное солнце и золотит гребни волн — это твоя улыбка, Неле, свежая, как утро, ласковая, как солнечный луч.
Идут двадцать два корабля. На кораблях Гезов гремят барабаны, играют свирели, Де Люме кричит:
— За принца, в погоню!
Вице-адмирал Эвонт Питерсен Ворт кричит:
— За принца Оранского, за адмирала — в погоню!
На всех кораблях — на «Иоанне», «Лебеде», «Анне-Марии», «Гезе», «Соглашении», «Эгмонте», «Горне», «Виллеме Звейхере», «Вильгельме Молчаливом» — кричат капитаны:
— За принца Оранского и адмирала — в погоню!
— В погоню! Да здравствует Гез! — кричат моряки и солдаты.
Шхуна Долговязого «Бриль», на которой находятся Ламме и Уленшпигель, эскортируемая «Иоанной», «Лебедем» и «Гезом», захватывает четыре вражеских корабля. Гезы всех испанцев бросают в воду, нидерландцев берут в плен, очищают вражеские суда, словно яичную скорлупу, а затем пускают их без мачт и парусов на волю зыбей. Затем бросаются в погоню за остальными восемнадцатью судами. Со стороны Антверпена задувает сильный ветер, быстроходные суда Гезов накреняются под тяжестью парусов, надутых, точно щеки монаха, подставившего лицо ветру, дующему из кухни. Корабли идут быстро. Гезы преследуют их до самого Миддельбургского рейда[220], и тут со всех фортов по Гезам открывают огонь. Завязывается кровопролитный бой. Гезы с топорами в руках устремляются на палубы вражеских судов, и вот уже все палубы покрыты отрубленными руками и ногами — после боя их целыми корзинами выбрасывают в воду. С фортов палят. Смельчаки не обращают внимания на выстрелы и с криком: «Да здравствует Гез!» — забирают порох, орудия, пули, зерно, затем, опустошив, поджигают корабли, — и корабли долго еще потом горят и чадят на рейде, — а сами уходят во Флиссинген.
Оттуда они посылают отряды в Зеландию и Голландию разрушать плотины[221], а другие отряды помогают строить корабли, в частности — флиботы водоизмещением в сто сорок тонн, способные поднять до двадцати чугунных пушек.
12
Снег падает на корабли. Дали белым-белы, а снежные хлопья все ложатся на черную воду — и тают.
Снег падает на землю. Белым-белы дороги, белым-белы еще недавно черные силуэты голых деревьев. В мертвой тишине слышно лишь, как далеко, в Гарлеме, отбивают на колокольне часы, но метель приглушает этот веселый звон.
Колокола, замолчите! Колокола, прервите простую свою и мирную песню! Приближается дон Фадрике[222], отродье кровавого герцога. Он ведет на тебя, вольный город Гарлем, тридцать пять отрядов испанцев — заклятых твоих врагов[223]. Еще он ведет двадцать два отряда валлонов, восемнадцать отрядов немцев, восемьсот всадников и мощную артиллерию. Слышишь, как дребезжит чугун смертоносных этих орудий, поставленных на колеса? Фальконеты, кулеврины, широкожерлые мортиры — все это для тебя, Гарлем. Колокола, замолчите! Веселый звон, не старайся пробиться сквозь метель!
— Нет, мы, колокола, не умолкнем! Я, колокольный звон, буду прорезать метель смелою своею песнью. Гарлем — город горячих сердец, город отважных женщин. Он без боязни глядит с высоты своих колоколен на черные полчища палачей, ползущих подобно чудовищным муравьям. В его стенах — Уленшпигель, Ламме и еще сто морских Гезов. Их суда — на Гарлемском озере.
— Пусть придут! — говорят горожане. — Мы — мирные жители, рыбаки, моряки, женщины. Сын герцога Альбы объявил, что отомкнет наши замки ключами своих пушек. Что ж, пусть распахнет, если сумеет, непрочные наши ворота — за ними будут стоять люди. Не умолкайте, колокола! Пробивайся, веселый звон, сквозь метель! У нас лишь непрочные стены и рвы, выкопанные, как копали их в старину. Четырнадцать пушек плюются сорокашестифунтовыми ядрами на Cruyspoort[224]. Там, где не хватает камней, ставьте людей. Наступает ночь, все трудятся не покладая рук, посмотришь кругом — словно никакого обстрела и не было. По Cruyspoort'у неприятель выпустил шестьсот восемьдесят ядер, по воротам святого Яна — шестьсот семьдесят пять. Эти ключи не отмыкают — вон уже за стенами вырос новый вал. Не умолкайте, колокола! Пробивайся, веселый звон, сквозь метель!
Пушки бьют, упорно бьют по укреплениям, камни взлетают, рушится часть стены. В такой пролом может пройти целая рота. «На приступ! Бей! Бей!» — кричат враги. И вот они уже лезут; их десять тысяч; дайте им перебраться по мостам и лестницам через рвы. Наши орудия наготове. Вон стадо обреченных на гибель. Салютуйте им, пушки свободы! Пушки салютуют. Цепные ядра, горящие смоляные обручи, летя и свистя, пробивают, прорезают, поджигают, ослепляют осаждающих — вот они уже дрогнули и бегут в беспорядке. Во рву полторы тысячи трупов. Не умолкайте, колокола! Веселый звон, пробивайся же сквозь метель!
Идите снова на приступ! Не смеют. Они возобновляют обстрел и подкопы. Что ж, искусные подкопщики есть и у нас. Зажгите фитиль под ними, под ними. Сюда, сюда, сейчас мы увидим любопытное зрелище! Четыреста испанцев взлетает на воздух. Это не путь к вечному огню. О нет, это красивая пляска под серебряный звон наших колоколов, под веселый их перебор!
Враги и не подозревают, что принц заботится о нас, что каждый день по дорогам, которые находятся под усиленной охраной, к нам прибывают обозы с хлебом и порохом: с хлебом для нас, с порохом для них. Мы утопили и перебили в Гарлемском лесу шестьсот немцев. Мы отбили у них одиннадцать знамен, шесть орудий и пятьдесят быков. Прежде у нас была одна крепостная стена, теперь у нас их две. Женщины — и те сражаются. Их доблестным отрядом командует Кенау. Пожалуйте, палачи! Пройдитесь по нашим улицам — вам дети ножичками перережут поджилки. Не умолкайте, колокола! Веселый звон, пробивайся же сквозь метель!
А счастье нам не улыбается. На Гарлемском озере флот Гезов разбит. Разбито войско, посланное нам на подмогу принцем Оранским. Стоят морозы, лютые морозы. Помощи больше ждать неоткуда. И все-таки мы целых пять месяцев выдерживаем осаду, а между тем нас — тысяча, их же — десять тысяч. Придется вступить с палачами в переговоры. Но отпрыск кровавого герцога, поклявшийся нас уничтожить, вряд ли пойдет на переговоры. Пусть выступят с оружием в руках все наши воины. Они прорвутся. Но у ворот стоят женщины — они боятся, что их одних оставят защищать город. Умолкните, колокола! Пусть не полнится более воздух вашим веселым звоном.
Вот уж июнь на дворе, пахнет сеном, солнце озлащает нивы, щебечут птички. Мы голодаем пять месяцев, мы — на краю отчаяния. Мы все выйдем из Гарлема, впереди — аркебузиры, — они будут прокладывать дорогу, — потом женщины, дети, должностные лица — под охраной пехоты, стерегущей пролом. Послание, послание от сына кровавого герцога! Что оно возвещает нам? Смерть? Нет, оно дарует жизнь — дарует жизнь всем, кто находится в городе. О нечаянное милосердие! Но, быть может, это обман? Раздастся ли когда-нибудь ваш веселый звон, колокола? Враги вступают в наш город.
Уленшпигеля, Ламме и Неле, одетых в немецкую военную форму, вместе с немецкими солдатами загнали в бывший монастырь августинцев — всего заключенных было тут шестьсот человек.
— Сегодня нас казнят, — шепнул Уленшпигель Ламме и прижал к себе Неле — хрупкое ее тело дрожало от страха.
— Жена моя! Я тебя больше не увижу! — воскликнул Ламме. — А может быть, все-таки нас спасет немецкая военная форма?
Уленшпигель покачал головой в знак того, что он не верит в милосердие врагов.
— Я не улавливаю шума, какой всегда бывает при погроме, — заметил Ламме.
Уленшпигель же ему на это ответил так:
— По уговору горожане за двести сорок тысяч флоринов откупились от погрома и казней. Сто тысяч они должны уплатить наличными в течение двенадцати дней, остальные — через три месяца. Женщинам приказано укрыться в церквах. Избиение, однако, непременно начнется. Слышишь? Сколачивают помосты, ставят виселицы.
— Мы погибнем! — воскликнула Неле. — А как мне хочется есть!
— Это они нарочно, — зашептал Уленшпигелю Ламме, — отпрыск кровавого герцога сказал, что от голода мы присмиреем и нас легче будет вести на казнь.
— Ах, как мне хочется есть! — воскликнула Неле.
Вечером пришли испанские солдаты и принесли по хлебу на шестерых.
— Триста валлонских солдат повесили на рынке, — сообщили они. — Скоро и ваш черед. Гезов всегда женят на виселицах.
Через сутки они опять принесли по хлебу на шестерых.
— Четырем именитым гражданам отсекли головы, — сообщили они. — Двести сорок девять солдат связали и бросили в море. В этом году крабы жирные будут. А вот вы нельзя сказать, чтоб потолстели с седьмого июля — с того дня, как попали сюда. Нидерландцы — известные обжоры и пьяницы. Мы, испанцы, на вас не похожи: две фиги — вот и весь наш ужин.
— То-то вы требуете от жителей, чтобы они четыре раза в день давали вам мяса такого, мяса сякого, сливок, варенья, вина, — заметил Уленшпигель, — то-то вы требуете у них молока, чтобы купать в нем ваших шлюх, и вина, в котором вы моете копыта своим лошадям.
Восемнадцатого июля Неле сказала:
— У меня под ногами мокро. Отчего это?
— Сюда подтекает кровь, — отвечал Уленшпигель.
Вечером солдаты опять принесли по хлебу на шестерых.
— Где не хватает веревок, там орудует меч, — сообщили они. — Триста солдат и двадцать семь горожан, замысливших побег, шествуют теперь в ад, держа в руках свои собственные головы.
На другой день кровь опять потекла в монастырь. Солдаты пришли, как обычно, но хлеба на этот раз не принесли; они лишь окинули узников внимательным взглядом.
— Пятьсот валлонов, англичан и шотландцев, которым вчера отсекли головы, выглядели лучше, — заметили солдаты. — Правда, эти уж очень изголодались, да ведь и то сказать: кому же и подыхать с голоду, как не беднякам, как не Гезам?
И точно: бледные, исхудалые, изможденные, дрожавшие от холода, узники казались бесплотными призраками.
Шестнадцатого августа в пять часов вечера солдаты со смехом вошли в монастырь и начали раздавать хлеб, сыр и разливать пиво.
— Это предсмертное пиршество, — заметил Ламме.
В десять часов к монастырю подошли четыре военных отряда. Военачальники отдали приказ отворить ворота, затем велели заключенным выстроиться по четыре в ряд и идти за барабанщиками и трубачами до тех пор, пока им не прикажут остановиться. Мостовые на некоторых улицах были красны от крови. А вели заключенных на Поле виселиц.
На лугу так и стояли лужи крови, кровь была и под городскою стеной. Тучами летали вороны. Солнце заходило в туманной дымке, но было еще светло, в небесной вышине зажигались робкие звездочки. Внезапно раздался жалобный вой.
— Это кричат Гезы в форте Фейке, за городом, — их ведено уморить голодом, — заметили солдаты.
— Мы тоже… мы тоже умрем, — сказала Неле и заплакала.
— Пепел бьется о мою грудь, — сказал Уленшпигель.
— Ох, если б мне попался кровавый герцог, — нарочно по-фламандски воскликнул Ламме (конвойные не понимали благородного этого языка), — я бы заставил его глотать все эти веревки, виселицы, плахи, дыбы, гири, сапоги, пока бы он не лопнул! Я бы поил его кровью, которую он пролил, а когда бы он наконец лопнул, из его кишок повылезли бы щепки и железки, но лопнуть-то пусть бы он лопнул, а околевать бы еще подождал, чтобы я мог своими руками вырвать его ядовитое сердце, а потом я заставил бы кровавого герцога съесть его в сыром виде. Вот тогда-то он, уж верно, низринулся бы в серную адову бездну и дьявол велел бы ему жевать и пережевывать его до скончания века.
— Аминь! — подхватили Уленшпигель и Неле.
— Послушай, ты ничего не видишь? — обратилась Неле к Уленшпигелю.
— Ничего, — отвечал тот.
— Я вижу на западе пятерых мужчин и двух женщин — они уселись в кружок, — сказала Неле. — Один из них в пурпуровой мантии и в золотой короне. Верно, это их предводитель. Остальные в лохмотьях и в рубище. А на востоке появились еще Семеро, и у них тоже, как видно, есть свой главарь — в пурпуровой мантии, но без короны. И движутся они к западу и нападают на тех семерых. И завязывают с ними бой в облаках. Но больше я ничего не вижу.
— Семеро!.. — проговорил Уленшпигель.
— Я слышу, — продолжала Неле, — чей-то голос, шелестящий в листве, совсем близко от нас, едва уловимый, как дуновение ветра:
Средь войны и огня, Среди пик и мечей Ищи. В смерти, в крови, В разрухе, в слезах Найди.— Не мы, так кто-нибудь другой освободит землю Фландрскую, — сказал Уленшпигель. — Темнеет, солдаты зажигают факелы. Поле виселиц близко. Любимая моя, зачем ты пошла за мной? Ты больше ничего не слышишь, Неле?
— Слышу, — отвечала она. — Среди высоких хлебов лязгнуло оружие. А вон там; на пригорке, как раз над нами, вспыхнул на стали багровый отсвет факелов. Я вижу огненные кончики аркебузных фитилей. Что же наши конвойные — спят иль ослепли? Слышишь громовый залп? Видишь, как падают испанцы, сраженные пулями? Слышишь крик: «Да здравствует Гез!»? Вон они с копьями наперевес бегут вверх по тропинке! Вон они с топорами в руках спускаются с холма! Да здравствует Гез!
— Да здравствует Гез! — кричат Уленшпигель и Ламме.
— Гляди: воины протягивают нам оружие! — говорит Неле. — Бери, Ламме, бери, мой родной Уленшпигель! Да здравствует Гез!
— Да здравствует Гез! — все как один кричат пленники.
— Аркебузиры не прекращают огня, — говорит Неле. — Испанцы падают как подкошенные — они освещены факелами. Да здравствует Гез!
— Да здравствует Гез! — кричат избавители.
— Да здравствует Гез! — кричат Уленшпигель и пленники. — Испанцы в железном кольце. Бей их! Бей! Попадали все. Бей! Нет им пощады! Война не на жизнь, а на смерть! А теперь забирай все, что под руку попадется, и айда в Энкхейзен! Эй, кому суконная и шелковая одежда палачей? Оружие у всех есть?
— У всех! У всех! — отзываются пленники.
И они отчаливают в Энкхейзен, и в Энкхейзене остаются освобожденные вместе с Уленшпигелем, Ламме и Неле немцы — остаются, чтобы охранять город.
А Ламме, Неле и Уленшпигель возвращаются на корабли. И вновь над вольным морем звучит: «Да здравствует Гез!»
И корабли крейсируют под Флиссингеном.
13
Здесь Ламме снова повеселел. Он не без удовольствия сходил на сушу и охотился на быков, баранов и домашнюю птицу, словно это были зайцы, олени или ортоланы.
И на питательную эту охоту он шел не один. Любо-дорого было смотреть, как возвращался целый отряд охотников во главе с Ламме и, как они, невзирая на запрет, тащили за рога крупный рогатый скот, как они гнали мелкий, как подгоняли хворостиной стада гусей и несли на кончиках багров кур, каплунов, цыплят.
На кораблях в такие дни пировали и веселились. А Ламме говорил:
— Благовонный пар поднимается к небесам, и господа ангелы в восторге восклицают: «Ах, как вкусно!»
Так, крейсируя, наткнулись они в один прекрасный день на лиссабонскую торговую флотилию, водитель которой не знал, что Флиссинген перешел в руки Гезов. И вот уже флотилия окружена, ей приказывают бросить якорь. Да здравствует Гез! Барабаны и трубы призывают на абордаж. У купцов есть пушки, пики, топоры, аркебузы.
С кораблей Гезов сыплются пули и ядра. Их аркебузиры, схоронившись за деревянным прикрытием у грот-мачты, расстреливают лиссабонцев в упор, а сами при этом не подвергаются ни малейшей опасности. Купцы падают как подкошенные.
— Сюда! Сюда! — кричит Уленшпигель, обращаясь к Неле и Ламме. — Вот пряности, драгоценности, редкостные товары, сахар, мускат, гвоздика, имбирь, реалы, дукаты, блестящие «золотые барашки»![225] Пятьсот тысяч с лишним. Испанцы покроют нам военные расходы. Упьемся вражьей кровью! Отслужим мессу Гезов — дадим противнику бой!
И Уленшпигель с Ламме дерутся как львы. Неле за деревянным прикрытием играет на свирели. Захвачена вся флотилия.
Подсчитали потери: у испанцев оказалось тысяча человек убитых, у Гезов — триста, среди них — кок с флибота «Бриль».
Уленшпигель испросил дозволения обратиться с речью к Долговязому и к морякам, каковое дозволение Долговязый дал ему без всяких разговоров. И Уленшпигель обратился к ним с такими словами:
— Господин капитан, и вы, ребята! Нам сегодня досталось изрядное количество пряностей, а вот этот пузанок по имени Ламме уверяет, что бедный наш покойник, царство ему небесное, был в своем деле не великий искусник. Давайте поставим на его место Ламме — он будет кормить нас дивными рагу и божественными супами.
— Ладно, — сказали Долговязый и моряки. — Пусть Ламме будет корабельным коком. Мы ему дадим большую деревянную ложку — пусть он ею боцает всех — от юнги до боцмана, если кто сунет свой нос в его котлы и кастрюли.
— Господин капитан, товарищи мои и друзья! — заговорил Ламме. — Я плачу от радости, ибо я ничем не заслужил столь великой чести. Но уж коли выбор ваш пал на меня, недостойного, то мне ничего иного не остается, как принять на себя высокие обязанности магистра кулинарного искусства на, славном флиботе «Бриль», однако покорнейше вас прошу облечь меня высшей кухонной властью, дабы ваш кок, то есть я, имел полное право препятствовать любому из вас, съедать долю другого.
Тут Долговязый и Гезы вскричали:
— Да здравствует Ламме! Мы даем тебе это право!
— Но у меня еще есть к вам одна покорная просьба! — продолжал Ламме. — Я человек крупный, грузный и сырой. У меня объемистое пузо, объемистый желудок. Бедная моя жена — да возвратит мне ее господь! — всегда давала мне удвоенную порцию. Вот об этой милости я вас и прошу.
Тут Долговязый, Уленшпигель и моряки вскричали:
— Ты будешь получать удвоенную порцию, Ламме!
А Ламме, внезапно закручинившись, молвил:
— Жена моя! Красавица моя! В разлуке с тобой меня может утешить только одно: при исполнении своих обязанностей я буду воскрешать в памяти дивную твою кухню в нашем уютном домике.
— Тебе надлежит дать присягу, сын мой, — сказал Уленшпигель. — Принесите большую деревянную ложку и большой медный котел.
— Клянусь господом богом, имя которого я сейчас призываю, — начал Ламме, — быть верным принцу Оранскому по прозвищу Молчаливый, правящему вместо короля Голландией и Зеландией, мессиру де Люме, адмиралу доблестного нашего флота, и мессиру Долговязому, вице-адмиралу и командиру корабля «Бриль». Клянусь по мере слабых сил моих изготовлять ниспосылаемые нам судьбой мясо и птицу, следуя правилам и обычаям славных поваров древности, оставивших прекрасные книги с рисунками о великом кулинарном искусстве. Клянусь кормить этим капитана, мессира Долговязого, его помощника, каковым является мой друг Уленшпигель, и всех вас, боцман, рулевой, боцман-мат, юнги, солдаты, канониры, мундшенк, камбузный; вестовой при капитане, лекарь, трубач, матросы и все прочие. Если жаркое будет недожарено, если птица; не подрумянится, если от супа будет исходить неприятный запах, вредный для пищеварения, если аромат подливки не заставит вас всех, — разумеется, с моего позволения, — ринуться в кухню, если вы у меня не повеселеете и не раздобреете, я откажусь исполнять высокие мои обязанности, ибо почту себя неспособным занимать престол кухонный. Да поможет мне бог и в этой жизни, и в будущей!
— Да здравствует наш кок, король кухни, император жарких! — воскликнули все. — По воскресеньям он будет получать не удвоенную, а утроенную порцию!
Так Ламме сделался коком на корабле «Бриль». И пока в кастрюлях кипел аппетитно пахнущий суп, он с гордым видом стоял подле двери камбуза, держа, словно скипетр, большую деревянную ложку.
И по воскресеньям он получал утроенную порцию.
Когда же Гезам случалось помериться силами с врагом, Ламме не без удовольствия оставался в соусной своей лаборатории; впрочем, иногда он все же выходил на палубу, раз за разом стрелял из аркебузы и сейчас же уходил обратно в камбуз — за кушаньями нужен был глаз.
Добросовестный повар и храбрый воин, он стал всеобщим любимцем.
В камбуз, однако ж, он не пускал никого. Он бывал зол как черт на непрошеных гостей и лупил их деревянной ложкой и наискось и плашмя — без всякой пощады.
С той поры все его стали звать Ламме Лев.
14
Корабли Гезов печет солнце, мочит дождь, порошит снег, сечет град, а они и зимою и летом бороздят океан и Шельду.
Поднятые паруса напоминают лебедей, лебедей белой свободы.
Белый цвет означает свободу, синий — величие, оранжевый — принца Оранского; вот почему на гордых этих кораблях плещутся трехцветные флаги.
На всех парусах, на всех парусах славные летят корабли! Волны ударяются о борта, валы обдают пеной.
Гордые корабли Гезов, быстрые, как облака, гонимые северным ветром, идут, бегут, летят по реке, касаясь парусами воды. Слышите, как они режут носом воду? Да здравствует Гез, бог свободных людей!
Шхуны, флиботы, буеры, корветы быстры, как ветер — предвестник бури, как грозовая туча. Да здравствует Гез!
Буеры, корветы, плоскодонные суда скользят по реке. На носу кораблей зияют смертоносные жерла длинных кулеврин, корабли неуклонно стремятся вперед, и рассекаемые волны провожают их стоном. Да здравствует Гез!
На всех парусах, на всех парусах славные летят корабли! Волны ударяются о борта, валы обдают пеной.
Корабли идут ночью и днем, в дождь, в бурю, в метель! Христос глядит на них с облака, с солнца, со звезд — глядит и улыбается. Да здравствует Гез!
15
Весть об их победах дошла до кровавого короля. Смерть уже глодала палача, внутри у него кишели черви. Жалкий, нелюдимый, он бродил по переходам Вальядолидского дворца, еле передвигая распухшие и точно свинцом налитые ноги. Жестокосердный тиран никогда не пел. Когда занималась заря, он не радовался. Когда солнце божественной улыбкой освещало его владения, он не ликовал.
Зато Уленшпигель, Ламме и Неле хоть и могли в любую минуту поплатиться кто чем: Уленшпигель и Ламме — шкурой, Неле — нежной своей кожей, хоть и жили они сегодняшним днем, а все же распевали, как птички, и каждый погашенный Гезами костер приносил им больше отрады, нежели извергу-королю пожар, истребивший весь город.
Между тем принц Оранский, Вильгельм Молчаливый, лишил адмиральского звания мессира Люме де ла Марк за крайнюю его жестокость. Вместо него принц назначил мессира Баувена Эваутсена Ворста. Кроме того, он изыскал средства уплатить крестьянам за хлеб, отобранный у них Гезами, вернуть им все, что у них было отнято, и следил за тем, чтобы католики пользовались наравне со всеми полной свободой вероисповедания, чтобы никто их не преследовал и обид им не чинил.
16
Под ясным небом по светлым волнам летят корабли Гезов, а на кораблях увеселяют слух свирели, волынки, булькают бутылки, звенят стаканы, сверкает оружие.
— А ну, — говорит Уленшпигель, — бей в барабан славы, бей в барабан веселья! Да здравствует Гез! Испанцы побеждены, вампир укрощен. Море — наше, Бриль взят. Берег — наш, начиная с Ньивпора и туда дальше, к Остенде и Бланненберге. Зеландские острова, устье Шельды, устье Мааса, устье Рейна до самого Гельдерна — все это наше. Наши — Тессел, Влиланд, Терсхеллинг, Амеланд, Роттум и Боркум. Да здравствует Гез!
Наши — Делфт и Дордрехт. Это пороховая нить. Фитиль держит сам господь бог. Палачи уходят из Роттердама. Свобода совести, точно лев, наделенный когтями и зубами правосудия, отбила графство Зютфенское, города Дейтихем, Дусбург, Хоор, Ольдензейль, а на Вельнюире — Гаттем, Эльберг и Хардервейк. Да здравствует Гез!
Это как молния, это как гром: в наших руках Камней, Сволле, Гассел, Стенвейк, а вслед за ними Аудеватер, Гауда, Лейден. Да здравствует Гез!
Наши — Бюрен и Энкхейзен! Мы еще не взяли Амстердама, Схоонговена и Миддельбурга. Не беда! Все в свое время добудут терпеливые наши клинки. Да здравствует Гез!
Выпьем испанского вина! Выпьем из тех самых чаш, из которых испанцы пили кровь своих жертв. Мы двинемся через Зейдер-Зе, по речкам, рекам и каналам. Северная Голландия, Южная Голландия и Зеландия — наши. Мы отвоюем Восточную и Западную Фрисландию. Бриль будет пристанищем для наших кораблей, гнездом для наседок свободы. Да здравствует Гез!
Слышите, как во Фландрии, возлюбленной нашей отчизне, раздается призыв к отмщению? Там куют оружие, точат мечи. Все пришло в движение, все дрожит, как струны арфы от дуновения теплого ветра, от дыхания душ, выходящих из могил, из костров, из окровавленных тел. Всюду брожение: в Геннегау, Брабанте, Люксембурге, Лимбурге, Намюре, вольном городе Льеже — везде! Кровь всходит и колосится. Жатва созрела для серпа. Да здравствует Гез!
Наше теперь Ноорд-Зе, широкое Северное море! У нас отличные пушки, гордые корабли, команды отважных и грозных моряков, куда входят и бродяги, и разбойнички, и священники, примкнувшие к Гезам, и дворяне, и мещане, и ремесленники, спасающиеся от преследования. С нами все, кто за свободу. Да здравствует Гез!
Филипп, кровавый король, где ты? Альба, где ты? На тебе священная шляпа — дар святейшего владыки[226], а ты беснуешься и богохульствуешь. Бейте в барабан веселья! Выпьем! Да здравствует Гез!
В золотые чаши льется вино. Пусть вам весело пьется! Ризы церковные, в которые облеклись простолюдины, залиты красным. Ветер треплет хоругви. Музыка, громче! Вам, свирели, играть, вам, волынки, пищать, вам, барабаны, отбивать гордую дробь свободы. Да здравствует Гез!
17
На дворе стоял волчий месяц — декабрь. Капли дождя иголками падали в воду. Гезы крейсировали в Зейдер-Зе. Труба адмирала созвала на флагманское судно капитанов шхун и флиботов; вместе с ними явился и Уленшпигель.
— Вот что, — обратившись прежде всего к Уленшпигелю, заговорил адмирал, — принц за верную твою службу и во внимание к твоим большим заслугам назначает тебя капитаном корабля «Бриль». На, держи грамоту.
— Благодарю вас, господин адмирал, — молвил Уленшпигель. — Хоть я человек скромный, а все же я возглавлю корабль, и надеюсь, что, возглавив его, я сумею с божьей помощью обезглавить Испанию и отделить от нее Фландрию и Голландию — я разумею Зейд и Ноорд Неерланде.
— Отлично, — сказал адмирал. — А теперь, — заговорил он, обращаясь уже ко всем, — я должен вам сообщить, что амстердамские католики намерены осадить Энкхейзен[227]. Они еще не вышли из Эйского канала. Будем же крейсировать у выхода и не пропустим их. По каждому кораблю тиранов, который посмеет показать в Зейдер-Зе свой корпус, — огонь!
— Мы его разнесем в щепы! Да здравствует Гез! — вскричали все.
Вернувшись на свой корабль, Уленшпигель созвал на палубу моряков и солдат и передал приказ адмирала.
— У нас есть крылья — это паруса, — объявили они, — у нас есть коньки — это кили наших кораблей, у нас есть гигантские руки — это абордажные крючья. Да здравствует Гез!
Флот вышел и начал крейсировать в одной миле от Амстердама — таким образом, без дозволения Гезов никто не мог ни проникнуть в город, ни выйти оттуда.
На пятый день дождь перестал, небо расчистилось, но ветер усилился, Амстердам словно вымер.
Вдруг Уленшпигель увидел, что на палубу взбегает корабельный truxman — парень, научившийся бойко болтать по-французски и по-фламандски, но еще лучше изучивший науку чревоугодия, а за ним гонится Ламме и изо всех сил колотит его деревянной ложкой.
— Ах ты мерзавец! — кричит Ламме. — Прежде времени присоседился к жаркому и, думаешь, тебе это с рук сойдет? Лезь на мачту и погляди, нет ли какого шевеления на амстердамских судах. Так-то дело будет лучше.
— А что ты мне за это дашь? — спросил truxman.
— Сначала сделай дело, а потом уже проси вознаграждения, — сказал Ламме. — А не полезешь, я прикажу тебя высечь, разбойничья твоя рожа. И не поможет тебе твое знание французского языка.
— Чудесный язык — язык любви в войны! — заметил truxman и стал взбираться на мачту.
— Ну, лоботряс, что там? — спросил Ламме.
— Ни в городе, ни на кораблях ничего не видать, — отвечал truxman и, спустившись, сказал: — А теперь плати.
— Довольно с тебя того, что ты у меня спер, — рассудил Ламме. — Но только это тебе впрок не пойдет — все равно отдашь назад.
Тут truxman опять вскарабкался на мачту и крикнул:
— Ламме! Ламме! К тебе в камбуз вор забрался!
— Ключ от камбуза у меня в кармане, — сказал Ламме.
Но тут Уленшпигель отвел Ламме в сторону и сказал:
— Сын мой! Тишина, царящая в Амстердаме, меня страшит. Это неспроста.
— Я тоже так думаю, — согласился Ламме. — Вода в кувшинах замерзает, битая птица точно деревянная, колбаса покрывается инеем, коровье масло твердое, как камень, постное масло все побелело; соль высохла, как песок на солнцепеке.
— Скоро грянут морозы, — сказал Уленшпигель, — тогда амстердамцы подвезут артиллерию и несметною ратью ударят на нас.
Уленшпигель отправился на флагманское судно и поделился своими опасениями с адмиралом, но тот ему сказал:
— Ветер дует со стороны Англии. Надо ожидать снега, а не мороза. Возвращайся на свой корабль.
И Уленшпигель ушел.
Ночью повалил снег, а немного погодя ветер подул со стороны Норвегии, море замерзло, и теперь по нему можно было ходить, как по полу. Адмирал все это видел.
Боясь, как бы амстердамцы не пришли по льду и не подожгли корабли, он приказал солдатам держать наготове коньки — на случай, если придется вести бой на льду, а канонирам — наложить побольше ядер возле лафетов, зарядить и чугунные и стальные орудия и держать в руках зажженные фитили.
Амстердамцы, однако ж, не показывались.
И так прошла неделя.
На восьмой день к вечеру Уленшпигель распорядился устроить для моряков и солдат обильную пирушку, которая могла бы послужить им панцирем от пронизывающего ветра.
Ламме, однако ж, возразил:
— У нас ничего нет, кроме сухарей и плохого пива.
— Да здравствует Гез! — крикнули солдаты и моряки. — Это будет наш постный пир перед битвой.
— Битва начнется не скоро, — заметил Ламме. — Амстердамцы непременно придут и попытаются поджечь корабли, но только не нынче ночью. Им надо еще предварительно собраться у камелька и выпить несколько стаканов глинтвейна с мадерским сахаром, — вот бы нам его сейчас господь послал! — а затем, когда их неторопливая, разумная, беспрестанно прерываемая возлиянием беседа зайдет за полночь, они наконец решат, что решить, стоит с нами воевать на будущей неделе или же не стоит, всего лучше завтра. А завтра, снова попивая глинтвейн с мадерским сахаром, — эх, кабы и нам его сейчас послал господь! — они опять в конце чинной, неторопливой, прерываемой многократными возлияниями беседы решат, что им необходимо еще раз собраться, дабы удостовериться, выдержит лед большое войско или не выдержит. И сей опыт произведут для них люди ученые, которые потом представят им свои расчеты в письменном виде. Ознакомившись с ними, амстердамцы уразумеют, что толщина льда — пол-локтя и что он достаточно крепок, чтобы выдержать несколько сот человек вместе с пушками и полевыми орудиями. Затем, еще раз собравшись на совещание, они во время чинной, неторопливой, то и дело прерываемой прикладыванием к стаканам с глинтвейном беседы обсудят, как поступить с нами за то, что мы присвоили достояние лиссабонских купцов: только ли напасть на нас или еще и сжечь наши корабли. И в конце концов после долгих размышлений и колебаний они сойдутся на том, что корабли наши надлежит захватить, но не жечь, хотя по справедливости следовало бы именно сжечь.
— Так-то оно так, — сказал Уленшпигель, — но разве ты не видишь, что в домах зажигают огни и что по улицам забегали какие-то люди с фонарями?
— Это они от холода, — высказал предположение Ламме и, вздохнув, прибавил: — Все съедено. Ни говядины, ни птицы, ни вина — увы, — нет даже доброго dobbelebier'а[228] — ничего, кроме сухарей и скверного пива. Кто меня любит — за мной!
— Куда ты? — спросил Уленшпигель. — Сходить с корабля не приказано.
— Сын мой, — сказал Ламме, — ты теперь капитан и хозяин корабля. Коли ты меня не пускаешь, я останусь. Но только, будь добр, прими в рассуждение, что позавчера мы доели последнюю колбасу и что в такое тяжелое время огонь в камбузе — это солнце для всех боевых друзей. Кто из нас отказался бы втянуть в себя запах подливки или же усладиться душистым букетом божественного напитка, настоянного на веселящих душу цветах радости, смеха и благоволения? Вот почему, капитан и верный мой друг, я решаюсь тебе признаться: у меня душа изныла оттого, что я ничего не ем, оттого, что я люблю покой, оттого, что я убиваю без содрогания разве лишь нежную гусыню, жирного цыпленка и сочную индейку, а между тем мне приходится делить с тобой все тяготы походной жизни. Ты видишь огонек? Это огонек на богатой ферме, где много крупного и мелкого скота. А знаешь, кто там живет? Фрисландский лодочник, по прозвищу Песочек, тот самый, который предал мессира д'Андло и привел в Энкхейзен, где тогда еще свирепствовал Альба, восемнадцать несчастных дворян с их друзьями, и по милости этого лодочника их всех казнили в Брюсселе на Конном базаре. Этот предатель по имени Слоссе получил от герцога за свое предательство две тысячи флоринов. На эту цену крови новоявленный Иуда купил вон ту ферму, сколько-то голов крупного скота и всю эту землю, а земля здесь родит хорошо, от скота у него изрядный приплод, — так, постепенно, он и разбогател.
— Пепел бьется о мою грудь, — сказал Уленшпигель. — Час божьего гнева пробил.
— А равно и час кормежки, — подхватил Ламме. — Отряди со мной двадцать молодцов, отважных солдат и моряков, и я захвачу предателя.
— Я сам поведу их, — сказал Уленшпигель. — Кто за справедливость, — вперед! Но только не все, не все, мои дорогие! Достаточно двадцати человек! Иначе кто же будет охранять корабль? Бросьте жребий. Жребий выпал вот этим двадцати? Ну, идемте. Кости никогда не обманут. Привяжите коньки и бегите по направлению к звезде Венере — она горит как раз над домом предателя.
С топорами за плечом скользите, летите, все двадцать удальцов, а сияющая я мерцающая звезда укажет вам дорогу к зверю в берлогу.
Ветер свистит и крутит на льду белые снежные вихри. Вперед, храбрецы!
Вы не переговариваетесь и не поете. Вы молча несетесь прямо к звезде. Только лед визжит под коньками.
Если кто из вас упадет — поднимается мигом. Мы близко от берега. Даже тени человеческой не видно на белом снегу, ни одна птица не пролетит в морозном воздухе. Сбросьте коньки!
Вот мы и на земле, вот луга. Привяжите снова коньки. Затаив дыхание, мы окружаем ферму.
Уленшпигель постучался. Залаяли собаки. Уленшпигель опять постучался. Отворяется окно, и baes, высунувшись, окликает:
— Кто ты таков?
Он видит только Уленшпигеля. Остальные спрятались за keet'ом, то есть за прачечной.
— Мессир де Буссю[229] приказал тебе немедленно явиться в Амстердам, — говорит Уленшпигель.
— А пропуск у тебя есть? — отворяя дверь, спрашивает хозяин.
— Вот он, — отвечает Уленшпигель, показывая на двадцать Гезов, которые вслед за ним устремляются в проем.
Войдя, Уленшпигель объявляет:
— Ты — лодочник Слоссе, предатель, заманивший в ловушку мессиров д'Андло, Баттенбурга и других. Где цена крови?
Фермер затрясся.
— Вы — Гезы! — воскликнул он. — Простите меня! Я не ведал, что творил. Сейчас у меня нет ни гроша. Я все вам отдам.
— Тут темно, — заговорил Ламме. — Дай нам свечей — сальных или же восковых.
— Сальные свечи висят вон там, — сказал baes.
Когда зажгли свечу, один из Гезов, стоявших около очага, сказал:
— Тут холодно! Давайте разведем огонь! Смотрите, какое хорошее топливо!
Указав на сухие цветы в горшках, он взял один из них за макушку, тряхнул его вместе с горшком, горшок упал, и по полу рассыпались дукаты, флорины и реалы.
— Вот где деньги, — промолвил Гез, указывая на другие горшки.
И точно: вытряхнув из них землю, Гезы обнаружили десять тысяч флоринов.
А baes, глядя на это, кричал и плакал.
На крик сбежались в одном белье работники и служанки. Мужчин, попытавшихся вступиться за хозяина, связали. Женщины, особливо молодые, стыдливо прятались за мужчин.
Ламме выступил вперед и сказал:
— Отвечай, предатель, где ключи от погреба, от конюшни, от хлева и от овчарни?
— Подлые грабители! — завопил baes. — Чтоб вам околеть на виселице!
— Пробил час божьего гнева. Давай ключи!
— Господь за меня отомстит, — сказал baes и отдал ключи.
Опустошив ферму, Гезы понеслись к своим кораблям — легкокрылым жилищам свободы.
— Я корабельный кок, я корабельный кок! — идя впереди, говорил Ламме. — Везите славные салазки, нагруженные вином и пивом, тащите за рога или как-нибудь, еще быков, лошадей, свиней, баранов, гоните стадо, поющее естественными своими голосами! В корзинках воркуют голуби. Каплунам, которых кормили на убой просом, негде повернуться в клетках. Я корабельный кок. Ишь как лед визжит под коньками! Вот мы и на кораблях. Завтра заиграет кухонная музыка. Спускайте блоки! Просуньте веревки под брюхо коням, быкам и коровам! Я люблю смотреть, как они висят на веревке, просунутой под брюхо. А завтра к нам в брюхо просунется сочное жаркое. На корабль животных поднимает лебедка. Мы их поджарим на угольках. Бросайте мне сюда в трюм пулярок, гусей, уток, каплунов! Кто свернет им шею? Корабельный кок. Дверь заперта, ключ у меня в кармане. Хвалите господа на кухне. Да здравствует Гез!
А Уленшпигель привел на флагманское судно Дирика Слоссе и других пленников, скуливших и плакавших от страха перед веревкой.
На шум вышел мессир Ворст.
— Что тебе? — увидев Уленшпигеля и его спутников, озаренных багровым светом факелов, спросил он.
Уленшпигель же ему на это ответил так:
— Нынче ночью мы захватили прямо у него на ферме Дирика Слоссе, заманившего восемнадцать человек в ловушку. Вот он. Остальные — его работники и служанки; они ни в чем не виноваты.
С этими словами Уленшпигель передал мессиру Ворсту кошель с деньгами.
— Эти флорины из царства Флоры, — пояснил он, — они произрастали в цветочных горшках в доме предателя. Всего их тут десять тысяч.
— Вы не должны были уходить с корабля, — заметил мессир Ворст, — но так как вы вернулись с победой, то я вас прощаю. Добро пожаловать, пленники, и ты, кошель с флоринами, и вы, смельчаки, — вам я, согласно морским законам и обычаям, жалую треть. Другая треть пойдет флоту, а еще одна треть — монсеньеру Оранскому. Предателя повесить немедленно!
Исполнив приказ адмирала, Гезы прорубили во льду прорубь и бросили туда тело Дирика Слоссе.
Мессир Ворст обратился к Гезам с вопросом:
— Разве вокруг кораблей выросла трава? Я слышу кудахтанье кур, блеянье баранов, мычанье быков и коров.
— Это все пленники нашего чревоугодия, — отвечал Уленшпигель. — Они уплатят нам выкуп в виде жаркого. Самый лучший выкуп получите вы, господин адмирал. Что касается работников и служанок, — а среди служанок есть миловидные и смазливые, — то я возьму их к себе на корабль.
Уведя их, он обратился к ним с такими словами:
— Парни и девушки! Вы находитесь на лучшем из всех кораблей. У нас что ни день, то пирушка, попойка, гульба. Если вы намерены отсюда уйти — платите выкуп. Если же соблаговолите остаться, то живите, как мы: трудитесь не покладая рук и ешьте за обе щеки. Что касается вас, милашки, то я властью капитана предоставляю вам полную свободу: хотите не меняйте своих дружков, с которыми вы пришли к нам на корабль, хотите выберите кого-нибудь из храбрых Гезов и вступите с ними в брак — мне это безразлично.
Милки, однако ж, пожелали остаться верными своим дружкам, за исключением одной — эта, с улыбкой поглядев на Ламме, спросила, не хочет ли он ее ласк.
— Очень вам благодарен, милочка, но сердце мое занято, — отвечал Ламме.
— Этот чудак женат, — видя, что девушка расстроилась, пояснили ей Гезы.
Но девушка, повернувшись к Ламме спиной, тут же выбрала себе другого, такого же толстопузого и толстоморденького.
В этот день и потом еще несколько дней подряд на кораблях мяса было невпроед, а вина — хоть залейся, и Уленшпигель говорил:
— Да здравствует Гез! Дуй, холодный ветер, — мы нагреем воздух нашим дыханием! В нашем сердце горит огонь любви к свободе, горит огонь ненависти к врагу. Выпьем вина! Вино — это молоко, которое пьют зрелые мужи. Да здравствует Гез!
И Неле пила из золотого кубка, и, разрумянившись от ветра, играла на свирели. И всем Гезам, невзирая на холод, весело пилось и елось на палубе.
18
Внезапно на берегу зажглись факелы, и при их свете весь флот увидел сверкавшую оружием черную толпу. Затем факелы так же внезапно погасли, и снова воцарилась тьма.
По приказу адмирала был подан тревожный сигнал. Все огни на судах были потушены. Моряки и солдаты, вооружившись топорами, залегли на палубе. Доблестные канониры с фитилями в руках стояли около пушек, заряженных картечью и цепными ядрами. Было заранее условлено: как скоро адмирал и капитаны крикнут: «Сто шагов!», что должно было означать расстояние, на которое подошел неприятель, канонирам надлежит открыть огонь с носа, с кормы и с борта.
И капитаны услышали голос мессира Ворста:
— Смерть тому, кто заговорит громко!
И они повторили за ним:
— Смерть тому, кто заговорит громко!
Ночь была звездная, но луна не светила.
— Слышишь? — говорил Уленшпигель Ламме голосом тихим, как дыхание призрака. — Слышишь говор? Это амстердамцы; Слышишь, как визжит лед под их коньками? Быстро бегут! Слышно, как они переговариваются. Вот что они говорят: «Лежебоки Гезы дрыхнут. Лиссабонские денежки будут наши!» Зажигают факелы. Видишь их осадные лестницы, видишь их мерзкие хари, всю длинную цепь атакующих? Их тут более тысячи.
— Сто шагов! — крикнул мессир Ворст.
— Сто шагов! — крикнули капитаны.
И тут раздался громоподобный залп, а вслед за тем — жалобные крики людей, попадавших на лед.
— Залп из восьмидесяти орудий! — сказал Уленшпигель. — Бегут! Гляди, гляди! Факелы удаляются!
— В погоню! — крикнул адмирал Ворст.
— В погоню! — крикнули капитаны.
Погоня, однако ж, длилась недолго: беглецам не надо было бежать лишних сто шагов, а в быстроте они могли бы поспорить с перепуганными зайцами.
А на людях, стонавших и умиравших на льду, были обнаружены золото, драгоценности и веревки для того, чтобы вязать Гезов.
И после этой победы Гезы говорили:
— Als God met ons is, wie tegen ons zai lijn? (Коли с нами бог, кто же нам тогда страшен?) Да здравствует Гез!
А на третий день утром мессир Ворст, охваченный тревогой, ждал нового нападения. Ламме выскочил на палубу и сказал Уленшпигелю:
— Отведи меня к этому адмиралу, который не хотел тебя Слушать, когда ты предсказывал мороз.
— Иди один, — сказал Уленшпигель.
Ламме запер камбуз на ключ и пошел к адмиралу. Тот стоял на палубе и вглядывался в даль, не заметно ли какого-нибудь движения в стороне Амстердама.
Ламме приблизился к нему.
— Господин адмирал, — заговорил он, — может ли скромный корабельный кок высказать свое мнение?
— Говори, сын мой, — молвил адмирал.
— Монсеньер! — продолжал Ламме. — Вода в кувшинах тает, битая птица отошла, на колбасе уже нет инея, коровье масло отмякло, масло постное вновь стало жидким, соль отволгла. Скоро дождь пойдет — стало быть, мы спасены, монсеньер.
— Кто ты таков? — спросил мессир Ворст.
— Я кок с корабля «Бриль», — отвечал Ламме Гудзак. — И ежели все эти великие ученые, именующие себя астрономами, гадают по звездам так же хорошо, как я по приправам, они бы, уж верно, сказали нам, что ночью будет оттепель и страшнейшая вьюга. Но только оттепель продлится недолго.
И, сказавши это, Ламме вернулся к Уленшпигелю, а в полдень обратился к нему с такими словами:
— Я опять оказался пророком: небо нахмурилось, ветер бушует, идет теплый дождь, вода поднялась на целый фут.
Вечером он радостно воскликнул:
— Северное море вздулось, начался прилив, громадные волны хлынули в Зейдер-Зе и ломают лед — лед трескается и осыпает искрящимися осколками корабли! А вот и крупа! Адмирал отдал приказ отойти от Амстердама, а воды столько, что поплыл наш самый большой корабль. Вот мы уже в Энкхейзенской гавани. Море замерзает снова. Я опять оказался пророком. Господь сотворил чудо.
А Уленшпигель сказал:
— Благословен бог наш — выпьем во славу божью!
И прошла зима, и настало лето.
19
В половине августа, когда куры, наевшись зерен, пребывают глухи к призывам петуха, трубящего им о своей любви, Уленшпигель сказал морякам и солдатам:
— Кровавый герцог осмелился издать в Утрехте благодетельный указ[230], в котором он среди прочих благостынь и щедрот грозит непокорным жителям Нидерландов голодом, смертью, разором. «Все, кто еще не сдался, будут уничтожены, — вещает он, — его королевское величество заселит ваш край иностранцами». Кусай, герцог, кусай! Зубы гадюки ломаются о напильник. Напильник — это мы. Да здравствует Гез!
Альба, ты опьянел от крови! Неужели ты думаешь, что мы убоимся твоих угроз или же уверуем в твое милосердие? Твои хваленые полки, о которых ты раззвонил на весь мир, все эти «Непобедимые», «Неустрашимые», «Бессмертные», вот уже семь месяцев обстреливают Гарлем — слабо укрепленный город, который защищают одни местные жители. И при взрывах твои «Бессмертные» так же кувыркаются в воздухе, как и простые смертные. Горожане поливали их смолой. В конце концов твои войска все же покрыли себя неувядаемой славой, перебив безоружных. Ты слышишь, палач? Час божьего гнева пробил.
Гарлем потерял своих храбрых защитников, из его камней сочится кровь. Он потерял и истратил за время осады миллион двести восемьдесят тысяч флоринов. Власть епископа восстановлена. С сияющим лицом он на скорую руку освящает храмы. На этих освящениях присутствует сам дон Фадрике. Епископ моет ему руки, но господь видит, что кровь с них не смывается. Епископ причащает дона Фадрике и тела, и крови — простому народу это не полагается. И звонят колокола безмятежно и приятно для слуха — точно ангелы поют на кладбище. Око за око! Зуб за зуб! Да здравствует Гез!
20
Во Флиссингене Неле заболела горячкой. Ей пришлось оставить корабль, и она нашла приют у реформата Питерса на Турвен-Ке.
Уленшпигель тужил, и все же ему было теперь за нее спокойнее: в благоприятном исходе болезни он не сомневался, а испанские пули достать ее там не могли.
Он не отходил от нее, как, впрочем, и Ламме, ухаживал за ней и еще крепче, чем прежде, любил. И однажды у него с Ламме произошел такой разговор:
— Ты знаешь новость, верный мой друг? — спросил Уленшпигель.
— Нет, сын мой, — отвечал Ламме.
— Ты видел флибот, который недавно присоединился к нашему флоту? Тебе известно, кто там каждый день играет на виоле?
— Когда стояли холода, я, должно быть, простудился и оглох на оба уха, — сказал Ламме. — Чего ты смеешься, сын мой?
Уленшпигель, однако ж, продолжал:
— Как-то раз там кто-то пел фламадскую lied[231] — голосок, по-моему, приятный.
— Ах! — вздохнул Ламме. — Она тоже играла на виоле и пела.
— А другую новость ты знаешь? — продолжал Уленшпигель.
— Ничего я не знаю, сын мой, — отвечал Ламме.
Уленшпигель сообщил:
— Мы получили приказ подняться по Шельде до Антверпена и захватить либо сжечь вражеские суда. Людям пощады не давать. Что ты на это скажешь, пузан?
— Ох, ох, ох! — вздохнул Ламме. — В этой несчастной стране только и разговору что о сожжениях, повешениях, утоплениях и прочих средствах истребления горемычных людей! Когда же наконец настанет долгожданный мир, когда же наконец никто нам не будет мешать жарить куропаток, цыплят, яичницу с колбасой? Я предпочитаю кровяную колбасу — ливерная слишком жирна.
— Желанная эта пора настанет, когда во фландрских садах на яблонях, сливах и вишнях заместо яблок, слив и вишен на каждой ветке будет висеть испанец, — отвечал Уленшпигель.
— Ах! Мне бы только сыскать мою жену, мою дорогую, милую, любимую, ласковую, ненаглядную, верную жену! — воскликнул Ламме. — Да будет тебе известно, сын мой, что я никогда не был и никогда не буду рогат. Нрав у моей жены был строгий и уравновешенный. Мужского общества она чуждалась. Правда, она любила наряжаться, но это уже чисто женское свойство. Я был ее поваром, стряпухой, судомойкой — я говорю об этом с гордостью — и впредь был бы рад служить ей. Но я был также ее супругом и повелителем.
— Оставим этот разговор, — сказал Уленшпигель. — Ты слышишь команду адмирала: «Выбрать якоря!»? А капитаны повторяют его команду. Стало быть, мы отчаливаем.
— Куда ты? — спросила Уленшпигеля Неле.
— На корабль, — отвечал он.
— Без меня? — спросила она.
— Да, — отвечал Уленшпигель.
— А ты не подумал о том, что я буду очень беспокоиться о тебе? — спросила она.
— Ненаглядная ты моя! — сказал Уленшпигель. — Ведь у меня шкура железная.
— Не говори глупостей, — сказала Неле. — На тебе суконная, а не железная куртка; под ней твое тело, а оно у тебя, так же точно как и у меня, состоит из костей и из мяса. Если тебя ранят, кто за тобой будет ходить? Ты истечешь кровью на поле битвы. Нет, я пойду с тобой!
— Ну, а если копья, мечи, ядра, топоры, молотки меня не тронут, а обрушатся на твое нежное тело, — на кого ты меня, несчастного, тогда покинешь? — спросил Уленшпигель.
Неле, однако ж, стояла на своем:
— Я хочу быть с тобой. Это совсем не опасно. Я спрячусь за деревянным прикрытием вместе с аркебузирами.
— Если ты пойдешь, то я останусь, и милого твоему сердцу Уленшпигеля назовут трусом и предателем. Дай лучше я спою тебе песенку:
Природа — оружейник мой: В железе грудь и темя — тоже. Я защищен двойною кожей: Своей природной и стальной. Уродка-смерть мне строит рожи, Но ей не совладать со мной — Я защищен двойною кожей: Своей природной и стальной. Жить — вот призыв мой боевой, Под солнцем жить — всего дороже! Я защищен двойною кожей: Своей природной и стальной.Так он, с песней на устах, и убежал, не забыв, однако, поцеловать на прощанье дрожащие губки и милые глазки Неле, а Неле, в жару, и смеялась и плакала.
В Антверпене Гезы захватили все суда Альбы, включая те, что стояли в гавани. В город они ворвались белым днем, освободили пленных, а кое-кого, наоборот, взяли в плен, чтобы получить выкуп. Они угоняли некоторых горожан под страхом Смерти и не давали им рта раскрыть.
Уленшпигель сказал Ламме:
— Сын адмирала содержится в заключении у каноника. Надо его освободить.
Войдя в дом каноника, они увидели сына адмирала и жирного, толстопузого монаха — монах, ярясь, уговаривал его вернуться в лоно святой матери-церкви. Молодой человек, однако ж, не пожелал. Он пошел за Уленшпигелем. Ламме между тем схватил монаха за капюшон и потащил по антверпенским улицам.
— С тебя причитается сто флоринов выкупу, — приговаривал он. — Почему ты еле-еле плетешься? А ну, пошевеливайся! Что у тебя, свинец в сандалиях, что ли? Шагай, шагай, мешок с салом, ларь, набитый жратвой, брюхо, налитое супом!
— Да я и так шагаю, господин Гез, я и так шагаю, — в сердцах отвечал тот. — Однако ж, не во гнев вашей аркебузе будь сказано, вы такой же тучный, пузатый и жирный мужчина, как я.
— Как ты смеешь, поганый монах, — толкнув его, вскричал Ламме, — сравнивать свой дармоедский, бесполезный монастырский жир с моим фламандским жиром, который я накопил честным путем — в трудах, в треволнениях и в боях? А ну, бегом, не то я тебя, как собаку, пинком пришпорю!
Монах, однако ж, в самом деле не в силах был бежать — он совсем запыхался. Запыхался и Ламме. Так, отдуваясь, добрались они до корабля.
21
Гезы взяли Раммекенс, Гертрейденберг и Алкмар, а затем вернулись во Флиссинген.
Выздоровевшая Неле вышла встречать Уленшпигеля в гавань.
— Тиль, милый мой Тиль! — увидев его, воскликнула она. — Ты не ранен?
Уленшпигель запел:
Жить — вот призыв мой боевой, Под солнцем жить — всего дороже! Я защищен двойною кожей: Свой природной и стальной.— Ох! — волоча ногу, кряхтел Ламме. — Вокруг него сыплются пули, гранаты, цепные ядра, а ему это равно что ветер. Ты, Уленшпигель, как видно, — дух, и ты тоже, Неле: вы вечно молоды, всегда веселы.
— Почему ты волочишь ногу? — спросила Неле.
— Потому что я не дух и никогда духом не буду, — отвечал Ламме. — Меня хватили топором по бедру, — ах, какие белые, полные бедра были у моей жены! Гляди: кровь идет. Ох, ох, ох! Некому за мной, горемычным, поухаживать!
Неле рассердилась.
— На что тебе жена-клятвопреступница? — спросила она.
— Не надо говорить о ней дурно, — сказал Ламме.
— На, держи, это мазь, — сказала Неле. — Я берегла ее для Уленшпигеля. Приложи к ране.
Перевязав рану, Ламме повеселел: от мази сразу прошла жгучая боль. Они поднялись на корабль втроем.
Неле обратила внимание на монаха, расхаживавшего со связанными руками.
— Кто это? — спросила она. — Лицо знакомое. Где-то я его видела.
— С него причитается сто флоринов выкупу, — сказал Ламме.
22
В этот день флот веселился. Невзирая на холодный декабрьский ветер, невзирая на дождь, невзирая на снег, все морские Гезы собрались на палубах кораблей. На зеландских шляпах тускло отсвечивали серебряные полумесяцы.
А Уленшпигель пел:
Лейден свободен[232], кровавый герцог из Нидерландов бежит: Громче звоните, колокола, Пусть песней своею звон ваш наполнит воздух; Звените, бутылки, звените, стаканы! От побоев очухавшись, пес Хвост поднимает И глазом, залитым кровью, Оглядывается на палки. Его разбитая челюсть Дрожит, отвалилась. Убрался кровавый герцог. Звените, бутылки, звените, стаканы. Да здравствует Гез! Себя укусил бы от злости пес, Да выбила зубы дубинка. Уныло башку он повесил, Скулит о поре обжорства и смерти. Убрался кровавый герцог, Так бей в барабан славы, Так бей в барабан войны! Да здравствует Гез! Он кричит сатане: «Душу песью продам я — Дай силы мне только на час!» «Что селедки душа, что твоя — Все едино», — в ответ сатана. Обломаны зубы собачьи — Не хватал бы жестких кусков! Убрался кровавый герцог, Да здравствует Гез! Дворняжки хромые, кривые, паршивые, Что живут и дохнут на мусорных кучах, Одна за другой задирают лапы На того, кто губил из любви к убийству. Да здравствует Гез! Он не любил ни друзей, ни женщин, Ни веселья, ни солнца, ни хозяина, Никого, кроме Смерти, своей невесты, Которая лапы его перебила, — Добрый подарок перед помолвкой, — Потому что здоровые Смерти не любы; Бей в барабан отрады, Да здравствует Гез! И снова дворняжки, паршивые, Кривые, хромые, косые, Одна за другой задирают лапы, Его обдавая горячим и смрадным. С ними псы и гончие и цепные, Собаки из Венгрии, из Брабанта, Из Намюра и Люксембурга. Да здравствует Гез! Он тащится, морда в пене, Чтобы сдохнуть у ног хозяина, Который его пинает За то, что он мало кусался. В аду он со Смертью играет свадьбу. «Мой герцог» — она его величает. «Моя инквизиция» — он ее кличет. Да здравствует Гез! Громче звоните, колокола, Воздух наполните песней своей; Звените, бутылки, звените, стаканы: Да здравствует Гез!ЧАСТЬ ПЯТАЯ
1
Как скоро монах, которого привел на корабль Ламме, удостоверился, что Гезы не собираются убивать его, а только хотят взять выкуп, то стал задирать нос.
— Ай, ай, ай! — говорил он, расхаживая и яростно мотая головой. — Ай, ай, ай! В какую бездну мерзостей, гадостей, пакостей и гнусностей я попал, ступив ногой в деревянное это корыто! Если бы господь не помазал меня…
— Собачьим салом? — спрашивали Гезы.
— Сами вы собаки! — огрызался монах и продолжал разглагольствовать: — Да, да, паршивые, грязные, худые бродячие собаки, сбежавшие с тучного пути святой нашей матери — римско-католической церкви и устремившиеся по бесплодной тропе презренной голодранки — церкви реформатской. Да, да, если б меня сейчас не было на деревянной этой посудине, в этом вашем корыте, господь давно бы уже низринул его в пучину морскую вместе со всеми вами, вместе с окаянным вашим оружием, с бесовскими вашими пушками, с вашим певуном-капитаном, с богомерзкими вашими полумесяцами. Да, да, господь низринул бы вас в неисследимую глубину царства сатаны, и там бы вы не горели, нет! Вы бы там коченели, дрожали, замерзали до скончания века. Да, да, так царь небесный угасил бы в ваших сердцах огнь злочестивой ненависти к нашей доброй матери — святой римско-католической церкви, к святым угодникам, к архиереям и к благодетельным, мягким и мудрым королевским указам. Да, да! А я с заоблачных райских высот глядел бы на вас, а вы были бы белые-белые, синие-синие от холода. 'Т sy! 'Т sy! 'Т sy! (И да будет так, да будет так, да будет так!)
Матросы, солдаты и юнги потешались над ним и стреляли в него сухим горохом из трубочек. А он закрывал лицо руками от пуль.
2
На смену кровавому герцогу пришли менее жестокие властелины — Медина-Сели и Рекесенс[233]. После них именем короля правили Генеральные штаты.[234]
Между тем жители Зеландии и Голландии[235], которым очень помогли море и плотины — эти естественные валы и крепостные стены, — воздвигали богу свободных людей свободные храмы, а палачам-папистам никто не мешал тут же, рядом, распевать молитвы, а принц Оранский решил не создавать династию наместников короля.
От Гентского замирения[236] ждали, что оно раз навсегда положит конец вражде, но не тут-то было: противники замирения валлоны разгромили Бельгию[237]. Эти самые paternosterknecht'ы[238], с крупными черными четками на шее (две тысячи таких четок были впоследствии найдены в Спиенне и в Геннегау), отбирали в полях и лугах лучших коней и быков и угоняли их тысячами, уводили женщин и девушек, не платили за постой, сжигали в амбарах крестьян, с оружием в руках защищавших плоды тяжких своих трудов.
И народ говорил:
— Того и гляди, нагрянет к нам дон Хуан[239] со своими испанцами, а его высочество — с французами, но только не с гугенотами, а с папистами, а Молчаливый, чтобы ему не мешали править Голландией, Зеландией, Гельдерном, Утрехтом и Оверэйсселем, заключил тайный договор с герцогом Анжуйским[240] и уступил ему Бельгию, и герцог станет королем Бельгийским.
Некоторые все же не теряли надежды.
— В распоряжении Генеральных штатов двадцать тысяч пехотинцев, мощная артиллерия и славная конница, — говорили они. — Такому войску никакие иноземцы не страшны.
Более осведомленные, однако, возражали:
— У Генеральных штатов есть двадцать тысяч пехотинцев, но только не в поле, а на бумаге. Конница у них малочисленная, paternosterknecht'ы крадут их коней в одной миле от лагеря. Артиллерии у них совсем нет — последние сто пушек с порохом и ядрами они отправили дону Себастьяну Португальскому. Неизвестно, куда делись два миллиона экю, которые мы в четыре срока внесли в виде налогов и контрибуций. Жители Гента и Брюсселя вооружаются. Гент стоит за реформу, а куда гентцы, туда и брюссельцы. В Брюсселе мужчины возводят укрепления, а чтобы им было веселее, женщины бьют в бубны. А Гент Отважный посылает Брюсселю Веселому порох и пушки, а то у Брюсселя их маловато для защиты от «недовольных»[241] и от испанцев. И теперь и в городах и в селах, in't plat landt, все видят, что нельзя верить ни знатным господам, ни кому бы то ни было. И все мы, горожане и селяне, шибко горюем: мы не то что деньги, а и кровь свою отдаем для блага родины, а жизнь в родном краю все не становится легче. И бельгийцы встревожены и огорчены, что нет у них надежных вождей, которые повели бы их в бой и привели к победе, а между тем бельгийцы не пожалели бы усилий для того, чтобы стереть с лица земли врагов свободы.
И говорили между собой люди осведомленные:
— Когда в Генте происходило замирение, голландские и бельгийские сеньоры поклялись искоренить вражду, поклялись, что Бельгия и Нидерланды будут оказывать друг другу помощь, отменили королевские указы и конфискации, объявили, что-католики и реформаты больше не будут преследовать друг друга, обещали уничтожить оскорбительные для нас колонны, трофеи, надписи и изображения, которые остались после герцога Альбы. Однако в сердцах главарей вражда не утихла. Дворяне и попы делают все для того, чтобы союз областей распался. Они проедают деньги, предназначенные на содержание армии. Пятнадцать тысяч судебных дел о возвращении конфискованного имущества не разбираются. Лютеране и католики объединяются против кальвинистов. Законные наследники не могут добиться, чтобы из их владений были изгнаны узурпаторы. Памятник герцогу свален[242], но в сердцах дворян и попов образ инквизиции запечатлелся неизгладимо.
И злосчастное крестьянство, и удрученные горожане — все ждали, когда же наконец придет храбрый и надежный вождь и поведет их в бой за свободу.
И они говорили между собой:
— Где же эти высокие особы, подписавшие Соглашение, объединившиеся якобы для пользы отечества? Зачем же эти двуличные люди заключали так называемый «священный» союз? Затем, чтобы немедленно его расторгнуть? Для чего понадобились все эти шумные сборища? Только для того, чтобы навлечь гнев короля, а потом снова разбрестись? Но ведь так поступают последние трусы и предатели. Если б все эти крупнопоместные и мелкопоместные дворяне, — а их там было пятьсот человек, — заключили меж собой истинно братский союз, они сумели бы нас защитить от извергов-испанцев. Но они, подобно Эгмонту и Горну, пожертвовали благом Бельгии ради своего собственного блага.
— Ой, беда! — говорил народ. — К нам пожаловал честолюбивый красавец дон Хуан — он враг Филиппа, но еще более ярый враг нашей родины. Он ставленник папы и свой собственный. Дворянство и духовенство предали нас.
Дворянство и духовенство только играют в войну. На стенах домов в Генте и Брюсселе, на мачтах кораблей, принадлежащих Гезам, можно прочитать имена изменников — полководцев и комендантов крепостей: имя графа де Лидекерне, сдавшего без боя свой замок дону Хуану; льежского профоса, собиравшегося продать город дону Хуану; господ Арсхота, Мансфельда, Берлеймана, Рассенхина[243]; имена членов Государственного совета — правителя фрисландии Жоржа де Лалена и главнокомандующего Росиньоля, эмиссара дона Хуана, кровавого посредника между Филиппом и Хауреги[244], покушавшимся, но неудачно, на жизнь принца Оранского; имя архиепископа Камбрейского, намеревавшегося впустить испанцев в Камбре; имена антверпенских иезуитов, предложивших Генеральным штатам три бочки золота, то есть два миллиона флоринов, за то, чтобы не разрушать замок в Антверпене и сдать его целехоньким дону Хуану; имя епископа Льежского; имена католических «златоустов», клеветавших на патриотов; имя епископа Утрехтского, от коего горожане потребовали выбрать другое место для плетения сети измены, и названия нищенствующих орденов, ливших воду на мельницу дона Хуана. Жители Хертогенбоса прибили к позорному столбу имя кармелитского монаха Пьера, который при поддержке епископа и прочего духовенства чуть было не сдал город дону Хуану.
Жители Дуэ не повесили in effigie[245] ректора местного университета, державшего сторону испанцев. Зато на кораблях Гезов болтались куклы, на груди у которых были написаны имена монахов, настоятелей монастырей в прелатов, а также имена тысячи восьмисот богатых монахинь и монастырок из Малинской обители бегинок, чьи пожертвования тратились палачами, терзавшими их родину, на то, чтобы объедаться, рядиться и красоваться.
И еще на этих куклах, на этих позорных столбах можно было прочитать имена предателей — коменданта крепости Филиппвиль маркиза д'Арро, разбазаривавшего боевые и съестные припасы, для того чтобы под предлогом их нехватки сдать потом крепость врагу; имя Бельвера, который сдал Лимбург, хотя город мог держаться еще восемь месяцев; имя председателя высшего совета Фландрии, председателей Брюггского и Малинского магистратов, с нетерпением ждавших дона Хуана; имена членов Гельдернской счетной палаты; закрытой за измену; имена членов Брабантского совета, должностных лиц из герцогской канцелярии, членов тайного и финансового совета при герцоге; имена Мененского наместника и бургомистра, а равно и тех злодеев, которые пропустили две тысячи французов, шедших грабить соседнее графство Артуа.
— Ой, беда! — говорили между собой горожане. — Герцога Анжуйского теперь отсюда не выкуришь. Мечтает стать королем. Видели, как он вступал в Монс — низкорослый, толстозадый, носатый, желтолицый, криворотый? Наследный этот принц склонен к противоестественной любви. И, дабы сочетать в его титуле женственность с мужественностью, о нем говорят за глаза: «Ее высочество герцог Анжуйский».
Уленшпигель долго о чем-то думал. Потом запел:
Небо синеет, солнце сияет; Крепом обвейте знамена, Крепом — эфесы шпаг; Все украшения спрячьте, К стене зеркала поверните) Я песню пою о Смерти, Пою о предателях песню.[246] Они наступили ногой на живот И на горло краям горделивым: Брабанту, Фландрии, Люксембургу, Артуа, Геннегау, Антверпену. Попы и дворяне — предатели. Их привлекает нажива. Пою о предателях песню. Повсюду враги мародерствуют, Испанец ворвался в Антверпен[247], А начальники и прелаты Разъезжают по улицам города, Одетые в шелк и золото, Их пьяные рожи лоснятся, Подлость их обличая. Милостью их инквизиция Восторжествует снова, И новые Тительманы За ересь вновь арестуют Глухонемых. Пою о предателях песню. А вы, презренные трусы, Подписавшие Соглашенье, Прокляты будьте навеки! Вас в бою не увидишь: Как воронье, вы стремитесь Испанцам вослед. Бей в барабан скорби! Край бельгийский, грядущее Тебе не дарует прощенья За то, что, вооруженный, Себя ты позволил грабить. Помедли с приходом, грядущее, Вон из кожи лезут предатели: С каждым днем их все больше, Они захватили все должности, И мелкому крупный — подмога. Они сговорились Борьбе помешать Раздорами и нерадением, Предательскими уловками. Зеркала затяните крепом, Крепом — эфесы шпаг. Пою о предателях песню. Они объявляют мятежниками Испанцев[248] и «недовольных», Им помогать запрещают, Давать им ночлег и пищу, Порох и пули свинцовые. Если же те попадутся И дрожат в ожиданье веревки, Их сразу отпустят на волю. «Вставай!» — говорят брюссельцы, «Вставай!» — говорят гентцы И весь бельгийский народ. Хотят вас на растерзанье Отдать королю и папе, Папе, который на Фландрию Крестовый поход снарядил. Идут хапуги продажные На запах крови — Скопища псов, Змей и гиен. Напиваться и жрать им хочется. Бедная наша родина Для разрухи и смерти созрела. Это не дон Хуан, Который вовсю трудился За Фарнезе[249], любимчика папского, А те, кого одарила ты Почестями и золотом, Кто жен твоих исповедовал, Твоих дочерей и сынов! Они тебя наземь бросили, Нож острый к горлу приставили, А нож — у испанца в руке. Они над тобой издевались, Чествуя принца Оранского, Когда он приехал в Брюссель.[250] Когда над каналом вечером Взлетали огни потешные, Взрывались, трещали весело, И плыли ладьи триумфальные, И рябило в глазах от ковров и картин, — Разыгрывалась, о Бельгия, История Иосифа, Которого братья продали.3
Монах, видя, что его не останавливают, стал все выше задирать нос. А моряки и солдаты, чтобы раздразнить его, ругали божью матерь, святых, издевались над католическими обрядами.
Монах неистовствовал и изливал на них потоки брани.
— Да, да! — вопил он. — Я попал в вертеп к Гезам! Да, да, вот они где, окаянные враги отечества! А еще говорят, что инквизитор, святой человек, много их сжег! Какое там много! Кого-кого, а этих отвратительных червей развелось предовольно. Да, да, на прекрасных славных кораблях его величества, прежде сверкавших чистотой, кишмя кишат черви — Гезы, да, да, зловонные черви! Да, да, все это именно черви, грязные, вонючие, мерзкие черви — и певун-капитан, и повар с его поганым пузом и все остальные с богомерзкими их полумесяцами. Когда король с помощью артиллерии начнет надраивать свои корабли, то, дабы истребить эту ужасную, гнусную, зловонную заразу, ему придется истратить более ста тысяч флоринов на порох и ядра. Да, да, все вы рождены на ложе Люциферовой супруги, осужденной жить с сатаной среди червивых стен, под червивым пологом, на червивой подстилке. Да, да, от этого омерзительного сожительства и произошли Гезы. И я на вас плюю!
Послушав такие речи, Гезы наконец сказали:
— Чего мы церемонимся с этим дармоедом? Он все время ругает нас на все корки. Повесим его — и вся недолга!
И бодро взялись за дело.
Когда же принесли веревку, к мачте приставили лестницу и начали скручивать монаху руки; монах взмолился:
— Смилуйтесь, господа Гезы! Это бес злобы говорил во мне, бес, а не я сам, ваш смиренный пленник, бедный инок, у которого только одна шея. Сжальтесь надо мною, милостивцы, суньте мне в рот кляп, если хотите, — это не очень вкусно, но все-таки лучше виселицы!
Гезы не слушали монаха и, невзирая на ожесточенное его сопротивление, тащили к лестнице. Наконец монах так дико завизжал, что Ламме, которому Уленшпигель, сидя возле него в камбузе, перевязывал рану, всполошился.
— Сын мой! Сын мой! — сказал он. — Они украли у меня свинью и режут ее. Ах они, разбойники! Эх, кабы я мог встать!
Уленшпигель поднялся на палубу, но-вместо свиньи увидел монаха. Монах опустился перед ним на колени и простер к нему руки.
— Господин капитан, предводитель отважных Гезов, гроза врагов своих на суше и на море! — завопил он. — Ваши солдаты хотят меня повесить за мое словоблудие. Но это несправедливо, господин капитан! В таком случае накиньте пеньковый воротник на всех адвокатов, прокуроров, на всех проповедников и на всех женщин, но тогда род человеческий прекратится. Избавьте меня от веревки, государь мой, заставьте вечно за себя бога молить, моими молитвами вы избавитесь от вечной муки! Простите меня! Бес празднословия совратил меня, и я говорил без умолку. Вот беда-то какая! У меня желчь разлилась — оттого я и наговорил такого, чего прежде и в мыслях не держал. Пощадите, господин капитан, а вы, господа, попросите за меня!
Неожиданно на палубе появился в одном белье Ламме и сказал:
— Капитан, и вы, друзья мои! Значит, это не свинья визжала, а монах? Очень рад, очень рад. Уленшпигель, сын мой, я имею тебе предложить касательно его преподобия нечто весьма любопытное. Даруй ему жизнь, но не оставляй на свободе, а то он непременно учинит какую-нибудь пакость. Вели смастерить для него на палубе клетку, как для каплунов: чтоб воздуху было достаточно, но чтоб в ней можно было только сидеть и лежать. Я стану откармливать его, и если только он не будет съедать, сколько я захочу, пусть его повесят.
— Коли не будет съедать — повесим, — сказали Уленшпигель и другие Гезы.
— Что ты задумал, пузан? — спросил монах.
— Увидишь, — отвечал Ламме.
Уленшпигель исполнил его желание, монах был посажен в клетку, и каждый мог теперь на него смотреть сколько душе угодно.
Когда Уленшпигель спустился вскоре после Ламме в камбуз, Ламме спорил с Неле.
— Нет, я не лягу, я не лягу! — говорил он. — Я буду лежать, а они будут лазить в мои кастрюли? Я не теленок, чтобы валяться с утра до ночи на подстилке!
— Не горячись, Ламме! — успокаивала его Неле. — Откроется твоя рана, и ты умрешь.
— Что ж, и умру! — подхватил Ламме. — Мне надоело жить без жены. Мало того, что я ее потерял, а ты еще не даешь мне, корабельному коку, приглядывать за кушаньями! Неужели ты не знаешь, что самый запах подлив и жарких целебен? Он укрепляет мой дух и служит мне утешением в бедах.
— Слушайся нас, и мы тебя вылечим, Ламме, — сказала Неле.
— Я сам хочу, чтобы вы меня вылечили, — подхватил Ламме, — но я не могу допустить, чтобы какой-нибудь мерзавец, невежда, вонючий, слюнявый, сопливый, с гноящимися глазами занял престол корабельного повара и начал запускать грязные пальцы в мои подливки. Я его пристукну деревянной ложкой — в моих руках она сразу станет железной.
— Как бы то ни было, тебе нужен помощник, ведь ты же болен… — заметил Уленшпигель.
— Мне — помощник? Помощник — мне? — взревел Ламме. — Да ты же набит неблагодарностью, как колбаса — рубленым мясом! Мне — помощник? И ты, мой сын, говоришь это мне, своему другу, — ты, которого я так долго и сытно кормил? Вот когда откроется моя рана! Коварный друг, кто же тебя здесь так хорошо накормит, как я? Что же с вами обоими станется, если я тебе, господин капитан, и тебе, Неле, не приготовлю этакого аппетитного рагу?
— Уж мы сами как-нибудь похозяйничаем в камбузе, — сказал Уленшпигель.
— Уж ты похозяйничаешь! — воскликнул Ламме. — Кушать в камбузе, обонять, вдыхать его запахи — на это ты способен, но трудиться в камбузе — это не по, твоей части. Господин капитан, бедный мой друг! Да я, не в обиду тебе будь сказано, подам тебе лоскуты от кожаной сумки, а ты скажешь, что это кишки, но только жесткие. Позволь мне, позволь мне, мой сын, исполнять мои поварские обязанности, а не то я высохну, как щепка!
— Что ж, исполняй, — сказал Уленшпигель, — но если ты не поправишься, я запру камбуз и мы будем питаться сухарями.
— Ах, сын мой! — плача от радости, воскликнул Ламме. — Ты добр, как божья матерь.
4
Как бы то ни было, он, по-видимому, выздоровел.
Каждую субботу Гезы могли наблюдать, как он длинным ремнем измеряет толщину монаха в поясе.
В первую субботу он сказал:
— Четыре фута.
Потом измерил себя, сказал:
— Четыре с половиной.
И опечалился.
Однако ж, измерив монаха в восьмую субботу, он возрадовался духом и сказал:
— Четыре и три четверти.
А монах, как скоро Ламме начинал снимать с него мерку, приходил в негодование.
— Что тебе от меня нужно, пузан? — спрашивал он.
Ламме, однако ж, вместо ответа показывал ему язык.
И семь раз на дню моряки и солдаты могли наблюдать, как Ламме подходит к монаху с каким-нибудь новым блюдом.
— Вот бобы с фландрским маслом. Ты когда-нибудь ел такие в монастыре? А ведь ты размордел, — и то сказать; у нас на корабле не тощают. Чувствуешь, какие подушечки отросли у тебя на спине? Скоро будешь обходиться без тюфяка.
Поднося монаху другое блюдо, он говорил:
— А вот тебе koekebakk'и по-брюссельски. Во Франции они называются крепами, а эти не черные, не траурные — наоборот: белые, и хорошо подрумянились. Видишь, как с них масло капает? Вот так же из твоего пуза скоро жир потечет.
— Да я не голоден, — говорил монах.
— Ешь, ешь! — говорил Ламме. — Это ведь, ваше обжорство, не ржаные блины, а пшеничные, крупитчатые, ваше четырехподбородие! Эге-ге, да у тебя уже и пятый растет! Сердце мое радуется. Ешь!
— Оставь ты меня в покое, пузан! — говорил монах.
Ламме свирепел.
— Твоя жизнь в моих руках, — говорил он. — Неужто ты предпочитаешь веревку полной миске гренков с гороховым пюре? Я тебе сейчас принесу.
Немного погодя Ламме являлся с миской.
— Гороховое пюре любит хорошую компанию, — говорил он, — поэтому я подбавил сюда немецких knoedel'ей: это такие вкусные шарики из муки — их надо бросать живыми в кипяток; правда, для желудка они тяжелы, но зато от них жиреют. Ешь сколько влезет. Чем больше съешь, тем больше доставишь мне удовольствия. Только, пожалуйста, не делай вида, что ты сыт по горло, не отдувайся, как будто ты объелся, — знай себе ешь! Лучше есть, чем висеть на веревке, — как по-твоему? Покажи-ка ляжку! Тоже разжирела: два фута семь дюймов в обхвате! Ни с каким окороком не сравнится!
Через час он опять вырастал перед монахом.
— Вот девять голубей, — говорил он. — Этих безвредных птичек, доверчиво летавших над кораблем, убили для тебя. Не побрезгуй! Я положил внутрь кусочек масла, хлебного мякиша; тертого муската и гвоздики, истолченной в медной ступке, которая блестит, как твоя кожа. Его светлость солнце счастливо, что может отразиться в таком ясном лике, как твой, а ясен он из-за жира, из-за толстого слоя жира, коим ты всецело обязан мне.
Пятый раз Ламме приходил к монаху с waterzoey.
— Ты любишь рыбную солянку? — спрашивал он. — Море тебя и несет, море тебя и кормит — больше оно и для самого короля не в состоянии сделать. Да, да, пятый подбородок у тебя заметно растет, причем слева он у тебя прибавил больше, нежели справа. Придется подпитать обездоленную сторону — недаром господь сказал: «Будьте справедливы ко всякому». А какая может быть справедливость, ежели жир распределяется неравномерно? На шестую трапезу я принесу тебе ракушек — этих устриц бедноты. В монастыре их готовить не умеют: прокипятят — и сейчас же начинают есть. Нет, кипячение — это только пролог. После кипячения с них нужно снять скорлупку, положить их нежные тельца в кастрюльку и долго, тушить с сельдереем, мускатом и гвоздикой, а подливка должна быть такая: пиво с маслом, и к ним еще надо подать поджаренные в масле гренки. Так я эти самые ракушки для тебя и приготовил. За что дети должны всю жизнь благодарить родителей? За кров, за ласку, а главное — за пищу. Стало быть, ты должен любить меня, как своих родителей, и брюхо твое должно испытывать ко мне сыновнюю благодарность. Чего ж ты так злобно пучишь на меня свои буркалы?
Сейчас я еще принесу тебе сладкого-сладкого пивного супа, заправленного мукой и засыпанного корицей. Знаешь, для чего? Для того, чтобы жир твой стал совсем прозрачным и чтобы он трясся под кожей. Он уже и сейчас виден, когда ты волнуешься. Однако бьют вечернюю зорю. Спи спокойно и о завтрашнем дне не заботься. Можешь быть уверен, что завтра ты вновь обретешь жирную пищу и своего друга Ламме, который не преминет тебе ее изготовить.
— Уйди! Дай мне помолиться богу! — просил монах.
— Молись, — говорил Ламме, — молись под веселую музыку храпа! От пива и от сна ты еще разжиреешь, здорово разжиреешь! Я в восторге.
И, сказавши это, Ламме шел спать.
А моряки и солдаты говорили ему:
— С какой стати ты раскармливаешь этого монаха? Ведь он тебя ненавидит!
— Не мешайте мне, — отвечал Ламме. — Я делаю великое дело.
5
Настал декабрь — месяц долгих сумерек. Уленшпигель пел.
Светлейший герцог Анжуйский Сбросил личину: Он править Бельгией хочет. Но провинции хоть обыспанились, Все же не стали анжуйскими: Не платят ему налогов. Бей, бей в барабан: Осрамился Анжуец! В распоряжении Штатов Поместья, акцизы, ренты, Назначают они магистратов И должности раздают. На реформатов за это Разгневался герцог Анжуйский, Слывущий во Франции нехристем. Эх! Осрамился Анжуец! Мечом и грубою силой К престолу хочет пробиться И стать самодержцем навечно Его высочество герцог; Захватить он желает обманом[251] Города — и даже Антверпен; Дворяне и горожане! Тревога! Эх! Осрамился Анжуец! Не на тебя, о Франция, Обрушился гнев народный, Разят удары смертельные Не твое благородное тело; Не твои сыновья забили трупами Кип-Дорнские ворота. Эх! Осрамился Анжуец! Не твоих сыновей, о Франция, Сбрасывают с парапетов, А тех, кто вослед за герцогом, За педерастом Анжуйцем Кровь твою пьет, о Франция, И выпить желает нашу; Но желать — одно, а вот сделать. Эх! Осрамился Анжуец! Его высочество герцог Орал в беззащитном городе; «Бей! Убивай! Да здравствует месса!» И орали его любимчики, Красавчики, у которых Во взглядах блуд и похабство. Эх! Осрамился Анжуец! Их мы бьем — не тебя, несчастный народ, Который поборами душат они, Насильем, налогом на соль, недоимками. Отнимают они, презирая тебя, Твой хлеб, лошадей и повозки твои, У тебя, их родного отца. Эх! Осрамился Анжуец! Франция! Ты для них мать. Грудью своей ты вскормила Этих-мерзавцев, на всю вселенную Имя твое опозоривших, Франция. Ты-задохнешься в дыму их славы, Который ползет по свету, Бесчинствами их рожденный. Эх! Осрамился Анжуец! — Новый цветок в твой венец боевой, Новые земли себе ты добудешь. Петуху, что зовется «Похоть и Драка», Наступи на горло покрепче, Народ французский, народ отважный, Шею ему сверни! И полюбят тебя все народы, Когда осрамится Анжуец!6
В мае, когда фламандские крестьянки, чтобы не заболеть и не умереть, ночью медленно бросают через голову три черных боба, рана у Ламме открылась. Его сильно лихорадило.
Он попросил, чтобы его положили на палубе, напротив клетки монаха.
Уленшпигеле позволил, но, боясь, как бы его друг во время приступа не свалился в море, велел крепко-накрепко привязать его к кровати.
Как скоро жар спадал, Ламме неукоснительно напоминал Гезам про монаха и показывал ему язык.
А монах говорил:
— За что ты меня оскорбляешь, пузан?
— Я тебя не оскорбляю — я тебя питаю, — отвечал Ламме.
Дул тихий ветерок, пригревало солнышко. Лихорадившего Ламме, чтобы он в бреду не прыгнул за борт, накрепко привязали к кровати, а Ламме мерещилось, что он в камбузе.
— Печка у нас нынче так и сверкает, — говорил он. — Сейчас на меня посыплется дождь ортоланов. Жена, расставь в саду силки! Я люблю, когда у тебя рукава засучены до локтей. Рука у тебя белая-белая! Я сейчас ее укушу, укушу губами: губы — это бархатные зубы. Кому достанется это дивное тело, эти полные груди, просвечивающие сквозь тонкое белое полотно твоей кофточки? Мне, мне, моя драгоценная! А кто мне поджарит петушьи гребешки и цыплячьи гузки? Только не клади много мускату — от него сильнее лихорадит. Соус — белый, тмин, лавровый лист. А где желтки?
Он сделал знак Уленшпигелю нагнуться к нему и зашептал:
— Сейчас на нас дождем посыплется дичь. Я тебе дам на четыре ортолана больше, чем всем остальным. Ты — капитан. Только смотри не выдавай меня!
Затем он прислушался к мягкому шуму волн и сказал:
— Суп кипит, сын мой! Но как медленно нагревается печка!
Как скоро сознание возвращалось к нему, он заговаривал о монахе:
— Где он? Жиреет?
Однажды он велел поставить на палубе большие весы а на одну чашу посадить его, а на другую монаха. Но едва монах взгромоздился на чашу, как Ламме стрелой взлетел вверх и в восторге крикнул:
— Вот это вес! Вот это вес! Я по сравнению с ним бесплотный дух — чуть было не упорхнул, как птичка. Послушайте, что я вам скажу; снимите его, а то мне не сойти. Теперь положите гири, а монаха опять посадите. Сколько он весит? Триста четырнадцать фунтов? А я? Двести двадцать!
7
Следующей ночью, когда уже чуть-чуть брезжило, Уленшпигеля разбудили крики Ламме:
— Уленшпигель! Уленшпигель! На помощь! Не пускай ее! Перережьте веревки! Перережьте веревки!
Уленшпигель поднялся на палубу.
— Ты что кричишь? — спросил он. — Тут никого нет.
— Это она, — отвечал Ламме, — это она, моя жена, вон в той шлюпке, что плавает вокруг флибота, да, да, того флибота, откуда доносилось пение и звуки виолы.
На палубу поднялась Неле.
— Перережь веревки, деточка! — обратился к ней Ламме. — Ты же видишь: рана моя зажила. Это она своими нежными ручками перевязала мне рану, да, да, она! Смотри, смотри; вон она стоит в шлюпке! Прислушайся! Она поет! Приди ко мне, моя любимая, не бросай бедного своего Ламме! Он без тебя сирота.
Неле взяла его руку, потрогала лоб.
— Жар сильный, — сказала она.
— Перережьте веревки! — повторял Ламме. — Подайте мне шлюпку! Я жив, я счастлив, я здоров!
Уленшпигель перерезал веревки. Ламме, в одних белых холщовых подштанниках, спрыгнул с кровати и сам начал спускать шлюпку на воду.
— Посмотри на Ламме, — сказал Уленшпигель Неле, — у него руки дрожат от нетерпения.
Как скоро шлюпка была спущена, Уленшпигель, Неле и Ламме прыгнули в нее вместе с гребцом и направились к флиботу, стоявшему далеко в гавани.
— Красавец флибот! — заметил Ламме, помогая гребцу.
На холодном утреннем небе, напоминавшем хрусталь, озлащенный лучами зари, отчетливо вырисовывались очертания корабля и стройных его мачт.
Ламме продолжал грести.
— Как же ты ее нашел? — спросил Уленшпигель.
Ламме прерывающимся голосом начал рассказывать:
— Мне стало лучше, я уснул. Вдруг слышу сухой стук. Какой-то деревянный предмет стукнулся о борт. Шлюпка. Выбегает моряк: «Кто это?» В ответ тихий голосок, ее голосок, сын мои, ее, ее нежный голосок: «Друзья!» Вслед за тем чей-то грубый голос: «Да здравствует Гез! От капитана флибота „Иоанна“ к Ламме Гудзаку». Моряк бросает лестницу. Луна светит вовсю; Гляжу, на палубу поднимается человек в мужском одеянии, во у этого человека налитые бедра, округлые колени, широкий таз. «Нет, — думаю себе, — это переодетая женщина». Вдруг, чувствую, словно роза распустилась и касается моей щеки, — это были ее губы, сын мой. Потом, слышу, она заговорила — понимаешь: она! Покрывает меня поцелуями, плачет. У меня было такое чувство, точно по моему телу разлился жидкий душистый огонь: «Я знаю, что поступила дурно, но я люблю тебя, муж мой! Я дала обет богу, но я нарушила клятву, муж мой, милый мой муж! Я часто приходила к тебе, но не решалась приблизиться. Наконец моряк мне позволил. Я перевязала твою рану, но ты меня не узнал. Все-таки я тебя вылечила. Не сердись на меня, муж мой! Я не упускала тебя из виду, но я боюсь: он здесь, у вас на корабле. Пусти меня! Если он меня увидит — проклянет, и гореть мне тогда в огне вечном!» Тут она еще раз меня поцеловала, смеясь и плача, и ушла, невзирая на мои мольбы, на мои слезы. Ты связал меня по рукам и ногам, сын мой, но теперь…
Говоря это, Ламме что было мочи налегал на весла, и в его руках каждое весло напоминало туго натянутую тетиву лука, из которого вот сейчас взовьется к небу стрела.
Когда они были уже совсем близко от флибота, Ламме сказал:
— Вон она, на палубе, играет на виоле — ненаглядная моя жена, с золотистыми волосами, с карими глазами, с еще свежими щечками, с голыми округлыми локтями, с белыми руками. Перелетай, лодка, с волны на волну!
Капитан флибота, увидев приближающуюся шлюпку и изо всех сил гребущего Ламме, приказал бросить с палубы лестницу. Прыгая, Ламме больше чем на три сажени отпихнул шлюпку и чуть не свалился в воду. Взобравшись, как кошка, на палубу, он кинулся к своей жене, а та, замирая от счастья, принялась обнимать его и целовать.
— Не уводи меня с собой, Ламме! — говорила она. — Я дала обет богу. Но я люблю тебя. Ах, дорогой ты мой муж!
— Да это Каллекен Хейбрехтс, красавица Каллекен! — воскликнула Неле.
— Да, это я, — сказала та. — Но увы! Полдень моей красоты уже миновал.
И по лицу ее прошла тень.
— Что ты наделала? — вскричал Ламме. — Что с тобою сталось? Зачем ты меня бросила? Почему ты сейчас хочешь от меня уйти?
— Выслушай меня, но только не сердись, — снова заговорила она. — Я тебе все скажу. Зная, что монахи — люди божьи, я одному из них доверилась — его зовут отец Корнелис Адриансен.
— Что? — услышав это имя, возопил Ламме. — Этот злобный ханжа с помойной ямой вместо рта, откуда он извергает одни гадости да пакости, который ни о чем другом не говорил, кроме как об истреблении реформатов? Этот ярый сторонник инквизиции, восхвалявший королевские указы? Этот мерзкий распутник…
— Не оскорбляй божьего человека, — прервала его Каллекен.
— Знаю я этого божьего человека! — продолжал Ламме. — Пакостник он, паскудник. Нужно же было красавице Каллекен попасть в лапы к блудливому монаху! Не подходи — убью. А я ее так любил! Мое бедное обманутое сердце принадлежало только ей! Зачем ты здесь? Зачем ты за мной ухаживала? Пусть бы лучше я умер. Уходи! Видеть тебя не могу. Уходи! А то я брошу тебя в море. Где мой нож?..
Каллекен обняла его.
— Ламме, муж мой, не плачь! — сказала она. — Не думай обо мне дурно! Я не была близка с этим монахом.
— Лжешь! — крикнул Ламме, плача и скрежеща зубами. — Я никогда не ревновал, а теперь вот ревную. Пагубная страсть! И бешусь и люблю, хочу то убить тебя, то заключить в объятья. Уходи! Нет, побудь! Я так ее лелеял! А теперь жажду крови. Где мой нож? Меня что-то жжет, гложет, грызет, а ты смеешься надо мной…
Кроткая и покорная, она со слезами обнимала его.
— Да, конечно, я зря бешусь, — говорил он. — Да, конечно, ты блюла мою честь, честь супруга, которую мы, мужчины, столь опрометчиво пристегиваем к женской юбке. Вот почему ты мне так сладко улыбалась, когда просила отпустить тебя с подружками послушать проповедь…
— Дай мне сказать! — целуя его, повторяла Каллекен. — Пусть я умру на месте, если говорю неправду.
— Ну умирай, — сказал Ламме. — Ведь ты же непременно солжешь!
— Выслушай меня! — молила она.
— Говори — не говори, мне все равно, — сказал Ламме.
— Отец Адриансен считался хорошим проповедником, — начала Каллекен. — Я пошла послушать его. Он говорил, что духовный сан и безбрачие выше всего на свете, потому что через них верующему легче попасть в рай. Его пламенное, бурное красноречие потрясло многих честных женщин, в том числе и меня, особливо вдов и девиц. Так как безбрачие — путь к совершенству, то он советовал нам вступить на эту стезю, и мы поклялись, что не будем больше знать мужчин…
— Кроме него, разумеется, — со слезами в голосе вставил Ламме.
— Перестань! — сердито сказала она.
— Ну что ж, добивай! — сказал он. — Ты нанесла мне такой страшный удар, что я уж теперь не оправлюсь.
— Нет, оправишься, муженек, — возразила она, — теперь мы будем с тобой неразлучны.
Каллекен хотела обнять и поцеловать его, но он оттолкнул ее.
— Вдовы дали обет не выходить замуж вторично, — сказала она.
Ламме слушал ее, погруженный в ревнивые свои думы.
А Каллекен не без смущения продолжала свой рассказ:
— Он брал к себе в духовные дочери только молодых и красивых женщин и девушек — остальных отсылал к их духовникам. Он сразу же установил такой порядок: его духовные дочери исповедуются только у него, и все ему в том поклялись, и я также. Мои товарки, более опытные, чем я, спросили, не желаю ли я подготовиться к послушанию и покаянию. Я согласилась. В Брюгге, на набережной Каменотесов, близ монастыря миноритов, жила женщина по имени Калле де Нажаж, — у нее девушки обучались и столовались, и она брала с них за это по червонцу в месяц. Корнелис пробирался к Калле де Нажаж из монастыря потайным ходом. У нее в доме, в маленькой комнатке, я осталась с ним наедине. Он велел мне рассказать обо всех моих естественных, плотских наклонностях. Я сперва не решилась, но в конце концов сдалась на уговоры. Плакала горькими слезами, но рассказала все.
— Ай, ай, ай! — простонал Ламме. — И эта свинья в рясе слушала исповедь нежного твоего сердца?
— Он мне неустанно твердил, — и это истинная правда, муженек, — что бога надобно бояться больше, чем людей, что мы для бога должны преодолевать в себе стыд и исповедоваться духовнику во всех своих тайных желаниях — тогда мы будем достойны послушания и покаяния. Затем од сказал, что мне надлежит предстать пред ним нагою, дабы грешное мое тело получило за свои прегрешения легчайшее из наказаний. Однажды он заставил меня раздеться, и, как скоро с меня упала сорочка, я потеряла сознание. Он привел меня в чувство нюхательною солью. «На сей раз довольно, дочь моя, — сказал он, — приходи через два дня и принеси розгу». Это продолжалось долго, но никогда… клянусь богом и всеми святыми… Муж мой!.. Пойми меня!.. Посмотри на меня!.. Удостоверься, что я не лгу. Я осталась чистой и верной тебе… я всегда любила только тебя.
— Бедное нежное тело! — воскликнул Ламме. — Ох, это позорное пятно на подвенечном твоем уборе!
— Ламме! — сказала она. — Он говорил от имени господа и святой нашей матери-церкви — могла ли я его ослушаться? Я не переставала любить тебя, но я дала страшные клятвы пречистой деве не отдаваться тебе. И все-таки я питала слабость — слабость к тебе. Помнишь гостиницу в Брюгге? Я была у Калле де Нажаж — ты проехал мимо на осле вместе с Уленшпигелем. Я пошла следом за тобой. У меня были деньги, на себя я ничего не тратила, а что ты голоден — это я поняла сразу. Я потянулась к тебе, во мне заговорили жалость и любовь.
— Где он теперь? — спросил Уленшпигель.
— Злые люди на него наклепали, по его делу было назначено следствие, и в конце концов отец Адриансен принужден был покинуть Брюгге и укрыться в Антверпене, — отвечала Каллекен. — Мне говорили на флиботе, что его взял в плен мой муж.
— Что? — вскричал Ламме. — Монах, которого я откармливаю, это и есть?..
— Да, — закрыв лицо руками, отвечала Каллекен.
— Дайте мне топор! Дайте мне топор! — взревел Ламме. — Я его убью, а сало блудливого этого козла продам с торгов. Скорей назад, на корабль! Шлюпку! Где шлюпка?
— Убить или хотя бы ранить пленника — это подло, — заметила Неле.
— Что ты смотришь на меня злыми глазами? Ты не дашь мне его убить? — спросил он.
— Не дам, — подтвердила Неле.
— Ин ладно, — сказал Ламме, — я ему ничего худого не сделаю. Только дай мне выпустить его из клетки. Шлюпку! Где шлюпка?
Малое время спустя они сели в шлюпку. Ламме усиление греб и плакал всю дорогу.
— Ты огорчен, муженек? — спросила Каллекен.
— Нет, — отвечал он, — мне весело; ведь ты больше никогда от меня не уйдешь?
— Никогда! — сказала она.
— Ты говоришь, что осталась чистой и верной мне. Но, моя ненаглядная, любимая Каллекен, я жил надеждой когда-нибудь с тобою встретиться, и вот теперь из-за этого монаха наше блаженство будет отравлено ядом — ядом ревности… Когда мне взгрустнется или же когда я просто-напросто устану, ты непременно привидишься мне голой, мне почудится, что твое прекрасное тело предают гнусному бичеванию. Весна нашей любви была моя, а лето — его. Осень будет ненастная, за ней придет зима и похоронит неизменную мою любовь.
— Ты плачешь? — спросила Каллекен.
— Да, — отвечал Ламме, — что прошло, то уже не вернется.
Тут вмешалась Неле:
— Если Каллекен была и вправду тебе верна, она должна тебя бросить за то, что ты такой злюка.
— Он не представляет себе, как я его люблю, — сказала Каллекен.
— Правда? — воскликнул Ламме. — Иди ко мне, моя ненаглядная, иди ко мне, моя женушка! Нет уж более ненастной осени и могильницы-зимы.
Ламме явно повеселел, и скоро они прибыли на корабль. Уленшпигель дал Ламме ключ от клетки, и Ламме отворил ее. Он начал было тащить монаха за ухо, но извлечь его таким образом из клетки ему не удалось. Тогда он допытался заставить монаха пролезть боком — и опять потерпел неудачу.
— Придется сломать клетку, — решил он, — каплун разжирел.
Наконец монаху сложив руки на животе и вытаращив глаза, вылез из клетки, но в ту же минуту налетела волна, корабль качнуло, и монах полетел вверх тормашками.
— Что, будешь еще называть меня пузаном? — обратился к нему Ламме. — У тебя пузо потолще моего. Кто кормил тебя семь раз в день? Я. С чего это ты, такой горлан, присмирел и сменил гнев на милость к бедным Гезам? Посиди еще годик в клетке, так и вовсе оттуда не выйдешь. При каждом движении щеки у тебя трясутся; как все равно свиной студень. Ты уже не орешь, скоро и сопеть перестанешь.
— Да замолчи ты, пузан! — сказал монах.
— Пузан! — в сердцах повторил Ламме. — Я Ламме Гудзак, а ты отец Дикзак, Фетзак, Лейгензак, Слоккензак, Вульпзак, толстый мешок, мешок жира, мешок лжи, мешок обжорства, мешок распутства. У тебя слой жира в четыре пальца толщиной, у тебя глаз не видно — совсем заплыли, мы с Уленшпигелем вдвоем свободно могли бы поместиться в соборе твоего пуза! Ты зовешь меня пузаном, а хочешь поглядеть в зеркало на свое толстобрюшество? Ведь это я тебя так раскормил к монумент из мяса и костей! Я поклялся, что ты салом будешь блевать, салом потеть и оставлять за собой жирные пятна, будто сальная свечка, тающая на солнце. Говорят, будто паралич приходит вместе с седьмым подбородком, а у тебя уже шесть с половиной. — Затем он обратился к Гезам: — Посмотрите на этого потаскуна! Это отец Корнелис Адриансен Дряньсен из Брюгге. Там он изобрел самоновейший вид стыдливости. Его жир — это его наказание. Его жир — это дело моих рук. Слушайте все, моряки и солдаты!. Я ухожу от вас, ухожу от тебя, Уленшпигель, ухожу и от тебя, маленькая Неле, отправляюсь во Флиссинген, — там у меня есть имущество, — и заживу с моей милой вновь обретенной женой. Вы когда-то поклялись мне, что исполните любую мою просьбу…
— Гезы свое слово держат, — объявили все.
— Так вот, — продолжал Ламме, — взгляните на этого блудника отца Адриансена Дряньсена из Брюгге. Я поклялся, что он издохнет от толщины, как свинья. Смастерите ему клетку пошире, впихивайте в него насильно не семь, а двенадцать блюд в день, давайте ему пищу жирную и сладкую. Теперь он бык — превратите его в слона, тогда в клетке свободного местечка не останется.
— Мы его откормим, — обещали Гезы.
— А теперь, — обратясь к монаху, продолжал Ламме, — я и с тобой, подлец, хочу попрощаться. Вместо того чтобы повесить, я тебя кормил по-монастырски, — желаю тебе дальнейшего ожирения и паралича. — И, обняв Каллекен, добавил: — Смотри, хрюкай и мычи от злости — я ее увожу, больше уж ты ее не посечешь.
Монах озлился.
— Так ты, плотоядная баба, возляжешь с ним на ложе любострастия? — обратясь к Каллекен, вскричал он. — Да, да, бесчувственная, ты бросаешь мученика, страдающего за веру Христову, который учил тебя благоговейному, сладостному, блаженному послушанию. Так будь же ты проклята! Пусть ни один священник не отпустит тебе грехи; пусть земля горит под твоими ногами; пусть сахар покажется тебе солью, говядина — дохлой собакой, хлеб — золою, солнце — льдиной, а снег — адским огнем. Да будут прокляты плоды твоего чрева! Пусть твои дети родятся уродами! Пусть у них будет обезьянье тело и свиное рыло — еще толще, чем их живот. Пусть мытарства, слезы и стенания будут твоим уделом как в этом мире, так и в ином — в уготовленном тебе аду, в серном и смоляном аду, где горят в огне такие потаскушки, как ты. Ты отвергла отеческую мою любовь. Будь же ты трижды проклята пресвятою троицею и семижды проклята светильниками ковчега! Пусть же исповедь будет для тебя мукой, причастие — смертельным ядом, пусть каждая каменная плита в храме божьем поднимется, расплющит тебя и молвит: «Сия есть блудница окаянная, на вечную муку осужденная!»
А Ламме запрыгал от восторга.
— Она мне не изменила! — приговаривал он. — Монах сам сказал. Да здравствует Каллекен!
Но Каллекен, рыдая и дрожа всем телом, умоляла Ламме:
— Супруг мой, сними с меня, сними с меня проклятие! Я вижу ад! Сними с меня проклятие!
— Сними с нее проклятие, — обратился Ламме к монаху.
— Не сниму, пузан, — объявил монах.
Но Каллекен, помертвев, опустилась перед отцом Адриансеном на колени, сложила руки и устремила на него молящий взор.
А Ламме не отставал от монаха:
— Сними проклятие, иначе тебя повесят; если же веревка оборвется от тяжести, тебя повесят вторично и будут вешать, покуда не издохнешь.
— И первично, и вторично повесим, — объявили Гезы.
— Что ж, — обратясь к Каллекен, заговорил монах, — иди, распутная, иди со своим пузаном, иди! Я снимаю с тебя проклятие, но господь и все святые его будут зорко следить за тобой. Иди со своим пузаном, иди!
И тут он, обливаясь потом и отдуваясь, умолк.
— Его разносит, его разносит! — вскричал Ламме. — Вот он, шестой подбородок! Седьмой — это уже удар! Ну, а теперь, — обратился он к Гезам, — прощай, Уленшпигель, прощайте, все мои добрые друзья, прощай и ты, Неле, прощай, священная борьба за свободу! Я свое дело сделал.
Тут он со всеми расцеловался и сказал своей жене:
— Пойдем! Настала пора любви законной.
По воде заскользила лодочка, унося Ламме и его горячо любимую жену, а матросы, юнги и солдаты махали шляпами и кричали:
— Прощай, брат! Прощай, Ламме! Прощай, друг и брат!
А Неле, стряхивая слезу, повисшую на реснице у Уленшпигеля, спросила:
— Тебе грустно, любимый мой?
— Хороший он малый, — отвечал Уленшпигель.
— Войне конца не предвидится, — сказала Неле. — Неужто нам суждено всю жизнь видеть слезы и кровь?
— Будем искать Семерых, — отвечал Уленшпигель. — Час освобождения не за горами.
Исполняя обет Ламме, Гезы продолжали откармливать в клетке монаха. Когда, по уплате выкупа, он был выпущен на свободу, в нем оказалось триста семнадцать фунтов пять унций, если исчислять на фландрские меры веса.
А умер он в должности настоятеля своего монастыря.
8
Между тем в Гааге были созваны Генеральные штаты, чтобы судить Филиппа, короля Испании, графа Фландрии, Голландии, и прочая, и прочая, — судить на основании хартий вольности, которые сам же он и выдал.
И секретарь начал так:
— Всякому ведомо, что глава государства поставлен богом владыкою и властителем над подданными его, дабы защищать их и охранять от всяческих обид, утеснений и беззаконий, подобно тому как пастырь приставлен к овцам, дабы стеречь их и охранять. Ведомо также, что подданные сотворены богом не для пользы государя, не для того, чтобы они покорялись ему во всем, — будь то дело доброе или же злое, правое или же неправое, — и не для того, чтобы раболепствовать перед ним. Но государь не может существовать без своих подданных, и цель его — править ими, как того требуют закон и здравый смысл, оберегать их и любить, как отец любит детей своих, как пастырь овец, и быть всегда готовым сложить за них голову. Если же он поступает не так, то его должно почитать не за государя, но за тирана. Король Филипп, опираясь на буллы о крестовом походе и об отлучении, прибегнув к помощи наемников, бросил на нас четыре чужеземные армии. Какое полагается ему наказание согласно законам и порядкам нашей страны?
— Низложить его! — объявили члены Генеральных штатов.
— Филипп солживил клятвы, позабыл об услугах, которые мы ему оказали, о победах, которые мы помогли ему одержать. Зная, что мы богаты, он дал волю членам совета Испании тянуть с нас и грабить.
— Низложить его за неблагодарность и за грабеж! — объявили члены Генеральных штатов.
— Филипп поставил в самых наших крупных городах новых епископов, — продолжал секретарь, — и отдал им во владение и в пользование имущество самых богатых наших аббатств. С помощью епископов он учредил у нас инквизицию.
— Низложить его как палача и как расточителя чужого имущества! — объявили члены Генеральных штатов.
— Наши дворяне, видя, какие чинятся насилия, обратились в тысяча пятьсот шестьдесят шестом году с ходатайством, в котором они умоляли государя изменить в сторону смягчения суровые его указы, особливо касающиеся инквизиции. Государь отказался наотрез.
— Низложить его как свирепого тигра, вечно жаждущего крови! — объявили члены Генеральных штатов.
Секретарь продолжал:
— Есть все основания подозревать Филиппа в том, что он через посредство членов совета Испании тайно подстрекнул своих людей бить священные изображения и громить храмы, дабы затем, под предлогом борьбы с преступниками и смутьянами, двинуть на нас чужеземные войска.
— Низложить его как орудие смерти! — объявили члены Генеральных штатов.
— В Антверпене Филипп перебил жителей[252], разорил фламандских купцов и купцов иноземных. Сам король и совет Испании тайно предоставили известному негодяю Роде возможность стать во главе шайки грабителей и, прикрываясь именем не кого-нибудь, а самого короля Филиппа, собирать дань, подделывать печати и выдавать себя за облеченного особыми полномочиями королевского наместника; Это доказывают перехваченные и находящиеся у нас в руках письма короля. Рода[253] начал действовать, получив согласие короля и после обсуждения в совете Испании. Прочтите письма — в них король одобряет то, что произошло в Антверпене, признает, что тем самым ему оказана услуга, которой он и ожидал, обещает вознаградить, предлагает Роде и другим испанцам идти дальше тем же славным путем.
— Низложить его как разбойника, грабителя и убийцу! — объявили члены Генеральных штатов.
— Мы хотим одного: сохранения наших вольностей, нелицемерного и прочного мира и умеренной свободы, особливо свободы вероисповедания, ибо дело это в существе своем касается бога и совести, Филипп же ничего не дал нам, кроме фальшивых договоров, которые только вызывают междоусобицу, а междоусобица нужна ему для того, чтобы поработить одну за другой все наши области и, так же как Вест-Индию, ввергнуть их в ничтожество при помощи грабежа, конфискаций, казней в инквизиции.
— Низложить его как убийцу, задумавшего погубить нашу родину! — объявили члены Генеральных штатов.
— При посредстве герцога Альбы и его приспешников, при посредстве Медина-Седи, Рекесенса, предателей, заседавших в государственных и областных советах, он утопил в крови родимый наш край. Он советовал дону Хуану и Алессандро Фарнезе, принцу Пармскому, быть беспощадно и бесчеловечно жестокими (что явствует из его перехваченных писем). Он объявил вне закона принца Оранского[254]; нанимал одного за другим трех убийц и теперь подыскивает четвертого; всюду настроил у нас замков и крепостей; сжигал живьем мужчин, закапывал живьем женщин и девушек, брал себе их имущество; изменив своему королевскому слову, удавил Монтильи, Бергеса и других дворян; убил сына своего Карлоса; выдав замуж свою беременную любовницу донью Эуфрасию за принца Асколи, он потом отравил его, чтобы все имущество принца досталось незаконнорожденному ребенку короля; издал указ, в котором объявил всех нас изменниками, заочно приговорил нас к смертной казни, конфисковал наше имущество и, свалив в одну кучу правых и виноватых, совершил преступление, в христианском мире неслыханное.
— Все наши законы, все наши права и вольности говорят о том, что он должен быть низложен, — объявили члены Генеральных штатов.
И печати королевские были сломаны.[255]
А над сушей и над морем сияло солнце, желтели спелые колосья, созревал виноград, на морских волнах сверкал жемчуг — убор невесты Нидерландов — Свободы.
А некоторое время спустя в Делфте четвертый наемный убийца всадил три пули в грудь принцу Оранскому[256]. И, верный своему девизу: «Сохраняй спокойствие среди бурных волн», принц скончался.
Недруги его распустили слух, что, с целью натянуть нос королю Филиппу и не надеясь захватить власть в южных, католических, Нидерландах, он будто бы тайно уступил их «ее высочеству» герцогу Анжуйскому. Но герцогу так и не удалось прижить со Свободой дочку Бельгию — Свобода не любит противоестественной любви.
А Уленшпигель и Неле ушли из флота.
А Бельгия, скованная предателями, стонала под ярмом.[257]
9
Настала пора жатвы, душного зноя, горячего ветра. Жнецы и жницы могли теперь спокойно собирать под свободным небом, на свободной земле посеянный ими хлеб.
Фрисландия, Дренте, Оверэйссель, Гельдерн, Утрехт, Северный Брабант, Северная и Южная Голландия, Валхерен, Северный и Южный Беевеланд, Дюивеланд и Схауен, образующие Зеландию, все побережье Северного моря от Кнокке до Гельдерна, острова Тессел, Влиланд, Амеланд, Схирмонник-Ог — все это, от Шельды до Эмсад было накануне освобождения от испанского ига. Сын Молчаливого Мориц[258] продолжал воевать.
Уленшпигель и Неле, не утратив ни юности, ни силы, ни красоты, ибо любовь и дух Фландрии не стареют, жили в башне Веере и ждали, когда же наконец минет пора тяжких испытаний и над Бельгией повеет ветер свободы.
Уленшпигель хлопотал о том, чтобы его назначили начальником и сторожем башни, — он утверждал, что отличается орлиною зоркостью и слухом тонким, как у зайца, а потому он-де тотчас заметит, если испанец вновь заявится в освобожденную страну, и забьет wacharm, что по-фламандски значит тревога.
Магистрат удовлетворил его просьбу. В награду за его боевые заслуги ему положили жалованье и харчи: флорин в день, две кружки пива, бобов, сыра, сухарей и три фунта говядины на неделю.
Уленшпигель и Неле были одни во всей башне, и жилось им чудесно. С радостным чувством смотрели они на свободные Зеландские острова, видневшиеся вдали, а вблизи глазам их представлялись леса, замки, крепости и военные корабли Гезов, охранявшие побережье.
Ночами Уленшпигель и Неле часто поднимались на верхнюю площадку, вспоминали жестокие бои, в которых им довелось принимать участие, толковали о радостях любви, минувших и предстоящих. Оттуда хорошо было видно море: душными ночами морю не спалось — светящиеся волны то набегали на берег, то отбегали и огнистыми призраками рассыпались по островам. Неле боязно было глядеть на блуждающие огни в польдерсах[259]: «То души несчастных жертв», — уверяла она. Ведь все эти места были еще недавно полями сражений.
Покружив в польдерсах, блуждающие огни проплывали мимо плотин, а затем, словно стосковавшись по телам, из которых они вышли, возвращались обратно.
Однажды ночью Неле сказала Уленшпигелю:
— Ты посмотри, сколько их в Дуивеланде и как высоко они летают! Особенно много их на Птичьих островах. Хочешь туда, Тиль? Я знаю такое снадобье, которое очам смертных открывает невидимое.
— Если это то самое снадобье, благодаря которому я попал на великий шабаш, то я в него не верю, как не верю снам, — возразил Уленшпигель.
— В силе чар сомневаться не должно, — заметила Неле. — Хочешь туда, Уленшпигель?
— Ну что ж!
На другой день он обратился в магистрат с просьбой, чтобы ему дали на смену надежного и зоркого часового для охраны башни и для наблюдения за всею округой.
А затем отправился с Неле на Птичьи острова.
Они шли вдвоем по полям и плотинам, мимо зеленеющих островков, между которыми бурлила вода, мимо травянистых, далее сменявшихся дюнами холмов, облепленных чибисами, чайками и береговыми ласточками, сидевшими до того неподвижно, что издали холмы можно было принять за белые островки, а над холмами тучами носились такие же точно птицы. Земля была усеяна гнездами. Уленшпигель нагнулся, чтобы поднять валявшееся на дороге яйцо, — в ту же минуту на него с криком налетела чайка. На ее зов с тревожными криками слетелись сотни птиц; они вились над головою Уленшпигеля и над соседними гнездами, но приблизиться к Уленшпигелю не решались.
— Уленшпигель! — сказала Неле. — Птицы просят, чтобы ты не трогал их яички.
По ее телу внезапно пробежала дрожь.
— Мне страшно! — призналась она. — Солнце заходит, небо побелело, загораются звезды, — это час духов. Гляди: клубы красного пара вьются над самой землей. Тиль, родной мой, что это за исчадье ада разверзло в облаке огненную свою пасть? Погляди в сторону Филиппсланда — туда, где король-палач, чтобы утолить жестокое свое честолюбие, дважды учинял резню. Видишь, там танцуют блуждающие огни? В эту ночь души несчастных людей, павших в боях, покидают холодное чистилище и греются на земле. В этот час ты можешь о чем угодно просить Христа — бога добрых волшебников.
— Пепел бьется о мою грудь, — молвил Уленшпигель. — О, если бы Христос показал нам Семерых, чей прах, развеянный ветром, должен принести счастье Фландрии и всему миру!
— Маловер! — воскликнула Неле. — Ты увидишь их с помощью снадобья.
— Может быть, и увижу, — показывая на Сириус, сказал Уленшпигель, — если какой-нибудь дух слетит с этой холодной звезды.
Тут мелькавший вокруг Уленшпигеля блуждающий огонек сел к нему на палец, и чем настойчивее пытался Уленшпигель сбросить его, тем крепче держался огонек.
Неле хотела помочь Уленшпигелю, но и к ней на палец вскочил огонек.
Уленшпигель щелкнул по своему огоньку и сказал:
— Отвечай! Кто ты — дух Геза или же испанца? Если ты дух Геза — иди в рай. Если же испанца — ступай, откуда пришел, то есть в ад.
— Души нельзя оскорблять, хотя бы то были души палачей, — заметила Неле и, подбрасывая на пальце огонек, обратилась к нему: — Огонек, милый огонек, что нового в стране душ? Чем они там занимаются? Едят ли, пьют ли, хоть у них и нет ртов? У тебя ведь нет рта, славный ты мой огонек! Верно, они принимают человеческий облик лишь в благословенном раю?
— Что ты теряешь время с унылым этим огоньком, у которого нет ни ушей, чтобы слышать тебя, ни уст, чтобы тебе ответить? — спросил Уленшпигель.
Неле, однако ж, не обращала на него внимания.
— Огонек, ответь мне пляской! — говорила она. — Я трижды обращусь к тебе с вопросом: первый раз во имя господа бога, второй раз во имя пресвятой богородицы и третий раз во имя духов стихий, посредников меж богом и людьми.
Так она и сделала, и огонек три раза подпрыгнул.
Тогда Неле сказала Уленшпигелю:
— Разденься! И я тоже разденусь. Вот серебряная коробочка со снадобьем, навевающим сонные грезы.
— Раздеваться так раздеваться, — проговорил Уленшпигель.
Раздевшись и умастившись волшебным снадобьем, они легли рядышком на траву.
Жалобно кричали чайки. Тучу время от времени прорезала молния, вслед за тем глухо рокотал гром. Меж облаков выглядывали золотые рожки полумесяца. Блуждающие огоньки Уленшпигеля и Неле вместе с другими огоньками резвились на лугу.
Внезапно Неле и Уленшпигеля схватила громадная рука великанши и давай подбрасывать их, как мячики, давай ловить, сталкивать, тискать, бросать в лужицы меж холмами и, опутанных водорослями, вытаскивать на свет божий. Затем, все так же кувыркая их в воздухе, великанша пошла вперед и громко запела, спугивая чаек на островах:
Прочесть желая знаки, Которые храним, Вы щуритесь во мраке, А мрак неодолим. Где знаки роковые, Чей смысл всего темней? Их к мировой стихии Прибили семь гвоздей.И точно: Уленшпигель и Неле увидели на траве, в воздухе и в небе семь светлых скрижалей, прибитых семью огненными гвоздями. На скрижалях было начертано:
Зерно среди навоза проросло, И Семь — добро, хоть Семь — подчас и зло; Алмаз от угля черного рожден, Учитель глуп, а ученик умен, И Семь — добро, хоть Семь — подчас и зло.Так шла великанша, а за нею двигались все блуждающие огни, стрекотавшие, как кузнечики:
Вот папа пап и царь царей, Ему сам Цезарь подчинен, Смотри, узри, уразумей — Из деревяшки сделан он.Неожиданно великанша преобразилась — похудела, стала еще выше и суровее. В одной руке она держала скипетр, в другой — меч. Имя ей было — Гордыня.
Швырнув Неле и Уленшпигеля наземь, она сказала:
— Я богиня.
Но вот рядом с нею появилась верхом на козе багроволицая, быстроглазая девка в расстегнутом платье, с голой грудью. Имя ей было Похоть. Затем появились старая еврейка, подбиравшая яичную скорлупу, — имя ей было Скупость, — и прожорливый, обжорливый монах, пожиравший, колбасу, уплетавший сосиски, все время жевавший, как свинья, на которой он ехал верхом, — то было Чревоугодие. За ним, еле передвигая ноги, бледная, одутловатая, с угасшим взором, тащилась Лень, а ее уколами своего жала подгонял Гнев, Лень стонала от боли и, обливаясь слезами, в изнеможении падала на колени. За ними ползла тощая Зависть со змеиною головою, со щучьими зубами и кусала Лень за то, что она чересчур благодушна, Гнев — за то, что он слишком порывист, Чревоугодие — за то, что оно чересчур раздобрело, Похоть — за то, что она чересчур румяна, Скупость — за собирание скорлупы. Гордыню — за то, что на ней пурпуровая мантия и корона. А вокруг танцевали блуждающие огоньки. И наконец огоньки заговорили плачущими мужскими, женскими, девичьими и детскими голосами:
— Гордыня, мать честолюбия, и ты. Гнев, источник жестокости! Вы убивали нас на полях сражений, в темницах и в застенках — убивали только для того, чтобы удержать свои скипетры и короны! Ты, Зависть, умертвила в зародыше много благородных, драгоценных мыслей; мы — души замученных мыслителей. Ты, Скупость, обращала в золото кровь несчастного народа; мы — души твоих жертв. Ты, Похоть, подруга и сестра Убийства, породившая Нерона, Мессалину[260] и испанского короля Филиппа, ты покупаешь добродетель и оплачиваешь подкуп; мы — души погибших. Вы же, Лень и Чревоугодие, загрязняете землю, вас надо вымести, как сор; мы — души погибших.
Но тут послышался чей-то голос:
Алмаз из угля черного рожден, И плох знак «Семь», хоть он же и хорош, Учитель глуп, а ученик умен; Скажи, блоха, скажи, бродяга-вошь, Где нынче уголь и золу найдешь?А блуждающие огни продолжали:
— Мы — пламя, мы — воздаяние за слезы, за горе народное; воздаяние господам, охотившимся в своих поместьях на человеческую дичь; воздаяние за бессмысленные сражения, за кровь, пролитую в темницах, за сожженных мужчин, за женщин и девушек, зарытых в землю живьем; воздаяние за всю прошлую жизнь, закованную в железы и обагренную кровью. Мы — пламя, мы — души усопших.
При этих словах Семеро превратились в деревянные статуи, не утратив, однако, прежнего своего облика.
И чей-то голос сказал:
— Уленшпигель, сожги дерево!
И Уленшпигель обратился к блуждающим огням.
— Вы — пламя, — сказал он, — так делайте же свое дело!
И блуждающие огни обступили Семерых, и те загорелись и превратились в пепел.
И потекла река крови.
Из пепла возникло семь других образов. Один из них сказал:
— Прежде мне имя было — Гордыня, а теперь я зовусь — Благородная гордость.
Потом заговорили другие, и Уленшпигель и Неле узнали, что Скупость преобразилась в Бережливость, Гнев — в Живость, Чревоугодие — в Аппетит, Зависть — в Соревнование, Лень — в Мечту поэтов и мудрецов. А Похоть, только что сидевшая на козе, превратилась в красавицу, имя которой было Любовь.
И блуждающие огни стали водить вокруг них веселый хоровод.
И тогда Уленшпигель и Неле услыхали многоголосый хор невидимых мужчин и женщин, и голоса то были насмешливые и звонкие, как колокольчики:
Когда в бескрайний мир придет Власть обращенной Седмерицы, Поднимет голову народ, И в мире счастье воцарится.И Уленшпигель сказал:
— Духи глумятся над нами.
А чья-то сильная рука схватила Неле и швырнула в пространство.
А духи пели:
В час, когда север Поцелует запад, Придет конец разрухе. Пояс ищи.— Горе мне с вами! — сказал Уленшпигель. — Север, запад, пояс… Ничего у вас, духи, нельзя понять.
А духи снова запели насмешливыми голосами:
Север — Нидерланды, Бельгия — запад; Пояс — дружба, Пояс — союз.— А вы, духи, совсем не так глупы, — заметил Уленшпигель.
А духи снова запели насмешливыми голосами:
Свяжет этот пояс Нидерланды с Бельгией, Доброй дружбой будет, Славным союзом. Met raedt En daedt; Met doodt En bloodt. Союзом деянья И слова, Скрепленным смертью И кровью. Так бы и было, Когда бы не Шельда[261], Эх, бедняга, когда бы не Шельда.— Ох, ох, ох! — вздохнул Уленшпигель. — Стало быть, такова наша горькая участь: слезы людей и насмешки судьбы.
Духи насмешливо повторили:
Скрепленным смертью И кровью, Когда бы не Шельда.И тут чья-то сильная рука схватила Уленшпигеля и швырнула в пространство.
10
Когда Неле упала и протерла глаза, то она уже ничего не увидела, кроме солнца, встававшего в золотистом тумане, травы, тоже залитой золотом, и спящих чаек, оперение которых желтил солнечный луч. Но чайки скоро проснулись.
Устыдившись своей наготы, Неле быстро оделась и прикрыла Уленшпигеля. Она стала его трясти, но он лежал неподвижно, как мертвый. Ужас объял ее.
— Неужели я отравила моего любимого волшебным снадобьем? — воскликнула она. — Тогда мне лучше не жить на свете! Тиль! Тиль, проснись! Он холоден, как мрамор!
Уленшпигель не просыпался.
Он спал ночь, день и еще одну ночь. Неле, обезумев от горя, бодрствовала над любимым своим Уленшпигелем.
Утром Неле услышала звон колокольчика и увидела шедшего с лопатой крестьянина. За ним шли со свечами бургомистра двое старшин, священник из села Ставениссе и псаломщик, державший над ним зонтик.
Направлялись они, по их словам, соборовать доблестного Якобсена, который страха ради примкнул было к Гезам, но, как скоро опасность миновала, вернулся умирать в лоно святой римско-католической церкви.
Они остановились возле плачущей Неле и распростертого на траве Уленшпигеля, которого Неле прикрыла его одеждой. Неле опустилась на колени.
— Что ты делаешь возле мертвого тела, девушка? — спросил бургомистр.
— Молюсь за моего милого, — его убило молнией, — боясь поднять на бургомистра глаза, отвечала Неле. — Теперь я осталась одна в целом свете и тоже хочу умереть.
— Слава богу! Гез Уленшпигель умер! — задохнувшись от радости, воскликнул священник. — Рой скорее могилу, мужик, только перед тем как опускать его, не забудь снять с него одежду.
— Нет, нет! — крикнула Неле и встала с колен. — Не снимайте с него одежду — ему будет холодно под землей!
— Рой могилу! — приказал священник крестьянину с лопатой.
— Ну что ж! — давая волю слезам, сказала Неле. — Червей здесь быть не может: почва песчаная; в ней много извести, и мой любимый останется невредим и прекрасен.
И тут она, как безумная, припала к Уленшпигелю и, рыдая, покрыла поцелуями и омочила слезами его тело.
Бургомистр, старшины и крестьянин преисполнились к ней сострадания, а священник с восторгом повторял:
— Слава богу! Великий Гез умер!
Крестьянин вырыл могилу, положил туда Уленшпигеля и засыпал песком.
А священник стал читать над могилой заупокойную молитву. Все опустились на колени.
Неожиданно песок зашевелился, и из него, чихая и мотая головой, вылез Уленшпигель и схватил священника за горло.
— Инквизитор! — крикнул он. — Ты живьем закопал меня в землю, когда я спал. Где Неле? Ты и ее закопал? Кто ты такой?
— Боже праведный! Великий Гез воскрес! — возопил священник и пустился бежать, как заяц.
Неле приблизилась к Уленшпигелю.
— Поцелуй меня, моя ненаглядная! — сказал он.
Затем он посмотрел вокруг: крестьянин и псаломщик, побросав лопату, свечи и зонтик, улепетнули вслед за священником, а бургомистр и старшины, заткнув от страха уши, охали, лежа на траве.
Уленшпигель подошел и встряхнул их.
— Никому не удастся похоронить Уленшпигеля, дух нашей матери-Фландрии, и Неле, сердце ее! — сказал он. — Фландрия тоже может уснуть, но умереть она никогда не умрет! Пойдем, Неле!
И он ушел с Неле, распевая десятую свою песенку, но когда он спел последнюю, — этого не знает никто.
1
Издание «Легенды» 1869 г. иллюстрировали 18 художников.
(обратно)2
Птица Минервы — в античной мифологии сова — птица богини Минервы, покровительницы ремесла, наук и искусств.
(обратно)3
Карл V Габсбург — германский император (1519—1556), король Испании (с 1516 г.) под именем Карла I. Благодаря династическим связям и завоеваниям под его властью на краткое время оказались объединенными Испания, Нидерланды, часть Италии, Германская империя, испанские колонии в Новом Свете и другие земли. В 1556 г. Карл V отрекся от престола. В 1558 г. он умер.
(обратно)4
Филипп II — король Испании (1556—1598), сын Карла V. Правление Филиппа II было вершиной и началом упадка испанского абсолютизма. Внутренняя политика этого короля отмечена жестоким подавлением народных восстаний, свирепыми преследованиями инаковерующих, разгулом инквизиции. Во внешней политике Филипп II добивался подчинения всей Европы своему влиянию и вмешивался во внутренние дела других стран, поддерживая всюду силы католической реакции.
(обратно)5
я согрешил (лат.)
(обратно)6
Древнее название одного из островов Греции; Кифера считалась родиной культа Афродиты, богини любви.
(обратно)7
Христианская мученица, жившая, по преданию, в III или IV в.
(обратно)8
сорт пива (флам.)
(обратно)9
Патар — мелкая монета.
(обратно)10
Крупная золотая монета.
(обратно)11
Букв.: солнце на востоке (флам.)
(обратно)12
Букв.: камень (флам.), каменное строение; здесь: тюрьма.
(обратно)13
Лиар — мелкая монета.
(обратно)14
«ягненок» (флам.)
(обратно)15
Гудзак — по-фламандски означает «мешок доброты».
(обратно)16
сорт крепкого пива (флам.)
(обратно)17
Старинная голландская монета.
(обратно)18
Старинная голландская монета, полтора гульдена.
(обратно)19
В католической церкви коллегия духовных лиц с административными и судебными полномочиями.
(обратно)20
Принц Оранский — здесь не Вильгельм, один из героев романа Костера, а Филибер (1502—1530), полководец, перешедший от Франциска I к его врагу Карлу V, который одарил его владениями в Нидерландах. После смерти Филибера титул принца Оранского перешел к брату его жены, Рене Нассау-Шалонскому, двоюродному брату Вильгельма. Герцог Алансонский. — По-видимому, Костер по ошибке, называет герцогом Алансонским герцога Бурбонского (1490—1527), бывшего главнокомандующим у Франциска I и переметнувшегося к Карлу V. Фрундсберг Георг фон (1473—1528) — немецкий полководец. В 1527 г. стоял во главе одиннадцатитысячной армии, полученной Карлом V от немецких протестантов, с которыми император временно примирился, рассчитывая на их помощь в войне о папой.
(обратно)21
…ворвались в святой град… — В мае 1527 г. Рим был взят и разграблен войсками Карла V, которого сложная династическая и военная борьба привела к столкновению с папой Климентом VII, поддерживавшим французского короля Франциска I.
(обратно)22
Святейшего владыку заточили. — После вторжения войск Карла V в Рим папа Климент VII еще около месяца сопротивлялся, запершись в своей крепости — замке св.Ангела, но был вынужден капитулировать. Карл не торопился выручать папу, и он до осени оставался пленником в руках солдат.
(обратно)23
Рейтары — наемная кавалерия, появившаяся в XVI в. на смену конным рыцарям, сражавшимся в одиночку. Ландскнехты — немецкие наемные войска (пехота), в XVI в. служившие и за пределами Германии.
(обратно)24
Скопец не мог быть избран папой.
(обратно)25
…приказал… облечься в траур… — Взятие Рима солдатами Карла, среди которых было много протестантов, в разгром города, сопровождавшийся грабежом церквей, произвели тяжелое впечатление в Испании. Чтобы как-то сгладить его и выразить свое сожаление, Карл отменил празднества по случаю рождения сына. Однако он ничего не сделал, чтобы прекратить бесчинства своих солдат.
(обратно)26
сорт пива (флам.)
(обратно)27
По библейскому сказанию, стены города Иерихона, осажденного Иисусом Навином, рухнули от звука труб.
(обратно)28
…свирепые королевские указы. — Начиная с 1521 г. Карл V стал издавать указы против еретиков. Здесь излагается так называемый Кровавый указ 1550 г. (издан несколько позже того времени, о котором идет речь).
(обратно)29
Полицейский чин.
(обратно)30
…Христофом да Ремонда и Иоанном Целем. — Здесь перечислены имена некоторых предшественников и деятелей реформации — широкого общественного движения, направленного против католической церкви. Отдельные направления в реформации отличались друг от друга социальным содержанием. Наряду с направлениями раннебуржуазного и отчасти дворянского происхождения, стремившимися к устранению привилегий духовенства и т.п., различают и направления народные, для которых лозунги реформации были выражением стремлений к глубоким социальным преобразованиям. Отколовшиеся от католицизма в результате реформации церковные направления получили впоследствии общее название — протестантизм. Упомянутые в тексте реформаторы — частью современники Карла V, как, например, немцы Лютер (1483—1546) и Меланхтон (1497—1560), швейцарец Цвингли (1484—1531), частью писатели и мыслители предшествующих веков, как итальянец Марсилий Дадуамский (ок.1275—1343 гг.), англичанин Виклиф (ок.1320—1384 гг.), чешский национальный герой Ян Гус (1371—1415).
(обратно)31
Университет в г.Лувене (Брабант) с середины XVI в. становится оплотом католицизма.
(обратно)32
…спорить о Священном писании… — Сторонники церковных реформ в полемике с папистами издавна опирались на толкование библейских текстов, показывая несоответствие католического учения Писанию. Ортодоксальные католики не могли ответить на эту критику ничем, кроме запрета простым верующим читать и толковать Библию.
(обратно)33
Гамбриниус (иначе Гамбринус) — легендарный король Фландрии и изобретатель пива.
(обратно)34
Примитивный музыкальный инструмент, букв.: гремящий горшок (флам.)
(обратно)35
Льеж — крупный город в Южных Нидерландах, центр Льежского епископства, большой области, находившейся под властью епископа и формально автономной.
(обратно)36
Должностное лицо при епископе.
(обратно)37
Де ла Марк Эбергард (Эврар) (ок.1475—1538 гг.) — льежский епископ (с 1505 г.), кардинал (с 1520 г.). Деспотичный и жестокий, свирепо преследовавший еретиков, он был ненавистен даже своему окружению.
(обратно)38
Христианская святая; по преданию, в молодости была блудницей, а потом раскаялась.
(обратно)39
У древних финикиян богиня плодородия в любви; в позднейшие времена ее имя стало символом распутства.
(обратно)40
сорт темного пива (флам.)
(обратно)41
Тит Бибул (лат. bibulus — пьяница), Шнуффий (от флам. snuffelen — нюхать). — Тройная кличка, данная псу школьным учителем, пародирует трехчленное древнеримское имя.
(обратно)42
Гипербореи — сказочный народ, живший, по представлениям древних греков, на дальнем севере.
(обратно)43
Монета достоинством около 20 катаров.
(обратно)44
…город Гент отказался платить подать… — Династические войны Карла V были непопулярны в Нидерландах, и, когда в 1537 г. в связи с войной против Франциска I Карл обложил нидерландские города большой податью, Гент отказался уплатить свою долю налога. Конфликт обострился и привел к открытому восстанию.
(обратно)45
Франциск I, французский король (1515—1547 гг.) из династии Валуа. В начале царствования покровительствовал наукам, но потом сделался надежной опорой мракобесов и реакции. Франциск вел бесконечные войны с Карлом V.
(обратно)46
Валансьенн — нидерландский город близ французской границы, где в январе — феврале 1540 г. по пути в Гент останавливался Карл V. Послы из мятежного Гента даже не были допущены в город, так как в Валансьенн с Карлом прибыли сопровождавшие его французские сановники и «не следовало, чтобы иноземцы знали правду о гентских делах».
(обратно)47
Альба Фердинанд Альварес де Толедо, герцог (1507—1582) — один из военачальников и советников Карла V, а впоследствии Филиппа II. Чванный кастильский дворянин и свирепый фанатик, он презирал и ненавидел «недосожженных еретиков» нидерландцев, которые платили ему тем же. Кровавое наместничество Альбы (1567—1573) вошло в историю Нидерландов как самое мрачное для страны время.
(обратно)48
Принц Оранский — здесь Рене Нассау-Шалонский, унаследовавший титул принца Оранского от мужа своей сестры Филибера; близкий друг и советник Карла V. Умер в 1544 г. и завещал свой титул двоюродному брату, одиннадцатилетнему Вильгельму, будущему деятелю Нидерландской революции.
(обратно)49
Букв.: хозяева высоких ворот (флам.)
(обратно)50
…грамоту, которую Карл пожаловал городу Генту… — Документ от 30 апреля 1540 г., определял правовое положение города и его жителей после подавления восстания; городское самоуправление было подчинено королевскому правительству.
(обратно)51
Филипп II женился на Марии Португальской в 1543 г. Рождение дона Карлоса и смерть Марии относятся к 1545 г.
(обратно)52
Длинный полотняный балахон, одеяние осужденных инквизицией; на сан-бенито присужденного к смерти изображались языки пламени.
(обратно)53
В «Красный Щит».
(обратно)54
сорт крепкого пива (флам.)
(обратно)55
Лютер, выступивший в Германии в 1517 г., вскоре приобрел приверженцев и в Нидерландах, но широкого распространения здесь его учение не получило. Однако католики, говоря о «Лютеровой ереси», могли иметь в виду протестантизм вообще.
(обратно)56
Традиционная мишень для состязаний в меткости стрельбы.
(обратно)57
блины (флам.)
(обратно)58
тушеное мясо кусочками (флам.)
(обратно)59
Во фламандском фольклоре — сказочная страна с молочными реками и кисельными берегами.
(обратно)60
сорт крепкого пива (флам.)
(обратно)61
Судебная коллегия (флам. букв.: Четыре скамьи), собиравшаяся по старинному обычаю под большим деревом.
(обратно)62
Золотая булла (грамота с золотой печатью), озаглавленная «Радостный въезд», содержала запись старинных вольностей и привилегий Брабанта и Лимбурга. С 1356 г. каждый новый герцог при торжественном въезде в резиденцию должен был подтверждать эти вольности.
(обратно)63
сударей и сударынь (флам.)
(обратно)64
«Пошли мне твердость духа в борьбе с врагами твоими».
(обратно)65
То же, что кальвинисты, хотя здесь речь может идти о приверженцах любого реформационного учения.
(обратно)66
хозяин (флам.)
(обратно)67
…увез в Лаленский замок… — В 1521 г. во время войны с Францией в Ауденаарде была ставка Карла V. Здесь молодой император прельстился девушкой из соседней деревни. Ее дочь Маргарита стала наместницей Нидерландов (1559—1567 гг.).
(обратно)68
Мария Тюдор — королева Англии (1553—1558 гг.). Вышла замуж за Филиппа II, который прожил в Англии некоторое время.
(обратно)69
Доминиканцы — один из «нищенствующих» монашеских орденов католической церкви. Основан в начале XIII в. В течение долгого времени в руках доминиканцев находилась инквизиция.
(обратно)70
Вулкан — у древних римлян — бог огня; он отождествлялся с древнегреческим богом-кузнецом Гефестом, мужем Афродиты (Венеры), богини любви, изменявшей ему с богом войны Аресом (Марсом).
(обратно)71
«Великой блудницей», которая должна погибнуть от божьего гнева, в 17-й главе Апокалипсиса (одна из книг Нового завета, написанная в I в.н.э. при римском императоре Нероне, когда христианство преследовалось государством) подразумевается императорский Рим. Во времена реформации протестанты, указывая на чудовищную развращенность нравов папского двора, относили пророчество Апокалипсиса к папскому Риму.
(обратно)72
Торговля святыней, или «симония», — одно из основных обвинений, предъявлявшихся римской курии протестантами. Симонией они считали продажу церковных должностей и торговлю индульгенциями.
(обратно)73
Фридрих Саксонский — Возможно, что здесь имеется в виду саксонский курфюрст Иоганн-Фридрих, один из руководителей союза протестантских князей Германии, которые в 1546—1547 гг. вели неудачную войну против императора.
(обратно)74
…падет великий Вавилон… — Согласно Апокалипсису, после падения Вавилона будет установлено для верных тысячелетнее царство божие. Во времена реформации враги католицизма видели в этом пророчестве указание на неизбежность гибели папского Рима.
(обратно)75
...окаянные еретики... — Реформированная (англиканская) церковь обладала в Англии большой силой и была государственной как до, так и после недолговременного правления Марии Тюдор, жены Филиппа II. Многочисленны в Англии были и секты (пуритане, индепенденты и т.д.).
(обратно)76
Генрих II — французский король (1547—1559 гг.), сын Франциска I, продолжавший его политику. Жестоко преследуя протестантов во Франции, он тем не менее вступил в союз с немецкими протестантами для борьбы против своего постоянного противника Карла V. После заключения мира с Филиппом II (1559 г.) Генрих выдал за него свою старшую дочь. Во время свадебных празднеств на рыцарском турнире Генрих был ранен и через несколько дней умер.
(обратно)77
Под Мецом я потерпел позорное поражение. — В 1552 г. Карл V был вынужден отдать французам город Мец. Заключив с протестантами мир на продиктованных ими условиях. Карл осадил Мец, под которым стоял два с половиной месяца, но не смог его взять.
(обратно)78
Юлий Третий — римский папа (1550—1555 гг.). Контрреформационная политика этого слабовольного человека определялась его окружением, большую роль в котором играли иезуиты.
(обратно)79
Ах ты, бога душу, разрази тебя бог (ит.)
(обратно)80
Премонстранты — католический монашеский орден, основанный в 1119 г.; пользовался поддержкой папы.
(обратно)81
Индульгенция — папские грамоты об «отпущении грехов». Циничная торговля индульгенциями была для римского двора важным источником дохода. Запрещение продажи индульгенций было одним из основных требований реформации.
(обратно)82
пончики (флам.)
(обратно)83
рыбная солянка (флам.)
(обратно)84
хозяйка (флам.)
(обратно)85
«Голубая Башня» (флам.)
(обратно)86
Барон де Ре Жиль де Лаваль (1404—1440) — полководец французского короля Карла VII, соратник Жанны д'Арк, маршал Франции (с 1429 г.) Впоследствии удалился от двора и вел уединенную жизнь в своих поместьях, занимаясь алхимией и магией и предаваясь противоестественным порокам. Жертвами его, как говорили, стали сотни замученных им детей. Был арестован и после громкого процесса сожжен. Народные предания рисуют его страшным колдуном и чернокнижником.
(обратно)87
Вечный Жид — По средневековым легендам, некий иудей (в немецких преданиях он зовется Агасфером) ударил Христа, шедшего на казнь (по другим рассказам, прогнал Христа от своего дома, где тот хотел отдохнуть), за что был обречен на вечное странствование.
(обратно)88
Передача Карлом V своих владений Филиппу происходила постепенно. На описанной в романе торжественной церемонии в Брюсселе (октябрь 1555 г.) Филипп был назначен правителем Нидерландов и главой ордена Золотого руна. Отречение Карла от испанского престола в пользу сына последовало лишь через несколько месяцев. Императорский престол перешел к Фердинанду Австрийскому, брату Карла.
(обратно)89
Генеральные штаты — высшее представительное учреждение Нидерландов. Помимо знати, в штатах пользовались известным влиянием богатые горожане.
(обратно)90
Вильгельм Оранский, прозванный Молчаливым (1533—1584) — видный деятель Нидерландской революции. Крупнейший и самый богатый вельможа страны, расчетливый политик и дипломат (но посредственный полководец), он был равнодушен к религии и четыре раза менял вероисповедание по политическим соображениям. Абсолютистские тенденции в политике Филиппа II толкнули Вильгельма Оранского в лагерь оппозиции; борьба против испанцев в конце концов привела его к высшему государственному посту в буржуазной республике Соединенных провинций (Голландии). На первом этапе революции агитация Вильгельма Оранского и его сторонников сыграла немалую роль в деле объединения антииспанских сил. Но страх перед народными движениями заставлял его возлагать слишком много надежд на наемников и на помощь иноземных монархов.
(обратно)91
Эгмонт Ламораль, граф (1522—1568) — один из наиболее родовитых и богатых нидерландских вельмож. Входил в ближайшее окружение Карла V. После его смерти служил Филиппу II и отличился как полководец в войне с Францией. Вызывающая антинидерландская политика Филиппа II заставила Эгмонта стать в оппозицию к королю. В Государственном совете Эгмонт, Вильгельм Оранский и Горн составили сильную группировку, боровшуюся против Гранвеллы и добившуюся его отставки. Но когда народное возмущение испанским владычеством стало проявляться в открытых восстаниях, Эгмонт предпочел отойти от антииспанского движения. В январе 1567 г. он первым из дворянских руководителей подчинился требованию принести дополнительную присягу в «безграничном повиновении» испанскому королю. Несмотря на это, он вместе с Горном был арестован и казнен герцогом Альбой.
(обратно)92
Горн Филипп де Монморанси, граф (1518—1568) — один из крупных нидерландских вельмож.
(обратно)93
Бредероде Хендрик, барон (1531—1568) — представитель высшей нидерландской знати. Играл видную роль в выступлениях оппозиционного дворянства, открыто поддерживая союз «Соглашения». В 1566 г. отказался принести присягу в «безграничном повиновении» королю и после неудачных попыток поднять против испанцев восстание в Антверпене и Амстердаме был вынужден бежать в Германию.
(обратно)94
Кавалеры Золотого руна — члены рыцарского ордена, основанного бургундским герцогом Филиппом Добрым в 1429 г. Число их было ограничено. Звание члена ордена считалось среди нидерландских феодалов признаком принадлежности к высшей знати. Знаком ордена было золотое изображение агнца на золотой цепи.
(обратно)95
…предназначен для женщины, то есть для королевы… — Мария Венгерская, сестра Карла V, бывшая венгерская королева, наместница Нидерландов до отречения Карла (1531—1555 гг.).
(обратно)96
Гранвелла Антуан Перрено де (1517—1586) — один из близких советников Карла V и Филиппа II. С 1561 г. кардинал (следовательно, в момент отречения Карла кардиналом еще не был). При Филиппе II стал фактическим наместником короля в Нидерландах. Гранвелла был верным слугой испанского абсолютизма и католицизма. Он не скрывал своей неприязни к старым вольностям страны и к ее народу. Общественное мнение Нидерландов возлагало на Гранвеллу ответственность за политику Филиппа II, и в 1564 г. он под благовидным предлогом был удален из страны.
(обратно)97
…в Нидерландах жестоко преследовал… — Карл V, издавший в 1521 г. Вормский эдикт, направленный против Лютера, пытался бороться с реформацией и в Германии. Но войны, отвлекавшие Карла от германских дел, и военные силы, которыми располагали протестанты в Германии, время от времени вынуждали его мириться с ними и даже пользоваться их помощью в борьбе против папы.
(обратно)98
Если бы германские государи остались католиками — Часть немецких князей примкнула к реформации, стремясь отобрать у церкви ее обширные земельные владения и усилить свою власть за счет императорской. Князья-протестанты в Германии не раз воевали с Карлом V и в 1555 г. добились признания своих завоеваний.
(обратно)99
…я выкачал оттуда денег больше, нежели из Вест-Индии и из Перу… — При Карле V Нидерланды приносили императорской казне вчетверо больше дохода, чем испанские колонии в Новом Свете.
(обратно)100
…теперь они обо мне горюют. — Действительно, Карл V как уроженец Фландрии был все же более популярен в стране, чем его сын.
(обратно)101
Кадаанский мирный договор (1489) — договор между императором Максимилианом I (дедом Карла V) и фламандцами.
(обратно)102
…усмирил Гент… — Имеется в виду подавление гентского восстания 1539—1540 гг.
(обратно)103
…у которого целых три короны… — Головной убор римского папы — тиара — представляет собой высокую шапку, опоясанную тремя коронами, символизирующими права папы как судьи, законодателя и священнослужителя католического мира.
(обратно)104
братья-задиры (флам.)
(обратно)105
толстяк (флам.)
(обратно)106
Эйленшпигелькен — намек на героя немецких народных рассказов (шванков) Тиля Эйленшпигеля. Рассказы эти были очень популярны в Германии. Первый их сборник вышел в 1500 г. (то есть до «рождения» героя романа Костера).
(обратно)107
Водяной сеньор (флам.)
(обратно)108
Сборники папских писем и посланий; в католической церкви имеют силу закона.
(обратно)109
Господи Иисусе, матерь божья! (флам.)
(обратно)110
Вставай! Вставай! Тебе что сказано, паршивый пес! (флам.)
(обратно)111
Тительман — один из наиболее жестоких и ненавистных народу инквизиторов, поставленных Гранвеллой. Он осуждал без суда и следствия даже заведомых католиков.
(обратно)112
«Красный щит» (флам.)
(обратно)113
…что ты сделал с погаными идолами… — Последователи реформационных учений отвергали католический культ богоматери и святых, почитание мощей, икон, статуй и т.д.
(обратно)114
Этот завет находится в святом Евангелии… — Противопоставление авторитета Священного писания, в особенности Евангелия, авторитету римской церкви характерно для всех направлений реформации.
(обратно)115
сорт пива (флам.)
(обратно)116
После отречения от испанской короны (январь 1556 г.) Карл V жил в монастыре св.Юста, продолжая вмешиваться в политическую жизнь страны.
(обратно)117
рисовая каша (флам.)
(обратно)118
По библейскому преданию, силач-великан из войска филистимлян.
(обратно)119
Правительница (наместница) — Маргарита Пармская (1522—1586) — побочная дочь Карла V. Уроженка Нидерландов, воспитанная при дворе. В 1559 г. Филипп II назначил ее наместницей Нидерландов (однако до 1564 г. она была, согласно секретным предписаниям короля, фактически подчинена Гранвелле). Политика Маргариты казалась королю недостаточно жесткой, и после прибытия в Нидерланды герцога Альбы она, понимая, что теперь власть ее становится фиктивной, предпочла покинуть страну (1567 г.).
(обратно)120
Глава испанской инквизиции.
(обратно)121
Появившись в Нидерландах с 40-х гг. XVI в. и официально обосновавшись здесь в 60-е годы, иезуиты активно включаются в борьбу против ереси.
(обратно)122
кабачок (флам.)
(обратно)123
вяленая треска (флам.)
(обратно)124
Филипп II был известен своей страстью к составлению всякого рода бумаг.
(обратно)125
Кардинал де Куза. — По-видимому, имеется в виду Николай Кузанский (1401—1464, кардинал с 1448 г.; Костером дата указана неправильно), известный ученый (он, например, до Коперника писал о вращении Земли), философ и богослов. Как церковный деятель он был сторонником реформы католицизма.
(обратно)126
Вселенские соборы — съезды высших церковных иерархов. В XV в. среди католиков было сильно течение, стремившееся подчинить папство авторитету собора, но в XVI в. принцип верховности папы одержал верх.
(обратно)127
Резиденция испанских королей в пятидесяти двух километрах от Мадрида.
(обратно)128
…принял решение учредить здесь испанскую инквизицию… — До Филиппа в стране было шесть больших епископств. Филипп учредил еще четырнадцать, подчинив их все трем архиепископам. Назначение епископов папа передоверил королю. Многие из назначенных епископов были ранее инквизиторами. Архиепископом Мехельнским (главой нидерландской церкви) был назначен ненавистный всем Гранвелла. Преобразования вызвали недовольство даже среди части духовенства.
(обратно)129
Людвиг Нассауский (1538—1574) — брат и соратник Вильгельма Оранского. Один из наиболее непримиримо настроенных дворян-протестантов. В борьбе против католической монархии Филиппа II не останавливался перед проектами раздела Нидерландов между Францией и Германией.
(обратно)130
Кюлембург (Кейлембург) Флорис ван Палландт, граф — один из знатнейших дворян, поддерживавших союз «Соглашения». После подачи прошения наместнице участники «Соглашения» устроили во дворце Кейлембурга банкет, на котором ими и было принято прозвище «гезы» (то есть «нищие»). После волнений 1566 г. бежал из страны, примкнув к Вильгельму Оранскому.
(обратно)131
Документ, известный под названием «Соглашение» («Компромисс», 1566 г.), был составлен группой дворян-протестантов, но так, чтобы под ним могли подписаться и недовольные королем католики. Главным требованием была отмена инквизиции. Вильгельм Оранский, не решаясь еще открыто возглавить движение, предложил союзу подать петицию Маргарите Пармской (1566). Напряженная обстановка в стране заставила наместницу принять петицию и дать обещание добиваться от короля «смягчения» указов.
(обратно)132
Берлеймон Карл, граф (1510—1578) — глава Финансового и член Государственного совета Нидерландов, один из самых рьяных защитников испанских интересов в Нидерландах.
(обратно)133
…назло Красной собаке. — Разговоры о Гранвелле в этой главе романа — анахронизм. Ненавистный нидерландцам кардинал покинул страну за два года до вручения наместнице прошения гезов. Ко времени борьбы с ним относится и то придуманное для себя оппозиционными дворянами платье, о котором идет здесь речь. Темное, из простой ткани, с вышитыми на нем красными шутовскими колпаками, оно впервые появилось на одном из маскарадов во время карнавала. В шутовских колпаках видели намек на кардинальскую шапку Гранвеллы. С весны 1565 г. появляется форма гезов, подражающая костюму нищих.
(обратно)134
сорт пива (флам.)
(обратно)135
Приверженцы церкви … проповедовали везде и всюду — Речь идет о проповедях кальвинистов, чье учение получило особое распространение в Нидерландах с 50-х годов XVI в. Резкая критика существующих порядков, часто не ограничивавшаяся только религиозными вопросами, и сильная организация, способная к борьбе, привлекали к кальвинизму широкие массы недовольных. Уже в начале 60-х годов проповеди сопровождались народными волнениями.
(обратно)136
Монах перечисляет некоторые из немецких княжеств, где лютеранство стало официальной религией.
(обратно)137
Бренциус, или Бренц, Иоганн (1499—1570) — немецкий деятель реформации, автор ряда сочинений, защищавших лютеранское учение. Был противником смертной казни для анабаптистов и еретиков.
(обратно)138
Сервет Мигель (1511—1553) — крупный испанский ученый, врач и мыслитель. Работал в Италии, Германии, Франции. Сервет интересовался и религиозными вопросами, идя в критике католицизма гораздо дальше протестантов. Поэтому и протестанты и католики дружно преследовали Сервета. Находясь проездом в Женеве, он был схвачен кальвинистами и после двухмесячного процесса, на котором выступал сам Кальвин, сожжен.
(обратно)139
Кальвин Жан (1509—1564) — основатель и виднейший деятель одного из основных направлений реформации — кальвинизма. Родился во Франции. С 1536 г. жил в Женеве, где окончательно сложилось его учение. В основе кальвинизма лежит доктрина об абсолютном божественном предопределении: каждому человеку заранее уготовано спасение души или вечная погибель. Стоя во главе своего рода религиозной республики в Женеве, Кальвин беспощадно преследовал всякое проявление свободомыслия. Но, распространяясь в других странах, где господствовал католицизм, кальвинизм видоизменялся в зависимости от местных условий. В Нидерландах он стал идеологией национального освобождения.
(обратно)140
Мюнцер Томас (ок.1490—1525 гг.) — вождь крестьянско-плебейского лагеря во время Великой Крестьянской войны 1524—1525 гг. в Германии. Вначале был сторонником Лютера, но потом выдвинул собственное понимание реформации как революционного социального переворота, который должен быть произведен народом. Учение Мюнцера было, как обычно в то время, облечено в религиозную форму проповеди «царства божия на земле». На Мюнцера резко нападал Лютер, который призывал князей беспощадно убивать восставших крестьян и их руководителей. Раненный в бою с княжескими войсками, Мюнцер был схвачен и после жестоких пыток казнен.
(обратно)141
Адамиты — древняя (II-III вв.) еретическая секта, проповедовавшая возврат к первобытной невинности, олицетворение которой видели в наготе.
(обратно)142
Минориты, «меньшие братья» — название католического нищенствующего монашеского ордена францисканцев. Основанный в XIII в. Франциском Ассизским, этот орден вскоре получил от папы ряд привилегий и стал одним из самых богатых монашеских орденов, важнейшим орудием в руках папства.
(обратно)143
Безумная Грета (флам.)
(обратно)144
…разбил большое каменное распятие… — Костер изображает восстание иконоборцев (август 1566 г.) как спровоцированное агентами Гранвеллы и Филиппа. На самом деле оно началось стихийно и в короткий срок охватило большую часть страны.
(обратно)145
парни, малые (флам.)
(обратно)146
…чтобы поставить над вами Альбу. — Пророчество Уленшпигеля несколько предвосхищает события. Иконоборческие выступления обнаружили слабость власти Маргариты Пармской, и она пыталась изолировать восставших, идя на уступки дворянству и даже кальвинистской верхушке. Расколов ряды оппозиции и сплотив вокруг себя дворян-католиков, наместница смогла расправиться с восставшими, подавить сопротивление кальвинистов и лишь после этого начала брать назад уступки, стараясь, однако, не озлоблять высшее дворянство Нидерландов. Но, когда движение было уже подавлено, Филипп II, по совету Альбы и вопреки мнению наместницы и Гранвеллы, принял решение об отправке в Нидерланды карательной армии.
(обратно)147
…ни где-либо реформаты к ним не присоединялись. — Это неверно. Не говоря о рядовых кальвинистах, составлявших основную массу иконоборцев, среди восставших были и некоторые из руководителей кальвинистских консисторий. Но большинство дворян и верхушка кальвинистов действительно были напуганы.
(обратно)148
Виглиус (Вигль ван Айтта ван Свихем, 1507—1577) — занимал важные государственные посты в Нидерландах при Карле V и Филиппе II.
(обратно)149
«Благословите» (лат.) — католическая молитва, которую читают перед едой
(обратно)150
Мегем Карл де Кримо, граф (ум. в 1572 г.) — нидерландский вельможа. Принадлежал к католической партии, поддерживавшей испанцев.
(обратно)151
Ламот Валентин Пардье де — валлонский офицер, профессиональный солдат. Активно участвовал в военных действиях против кальвинистов в 1566—1567 гг. В дальнейшем служил той стороне, которая лучше платила.
(обратно)152
Филипп де Лануа — фламандский офицер, участвовавший в 1567 г. в подавлении народных волнений.
(обратно)153
Лоренц Костер (настоящее имя — Лоренц Янсен, ок.1370—1440 гг.) — знаменитый голландский типограф, один из первых мастеров книгопечатания в Европе.
(обратно)154
…соберутся важные господа — Совещание, о котором здесь рассказывает Костер, состоялось 3 октября 1566 г. Вильгельм Оранский уже предвидел неизбежность открытой борьбы с королем и хотел искать помощи у немецких князей, но объединить высшую знать Нидерландов вокруг своего плана ему не удалось. Эгмонт и Горн не решились порвать с королем.
(обратно)155
Гоохстратен Антуан де Дален, граф (ок.1535—1568 гг.) — нидерландский вельможа, поддерживавший союз «Соглашения». В 1567 г. эмигрировал вслед за Вильгельмом Оранским.
(обратно)156
…кто командовал ими под Гравелином и под Сен-Кантеном… — Летом 1557 г. во время войны с Францией действия фламандской конницы под командованием Эгмонта обеспечили испанцам победу при Сен-Кантене. В следующем году Эгмонт, вопреки советам Альбы, напал на французскую армию, возвращавшуюся из Фландрии, и разбил ее при Гравелине. Эта победа доставила Эгмонту популярность в страдавшей от французских набегов Фландрии и восстановила против него Альбу.
(обратно)157
Монтиньи Флоран де Монморанси, барон (1527—1570) — младший брат Горна, деятель дворянской оппозиции. В конце сентября 1567 г. Монтиньи был арестован и в 1570 г. тайно удавлен в тюрьме. Таким образом, в описываемый момент Монтиньи еще не был схвачен, хотя судьба его, вероятно, была уже решена королем.
(обратно)158
Алава Франсес — посол Испании в Париже.
(обратно)159
Берген Жан де Глим, маркиз (1529—1567) — один из видных представителей оппозиционно настроенной высшей знати. Был отправлен вместе с Монтиньи в Испанию, где умер еще до ареста Монтиньи.
(обратно)160
…обратиться за содействием … и к императору. — Императором в 1566 г. был племянник Карла V, Максимилиан II.
(обратно)161
Я повесил в Граммоне двадцать два реформата! — Речь идет о казни пленных иконоборцев из отряда, разгромленного секретарем Эгмонта.
(обратно)162
Оба графа уже схвачены. — В первые дни пребывания в Брюсселе Альба ничего не предпринимал, опасаясь, что Горн, находившийся в это время в Германии, не решится вернуться в Нидерланды. Через день после возвращения Горна он и Эгмонт были неожиданно арестованы (9 сентября 1567 г.), невзирая на гарантию личной неприкосновенности, предусмотренную привилегиями ордена Золотого руна.
(обратно)163
Ван ден Берг Биллем, граф (1538—1586) — свояк Вильгельма Оранского. Поддерживал союз «Соглашения». В течение долгого времени активно участвовал в операциях против испанцев, но в 1583 г. был смещен со своего поста в провинции Гельдерн за сношения с врагом.
(обратно)164
Эгмонт и Горн были казнены 5 июня 1568 г. Упоминание о посланнике Франциска I — анахронизм: Франциск I умер лет за двадцать до описываемых событий.
(обратно)165
Молчаливый набрал войско… — Вильгельм Оранский к весне 1568 г. набрал из немецких наемников, французских гугенотов и эмигрантов-кальвинистов двадцатитысячное войско, которое вторглось в Нидерланды с нескольких сторон. Поход 1568 г. был неудачным.
(обратно)166
Дикие гезы, или Лесные гезы — партизанские отряды из местных жителей, бежавших в леса от кровавого режима Альбы, и из тайно вернувшихся эмигрантов.
(обратно)167
Смерть косит людей… — В сентябре 1567 г. Альба учредил Совет по делам о беспорядках (более известный как «кровавый совет»). Заправляли в нем испанцы. Смертные приговоры подписывались каждый день десятками и сотнями. Доноса было достаточно для осуждения. Страна была наводнена сыщиками и шпионами. Конфискация имущества осужденных и награды доносчикам компрометировали политику Альбы даже среди католиков.
(обратно)168
Когда б ты снизошла с небес, Мария пресвятая (лат.)
(обратно)169
Хуан Луис Вивес (1492—1540) — испанский ученый, философ и педагог, ученик Эразма Роттердамского. Однако, выступая против средневековой схоластики, он оставался правоверным католиком.
(обратно)170
Каюсь! (лат.)
(обратно)171
Нуаркарм Филипп де Сен-Альдегонде (ум. в 1574 г.) — знатный нидерландский дворянин. Входил в ближайшее окружение Маргариты Пармской (католическая Партия) и принимал активное участие в вооруженных действиях против кальвинистов.
(обратно)172
Фуггеры — крупнейшая в XVI в. немецкая банкирско-ростовщическая и торгово-промышленная фирма, имевшая свои отделения в основных торговых городах Европы (в том числе и в Антверпене). Фуггеры ссужали деньгами римского папу и европейских монархов. Особенно крепки были связи Фуггеров с Габсбургами.
(обратно)173
Герцог, по-прежнему не решаясь дать бой… — Альба уклонялся от сражений, зная, что Вильгельм Оранский стеснен в средствах и не может расплатиться с наемниками, если не добьется быстрого успеха. Наемники (в основном немецкие) искали лишь жалованья и добычи, интересы страны были им чужды.
(обратно)174
Герард ван Хрусбеке (Жерар Гросбекский) — льежский епископ (1562—1580). Покровитель иезуитов и верный слуга испанцев. Во время кампании 1568 г. оказал помощь Альбе.
(обратно)175
…борьба… будет продолжаться на море… — Речь идет о действиях Морских гезов — большого партизанского флота, созданного нидерландскими рыбаками и матросами и быстро усиливавшегося — за счет беженцев, пополнявших экипажи кораблей. Морские гезы сыграли главную роль в победе революции на севере.
(обратно)176
Старинная голландская монета, два с половиной флорина.
(обратно)177
…дон Карлос … брошен в темницу… — Сын короля был арестован в январе 1568 г. и вскоре умер. Обстоятельств его смерти мы не знаем. Мало что можно сказать и о причинах ареста. Сам Филипп II объяснил его тем, что «потерял всякую надежду увидеть сына в здравом рассудке».
(обратно)178
Изабелла (Елизавета) Французская (1545—1568) — мачеха (а не мать) Карлоса. Дочь французского короля Генриха II, она пятнадцатилетней девушкой стала третьей женой Филиппа II (хотя перед этим была помолвлена с его сыном). Брак, заключенный для скрепления мира между двумя королевствами, был для нее несчастным. Мужа она не любила и боялась. Ходили слухи (видимо, безосновательные) о ее связи с Карлосом. Умерла она всего двадцати трех лет от роду, в один год со своим пасынком. Подозревали, что виновником ее смерти был Филипп.
(обратно)179
Принцесса Эболи, Анна Мендоса и ла Серда (1540—1592) — жена Руиса Гомеса де Сильва, принца Эболи, королевского советника и врага Альбы. Была любовницей королевского секретаря Переса, который впоследствии, попав в жестокую опалу и бежав из страны, писал, что причиной всех несчастий, обрушившихся на него и принцессу Эболи, была ревность Филиппа II. Сама принцесса Эболи умерла в тюрьме.
(обратно)180
…которой правит принц… — Вильгельм Оранский в годы наместничества Альбы по-прежнему считал себя наместником Голландии, Зеландии и Утрехта, но реальной властью там до 1572 г. не обладал. На его место Альба назначил графа Буссю.
(обратно)181
мешок с кашей (флам.)
(обратно)182
сорт пива (флам.)
(обратно)183
Якоб де Костер вон Маарланд (ок.1235—1300 гг.) — нидерландский писатель, автор исторических сочинений и дидактических поэм. Могилу ван Маарланда в Дамме считали некогда могилой Уленшпигеля, так как на надгробье находили изображение зеркала (на самой деле это пюпитр) и совы — атрибутов Уленшпигеля.
(обратно)184
кузнец (флам.)
(обратно)185
…он двинулся во Францию на помощь королю Наваррскому и гугенотам… — Вильгельм Оранский поддерживал тесные связи с французскими кальвинистами (гугенотами), к которым бежал после неудачной кампании 1568 г. Наварра (Нижняя Наварра) — небольшое, в то время формально независимое королевство на границе Франции и Испании. Король Наваррский — будущий король Франции Генрих IV (1589—1610 гг.), в молодости — одни из вождей гугенотов.
(обратно)186
Диленбург — город в Германии, родовое владение Нассауского дома. В Диленбурге родился Вильгельм Оранский.
(обратно)187
в «Пеликан» (флам.)
(обратно)188
сорт крепкого пива (флам.)
(обратно)189
Спелле — брабантский профос, прозванный за жестокость «Красной дубиной». За самоуправство и взяточничество был казнен.
(обратно)190
Конде Луи де Бурбон (1530—1569) — французский принц, один из вождей гугенотов.
(обратно)191
…король Французский… — Карл IX (1560—1574). Недолгое время (с 1570 г.) находился под влиянием вождя гугенотов Колиньи, но вскоре дал католической партии согласие на массовое избиение гугенотов (Варфоломеевская ночь, 24 августа 1572 г.). Вильгельм Оранский, сблизившийся после поражения 1568 г. с французскими гугенотами, рассчитывал, что, используя их влияние на Карла IX, можно будет добиться от него помощи против испанцев.
(обратно)192
…королева Английская… — Елизавета I (1558—1603 гг.). Опираясь на дворянство и связанную с ним буржуазию, проводила тактику укрепления абсолютизма. Восстановила реформированную церковь. Боролась против Испании, основного конкурента Англии в колониальном грабеже, широко применяя такие средства, как пиратство и контрабанда. Поддерживала врагов Испании: французских гугенотов (хоть и воевала с Францией) и восставших нидерландцев (надеясь прибрать к рукам их страну).
(обратно)193
Кале — ближайший к Англии французский порт на берегу Па-де-Кале. Около двухсот лет (до 1558 г.) находился в руках англичан. Елизавета I не хотела примириться с потерей этого важного опорного пункта (война с Францией 1562—1564 гг.), но вернуть Кале ей не удалось.
(обратно)194
«Сокол» (флам.)
(обратно)195
«Чистилище» (флам.)
(обратно)196
Лесные братья — то же, что Лесные гезы.
(обратно)197
…и Ян Брук. — Из перечисленных здесь Костером лиц наиболее известны: Адриан ван Берген, сьер де Долен, адмирал Морских гезов; Бертель Энтенс де Ментеда — офицер во флоте Морских гезов, потом в армии Генеральных штатов; Ян ван Хембейзе (Гембизе), кальвинист из Гента, позднее (1577—1579 гг.) — один из руководителей восстания в Генте. Альберт Эгмонт. — Ошибка Костера. Среди детей Эгмонта не было сына с таким именем, а старшему из его сыновей было в 1572 г. только 14 лет.
(обратно)198
Мария Стюарт (1542—1587) — королева Шотландии, претендовавшая на английский престол. Восстание шотландских лордов-кальвинистов (1567 г.) лишило ее короны и в родной стране. Марии пришлось искать убежища у своей могущественной соперницы Елизаветы I, чьей узницей она оставалась до конца дней. Католики Англии и других стран не раз составляли заговоры, чтобы убить Елизавету и возвести Марию на английский трон (в разработке этих планов участвовал и Филипп II). В 1587 г. Мария Стюарт была казнена.
(обратно)199
Папа Пий V (1566—1572 гг.), мрачный фанатик, поддерживал политику Филиппа II. В 1570 г. он специальной грамотой «отрешил» английскую королеву от власти, отлучил ее от церкви и призвал ее подданных к неповиновению.
(обратно)200
Ридольфи — итальянец, тайный агент Марии Стюарт. В 1570 г. он посетил Филиппа II, при чьей поддержке им был организован заговор, предусматривавший убийство Елизаветы I и высадку в Англии испанских войск. Провал заговора вынудил испанского посла покинуть Англию, и дипломатические отношения между двумя странами прервались на семь лет.
(обратно)201
…представлял себе, как он отнимет у Марии Стюарт сына… — Строя планы возведения Марии Стюарт на английский престол, Филипп II собирался арестовать и отправить в Испанию ее сына Иакова, подозревавшегося в протестантизме.
(обратно)202
Город Эмден в Германии близ нидерландской границы был центром, где собирали свои силы эмигранты.
(обратно)203
Гильом де Блуа, по прозвищу Долговязый (Биллем ван Треслонг, 1530—1594) — один из командиров Морских гезов. Именно Треслонг весной 1572 г., во время знаменитого рейда Морских гезов, увенчавшегося взятием Бриля, правильно оценил благоприятную обстановку. По его настоянию было решено взять город.
(обратно)204
камбала (флам.)
(обратно)205
маринованные овощи (флам.)
(обратно)206
Барон Люме граф де ла Марк Гильом (1542—1578) — знатный дворянин, владевший землями близ Льежа и в Голландии. В 1566 г. примкнул к союзу «Соглашения». Осужденный на смерть Альбой, бежал к Вильгельму Оранскому. После неудачи первого похода Вильгельма — один из вождей Морских гезов. Вильгельм Оранский назначил Люме своим помощником по управлению Голландией, но вскоре (1573 г.) Люме был арестован и после суда смещен.
(обратно)207
…герцог Альба наложил на Нидерланды непосильно тяжкие подати… — Альба, обещавший Филиппу II, что из Нидерландов в Испанию потекут золотые реки, не смог своими конфискациями покрыть даже оккупационных расходов. Поэтому, ничего не смысля в экономике, он настоял на введении в Нидерландах новой системы налогов, которая была простой копией испанской (1-процентный налог со всех имуществ, 5-процентный — с продажи недвижимости, 10-процентный — движимости), Советники Альбы, пытавшиеся объяснить ему разницу между отсталой сельскохозяйственной Испанией и промышленными Нидерландами, сумели только оттянуть ввод новой системы в действие до 1571 г., после чего крах химерических расчетов Альбы стал очевиден. Доходы казны резко упали, так как вся хозяйственная жизнь страны замерла.
(обратно)208
Гезы взяли приморскую крепость Бриль. — Ранней весной 1572 г. испанцы добились дипломатического «успеха», сослужившего им самую дурную службу. Королева Англии, «чтобы избежать войны с Испанией», закрыла для Морских гезов английские порты. Результат был неожиданным. 1 апреля 1572 г. двадцать два корабля гезов под командованием Люме и Треслонга, покинув Дувр, приблизились к портовому городку Бриль. Появление гезов вызвало панику среди испанских приспешников и радость народа. Испанского гарнизона в Бриле не было, и гезы легко овладели городом. Оставшись во взятом городе, они превратили его в свой первый опорный пункт на территории страны. Отсюда началось восстание приморских городов.
(обратно)209
Камп-Веере взят. — Флиссинген, крупный порт на острове Вальхерен, господствовавший над устьем Шельды, восстал 6 апреля. Действия Морских гезов заставили наконец Альбу подумать об укреплении приморских городов, но было поздно. Жители Флиссингена отказались впустить испанский гарнизон. Прибывшие сюда испанские корабли были встречены пушечными залпами. Морские гезы прислали горожанам подмогу под командованием Треслонга. Горожане объявили, что отложились от испанцев, и Флиссинген стал важнейшей базой гезов, утвердившихся теперь и на суше в Северных Нидерландах. Камп-Веере, город на том же острове Вальхерен, был взят гезами 3—4 мая 1572 г.
(обратно)210
Провались, десятина, в тартарары! — Имеется в виду не церковная десятина, а введенный Альбой налог.
(обратно)211
Он объявляет прощенье всем — «Амнистия», торжественно объявленная Альбой в Антверпене от имени короля (16 июля 1570 г., то есть почти за два года до первых успехов Морских гезов), замечательна оговорками и исключениями, сводившими ее к пустой формальности.
(обратно)212
дурман (лат.)
(обратно)213
паслен снотворный (лат.)
(обратно)214
Здесь: дом (флам.)
(обратно)215
…как ты родился в Дамме… — Герой «Легенды», олицетворяющий в романе Костера дух Фландрии, наделен вечной молодостью.
(обратно)216
Хоркум, крепость, господствовавшую над устьем рек Маас и Валь, гезы захватили 26 июня 1572 г. после ожесточенной битвы.
(обратно)217
«Из глубины взываю к тебе, господи!» (лат.) — католическое заупокойное песнопение на слова псалма 129-го
(обратно)218
Город Монс, столица провинции Геннегау (Эно), 24 мая 1572 г. был взят Людвигом Нассауским, неожиданно появившимся под стенами города с отрядом французских гугенотов. Но дальнейшие планы Вильгельма Оранского и гугенотов осуществить не удалось.
(обратно)219
Варфоломеевская ночь (ночь на 24 августа 1572 г.). — Под таким названием вошло в историю массовое истребление гугенотов в Париже, задуманное и организованное Екатериной Медичи, матерью короля Карла IX. Резня была приурочена к свадьбе одного из вождей гугенотов — Генриха Наваррского, на которую съехалось множество гугенотских дворян. В продолжавшейся несколько дней резне погибли тысячи гугенотов.
(обратно)220
Миддельбург — крупнейший порт Зеландии, единственный из зеландских городов, оставшийся в руках испанцев до 1574 г., когда он был взят после двухлетней осады.
(обратно)221
Разрушение плотин, позволявшее затоплять большие площади на голландском побережье, было страшным оружием в руках гезов.
(обратно)222
Дон Фадрике де Толедо — сын Альбы, служил под началом отца и участвовал в кампании 1572—1573 гг.
(обратно)223
Он ведет на тебя … заклятых твоих врагов — В конце 1572 г. Альба направил войско на север. Первым городом, оказавшим серьезное сопротивление испанцам, был Гарлем (в Голландии), осада которого затянулась на целых семь месяцев. В защите города участвовали даже женщины и девушки, объединенные в особый отряд, которым командовала пятидесятилетняя горожанка Кенуа (у Костера — Кенан). Потери испанских войск были очень велики. Лишь голод вынудил гарлемцев к сдаче (12 июля 1573 г.). Видя, что жестокие расправы лишь усиливают стойкость сопротивления, Альба «помиловал» жителей, ограничившись несколькими казнями и контрибуцией в сто тысяч золотых. Однако две тысячи триста солдат, находившихся в городе, были перебиты. Описанные Костером освобождение пленных и победа над испанцами не соответствуют исторической действительности.
(обратно)224
Крестовые ворота (флам.)
(обратно)225
Золотой барашек — французская и фландрская золотая монета.
(обратно)226
…дар святейшего владыки… — Римский папа Пий V прислал Альбе в награду за его борьбу с еретиками золотую лавровую ветвь и «освященные» шпагу и шляпу.
(обратно)227
…амстердамские католики намерены осадить Энкхейзен… — Амстердам до 1578 г. оставался последним оплотом испанского владычества и католицизма в Голландии.
(обратно)228
сорт крепкого пива (флам.)
(обратно)229
Буссю (Боссю) Максимилиан, граф (1542—1579) — нидерландский вельможа, примыкавший к католической партии. Был назначен Альбой наместником Голландии, Зеландии и Утрехта. В 1573 г. потерпел поражение в морской битве в заливе Зейдер-Зе и был взят в плен гезами.
(обратно)230
Кровавый герцог осмелился издать благодетельный указ… — Штаты (высшее представительное учреждение) провинции Утрехт открыто отказались подчиниться распоряжению о 10-процентной подати. Тогда Альба приказал разместить по деревням и городам непокорной провинции своих солдат на постой, возложив на жителей расходы по их содержанию.
(обратно)231
песню (флам.)
(обратно)232
Голландский город Лейден был осажден испанцами в октябре 1573 г. Не имея в городе никаких войск, кроме гражданской гвардии, лейденцы организовали оборону и целый год выдерживали тяжелую осаду. Освобождение Лейдена от осады было блестящей операцией Морских гезов. В конце сентября 1574 г. осенние ветры погнали воды рек Мааса и Исселя через открытые гезами шлюзы и пробитые плотины. Потрясенные испанцы увидели, как земля вокруг них превращается в море и появляющиеся на вчерашней суше корабли гезов угрожают отрезать им путь к отступлению. В первых числах октября осада была снята.
(обратно)233
Медина-Сели, герцог — преемник Альбы, прибывший в Нидерланды, но так и не сменивший Альбу на его посту: еще до отъезда Альбы он был отозван в Испанию (в июле 1573 г.). Рекесенс Луис (1528—1576) — испанский наместник в Нидерландах (1573—1576). Принадлежавший, как и Альба, к старинному кастильскому роду, он тоже окружал себя испанцами и презирал нидерландцев. В отличие от-своего предшественника, стремился любыми средствами прекратить войну, но политика Филиппа II обрекала все его попытки на неуспех. Рекесенс объявил амнистию (опять очень ограниченную), отменил 10-процентную подать (которая фактически уже не собиралась) и начал переговоры о мире со сторонниками Вильгельма Оранского. Однако инструкции неуступчивого, как всегда, Филиппа II не дали ему договориться с нидерландцами.
(обратно)234
…именем короля правили Генеральные штаты… — После внезапной смерти Рекесенса единственным органом власти, верным королю, оставался Государственный совет, но он не пользовался никаким авторитетом. Испанские солдаты мародерствовали, не разбирая, где враг, где союзник. Положение как нельзя более благоприятствовало агитации сторонников Вильгельма Оранского. 4 сентября 1576 г. в Брюсселе они произвели переворот. По почину дворянства, пытавшегося удержать инициативу в своих руках, были созваны Генеральные штаты, которым надлежало решить основные политические вопросы. Штаты, созванные вопреки запрещению Филиппа II, в своей деятельности прикрывались его именем. С осени 1577 г. они находились под сильным влиянием сторонников Вильгельма и вели войну с испанцами.
(обратно)235
Зеландия и Голландия — Северные провинции Нидерландов, освобожденные восстанием 1572 г., к этому времени представляли собой уже самостоятельную силу, складывавшуюся в новое государство со своими экономическими и политическими интересами.
(обратно)236
Гентское замирение — документ, принятый Генеральными штатами в ноябре 1576 г. Этим актом было отменено кровавое законодательство Альбы и указы против еретиков. Бесчинствовавшие в стране испанские войска объявлялись вне закона, Голландия и Зеландия получали право на самоуправление, но провозглашалась необходимость сохранения единства страны. Основные вопросы оставались, однако, нерешенными: кальвинизм запрещался на юге, а католичество на севере. Не был решен и вопрос об отношении к Испании. Дворянство и духовенство юга рассчитывали на примирение с королем, и сам документ был принят именем Филиппа II.
(обратно)237
…валлоны разгромили Бельгию… — В валлонских провинциях, граничивших с Францией, — Геннегау (Эно) и Артуа, — большую силу сохраняли католическая церковь и католическое дворянство. Поэтому первые открытые выступления феодальной реакции начались здесь. Ей удалось использовать в своих интересах и движение отсталого крестьянства, разоренного войной и страдавшего от насилий иноземных солдат, но ничего не получившего от побед буржуазии. Из этих-то крестьян и создавались дружины так называемых патерностеркнехтов.
(обратно)238
Прислужники «Отче наш» (лат. и флам.), то есть католики
(обратно)239
Дон Хуан Австрийский (1547—1578) — побочный сын Карла V. Испанский наместник в Нидерландах (1576—1578 гг.), назначенный Филиппом II на эту должность в надежде на прекращение войны, он сначала вступил в переговоры с католической частью Генеральных штатов и пытался добиться «мирного завоевания» Нидерландов даже ценой частичного признания Гентского замирения. Убедившись в неосуществимости этого, он возобновил войну.
(обратно)240
Герцог Анжуйский, Франциск Валуа (1556—1584) — брат французского короля Генриха III. Был призван в Нидерланды дворянской партией. Лавируя между всеми партиями и не сохраняя верности ни одной, он разбойничал в Нидерландах с французскими войсками, жестоко грабившими население. В 1580 г. добился того, что Генеральные штаты признали его государем Нидерландов, но через три года поднял мятеж. Не справившись с оказанным ему сопротивлением, покинул Нидерланды и вскоре умер.
(обратно)241
«Недовольные» — так называли себя дворяне-католики — перебежчики из армии Генеральных штатов. Мятеж «недовольных» был начат валлонскими офицерами.
(обратно)242
Памятник герцогу свален… — В 1568 г. Альба, уверовав в свою победу, соорудил себе целых два памятника — в Брюсселе и в Антверпене.
(обратно)243
Арсхот Филипп де Круа, герцог (1526—1595) — член Государственного совета, долго сохранявший верность испанцам. В конце 70-х — начале 80-х гг. сотрудничал с Генеральными штатами и пытался вести самостоятельную политику. Мансфельд Петер Эрнст, граф (1517—1604) — член Государственного совета, деятель католической партии. Рассенхин Максимилиан, барон — сторонник испанцев. Принимал участие в заседаниях Государственного совета. Жорж де Дален, граф Ренненберг (ум. в 1581 г.) — брат Гоохстратена. Наместник Генеральных штатов во Фрисландии, Гронингене, Дренте и Оверэйсселе. В 1580 г. предал дело восставших.
(обратно)244
Хауреги Хуан — покушался в марте 1582 г. на жизнь Вильгельма Оранского и ранил его.
(обратно)245
В изображении (лат.); в средние века существовал обычай: если преступника не удавалось разыскать, казнь совершали над его изображением.
(обратно)246
Пою о предателях песню. — Военное наступление испанцев в 80-х гг. сопровождалось изменами дворян, занимавших командные должности в армии Генеральных штатов и высокие административные посты.
(обратно)247
Испанец ворвался в Антверпен — Антверпен сдался Алессандро Пармскому в августе 1585 г.
(обратно)248
Они объявляют мятежниками испанцев — Война Генеральных штатов против испанских войск в Нидерландах в течение долгого времени официально считалась войной со взбунтовавшимися солдатами, гак как Штаты не решались открыто выступить против короля.
(обратно)249
Речь идет об Адессандро Фарнезе, герцоге Пармском (1545—1592), сыне Маргариты Пармской, испанском правителе Нидерландов в 1578—1592 гг. Талантливый полководец и политик, он сумел восстановить власть испанцев на юге, но в борьбе против северных провинций не добился успеха. Самостоятельная политика Алессандро пугала Филиппа II, который, однако, первое время терпел его, но после неудач на севере решил сместить.
(обратно)250
Когда он приехал в Брюссель. — Имеется в виду торжественный въезд Вильгельма Оранского в Брюссель в сентябре 1577 г. по приглашению Генеральных штатов. Среди знати, встречавшей Вильгельма, было много будущих перебежчиков.
(обратно)251
Захватить он желает обманом — 17 января 1583 г. войска герцога Анжуйского, взбунтовавшегося против Генеральных штатов, ворвались в Антверпен, но были выброшены поднявшимися на защиту города жителями.
(обратно)252
В Антверпене Филипп перебил жителей — 4 ноября 1576 г. испанские солдаты, запертые в антверпенской цитадели, захватили и разграбили город. Было убито и замучено около восьми тысяч горожан, сожжено около тысячи домов, а награбленное добро еще три недели грузили на повозки.
(обратно)253
Рода Херонимо — один из подвизавшихся в Нидерландах испанцев. При Альбе — член «Кровавого совета». После смерти Рекесенса остался единственным представителем Испании среди членов Государственного совета. Даже коллеги по совету считали его врагом и шпионом. Он пользовался полным доверием Филиппа и после ареста членов совета (в 1576 г.) объявил себя правителем Нидерландов. Рода одобрял разгром Антверпена и в письмах Филиппу представлял его блестящей победой.
(обратно)254
Он объявил вне закона принца Оранского… — Вильгельм Оранский был объявлен вне закона специальным манифестом Филиппа II (1580). За его выдачу или убийство назначалась награда в двадцать пять тысяч золотых. Филипп II несколько раз подсылал убийц к Вильгельму.
(обратно)255
И печати королевские были сломаны. — О низложении Филиппа II было торжественно объявлено 21 июня 1581 г.
(обратно)256
…наемный убийца всадил три пули в грудь принцу Оранскому… — 10 июля 1584 г. вернувшийся в предыдущем году в Голландию Вильгельм Оранский был убит католическим фанатиком Бальтазаром Жераром.
(обратно)257
А Бельгия… стонала под ярмом. — Испанское владычество над Бельгией продолжалось до 1713 г.
(обратно)258
Мориц Оранский (Нассауский; 1567—1625) — преемник отца (штатгальтер Голландии и Зеландии с 1585 г., поздней — также Утрехта, Оверэйсселя и Гельдерна), талантливый полководец, успешно воевавший с испанцами.
(обратно)259
Польдерсы — отгороженные плотинами от моря поля на голландском побережье
(обратно)260
Нерон — римский император (54—68 гг.); его имя стало нарицательным для обозначения жестокого тирана. Мессалина (ум. в 48 г.) — известная крайней жестокостью жена римского императора Клавдия.
(обратно)261
Когда бы не Шельда… — Владевшие морем голландцы закрыли устье реки Шельды для торговых судов и тем задушили своих конкурентов — купцов Антверпена, лишив на время этот бельгийский город былого значения. Поэтому Шельда для Костера — символ разъединения Голландии и Бельгии.
(обратно)

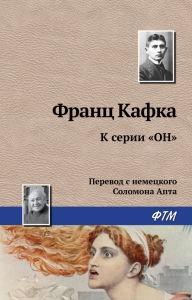
Комментарии к книге «Легенда об Уленшпигеле», Шарль де Костер
Всего 0 комментариев