Осип Мандельштам Египетская марка
Не люблю свернутых рукописей.
Иные из них тяжелы и промаслены
временем, как труба архангела.
I
Прислуга— полька ушла в костел Гваренги — посплетничать и помолиться Матке Божьей.
Ночью снился китаец, обвешанный дамскими сумочками, как ожерельем из рябчиков, и американская дуэль-кукушка, состоящая в том, что противники бьют из пистолетов в горки с посудой, в чернильницы и в фамильные холсты.
Семья моя, я предлагаю тебе герб: стакан с кипяченой водой. В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся домашнее бессмертие. Центробежная сила времени разметала наши венские стулья и голландские тарелки с синими цветочками. Ничего не осталось. Тридцать лет прошли как медленный пожар. Тридцать лет лизало холодное белое пламя спинки зеркал с ярлычками судебного пристава.
Но как оторваться от тебя, милый Египет вещей? Наглядная вечность столовой, спальни, кабинета. Чем загладить свою вину? Хочешь Валгаллу: Кокоревские склады. Туда на хранение! Уже артельщики, приплясывая в ужасе, поднимают кабинетный рояль Миньон, как черный лакированный метеор, упавший с неба. Рогожи стелются как ризы. Трюмо плывет боком по лестнице, маневрируя на площадках во весь свой пальмовый рост.
С вечера Парнок повесил визитку на спинку венского стула: за ночь она должна была отдохнуть в плечах и в проймах, выспаться бодрым шевиотовым сном. Кто знает, быть может, визитка на венской дуге кувыркается, омолаживается, одним словом, играет?… Беспозвоночная подруга молодых людей скучает по зеркальному триптиху у бельэтажного портного… Простой мешок на примерке — не то рыцарские латы, не то сомнительную безрукавку портной-художник исчертил пифагоровым мелком и вдохнул в нее жизнь и плавность.
— Иди, красавица, и живи! Щеголяй в концертах, читай доклады, люби и ошибайся!
— Ах, Мервис, Мервис, что ты наделал! Зачем лишил Парнока земной оболочки, зачем разлучил его с милой сестрой?
— Спит?
— Спит!… Шаромыжник, на него электрической лампочки жалко!
Последние зернышки кофе исчезли в кратере мельницы-шарманки.
Умыкание состоялось.
Мервис похитил ее как сабинянку.
Мы считаем на годы; на самом же деле в любой квартире на Каменноостровском время раскалывается на династии и столетия.
Домоправительство всегда грандиозно. Сроки жизни необъятны: от постижения готической немецкой азбуки до золотого сала университетских пирожков.
Самолюбивый и обидчивый бензиновый дух и жирный запах добряка керосина стерегут квартиру, уязвимую с кухни, куда врываются дворники с катапультами дров. Пыльные тряпки и щетки разогревают ее белую кровь.
Вначале был верстак и карта полушарий Ильина.
Парнок черпал в ней утешение. Его успокаивала нервущаяся холщовая бумага. Тыча в океаны и материки ручкой пера, он составлял маршруты грандиозных путешествий, сравнивая воздушные очертания арийской Европы с тупым сапогом Африки и с невыразительной Австралией. В Южной Америке, начиная с Патагонии, он также находил некоторую остроту.
Уважение к ильинской карте осталось в крови Парнока еще с баснословных лет, когда он полагал, что аквамариновые и охряные полушария, как два большие мяча, затянутые в сетку широт, уполномочены на свою наглядную миссию раскаленной канцелярией самих недр земного шара и что они, как питательные пилюли, заключают в себе сгущенное пространство и расстояние.
Не с таким ли чувством певица итальянской школы, готовясь к гастрольному перелету в еще молодую Америку, окидывает голосом географическую карту, меряет океан его металлическим тембром, проверяет неопытный пульс машин пироскафа руладами и тремоло…
На сетчатке ее зрачков опрокидываются те же две Америки, как два зеленых ягдташа с Вашингтоном и Амазонкой. Она обновляет географическую карту соленым морским первопутком, гадая на долларах и русских сотенных с их зимним хрустом.
Пятидесятые годы ее обманули. Никакое bel canto их не скрасит. То же, повсюду низкое, суконно-потолочное небо, те же задымленные кабинеты для чтения, те же приспущенные в сердцевине века древки «Таймсов» и «Ведомостей». И наконец, Россия…
Защекочут ей маленькие уши: «Крещатик», «щастие» и «щавель». Будет ей рот раздирать до ушей небывалый, невозможный звук «ы».
А потом кавалергарды слетятся на отпевание в костел Гваренги. Золотые птички-стервятники расклюют римско-католическую певунью.
Как высоко ее положили! Разве это смерть? Смерть и пикнуть не смеет в присутствии дипломатического корпуса.
— Мы ее плюмажами, жандармами, Моцартом!
Тут промелькнули в мозгу его горячечные образы романов Бальзака и Стендаля: молодые люди, завоевывающие Париж и носовым платком обмахивающие туфли у входа в особняки, — и он отправился отбивать визитку.
Портной Мервис жил на Монетной, возле самого Лицея, но шил ли он на лицеистов, был большой вопрос: это скорей подразумевалось, как то, что рыбак на Рейне ловит форелей, а не какую-нибудь дрянь. По всему было видно, что в голове у Мервиса совсем не портняжное дело, а нечто более важное. Недаром издалека к нему слетались родственники, а заказчик пятился, ошеломленный и раскаявшийся.
— Кто же даст моим детям булочку с маслом? — сказал Мервис и сделал рукой движение, как бы выковыривающее масло, и в птичьем воздухе портновской квартиры Парноку привиделось не только сливочное масло «звездочка», гофрированное слезящимися лепестками, но даже пучки редиски. Затем Мервис искусно перевел разговор на адвоката Грузенберга, который заказал в январе сенаторский мундир, приплел зачем-то сына Арона, ученика консерватории, запутался, затрепыхался и юркнул за перегородку.
— Что же, — подумал Парнок, — может, так и нужно, может, той визитки уже нет, может, он в самом деле ее продал, как говорит, чтобы заплатить за шевиот.
К тому же, если вспомнить, Мервис не чувствует кроя визитки — он сбивается на сюртук, очевидно более ему знакомый.
У Люсьена де Рюбанпрэ было грубое холщовое белье и неуклюжая пара, пошитая деревенским портным; он ел каштаны на улице и боялся консьержек. Однажды он брился в счастливый для себя день и будущее родилось из мыльной пены.
Парнок стоял один, забытый портным Мервисом и его семейством. Взгляд его упал на перегородку, за которой гудело, тягучим еврейским медом, женское контральто. Эта перегородка, оклеенная картинками, представляла собой довольно странный иконостас.
Тут был Пушкин с кривым лицом, в меховой шубе, которого какие-то господа, похожие на факельщиков, выносили из узкой, как караульная будка, кареты и, не обращая внимания на удивленного кучера в митрополичьей шапке, собирались швырнуть в подъезд. Рядом старомодный пилот девятнадцатого века — Санотос Дюмон в двубортном пиджаке с брелоками, — выброшенный игрой стихий из корзины воздушного шара, висел на веревке, озираясь на парящего кондора. Дальше изображены были голландцы на ходулях, журавлиным маршем пробегающие свою маленькую страну.
II
Места, в которых петербуржцы назначают друг другу свидания, не столь разнообразны. Они освящены давностью, морской зеленью неба и Невой. Их было можно отметить на плане города крестиками посреди тяжелорунных садов и картонажных улиц. Может быть, они и меняются на протяжении истории, но перед концом, когда температура эпохи вскочила на тридцать семь и три и жизнь пронеслась; по обманному вызову, как грохочущий ночью пожарный обоз по белому Невскому, они были наперечет:
Во— первых, ампирный павильон в Инженерном саду, куда даже совестно было заглянуть постороннему человеку, чтобы не влипнуть в чужие дела и не быть вынужденным пропеть ни с того ни с сего итальянскую арию; во-вторых, -фиванский сфинкс напротив здания Университета; в-третьих, — невзрачная арка в устье Галерной улицы, даже неспособная дать приют от дождя; в-четвертых, — одна боковая дорожка в Летнем саду, положение которой я запамятовал, но которую без труда укажет всякий знающий человек. Вот и все. Только сумасшедшие набивались на рандеву у Медного Всадника или у Александровской колонны.
Жил в Петербурге человечек в лакированных туфлях, презираемый швейцарами и женщинами. Звали его Парнок. Ранней весной он выбегал на улицу и топал по непросохшим тротуарам овечьими копытцами.
Ему хотелось поступить драгоманом в министерство иностранных дел, уговорить Грецию на какой-нибудь рискованный шаг и написать меморандум.
В феврале он запомнил такое событие:
По городу на маслобойню везли глыбы хорошего донного льда. Лед был геометрически-цельный и здоровый, не тронутый смертью и весной. Но на последних дровнях проплыла замороженная в голубом стакане ярко-зеленая хвойная ветка, словно молодая гречанка в открытом гробу. Черный сахар снега провалился под ногами, но деревья стояли в теплых луночках оттаявшей земли.
Дикая парабола соединяла Парнока с парадными анфиладами истории и музыки.
— Выведут тебя когда-нибудь, Парнок, — со страшным скандалом, позорно выведут — возьмут под руки и фьють — из симфонического зала, из общества ревнителей и любителей последнего слова, из камерного кружка стрекозиной музыки, из салона мадам Переплетник — неизвестно откуда, — но выведут, ославят, осрамят…
У него были ложные воспоминания: например, он был уверен, что когда-то, мальчиком, прокрался в пышную конференц-залу и включил свет. Все гроздья лампочек и пачки свеч с хрустальными сосульками вспыхнули сразу мертвым пчельником. Электричество хлынуло таким страшным потоком, что стало больно глазам и он заплакал.
Милый, слепой, эгоистический свет.
Он любил дровяные склады и дрова. Зимой сухое полено должно быть звонким, легким и пустым. А береза — с лимонно-желтой древесиной. На вес — не тяжелее мерзлой рыбы. Он ощущал полено как живое, в руке.
С детства он прикреплялся душой ко всему ненужному, превращая в события трамвайный лепет жизни, а когда начал влюбляться, то пытался рассказать об этом женщинам, но те его не поняли, и в отместку он говорил с ними на диком и выспреннем птичьем языке исключительно о высоких материях.
Шапиро звали «Николай Давыдыч». Откуда взялся «Николай», неизвестно, но сочетание его с Давыдом нас пленило. Мне представлялось, что Давыдовыч, то есть сам Шапиро, кланяется, вобрав голову в плечи, какому-то Николаю и просит у него взаймы.
Шапиро зависел от моего отца. Он подолгу сиживал в нелепом кабинете с копировальной машиной и креслом «стиль рюсс». О Шапиро говорилось, что он честен и «маленький человек». Я почему-то был уверен, что «маленькие люди» никогда не тратят больше трех рублей и живут обязательно на Песках. Большеголовый Николай Давыдыч был шершавым и добрым гостем, беспрестанно потирающим руки, виновато улыбающимся, как посыльный, допущенный в комнаты. От него пахло портным и утюгом.
Я твердо знал, что Шапиро честен, и, радуясь этому, втайне желал, чтобы никто не смел быть честным, кроме него. Ниже Шапиро на социальной лестнице стояли одни «артельщики» — эти таинственные скороходы, которых посылают в банк и к Каплану. От Шапиро через артельщиков шли нити в банк и к Каплану.
Я любил Шапиро за то, что ему был нужен мой отец. Пески, где он жил, были Сахарой, окружающей белошвейную мастерскую его жены. У меня кружилась голова при мысли, что есть люди, зависимые от Шапиро. Я боялся, что на Песках поднимется смерч и подхватит его жену-белошвейку, с единственной мастерицей и детей с нарывами в горле, как перышко, как три рубля…
Ночью, засыпая в кровати с ослабнувшей сеткой, при свете голубой финолинки, я не знал, что делать с Шапиро: подарить ли ему верблюда и коробку фиников, чтобы он не погиб на Песках, или же повести его вместе с мученицей — мадам Шапиро — в Казанский собор, где продырявленный воздух черен, сладок.
Есть темная, с детства идущая, геральдика нравственных понятий: шварк раздираемого полотна может означать честность, и холод мадаполама — святость.
А парикмахер, держа над головой Парнока пирамидальную фиоль с пиксафоном, лил прямо на макушку, облысевшую в концертах Скрябина, холодную коричневую жижу, ляпал прямо на темя ледяным миром, и, почуяв на своем темени ледяную нашлепку, Парнок оживлялся. Концертный морозец пробегал по его сухой коже и — матушка, пожалей своего сына — забирался под воротник.
— Не горячо? — спрашивал его парикмахер, опрокидывая ему вслед за тем на голову лейку с кипятком, но он только жмурился и глубже уходил в мраморную плаху умывальника.
И кроличья кровь под мохнатым полотенцем согревалась мгновенно.
Парнок был жертвой заранее созданных концепций о том, как должен протекать роман.
На бумаге верже, государи мои, на английской бумаге верже с водяными отеками и рваными краями, извещал он ничего не подозревающую же даму о том, что пространство между Миллионной, Адмиралтейством и Летним садом им заново отшлифовано и приведено в полную боевую готовность, как бриллиантовый карат.
На такой бумаге, читатель, могли бы переписываться кариатиды Эрмитажа, выражая друг другу соболезнования или уважение.
Ведь есть же на свете люди, которые никогда не хворали опаснее инфлюэнцы и к современности пристегнуты как-то сбоку, вроде котильонного значка. Такие люди никогда себя не почувствуют взрослыми и в тридцать лет еще на кого-то обижаются, с кого-то взыскивают. Никто их никогда особенно не баловал, но они развращены, будто весь век получали академический паек с сардинами и шоколадом. Это путаники, знающие одни шахматные ходы, но все-таки лезущие в игру, чтобы посмотреть, как оно выйдет. Им бы всю жизнь прожить где-нибудь на даче у хороших знакомых, слушая звон чашек на балконе, вокруг самовара, поставленного шишками, разговаривая с продавцами раков и почтальоном. Я бы их всех собрал и поселил в Сестрорецке, потому что больше теперь негде.
Парнок был человек Каменноостровского проспекта — одной из самых легких и безответственных улиц Петербурга. В семнадцатом же году, после февральских дней, эта улица еще более полегчала, с ее паровыми прачешными, грузинскими лавочками, продающими исчезающее какао, и шалыми автомобилями Временного правительства.
Ни вправо ни влево не поддавайся: там чепуха, бестрамвайная глушь. Трамваи же на Каменноостровском развивают неслыханную скорость. Каменноостровский — это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий под мышкой свои дома, как бедный щеголь свой воздушный пакет от прачки.
III
— Николай Александрович, отец Бруни! — окликнул Парнок безбородого священника-костромича, видимо еще не привыкшего к рясе и державшего в руке пахучий пакетик с размолотым жареным кофе. — Отец Николай Александрович, проводите меня!
Он потянул священника за широкий люстриновый рукав и повел его, как кораблик. Говорить с отцом Бруни было трудно. Парнок считал его в некотором роде дамой.
Стояло лето Керенского, и заседало лимонадное правительство.
Все было приготовлено к большому котильону. Одно время казалось, что граждане так и останутся навсегда, как коты с бантами.
Но уже волновались айсоры — чистильщики сапог, как вороны перед затмением, и у зубных врачей начали исчезать штифтовые зубы.
Люблю зубных врачей за их любовь к искусству, за широкий горизонт, за идейную терпимость. Люблю, грешный человек, жужжание бормашины — этой бедной земной сестры аэроплана — тоже сверлящего борчиком лазурь.
Девушки застыдились отца Бруни; молодой отец Бруни застыдился батистовых мелочей, а Парнок, прикрываясь авторитетом отделенной от государства церкви, препирался с хозяйкой.
То было страшное время: портные отбирали визитки, а прачки глумились над молодыми людьми, потерявшими записку.
Жареный мокко и в мешочке отца Бруни щекотал ноздри разъяренной матроны.
Они углубились в горячее облако прачечной, где шесть щебечущих девушек плоили, катали и гладили. Набрав в рот воды, эти лукавые серафимы прыскали ею на зефирный и батистовый вздор. Они куролесили зверски тяжелыми утюгами, ни на минуту не переставая болтать. Водевильные мелочи разбросанной пеной по длинным столам ждали очереди. Утюги в красных девичьих пальцах шипели, совершая рейсы. Броненосцы гуляли по сбитым сливкам, а девушки прыскали.
Парнок узнал свою рубашку: она лежала на полке, сверкая пикейной грудкой, разутюженная, наглотавшаяся булавок, вся в тонкую полоску цвета спелой вишни.
— Чья это, девушки?
— Ротмистра Кржижановского, — ответили девушки лживым, бессовестным хором.
— Батюшка, — обратилась хозяйка к священнику, который стоял, как власть имущий, в сытом тумане прачечной, и пар осаждался на его рясу, как на домашнюю вешалку. — Батюшка, если вы знаете этого молодого человека, то повлияйте на них! Я даже в Варшаве такого не видала. Они мне всегда приносят спешку, но чтобы они провалились со своей спешкой… Лезут ночью с заднего хода, словно я ксендз или акушерка… Я не варьятка1, чтобы отдавать им белье ротмистра Кржижановского. То не жандарм, а настоящий поручик. Тот господин и скрывался всего три дня, а потом солдаты сами выбрали его в полковой комитет, на руках теперь носят!
На это ничего нельзя было возразить, и отец Бруни умоляюще посмотрел на Парнока.
И я бы роздал девушкам вместо утюгов скрипки Страдивария, легкие, как скворешни, и дал бы им по длинному свитку рукописных нот. Все это вместе просится на плафон. Ряса в облаках пара сойдет за сутану дирижирующего аббата. Шесть круглых ртов раскроются не дырками бубликов с Петербургской стороны, а удивленными кружочками «Концерта в Палаццо Питти».
IV
Зубной врач повесил хобот бормашины и подошел к окну.
— Ого-го… Поглядите-ка!
По Гороховой улице с молитвенным шорохом двигалась толпа. Посередине ее сохранилось свободное место в виде каре. Но в той отдушине, сквозь которую просвечивались шахматы торцов, был свой порядок, своя система: там выступали пять-шесть человек, как бы распорядители всего шествия. Они шли походкой адъютантов. Между ними — чьи-то ватные плечи и перхотный воротник. Маткой этого странного улья был тот, кого бережно подталкивали, осторожно направляли, охраняли, как жемчужину, адъютанты.
Сказать, что на нем не было лица? Нет, лицо на нем было, хотя лица в толпе не имеют значения, но живут самостоятельно одни затылки и уши.
Шли плечи-вешалки, вздыбленные ватой, апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью, раздражительные затылки и собачьи уши.
«Все эти люди — продавцы щеток», — успел подумать Парнок.
Где— то между Сенной и Мучным переулком, в москательном и кожевенном мраке, в диком питомнике перхоти, клопов и оттопыренных ушей, зародилась эта странная кутерьма, распространявшая тошноту и заразу.
— Они воняют кишечными пузырями, — подумал Парнок, и почему-то вспомнилось страшное слово «требуха». И его снова слегка затошнило как бы от воспоминания о том, что на днях старушка в лавке спрашивала при нем «легкие», — на самом же деле от страшного порядка, сковавшего толпу.
Тут была законом круговая порука: за целость и благополучную доставку перхотной вешалки на берег Фонтанки к живорыбному садку отвечали решительно все. Стоило кому-нибудь самым робким восклицанием прийти на помощь обладателю злополучного воротника, который ценился дороже соболя и куницы, как его самого взяли бы в переделку, под подозрение, объявили бы вне закона и втянули бы в пустое каре. Тут работал бондарь — страх.
Затылочные граждане, сохраняя церемониальный порядок, как шииты в день Шахсе-Ваксе, неумолимо продвигались к Фонтанке.
И Парнок кубарем скатился по щербатой бесшвейцарной лестнице, оставив недоуменного дантиста перед повисшей, как усыпленная кобра, бормашиной, вместо всяких мыслей повторяя:
— Пуговицы делаются из крови животных!2
Время, робкая хризалида, обсыпанная мукой капустница, молодая еврейка, прильнувшая к окну часовщика, — лучше бы ты не глядела!
Не Анатоля Франса хороним в страусовом катафалке, высоком как тополь, как разъезжающая ночью пирамида для починки трамвайных столбов, а ведем топить на Фонтанку, с живорыбного садка, одного человека, за американские часы, за часы белого кондукторского серебра, за лотерейные часы.
Погулял ты, человечек, по Щербакову переулку, поплевал на нехорошие татарские мясные, повисел на трамвайных поручнях, поездил в Гатчину к другу Сереже, походил в баньку и в цирк Чинизелли; пожил ты, человечек, — и довольно!
Сначала Парнок забежал к часовщику. Тот сидел горбатым Спинозой и глядел в свое иудейское стеклышко на пружинных козявок.
— Есть у вас телефон? Нужно предупредить милицию!
Но какой может быть телефон у бедного еврея — часовщика с Гороховой? Вот дочки у него есть — грустные, как марципанные куклы, и геморрой есть, и чай с лимоном, и долги есть, а телефона нет.
Наскоро приготовив коктейль из Рембрандта, козлиной испанской живописи и лепета цикад и даже не пригубив этого напитка, Парнок помчался дальше.
Бочком по тротуару, опережая солидную процессию самосуда, он забежал в одну из зеркальных лавок, которые, как известно, все сосредоточены на Гороховой. Зеркала перебрасывались отражениями домов, похожих на буфеты, замороженные кусочки улицы, кишевшие тараканьей толпой, казались в них еще страшней и мохнатей.
Подозрительный чех-зеркальщик, сберегая свою фирму, незапятнанную с тысяча восемьсот восемьдесят первого года, захлопнул перед ним дверь.
На углу Вознесенского мелькнул сам ротмистр Кржижановский с нафабренными усами. Он был в солдатской шинели, но при шапке, и развязно шептал своей даме конногвардейские нежности.
Парнок бросился к нему, как к лучшему другу, умоляя обнажить оружие.
— Я уважаю момент, — холодно произнес колченогий ротмистр, — но извините, я с дамой, — и, ловко подхватив свою спутницу, брякнул шпорами и скрылся в кафе.
Парнок бежал, пристукивая по торцам овечьими копытцами лакированных туфель. Больше всего на свете он боялся навлечь на себя немилость толпы.
Есть люди, почему-то неугодные толпе; она отмечает их сразу, язвит и щелкает по носу. Их недолюбливают дети, они не нравятся женщинам.
Парнок был из их числа.
Товарищи в школе дразнили его «овцой», «лакированным копытом», «египетской маркой» и другими обидными именами. Мальчишки ни с того ни с сего распустили о нем слух, что он «пятновыводчик», то есть знает особый состав от масляных, чернильных и прочих пятен, и нарочно выкрадывали у матери безобразную ветошь, несли ее в класс, с невинным видом предлагая Парноку «вывести пятнышко».
Вот и Фонтанка — Ундина барахольщиков и голодных студентов с длинными сальными патлами, Лорелея вареных раков, играющая на гребенке с недостающими зубьями; река — покровительница плюгавого Малого Театра3 — с его облезлой, лысой, похожей на ведьму, надушенную пачулями, Мельпоменой.
Что же! Египетский мост и не нюхал Египта, и ни один порядочный человек в глаза не видал Калинкина!
Несметная, невесть откуда налетевшая человечья саранча вычернила берега Фонтанки, облепила рыбный садок, баржи с дровами, пристаньки, гранитные сходни и даже лодки ладожских гончаров. Тысячи глаз глядели в нефтяную радужную воду, блестевшую всеми оттенками керосина перламутровых помоев и павлиньего хвоста.
Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух.
Однако он звонил из аптеки, звонил в милицию, звонил правительству — исчезнувшему, уснувшему, как окунь, государству.
С тем же успехом он мог бы звонить к Прозерпине или к Персефоне, куда телефон еще не проведен.
Аптечные телефоны делаются из самого лучшего скарлатинового дерева. Скарлатиновое дерево растет в клистирной роще и пахнет чернилом.
Не говорите по телефону из петербургских аптек: трубка шелушится, и голос обесцвечивается. Помните, что к Прозерпине и к Персефоне телефон не проведен еще.
Перо рисует усатую греческую красавицу и чей-то лисий подбородок.
Так на полях черновиков возникают арабески и живут своей самостоятельной, прелестной и коварной жизнью.
Скрипичные человечки пьют молоко бумаги.
Вот Бабель: лисий подбородок и лапки очков.
Парнок — египетская марка.
Артур Яковлевич Гофман — чиновник министерства иностранных дел по греческой части.
Валторны Мариинского театра.
Еще раз усатая гречанка.
И пустое место для остальных.
Эрмитажные воробьи щебетали о барбизонском солнце, о пленэрной живописи, о колорите, подобном шпинату с гренками, одним словом, обо всем, чего не хватает мрачно-фламандскому Эрмитажу4.
А я не получу приглашенья на барбизонский завтрак, хоть и разламывал в детстве шестигранные коронационные фонарики с зазубринкой и наводил на песчаный сосняк и можжевельник — то раздражительно-красную трахому, то синюю жвачку полдня какой-то чужой планеты, то лиловую кардинальскую ночь.
Мать заправляла салат желтками и сахаром.
Рваные мятые уши с хрящиками салата умирали от уксуса и сахара.
Воздух, уксус и солнце уминались с зелеными тряпками в сплошной, горящий солью, трельяжами, бисером, серыми листьями, жаворонками и стрекозами, в гремящий тарелками барбизонский день.
Барбизонское воскресенье шло, обмахиваясь газетами и салфетками, к зенитчому завтраку, устилая траву фельетонами и заметками о булавочно-маленьких актрисах.
К барбизонским зонтам стекались гости в широких панталонах и львиных бархатных жилетах. А женщины стряхивали мурашей с круглых плеч.
Открытые вагонетки железной дороги плохо повиновались пару и, растрепав занавески, играли с ромашковым полем в лото.
Паровоз в цилиндре, с цыплячьими поршнями, негодовал на тяжесть шапокляков и муслина.
Бочка опрыскивала улицу шпагатом тонких и ломких струн.
Уже весь воздух казался огромным вокзалом для жирных нетерпеливых роз.
А черные блестящие муравьи, как плотоядные актеры китайского театра в старинной пьесе с палачом, чванились скипидарными лапками и влачили боевые дольки еще не разрубленного тела, вихляя сильным агатовым задом, словно военные лошади, в фижмах пыли скачущие на холм.
Парнок встряхнулся.
Ломтик лимона — это билет в Сицилию к жирным розам, и полотеры пляшут с египетскими телодвижениями.
Лифт не работает.
По домам ходят меньшевики-оборонцы, организуя ночное дежурство в подворотнях.
И страшно жить и хорошо!
Он — лимонная косточка, брошенная в расщелину петербургского гранита, и выпьет его с черным турецким кофием налетающая ночь.
V
В мае месяце Петербург чем-то напоминает адресный стол, не выдающий справок, — особенно в районе Дворцовой площади. Здесь все до ужаса приготовлено к началу исторического заседания с белыми листами бумаги, с отточенными карандашами и с графином кипяченой воды.
Еще раз повторяю: величие этого места в том, что справки никогда и никому не выдаются.
В это время проходили через площадь глухонемые: они сучили руками быструю пряжу. Они разговаривали. Старший управлял челноком. Ему помогали. То и дело подбегал со стороны мальчик, так растопырив пальцы, словно просил снять с них заплетенную диагоналями нитку, чтобы сплетенье не повредилось. На них на всех — их было четверо — полагалось, очевидно, пять мотков. Один моток был лишним. Они говорили на языке ласточек и попрошаек и, непрерывно заметывая крупными стежками воздух, шили из него рубашку.
Староста в гневе перепутал всю пряжу.
Глухонемые исчезли в арке Главного Штаба, продолжая сучить свою пряжу, но уже гораздо спокойнее, словно засылали в разные стороны почтовых голубей.
Нотное письмо ласкает глаз не меньше, чем сама музыка слух. Черныши фортепианной гаммы, как фонарщики, лезут вверх и вниз. Каждый такт — это лодочка, груженная изюмом и черным виноградом.
Нотная страница — это, во-первых, диспозиция боя парусных флотилий; во-вторых, — это план, по которому тонет ночь, организованная в косточки слив.
Громадные концертные спуски шопеновских мазурок, широкие лестницы с колокольчиками листовских этюдов, висячие парки с куртинами Моцарта, дрожащие на пяти проволоках, — ничего не имеют общего с низкорослым кустарником бетховенских сонат.
Миражные города нотных знаков стоят, как скворешники, в кипящей смоле.
Нотный виноградник Шуберта всегда расклеван до косточек и исхлестан бурей.
Когда сотни фонарщиков с лесенками мечутся по улицам, подвешивая бемоли к ржавым крюкам, укрепляя флюгера диезов, снимая целые вывески поджарых тактов, — это, конечно, Бетховен; но когда кавалерия восьмых и шестнадцатых в бумажных султанах с конскими значками и штандартиками рвется в атаку, — это тоже Бетховен.
Нотная страница — это революция в старинном немецком городе.
Большеголовые дети. Скворцы. Распрягают карету князя. Шахматисты выбегают из кофеен, размахивая ферзями и пешками.
Вот черепахи, вытянув нежную голову, состязаются в беге — это Гендель.
Нет, до чего воинственны страницы Баха — эти потрясающие связки сушеных грибов.
А на Садовой у Покрова стоит каланча. В январские морозы она выбрасывает виноградины сигнальных шаров — к сбору частей. Там неподалеку я учился музыке. Мне ставили руку по системе Лешетицкого.
Пусть ленивый Шуман развешивает ноты, как белье для просушки, а внизу ходят итальянцы, задрав носы; пусть труднейшие пассажи Листа, размахивая костылями, волокут туда и обратно пожарную лестницу.
Рояль — это умный и добрый комнатный зверь с волокнистым деревянным мясом, золотыми жилами и всегда воспаленной костью. Мы берегли его от простуды, кормили легкими, как спаржа, сонатинами…
Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него.
Ведь я стоял в той страшной терпеливой очереди, которая подползает к желтому окошечку театральной кассы, — сначала на морозе, потом под низкими банными потолками вестибюлей Александринки. Ведь и театр мне страшен, как курная изба, как деревенская банька, где совершалось зверское убийство ради полушубка и валеных сапог. Ведь и держусь я одним Петербургом — концертным, желтым, зловещим, нахохленным, зимним.
Не повинуется мне перо: оно расщепилось и разбрызгало свою черную кровь, как бы привязанное к конторке телеграфа, — публичное, испакощенное ерниками в шубах, разменявшее свой ласточкин росчерк — первоначальный нажим — на «приезжай, ради бога», на «скучаю» и «целую» небритых похабников, шепчущих телеграмму в надышанный меховой воротник.
Керосинка была раньше примусом. Слюдяное окошечко и откидной маяк. Пизанская башня керосинки кивала Парноку, обнажая патриархальные фитили, добродушно рассказывая об отроках в огненной пещи.
Я не боюсь бессвязности и разрывов.
Стригу бумагу длинными ножницами.
Подклеиваю ленточки бахромкой.
Рукопись — всегда буря, истрепанная, исклеванная.
Она — черновик сонаты.
Марать — лучше, чем писать.
Не боюсь швов и желтизны клея.
Портняжу, бездельничаю.
Рисую Марата в чулке.
Стрижей.
Больше всего у нас в доме боялись «сажи» — то есть копоти от керосиновых ламп. Крик «сажа» — «сажа» звучал как «пожар», «горим» — вбегали в комнату, где расшалилась лампа. Всплескивая руками, останавливались, нюхали воздух, весь кишевший усатыми, живыми порхающими чаинками.
Казнили провинившуюся лампу приспусканием фитиля.
Тогда немедленно распахивались маленькие форточки и в них стрелял шампанским мороз, торопливо прохватывая всю комнату с усатыми бабочками «сажи», оседающими на пикейных одеялах и наволочках, эфиром простуды, сулемой воспаления легких.
— Туда нельзя — там форточка, — шептали мать и бабушка.
Но и в замочную скважину врывался он — запрещенный холод — чудный гость дифтеритных пространств.
Юдифь Джорджоне улизнула от евнухов Эрмитажа.
Рысак выбрасывает бабки.
Серебряные стаканчики наполняют Миллионную.
Проклятый сон! Проклятые стогны бесстыжего города!
Он сделал слабое умоляющее движение рукой, обронил листочек цедровой пудренной бумаги и присел на тумбу.
Он вспомнил свои бесславные победы, свои позорные рандеву, стояния на улицах, телефонные трубки в пивных, страшные, как рачья клешня… Номера ненужных отгоревших телефонов…
Роскошное дребезжанье пролетки растаяло в тишине, подозрительной, как кирасирская молитва.
Что делать? Кому жаловаться? Каким серафимам вручить робкую концертную душонку, принадлежащую малиновому раю контрабасов и трутней?
Скандалом называется бес, открытый русской прозой или самой русской жизнью в сороковых, что ли, годах. Это не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова. Скандал живет по засаленному просроченному паспорту, выданному литературой. Он — исчадие ее, любимое детище. Пропала крупиночка: гомеопатическое драже, крошечная доза холодного белого вещества… В те отдаленные времена, когда применялась дуэль-кукушка, состоявшая в том, что противники в темной комнате бьют из пистолетов в горки с посудой, в чернильницы и в фамильные холсты, — эта дробиночка именовалась честью.
Однажды бородатые литераторы, в широких, как пневматические колокола, панталонах, поднялись на скворешню к фотографу и снялись на отличном дагерротипе. Пятеро сидели, четверо стояли за спинками ореховых стульев. Перед ними снимался мальчик в черкеске и девочка с локончиками и под ногами в компании шмыгал котенок. Его убрали. Все лица передавали один тревожно-глубокомысленный вопрос:
почем теперь фунт слоновьего мяса?
Вечером на даче в Павловске эти господа литераторы отчихвостили бедного юнца — Ипполита. Так и не довелось ему прочесть свою клеенчатую тетрадку. Тоже выискался Руссо!
Они не видели и не понимали прелестного города с его чистыми корабельными линиями.
А бесенок скандала вселился в квартиру на Разъезжей, привинтив медную дощечку на имя присяжного поверенного, — эта квартира неприкосновенна и сейчас — как музей, как пушкинский дом, — дрыхнул на оттоманках, топтался в прихожих — люди, живущие под звездой скандала, никогда не умеют вовремя уходить, — канючил, нудно прощался, тычась в чужие галоши.
Господа литераторы! Как балеринам — туфельки-балетки, так вам принадлежат галоши. Примеряйте их, обменивайте: это ваш танец. Он исполняется в темных прихожих, при одном непременном условии — неуважения к хозяину дома. Двадцать лет такого танца составляют эпоху; сорок — историю… Это — ваше право.
Смородинные улыбки балерин,
лопотание туфелек, натертых тальком, воинственная сложность и дерзкая численность скрипичного оркестра, запрятанного в светящийся ров, где музыканты перепутались как дриады, ветвями, корнями и смычками.
растительное послушание кордебалета,
великолепное пренебрежение к материнству женщины:
— Этим нетанцующим королем и королевой только что играли в шестьдесят шесть.
— Моложавая бабушка Жизели разливает молоко — должно быть, миндальное.
— Всякий балет до известной степени — крепостной. Нет, нет — тут уж вы со мной не спорьте!
Январский календарь с балетными козочками, образцовым молочным хозяйством мириадов миров и треском распечатываемой карточной колоды…
Подъезжая с тылу к неприлично ватерпруфному зданию мариинской оперы:
— Сыщики-барышники, барышники-сыщики,
Что вы на морозе, миленькие, рыщете?
Кому билет в ложу,
А кому в рожу.
— Нет, что ни говорите, а в основе классического танца лежит острастка — кусочек «государственного льда».
—
Как вы думаете, где сидела Анна Каренина?
— Обратите внимание: у античности был амфитеатр, а у нас — у новой Европы — ярусы. И на фресках страшного суда и в опере. Единое мироощущение.
Продымленные улицы с кострами вертелись каруселью.
— Извозчик, на «Жизель» — то есть к Мариинскому! Петербургский извозчик — это миф, козерог. Его нужно пустить по зодиаку. Там он не пропадет со своими бабьим кошельком, узкими как правда, полозьями и овсяным голосом.
VI
Пролетка была с классическим, скорее московским, чем петербургским шиком; с высоко посаженным кузовом, блестящими лакированными крыльями и на раздутых до невозможно шинах — ни дать ни взять — греческая колесница.
Ротмистр Кржижановский шептал в преступное розовое ушко:
— О нем не беспокойтесь: честное слово, он пломбирует зуб. Скажу вам больше: сегодня на Фонтанке — то ли он украл часы, не то у него украли. Мальчишка! Грязная история!
Белая ночь, шагнув через Колпино и Среднюю рогатку, добрела до Царского села. Дворцы стояли испуганно-белые, как шелковые куколки. Временами белизна их напоминала выстиранный с мылом и щелоком оренбургского пуха платок. В темной зелени шуршали велосипеды — металлические шершни парка.
Дальше белеть было некуда: казалось — еще минутка и все наваждение расколется, как молодая простокваша.
Страшная каменная дама «в ботиках Петра Великого» ходит по улицам и говорит:
— Мусор на площади… Самум… Арабы… «Просеменил Семен в просеминарий»…
Петербург, ты отвечаешь за бедного твоего сына!
За весь этот сумбур, за жалкую любовь к музыке, за каждую крупинку «драже» в бумажном мешочке у курсистки на хорах Дворянского собрания ответишь ты, Петербург!
Память — это больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на Николаевский вокзал: не увезет ли кто?
«Страховой старичок» Гешка Рабинович, как только родился, потребовал бланки для полисов и мыло Ралле. Жил он на Невском в крошечной девической квартирке. Его незаконная связь с какой-то Лизочкой умиляла всех. — Генрих Яковлевич спит, — говаривала Лизочка, приложив палец к губам, и вся вспыхивала. Она, конечно, надеялась — сумасшедшей надеждой, — что Генрих Яковлевич еще подрастет и проживет с ней долгие годы, что их розовый бездетный брак, освященный архиереями из кофейни Филиппова, — только начало…
А Генрих Яковлевич с легкостью болонки бегал по лестницам и страховал на дожитие.
В еврейских квартирах стоит печальная усатая тишина.
Она слагается из разговоров маятника с крошками булки на клеенчатой скатерти и серебряными подстаканниками.
Тетя Вера приходила обедать и приводила с собой отца, — старика Пергамента. За плечами тети Веры стоял миф о разорении Пергамента. У него была квартира в сорок комнат на Крещатике в Киеве. «Дом — полная чаша». На улице под сорока комнатами били копытами лошади Пергамента. Сам Пергамент «стриг купоны».
Тетя Вера — лютеранка, подпевала прихожанам в красной кирке на Мойке. В ней был холодок компаньонки, лектрисы и сестры милосердия — этой странной породы людей, враждебно привязанных к чужой жизни. Ее тонкие лютеранские губы осуждали наш домопорядок, а стародевичьи букли склонялись над тарелкой куриного супа с легкой брезгливостью.
Появляясь в доме, тетя Вера начинала машинально сострадать и предлагать свои краснокрестные услуги, словно разворачивая катушку марли и разбрасывая серпантином незримый бинт.
Ехали таратайки по твердой шоссейной дороге, и топорщились, как кровельное железо, воскресные пиджаки мужчин. Ехали таратайки от «ярви» до «ярви», чтоб километры сыпались, горохом, пахли спиртом и творогом. Ехали таратайки, двадцать одна и еще четыре — со старухами в черных косынках и в суконных юбках, твердых, как жесть. Нужно петь псалмы в петушиной кирке, пить черный кофе, разбавленный чистым спиртом, и той же дорогой вернуться домой.
Молодая ворона напыжилась: — Милости просим к нам на похороны.
— Так не приглашают, — чирикнул воробушек в парке Мон-Репо жесткими перьями. — Карл и Амалия Бломквист извещают родных и знакомых о кончине любезной их дочери Эльзы.
— Вот это другое дело, — чирикнул воробушек в парке Мон-Репо.
Мальчиков снаряжали на улицу, как рыцарей на турнир: гамаши, ватные шаровары, башлыки, наушники.
От наушников шумело в голове и накатывала глухота. Чтобы ответить кому-нибудь, надо было развязать режущие тесемочки у подбородков.
Он вертелся в тяжелых зимних доспехах, как маленький глухой рыцарь, не слыша своего голоса.
Первое разобщение с людьми и с собой и, кто знает, быть может, сладкий предсклеротический шум в крови, пока еще растираемой мохнатым полотенцем седьмого года жизни, — воплощались в наушниках; и шестилетнего ватного Бетховена в гамашах, вооруженного глухотой, выталкивали на лестницу.
Ему хотелось обернуться и крикнуть: «Кухарка тоже глухарь».
Они с важностью шли по Офицерской и выбирали в магазине грушу дюшес.
Однажды зашли в ламповый магазин Аболинга на Вознесенском, где парадные лампы толпились, как идиотики жирафы, в красных шляпах с фестонами и оборками. Здесь ими впервые овладело впечатление грандиозности и «леса вещей».
В цветочный магазин Эйлерса не заходили никогда.
Где— то практиковала женщина-врач Страшунер.
VII
Когда портной относит готовую работу, вы никогда не скажете, что на руках у него обнова. Чем-то он напоминает члена похоронного братства, спешащего в дом, отмеченный Азраилом, с принадлежностями ритуала. Так и портной Мервис. Визитка Парнока погрелась у него на вешалке недолго — часа два, — подышала родным тминным воздухом. Жена Мервиса поздравила его с удачей.
— Это еще что, — ответил польщенный мастер, — вот дедушка мой говорил, что настоящий портной это тот, кто снимает сюртук с неплательщика среди бела дня на Невском проспекте.
Потом он снял визитку с плечика, подул на нее, как на горячий чай, завернул в чистую полотняную простыню и понес к ротмистру Кржижановскому в белом саване и в черном коленкоре.
Я, признаться, люблю Мервиса, люблю его слепое лицо, изборожденное зрячими морщинами. Теоретики классического балета обращают громадное внимание на улыбку танцовщицы — они считают ее дополнением к движению — истолкованием прыжка, полета. Но иногда опущенное веко видит больше, чем глаз, и яруса морщин на человеческом лице глядят, как скопище слепцов.
Тогда изящнейший фарфоровый портной мечется, как каторжанин, сорвавшийся с нар, избитый товарищами, как запарившийся банщик, как базарный вор, готовый крикнуть последнее неотразимо-убедительное слово.
В моем восприятии Мервиса просвечивают образы: греческого сатира, несчастного певца кифареда, временами маска еврипидовского актера, временами голая грудь и покрытое испариной тело растерзанного каторжанина, русского ночлежника или эпилептика.
Птичье око, налитое кровью, тоже видит по-своему мир.
Книги тают, как льдышки, принесенные в комнату. Все уменьшается. Всякая вещь мне кажется книгой. Где различие между книгой и вещью? Я не знаю жизни: мне подменили ее еще тогда, когда я узнал хруст мышьяка на зубах у черноволосой французской любовницы, младшей сестры нашей гордой Анны.
Все уменьшается. Все тает. И Гете тает. Небольшой нам отпущен срок. Холодит ладонь ускользающий эфес бескровной ломкой шпаги, отбитой в гололедицу у водосточной трубы.
Но мысль, как палачевская сталь коньков «Нурмис», скользивших когда-то по голубому с пупырышками льду, не притупилась.
Так коньки, привинченные к бесформенным детским ботинкам, к американским копытцам-шнуровкам, сращиваются с ними — ланцеты свежести и молодости — и оснащенная обувь, потянувшая радостный вес, превращается в великолепные драконьи ошметки, которым нет названья и цены.
Все трудней перелистывать страницы мерзлой книги, переплетенной в топоры при свете газовых фонарей.
Вы, дровяные склады — черные библиотеки города, — мы еще почитаем, поглядим.
Где— то на Подьяческой помещалась эта славная библиотека, откуда пачками вывозились на дачу коричневые томики иностранных и российских авторов, с зачитанными в шелк заразными страницами. Некрасивые барышни выбирали с полок книги. Кому -Бурже, кому — Жорж Онэ, кому еще что-нибудь из библиотечного шурум-бурума.
Напротив была пожарная часть с закрытыми наглухо воротами и колоколом под шляпкой гриба.
Некоторые страницы сквозили как луковичная шелуха.
В них жила корь, скарлатина и ветряная оспа.
В корешках этих дачных книг, то и дело забываемых на пляже, застревала золотая перхоть морского песку, — как ее ни вытряхивать — она появлялась снова.
Иногда выпадала готическая елочка папоротника, приплюснутая и слежавшаяся, иногда — превращенный в мумию безымянный северный цветок.
Пожары и книги — это хорошо.
Мы еще поглядим — почитаем.
За несколько минут до начала агонии по Невскому прогремел пожарный обоз. Все отпрянули к квадратным запотевшим окнам, и Анджиолину Бозио — уроженку Пьемонта, дочь бедного странствующего комедианта — basso comico — предоставили на мгновенье самой себе.
«Воинственные фиоритуры петушиных пожарных рожков, как неслыханное брио безоговорочного побеждающего несчастья, ворвались в плохо проветренную спальню демидовского дома. Битюги с бочками, линейками и лестницами отгрохотали, и полымя факелов лизнуло зеркала. Но в потускневшем сознании умирающей певицы этот ворох горячечного казенного шума, эта бешеная скачка в бараньих тулупах и касках, эта охапка арестованных и увозимых под конвоем звуков обернулась призывом оркестровой увертюры. В ее маленьких некрасивых ушах явственно прозвучали последние такты увертюры к „Duo Foscari“ ее дебютной лондонской оперы
«Она приподнялась и пропела то, что нужно, но не тем сладостным металлическим, гибким голосом, который сделал ей славу и который хвалили газеты, а грудным необработанным тембром пятнадцатилетней девочки-подростка, с неправильной неэкономной подачей звука, за которую ее так бранил профессор Каттанео».
«Прощай, Травиата, Розина, Церлина…»
VIII
В тот вечер Парнок не вернулся домой обедать и не пил чаю с сухариками, которые он любил, как канарейка. Он слушал жужжание паяльных свеч, приближающих к рельсам трамвая ослепительно белую мохнатую розу. Он получил обратно все улицы и площади Петербурга — в виде сырых корректурных гранок, верстал проспекты, брошюровал сады.
Он подходил к разведенным мостам, напоминающим о том, что все должно оборваться, что пустота и зияние — великолепный театр — что будет — будет разлука, что обманные рычаги управляют громадами и годами.
Он ждал, покуда накапливались таборы извозчиков и пешеходов на той и другой стороне, как два враждебных племени или поколенья, поспорившие о торцовой книге в каменном переплете с вырванной сердцевиной.
Он думал, что Петербург — его детская болезнь и что стоит всего лишь очухаться, очнуться — и наваждение рассыплется: он выздоровеет, станет как все люди; пожалуй, женится даже… Тогда никто уже не посмеет называть его «молодым человеком». И ручки дамам он тогда бросит целовать. — Хватит с них! Тоже, проклятые, завели Трианон… Иная лахудра, бабища, облезлая кошка, сует к губам лапу, а он по старой памяти — чмок! — Довольно. Собачьей молодости надо положить конец. Ведь обещал же Артур Яковлевич Гофман устроить его драгоманом хотя бы в Грецию. А там видно будет. Он сошьет себе новую визитку, он объяснится с ротмистром Кржижановским, он ему покажет.
Вот только одна беда — родословной у него нет, И взять ее неоткуда — нет, и все тут! Всех-то родственников у него одна тетка — тетя Иоганна. Карлица. Императрица Анна Леопольдовна. По-русски говорит как черт. Словно Бирон ей сват и брат. Ручки коротенькие. Ничего сама застегнуть не может. А при ней горничная Аннушка — Психея.
Да, с такой родней далеко не уедешь. Впрочем, как это нет родословной, позвольте — как это нет? Есть. А капитан Голядкин? А коллежские асессоры, которым «мог господь прибавить ума и денег». Все эти люди, которых спускали с лестниц, шельмовали, оскорбляли в сороковых и пятидесятых годах, все эти бормотуны, обормоты в размахайках, с застиранными перчатками, все те, кто не живет, а проживает на Садовой и Подьяческой в домах, сложенных из черствых плиток каменного шоколада, и бормочут себе под нос: «Как же это? без гроша, с высшим образованием?»
Надо лишь снять пленку с петербургского воздуха, и тогда обнажится его подспудный пласт. Под лебяжьим, гагачьим, гагаринским пухом — под Тучковыми тучками, под французским буше умирающих набережных, под зеркальными зенками барско-холуйских квартир обнаружится нечто совсем неожиданное.
Но перо, снимающее эту пленку, — как чайная ложечка доктора, зараженная дифтеритным налетом. Лучше к нему не прикасаться.
Комарик звенел:
— Глядите, что сталось со мной: я последний египтянин — я плакальщик, пестун, пластун, — я маленький князь-раскоряка — я нищий Рамзес-кровопийца — я на севере стал ничем — от меня так мало осталось — извиняюсь!…
— Я князь невезенья — коллежский асессор из города Фив… Все такой же — ничуть не изменился — ой, — страшно мне здесь — извиняюсь…
— Я — безделица. Я — ничего. Вот попрошу у холерных гранитов на копейку — египетской кашки, на копейку — девической шейки.
— Я ничего — заплачу — извиняюсь.
Чтоб успокоиться, он обратился к одному неписаному словарику, вернее — реестрику домашних словечек, вышедших из обихода. Он давно уже составил его в уме на случай бед и потрясений:
«Подковка» — так называлась булочка с маком.
«Фрамуга» — так мать называла большую откидную форточку, которая захлопывалась, как крышка рояля.
«Не коверкай» — так говорили о жизни.
«Не командуй» — так гласила одна из заповедей.
Этих словечек хватит на заварку. Он принюхивался к их щепотке. Прошлое стало потрясающе реальным и щекотало ноздри, как партия свежих кяхтинских чаев.
По снежному полю ехали кареты. Над полем свесилось низкое суконно-полицейское небо, скупо отмеривая желтый и почему-то позорный свет.
Меня прикрепили к чужой семье и карете. Молодой еврей пересчитывал новенькие, с зимним хрустом, сотенные бумажки.
— Куда мы едем? — спросил я старуху в цыганской шали.
— В город Малинов, — ответила она с такой щемящей тоской, что сердце мое сжалось нехорошим предчувствием.
Старуха, роясь в полосатом узле, вынимала столовое серебро, полотно, бархатные туфли.
Обшарпанные свадебные кареты ползли все дальше, вихляя как контрабасы.
Ехал дровяник Абраша Копелянский с грудной жабой и тетей Иоганной, раввины и фотографы. Старый учитель музыки держал на коленях немую клавиатуру. Запахнутый полами стариковской бобровой шубы, ерзал петух, предназначенный резнику.
— Поглядите, — воскликнул кто-то, высовываясь в окно, — вот и Малинов.
Но города не было. Зато прямо на снегу росла крупная бородавчатая малина.
— Да это малинник? — захлебнулся я, вне себя от радости, и побежал с другими, набирая снега в туфлю. Башмак развязался, и от этого мною овладело ощущение вины и беспорядка.
И меня ввели в постылую варашавскую комнату и заставили пить воду и есть лук.
Я то и дело нагибался, чтоб завязать башмак двойным бантом и все уладить как полагается, — но бесполезно. Нельзя было ничего наверстать и ничего исправить: все шло обратно, как всегда бывает во сне. Я разметал чужие перины и выбежал в Таврический сад, захватив любимую детскую игрушку — пустой подсвечник, богато оплывший стеарином, — и снял с него белую корку, нежную, как подвенечный наряд.
Страшно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлюэнцного бреда.
Розовоперстная Аврора обломала свои цветные карандаши. Теперь они валяются, как птенчики, с пустыми разинутыми клювами. Между тем во всем решительно мне чудится задаток любимого прозаического бреда.
Знакомо ли вам это состояние? Когда у всех ваших вещей словно жар; когда все они радостно возбуждены и больны; рогатки на улице; шелушенье афиш, рояли, толпящиеся в депо, как умное стадо без вожака, рожденное для сонатных беспамятств и кипяченой воды…
Тогда, признаться, я не выдерживаю карантина и смело шагаю, разбив термометры, по заразному лабиринту, обвешанный придаточными предложениями, как веселыми случайными покупками… и летят в подставленный мешок поджаристые жаворонки, наивные, как пластика первых веков христианства, и калач, обыкновенный калач, уже не скрывает от меня, что он задуман пекарем как российская лира из безгласного теста.
Ведь Невский в семнадцатом году — это казачья сотня в заломленных синих фуражках, с лицами, повернутыми посолонь, как одинаковые косые полтинники.
Можно сказать и зажмурив глаза, что это поют конники.
Песня качается в седлах, как большущие даровые мешки с золотой фольгою хмеля.
Она свободный приварок к мелкому топоту, теньканью и поту.
Она плывет в уровень с зеркальными окнами бельэтажей на слепеньких мохнатых башкирках, словно сама сотня плывет на диафрагме, доверяя ей больше, чем подпругам и шенкелям.
Уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку, от скуки, от неуменья и как бы во сне. Эти второстепенные и мимовольные создания вашей фантазии не пропадут в мире, но тотчас рассядутся за теневые пюпитры, как третьи скрипки мариинской оперы, и в благодарность своему творцу тут же заварят увертюру к Леноре или к Эгмонту Бетховена.
Какое наслаждение для повествования от третьего лица перейти к первому! Это все равно что после мелких и неудобных стаканчиков-наперстков вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды.
Страх берет меня за руку и ведет. Белая нитяная перчатка митенка. Я люблю, я уважаю страх. Чуть не сказал: «с ним мне не страшно!» Математики должны были построить для страха шатер, потому что он координата времени и пространства: они, как скатанный войлок и в киргизской кибитке, участвуют в нем. Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низкими потолками.
На побегушках у моего сознания два-три словечка «и вот», «уже», «вдруг»; они мотаются полуосвещенным севастопольским поездом из вагона в вагон, задерживаясь на буферных площадках, где наскакивают друг на друга и расползаются две гремящие сковороды.
Железная дорога изменила все течение, все построение, весь такт нашей прозы. Она отдала ее во власть бессмысленному лопотанью французского мужичка из Анны Карениной. Железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предлогами, которым место на столе судебных улик, развязана от всякой заботы о красоте и округленности.
Да, там, где обливаются горячим маслом мясистые рычаги паровозов, — там дышит она, голубушка проза, — вся пущенная в длину, — обмеривающая, бесстыдная, наматывающая на свой живоглотский аршин все шестьсот девять николаевских верст, с графинчиками запотевшей водки.
В девять тридцать вечера на московский ускоренный собрался бывший ротмистр Кржижановский. Он уложил в чемодан визитку Парнока и лучшие его рубашки. Визитка, поджав ласты, улеглась в чемодан особенно хорошо, почти не помявшись — шаловливым шевиотовым дельфином, которому они сродни покроем и молодой душой.
Ротмистр Кржижановский выходил пить водку в Любани, в Бологом, приговаривая при этом — суаре-муаре-пуаре или невесть какой офицерский вздор. Он пробовал даже побриться в вагоне, но это ему не удалось.
В Клину он отведал железнодорожного кофия, который приготовляется по рецепту, неизменному со времен Анны Карениной, из цикория с легкой прибавкой кладбищенской земли или другой какой-то гадости в этом роде.
В Москве он остановился в гостинице Селект — очень хорошая гостиница на Малой Лубянке, в номере, переделанном из магазинного помещения, с шикарной стеклянной витриной вместо окна, невероятно нагретой солнцем.
1928



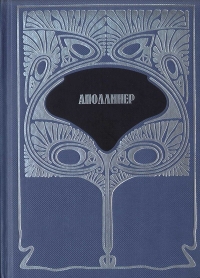
Комментарии к книге «Египетская марка», Осип Эмильевич Мандельштам
Всего 0 комментариев