Томас Манн ВОЛШЕБНАЯ ГОРА Часть II
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Перемены
Что такое время? Бесплотное и всемогущее – оно тайна, непременное условие мира явлений, движение, неразрывно связанное и слитое с пребыванием тел в пространстве и их движением. Существует ли время без движения? Или движение без времени? Неразрешимый вопрос! Есть ли время функция пространства? Или пространство функция времени? Или же они тождественны? Опять вопрос! Время деятельно, для определения его свойств скорее всего подходит глагол: «вынашивать». Но что же оно вынашивает? Перемены! «Теперь» отлично от «прежде», «здесь» от «там», ибо их разделяет движение. Но если движение, которым измеряется время, совершается по кругу и замкнуто в себе, то и движение, изменения, все равно что покой и неподвижность; ведь «прежде» постоянно повторяется в «теперь», «там» – в «здесь». И далее: поскольку при самом большом старании нельзя представить себе время конечным, пространство же ограниченным, принято «мыслить» время и пространство вечными и бесконечными, считая, по-видимому, что если это и не вполне верно, то все же лучше, чем ничего. Но не будет ли такое допущение вечного и бесконечного логическо-математическим отрицанием всего ограниченного и конечного и по сути сведением их к нулю? Может ли в вечности одно явление следовать за другим, а в бесконечности одно тело находиться подле другого? Как согласовать с вынужденным допущением вечности и бесконечности наличие таких понятий, как расстояние, движение, изменения или хотя бы пребывание во вселенной пространственно ограниченных тел? Один неразрешимый вопрос за другим!
Эти и подобные вопросы занимали ум Ганса Касторпа, с самого приезда сюда наверх обнаружившего склонность к столь неприлично-въедливому любопытству, причем эта захватившая молодого человека злосчастная, но непреодолимая страсть, по-видимому, даже отточила его мысль и придала ей самонадеянность, нужную для углубления в такие казуистические дебри. Он задавал эти вопросы и себе, и честному Иоахиму, и с незапамятных времен погребенной в снег долине, хотя не мог ждать от них ничего сколь-нибудь похожего на ответ – трудно даже сказать, от кого всего менее. Себе он задавал все эти вопросы лишь потому, что не знал, как на них ответить. Иоахима, к примеру, почти немыслимо было втянуть в такие разговоры: он, как однажды вечером объяснил по-французски Ганс Касторп, помышлял лишь о том, чтобы стать там, на равнине, солдатом, и вел ожесточенную борьбу с маячившей то совсем близко, то вдруг насмешливо ускользающей надеждой, борьбу, которую он в последнее время, видимо, имел поползновение завершить насильственным путем. Да, на честного, терпеливого, смирного Иоахима, всегда благоговевшего перед дисциплиной и служебным долгом, находил порой мятежный стих, и он бунтовал против «шкалы Гафки»[1] – метода исследования, при помощи которого здесь, в лаборатории, или, как пациенты говорили, «в лабораторке», измерялась и устанавливалась степень зараженности больного бациллами: обнаружены ли при анализе мокроты единичные палочки, или она кишит ими, определялось величиной цифры на шкале, – от нее-то все и зависело Полученный балл с неотвратимой непреложностью указывал больному его шансы на выздоровление; тут уже не представляло труда определить, сколько месяцев или лет ему предстоит провести «наверху», начиная с полугодичного краткого визита и вплоть до приговора «пожизненно», что, однако, в смысле продолжительности, могло означать и весьма небольшой срок. Против этой-то шкалы Гафки и восставал Иоахим, открыто выражая свое неверие а нее, – впрочем, не совсем открыто, не прямо главному врачу, а двоюродному брату и даже соседям по столу.
– Хватит с меня, больше не позволю себя морочить, – возвышал он голос, и кровь приливала к его бронзовому от загара лицу. – Две недели назад у меня было Гафки два, сущий пустяк, и самые лучшие перспективы, а сегодня девять, палочек полным-полно, и о равнине думать нечего. Поди разберись, сам черт ногу сломит, просто терпения нет. В санатории на Шацальпе лежит крестьянин грек, его прислали сюда из Аркадии, агент прислал – безнадежный случай, скоротечная, каждый день можно ждать exitus'a, а в мокроте хоть бы раз бациллу обнаружили! Зато у толстого капитана бельгийца, который выписался отсюда здоровым, когда я прибыл, у того определили Гафки десять, уйму палочек, а каверна у него была самая ничтожная. Слышать больше не желаю о Гафки. Хватит с меня, поеду домой, хоть бы это стоило мне жизни! – Так говорил Иоахим, и всем было больно и неловко видеть, как горячится этот всегда кроткий и сдержанный молодой человек. Угрозы Иоахима бросить лечение и вернуться на равнину поневоле вызывали в памяти Ганса Касторпа некоторые соображения, высказанные по-французски и услышанные им от третьего лица. Однако он молчал; да и вправе ли он был ставить двоюродному брату в пример собственную выдержку, как это делала фрау Штер, всерьез убеждавшая Иоахима не бунтовать, а смиренно покориться, подражая стойкости, с какой она, Каролина, высиживает здесь, мужественно отказываясь хозяйничать у себя дома в Каннштате ради того, чтобы в один прекрасный день подарить в своем лице мужу целиком и полностью исцеленную супругу? Нет, этого он не мог сделать, тем более что с карнавала на масленой у него по отношению к Иоахиму была нечиста совесть, а именно: совесть подсказывала ему, что Иоахим видит в том, о чем они не обмолвились ни словом, но о чем Иоахим, несомненно, знал, – своего рода измену, дезертирство, предательство, особенно если принять во внимание чьи-то круглые карие глаза, апельсинные духи и неуместную смешливость, опасному воздействию которых сам Иоахим подвергался пять раз на дню, но строго и благонравно не отрывал глаз от своей тарелки… Даже в молчаливом неодобрении, с каким Иоахим встречал его рассуждения и взгляды на «время», Гансу Касторпу чудился душок все той же коловшей ему глаза военной выдержки. Что же касается долины, погребенной в снег зимней долины, к которой Ганс Касторп, лежа в отличном шезлонге, также обращал свои умозрительные вопросы, то осенявшие ее вершины, зубцы, крутые гребни и серо-зелено-рыжие леса всегда оставались безмолвны, порой блистая на фоне глубокой синевы небес, порой скрываясь в тумане, порой розовея в пламени заката или сверкая, как алмаз в волшебном сиянии лунной ночи, овеянные бесшумно скользящим земным временем, но неизменно одетые в шапки снега, вот уже шесть бесконечно долгих и, однако, незаметно промелькнувших месяцев, – и все больные в один голос заявляли, что глядеть больше не могут на снег, что он им опротивел, что уже лето с лихвой удовлетворило все их запросы на зимние пейзажи, а изо дня в день видеть только снег да снег, снежные сугробы, снежные подушки, снежные склоны, свыше сил человеческих и убийственно действует на настроение. И все носили цветные очки – зеленые, желтые, красные, – отчасти, чтобы защитить глаза, но еще больше ради бодрости духа.
Горы и долина в снегу уже более шести месяцев? Семи! Пока мы рассказываем, время, вынашивая перемены, стремится вперед – наше время, которое мы уделяем этому рассказу, но также время, давно минувшее, – время Ганса Касторпа и его товарищей по несчастью, там, среди снежных гор. Все шло своим чередом, как Ганс Касторп на масленой, возвращаясь из деревни, в кратких словах предсказал, к явному неудовольствию Сеттембрини: до солнцеворота было, правда, еще далеко, но пасха уже прошествовала по белой долине, апрель близился к концу, а там недалеко и до троицы, скоро весна, оттепель – положим, стает не весь снег, на южных вершинах и на севере в расселинах Ретийской цепи всегда оставалось немного снегу, не говоря о том, что неизменно выпадал в летние месяцы, но долго не залеживался, – и все же смена времени года сулила значительные перемены в самом недалеком будущем, ибо с вечера карнавала, когда Ганс Касторп одолжил у мадам Шоша карандаш и позже вернул его, выпросив у нее взамен нечто другое на память, подарок, который он постоянно носил при себе в кармане, прошло ни мало ни много полтора месяца – срок вдвое больший, чем первоначально намеревался провести здесь Ганс Касторп.
В самом деле, прошло уже полтора месяца с того вечера, как Ганс Касторп познакомился с Клавдией Шоша и потом намного позже ревностного служаки Иоахима вернулся в свою комнату, – полтора месяца с утра следующего дня, ознаменовавшегося отъездом мадам Шоша, не окончательным, временным отъездом в Дагестан, далеко на Восток, в Закавказье. Что отъезд носит временный, а не окончательный характер, что мадам Шоша предполагает вернуться, – неизвестно когда именно, но что она хочет или должна будет когда-нибудь возвратиться сюда – на то у Ганса Касторпа имелось прямое ее словесное обещание, полученное не во время переданного нами иноязычного разговора, а стало быть, в промежуток, который мы обошли молчанием, прервав связанное временем течение нашего повествования и предоставив говорить за нас самому времени. Как бы то ни было, молодой человек получил эти заверения и утешительные обещания прежде, нежели вернулся в свой тридцать четвертый номер; так как на следующий день он не обменялся с мадам Шоша ни словом, почти ее не видел или, точнее, дважды видел издалека: за обедом, когда она в синей суконной юбке и белом шерстяном свитере под грохот захлопывающейся застекленной двери в последний раз, грациозно крадучись, пробиралась к столу, а у него сердце готово было выскочить из груди, и только неусыпный надзор фрейлейн Энгельгарт помешал ему закрыть лицо руками, – и затем в три часа дня, в минуту отъезда, при котором он, собственно, не присутствовал, но тем зорче наблюдал за ним из окна коридора, выходившего на подъезд и главную аллею.
Проводы происходили совершенно так, как Гансу Касторпу за время своего пребывания здесь наверху неоднократно уже случалось видеть: к подъезду подкатывали сани или карета, кучер и швейцар увязывали чемоданы, на площадке собирались санаторские больные, друзья того, кто, исцеленный или больной, отправлялся жить или умирать на равнину, и те, что просто, ради чрезвычайного события, увильнули от процедур, появлялся господин в сюртуке, представлявший дирекцию, а иной раз врачи, и наконец выходил сам отбывающий, чаще всего с сияющим лицом, очень оживленный от предстоящих перемен, и милостиво приветствовал столпившихся вокруг любопытных и знакомых… На сей раз в длинном пушистом, отделанном мехом дорожном пальто и в большой шляпе, с огромным букетом в руках вышла улыбающаяся мадам Шоша в сопровождении сутулого своего соотечественника господина Булыгина, который ехал с ней часть пути. Она тоже казалась возбужденно-веселой, как и все отъезжающие, которые радовались перемене в жизни, независимо от того, уезжали ли они с разрешения врача, или с нечистой совестью, на свой страх и риск прерывали лечение, потому что изверились и все им опостылело. Щеки ее раскраснелись, и пока ей кутали колени в меховую полость, она что-то не переставая болтала, вероятно по-русски… Проводить мадам Шоша пришли не только ее соотечественники и соседи по столу, но и многие другие больные, доктор Кроковский, бодро осклабясь, показывал свои желтые зубы сквозь чащу бороды, откуда-то появились еще цветы, двоюродная бабушка не поскупилась на конфеты, «конфетки», как говорила она, или мармелад, тут же стояли учительница и мангеймец – последний мрачно наблюдал в некотором отдалении, и его страдальческий взгляд, скользнув по фасаду, обнаружил Ганса Касторпа у окна коридора и на мгновение мрачно задержался на нем… Гофрат Беренс так и не появился: очевидно, он нашел случай проститься раньше, в более интимной обстановке… Лошади тронули, все что-то выкрикивали, махали, и тут мадам Шоша, откинувшись от толчка на спинку сидения, в свою очередь обвела раскосыми смеющимися глазами фасад санатория «Берггоф» и на какую-то долю секунды задержалась взглядом на Гансе Касторпе… Бледный как полотно, бросился он в свою комнату, чтоб в последний раз с балкончика увидеть, как сани под звон бубенчиков спускаются по главной аллее к деревне, потом рухнул в свое кресло и вытащил из нагрудного кармана полученный на память подарок, залог, заключавшийся в данном случае не в коричнево-красных стружках, а в тонко обрамленной пластиночке, прямоугольном кусочке стекла, который надо было держать против света, чтобы хоть что-то разглядеть – внутренний портрет Клавдии, ее безликое изображение, позволявшее, однако, различить хрупкий костяк торса, окруженный мягкими контурами призрачно-туманной плоти, и органы грудной полости.
Как часто рассматривал и прижимал он к губам этот портрет за протекшее с тех пор время, – время, которое вынашивало перемены! Так, например, Ганс Касторп раньше, чем можно было предположить, свыкся с жизнью здесь наверху в отсутствие разделенной от него пространством Клавдии Шоша: здешнее время было особенно приспособлено и нарочно так распределено, чтобы создавать привычки, хотя бы даже привычка заключалась в сознании того, что к этой жизни никогда не привыкнешь. Незачем, да и напрасно стал бы он ждать грохота и звона, отмечавших начало всех пяти, более чем обильных, санаторных трапез; где-то, в страшном отдалении отсюда, мадам Шоша хлопала теперь дверями – что, вероятно, было неразрывно связано с ее внутренней сущностью, со всем ее поведением и ее болезнью, – столь же неразрывно, как пребывание тел в пространстве со временем: быть может, в этом, в одном этом, и заключалась ее болезнь… Но, отсутствующая и невидимая, она представлялась Гансу Касторпу невидимо-присутствующей – гением этих мест: Ганс Касторп однажды его узнал, познав ее в гибельный и сладостный до безрассудства час, час, к которому не подберешь ни одной простенькой песенки равнины, и носил призрачный внутренний силуэт у своего сердца, взволнованно бившегося вот уже девять месяцев.
В тот час его дрожащие губы бессознательно и невнятно бормотали на чужеземном и родном языке разные нелепицы: безответственно выдвинутые проекты, предложения, замыслы, безумные планы, не встретившие, однако, и вполне резонно, никакого одобрения – он-де будет сопровождать ее, гения, на Кавказ, поедет за ней следом, готов дожидаться ее в любом городе, который непостоянный нравом гений изберет местом своего пребывания, чтобы им никогда уже не разлучаться. От пережитого приключения у простодушного молодого человека остался залогом лишь призрачный силуэт и зыбкая вера во все же вероятную возможность, что мадам Шоша, рано или поздно, смотря по тому, как будет протекать дававшая ей свободу болезнь, вернется сюда в четвертый раз. Но рано ли, поздно ли, так сказано было ему при расставании, он, Ганс Касторп, все равно уже «будет отсюда далеко», и нелестное о нем мнение, скрытое в этом пророчестве, было бы вовсе нестерпимым, если бы не убежденность в том, что иные предсказания делаются не затем, чтобы они исполнялись, а для того, чтобы – они наподобие заклинаний – не исполнялись. Пророки такого рода глумятся над будущим, предрекая его с тем, чтобы оно постыдилось оправдать их прозорливость. И ежели гений, во время переданной и не переданной нами беседы, назвал Ганса Касторпа «joli bourjeois au petit endroit humide»[2], что по-французски примерно соответствовало определению Сеттембрини, прозвавшего его «трудное дитя жизни», то возникал вопрос, какой же из разнородных элементов этой сложной смеси одержит верх в его натуре: буржуазный или иной… Потом гений упустил из виду, что если сам он неоднократно уезжал и возвращался, то и Ганс Касторп вполне может в нужную минуту вернуться – хотя он, собственно говоря, только затем все еще сидел здесь в горах, чтобы ему не было надобности возвращаться: именно в этом, как у многих других, заключался смысл его затянувшегося пребывания в санатории.
Впрочем, одно насмешливое предсказание гения все же исполнилось: у Ганса Касторпа подскочила температура; кривая круто взмыла кверху отвесным пиком, который он тогда же торжественно вычертил, и после небольшого снижения, уже в виде плоскогорья, продолжала держаться на одном уровне волнистой линией, возвышавшейся над равниной, обычной для него до сих пор. Ни высота температуры, ни устойчивость ее никак не вытекали, по словам гофрата, из объективных данных. «Значит, дружок, процесс зашел дальше, чем можно было ожидать, – изрек он. – Что ж, начнем вас колоть! Это должно подействовать. Через три-четыре месяца будете как огурчик, могу выдать вам в этом расписку».
Так случилось, что Ганс Касторп дважды в неделю, по средам и субботам, сразу же после утреннего моциона, должен был спускаться в «лабораторку» на уколы.
Курс проводили оба врача поочередно, но гофрат колол как виртуоз, с размаху втыкал иглу и одновременно нажимал на головку шприца. Впрочем, он мало заботился о том, куда колет, так что иногда бывало чертовски больно и на месте укола долго жгло и оставался твердый желвак. Вдобавок инъекции изнуряюще действовали на организм в целом, расшатывали нервную систему не хуже, чем спортивное перенапряжение, что свидетельствовало об эффективности лекарства, о могучей силе которого можно было судить и по тому, что оно сперва даже вызывало повышение температуры. Беренс так и предсказывал, и так оно случилось, а посему на предсказанные явления нечего было и пенять. Когда подходила очередь, сама процедура уже не отнимала много времени, вы мигом получали под кожу, будь то в бедро или в руку, свою порцию противоядия. Но раза два, когда гофрат был в духе и не хандрил от курения, между врачом и пациентом во время процедуры завязывался разговор, который Ганс Касторп насколько умел искусно направлял в желательное русло.
– Я всегда с удовольствием вспоминаю нашу беседу у вас дома за чашкой кофе, господин гофрат, осенью прошлого года. Как это тогда случайно вышло. Не далее как вчера, или это было третьего дня, я говорил двоюродному брату…
– Гафки семь, по последнему анализу, – отрезал гофрат. – Не идет, не идет дело на поправку у нашего юноши. И вдобавок никогда он еще меня так не терзал и не мучил. Желает, видите ли, уехать и нацепить на себя саблю. Это же чистое мальчишество! Подымает крик из-за какого-то несчастного годика с четвертью, словно проторчал здесь целую вечность. Объявил, что уедет так или иначе, – он и вам это говорил? Хоть бы вы, что ли, потолковали с ним, от своего имени, конечно, и задали хорошую головомойку! Ведь пропадет малый ни за грош, если раньше срока наглотается вашего милого тумана. С правой верхушкой-то у него неладно. От вояки нечего и требовать ума, но вы, как человек рассудительный, как штатский, получивший гражданское воспитание, вы должны бы вправить ему мозги, чтобы он не наделал глупостей.
– Я и стараюсь, господин гофрат, – отвечал Ганс Касторп, не упуская из виду главной своей цели. – Стараюсь, как только можно, когда он начинает артачиться. Думаю, он все же образумится. Но примеры, которые у нас перед глазами, надо прямо сказать, оставляют желать лучшего. Вот в чем беда. Отъезды все учащаются – самовольные, безо всякого на то основания, отъезды на равнину, а проводы устраиваются торжественные, будто это настоящий отъезд, разве это не соблазн для человека слабовольного. Вот хотя бы недавно… кто же это недавно уехал? Да, одна дама, она сидела за хорошим русским столом, мадам Шоша. Как говорят, в Дагестан. Ну, Дагестан, – признаться, я не очень-то знаю тамошний климат, надо полагать, он менее вреден, чем на севере у моря. Но все же это равнина в нашем понимании, пусть даже Дагестан и горист, я не очень сведущ в географии. Как же там жить туберкулезному больному, если кругом никто не имеет ни малейшего представления о самых простых вещах, не знает нашего режима и распорядка: как надо лежать, как измерять температуру? К тому же она все равно намерена вернуться, как мне сказала… Но почему, собственно, мы заговорили о ней?.. Да, мы тогда встретились с вами в саду, господин гофрат, если припоминаете, вернее вы нас встретили, потому что мы сидели на скамье, я даже точно знаю, на какой, и мог бы показать вам, сидели и курили. То есть я курил, двоюродный брат неизвестно почему не курит. И вы тоже тогда как раз курили, и мы предложили друг другу свою марку сигар, как я теперь припоминаю, – ваши бразильские мне очень пришлись по вкусу, но с ними надо держать ухо востро, все равно что с норовистой лошадкой, не то такое приключится, как у вас после двух маленьких импортных, когда вы с бурно вздымающейся грудью чуть было не уплясали на тот свет, – но раз все обошлось благополучно, не грех ведь и посмеяться. Кстати, я недавно опять выписал себе из Бремена несколько сотен «Марии Манчини», привык к этой марке, полюбилась она мне во всех отношениях. Правда, с пошлиной и пересылкой обходится дороговато, так что если вы, господин гофрат, на днях опять накинете мне срок, я, пожалуй, все-таки изменю ей и перейду на какое-нибудь здешнее зелье – в витринах видишь очень недурные сигары. А потом, как сейчас помню, вы доставили нам огромное удовольствие, разрешили посмотреть ваши полотна, – я был просто ошеломлен, чего вы только не вытворяете масляными красками, у меня никогда не хватило бы на это смелости. Там был и портрет мадам Шоша, где изумительно передана фактура кожи, – смею вас уверить, я просто восхитился. Тогда я еще не был знаком с оригиналом, знал ее только с виду, по имени. Впоследствии, перед самым ее отъездом, я с нею и лично познакомился.
– Что вы говорите! – отозвался гофрат, совершенно так же, если дозволено будет напомнить, как перед первым осмотром Ганса Касторпа, когда тот сообщил ему, что у него к тому же небольшой жар. Больше он ничего не сказал.
– Да, представьте, – подтвердил Ганс Касторп. – Как оказалось, здесь наверху не очень-то легко завязывать знакомства, но у меня с мадам Шоша в последний вечер это произошло как-то само собой, в беседе… – Ганс Касторп, стиснув зубы, втянул в себя воздух. Шприц глубоко вонзился в тело. – Фу! – выдохнул он. – Наверное, в очень важный нерв случайно попали, господин гофрат. Да, да, адски больно. Благодарю, после массажа легче… в беседе мы нашли общий язык.
– Да! Ну и как? – произнес гофрат. Он спрашивал и кивал, как кивает человек, который ждет самого похвального отзыва и уже вкладывает в свой вопрос основанное на личном опыте подтверждение ожидаемой похвале.
– Вероятно, французский у меня сильно хромал, – уклонился от ответа Ганс Касторп. – Да и откуда, собственно, мне его знать? Но в нужную минуту слова сами приходят на ум, так что мы объяснялись довольно сносно.
– Надо полагать. Ну и как? – повторил гофрат, вызывая Ганса Касторпа на откровенность. И от себя добавил: – Мила, не правда ли?
Ганс Касторп, обратив лицо к потолку и широко расставив ноги и локти, застегивал воротничок.
– В конце концов ничего нового в этом нет, – произнес он. – Два человека или две семьи целый месяц живут на курорте бок о бок под одной кровлей, как посторонние люди. А в один прекрасный день знакомятся, проникаются друг к другу симпатией и тут узнают, что один из них уезжает. Такие вещи, к сожалению, очень часто случаются. И тогда, конечно, хотелось бы сохранить хоть какую-то связь, услышать друг о друге, – словом, переписываться. Но мадам Шоша…
– Н-да, а она, как видно, не желает? – добродушно рассмеялся гофрат.
– Нет. И слышать об этом не захотела. А вам она никогда не пишет оттуда?
– Ни боже мой, – отвечал Беренс. – Ей это и в голову не придет. Во-первых, она слишком ленива, а во-вторых, как же ей писать? По-русски я читать не умею, – изъясняюсь кое-как, немилосердно коверкая слова, если уж нужда припрет, но прочитать не могу ни строчки. Да и вы тоже. Ну а по-французски или там по-немецки кошечка, правда, очень охотно мяукает, но писать – это не по ее части. Орфография, милый мой! Нет, юноша, видно придется нам с вами набраться терпения. Она ведь возвращается сюда время от времени. Вопрос, так сказать, техники, темперамента. Один срывается с места и постоянно вынужден возвращаться, а другой сразу же прочно обосновывается, чтобы ему и надобности не было больше возвращаться. Если ваш двоюродный брат сейчас уедет, так и скажите ему, легко может статься, что вы еще дождетесь его триумфального въезда.
– Но, господин гофрат, сколько же, вы полагаете, я…
– Не вы, а он! Внизу он пробудет меньше, чем пробыл здесь. Вот что я лично полагаю и очень прошу вас передать ему это, если вы будете настолько любезны.
Примерно в таком духе, вероятно, протекала искусно направляемая Гансом Касторпом беседа, хотя результат ее был ничтожен, почти двусмыслен. Ибо в отношении того, сколько нужно пробыть, чтобы дождаться возвращения досрочно уехавшего, она оказалась двусмысленной, а что касается словно в воду канувшей пациентки, попросту равнялась нулю. Ганс Касторп ничего о ней не будет знать, пока их разделяет тайна пространства и времени; писать она не станет, да и он лишен возможности написать ей… Впрочем, зачем это надобно ему, если хорошенько рассудить? Разве не чистейшая условность, не буржуазный предрассудок полагать, будто они должны переписываться, если ему раньше казалось, что им даже разговаривать-то незачем? Да и «разговаривал» ли он с ней в том смысле, в каком это понимает просвещенный Запад, когда сидел подле нее в памятный карнавальный вечер, или скорее бредил на чужом языке, не считаясь ни с какими приличиями? Так к чему же писать на почтовой бумаге или открытках с видами, как он писал на равнину, чтобы сообщить об изменчивых результатах обследований? Не права ли Клавдия, считая, что свобода, даваемая болезнью, избавляет ее и от необходимости писать? Вести разговоры, писать – это дело гуманистов и республиканцев, дело такого вот господина Брунетто Латини, что написал книгу о добродетелях и пороках и придал флорентинцам должный лоск, обучив их ораторскому мастерству и искусству управлять своей республикой согласно законам политики…
Тут мысли Ганса Касторпа сами собой обратились к Лодовико Сеттембрини, и он густо покраснел, как покраснел, когда лежал больной в своей комнате и литератор неожиданно предстал перед ним в ярком свете внезапно вспыхнувшей электрической лампы. Господину Сеттембрини Ганс Касторп тоже мог бы задать свои вопросы и метафизические загадки хотя бы лишь затем, чтобы поддеть его и вызвать на спор, а не в надежде получить на них ответ, ибо гуманиста занимали исключительно земные дела и интересы. Но с карнавального вечера, когда Сеттембрини в волнении покинул музыкальную комнату, в отношениях Ганса Касторпа и итальянца наступил заметный холодок, причиною которого были нечистая совесть одного и глубокое неудовольствие другого как педагога и наставника, вследствие чего оба друг друга избегали и несколько недель кряду даже не обменялись ни словом. Видел ли еще Сеттембрини в Гансе Касторпе «трудное дитя жизни»? Нет, тот, кто полагал нравственность в разуме и добродетели, уж конечно должен был махнуть на него рукой… И Ганс Касторп ожесточился; встречаясь с Сеттембрини, он хмурил брови и надувал губы, меж тем как сверкающий взгляд черных глаз итальянца останавливался на нем с немым укором. Однако все его ожесточение мигом развеялось, лишь только литератор, спустя несколько недель, как уже сказано, сам первый заговорил с ним, правда только мимоходом и в форме мифологического намека, для понимания которого требовалась западная образованность. Было это после обеда; они столкнулись перед уже не грохающей застекленной дверью. Поравнявшись с молодым человеком и не собираясь задерживаться, Сеттембрини на ходу бросил:
– Ну, как, инженер, пришелся вам по вкусу гранат[3]?
Ганс Касторп обрадованно и недоумевающе улыбнулся.
– То есть как?.. Что вы имеете в виду, господин Сеттембрини? Гранат? Разве его подавали? Я никогда в жизни… Впрочем, да, я однажды пил гранатовый сок с зельтерской. Мне он показался приторным.
Итальянец, который уже обогнал его, обернулся и отчеканил:
– Случалось, что боги и простые смертные спускались в царство теней и находили путь обратно. Но обитатели аида знают, что однажды вкусивший от плодов их царства навсегда остается им подвластен.
После чего проследовал далее в своих неизменных светлых клетчатых брюках, даже не взглянув на Ганса Касторпа, которого, как ему представлялось, да и на самом деле в какой-то мере «сразил» подобной многозначительностью; хотя молодой человек, язвительно фыркая над тем, что итальянец мог это подумать, бормотал себе под нос:
– Латини, Кардуччи, Футти-нутти, Спагетти – оставь меня в покое!
Все же он был очень доволен и взволнован тем, что итальянец заговорил с ним: ибо, несмотря на свой трофей, на хранимый у сердца зловещий могильный сувенир, привязался к господину Сеттембрини, высоко ценил его общество, и мысль, что тот раз и навсегда его покинет и от него отвернется, была тягостнее и страшнее, нежели чувство мальчишки, на котором в школе поставили крест и который, подобно господину Альбину, наслаждается преимуществами своего позора. Однако сам вступить в разговор с ментором он не решался, а тот с этим не спешил и лишь много недель спустя опять подошел к трудному воспитаннику.
Произошло это, когда волны времени, набегающие с неизменной монотонной размеренностью, принесли пасху, которую и отпраздновали обитатели «Берггофа», как праздновали и строго соблюдали все этапы и отрезки года, чтобы хоть чем-то нарушить сплошную вереницу дней, похожих один на другой. За первым завтраком больные обнаружили подле своего прибора букетик фиалок, за вторым завтраком каждый получил по крашеному яйцу, а обеденный стол был празднично уставлен зайчиками из марципана и шоколада.
– Приходилось ли вам, tenente[4], или вам, инженер, когда-нибудь совершать путешествие по морю? – спросил Сеттембрини в гостиной, с зубочисткой в руках подходя к столику братьев… По примеру большинства больных, они в тот день сократили на четверть часа обязательное послеобеденное лежание и расположились тут за чашкой кофе с коньяком.
– Эти зайчики и крашеные яйца напоминают мне жизнь на большом океанском пароходе, когда неделя за неделей видишь лишь небо да воду, соленую пустыню; комфортабельность обстановки лишь поверхностно позволяет тебе позабыть об окружающих ужасах, но в глубине души тебя по-прежнему гложет тайный страх… Я узнаю и здесь тот же дух, с каким на борту такого ковчега свято отмечают все праздники на terra ferma[5]. Это мысль об оставшемся за бортом мире, сентиментальная приверженность к календарю. На суше сегодня как будто пасха? На суше сегодня празднуют день рождения короля? И мы тоже празднуем, как умеем, мы тоже люди… Разве не так?
Братья полностью с ним согласились. Да, да, это именно так. Умиленный тем, что Сеттембрини заговорил с ним, и подстегиваемый нечистой совестью, Ганс Касторп неумеренно восторгался сравнением, находил его в высшей степени тонким, замечательно верным, образным и всячески льстил Сеттембрини. Конечно, комфорт океанского парохода лишь поверхностно, как пластически выразился господин Сеттембрини, заставляет забыть об окружающей обстановке и о ее опасностях, и есть в этом утонченном комфорте, взял бы он на себя смелость добавить, даже что-то легкомысленное и вызывающее, нечто сходное с тем, что древние называли Hybris[6] (даже древних цитировал он из желания понравиться) или нечто вроде «Я – царь вавилонский!»[7] – словом, нечто кощунственное. А с другой стороны, роскошь на борту парохода знаменует также (он так и сказал «знаменует») и величайшее торжество человеческого духа и человеческого могущества, ведь тем, что человек выносит эту роскошь и комфорт на соленые хляби и смело умеет их там отстоять, он как бы попирает ногой стихии, подчиняет необузданные силы природы, а это знаменует победу человеческой цивилизации над хаосом, если можно так выразиться…
Господин Сеттембрини внимательно его слушал, скрестив руки и ноги, с изяществом поглаживая зубочисткой свои красиво закрученные усы.
– Весьма примечательно, – сказал он. – Ни одного сколько-нибудь связного суждения, ни одной отвлеченной мысли человек не выскажет без того, чтобы не выдать себя с головой, бессознательно не вложить в них все свое «я», не передать символически лейтмотив и исконную проблему всей своей жизни. Так вот и вы сейчас, инженер. То, что вы сказали, поистине шло из самых недр вашего существа, и даже этап, на котором вы в данное время находитесь, выразился в нем весьма поэтически: это все еще этап человека экспериментирующего…
– Placet experiri! – воскликнул Ганс Касторп, с улыбкой кивая и произнося на итальянский лад букву «с».
– Sicuro[8], если речь идет о почтенной страсти к познанию мира, а не просто о распущенности. Вы говорили о «Hybris», употребили это выражение. Но Hybris разума против темных сил есть высшая человечность, и если она даже навлекает на себя гнев завистливых богов, per esempio[9], и роскошный ковчег разбивается и камнем идет ко дну, то это – достойная гибель. Подвиг Прометея тоже Hybris, страдания прикованного к скифской скале мученика для нас святы. Но как обстоит дело с другим Hybris, с гибелью в сладострастном эксперименте с силами, противными разуму, враждебными человечеству? Где тут достоинство? И может ли быть в этом достоинство? Si о no?[10]
Ганс Касторп сосредоточенно помешивал ложечкой в пустой чашке.
– Ах, инженер, инженер, – произнес, покачивая головой, итальянец, и его черные глаза сокрушенно уставились в пространство, – и вы не страшитесь ледяного вихря, бушующего во втором круге ада[11], который кружит и гонит грешников плоти, несчастных, принесших разум в жертву наслаждению? Gran Dio[12], когда я представляю себе, как вас понесет и закружит вверх тормашками, я готов с горя чувств лишиться…
Братья рассмеялись, довольные тем, что он шутит и говорит так поэтично. Но Сеттембрини добавил:
– В тот карнавальный вечер за вином, помните, инженер, вы как бы прощались со мной, да, это было нечто вроде прощания. Ну, а сегодня мой черед. Я собираюсь, господа, пожелать вам всего наилучшего. Я покидаю этот дом.
Молодые люди крайне удивились.
– Не может быть! Это шутка! – воскликнул Ганс Касторп, как уже однажды воскликнул в другом случае. Он был почти так же потрясен, как тогда. И Сеттембрини в свою очередь ответил ему теми же словами:
– Вовсе нет. Это истинная правда. А кроме того, не такая уж для вас неожиданность. Я говорил вам, что, если когда-нибудь рухнет моя надежда в сравнительно недалеком будущем вернуться в мир труда, я в ту же минуту соберу свои пожитки и обоснуюсь где-нибудь в деревне. Что вы хотите – эта минута наступила. Мне уже никогда не поправиться – это ясно. Я могу протянуть какое-то время, да и то лишь здесь. Приговор, окончательный приговор, гласит «пожизненно» – гофрат Беренс, со свойственной ему игривостью, мне его объявил. Что ж, я делаю отсюда выводы. Квартира снята, и я собираюсь перевезти туда свое скудное земное достояние, орудия моего литературного ремесла… Да это, собственно, недалеко отсюда, в деревне, мы будем, конечно, встречаться, я не намерен терять вас из виду, но как ваш сожитель имею честь откланяться.
Вот что объявил им Сеттембрини в пасхальное воскресенье. Братьев известие это чрезвычайно взволновало. Они еще не раз и подолгу беседовали с литератором о его решении: о том, как он в частном порядке по-прежнему сможет выполнять лечебную повинность, как захватит с собой и продолжит обширный свой труд для энциклопедии, обзор всех шедевров мировой литературы с точки зрения конфликтов, вызывающих человеческие страдания, и возможностей их устранения и, наконец, о его будущем местожительстве в доме «бакалейщика», как выразился господин Сеттембрини. Бакалейщик, по его словам, сдал верхний этаж своего владения дамскому портному – чеху, который от себя держит жильцов… Но и эти беседы остались позади. Время стремилось вперед, и с ним приспевали перемены. Сеттембрини вот уже несколько недель как жил не в интернациональном санатории «Берггоф», а у дамского портного Лукачека. Отбыл он не в санях, по здешнему обычаю, а пешком, в куцем своем желтом пальтишке с меховой оторочкой на воротнике и обшлагах, в сопровождении человека, везшего на тележке весь литературный и земной скарб писателя, и кое-кто видел, что перед тем, как, помахивая тросточкой, пуститься в путь, он в подъезде двумя пальцами еще ущипнул за щеку одну из столовых дев… Большая часть апреля, собственно три четверти его, как уже сказано, отодвинулась в тьму прошлого, еще, конечно, стояла глубокая зима, в комнатах бывало поутру не более шести градусов тепла, на дворе трещал девятиградусный мороз, и чернила, если их забывали на балконе, по-прежнему замерзали, превращаясь за ночь в твердый комок льда, в кусок антрацита. И все-таки весна близилась, всякий это понимал; днем, когда сияло солнце, в воздухе порой уже ощущалось ее легкое, нежное дуновение; скоро начнется оттепель, и с ее приближением в «Берггофе» неудержимо наступят большие перемены – задержать их не могли ни авторитет, ни даже живое слово гофрата, который и в комнатах и в столовой, при каждом обследовании, каждом посещении, каждой трапезе, вел неустанную борьбу с широко распространенным предубеждением против этого времени года.
С кем он имеет дело, вопрошал он, с лыжниками или с больными, с пациентами? На что же им сдался снег, мерзлый снег, хотел бы он знать? Оттепель – неблагоприятное время? Самое что ни на есть благоприятное. Доказано, что именно в это время число лежачих больных в Давосе относительно ниже, чем в любом месяце в году! Об эту пору во всем мире погода для легочных больных несравненно хуже, чем здесь! У кого есть хоть капля здравого смысла, тот переждет неустойчивую погоду, воспользовавшись ею для лучшей закалки. Тогда уж ему ничто не будет страшно, ни один климат на свете, он будет, так сказать, неуязвим, при условии, разумеется, что дождется здесь полного своего выздоровления – и так далее и тому подобное. Но как ни старался гофрат – предубеждение к оттепели крепко засело в головах пациентов. Курорт день ото дня пустел; быть может, у всех в крови играла приближавшаяся весна, будоража даже самых солидных, и заставляла их искать перемен – во всяком случае, в санатории «Берггоф» «незаконные» и «самовольные» отъезды все учащались, принимая поистине угрожающие размеры. Так, госпожа Заломон из Амстердама, несмотря на удовольствие, доставляемое ей врачебными осмотрами и связанной с ними демонстрацией тончайшего кружевного белья, вдруг ни с того ни с сего самовольно и незаконно уехала, не имея на то разрешения и не потому, что ей стало лучше, а оттого, что ей становилось все хуже. Начало ее пребывания здесь наверху терялось где-то во времени, задолго предшествовавшем приезду Ганса Касторпа; более года назад она прибыла сюда с легким недомоганием, для излечения которого ей назначили три месяца. После четырех месяцев она должна была, «несомненно, поправиться через четыре недели», но шесть недель спустя о выздоровлении уже и речи не было: вам придется, заявили ей, остаться в санатории еще по меньшей мере на четыре месяца. Так оно и шло, не каторга же здесь в конце концов, не сибирские рудники – и госпожа Заломон оставалась и продолжала выставлять напоказ тончайшие дессу. Но когда стала надвигаться оттепель, а ей при последнем осмотре еще набавили пять месяцев из-за свистящих хрипов в верхушке левого легкого и явно приглушенных тонов под левой лопаткой, терпение у нее лопнуло, и, возмущенная, кляня всех и вся, и «деревню», и «курорт», и прославленный воздух, и интернациональный санаторий «Берггоф» вкупе с врачами, она уехала домой, к себе в Амстердам, в открытый всем ветрам приморский город.
Разумно ли она поступила? Гофрат Беренс разводил руками и ронял их, звонко хлопая себя по ляжкам. Не позже, чем осенью, говорил он, фрау Заломон опять приедет сюда, но тогда уже насовсем. Был ли он прав? Поживем – увидим, мы ведь еще на немалый земной срок связаны с этим увеселительным заведением. Но случай с госпожой Заломон был отнюдь не единственным. Время вынашивало перемены, – оно это делало и прежде, но не столь стремительно, и перемены меньше бросались в глаза. В столовой зияли пустоты, пустые места за всеми семью столами, как за хорошим и за плохим русским столом, так и за стоящими вдоль и стоящими поперек. Впрочем, судить на этом основании о заполненности санатория было бы не совсем верно: как всегда, прибывали новые пациенты; комнаты могли быть заняты, но больными в той последней стадии, которая ограничивает свободу передвижения. В столовой, как уже сказано, многих недоставало именно потому, что эта свобода за ними еще сохранилась. Но кое-кто выбыл и по причине сугубо уважительной, как, например, доктор Блюменколь, который попросту умер. На лице его все сильнее проступало такое выражение, будто у него во рту что-то очень на вкус противное, потом он уже больше не вставал с постели и наконец скончался, – никто даже не знал толком когда; инцидент был, как обычно, тихо и деликатно исчерпан. Еще одно пустое место. Госпожа Штер сидела подле опустевшего стула, и ей было жутко от вновь образовавшейся пустоты. Поэтому она перекочевала по другую сторону молодого Цимсена, на место отпущенной по выздоровлении мисс Робинсон, против учительницы, соседки Ганса Касторпа слева, твердо пребывавшей на своем посту. Учительница сидела теперь в полном одиночестве с этой стороны стола, остальные три места пустовали. Студент Расмуссен, день ото дня худевший и хиревший, слег и считался морибундусом, а двоюродная бабушка с племянницей и пышногрудой Марусей были в отъезде – мы, как и все, говорим «в отъезде» потому, что возвращение их в самом недалеком будущем – дело решенное. К осени они появятся вновь, – ну как тут скажешь «уехали»? Скоро в дверь постучится троица, недалеко и до солнцеворота; а лишь только наступит самый длинный день в году, так и лето покатится под гору, дело пойдет к зиме, – короче говоря, двоюродная бабушка с Марусей все равно что уже возвратились, да это и к лучшему, ибо смешливая Маруся отнюдь еще не излечилась и не избавилась от вредоносных бацилл; учительница слышала о каких-то туберкулезных опухолях на пышной груди кареглазой Маруси, которые будто бы не раз уже оперировали. Когда она об этом рассказывала, Ганс Касторп метнул быстрый взгляд на Иоахима, лицо молодого человека пошло пятнами, и он низко наклонился над тарелкой.
Бодрая двоюродная бабушка устроила своим соседям по столу – то есть обоим братьям, учительнице и фрау Штер – прощальный ужин в ресторане, настоящее пиршество с зернистой икрой, шампанским, ликерами, за которым Иоахим сидел очень тихий и скучный, едва проронив несколько слов упавшим голосом, так что старушка со свойственной ей благожелательностью постаралась его приободрить, причем, вопреки всем правилам цивилизованной Европы, даже говорила ему «ты».
– Ничего, батюшка, не тужи, а лучше-ка пей, ешь и болтай, мы скоро назад воротимся! – сказала она ему. – Давайте-ка все есть, пить и веселиться, господь с ней, с печалью-то, оглянуться не успеем, как, бог даст, и осень придет, так сам посуди, стоит ли огорчаться! – На следующее утро она раздала чуть ли не всем ходившим в столовую больным пестрые коробочки с конфетками на память и отбыла ненадолго с двумя своими девицами.
А Иоахим? Как с ним обстояло дело? Вздохнул ли он наконец свободно, с облегчением, или же страдал душой, взирая на пустующий стол? Необычное для него мятежное нетерпение, угрозы самовольно уехать, если его еще долго станут водить за нос, – являлось ли все это следствием отъезда Маруси? Или же, напротив, тот факт, что он все еще не уехал и благосклонно выслушивал Беренсовы хвалы оттепели, следовало отнести к тому, что пышногрудая Маруся отбыла не насовсем, а лишь ненадолго, и через пять крохотных единиц здешнего времени опять сюда возвратится? Ах, все тут смешалось в одно, все в равной мере; кто-кто, а Ганс Касторп прекрасно это понимал, даже не обменявшись с Иоахимом ни словом. Он так же тщательно остерегался этого касаться, как Иоахим избегал называть имя другой, ненадолго отбывшей.
А меж тем кто же восседал с недавних пор за столом Сеттембрини, на месте итальянца, в обществе прибывших из Голландии больных, отличавшихся таким чудовищным аппетитом, что каждый до начала обеда из пяти блюд требовал себе перед супом еще глазунью из трех яиц? Антон Карлович Ферге, тот самый Ферге, который прошел через адское испытание плеврального шока! Да, господин Ферге встал с постели; и без пневмоторакса состояние его настолько улучшилось, что он большую часть дня проводил на ногах, одетый, принимая участие в общих трапезах, где благодушно топорщил пышные усы и не менее благодушно выставлял большой свой кадык. Братья иногда болтали с ним в столовой и гостиной, а случалось, даже сговаривались идти вместе на обязательные прогулки, так как питали склонность к скромному страдальцу, который сам заявлял, что ничего не смыслит в высоких материях, но после такой оговорки благодушно рассказывал о производстве галош и об отдаленных областях русской империи, о Самаре, о Грузии, пока они шлепали в тумане по жидкому снежному месиву.
Дороги в самом деле стали почти непроходимы, так их развезло, и все вокруг тонуло в клубящемся тумане. Гофрат, правда, утверждал, будто это вовсе не туман, а облака, но Ганс Касторп считал это передержкой. Весна вела ожесточенную борьбу, которая с переменным успехом, с рецидивами жестоких морозов тянулась долгие месяцы, чуть ли не вплоть до середины июня. Еще в марте, когда сияло солнце, трудно было долго вылежать на балконе даже в легком платье и с зонтом, так сильно припекало, и некоторые дамы вздумали было нарядиться по-летнему и явились к завтраку в кисейных платьях. В какой-то мере их оправдывало своеобразие здешнего климата, – метеорологически путая времена года, он поневоле сбивал с толку; но были в их заскакивании вперед и немалая доля близорукости и отсутствие фантазии, – ограниченность людей, живущих настоящей минутой и неспособных даже помыслить, что все может пойти по-другому, а также жажда перемен и нетерпение поскорее «перевести время»: коли по календарю март, значит весна, значит все равно что лето, и дамы извлекали из чемоданов кисейные платья, чтобы покрасоваться в них, прежде чем наступит осень. А осень и в самом деле как бы наступила. Апрель выдался хмурый, холодный, слякотный, а вслед за беспрерывно моросившим дождем пришел снег и метели. На балконе коченели руки, снова пришлось прибегнуть к услугам двух одеял из верблюжьей шерсти, еще немного, и потребовался бы спальный мешок, дирекция решилась наконец затопить, и все жаловались, что весны и не видели. К концу месяца всюду лежал глубокий снег; но потом, предугаданный и предсказанный наиболее чувствительными к переменам погоды опытными старожилами, задул фен; фрау Штер, фрейлейн Леви с лицом цвета слоновой кости и вдова Гессенфельд единодушно его ощутили, еще задолго до того, как над гранитным массивом на юге появилось хотя бы облачко. Фрау Гессенфельд то и дело разражалась истерическими рыданиями, Леви сразу же слегла, а фрау Штер, строптиво обнажив свои заячьи зубы, с суеверной мнительностью ежечасно утверждала, что у нее наверняка пойдет горлом кровь; существовало мнение, что фен способствует кровотечениям. Было неимоверно тепло, топить прекратили, балконную дверь оставляли на ночь открытой, и все же к утру температура в комнате не опускалась ниже одиннадцати градусов; снег таял вовсю, становился льдисто-серым, зернистым, ноздреватым, а там, где лежал сугробами, оседал, и казалось, будто сугроб уходит в землю. Всюду сочилось, текло, журчало, в лесу капало и осыпалось, валы снега вдоль улиц и белесые ковры на лугах исчезали, хотя снега навалило слишком много, чтобы он мог быстро исчезнуть. В долине, в местах обязательных прогулок вас подчас ожидали чудесные картины, весенние, сказочно-невиданные сюрпризы. Впереди расстилался луг, за ним, весь еще в снегу, высился мощный конус Шварцхорна со сползающим неподалеку от него, справа, тоже заснеженным, ледником Скалетта, да и сам луг с одиноким стогом сена лежал еще под снежным покровом, правда уже тонким и неровным, в прорехах, из которых проступали темные шершавые бугры земли, насквозь проколотым сухой прошлогодней травой. И все же снег на лугу, как показалось гуляющим, лежал что-то уж очень неравномерно, – вдалеке, возле лесистых склонов, слой его был толще, а вблизи, у них перед глазами, по-зимнему жесткую бурую траву будто только расцветили, покропили, присыпали снегом… Они присмотрелись, с изумлением нагнулись – это был не снег, а цветы, снежноцвет, цветочный снег, крохотные чашечки на коротеньких стебельках, белые и бело-голубые, крокусы, черт побери, миллионами вылезшие из сочащейся влагой луговой земли и росшие так густо, что их вполне можно было принять за снег, в который они дальше неприметно и переходили.
Все рассмеялись над своей ошибкой, рассмеялись от радости при виде этого чуда – милой робости и наивной хитрости первых ростков органической жизни, не без опаски вновь решившейся выглянуть на свет божий. Они нарвали цветов, любовались и рассматривали нежное строение чашечек, украсили ими петлицы, отнесли домой и поставили в воду у себя в комнатах; слишком длительным было неорганическое оцепенение долины – слишком длительным, хотя время промелькнуло быстро.
Но цветочный снег занесло всамделишным, и та же участь постигла пришедшие на смену голубые альпийские колокольчики, желтые и красные первоцветы. Да, нелегко было пробиться весне, одолеть здешнюю зиму! Десятки раз приходилось ей отступать, прежде чем утвердиться на этих высотах, – да и то лишь до нового вторжения зимы с белыми вьюгами, ледяным ветром и топкой комнат. В начале мая (ибо, пока мы рассказывали о снежноцвете, наступил май) было просто мукой написать на балкончике хотя бы открытку, так ломило пальцы от промозглого, чисто ноябрьского холода; а единственные три-четыре лиственных дерева во всей окрестности стояли голые, как деревья на равнине в январе. Дождь лил, не прекращаясь, круглые сутки, целую неделю, и если бы не умиротворяющие свойства здешних шезлонгов, было бы, пожалуй, невмоготу высидеть на воздухе столько часов в туманной пелене облаков с мокрым и онемевшим лицом. Но втайне это был дождь весенний, и чем дольше он лил, тем больше и больше выдавал себя. Он смыл почти весь снег, белого уже не оставалось, только там и сям лепилось грязноватое льдисто-серое пятно, и тут-то наконец луга зазеленели по-настоящему!
Какой отдых и отрада для глаз эта зелень лугов после нескончаемой белизны! И была еще одна зелень, нежностью и мягкостью своей даже превосходившая молодую травку. Кисточки новых иголок лиственницы. На обязательных прогулках Ганс Касторп никак не мог удержаться от искушения их погладить или провести по ним щекой, такие они были неотразимо милые, пушистенькие и свежие.
– Ей-богу, захочешь стать ботаником, – сказал молодой человек своему спутнику. – Чего доброго, всерьез увлечешься этой наукой, такая прелесть это пробуждение природы, особенно как перезимуешь здесь, у нас наверху! Да ведь это же горечавка, видишь там на склоне, а это какая-то неизвестная мне разновидность маленьких желтых фиалок. А это вот лютики, они и внизу такие же, из семейства лютиковых, махровые к тому же, на редкость привлекательное растение, двуполое впрочем, вот гляди, множество тычинок и несколько завязей, андроцей и гинецей – если память не изменяет. Непременно раздобуду себе какие-нибудь книжонки по ботанике, чтобы хоть немножко разобраться в этой области жизни и знания. Как все запестрело в мире!
– А в июне не то еще будет, – сказал Иоахим. – Здешние места славятся цветением лугов. Только не думаю, что я этого дождусь. Это тебя Кроковский надоумил – заниматься ботаникой?
Кроковский? С чего Иоахим это взял? Ах так! Он вспомнил о Кроковском, потому что тот недавно в одной из своих лекций ударился в ботанику. Ибо было бы глубочайшим заблуждением думать, будто выношенные временем перемены зашли настолько далеко, что доктор Кроковский перестал читать лекции. Каждые две недели читал он их, по-прежнему в сюртуке, если не в сандалиях, которые носил только летом и, следовательно, скоро снова должен был надеть – каждые две недели по понедельникам в столовой, как и тогда, в первые дни, когда Ганс Касторп, весь перепачканный кровью, явился туда с опозданием. Три четверти года говорил психоаналитик о любви и болезни – не помногу зараз, а все маленькими порциями, от получаса до сорока пяти минут, раскрывая перед ними сокровища своих знаний и мыслей, и у всех создавалось впечатление, что он никогда не кончит и что так может продолжаться до скончания веков. Лекции его походили на «Тысячу и одну ночь», правда рассказываемую каждые две недели и от раза к разу удлинявшуюся, и были вполне пригодны, как и сказки Шехерезады, удовлетворить любопытство праздного шаха и удержать его от эксцессов. По безбрежности своей тема доктора Кроковского напоминала предприятие, которому посвятил свои силы Сеттембрини – «Энциклопедию страданий», а судить о возможности ее варьирования можно было хотя бы по тому, что лектор недавно даже заговорил о ботанике, точнее о грибах… Впрочем, он, быть может, несколько видоизменил предмет своей лекции, на сей раз речь шла скорее о любви и смерти, что послужило ему поводом поделиться некоторыми соображениями отчасти тонко поэтического, отчасти сугубо научного характера. Итак, в этой связи ученый муж, как всегда по-восточному растягивая слова и с упором в небо, но без раскатов выговаривая букву «р», заговорил о ботанике, то есть о грибах – порожденных мраком мясистых и причудливых формах органической жизни, плотских по природе своей и близко стоящих к животному царству – продукты животного обмена, как-то: белок, гликоген, животный крахмал – входят в их состав. И доктор Кроковский особо остановился на одном грибе, своей формой и приписываемой ему магической силой стяжавшем себе известность еще в классической древности – на сморчке, в латинском наименовании которого фигурирует эпитет impudicus[13], видом своим он напоминает о любви, а запахом о смерти. Дело в том, что когда с колокольчатой шапки impudicus'a стекает покрывающая ее зеленоватая липкая слизь, в которой содержатся споры, от него, как это ни странно, исходит сильнейший трупный запах. А у простонародья гриб этот до сих пор почитается средством, возбуждающим половое влечение.
– Ну, уж это он перехватил при дамах, – заметил прокурор Паравант; пропаганда гофрата настолько укрепила его дух, что он решил переждать здесь оттепель. А фрау Штер, которая тоже выдержала характер, противостоя всем искушениям самовольного отъезда, заявила за столом, что сегодня доктор Кроковский был все же слишком абстрактен со своим классическим грибом. «Абстрактен», – сказала злосчастная, позоря свою болезнь все новыми и новыми доказательствами неописуемого невежества. Но Ганса Касторпа удивляло другое: с чего было Иоахиму намекать на доктора Кроковского с его ботаникой, между ними никогда не заходила речь о враче психоаналитике, так же как и о Клавдии Шоша и Марусе, – они никогда о нем не упоминали, предпочитая обходить молчанием и персону его и деятельность. А тут Иоахим вдруг назвал ассистента, назвал с плохо скрытой досадой, которая, впрочем, слышалась и в его заявлении о том, что он не намерен дожидаться, пока зацветут луга. Честный Иоахим был весьма близок к тому, чтобы утратить всегдашнее свое равновесие, куда только девалась вся прежняя его кротость и благоразумие. Тосковал ли он по апельсинным духам? Довели ли его до отчаяния издевательские показания шкалы Гафки? Терзался ли он сомнениями: дожидаться ему здесь осени или самовольно уехать?
В действительности существовала еще и другая причина, вызывавшая дрожь раздражения в голосе Иоахима и повинная в том, что он – чуть ли не язвительным тоном – коснулся недавней лекции по ботанике. Об этой причине Ганс Касторп ничего не знал, или, вернее, не знал, что Иоахим о ней знает, ибо он сам, шалопай и трудное дитя жизни и педагогики, даже слишком хорошо знал о ней. Словом, Иоахим открыл один неблаговидный поступок своего двоюродного братца, он случайно поймал его на предательстве, весьма сходном с однажды им уже совершенным на масленице – на новом вероломстве, которое отягощалось еще тем, что Ганс Касторп, без сомнения, обманывал его уже давно.
К неизменно монотонной размеренности времени, к помогающему его коротать раз и навсегда установленному течению обычного санаторского дня, всегда неизменного, будто две капли воды похожего один на другой, тождественного самому себе, сходному с покоем вечности, так что трудно было даже понять, как он способен вынашивать перемены, – к этому нерушимому распорядку дня относился, как всякий, вероятно, помнит, и обход доктора Кроковского между половиной четвертого и четырьмя часами всех комнат, вернее всех балконов, от шезлонга к шезлонгу. Сколько сменилось таких обычных санаторских дней с тех пор, как Ганс Касторп, приняв в жизни горизонтальное положение, подосадовал на то, что ассистент обошел его! Тогдашний гость давным-давно превратился в коллегу и ветерана – доктор Кроковский очень часто так и величал его во время своих контрольных визитов, и если военное словечко, в котором ассистент произносил звук «р» на экзотический лад, лишь прикасаясь языком к внутренней стороне верхних зубов, совсем ему не пристало и звучало омерзительно, как выразился однажды Ганс Касторп в разговоре с Иоахимом, зато оно не плохо подходило к его бодрой, мужественно-веселой, внушающей расположение и доверие манере держаться, но этой манере опять-таки противоречила чернявая бледность, придававшая ему какой-то сомнительный вид.
– Ну, как живете-можете, коллега? – спрашивал доктор Кроковский, выходя от варварской русской четы и становясь у изголовья ложа Ганса Касторпа, а тот, к кому относилось это бодрящее обращение, сложив на груди руки, каждый день неизменно отвечал на омерзительное приветствие вымученно-приветливой улыбкой, вперяя взгляд в желтые зубы доктора, видневшиеся в чаще его черной бороды. – Хорошо спали? – продолжал доктор Кроковский. – Кривая снижается? Поднялась сегодня? Ничего, до свадьбы придет в норму. Приветствую. – И с этим словом, звучавшим не менее омерзительно, так как он произносил «пьветствую», доктор уже следовал дальше, к Иоахиму – ведь это был всего-навсего обход, он только проверял, все ли в порядке.
Случалось, правда, что доктор Кроковский задерживался и дольше, стоял бравый, широкоплечий и, мужественно осклабясь, болтал с коллегой о том о сем, о погоде, об отъездах и приездах, о настроении больного, хорошем или дурном, его личных делах, прошлом и планах на будущее, до того как сказать «пьветствую» и проследовать дальше; а Ганс Касторп, заложив, разнообразия ради, руки за голову, тоже улыбаясь, отвечал ему, – пусть преисполненный омерзения, но все же отвечал. Беседа велась вполголоса, и хотя стеклянная перегородка балкона не доходила до верху, Иоахим не мог, да и не пытался разобрать, о чем они говорят. Иногда он слышал, как двоюродный брат вставал с кресла и уходил с доктором Кроковским в комнату, вероятно затем, чтобы показать ему кривую температуры; и там беседа, по-видимому, продолжалась еще какое-то время, судя по тому, что ассистент являлся к Иоахиму через дверь в коридор, несколько позадержавшись.
О чем же беседовали коллеги? Иоахим не спрашивал, но если бы кто из нас, не пожелав следовать его примеру, задал такой вопрос, то достаточно указать на обилие тем и поводов к духовному общению между мужчинами и коллегами, в чьих воззрениях на мир явно преобладает идеалистический элемент, и один из которых на пути к самообразованию дошел до взгляда на материю как на грехопадение духа, как на вызванную раздражением злокачественную его опухоль, тогда как другой, будучи врачом, издавна проповедовал вторичный характер органических заболеваний. Сколько тем для обсуждений и дискуссий: материя как постыдное перерождение нематериального, жизнь как распутство материи, болезнь как извращенная форма жизни! Тут, в продолжение очередной лекции, могла идти речь о любви как болезнетворной силе, о сверхчувственной природе симптома, о «старых» и «новых» очагах, о растворимых токсинах и любовных напитках, о проникновении в неосознанное, благотворности психоанализа, обратимости явлений, – и почем мы знаем, о чем еще – ведь это с нашей стороны всего-навсего предположения и догадки на тот случай, если бы встал вопрос, о чем же, собственно, могли беседовать доктор Кроковский и молодой Ганс Касторп!
Впрочем, беседы прекратились, это было позади, лишь недолго, всего несколько недель продолжались они; в последнее время доктор Кроковский задерживался у нашего больного не дольше, чем у остальных, «Ну, как, коллега?» и «пьветствую», – этим, собственно, большей частью ограничивался весь визит. Зато Иоахим сделал одно открытие, позволившее ему воспринять поведение Ганса Касторпа как предательство; сделал он это чисто случайно, в своей прямолинейности военного и в мыслях не имея выслеживать кузена. Просто-напросто как-то в среду его вызвали с балкона, где он лежал после первого завтрака, и велели явиться в подвал взвеситься – тут он это и обнаружил. Он спускался по лестнице, опрятно устланной линолеумом лестнице, откуда видна была дверь в ординаторскую, по обе стороны которой помещались кабинеты, где просвечивали больных, в левом – физически, а в правом за углом и ступенькой глубже – психически; на двери последнего кабинета красовалась визитная карточка доктора Кроковского. Но на середине лестницы Иоахим вдруг остановился, потому что из ординаторской после укола вышел Ганс Касторп. Поспешно выйдя из двери, он обеими руками ее притворил и, не оборачиваясь, повернул направо к двери с приколотой кнопками карточкой, большими неслышными шагами подошел к ней и постучался. Стуча, он наклонялся вперед, приближая ухо к барабанившему по двери пальцу. А когда из кабинета раздался баритон его владельца, произнесшего «прошу» с характерным своим «р», Иоахим увидел, как двоюродный брат исчез в полумраке аналитического подземелья доктора Кроковского.
Еще некто
Длинные дни, самые длинные, если говорить объективно, имея в виду число часов от восхода и до захода солнца, ибо астрономическая продолжительность ничего не могла поделать с быстротечностью дня, ни в отношении каждого в отдельности, ни в отношении однообразного их мелькания. Почти три месяца прошло с весеннего равноденствия, и наступил солнцеворот. Но фенологический год здесь, у нас наверху, не торопился следовать календарю: лишь сейчас, лишь на днях окончательно установилась весна, весна еще безо всякого признака тяжкого летнего зноя, благоуханная, воздушно-легкая, прозрачная, с отливающей серебром небесной лазурью и детской пестротой луговых цветов.
Ганс Касторп находил на склонах те же цветы, последними образцами которых Иоахим когда-то украсил комнату кузена в честь его приезда: кашку и колокольчики – знак того, что год завершал свой круг. Но какое обилие и разнообразие форм органической жизни в виде звездочек, чашечек, колокольчиков и менее правильных по своему строению фигурок вдруг повыползло из изумрудной молодой травки на склонах и лугах, наполняя солнечный воздух сухим и пряным ароматом: горицвет и дикие анютины глазки в великом множестве, маргаритки, желтые и красные первоцветы, несравненно более крупные и красивые, по уверению Ганса Касторпа, чем когда-либо виденные им на равнине, если только он в самом деле когда-либо обращал на них внимание; и всюду и везде бездна кивающих ворсистыми головками альпийских колокольчиков, голубых, пурпурных и розовых – обязательная принадлежность этих высот.
Ганс Касторп рвал всю эту прелесть, деловито носил букеты домой, не столько для украшения комнаты, сколько для их сугубо научной обработки, как и было им намечено. Молодой человек обзавелся кое-каким инвентарем, учебником общей ботаники, удобной маленькой лопаткой для выкапывания растений, гербарием, сильной лупой, и орудовал у себя на балконе – снова одетый по-летнему, в один из тех костюмов, которые привез с собой, что тоже являлось признаком закругляющегося года.
Свежие цветы в стаканах стояли на всех столах и полках в комнате и на столике с лампочкой у изголовья его шезлонга. Наполовину увядшие, блеклые, но все еще сочные цветы были разбросаны на балюстраде и на полу балкона, другие, аккуратно разложенные между двумя листами пропускной бумаги, вбиравшей в себя их влагу, покоились под прессом из камней, дабы Ганс Касторп мог поместить высушенные плоские препараты к себе в альбом, укрепив их полосками клейкой бумаги. А сам новоиспеченный ботаник лежал согнув колени, закинув ногу на ногу, с руководством на груди, перевернутым и поставленным корешком кверху, наподобие домика, и простодушными голубыми глазами рассматривал сквозь толстое увеличительное стекло цветок, часть венчика которого он срезал перочинным ножом, чтобы лучше изучить строение цветоложа; под сильной линзой оно разрасталось, распухало, принимая чудовищные мясистые очертания; пыльники на кончике тычиночных нитей рассыпали желтую пыльцу, из завязи торчал пестик с рубчатым рыльцем, и если разрезать его вдоль, то становился виден тонкий каналец, по которому зернышки и мешочки цветочной пыли перегонялись сахаристыми выделениями в завязь. Ганс Касторп считал, проверял, сравнивал; он исследовал строение и положение чашелистиков и лепестков венчика, мужские и женские органы, сверял то, что он видел, со схематическими и красочными изображениями, удовлетворенно устанавливал научную достоверность в построении знакомых ему растений и приступил к определению тех, которых не знал, с помощью системы Линнея, по классам, группам, разрядам, родам, семействам и видам. Так как времени у него было в избытке, то на основе сравнительной морфологии он даже добился известных успехов в систематизации растений. Под каждым высушенным растением в гербарии он каллиграфическим почерком вписывал латинское наименование, галантно предоставленное ему гуманистической наукой, вписывал его отличительные признаки и затем показывал альбом Иоахиму, который только диву давался.
По вечерам он наблюдал звезды. Его обуял интерес к коловращению года – хотя солнце в бытность Ганса Касторпа на земле уже раз двадцать совершило этот же путь и до сих пор такого рода вещи нисколько его не занимали. И если мы сами невольно пользовались такими выражениями, как «весеннее равноденствие», то лишь приноравливаясь к духу нашего героя и уже в предвидении настоящего, ибо лишь с недавних пор он стал сыпать подобными терминами, повергая в изумление двоюродного брата своими познаниями также и в этой области.
– Скоро солнце вступит в знак Рака, – начинал он обычно на прогулке. – Тебе это ни о чем не говорит? Это первый летний знак зодиака, понимаешь? Потом оно пойдет через Льва и Деву к осенней точке, точке осеннего равноденствия, это к концу сентября, когда солнце опять пересечет небесный экватор, как недавно в марте, тогда солнце вступило в знак Овна.
– Представь, я это упустил, – хмуро говорил Иоахим. – И о чем это ты все толкуешь? Точка равноденствия? Зодиак?
– Конечно, зодиак, zodiacus. Древние знаки небесного пояса – Скорпион, Стрелец, Козерог, aquarius[14] и как они там называются по-латыни, как же этим не интересоваться! Их двенадцать, это-то по крайней мере должно быть тебе известно, три для каждого времени года, восходящие и нисходящие, круг созвездий, через которые проходит солнце, – великолепно на мой взгляд! Представь себе, что они были изображены на плафоне египетского храма – храма Афродиты, кстати, недалеко от Фив. И халдеям они тоже были известны – халдеям, представь себе! Этому древнему народу магов и волхвов арабо-семитского происхождения, весьма сведущему в астрологии и прорицаниях. Они тоже изучали небесный пояс, по которому движутся планеты, и разделяли его на двенадцать знаков, по созвездиям, Dodekatemoria, как они до нас и дошли. Великолепно! Вот оно, человечество!
– Вот и ты говоришь «человечество», как Сеттембрини.
– Да, как он, или немножко иначе. Человечество надо брать таким, как оно есть, оно и так великолепно. Я часто с большой теплотой думаю о халдеях, когда лежу в своем шезлонге и смотрю на планеты, на те, которые им были тоже известны, ведь всех планет, при всем своем уме, они еще не знали. Но те, которых не знали они, и я не могу увидеть; Уран ведь открыли с помощью телескопа совсем недавно[15], сто двадцать лет назад.
– Недавно?
– Я называю это недавно, если позволишь, по сравнению со звездами, которые открыли три тысячи лет назад. Но когда я лежу здесь и смотрю на планеты, то и эти три тысячи лет становятся «недавним» прошлым и я запросто думаю о халдеях, ведь они тоже глядели на них и строили всякие догадки, вот это и есть человечество.
– Положим, что так; но уж очень ты стал возвышенно мыслить.
– Ты говоришь «возвышенно», а я говорю «запросто» – это кто как хочет. Но к тому времени, когда солнце войдет в знак Весов, месяца примерно через три, день настолько убудет, что день и ночь сравняются, а дни и дальше станут все убавляться почти до рождества, это тебе известно. Но ты, пожалуйста, вот над чем поразмысли: в то время, когда солнце проходит через зимние знаки зодиака, Козерога, Водолея, Рыбы, дни уже снова удлиняются! И тогда вновь наступит точка весеннего равноденствия, в трехтысячный раз со времен халдеев, и дни в новом году будут опять удлиняться, пока не наступит начало нового лета.
– Разумеется.
– Но ведь это же сплошная издевка! Зимой дни удлиняются, а когда приходит самый длинный день в году, двадцать первое июня, самое начало лета, оно уже катится под гору, дни становятся короче и дело идет к зиме. А ты говоришь «разумеется», но если отвлечься от твоего «разумеется», то иногда просто жуть берет и хочется судорожно хоть за что-то уцепиться. Словно кто-то на смех так устроил, что с наступлением зимы по существу начинается весна, а наступлением лета – осень… Словно Уленшпигель водит тебя за нос по кругу, по неисчислимым точкам поворота… точкам окружности. Да из чего и состоит окружность, как не из одних лишенных протяженности точек поворота, ведь кривизну не измеришь, у нее нет постоянства направления, вот и получается, что вечность не «все прямо, прямо», а «кругом, кругом», настоящая карусель.
– Будет тебе!
– Праздник солнцеворота! – воскликнул Ганс Касторп. – Летний солнцеворот! Костры на холмах и хороводы вокруг пылающего огня! Я никогда этого не видел, но слышал, что так делают почвенные люди, так встречают они первую летнюю ночь, с которой начинается осень, полдень и зенит года, откуда опять идет спуск – они пляшут, кружатся и ликуют. Отчего они ликуют в своей простоте, можешь ты это объяснить? Отчего они так безудержно веселятся? Оттого ли, что дальше путь уже идет вниз, во мрак, или, может быть, оттого, что до сих пор он шел вверх и теперь наступил поворот, неминуемая точка поворота, разгар лета, высший взлет, когда к исступленному веселью примешивается грусть. Я говорю так, как оно есть, теми словами, которые приходят мне на ум. Это грустное исступление и исступленная грусть. Вот отчего почвенные люди ликуют и пляшут вокруг костров, они делают это с отчаяния, скажешь ты, во славу бесконечной издевки, какую представляет собою круг вечности без постоянства направления, где все повторяется.
– Я вовсе этого не говорю, – пробормотал Иоахим, – пожалуйста, не сваливай на меня. Отвлеченными же предметами ты занимаешься, когда лежишь по вечерам.
– Возможно, я и не собираюсь отрицать, что ты с большей пользой занимаешься русской грамматикой. Надо полагать, ты скоро в совершенстве овладеешь языком. Большое для тебя преимущество, если, боже упаси, будет война.
– Упаси? Ты говоришь как штатский. Война необходима. Если бы не войны, сказал Мольтке, мир скоро бы загнил.
– Да, к этому у него действительно имеется большая склонность. И должен с тобой согласиться, – начал было Ганс Касторп, собираясь опять вернуться к халдеям, которые тоже вели войны и завоевали Вавилонию, хотя и были семитами, то есть почти что евреями, но тут оба вдруг одновременно заметили, что два шедших впереди господина обернулись, привлеченные их разговором, и даже прервали свою беседу. Дело происходило на главной улице, между курзалом и гостиницей «Бельведер», на обратном пути к Давос-деревне. Долина лежала в праздничном убранстве, разодетая в нежные, светлые, веселые краски. Воздух был чудесный. Симфония тончайшего благоухания полевых цветов разливалась в чистой, сухой, пронизанной солнцем атмосфере.
Один из мужчин был им незнаком, другой оказался Лодовико Сеттембрини; однако итальянец то ли не узнал их, то ли встреча с ними была ему нежелательна, потому что он тотчас поспешно отвернулся и снова, жестикулируя, углубился в беседу со своим спутником, причем даже прибавил шагу. Когда же братья, нагнав его справа, весело ему поклонились, он изобразил приятное изумление, восклицая «sapristi!» и «черт возьми, это вы!», но опять-таки хотел задержаться и пропустить обоих вперед, чего они, однако, не поняли, вернее не заметили, так как не усмотрели в его маневре никакого смысла. Напротив, искренне радуясь встрече с итальянцем, с которым давно не виделись, молодые люди остановились пожать ему руку и, осведомляясь о его здоровье, в учтивом ожидании поглядывали на его спутника. Так они вынудили Сеттембрини сделать то, чего он, очевидно, предпочел бы не делать, но что казалось им самым простым и естественным поступком, а именно – их познакомить. Знакомство состоялось, можно сказать, почти на ходу – итальянец, продолжая идти вперед, округлым жестом, сопровождаемым шутливыми замечаниями, представил господ и лишь на миг приостановился, чтобы дать им возможность, наклонившись, на уровне его груди, обменяться рукопожатиями.
Оказалось, что незнакомец – на вид он был примерно одних лет с Сеттембрини – его сосед, второй квартирант дамского портного Лукачека, и что фамилия его Нафта, настолько могли разобрать молодые люди. Это был маленький тощий человечек, с бритым лицом такого разительного, хотелось бы даже сказать острого, почти едкого безобразия, что братья в душе подивились. Все в нем было отточенно-острым: и монументальный крючковатый нос, и тонкое лезвие сжатых губ, и взгляд светло-серых глаз за толстыми стеклами очков, вделанных в легкую, впрочем, оправу, и даже хранимое им молчание, заставлявшее подозревать, что и речь его столь же остра и логична. Он был, как полагалось, без шляпы и без пальто, притом прекрасно одет: темно-синий в белую полоску фланелевый костюм был хорошего, модного покроя, как установили братья, окинув его испытующим светским взглядом, столкнувшимся с таким же, но еще более быстрым и пронзительным взглядом осмотревшего их с головы до ног маленького Нафты. Если бы не ловкость и достоинство, с какими Лодовико Сеттембрини умел носить свой ворсистый сюртук и клетчатые брюки, он невыгодно выделялся бы среди этой лощеной компании. Но об этом и речи не могло быть, тем паче что клетчатые панталоны были превосходно отутюжены и, если особенно не присматриваться, казались почти новыми – несомненно, тут приложил руку хозяин квартиры, как сразу решили молодые люди. Если по добротности и светскости костюма безобразный Нафта ближе стоял в двоюродным братьям, чем к своему соседу по квартире, то, помимо общего обоим зрелого возраста, было еще нечто, решительно отличавшее жильцов Лукачека от двух наших юношей, о чем нагляднее всего свидетельствовал цвет лица обеих пар: у одной – смуглый и кирпично-красный от загара, у другой – бледный. Иоахим за зиму вовсе стал бронзовым, а лицо Ганса Касторпа под белокурыми, разделенными пробором волосами рдело как маков цвет; но даже горное солнце ничего не могло поделать со свойственной всем романским народам бледностью Сеттембрини, благородно оттененной черными усами, а товарищ его, хоть и блондин, – волосы у него, собственно, были пепельные, металлически-бесцветные, и он зачесывал их с покатого лба назад через все темя, – тоже отличался матовой белизной кожи темноволосых рас. Двое из четверых опирались на тросточки, а именно Ганс Касторп и Сеттембрини, Иоахим считал это неподобающим для будущего военного, а Нафта, после того как его представили, немедля опять заложил руки за спину. Они были маленькие и нежные, как, впрочем, и его изящные ноги, однако вполне соразмерные с его фигурой. То, что он казался простуженным и порой суховато покашливал, внимание к себе не привлекало.
Сеттембрини тотчас с удивительной непринужденностью преодолел недовольство или замешательство, которое обнаружил при виде молодых людей. Он казался в отличном настроении и, знакомя их, весело подшучивал – так, например, он представил им Нафту в качестве «princeps scholasticorum»[16].
– Радость, – возгласил он, – «царит в чертогах моей груди» – по выражению Аретино[17], и это заслуга весны, весны, которую он особенно ценит. Господа знают, что у него достаточно накипело на сердце против жизни здесь наверху, он уже не раз давал волю своим чувствам. Но честь и слава весне в горах! На время она даже способна примирить его со всеми мерзостями здешних мест. Она не будоражит и не раздражает, как весна на равнине. Никакого скрытого кипения! Никаких влажных испарений, никакой туманной духоты! Напротив – ясность, сухость, прозрачность и терпкая мягкость. Вот что ему по душе, что его восторгает.
Все четверо шли неровной шеренгой, по возможности держась рядом, но когда навстречу попадались прохожие, правофланговый Сеттембрини вынужден был отступать на мостовую, а не то строй ломался потому, что кто-нибудь отставал или сторонился, Нафта, например, слева, или же Ганс Касторп, шагавший между гуманистом и двоюродным братом. Нафта отрывисто рассмеялся сиповатым от насморка голосом, звучавшим, как надтреснутая тарелка, когда по ней стучат костяшкой пальца. Кивнув в сторону Сеттембрини, он сказал, растягивая слова:
– Сразу видно вольтерьянца, рационалиста. Он славит природу за то, что даже при самой благодатной возможности она не смущает нас мистическим туманом, а хранит классическую сухость. Кстати, как по-латыни влага?
– Humor, – бросил Сеттембрини через левое плечо. – А юмор во взглядах на природу нашего профессора состоит в том, что он, по примеру святой Катарины Сиенской[18], вспоминает о язвах Христовых, когда видит красные первоцветы.
– Это было бы скорее остроумно, чем юмористично, как-никак это привнесение духа в природу. А она в этом нуждается.
– Природа, – сказал Сеттембрини, понизив голос и уже не столько через плечо, сколько просто в сторону, – не нуждается в вашем духе. Она сама по себе дух.
– И вам не наскучил ваш монизм?
– А, так вы, значит, признаете, что лишь развлечения ради вносите разлад в мироздание, отрываете бога от природы!
– Весьма интересно, что вы называете жаждой развлечения то, что я имею в виду, когда говорю: страсть и дух.
– Подумать только, что, пользуясь такими громкими словами для столь легкомысленных надобностей, вы еще называете меня краснобаем!
– Вы стоите на том, что дух, esprit, – значит легкомыслие. Но дух не виноват в том, что он изначально дуалистичен. Дуализм, антитеза – вот движущий, диалектический, исполненный страсти и остроумия принцип. Рассматривать мир разделенным на два враждебных начала – вот что дух, вот что остроумно. Напротив, всякий монизм скучен. Solet Aristoteles quaerere pugnam.[19]
– Аристотель? Аристотель перенес реальность общих идей на индивидуальные явления. Это пантеизм.
– Ошибаетесь! Признавая объективность единичного, перенося сущность вещей с общего на частное явление, как это делали последователи Аристотеля – Фома Аквинский и Бонавентура[20], – вы разрываете единство мира, отобщаете его от высшей идеи, ставите мир вне бога, а бога делаете трансцендентным. Это классическое средневековье, милостивый государь.
– Классическое средневековье – восхитительное словосочетание!
– Прошу прощения, но я применяю понятие «классическое» там, где оно уместно, то есть в тех случаях, когда идея достигает совершенства. Античность не всегда была классична. А вы, как я замечаю, не терпите… свободного обращения с категориями, не терпите абсолюта, в том числе и абсолютного духа. Вы хотите, чтобы дух был тождествен демократическому прогрессу.
– Надеюсь, мы оба разделяем убеждение, что дух, как бы ни был он абсолютен, никогда не может стать поборником реакции.
– Тем не менее он всегда поборник свободы!
– Тем не менее? Свобода – это закон человеколюбия, а никак не злоба и нигилизм.
– Которых вы, очевидно, побаиваетесь.
Сеттембрини воздел руки к небесам. Перепалка оборвалась. Иоахим с изумлением поглядывал то на одного, то на другого, а Ганс Касторп, удивленно подняв брови, смотрел себе под ноги. Нафта говорил резко и безапелляционно, хотя именно он ратовал за свободу в самом широком ее понимании. Манера его, возражая, говорить «ошибаетесь!», причем звук «ш» он произносил сперва выпячивая, а потом поджимая губы, была весьма неприятна. Сеттембрини возражал отчасти шутливо, отчасти с благородной горячностью, особенно когда призывал не забывать об общности некоторых основных воззрений. Лишь когда Нафта замолчал, он решил более подробно ознакомить братьев с личностью незнакомца, не без основания полагая, что их спор возбудил любопытство, и считая нужным удовлетворить это любопытство. Нафта не вмешивался, предоставляя ему говорить. Его знакомый, пояснил Сеттембрини, как это принято у итальянцев, с особой торжественностью подчеркнув звание представляемого, профессор древних языков в старших классах Фридерицианума. Судьба профессора схожа с его, Сеттембрини, судьбой. Приехав сюда лечиться пять лет назад и убедившись, что нуждается в длительном пребывании в горах, он оставил санаторий и устроился частным порядком у того же дамского портного Лукачека. Выдающегося латиниста, питомца орденской школы, как несколько расплывчато выразился Сеттембрини, не замедлило привлечь в качестве доцента местное среднее учебное заведение, украшением которого он является. Словом, Сеттембрини всячески превозносил безобразного Нафту, хотя только что имел с ним нечто вроде словесной дуэли, и этому сходному с дуэлью спору предстояло тут же возобновиться.
Вслед за тем Сеттембрини стал знакомить господина Нафту с братьями, причем выяснилось, что он уже раньше ему о них рассказывал.
– Вот это – тот самый, приехавший на три недели молодой инженер, у которого гофрат Беренс обнаружил влажный очажок, – сказал он, – а это – надежда прусской армии – лейтенант Цимсен. – И он заговорил о бунтарских настроениях Иоахима и о том, что он мечтает уехать отсюда, добавив, что, несомненно, оскорбил бы инженера, не предположив в нем такого же нетерпеливого стремления поскорее вернуться к труду.
Нафта скорчил гримасу.
– У вас, господа, весьма красноречивый опекун, – сказал он. – Я не хочу сомневаться в том, что он правильно толкует ваши мысли и желания. Труд, труд… разумеется, он меня сразу изобразит врагом человечества, inimicus humanae naturae, если я осмелюсь напомнить о временах, когда, играя на этой дудке, он отнюдь не достиг бы ожидаемого эффекта, о временах, когда неизмеримо выше ставили прямо противоположный идеал. Бернар Клервоский[21], например, учил иным степеням совершенства, которые господину Лодовико и во сне не снились. Желаете знать, каким именно? Низшая ступень находилась у него на «мельнице», вторая – на «ниве», третья и наиболее достойная – не слушайте Сеттембрини! – на «ложе отдыха». «Мельница» – это символ мирской жизни, – не плохо сказано! «Нива» – душа мирянина, которую возделывает проповедник и духовный наставник. Это уже более достойная ступень. Но на ложе…
– Довольно! Знаем! – воскликнул Сеттембрини. – Теперь он примется доказывать вам, господа, всю пользу и смысл постели.
– Я не представлял себе, Лодовико, что вы такой скромник. Когда видишь, как вы подмигиваете девушкам… Где же ваша языческая непосредственность? Итак, ложе – место соития любящего с предметом страсти и, как символ созерцательной отрешенности от мира и всего живого, соития с богом.
– Фу! Andate, andate![22] – чуть не плача, запротестовал итальянец.
Все рассмеялись. После чего Сеттембрини с достоинством продолжал:
– Ну, нет, я европеец, человек Запада. А ваша иерархическая лестница – это же чистый Восток. Восток гнушается всякой деятельности. Лао-цзы[23] учил, что бездействие – самое полезное дело на свете. Если бы все люди отказались действовать, на земле воцарились бы мир и счастье. Вот вам ваше соитие.
– Вы так думаете? А как же быть с западной мистикой? И с квиетизмом, к чьим представителям нельзя не причислить Фенелона[24], учившего, что всякое действие греховно, ибо стремиться к действию – значит оскорблять бога, которому одному угодно действовать. Я цитирую основоположения Молиноса[25]. Нет, по-видимому, духовная способность обретать блаженство в покое свойственна не одному только Востоку, а распространена среди людей повсеместно.
Тут слово взял Ганс Касторп. С простодушной решимостью вмешался он в разговор и изрек, глядя в пространств»:
– Созерцательность, отрешенность. В этом что-то есть, этого так просто не скинешь со счетов. Мы живем довольно-таки отрешенно здесь наверху. Ничего не скажешь. Лежим на высоте пяти тысяч футов в своих на редкость удобных шезлонгах и взираем вниз на мир и на людей и думаем всякое. И вот, если вникнуть хорошенько, то, говоря по правде, ложе, то есть шезлонг, не поймите меня только превратно, принесло мне больше пользы и меня научило большему, чем мельница на равнине за все прошедшие годы вместе взятые, этого отрицать нельзя.
Сеттембрини устремил на него затуманенные печалью черные глаза.
– Инженер, – произнес он сдавленным голосом. – Инженер! – И он взял Ганса Касторпа за руку и попридержал его, словно затем, чтобы, пропустив вперед остальных, вразумить его с глазу на глаз.
– Сколько раз твердил я вам! Каждый должен знать, что он собой представляет, и думать так, как ему надлежит. Удел европейца, человека западной культуры, невзирая на все и всяческие «основоположения» – разум, анализ, действие и прогресс, а не кровать монаха лежебоки!
Нафта все слышал. Обернувшись, он сказал:
– Монаха! Вся Европа возделана трудами монахов! Монахам мы обязаны тем, что Германия, Франция, Италия не покрыты первобытным лесом и непроходимыми болотами, а дарят нам хлеб, фрукты, вино! Монахи, милостивый государь, очень даже хорошо потрудились…
– Ebbe[26], вот видите!
– Позвольте. Труд для инока не был самоцелью, то есть средством забвения, смысл труда не заключался для него и в том, чтобы способствовать прогрессу или извлекать какие-то материальные выгоды. Он был чисто аскетическим упражнением, частью послушания, средством спасти свою душу. Он охранял от соблазнов, служил умерщвлению плоти. Так что труд не носил – разрешите это заметить – никакого социального характера, это был религиозный эгоизм чистой воды.
– Я вам чувствительно признателен за ваше разъяснение и радуюсь тому, что благотворность труда проявляется даже вопреки воле человека.
– Да, вопреки его намерениям. Мы отмечаем здесь не более и не менее, как различие между полезным и гуманным.
– Я прежде всего с недовольством отмечаю, что вы опять раздваиваете мир.
– Весьма скорблю, что навлек на себя ваше недовольство, однако вещи следует различать и разграничивать, очищая идею Homo Dei[27] от всего наносного. Вы, итальянцы, изобрели вексельное дело и банки; да простит вам бог. А англичане – те изобрели политическую экономию, и этого человеческий гений ввек им не простит.
– Э, и в великих экономических мыслителях британских островов жив был человеческий гений!.. Вы хотели что-то сказать, инженер?
Ганс Касторп стал было отнекиваться, но потом все же заговорил – и Нафта, так же как и Сеттембрини, не без любопытства ждал, что же он скажет.
– Тогда, господин Нафта, вы должны одобрять профессию моего двоюродного брата и поймете его нетерпение поскорее попасть в полк… Лично я человек сугубо штатский, брат частенько ставит мне это в упрек. Я и воинской повинности не отбывал, вот уж подлинно дитя мира, и иногда даже думал о том, что легко мог бы стать священником – двоюродного брата спросите, я это и ему не раз говорил. Но если отвлечься от моих личных склонностей – в чем, быть может, нет даже необходимости, – то я весьма ценю военное сословие и питаю к нему полное уважение. Ему присуща одна чертовски серьезная сторона – аскетическая, если хотите, – вы сами только что в какой-то связи употребили этот термин, – оно всегда должно быть готовым к тому, чтобы иметь дело со смертью – с которой, в последнем счете, имеет дело и духовное сословие, не так ли? Потому-то военное сословие и отличают благопристойность, и иерархия, и послушание, и «испанская честь», если можно так выразиться, и не все ли равно в конце концов, подпирает ли тебе подбородок жесткий воротник мундира или накрахмаленные брыжи, – все дело в аскетическом начале, как вы превосходно выразились… Не знаю, удалось ли мне достаточно ясно передать ход моей мысли…
– Вполне, вполне, – сказал Нафта и кинул взгляд на Сеттембрини, который вертел тросточкой, поглядывая на небо.
– И потому мне кажется, после всего сказанного вами, – продолжал Ганс Касторп, – что вы должны относиться с сочувствием к призванию моего двоюродного брата. Я имею в виду не «престол и алтарь», не такого рода связь, из которой иные, приверженные существующему порядку или просто благонамеренные люди, подчас выводят эту общность. Я имею в виду другое, то, что труд военного сословия, а именно служба – в этом случае речь идет именно о службе – отнюдь не преследует материальные выгоды и не имеет никакого отношения к политической экономии, как вы выразились, потому-то у англичан малочисленная армия; немного в Индии и немного дома для парада…
– Бесполезно продолжать, инженер, – прервал его Сеттембрини. – Бытие солдата, – я говорю это, вовсе не желая обидеть нашего лейтенанта, – не подлежит идейному обсуждению, ибо оно представляет одну голую форму, само по себе лишено содержания, основной тип солдата – ландскнехт, который давал себя завербовать в защиту любого дела; короче говоря, существовал солдат испанской контрреформации, солдат революционной армии, солдат Наполеона, солдат Гарибальди, есть и прусский солдат. Прежде чем говорить о солдате, я должен знать, за что он сражается!
– Но то, что он сражается, – возразил Нафта, – так или иначе остается отличительной особенностью данного сословия, вы не станете этого отрицать. Возможно, что особенности этой недостаточно, чтобы данное сословие могло, на ваш взгляд, «подлежать идейному обсуждению», но это ставит его в сферу, недоступную мерилам буржуазного понимания жизни.
– То, что вы изволите называть буржуазным пониманием жизни, – произнес одними губами Сеттембрини, растягивая уголки рта под изогнутыми усами и весьма курьезным образом, толчками, высвобождая шею из воротничка, – всегда готово вступиться за идеи разума и морали и за их законное влияние на юные колеблющиеся умы.
Последовало молчание. Молодые люди смущенно глядели прямо перед собой. Сделав несколько шагов и придав голове и шее нормальное положение, Сеттембрини сказал:
– Не удивляйтесь, мы с господином Нафтой часто спорим, но всегда по-дружески и во многом соглашаясь друг с другом.
Все почувствовали облегчение. Это было благородно и гуманно со стороны Сеттембрини. Но тут Иоахим, тоже с самыми лучшими намерениями и желая лишь придать разговору безобидное направление, словно повинуясь внушению со стороны и как бы против воли, сказал:
– А мы как раз говорили с братом о войне, когда шли за вами следом.
– Я слышал, – ответил Нафта. – До меня долетело несколько слов, и я обернулся. Вы о политике говорили? Обсуждали международное положение?
– О нет, – рассмеялся Ганс Касторп. – С чего бы мы стали говорить на такие темы! Брату, как военному, вообще неудобно интересоваться политикой, а я отказываюсь добровольно от нее, ничего в ней не смысля. С самого приезда сюда я даже ни разу газеты в руки не брал…
Сеттембрини, как и в прошлый раз, отнесся к этому неодобрительно. Сам он оказался превосходно осведомленным и положительно отзывался о последних событиях, поскольку они благоприятствовали делу цивилизации. Атмосфера Европы насыщена мыслью о мире, проектами разоружения. Идея демократии повсюду пробивает себе путь. Он заявил, что, по имеющимся у него негласным сведениям, младотурки готовят в ближайшее время переворот. Турция и вдруг – национальное и конституционное государство, – какое торжество для человечества!
– Либерализация ислама! – презрительно фыркнул Нафта. – Превосходно. Просвещенный фанатизм, – куда как хорошо! Кроме всего прочего, это касается вас, – повернулся он к Иоахиму. – Если низложат Абдул-Гамида, вашему влиянию на Турцию конец, Англия провозгласит себя протектором. Вам следует весьма серьезно отнестись к связям и сведениям нашего Сеттембрини, – обратился он к двоюродным братьям, и это тоже звучало вызывающе, ибо из слов Нафты следовало, что он считает их склонными не принимать господина Сеттембрини чересчур всерьез. – Во всем, что касается национальных революций, он прекрасно осведомлен. У него на родине поддерживают добрые отношения с английским комитетом по балканским делам. Но что же станется с Ревельским соглашением, Лодовико, если ваши прогрессивные турки добьются успеха? Эдуард Седьмой уже не сможет гарантировать русским проход через Дарданеллы, и если Австрия все же решится вести активную политику на Балканах…
– Хватит вам предрекать катастрофы! – отмахнулся Сеттембрини. – Николай стоит за мир. Ему мы обязаны гаагскими конференциями, которые и сейчас представляют моральный фактор первостепенного значения.
– Э, бросьте, России, после ее легкого провала на Востоке, надо было обеспечить себе хоть какую-то передышку!
– Постыдитесь, сударь. Как можете вы осмеивать жажду человечества к общественному совершенствованию? Народ, который пойдет наперекор этим стремлениям, неминуемо себя морально изолирует.
– А на что же существует политика, как не для того, чтобы предоставить другому случай морально себя скомпрометировать?
– Вы сторонник пангерманизма?
Нафта пожал плечами, одно из них было выше другого. При всем своем безобразии, он был к тому же еще слегка кособок. Он не удостоил своего собеседника ответом. Сеттембрини заключил:
– Во всяком случае, то, что вы говорите, цинично. В благородных усилиях демократии утвердиться на международной арене вы видите только политический подвох.
– А вы хотите, чтобы я видел в этом идеализм или даже благочестие? Мы сталкиваемся здесь с последними слабыми трепыханиями инстинкта самосохранения, который еще не окончательно утрачен обреченной мировой системой. Катастрофа неминуемо должна наступить и наступит любым путем и любым образом. Возьмите британскую политику. Потребность Англии сохранить свои позиции в Индии законна. А последствия? Эдуард не хуже нас с вами понимает, что петербургским правителям, как хлеб, нужен реванш за маньчжурскую неудачу, чтобы любой ценой отвлечь массы от революции. И все же он направляет – он не может иначе поступить – русское стремление к экспансии в сторону Европы, разжигает утихшее было соперничество между Петербургом и Веной…
– Ах, Вена! Вы, вероятно, потому так печетесь об этом международном камне преткновения, что видите в прогнившей державе, столицей которой она является, мумию Священной Римской империи германской нации![28]
– А вы, нахожу я, русофил, вероятно, из гуманистического сочувствия к цезаро-папизму.
– Демократия, милостивый государь, может большего ждать даже от Кремля, чем от Гофбурга[29]. И это стыд и позор для страны Лютера и Гутенберга…
– А кроме того, по всей вероятности, глупо. Но и эта глупость – орудие рока.
– Ах, подите вы со своим роком! Достаточно человеческому разуму захотеть стать сильнее рока, и он сам станет роком.
– Хотеть можно только собственную судьбу. Капиталистическая Европа хочет свою.
– В возможность войны верит тот, кто недостаточно ее ненавидит!
– Ваша ненависть логически неполноценна, поскольку вы не распространяете ее на само государство.
– Национальное государство – принцип здешнего мира, принцип, который вы желали бы приписать дьяволу. Освободите и уравняйте нации в правах, защитите малые и слабые от угнетения, установите справедливость, национальные границы…
– Границу на Бреннере[30], знаем. Ликвидацию Австрии. Хотел бы я знать, как вы думаете это осуществить без войны!
– А я очень бы хотел знать, когда же я осуждал национальные войны.
– Рад слышать…
– Нет, тут я должен подтвердить правоту господина Сеттембрини, – вмешался Ганс Касторп в дискуссию, за которой все время следил, на ходу поворачивая голову то к одному, то к другому и внимательно сбоку поглядывая на говорившего. – Мы с братом не раз имели удовольствие беседовать с господином Сеттембрини на такого рода темы, то есть, понятно, мы больше слушали, как он развивал свои взгляды, во все внося необходимую ясность. Так что я могу подтвердить, да и мой двоюродный брат, несомненно, помнит, что господин Сеттембрини неоднократно с большим воодушевлением говорил о принципе движения и бунта и усовершенствования мира, сам по себе это не такой уж мирный принцип, насколько я понимаю, и что принципу этому предстоит еще многое преодолеть, прежде чем он победит повсеместно и всеобщая счастливая всемирная республика станет возможной. Это были его мысли, хотя выражены они были, само собой разумеется, несравненно более пластично и литературно, чем у меня. Но одно я запомнил в точности, слово в слово. Ибо, как человек сугубо штатский, немного даже испугался, когда он сказал: этот день придет – если не голубиной поступью, то прилетит на орлиных крыльях (вот этих-то орлиных крыльев я и испугался), и Вену нужно разбить наголову, если хочешь добиться счастья. Поэтому нельзя сказать, что господин Сеттембрини целиком и полностью отвергает войну. Так ведь, господин Сеттембрини?
– Примерно, – коротко бросил итальянец, помахивая тросточкой и глядя куда-то в сторону.
– Плохо дело, – ядовито ухмыльнулся Нафта. – Собственный ученик изобличает вас в воинственных наклонностях. Assument pennas ut aquilae…[31]
– Вольтер и тот одобрял цивилизаторские войны и советовал Фридриху Второму воевать с турками.
– А вместо того он вступил с ними в союз, хе-хе. А потом всемирная республика! Я даже не рискую допытываться, что станется с принципом движения и бунта, когда на земле воцарятся мир и благоденствие. С той самой минуты всякий бунт превратится в преступление…
– Вы прекрасно знаете, как знают и эти молодые люди, что здесь имеется в виду прогресс человечества, который мыслится как бесконечный.
– Но ведь всякое движение совершается по кругу, – сказал Ганс Касторп. – И в пространстве и во времени, так учат нас закон сохранения массы и закон периодичности. Мы с братом только недавно об этом беседовали. А можно ли при замкнутом движении без постоянства направления говорить о прогрессе? Когда я лежу по вечерам и смотрю на зодиак, то есть на ту половину, которая видима, и думаю о древних мудрых народах…
– Вместо того чтобы попусту мудрствовать и мечтать, инженер, – перебил его Сеттембрини, – следовали бы вы лучше инстинктам своего возраста и расы, которые должны бы толкать вас к действию. Да и ваши занятия естествознанием должны бы внушить вам мысль о прогрессе… Наблюдая, как на протяжении миллионов лет развивалась жизнь от простейшей инфузории вперед и ввысь – к человеку, вы не можете сомневаться, что человечеству открыты еще беспредельные возможности совершенствования. Если же вы хотите держаться одной математики, то ведите свой круговорот от совершенства к совершенству и черпайте утешение в том, чему учили мыслители восемнадцатого века, что человек был от природы добр, счастлив и совершенен и лишь общественные заблуждения исказили и испортили его и что, разумно исправляя социальную структуру общества, он снова должен стать и станет добрым, счастливым и совершенным…
– Господин Сеттембрини забыл добавить, – вмешался Нафта, – что идиллия Руссо не более как неудачная рационалистическая перелицовка церковной доктрины о былой свободе и безгрешности человека, его первоначальной близости к богу и детской простоте, к которой ему надлежит возвратиться. Но восстановление града божьего[32], после разложения всех земных его форм, пребывает там, где соприкасаются земля и небо, чувственное и сверхчувственное – благо трансцендентно; а что касается вашей капиталистической всемирной республики, дорогой доктор, то несколько странно в этой связи слышать из ваших уст слово «инстинкт». Инстинктивное всегда национально, сам бог даровал людям природный инстинкт, побудивший народы обособиться в национальные государства. Война…
– Война, – воскликнул Сеттембрини, – даже война, милостивый государь, уже вынуждена была служить прогрессу, с чем вы, несомненно, согласитесь, вспомнив некоторые события любезной вашему сердцу эпохи, я имею в виду крестовые походы! Эти цивилизаторские войны весьма благоприятствовали экономическому и торгово-политическому сближению народов, объединив западный мир под знаменем одной идеи.
– Вы на редкость терпимы к идее. Тем учтивее позволю я себе напомнить вам, что крестовые походы хоть и вызвали оживление сношений, вовсе не привели к международной нивелировке, напротив, противопоставляя один народ другому, они пробуждали их самосознание и сильно способствовали формированию идеи национального государства.
– Вы правы в том, что касается отношения народов к духовенству. Да, именно тогда чувство национального и государственного достоинства начало укрепляться и противостоять иерархическим притязаниям…
– А между тем то, что вы называете иерархическими притязаниями, есть не что иное, как идея объединения человечества под знаменем духа!
– Знаем мы этот дух и покорно благодарим.
– Совершенно очевидно, что вашей национальной мании ненавистен завоевывающий мир космополитизм церкви. Хотел бы я знать, как вы ухитряетесь примирить свой национализм с ненавистью к войне. Ваш квазиантичный культ государства должен бы сделать вас поборником права, а как таковой…
– А, вы заговорили о праве? В международном праве, милостивый государь, живы идеи естественного права и человеческого разума…
– Ах, бросьте, ваше международное право опять-таки не более как руссоистская перелицовка jus divinum[33], ничего общего не имеющая ни с природой, ни с разумом и покоящаяся исключительно на откровении…
– Не будем спорить о названиях, профессор! Именуйте себе на здоровье jus divinum то, что я почитаю в качестве естественного и международного права. Главное, что над существующими правами национальных государств возвышается иное высшее и всеобщее право, позволяющее улаживать спорные вопросы, прибегнув к третейскому суду.
– Третейский суд! Меня от одного этого слова с души воротит! Буржуазный трибунал, решающий вопросы жизни и смерти, толкующий волю божию и определяющий исторический путь! Вот она, ваша голубиная поступь! А где же орлиные крылья?
– Гражданское самосознание…
– Ах, гражданское самосознание – оно само не знает, чего хочет! Кричат о падении рождаемости, требуют, чтобы снизили стоимость школьного и профессионального обучения. А между тем людей расплодилось столько, что можно задохнуться, от специалистов отбоя нет, борьба за кусок хлеба превосходит по жестокости все прошлые войны. Просторные площади и города-сады! Оздоровление расы! Но к чему оздоровление, если цивилизации и прогрессу угодно, чтобы не было больше войны? Война была бы всеобщей панацеей. Оздоровила бы расу и даже прекратила бы падение рождаемости.
– Вы шутите! Это уже не серьезно. Кончим этот разговор, да к тому же нет смысла его продолжать. Мы уже пришли, – сказал Сеттембрини и тростью указал братьям на домик, у калитки которого они остановились.
Домик стоял у самого въезда в деревню, на главной улице, от которой его отделял лишь узкий палисадничек, и был более чем скромен. Дикий виноград, с оголившимися корнями, обвивал дверь и, прижимаясь к стене, протягивал большую изогнутую плеть к окну нижнего этажа справа, служившему витриной бакалейной лавочке. Весь низ занимает бакалейщик, пояснил Сеттембрини, Нафта квартирует во втором этаже у портного, а сам он живет в мансарде. Мирная такая студия.
С неожиданной для него любезностью Нафта выразил надежду, что они и впредь будут встречаться.
– Навестите нас, – сказал он. – Я сказал бы: навестите меня, если бы стоящий здесь доктор Сеттембрини в силу давней дружбы не имел больше прав рассчитывать на вас. Приходите когда вздумается, как только у вас появится охота к небольшому коллоквиуму. Я ценю общение с молодежью и тоже, быть может, не лишен некоторых педагогических традиций… Если наш мастер ложи[34] (он указал на Сеттембрини) считает, что склонность и призвание к педагогике являются принадлежностью одного лишь буржуазного гуманизма, с ним придется поспорить. Итак, до скорого свидания!
Однако Сеттембрини сослался на серьезные препятствия. Таковые имеются, сказал он. Лейтенанту осталось провести здесь считанные дни, а инженер, конечно, станет выполнять все лечебные повинности с удвоенным рвением, чтобы поскорее последовать его примеру и вернуться на равнину.
Молодые люди согласились с обоими, сначала с одним, потом с другим. Отвесив поклон, приняли приглашение Нафты и мгновение спустя, кивая головой и пожимая плечами, признали справедливыми доводы Сеттембрини. Вопрос остался открытым.
– Как он его назвал? – спросил Иоахим, когда они поднимались по аллее, ведущей в «Берггоф»…
– По-моему, «мастер ложи», – сказал Ганс Касторп, – я тоже как раз об этом думал. Верно, какая-то острота; они награждают друг друга всякими шуточными титулами. Сеттембрини назвал Нафту «princeps scholasticorum», тоже не плохо. Схоластики – это ведь буквоеды-ученые средневековья, догматические философы, если хочешь. Н-да! Понятия средневековья они коснулись несколько раз, и мне вспомнилось, как Сеттембрини в первый же день сказал, что здесь, у нас наверху, многое отдает средневековьем: нас на это навела Адриатика фон Милендонк, собственно ее имя. А как он тебе понравился?
– Этот недомерок? Многое из того, что он говорил, мне понравилось. Международный третейский суд, конечно, один обман и лицемерие. Но сам он мне не очень-то понравился, а тогда хоть с три короба наговори, что толку, если сам ты человек сомнительный. А что он какой-то сомнительный, ты отрицать не станешь. Одна уже история с «местом соития» была достаточно двусмысленна. Притом нос у него явно еврейский, ты обратил внимание? Да и мозгляки такие встречаются только среди семитов. Ты в самом деле собираешься его навестить?
– Разумеется, мы его навестим! – заявил Ганс Касторп. – А насчет мозглявости – это в тебе говорит военный. У халдеев тоже были такие же точно носы, что не мешало им быть чертовски сведущими и не только по части чернокнижия. В Нафте тоже есть что-то от чернокнижника, он меня очень интересует. Не стану утверждать, что я его сразу раскусил, но если мы будем часто встречаться, то, может, нам это и удастся, а заодно наберемся ума-разума.
– Скоро у тебя здесь наверху вообще ум за разум зайдет с твоей биологией, ботаникой и неуловимыми точками поворота. И о времени принялся ты рассуждать чуть ли не с первого дня. А приехали мы сюда набраться здоровья, а не ума – именно здоровья, и выздороветь совсем, чтобы нас отпустили на свободу и выписали на равнину, как поправившихся.
– «Лишь на горах живет свобода»[35], – беспечно пропел Ганс Касторп. – Сначала скажи мне, что такое свобода, – уже обычным тоном продолжал он. – Вон Нафта и Сеттембрини тоже спорили об этом только что, но так ни к чему и не пришли. «Свобода есть закон человеколюбия!» – утверждает Сеттембрини, и это сильно попахивает его предком, карбонарием. Но как ни был отважен карбонарий и как ни отважен наш Сеттембрини…
– Да, ему стало не по себе, когда зашла речь о личном мужестве.
– …мне все же кажется, что он многого побаивается, чего недомерок Нафта не боится, понимаешь, и что его свобода и решимость довольно-таки беззубы. Думаешь, у него хватило бы мужества de se perdre ou meme de se laisser deperir?[36]
– С чего это ты вдруг по-французски заговорил?
– Да просто так… Атмосфера здесь интернациональная. Любопытно, кому это должно больше нравиться: Сеттембрини, мечтающему о буржуазной всемирной республике, или Нафте с его иерархическим космополисом. Как видишь, я внимательно слушал, но так ни в чем и не разобрался, скорее напротив, от их разговоров в голове только еще большая путаница…
– Так всегда и бывает. От этого никуда не уйти. От разговоров и словопрений ничего, кроме путаницы, не получается. Дело не в том, говорю я, какие у кого мнения, а в том, каков сам человек. А всего лучше вообще не иметь никаких мнений, а выполнять свой долг.
– Тебе хорошо говорить, ты, – ландскнехт, и бытие у тебя, так сказать, чисто формальное. А со мной дело обстоит иначе, я ведь штатский, а потому в какой-то мере несу ответственность… И меня раздражает такая путаница, когда один проповедует всемирную республику и решительно ненавидит войну и в то же время такой ярый патриот, что требует partout[37] границу на Бреннере и ради нее готов начать цивилизаторскую войну, – а другой, считая государство изобретением дьявола и вещая о каком-то грядущем всеобщем единении, минуту спустя уже защищает законность природного инстинкта и высмеивает мирные конференции. Непременно пойдем и до всего докопаемся. Хоть ты и говоришь, что мы должны здесь набраться не ума, а здоровья. Но ведь и тут должно быть единство, а если ты этому не веришь, то, значит, раздваиваешь мир, а это огромная ошибка, разреши тебе заметить.
О граде божьем и о лукавом избавлении
Ганс Касторп определил на своем балконе растение, которое теперь, когда началось астрономическое лето и дни стали убывать, попадалось почти на каждом шагу: водосбор или аквилегию, из семейства лютиковых, росший кустом, с синими, фиолетовыми или красно-коричневыми цветами на длинных стеблях и с крупными, похожими на ботву листьями. Водосбор цвел всюду, но особенно буйно в укромном уголке, где он впервые увидел его около года назад: в наполненном шумом горного ручья уединенном лесистом ущелье с мостиком и скамейкой, на которой так бесславно закончилась его опрометчиво-своевольная прогулка и куда он сейчас опять стал частенько наведываться.
Если не увлекаться вначале, как увлекся он тогда, это было вовсе не так уж далеко. Поднявшись от финиша санного спуска в «деревне» немного вверх по склону, можно было по лесной тропинке и деревянным мостикам, переброшенным через проложенную с Шацальпа дорожку для бобслея, без обходов, без пения оперных арий и вынужденных передышек добраться до живописного местечка за какие-нибудь двадцать минут, и когда Иоахима удерживала дома санаторская служба – осмотры, уколы, просвечивания, анализы крови или взвешивания, – Ганс Касторп в ясную погоду сразу же после второго, а то даже после первого завтрака отправлялся туда; посещал он полюбившийся ему уголок и в часы досуга, между чаем и ужином, сидел на скамейке, где у него когда-то пошла носом кровь, слушал, склонив голову набок, шум потока и любовался окружающим замкнутым со всех сторон пейзажем, а заодно зарослями синего водосбора, опять уже зацветшего.
Только ли это влекло его сюда? Нет, он сидел там, чтобы побыть одному, остаться наедине со своими воспоминаниями, перебрать впечатления и необыкновенные переживания минувших месяцев и все обдумать. А впечатлений и переживаний накопилось множество, притом самых разнообразных, и привести их в порядок оказывалось не так-то легко, ибо одно наслаивалось на другое и все настолько тесно переплелось, что действительно пережитое почти невозможно было отделить от мыслей, грез и представлений. Но необыкновенным было все, настолько до авантюризма необыкновенным, что сердце, такое же впечатлительное, как и в первый день приезда сюда наверх, замирало и принималось бешено колотиться, едва он начинал все припоминать. Или для того, чтобы столь необычно затрепетало его подвижное сердце, достаточно было одного сознания, что водосбор в ущелье, где ему однажды, в минуту упадка жизненных сил, привиделся, как живой, Пшибыслав Хиппе, не продолжает цвести, а вновь зацвел и что вместо трех недель он прожил здесь почти целый год?
Впрочем, у него уже больше не шла носом кровь, когда он сидел на своей скамейке у горного ручья; это прошло. Акклиматизация, о трудности которой Иоахим сразу же его предупредил и которая в самом деле оказалась трудной, достаточно продвинулась: после одиннадцати месяцев ее следовало считать завершенной, и дальнейших успехов в этом смысле ждать едва ли приходилось. Химизм желудка восстановился и приспособился, «Мария Манчини» обрела былой вкус, нервы подсохшей слизистой оболочки уже давно стали опять восприимчивы к аромату этого высококачественного изделия, которое он по-прежнему, лишь только запас подходил к концу, с чувством, близким к благоговению, выписывал из Бремена, хотя в витринах интернационального курорта лежали весьма заманчивые коробки с сигарами. Не являлась ли «Мария» своего рода связующим звеном между ним, отступником, и равниной, былой его родиной? Разве не хранила и не поддерживала она эту связь надежнее, нежели открытки, которые он время от времени посылал дяде и которые становились все реже, по мере того как он свыкался со здешними понятиями и все более вольно начинал обращаться со временем? Обычно это были открытки с видами, их так приятно получать, художественные фотографии долины в снегу или в летнем убранстве, и для письма на них оставалось ровно столько места, сколько требовалось, чтобы дать знать о новых врачебных предписаниях, по-родственному сообщить о последнем результате месячного или общего обследования, то есть, например, уведомить, что и акустически и оптически заметно явное улучшение, но что он все еще не избавился от инфекции и что продолжающая держаться слегка повышенная температура есть следствие нескольких небольших очажков, которые еще не ликвидированы, но вскорости, несомненно, исчезнут, если он только проявит должное терпение, и тогда ему уже не придется сюда возвращаться. Он мог быть вполне уверен, что более пространных посланий от него не требуют, да и не ждут; ведь он имел дело не с любителями гуманистического красноречия, и поступавшие ответные письма ничуть не более походили на душевные излияния. Чаще всего они сопровождали посылавшиеся ему из дому деньги, проценты с отцовского наследства, которые столь выгодно обменивались на здешнюю валюту, что он не успевал их истратить до нового чека; ответы состояли из нескольких отпечатанных на машинке строк, за подписью Джемса Тинапеля с поклонами и пожеланиями быстрейшего выздоровления от двоюродного дедушки и находящегося в плавании Петера.
Курс инъекций гофрат на днях отменил, сообщал Ганс Касторп. Они не пошли на пользу пациенту, вызывая у него головную боль, утрату аппетита, потерю в весе, общую вялость – более того, подняли и так потом и не устранили «температуру». Ощущаясь субъективно как сухой жар, она по-прежнему горела на его розово-красном лице, словно в напоминание о том, что акклиматизация для этого отпрыска низины с ее бодрящей влажной метеорологией, видимо, состоит в привычке никогда не привыкнуть к здешнему климату, как не привык к нему сам Радамант с его вечно синими щеками. «Некоторые люди так и не привыкают», – сразу же сказал Иоахим; видимо, к их числу принадлежал и Ганс Касторп. Ибо неприятное трясение головы, которое началось у него здесь наверху вскоре по приезде, тоже не проходило, нападая на него и во время ходьбы, и при разговорах, и даже здесь, среди цветущей синевы уголка, где он размышлял о всем комплексе необыкновенных своих переживаний, так что гордая осанка Ганса-Лоренца Касторпа тоже почти вошла у него в привычку, и когда он принимал ее, она бессознательно ему напоминала о жестком воротничке деда – преходящем подобии брыжей, о чаше с поблескивающим золотом дном, благоговейном звуке «пра-пра» и всем прочем, что в свою очередь наводило его на размышления над комплексом собственной жизни.
Пшибыслав Хиппе не являлся ему более наяву, как одиннадцать месяцев назад. Акклиматизация закончилась, у него уже не было видений, такие случаи, чтобы тело его лежало неподвижно распростертым на скамье, меж тем как его «я» пребывало в далеком настоящем, уже не повторялись. Ясность и живость этой картины прошлого, если она и возникала перед ним, оставалась в нормальных, здоровых границах; тогда Ганс Касторп, по ассоциации, вынимал из нагрудного кармана стеклянный сувенир, спрятанный в конверт с прокладкой и хранившийся в бумажнике – пластинку, которая, если держать ее горизонтально, параллельно земле, казалась глянцевито-черной плоскостью, но, поднятая к небу, светлела, преображаясь в любопытное для гуманиста прозрачное изображение человеческого тела, позволяла различить грудную клетку, контур сердца, арку диафрагмы и мехи легких, а также кости ключиц и плеч, окруженные призрачно-бледной оболочкой, той самой плотью, от которой Ганс Касторп весьма безрассудно вкусил на карнавальной неделе. Чему же дивиться, если его впечатлительное сердце замирало и колотилось, когда он рассматривал этот подарок и затем, откинувшись на гладко обструганную спинку скамьи, скрестивши руки и склонивши голову набок, опять хотел «все» припомнить и обдумать под шум горного потока, в окружении цветущего синего водосбора?
Высшая форма органической жизни – человеческое тело возникало перед ним, как и в ту морозную звездную ночь, когда он, Ганс Касторп, лежал в шезлонге, обложившись учеными трудами; и это созерцание тела изнутри всегда для него сочеталось с множеством вопросов и проблем, вникать в которые честный Иоахим, быть может, и не был обязан, но за которые он, как штатский, начинал чувствовать себя ответственным, хотя внизу, на равнине, тоже не примечал их и, вероятно, никогда бы не приметил; другое дело здесь, в созерцательной отрешенности, когда глядишь вниз на мир и на людей с высоты пяти тысяч футов и о чем только не думаешь – известную роль здесь могла играть и вызванная токсинами болезненная возбужденность организма, горевшая сухим жаром на его лице. Созерцая стеклянную пластинку, он думал о Сеттембрини – шарманщике-педагоге, отец которого родился под небом Эллады; Сеттембрини понимал любовь к телу, этому высшему продукту материи, как политику, бунт и красноречие, освящая копье гражданина на алтаре человечества; думал также о своем коллеге докторе Кроковском и о том, чем тот с недавних пор занимался с ним в тиши затемненного кабинета, – о двойственной природе психоанализа и о том, насколько последний способствует действию и прогрессу и насколько он сродни могиле, с ее тлетворной анатомией. Представлял себе и противопоставлял обоих дедов – своего и итальянца, бунтаря и консерватора, ходивших в черном по совершенно различным причинам, и взвешивал их достоинства; рассуждал сам с собой о таких возвышенных философских категориях, как форма и свобода, тело и дух, честь и бесчестие, время и вечность, – и вдруг ощущал краткий, но острый приступ головокружения при мысли, что водосбор снова зацвел и что скоро исполнится год, как он здесь.
Свои ответственные умственные занятия в живописном уголке Ганс Касторп именовал довольно странно, как мальчишка игру – словечком «править», пользовался этим детским выражением словно для забавы, любимой, несмотря на то что она сопряжена была со страхом, головокружением, сердечными перебоями, и его бросало от нее еще сильнее в жар. Что из того, если связанное с этой деятельностью напряжение вынуждает его упираться подбородком в воротничок, – гордая осанка вполне соответствовала внутреннему достоинству, которое придавало ему «правление» перед лицом мысленно возникавшей высшей формы.
«Homo Dei» – так называл безобразный Нафта высшую форму органической жизни, защищая ее от посягательств учения английских экономистов. Не мудрено, что Ганс Касторп, озабоченный лежавшей на нем, как на штатском, ответственностью, считал себя в интересах «правления» обязанным вместе с Иоахимом навестить недомерка. Сеттембрини не одобрит их визита – Ганс Касторп был достаточно умен и чуток, чтобы ясно это ощущать. Даже первая случайная встреча была неприятна гуманисту, и он явно пытался помешать ей и из педагогических соображений оградить молодых людей, в частности именно его – так говорил себе хитрец и трудное дитя жизни, – от знакомства с Нафтой, хотя сам-то он общался и спорил с ним. Таковы все наставники. Себе они разрешают все интересное под тем предлогом, что они-де до этого «доросли», а от молодежи требуют, чтобы она признала себя еще «не доросшей» до интересного. Какое счастье, что шарманщик, собственно, не имел никакого права запрещать что-либо молодому Гансу Касторпу, да и не предпринимал к тому никаких попыток. Трудному воспитаннику требовалось только представиться нечутким и разыграть простодушие, тогда ничто не помешает ему последовать приглашению маленького Нафты, что он и сделал вместе с охотно или неохотно присоединившимся к нему Иоахимом несколько дней спустя после их встречи, в воскресенье, пролежав положенный ему час.
От санатория «Берггоф» до домика с обвитой виноградом дверью было всего несколько минут ходу. Они вошли, не заглянув в бакалейную лавочку, и поднялись по узким крашеным ступенькам на второй этаж, где возле двери была прибита дощечка с фамилией дамского портного Лукачека. Открыл им подросток, одетый в некое подобие ливреи, состоявшей из полосатой куртки и гетр, – коротко подстриженный и краснощекий мальчик-слуга. Они спросили, дома ли господин профессор Нафта, и так как не захватили визитных карточек, то постарались вдолбить мальчику свои имена, после чего тот отправился к господину Нафте – как он его назвал, опустив титул профессора, – доложить о пришедших. Дверь в комнату напротив стояла отворенной, и их глазам открылась портняжная мастерская, где Лукачек, невзирая на праздник, сидел на столе, скрестив ноги, и шил. Он был лысый и бледнолицый, из-под огромного, похожего на стручок носа уныло свисали по обе стороны рта черные усы.
– Добрый день! – поздоровался Ганс Касторп.
– Grutsi, – ответил на местном наречии портной, хотя швейцарский диалект никак не вязался ни с его именем, ни с внешностью и звучал в его устах фальшиво и чуждо.
– Трудитесь? – продолжал Ганс Касторп, качая головой. – Но ведь сегодня воскресенье!
– Спешная работа, – коротко бросил Лукачек и продолжал шить.
– Что-нибудь, верно, нарядное, срочное, – высказал предположение Ганс Касторп, – для званого обеда или бала?
Портной долго не отвечал, откусил нитку, вдел новую. И только тогда кивнул.
– Красивое? – спросил еще Ганс Касторп. – С рукавами или открытое?
– С рукавами – это для старухи, – ответил Лукачек с сильным чешским акцентом. Возвращение мальчика прервало разговор, который они вели через раскрытую дверь. Господин Нафта просит господ пожаловать, – сообщил он, открыв перед молодыми людьми дверь, в нескольких шагах дальше по коридору справа, и приподняв портьеру. Нафта встретил гостей в туфлях с пряжками, стоя посреди комнаты, устланной зеленым, как мох, пушистым ковром.
Роскошь большого в два окна кабинета, в котором очутились братья, изумила, даже ослепила их: убогий домик, лестница, жалкий коридор ничего подобного не предвещали, и разительный контраст придавал элегантности обстановки сказочный блеск, который она сама по себе не имела – тем более в глазах Ганса Касторпа и Иоахима. И все же обстановка была богатой, даже пышной, и хотя в комнате стояли письменный стол и книжные шкафы, она мало походила на мужской кабинет. Слишком много там было штофа, винно-красного и пурпурного: портьеры, скрывавшие облупленные двери, были из штофа, занавеси из штофа, а также обивка мебели, расставленной у почти целиком завешенной огромным гобеленом стены против второй двери. Мебель, собственно гостиная, состояла из кресел в стиле барокко с небольшими валиками на подлокотниках, круглого с бронзовыми фигурными украшениями стола, за которым виднелся диван того же стиля с плюшевыми подушками. Вдоль стен у дверей выстроились книжные шкафы. Так же как и занимавший простенок между окнами письменный стол, или вернее, секретер, с выдвижной покатой крышкой, они были красного дерева, со стеклянными дверцами, затянутыми изнутри зеленым шелком. Но в углу, слева от дивана и стола, находилось подлинное произведение искусства: большая, стоявшая на покрытой красным подставке, раскрашенная деревянная скульптура – «Пиета»[38], примитивизм и экспрессивность которой доходили до гротеска и вместе с тем заставляли вас внутренне содрогнуться: пресвятая дева в чепце, с поднятыми углом бровями и страдальчески перекошенным открытым ртом держит на коленях страстотерпца – фигуру, где были самым наивным образом нарушены все пропорции, с грубо подчеркнутой анатомией, свидетельствующей, однако, о незнании ее, – в поникшую голову Спасителя впиваются тернии, лицо и тело забрызганы и замараны кровью, вишневые сгустки спекшейся крови стекают из раны на боку и язв от гвоздей на ступнях и ладонях. Эта примечательная скульптура придавала нарядной комнате особый отпечаток. Обои, – они видны были над книжными шкафами и на стене с окнами, – очевидно, тоже выбрал сам хозяин; их зеленые продольные полосы подходили по тону к мягкому ковру, застилавшему красные половицы. Только с низким потолком ничего не удалось поделать. Он так и остался голым и в трещинах. Но с него свешивалась маленькая венецианская люстра. На окнах были спадавшие до самого пола кремовые шторы.
– Вот мы и явились на коллоквиум! – сказал Ганс Касторп, уделяя больше внимания устрашающей скульптуре в углу, чем хозяину удивительной комнаты, который не замедлил отметить, что братья сдержали слово. Сделав гостеприимный жест маленькой ручкой, он предложил было сесть в штофные кресла, но Ганс Касторп, словно зачарованный, направился прямо к деревянной скульптуре и остановился перед ней, подбоченившись и склонив набок голову.
– Что это у вас тут? – тихо произнес он. – Ведь это же страшно хорошо. Как передано страдание! Старинная, конечно?
– Четырнадцатый век, – ответил Нафта. – Вероятно, рейнская школа. Производит на вас впечатление?
– Огромное, – сказал Ганс Касторп. – Не может не произвести. Никогда бы не подумал, что столь безобразное – прошу прощения – могло бы вместе с тем быть столь прекрасным.
– В порождениях души и духа, – продолжал Нафта, – безобразное, как правило, перерастает в прекрасное, а прекрасное в безобразное. Мы сталкиваемся здесь с духовной, а не с телесной красотой, лишенной проблеска интеллекта. И к тому же абстрактной, – добавил он. – Красота тела абстрактна, реальна только внутренняя красота, красота религиозного чувства.
– Очень ценное замечание. Это вы очень верно отметили и разграничили, – сказал Ганс Касторп. – Четырнадцатый век?.. – переспросил он. – Тысяча триста какой-нибудь? Да, это самое что ни на есть настоящее средневековье, и ваша «Пиета» подтверждает то представление, которое у меня в последнее время сложилось об этой эпохе. Я о ней по существу ровно ничего не знал, я ведь человек технического прогресса, если на то пошло. Но здесь наверху мое представление о средневековье значительно расширилось. Политической экономии тогда еще не существовало, это-то уж несомненно. А чья это работа?
Нафта пожал плечами.
– Не все ли равно? – сказал он. – Нас это не должно интересовать, как не интересовало никого в ту пору, когда она была создана. Изваял ее не какой-нибудь мнящий себя гением monsieur[39]. «Пиета» – творение безымянное и коллективное. Кстати, это уже позднее средневековье, готика, signum mortificationis[40]. Романская эпоха считала нужным, изображая распятого, щадить зрителя и беспощадно приукрашать скульптуры – там и царские короны, и величавое торжество над миром и мученической смертью, а здесь этого и в помине нет. Здесь все прямо возвещает о страдании и слабости плоти. Лишь готическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично. Вам, вероятно, незнаком трактат Иннокентия III[41] «De miseria humanae conditionis»[42] – чрезвычайно остроумное сочинение. Оно относится к концу двенадцатого века, но лишь искусство позднего средневековья служит наглядной к нему иллюстрацией.
– Господин Нафта, – сказал Ганс Касторп, с трудом переводя дух, – меня поражает каждое ваше слово. Вы сказали «Signum mortificationis»? Я это запомню. А до того вы говорили что-то о «безымянном и коллективном», о чем тоже стоит подумать. Вы правы, я, к сожалению, незнаком с трактатом папы – надо полагать, что Иннокентий III был римским папой? Правильно я вас понял, что трактат аскетичен и остроумен? Должен признаться, я никогда не предполагал, что одно с другим соединимо, но если вдуматься, то, конечно же, рассуждения о жалком человеческом уделе дают повод поглумиться над слабостями плоти. Можно ли где-нибудь раздобыть этот трактат? Если я призову на помощь все свои слабые познания в латыни, быть может, мне удастся его одолеть.
– У меня есть эта книга, – ответил Нафта, движением головы указывая на один из шкафов. – Она к вашим услугам. Но давайте сядем. Вам и с дивана хорошо будет видна «Пиета». А вот и чай…
Мальчик-слуга принес чай и к нему нарезанный ломтиками песочный торт в изящной серебряной сухарнице. Но вслед за ним кто же это вошел в раскрытую дверь крылатым шагом, с тонкой улыбкой, восклицая «Sapperlot!»[43] и «Accidenti!»?[44] Это явился проживающий этажом выше господин Сеттембрини с тем, чтобы составить господам компанию. Увидев в окошечко братьев, объяснил итальянец, он поспешил дописать страницу для энциклопедии, над которой как раз трудился, и решил тоже напроситься в гости. Вполне естественно, что он пришел. Давнее знакомство с обитателями «Берггофа» давало ему на то право, да и с Нафтой, несмотря на глубокие идейные разногласия, он, по-видимому, поддерживал довольно тесную связь, судя по тому, что хозяин поздоровался с ним запросто и без удивления, как со своим человеком. И все же у Ганса Касторпа сложилось двойственное впечатление от его прихода. Во-первых, – так показалось ему, – Сеттембрини явился, чтобы не оставлять их с Иоахимом, или, вернее говоря, его наедине с безобразным маленьким Нафтой и как бы создать своим присутствием педагогический противовес; и, во-вторых, совершенно очевидно, что Сеттембрини не только не прочь, а напротив, с удовольствием пользуется случаем сменить на время свою комнатушку под крышей на роскошь шелковой Нафтовой обители и откушать там изящно сервированный чай: прежде чем взять чашку, он потер желтоватые руки, поросшие с тыльной стороны у мизинца черными волосками, и с очевидным, даже вслух выраженным одобрением, стал уписывать испещренные шоколадными прожилками тонкие, витые ломтики торта.
Разговор продолжал вращаться вокруг все той же «Пиеты», от которой Ганс Касторп никак не мог оторвать взгляда, причем он то и дело обращался к господину Сеттембрини, пытаясь и его привлечь к критическому разбору художественного произведения, – хотя отвращение гуманиста к призванной украшать комнату скульптуре достаточно ясно отражалось на его физиономии, когда он поворачивался в ту сторону: он уселся спиной к углу, где стояла «Пиета». Слишком воспитанный, чтобы прямо высказать все, что он думал, Сеттембрини ограничился указанием на погрешности в соотношениях и пропорциях фигур скульптурной группы, противоречащих жизненной правде; они нисколько его не умиляют, ибо вызваны не примитивным неумением, а допущены умышленно и злонамеренно, из принципа, с чем Нафта злорадно согласился. Разумеется, о технической беспомощности здесь не может быть и речи. Мы видим здесь сознательное раскрепощение духа, его эмансипацию от естества, прямое презрение к природе, благочестивый отказ смиренно следовать ей. Когда же Сеттембрини заявил, что пренебрежение к природе и к ее изучению может только завести человечество в тупик, и стал, в противовес нелепой бесформенности, насаждавшейся искусством средневековья и его подражателями позднейших эпох, превозносить в выспренних выражениях греко-римское наследие, классицизм, форму, красоту, разум и радостное восприятие жизни, ибо только они призваны споспешествовать человеческому прогрессу, в разговор вмешался Ганс Касторп и спросил, как же в таком случае быть с Плотином, который, как известно, стыдился собственного тела, и с Вольтером, который во имя разума протестовал против возмутительного лиссабонского землетрясения?[45] Нелепо? Это тоже было нелепо, но если хорошенько вдуматься, то нелепое, на его взгляд, следовало бы признать душевным благородством, и нелепая враждебность готического искусства к природе в конечном счете так же благородна, как и протест Плотина и Вольтера, ибо в ней выражается то же освобождение от власти рока и факта, та же вольнолюбивая гордыня, не желающая покоряться слепой силе, а именно природе…
Нафта разразился смехом, который, как сказано, весьма напоминал звук треснутой тарелки и закончился приступом кашля. Сеттембрини с достоинством сказал:
– Вот видите, своим остроумием вы наносите вред здоровью нашего хозяина и платите черной неблагодарностью за это чудное печенье. Да и способны ли вы вообще на благодарность, под чем, спешу оговориться, понимаю достойное употребление полученных даров…
Но, видя, что Ганс Касторп смутился, он с чарующей любезностью добавил:
– Вы, инженер, известный шутник. Но ваша манера дружелюбно подтрунивать над добродетелью никак не поколебала моей уверенности в том, что вы ей привержены. Вы, разумеется, знаете, что когда дух ополчается на природу во имя достоинства и красоты человека, то бунт этот благороден, но нет благородства в бунте, который, если прямо и не ставит себе целью принизить и обесчестить человека, однако влечет это за собой. Вы знаете также, какие нечеловеческие ужасы, какую кровожадную нетерпимость породила эпоха, которой произведение искусства за моей спиной обязано своим происхождением. Достаточно напомнить вам омерзительный тип инквизитора, кровавую фигуру какого-нибудь Конрада Марбургского[46] и его фанатические гонения на все, что противостояло царству сверхъестественного. Не думаю, чтобы вы признавали меч и костер орудиями любви к человечеству…
– Зато таким орудием, – вставил Нафта, – очевидно, являлась машина, с помощью которой Конвент очищал мир от плохих граждан[47]. Все церковные кары, в том числе и костер, и отлучение, налагались, дабы спасти душу от вечной гибели, чего нельзя сказать о страсти к истреблению, какую проявили якобинцы. Я позволю себе заметить, что всякое правосудие, прибегающее к пыткам и казням без веры в потустороннюю жизнь, есть зверская бессмыслица. А что касается унижения человека, то история этого унижения есть история развития буржуазного духа. Ренессанс, эпоха Просвещения, естествознание и экономические учения девятнадцатого столетия сделали все, решительно все возможное, дабы способствовать такому унижению, начиная с новейшей астрономии, низведшей центр вселенной, почетное ристалище, где бог и дьявол сражаются за вожделенное творение, до ничем не примечательной крохотной планетки, что на время лишило человека его величественного положения в космосе, на котором, кстати сказать, зиждилась астрология.
– На время? – В физиономии самого господина Сеттембрини, когда он вкрадчиво задал этот вопрос, было что-то от палача и инквизитора, уверенного, что допрашиваемый вот-вот запутается и попадется в ереси.
– Конечно. На два-три столетия, – невозмутимо подтвердил Нафта. – Похоже, что и в этом отношении честь схоластики будет восстановлена, все к тому клонится. Птолемей одержит верх над Коперником. Гелиоцентрическая система встречает наконец идейный отпор, который, надо полагать, приведет к желанной цели. Наука окажется философски вынужденной вернуть земле то почетное положение, которое стремится сохранить за ней церковная догма.
– Что? Как? Идейный отпор? Философски окажется вынужденной? Приведет к цели? Что за волюнтаризм вы проповедуете? А беспристрастное исследование? А чистое познание? А истина, милостивый государь, что неразрывно связана со свободой, и мученики ее, которые, по-вашему, порочат землю, но, быть может, составят вечную славу нашей планеты?
Господин Сеттембрини задавал свои вопросы весьма грозно. Он сидел, величественно выпрямившись, и низвергал исполненные благородства слова на недомерка Нафту, все возвышая и возвышая голос, в котором слышалась непоколебимая уверенность в том, что противнику ничего другого не остается, как ответить смущенным молчанием. В руках он держал ломтик торта, но теперь положил его обратно на тарелку, после всего сказанного не желая к нему даже притронуться.
Нафта возражал с неприятным спокойствием:
– Но чистого познания, милый друг, не существует. Законность церковной гносеологии, которая сводится к тезису Августина[48] «я верую, дабы познавать», совершенно неоспорима. Орудием познания является вера, а интеллект вторичен. Ваша лишенная гипотез беспристрастная наука – чистейший миф. Какая-то вера, какое-то мировоззрение, какая-то идея, короче говоря, воля здесь неизбежно присутствует, и дело разума истолковать ее, доказать. Все и во всех случаях сводится к quod erat demonstrandum[49]. Уже само понятие доказательства содержит в себе, говоря языком психологии, сильнейший волюнтаристический элемент. Великие схоласты двенадцатого и тринадцатого веков сходились в убеждении, что ложное с точки зрения богословия не может быть истинным для философии. Но оставим в стороне теологию, если хотите, однако гуманизм, который не признает, что ложное с точки зрения философии не может быть истинным для естествознания, это уже не гуманизм. Аргументация святого судилища против Галилея гласила, что его положения философски нелепы. Более убийственной аргументации не сыщешь.
– Э-э! Аргументы нашего бедного великого Галилея оказались более солидными. Нет, давайте говорить серьезно, professore![50] Ответьте мне, перед двумя этими молодыми людьми, которые так внимательно нас слушают, вот на какой вопрос: верите ли вы в истину, в объективную научную истину, стремиться к которой есть высший закон всякой нравственности и чье торжество над любыми авторитетами составляет славную историю человеческого духа?
Сидевшие лицом к Сеттембрини Ганс Касторп и Иоахим повернулись теперь к Нафте, первый быстрее, второй чуть медленнее.
– Такое торжество невозможно, ибо авторитет – это сам человек, его интересы, его достоинство, его благо, стало быть между авторитетом и истиной не может быть противоречий. Они совпадают.
– В таком случае истина…
– Истинно то, что полезно человеку. В нем воплощена вся природа, из всей природы только он создан и вся природа существует лишь для него. Он мера всех вещей, и его благо – единственный критерий истины. Теоретическое познание, лишенное практического значения для идеи человеческого блага, настолько неинтересно, что здравый смысл повелевает не признавать достоверность подобной науки и попросту ее не допускать. В века, когда господствовало христианское мировоззрение, знание естественных наук почиталось бесполезным для человека. Лактанций[51], которого император Константин избрал в наставники своему сыну, прямо спрашивал, какое блаженство он обретет, если будет знать, где берет свое начало Нил и все, что говорят суемудрые физики о небе. Вот и ответьте ему на его вопрос! Если философию Платона предпочли всякой другой, то лишь потому, что она стремилась познать не природу, а бога. Могу вас заверить, близок час, когда человечество вернется к этой точке зрения и признает, что задача истинной науки не в погоне за нечестивыми истинами, а в умении отмести все пагубное или даже просто духовно маловажное, – словом, свидетельствовать в пользу инстинкта, меры и выбора. Ребячество думать, будто церковь отстаивала тьму и боролась со светом. Она трижды была права, объявляя греховным всякое «беспристрастное» стремление к познанию природы вещей, то есть такое, какое не заботится о духовном, об обретении вечного спасения, а если что действительно погружало и еще глубже погрузит человечество во тьму, так это «беспристрастное», лишенное всякой философии естествознание.
– Вы проповедуете прагматизм, – возразил Сеттембрини, – который достаточно перенести в область политики, чтобы сразу увидеть всю его опасность. Хорошо, истинно и справедливо лишь то, что полезно государству. Его благо, его величие, его могущество становятся высшим нравственным критерием. Прекрасно! Но тем самым открывается полный простор любому злодеянию, и от простой человеческой правды, индивидуальной справедливости, демократии остаются рожки да ножки…
– Будем хоть немного логичны, – предложил Нафта. – Либо Птолемей и схоласты правы, и мир конечен во времени и в пространстве. Тогда божество трансцендентно, противоположность между богом и миром остается в силе и человек тоже существо дуалистическое: конфликт его души состоит в столкновении чувственного и сверхчувственного, а все общественное, таким образом, отходит на второй план. Только такой индивидуализм я могу признать последовательным. Либо ваши астрономы эпохи Возрождения открыли истину, и космос бесконечен. Тогда нет сверхчувственного мира, нет дуализма; потустороннее входит в посюстороннее, противоположность между богом и природой отпадает, и поскольку в этом случае человеческая личность также перестает быть ареной единоборства двух враждебных начал, а напротив, представляет собой единое гармоническое целое, то в основе внутреннего человеческого конфликта лежит исключительно противоречие между личными и общими интересами, и задачи государства, как в пору язычества, становятся нравственным законом. Либо одно, либо другое.
– Я протестую! – воскликнул Сеттембрини, простирая руку с чашкой в сторону хозяина. – Я протестую против такой клеветы на современное государство, клеветы, будто оно означает сатанинское порабощение личности! И в третий раз протестую, протестую против мучительной дилеммы – пруссачество или средневековая реакция, – которую вы хотите нам навязать. Смысл демократии в индивидуалистической поправке к абсолютизму государства, любого государства. Правда и справедливость – самое драгоценное украшение личной нравственности, и пусть они даже в иных случаях вступают в конфликт с интересами государства, получая видимость враждебных ему сил, в действительности же они преследуют высшее, я не побоюсь это сказать: духовное благо государства! Возрождение положило начало обожествлению государства! Какая убогая логика! Завоевания – я намеренно подчеркиваю этимологический смысл слова – завоевания Ренессанса и эпохи Просвещения – это, милостивый государь, раскрепощение личности, права человека, свобода!
Слушатели шумно и облегченно вздохнули, ибо всю длинную тираду Сеттембрини просидели затаивши дыхание. Ганс Касторп в избытке чувств даже ударил ладонью по краю стола, правда, не со всего размаха.
– Блестяще! – процедил он сквозь зубы; Иоахим тоже явно остался очень доволен, несмотря на камень, брошенный в огород пруссачества. Затем оба повернулись к собеседнику, только что получившему сокрушительный отпор. Ганс Касторп даже весь подался вперед от нетерпения, облокотился о стол и подпер кулаком подбородок, как в тот вечер, когда рисовал свинку, и выжидающе впился глазами в Нафту.
Тот сидел в напряженном молчании, сложив худые руки на коленях. Он сказал:
– Я пытался внести логику в нашу беседу, а вы отвечаете мне благородным велеречием. Не спорю, эпоха Ренессанса породила все то, что именуется либерализмом, индивидуализмом, гуманистической гражданственностью и так далее – это мне достаточно известно; но ваше «этимологическое подчеркивание» меня нисколько не трогает, ибо «воинственная», героическая юность ваших идеалов давно миновала, идеалы эти мертвы или, вконец одряхлев, находятся ныне при последнем издыхании. Те, кто бросит их в мусорную яму истории, стоят у порога. Вы называете себя, если не ошибаюсь, революционером. Но если вы полагаете, что будущие революции принесут людям свободу, то глубоко заблуждаетесь. Принцип свободы за пятьсот лет выполнил свое назначение и изжил себя. Педагогика, которая и поныне считает себя дщерью века просвещения и усматривает в критике, в освобождении и пестовании своего «я», в разрушении вполне определенных форм жизни главное средство воспитания, – такая педагогика может еще одерживать мимолетные риторические победы, но ее отсталость для людей сведущих не подлежит никакому сомнению. Все воспитательные союзы, достойные этого наименования, издавна знали, к чему действительно сводится всякая педагогика: это категорический приказ, железная спаянность, дисциплина, самопожертвование, отрицание собственного «я», насилие над личностью. И, наконец, только бездушным непониманием юношества можно объяснить представление, будто молодежь жаждет свободы. В душе она страстно жаждет послушания.
Иоахим выпрямился. Ганс Касторп покраснел. Господин Сеттембрини стал нервно теребить свои шелковистые усы.
– Нет! – продолжал Нафта. – Не освобождение и развитие личности составляют тайну и потребность нашего времени. То, что ему нужно, то, к чему оно стремится и добудет себе, это… террор.
Последнее слово он произнес, понизив голос и без единого движения; только стекла очков блеснули. Все трое слушателей, не исключая Сеттембрини, вздрогнули, впрочем итальянец быстро справился с собой и улыбнулся.
– А разрешите осведомиться, – спросил он, – кого или что вы мыслите себе, я сгораю от любопытства и даже не знаю толком, как спросить, кого или что вы мыслите себе носителем – я неохотно повторяю ваше выражение – этого террора?
Нафта сидел в напряженном молчании и только поблескивал очками.
– К вашим услугам. Думаю, что не ошибусь, предположив наше полное единомыслие в отношении идеального первобытного состояния человечества, состояния, когда люди не знали ни государства, ни насилия и в детской своей невинности были близки к богу; тогда не существовало ни господ, ни слуг, ни закона, ни наказания, ни несправедливости, ни плотских связей, ни классовых различий, ни труда, ни собственности, а царило равенство, братство, нравственное совершенство.
– Превосходно. Согласен, – заявил Сеттембрини. – Согласен, за исключением пункта о плотских связях, которые, очевидно, существовали всегда, поскольку человек как-никак высокоразвитое позвоночное животное и не может иначе, чем другие живые существа…
– Как угодно. Я констатирую наше полное единомыслие в отношении первоначального райского, не знающего судопроизводства, детски-невинного состояния, утраченного после грехопадения. Думаю, что мы можем пройти еще отрезок пути вместе, объяснив возникновение государства общественным договором, необходимость коего возникла с появлением греха для защиты от несправедливости, и признаем в государстве источник власти и насилия.
– Benissimo![52] – воскликнул Сеттембрини. – Общественный договор… Да ведь это же просвещение, это Руссо. Я никак не предполагал…
– Постойте! Здесь наши пути расходятся. Опираясь на тот факт, что власть и сила первоначально принадлежали народу и он передал свое законодательное право и свою власть государству, государям, ваша школа приходит к выводу, ставящему революционное право народа выше прав монарха. Мы же…
«Мы»? – сгорая от любопытства, подумал Ганс Касторп. – Кто это «мы»? Непременно потом спрошу Сеттембрини, кого он имеет в виду под «мы».
– Мы же, со своей стороны, – продолжал Нафта, – быть может не менее революционно, всегда из этого выводили в первую очередь главенство церкви над светской властью. Не будь преходящий характер государства написан у него на лбу, – того исторического факта, что оно возникло по воле народа, а не учреждено – подобно церкви – господом богом, было бы вполне достаточно, чтобы заклеймить его, если не как прямое порождение дьявола, то уж во всяком случае как порождение необходимости и греховной немощи.
– Государство, милостивый государь…
– Я знаю, что вы думаете о национальном государстве. «Нет ничего выше любви к отчизне и безграничной жажды славы». Я цитирую Вергилия. Вы приправляете его небольшой дозой либерального индивидуализма, и вот вам демократия; но ваше принципиальное отношение к государству от этого нисколько не меняется. Вам и дела нет до того, что душа государства – деньги. Надеюсь, вы не станете это отрицать. Античность была капиталистична, потому что преклонялась перед государством. Христианское средневековье ясно осознавало капиталистическую сущность светского государства. «Деньги станут кесарем» – это предсказание относится еще к одиннадцатому веку. Станете вы отрицать, что оно исполнилось слово в слово и что тем самым дьявол возобладал над человеком?
– Дорогой друг, за вами слово. Я сгораю от нетерпения узнать, кто же этот великий неизвестный, носитель террора.
– Рискованное любопытство для глашатая общественного класса, являющегося носителем погубившей мир свободы. На худой конец я могу обойтись без ваших возражений, политическая идеология буржуазии мне достаточно известна. Ваша цель – демократическая империя, перерастание национального государственного принципа во всеобщий, в мировое государство. А властелин этой Империи? Мы его знаем. Ваша утопия чудовищна, и все же – в этой точке мы опять в какой-то мере сходимся. Ибо в вашей капиталистической всемирной республике есть нечто трансцендентное; в самом деле, всемирное государство – выход за пределы светского государства, а мы оба одинаково верим, что совершенному начальному состоянию человечества должно соответствовать и скрытое еще в далеком будущем, совершенное конечное состояние. Со времен Григория Великого[53], учредителя града божьего, церковь ставила себе задачей вернуть человека под руководство господне. Папа требовал полноты власти не ради нее самой, диктатура наместника божия на земле была лишь средством и путем ко спасению, переходной формой от языческого государства к царствию небесному. Вы говорили здесь этим ищущим правды о кровавых злодеяниях церкви, ее карающей нетерпимости, – что весьма неразумно, ибо рвение во славу господню, разумеется, не имеет ничего сходного с пацифизмом, Григорий сказал: «Да будет проклят убоявшийся обагрить кровью меч свой!»[54] Что власть есть зло, мы знаем. Но царствие божие приидет лишь тогда, когда дуализм добра и зла, потуги посюстороннего, духа и власти, будет на время снят, уступив место принципу, соединяющему в себе и аскетизм и господство. Вот это я и имею в виду, говоря о необходимости террора.
– Но носитель? Кто же носитель?
– Вы еще спрашиваете? Неужели вы с вашим манчестерским либерализмом[55] упустили из виду общественное учение, пожелавшее очеловечить и преодолеть экономизм, учение, чьи принципы и цели те же, что и у христианского града божьего. Отцы церкви называли слова «мое» и «твое» пагубными, а частную собственность – узурпацией и кражей. Они отвергали частное землевладение, ибо согласно божескому естественному праву земля есть общее достояние людей и потому плоды свои приносит для всех. Они учили, что только алчность, следствие грехопадения, защищает права владельца и создала частную собственность. Они были настолько гуманны, настолько презирали торгашество, что считали коммерческую деятельность гибельной для души, то есть для человечности. Они ненавидели деньги и денежные операции и говорили, что капитал поддерживает жар адского пламени. Они ото всей души презирали основной закон экономики, по которому цена определяется соотношением спроса и предложения, и клеймили использование конъюнктуры как циничную эксплуатацию нужды ближнего. Но на их взгляд существовала еще более греховная эксплуатация – эксплуатация времени, чудовищный произвол заставлять платить себе премию за простое течение времени, а именно проценты, злоупотребляя общим, данным богом установлением, каким является время, ради выгоды одного и в ущерб другому.
– Benissimo! – воскликнул Ганс Касторп, в пылу восторга пользуясь словечком, которым Сеттембрини обычно выражал свое одобрение… – Время… общее, данное богом установление… Это чрезвычайно важно!..
– Совершенно справедливо! – продолжал Нафта. – Мысль о самопроизвольном росте денег казалась отвратительной этим человеколюбцам, и под понятие лихоимства они подводили любые ростовщические махинации, заявляя, что всякий богач либо вор, либо наследник вора. Они шли дальше. Подобно Фоме Аквинскому, они считали постыдным занятием торговлю вообще, торговлю в чистом виде – то есть куплю и продажу с извлечением барыша, но без обработки и улучшения продукта. Сам по себе труд они ставили не очень высоко, ибо он дело этическое, а не религиозное и служит жизни, а не богу. Но постольку поскольку речь шла о жизни и экономике, они требовали, чтобы условием экономической выгоды и мерилом общественного уважения служила продуктивная деятельность. Они уважали землепашца, ремесленника, но никак не торговца, не мануфактуриста. Ибо они хотели, чтобы производство исходило из потребностей и порицали массовое изготовление товаров. И вот все эти погребенные было в веках экономические принципы и мерила воскрешены в современном движении коммунизма. Совпадение полное, вплоть до внутреннего смысла требования диктатуры, выдвигаемого против интернационала торгашей и спекулянтов интернационалом труда, мировым пролетариатом, который в наше время противопоставляет буржуазно-капиталистическому загниванию гуманность и критерии града божьего. Ведь глубочайший смысл диктатуры пролетариата, этого политико-экономического спасительного требования современности, отнюдь не в господстве ради господства во веки веков, а во временном снятии противоречия между духом и властью под знаменем креста, смысл ее в преодолении мира путем мирового господства, в переходе, в трансцендентности, в царствии божием. Пролетариат продолжает дело Григория. В нем горит его рвение во славу господа бога, и подобно папе пролетариат не побоится обагрить руки свои кровью. Его миссия устрашать ради оздоровления мира и достижения спасительной цели – не знающего государства, бесклассового братства истых сынов божиих.
Такова была резкая речь Нафты. Присутствующие молчали. Молодые люди взглянули на Сеттембрини. Ему надлежало как-то на это ответить. Он сказал:
– Поразительно! Признаюсь, я потрясен. Этого я никак не ожидал. Roma locuta.[56] И как, как высказался! На наших глазах господин Нафта совершил священное сальто-мортале, – и если в эпитете содержится противоречие, то он его «временно снял», да, да! Повторяю: это поразительно. Считаете ли вы здесь возможными какие-то возражения, профессор, – возражения чисто логического порядка? Только что вы в поте лица трудились, растолковывая нам сущность христианского индивидуализма, основанного на дуализме бога и мира, и доказывали нам его неоспоримое превосходство над всякой нравственностью, определяемой политикой. А несколько минут спустя вы доводите социализм до диктатуры и террора. Ну, сообразно ли это?
– Противоречия, – сказал Нафта, – могут быть и сообразными. Несообразно лишь половинчатое и посредственное. Ваш индивидуализм, как я уже позволил себе заметить, есть половинчатость, уступка. Он приправляет вашу языческую гражданскую добродетель чуточкой христианства, чуточкой «прав человека», чуточкой так называемой свободы, вот и все. Индивидуализм же, исходящий из космической, астрологической значимости каждой души, индивидуализм не социальный, а религиозный, который усматривает человечность не в противоречии «я» и «общества», а в противоречии «я» и бога, тела и духа, – такой истинный индивидуализм прекрасно уживается с обязательствами, налагаемыми коллективом…
– Безымянный и коллективный, – произнес Ганс Касторп.
Сеттембрини вытаращил на него глаза.
– Молчите, инженер! – оборвал он молодого человека с суровостью, которую следовало приписать нервозности и возбуждению. – Поучайтесь, но не мудрствуйте! Да, это ответ, – сказал он, обращаясь к Нафте. – Мало утешительный, но все же ответ. Посмотрим, однако, к чему это приведет… Отвергая индустрию, христианский коммунизм отвергает технику, машину, прогресс. Отвергая то, что вы именуете торгашеством, то есть деньги и денежные операции, которые античность ставила неизмеримо выше земледелия и ремесла, он отвергает свободу. Ибо совершенно очевидно, что тем самым, как в средние века, все частные и общественные отношения становятся опять-таки зависимы от земли, в том числе – мне не легко это выговорить – и человеческая личность. Если кормит только земля, то одна лишь земля дает и свободу. Ремесленник и крестьянин, каким бы ни пользовались они уважением, не имея земли, становится крепостными того, кто ею владеет. В самом деле, вплоть до позднего средневековья большинство населения даже в городах состояло из крепостных. В ходе разговора вы не раз упоминали о человеческом достоинстве. А между тем вы отстаиваете моральность экономического строя, который закабаляет людей и лишает их человеческого достоинства.
– О человеческом достоинстве и принижении этого достоинства, – отвечал Нафта, – можно многое сказать. Но в данную минуту для меня будет некоторым удовлетворением уже то, если замеченные вами объективные взаимосвязи побудят вас понимать свободу не столько как красивый жест, сколько как проблему. Вы утверждаете, что в области экономики христианская мораль при всей ее красоте и человечности приводит к порабощению. Я же стою на том, что дело свободы, или, если говорить конкретнее, дело городов, буржуазной цивилизации, при всей своей прогрессивности, исторически связано со страшным падением морали в области экономики, со всеми ужасами современного торгашества и спекуляции, с сатанинской властью чистогана, барыша.
– Я буду настаивать на том, чтобы вы не прятались за оговорками и антиномиями, а прямо и недвусмысленно признали себя сторонником самой черной реакции.
– Первый шаг к истинной свободе и гуманности предполагает преодоление малодушного страха, который вам внушает слово «реакция».
– Довольно, – с легкой дрожью в голосе заявил Сеттембрини, отодвигая от себя тарелку и чашку, которые, впрочем, были пусты, и подымаясь с штофного дивана. – На сегодня довольно, для одного дня, мне кажется, за глаза хватит. Профессор, мы благодарим за чудесное угощение и за в высшей степени остроумную беседу. Моих друзей из «Берггофа» ждут процедуры, и мне хотелось бы еще показать им свое скромное жилище наверху. Идемте, господа! Addio, padre![57]
Теперь он назвал Нафту еще и «падре»! Ганс Касторп отметил это, высоко подняв брови. Никто не стал прекословить, когда Сеттембрини подал сигнал к уходу, самовольно распорядился братьями и даже не спросил, не хочет ли Нафта присоединиться к ним. В свою очередь поблагодарив хозяина, молодые люди откланялись и получили приглашение прийти снова. Они удалились с итальянцем, причем Ганс Касторп не преминул захватить с собой одолженную ему книжку «De miseria humanae conditionis» – трухлявый томик в бумажной обертке. Лукачек со своими уныло свисающими усами все еще сидел на столе и шил платье для старухи, в чем они убедились, проходя мимо растворенной двери портного, чтобы подняться по совсем уже крутой и узкой лесенке, которая вела в мансарду. В сущности, это была даже не мансарда, а попросту чердак с голыми стропилами под гонтовой кровлей и тем особым запахом прогретого дерева, который летом бывает в амбарах. Но этот чердак был разделен перегородкой на две комнатушки, и в них-то и помещался республиканец-капиталист: первая служила кабинетом высокопросвещенному сотруднику «Социологии страданий», вторая – спальней. Весело и непринужденно показал он их своим юным друзьям, именуя свое жилье укромной уютной квартиркой, с тем, чтобы подсказать им надлежащие для похвалы слова, которыми те не замедлили воспользоваться. Да, квартирка чудесная, заверили оба в один голос, именно укромная и уютная, как он очень правильно выразился. Они заглянули в спальню, где перед занимавшей угол мансарды узкой и короткой кроватью лежал крохотный лоскутный коврик, затем снова посвятили свое внимание не менее скудно обставленному кабинету, где, однако, царил какой-то парадный, даже чопорный порядок. Четыре неуклюжих старомодных стула с соломенными сиденьями симметрично выстроились по обе стороны дверей, диван тоже был придвинут к стене, так что комнату занимал один только покрытый зеленым сукном круглый столик, на котором то ли ради украшения, то ли для утоления жажды, но во всяком случае аскетически-трезво стоял графин с водой, а на нем опрокинутый кверху донышком стакан. Книги в переплетах и непереплетенные, склонив на сторону корешки, подпирали друг друга на стенной полочке; у раскрытого оконца возвышалась легонькая с откидной крышкой конторка на длинных ножках, а перед ней на полу лежала маленькая, в пятачок, подстилка из толстого войлока, на которой едва-едва можно было уместиться. Ганс Касторп для пробы встал на войлочный квадратик, за рабочее место господина Сеттембрини, где тот для будущей энциклопедии разбирал изящную словесность под углом зрения человеческих страданий, облокотился о наклонную крышку и заявил, что стоится тут укромно и уютно. Так, возможно, стоял когда-то в Падуе за своей конторкой и отец Лодовико, склонив над ней длинный тонкий нос, высказал предположение Ганс Касторп и узнал, что и в самом деле стоит за конторкой покойного ученого и что не только конторка, но и соломенные стулья, стол и даже графин достались Сеттембрини от отца; более того, соломенные стулья принадлежали еще деду-карбонарию и красовались в его адвокатской конторе в Милане. Это звучало очень внушительно. Стулья сразу же приобрели в глазах молодых людей что-то политически-крамольное, и Иоахим вскочил с того, на котором ничтоже сумняся сидел, положив ногу на ногу, подозрительно оглядел его и уже более на него не садился. А Ганс Касторп за конторкой Сеттембрини-старшего размышлял над тем, как трудится здесь его сын, сочетая политику деда с гуманизмом отца в творениях изящной словесности. Они ушли втроем. Писатель вызвался проводить братьев до дому.
Первую часть пути они шли молча, но это молчание как бы предваряло беседу о Нафте. Ганс Касторп мог подождать, ибо был убежден, что господин Сеттембрини непременно заговорит о своем сожителе, что он только затем и пошел с ними. И Ганс Касторп не ошибся.
Глубоко вздохнув, словно пускаясь в бег, итальянец начал:
– Господа, я хочу вас предостеречь.
И поскольку за сим последовала пауза, Ганс Касторп, разумеется, спросил с притворным удивлением: от чего предостеречь? Он мог бы по крайней мере сказать: от кого? – но он выразился так неопределенно, чтобы подчеркнуть свое непонимание, тогда как даже Иоахим догадался, о ком шла речь.
– От личности, у которой мы только что были в гостях, – отвечал Сеттембрини, – и с которой я вас познакомил помимо своей воли и желания. Вы знаете, что это вышло случайно, я тут ни при чем, и все же я несу ответственность, тяжелую ответственность. Мой долг указать вам, как людям Молодым и неопытным, хотя бы на духовную опасность общения с этим человеком и просить вас особенно с ним не сближаться. Его форма – логика, но сущность – хаос.
Н-да, с Нафтой и вправду дело обстоит не совсем чисто, признал Ганс Касторп, речи его подчас звучали странновато; у него выходило, что солнце вращается вокруг земли. Но в конце концов как могла им прийти в голову мысль, что лучше воздержаться от встреч с его, господина Сеттембрини, приятелем? Он же сам признал, что они через него познакомились с господином Нафтой, они встретили их вместе, он с ним гуляет, запросто приходит к нему вниз пить чай, это же доказывает…
– Разумеется, инженер, разумеется. – Голос господина Сеттембрини звучал мягко, покорно, но все же слегка дрожал. – Все это можно мне возразить, вот вы и возражаете. Хорошо, я готов принять на себя ответственность… Я живу с этим господином под одной крышей и неизбежно должен с ним сталкиваться, одно слово влечет за собой другое, и вот знакомишься. Господин Нафта умен – это встречается не так уж часто. Он любит рассуждать, я тоже. Пусть осудит меня кто хочет, но я пользуюсь случаем скрестить клинки идей с достойным противником. Я один как перст… Короче говоря, это правда, я захожу к нему, он ко мне, мы гуляем вместе. И спорим. Спорим до остервенения чуть ли не каждый день, но, признаюсь, противоположность и враждебность его взглядов, может быть, особенно меня и прельщает, заставляет искать встреч с ним. Мне необходима разминка. Чтобы убеждения жили, их надо почаще бросать в бой, а я в своих убеждениях крепок. Но можете ли вы утверждать то же самое о себе – вы, лейтенант, да и вы, инженер? Вы безоружны против интеллектуального жонглерства, вам угрожает опасность, ваш ум и душа могут пострадать от всей этой фанатической, озлобленной казуистики.
Да, да, это, конечно, правда, согласился Ганс Касторп, они с братом в той или иной мере натуры особенно подверженные такого рода опасностям. Трудные дети жизни, так сказать, он понимает. Но, с другой стороны, этому можно противопоставить Петрарку с его девизом, господин Сеттембрини знает, что он имеет в виду, а послушать соображения Нафты во всяком случае стоит: надо отдать ему справедливость, то, что касалось коммунизма, при котором никому не будет дозволено брать проценты за время, было замечательно, и потом ему были интересны некоторые мысли о педагогике, которые без Нафты он никогда бы не услышал…
Господин Сеттембрини поджал губы, и Ганс Касторп поспешил добавить, что сам он, конечно, воздерживается от каких-либо решений и суждений, просто ему показалось любопытным мнение Нафты о молодежи и о том, чего она жаждет.
– Но сперва объясните мне вот что! – продолжал он. – Этот господин Нафта, я говорю «этот господин», чтобы показать, что я вовсе не так уж ему симпатизирую, а напротив, держусь внутренне настороже…
– В чем вы абсолютно правы! – с признательностью воскликнул Сеттембрини.
– …Он много говорил против денег, этой души государства, как он выразился, и против собственности, потому что она по сути дела – кража, словом против капиталистического богатства, о котором он, насколько я помню, сказал, что оно поддерживает жар адского пламени, – примерно так он выразился, если не ошибаюсь, и на все лады восхвалял средневековье, запрещавшее взимать проценты. А между тем он сам… Простите, но у него должно быть… Просто диву даешься, когда к нему входишь. Весь этот штоф…
– О да, – улыбнулся Сеттембрини, – вкус у него весьма характерный…
– …Прекрасная старинная мебель, – перечислял Ганс Касторп, – «Пиета» четырнадцатого века… Венецианская люстра… маленький гайдук в ливрее… и шоколадного торта сколько душе угодно… Сам-то по себе…
– Сам-то по себе, – подхватил Сеттембрини, – господин Нафта такой же капиталист, как я.
– Но? – настаивал Ганс Касторп. – За вашими словами должно последовать какое-то «но», господин Сеттембрини.
– Что ж, эта публика не позволит нуждаться никому из своих.
– Какая публика?
– Ну, отцы.
– Отцы? Какие отцы?
– Да иезуиты же, инженер!
Последовало молчание. Братья остолбенели. Наконец Ганс Касторп воскликнул:
– Как, черт побери, – так он иезуит?
– Вы угадали, – не без иронии подтвердил Сеттембрини.
– Никогда в жизни я бы не… Кто бы мог подумать! Так вот почему вы величали его падре?
– Небольшое, продиктованное учтивостью преувеличение, – отвечал Сеттембрини. – Господин Нафта не принял сана. В том, что он пока еще не падре, повинна его болезнь. Но он прошел искус и дал первые обеты. Болезнь вынудила его прервать занятия теологией. Потом он несколько лет был префектом в орденской школе, то есть надзирателем, наставником, воспитателем юных питомцев. Это отвечало его педагогическим склонностям. Он может и здесь продолжать любимое дело, преподавая латынь в Фридерициануме. Он уже пять лет как находится тут. И разрешат ли ему когда-нибудь, и когда именно, отсюда уехать – совершенно неизвестно. Однако он член ордена и, если бы даже был менее тесно с ним связан, никогда не будет ни в чем нуждаться. Я сказал вам, что сам по себе он беден, вернее не имеет никакой собственности. Как же иначе, таков устав. Зато орден располагает несметными богатствами и, как видите, неплохо печется о своих.
– Господи! – пробормотал Ганс Касторп. – Вот уж никак не думал и не предполагал, что подобное все еще существует! Иезуит! Ну и ну!.. Но объясните мне вот что: если о нем так хорошо пекутся оттуда, какого черта он живет… Я не хочу сказать ничего худого о вашей квартире, господин Сеттембрини, вы чудесно устроены у Лукачека, так укромно и уютно. Но все-таки, если у Нафты, грубо говоря, денег куры не клюют – почему он не снимет себе квартиру поприличнее, в хорошем доме, с порядочной лестницей и большими комнатами? В том, что он сидит в этой дыре, со всем своим штофом, есть даже что-то таинственное, почти авантюристическое…
Сеттембрини пожал плечами.
– Надо думать, ему это предписывают чувство такта и личный вкус. Он, как я понимаю, успокаивает свою антикапиталистическую совесть, живя в комнате бедняка, и возмещает себе урон образом жизни, которого придерживается. Известную роль играет также осторожность. Незачем афишировать, как хорошо о тебе печется нечистый. Вот он и прикрывается неказистым фасадом, а за ним дает волю своим поповским пристрастиям к шелкам и бархату.
– Непостижимо! – сказал Ганс Касторп. – Совершенно ново для меня, меня это, признаться, даже взволновало. Нет, мы бесконечно обязаны вам, господин Сеттембрини, за это знакомство. Как хотите, но мы не раз еще побываем у вас в доме и навестим господина Нафту. Решено и подписано. Такие встречи необыкновенно расширяют кругозор, позволяют заглянуть в мир, о существовании которого не имеешь ни малейшего представления. Настоящий иезуит! Но говоря «настоящий», я тем самым ловлю себя на мысли, которая только сейчас пришла мне в голову и которую непременно надо выяснить. Я задаю себе вопрос: да настоящий ли он? Я знаю, вы считаете, что тот, о ком тайно печется нечистый, вообще не может быть таким, каким следует быть. Но я имею в виду другое: таков ли он, каким следует быть иезуиту, – вот что пришло мне в голову. Он наговорил таких вещей – вы знаете, что я имею в виду, – о христианском коммунизме и религиозном рвении пролетариата, который не побоится обагрить руки кровью, – словом, вещи, по сравнению с которыми ваш дед с его копьем гражданина был, простите, сущим агнцем. Позволительно ли это? Одобряет ли подобные взгляды его начальство? Согласуются ли они с учением римско-католической церкви, которое орден путем всяких козней и интриг старается распространить по всему свету, как я слышал? Не есть ли это, что называется – ну, ересь, вывих, отступничество? Вот о чем я спрашиваю себя относительно Нафты и очень хотел бы услышать ваше мнение.
Сеттембрини улыбнулся.
– Ничего мудреного тут нет. Господин Нафта, конечно, прежде всего иезуит, настоящий, до мозга костей. Но, во-вторых, он человек умный – иначе я но ценил бы его общества – и как таковой ищет новых комбинаций, новых способов приспособиться, приладиться, новых созвучных времени вариантов. Вы видели, что он и меня удивил своими теориями. Впервые он так при мне разоткровенничался. Присутствие ваше явно его вдохновило, и я воспользовался случаем, чтобы его раздразнить, заставить высказаться до конца по некоторым вопросам. Это звучало довольно-таки забавно, довольно-таки чудовищно…
– Да, да, но почему же все-таки он не стал патером? Он ведь мог бы по своему возрасту?
– Я же вам говорил, этому помешала болезнь.
– Хорошо, но не считаете ли вы, что если он прежде всего иезуит, а во-вторых, умный человек с комбинациями – что это второе, привходящее обстоятельство связано с его болезнью?
– Что вы хотите этим сказать?
– Нет, нет, господин Сеттембрини. Я хочу только сказать, что у него влажный очажок и это-то и помешало ему стать патером. Но и комбинации его тоже, вероятно, помешали бы, таким образом и комбинации и влажный очажок в какой-то мере связаны друг с другом. Он тоже, в своем роде, как бы трудное дитя жизни, joli jesuite с petite tache humide.[58]
Они дошли до санатория. Перед тем как расстаться, они еще постояли немного кружком на площадке перед домом, и двое-трое слонявшихся у подъезда больных издали наблюдали за их беседой. Сеттембрини сказал:
– Итак, я еще раз предостерегаю вас, мои юные друзья. Я не могу запретить вам продолжать это знакомство, если вас одолевает любопытство. Но вооружите сердце и ум недоверием, пусть никогда не иссякнет в вас дух критического отпора. Я охарактеризую вам этого человека одним словом. Он сладострастник.
На лицах обоих братьев отразилось сильнейшее изумление. А Ганс Касторп переспросил:
– Что?.. Как вы сказали? Но позвольте, он же член ордена. Там приносят известные обеты, насколько я знаю, и к тому же он такой мозглявый и худосочный…
– Не мелите вздора, инженер, – возразил Сеттембрини. – Худосочие тут ни при чем, а что касается обетов, то имеются мысленные оговорки. Но я говорил в более широком, духовном смысле и полагал, что вы способны меня понять. Помните, как я вас однажды навестил в вашей комнате – это было давно, страшно давно, – вы проходили курс постельного режима после принятия вас в санаторий…
– Разумеется! Вы вошли, когда уже стемнело, и зажгли свет, я как сейчас помню…
– Ну так вот, тогда в беседе, как это, слава богу, часто случается, мы коснулись с вами высоких предметов. Мы говорили, помнится мне, о жизни и смерти, о благолепии смерти, поскольку она условие и принадлежность жизни, и о страшной личине, в какой она является нам, лишь только дух превратно ее обособляет, превращает в самодовлеющий принцип! Господа! – продолжал Сеттембрини, наступая на молодых людей и, как вилкой, тыча в них большим передним пальцами левой руки, чтобы лучше овладеть их вниманием, и предостерегающе подымая указательный палец правой… – Запомните, дух суверенен, воля его свободна, и это он определяет нравственный мир. Но достаточно духу дуалистически обособить смерть, и смерть по воле духа становится, действительно и на деле, actu, вы понимаете меня, самодовлеющей, враждебной жизни силой, сатанинским принципом, великой искусительницей, и царство ее – сладострастие. Вы спросите меня, почему сладострастие? Я отвечу: потому что она освобождает и избавляет, потому что она избавление, но не избавление от лукавого, а лукавое избавление. Она освобождает от морали и нравственности, избавляет от выдержки и твердости, дает простор сладострастию. Если я предостерегаю вас от этого человека, с которым свел вас помимо воли, если я призываю вас при встречах с ним трижды опоясать свое сердце стальным поясом критики, то лишь потому, что все мысли его исполнены сладострастия, ибо они стоят под эгидой смерти, – а смерть в высшей степени распутная сила, как я вам однажды уже доложил, инженер, – я хорошо помню, что употребил это выражение, так как всегда храню в памяти точные и меткие эпитеты, которые мне случается употреблять, – сила, направленная против нравственности, прогресса, труда и жизни, и благороднейшая задача всякого наставника уберечь молодые умы от ее тлетворного дыхания.
Никто не смог бы все это высказать лучше господина Сеттембрини, так ясно и округло. Ганс Касторп и Иоахим Цимсен горячо поблагодарили его, попрощались и поднялись по ступенькам к порталу «Берггофа», меж тем как господин Сеттембрини поспешил вернуться к своей гуманистической конторке, помещавшейся этажом выше шелковой кельи Нафты.
Мы описали здесь первый визит братьев к маленькому Нафте. За ним последовало еще два или три, один даже в отсутствие господина Сеттембрини; и все они давали молодому Гансу Касторпу обильную пищу для размышлений, когда он, внутренним оком взирая на возникавшую перед ним высшую форму органической жизни, именуемую Homo Dei, сидел среди цветущей синевы своего уединенного уголка и «правил».
Ярость. И еще нечто крайне тягостное
Наступил август, и с первыми днями августа благополучно проскочила годовщина со дня прибытия нашего героя сюда наверх. И хорошо, что проскочила – молодой Ганс Касторп с неприязнью думал о ее приближении. Так было со всеми. Дата приезда не внушала симпатии; больные, жившие здесь по году и больше, предпочитали не вспоминать о ней, и если обычно обитатели «Берггофа» пользовались любым поводом для празднований и тостов, по мере сил умножая общепринятые большие отклонения в размеренном ритме и пульсации года – частными и случайными, так что ни один день рождения, общее обследование, предстоящий самовольный или законный отъезд не обходились без пиршества и хлопанья пробок в ресторане, – то годовщину приезда отмечали разве что молчанием, позволяя ей проскользнуть незаметно, а то и в самом деле, видимо, забывая о ней и полагаясь на то, что и другие навряд ли ее вспомнят. Счет времени вели все; следили за календарем, сменой времен года, возрождением и смертью в природе. Но время, связанное для каждого в отдельности с пространством здесь наверху, то есть личное, индивидуальное время, измеряли и высчитывали разве что краткосрочники да новички, старожилы же в данном случае отдавали предпочтение неизмеренному, неприметно-вечному времени, дню, который всегда оставался бы одним и тем же, и каждый с похвальной деликатностью предполагал в другом такое же чувство и желание. Сказать кому-нибудь, что сегодня исполнилось три года, как он здесь, было бы верхом грубости и бестактности, да это никогда и не случалось. Даже фрау Штер, при всех своих прочих недостатках, в данном вопросе проявляла должный такт и воспитанность, и никогда не позволила бы себе подобного промаха. Пусть ее болезнь, снедающая тело лихорадка, непонятным образом сочеталась с ужасающим невежеством. Совсем недавно она за столом сказала, что у нее «интоксикованные» верхушки легких, а когда разговор зашел об истории, заявила, что исторические даты всегда были ее «поликратовым перстнем»[59], от чего присутствующие на миг как бы даже окаменели. Но чтобы она, скажем, в феврале напомнила молодому Цимсену о его юбилее, было совершенно исключено, хотя она, вероятно, об этом подумала. Ибо злосчастная голова ее, разумеется, была забита никому не нужными датами и вздором, и она обожала совать нос в чужие дела; однако обычай держал ее в узде.
Так случилось и с годовщиной Ганса Касторпа. Правда, фрау Штер за завтраком попыталась было многозначительно ему подмигнуть, но, встретившись с его отсутствующим взглядом, поспешила стушеваться. Иоахим тоже промолчал, хотя кто-кто, а уж он-то, конечно, помнил и месяц и число, когда ездил встречать «приехавшего его навестить» гостя на станцию «Деревня». Впрочем, Иоахим, вообще не слишком словоохотливый от природы, – в отличие от Ганса Касторпа, здесь пристрастившегося к умствованиям, и тем более от всяких там гуманистов и казуистов, – с некоторых пор сделался особенно и даже странно молчалив, он и на вопросы отвечал односложно, зато лицо его говорило красноречивее всяких слов. Было ясно, что для него со станцией «Деревня» связываются совершенно иные представления, нежели встреча или приезд… Он вел оживленную переписку с равниной. В нем зрела решимость. И приготовления его близились к концу.
Июль был теплым и ясным. Но с началом нового месяца погода испортилась, стало пасмурно и сыро, пошли дожди вперемежку со снегом, потом настоящие снегопады, и за исключением редких, по-летнему роскошных, солнечных дней, весь август и часть сентября держались холода. Сначала в прогретых за лето комнатах еще сохранялось тепло; там было градусов десять, что считалось вполне терпимым. Но потом быстро похолодало, и все даже обрадовались снегу, в который оделась долина, ибо только вид снега – низкая температура сама по себе не принималась в расчет – побудил наконец дирекцию затопить сперва одну лишь столовую, а затем и спальни, так что после обязательной процедуры лежания, скинувши одеяло и вернувшись в комнату, можно было прикладывать окоченевшие мокрые руки к ожившим трубам, пусть даже от их сухого дыхания еще сильнее горели щеки.
Неужели пришла зима? Если верить чувствам, то создавалось такое впечатление, и все жаловались, что «лета и не видели», хотя сами же его упустили, безрассудно растрачивая время, личное и календарное, в чем им помогали окружающие естественные и искусственные условия. Рассудок доказывал, что еще будут хорошие осенние дни; быть может, даже длинный ряд дней, установится бабье лето, в червонно-теплом своем великолепии ничуть не уступающее настоящему, если только не замечать, насколько ниже солнце стоит над горизонтом и насколько раньше оно заходит. Однако вид зимнего ландшафта за окном и уныние, которое он нагонял, оказывались сильнее подобных утешений. Стоишь у закрытой балконной двери и смотришь с отвращением на вихрь белых хлопьев – Иоахим стоял там и наконец сдавленным голосом произнес:
– Значит, снова-здорово?
Ганс Касторп из глубины комнаты возразил:
– Не может быть, для зимы рановато, хотя по всем признакам страшно на то похоже; если зима – это мрак, снег, холод и теплые трубы, тогда в самом деле зима. Но если подумать, что зима едва кончилась и только-только сошел снег, во всяком случае нам, не правда ли, кажется, будто только что была весна, – то иногда, тут я с тобой совершенно согласен, просто тошно становится. Теряешь вкус к жизни – дай мне пояснить свою мысль. Я думаю, что мир вообще-то устроен так, чтобы соответствовать потребностям человека и пробуждать в нем вкус к жизни, не признать этого нельзя. Я вовсе не хочу этим сказать, что мировой порядок, ну, например, хотя бы величина нашей планеты, время, которое требуется ей, чтобы обращаться вокруг собственной оси и вокруг солнца, смена дня и ночи, времен года, – словом, космический ритм, рассчитан на наши потребности, – это было бы слишком самонадеянно и наивно, отдавало бы телеологией, как сказал бы философ. Просто наши потребности и общие основные закономерности в природе, благодарение богу, созвучны, – я говорю благодарение богу, потому что за это в самом деле стоит бога благодарить, – и когда на равнине приходит лето или зима, то с прошлого лета или зимы протекло уже ровно столько времени, что лето и зима кажутся нам новыми и желанными, и на этом-то и покоится вкус к жизни. А вот у нас, здесь наверху, этот порядок и гармония нарушены, во-первых, потому, что здесь нет настоящих времен года, как ты сам однажды выразился, а просто летние и зимние дни, pele-mele, вперемежку, а во-вторых, потому, что время, которое мы здесь проводим, собственно даже не время, так что когда наступает новая зима, она вовсе не новая, а та же старая; этим и объясняется недовольство, с каким ты сейчас глядишь в окно.
– Весьма признателен за объяснение, – сказал Иоахим, – А теперь, когда ты мне все растолковал, ты, как мне сдается, так собой доволен, что заодно доволен и всей здешней жизнью… Нет! Хватит! – почти выкрикнул Иоахим. – Все это свинство, гнуснейшее свинство, и если ты… то я лично… – И он быстрым шагом вышел из комнаты, в сердцах хлопнув дверью, – в его мягких, прекрасных глазах как будто даже стояли слезы.
Ганс Касторп остался в полном смятении. Пока двоюродный брат громогласно заявлял о своих намерениях, он не принимал их особенно всерьез. Но теперь, когда говорило лишь лицо Иоахима, причем весьма красноречиво говорило, и вел он себя как сегодня, Ганс Касторп испугался, он понял, что этот солдат вполне способен от слов перейти к делу, – и он испугался до того, что весь побелел, испугался за них обоих, за него и за себя. «Fort possible qu'il aille mourir»[60], – подумал он, и так как сведения эти, несомненно, были получены из третьих рук, то к ним примешивалась боль давних, никогда не утихавших подозрений, и еще он подумал: «Неужели он меня бросит здесь одного, – меня, который приехал лишь затем, чтобы его навестить?! – И тут же добавил: – Это было бы нелепо и ужасно, – настолько нелепо и ужасно, что я чувствую, как у меня холодеет лицо и сердце беспорядочно колотится, потому что если я останусь здесь один, – а я останусь, даже если он уедет, мне нельзя, мне невозможно с ним уехать, – тогда, тогда, – что это с сердцем, теперь оно совсем замирает? – тогда это будет на веки вечные, потому что одному мне отсюда никогда уже не выбраться на равнину…»
Таков был страшный ход мыслей Ганса Касторпа. Еще в тот же день всем его сомнениям суждено было разрешиться: Иоахим высказался, жребий был брошен, и теперь слово оставалось за ним.
После чая братья спустились в светлый полуподвал на ежемесячное обследование. Было начало сентября. Войдя в пахнувшую на них сухим теплом ординаторскую, они застали доктора Кроковского за письменным столом, тогда как гофрат, как будто еще более посиневший, стоял со скрещенными на груди руками, прислонившись к стене, и, сжимая в кулаке стетоскоп, постукивал им себя по плечу. Он зевал, глядя в потолок.
– Здорово, мальчики, – сказал он устало, да и в дальнейшем казался вялым, меланхоличным, преисполненным безразличия ко всему. Видимо, он опять накурился. Правда, для дурного настроения имелись и объективные причины, о которых братья уже слышали, внутрисанаторские неприятности определенного свойства. Молоденькая девушка, некая Амми Нольтинг, впервые поступила в санаторий осенью позапрошлого года и девять месяцев спустя, в августе, была выписана как здоровая; в сентябре она снова вернулась, так как «почувствовала себя плохо», в феврале была вторично отпущена на равнину, ввиду отсутствия каких-либо шумов, но уже в середине июля опять заняла свое место за столом госпожи Ильтис. И вот в час ночи эту Амми застали в ее спальне с больным, сыном фабриканта красок из Пирея, молодым химиком по фамилии Полипраксиос, тем самым греком, что на карнавале привлек к себе всеобщее и вполне заслуженное внимание стройностью и красотой своих ляжек, причем накрыла ее не кто иная, как ее же терзаемая ревностью приятельница. Пробравшись к ней тем же путем, что и Полипраксиос, а именно через балкон, она, не помня себя от огорчения и гнева при виде представшей ей картины, подняла ужасный крик, всполошила весь дом и сделала скандал достоянием всего санатория, так что Беренс был вынужден выгнать всех троих: афинянина, Нольтинг и ее подругу, в пылу страсти позабывшую о собственной чести. Он только что обсуждал неприятное происшествие со своим ассистентом, у которого, кстати сказать, лечились и Амми и доносчица. Выслушивая братьев, он с грустью и покорностью все еще продолжал изливать душу по этому поводу; истинный мастер аускультации, он был способен одновременна выслушивать у человека нутро, разговаривать о посторонних предметах и диктовать ассистенту результаты обследования.
– Да, да, gentlemen[61], проклятое libido![62] – говорил он. – Вы-то, конечно, еще находите удовольствие в этой штуке, что вам… Везикулярное… Но мне, как главному врачу, все это осточертело, можете мне… притупление… можете мне поверить. Чем я виноват, если туберкулез связан с повышенной половой возбудимостью?.. жестковатое дыхание. Не я так устроил, а тут оглянуться не успеешь, как очутишься в роли содержателя дома свиданий… укороченное под левой ключицей. У нас имеется психоанализ, мы даем больным возможность выговориться – черта с два! Чем больше эти хрипуны рассказывают, тем становятся похотливее. Я лично прописываю математику… Здесь лучше, шумы исчезли… Занятие математикой, говорю я им, превосходное средство против амуров. Прокурор Паравант, которого донимали соблазны плоти, кинулся в математику, возится теперь с квадратурой круга и чувствует большое облегчение. Но большинство слишком глупы и слишком ленивы, прости господи… Везикулярное… Видите ли, я прекрасно знаю, что молодежи очень даже нетрудно свихнуться здесь, и раньше я иногда пытался бороться с развратом. А потом получалось, что какой-нибудь брат или жених спрашивал меня в упор, какое мне-то до этого дело. С тех пор я врач, и только врач… слабые хрипы справа вверху.
Он покончил с Иоахимом, сунул стетоскоп в карман халата и огромной левой ручищей протер глаза, как обычно делал, когда скисал и впадал в меланхолию. Почти машинально и время от времени зевая, оттого, что ему было не по себе, отбарабанивал он привычные фразы:
– Ну, Цимсен, выше голову! Не все еще так, как должно быть по учебникам физиологии, кое-где еще не ладится, и с Гафки у вас еще не все благополучно, даже на один балл больше, чем было недавно, – у вас шесть сейчас, только не напускайте на себя мировую скорбь по этому случаю. Когда вы прибыли сюда, дело обстояло куда хуже, в этом я могу дать вам расписку, и если вы пробудете здесь еще, скажем, до генваря – февраля – знаете вы, что раньше говорили «генварь», а не «январь»? И это куда благозвучнее. Отныне я решил говорить только «генварь»…
– Господин гофрат… – начал было Иоахим. Он стоял обнаженный до пояса, сдвинув каблуки и выпятив грудь, с самым что ни на есть решительным видом, и лицо его точно так же пошло пятнами, как в тот раз, когда Ганс Касторп при известных обстоятельствах подумал, что так вот, значит, бледнеют люди загорелые.
– Если вы, – ничего не замечая, продолжал Беренс, – этак еще с полгодика исправно будете нести здешнюю службу, то станете молодец молодцом, тогда завоевывайте хоть Константинополь. Таким Геркулесом, что Геркулесовы столпы[63] у англичан заберете…
Кто знает, как долго еще пребывавший в мрачности гофрат продолжал бы нести подобную околесицу, если бы непоколебимо твердый вид Иоахима, его очевидное намерение высказаться, и мужественно высказаться, не сбили его.
– Господин гофрат, – сказал молодой человек, – разрешите доложить: я решил уехать.
– Вот как? Так вы собираетесь стать разъездным агентом. А я-то думал, что вы хотели со временем, когда окончательно выздоровеете, стать офицером.
– Нет, господин гофрат, мне необходимо через восемь дней выбыть.
– Я не ослышался, вы бросаете винтовку, хотите удрать? Это же дезертирство.
– Нет, я придерживаюсь иного мнения на этот счет, господин гофрат. Мне пора в полк.
– И это невзирая на то, что через полгода я даю вам слово отпустить вас, а сейчас отпустить никак не могу?
Иоахим держался все более подтянуто. Он убрал живот и сдавленным голосом отчеканил:
– Я здесь уже более полутора лет, господин гофрат. Я не могу больше ждать. Вначале, господин гофрат, вы говорили: три месяца. Потом курс лечения все растягивался то на три месяца, то на полгода, а я все еще не здоров.
– Разве это моя вина?
– Нет, конечно, господин гофрат. Но я не могу больше ждать. Мне нельзя дожидаться здесь окончательной поправки, если я хочу еще попасть в полк. Нужно ехать сейчас. Мне понадобится время на экипировку и прочее.
– Ваши родные поставлены в известность? Вы получили их согласие?
– Моя мать согласна. Все улажено. Я зачислен корнетом в семьдесят шестой полк и к первому октября должен явиться по назначению.
– Несмотря на риск? – спросил Беренс, взглянув на него своими налитыми кровью глазами.
– Так точно, господин гофрат, – дрожащими губами отвечал Иоахим.
– Ну, что ж, хорошо, Цимсен. – Гофрат изменил тон, сделался покладистее, как-то весь обмяк. – Хорошо, Цимсен. Можете стать вольно! Поезжайте с богом. Я вижу, вы знаете, чего хотите, и берете это дело на себя, и, конечно, это в конце концов ваше дело, а не мое, с той самой минуты, как вы берете его на себя. Каждый сам себе хозяин. Вы едете без гарантии, я ни за что не ручаюсь. Но, даст бог, все может и обойтись. Солдатская служба на вольном воздухе. Весьма возможно, что она пойдет вам на пользу и вы выкарабкаетесь.
– Слушаюсь, господин гофрат.
– Ну, а вы, молодой человек из штатских? Вы тоже с ним?
Теперь приходилось отвечать Гансу Касторпу. Он стоял такой же бледный, как год назад при осмотре, в результате которого был принят в санаторий, стоял на том же самом месте, что и тогда, и снова совершенно отчетливо было видно, как сердце его пульсирует между ребрами. Он сказал:
– Это будет целиком зависеть от вашего заключения, господин гофрат.
– Моего заключения? Ладно! – И, протянув его к себе за руку, Беренс стал выслушивать и выстукивать. Он не диктовал. Все шло довольно быстро. Кончив, он сказал:
– Можете ехать.
Ганс Касторп, заикаясь, пролепетал:
– Как… то есть? Разве я здоров?
– Да, здоровы. Об очажке в левой верхушке больше не приходится говорить. Ваша температура не имеет к нему никакого отношения. Откуда она, даже затрудняюсь вам сказать. Полагаю, что она ровно ничего не означает. Так что с моей стороны препятствий нет, можете ехать.
– Но… господин гофрат… Может быть, это вы сейчас не всерьез говорите?
– Не всерьез? То есть как? Вы что думаете? Обо мне в частности думаете, хотел бы я знать? За кого вы меня принимаете? За содержателя дома свиданий?
Он был в ярости. Синее лицо гофрата сделалось багрово-фиолетовым от прилива крови, уголок верхней губы под коротко подстриженными усиками вздернулся еще выше, обнажив зубы, и он уже пригибал голову, как бык, выпучив на Ганса Касторпа свои слезящиеся, налитые кровью глаза.
– Я вам не позволю! – кричал он. – Во-первых, я никакой не содержатель, не владелец! Я здесь служащий! Я врач! Только врач, понимаете вы?! А не какой-нибудь сводник! Не какой-нибудь синьор Аморозо[64] с виа Толедо из прекрасного Неаполя, понимаете вы?! Я слуга страждущего человечества! А если вы изволите иметь иное представление о моей персоне, то можете оба отправляться к чертовой бабушке, в болото или к свиньям, по собственному усмотрению! Скатертью дорожка!
Большими шагами направился он к двери, ведущей в приемную рентгеновского кабинета, рванул ее и с шумом за собой захлопнул.
Братья растерянно обернулись к доктору Кроковскому, но тот уткнулся носом в свои карточки и, казалось, весь ушел в них. Они наспех кое-как оделись. На лестнице Ганс Касторп сказал:
– Вот ужас-то! Ты когда-нибудь видел его таким?
– Нет, таким еще никогда. Он разбушевался, как большой генерал. В таких случаях ничего другого не остается, как соблюдать безукоризненную корректность и дать грозе пронестись. Конечно, он раздражен этой историей с Полипраксиосом и Нольтинг. Но ты заметил, – продолжал Иоахим, и видно было, как радость одержанной победы подымается в нем и распирает ему грудь, – ты заметил, как он сразу сбавил тон и капитулировал, когда понял, что я не шучу? Нужно только твердо держаться, не дать себя сбить. Теперь у меня имеется какое-никакое, а разрешение – он сам сказал, что я скорее всего выкарабкаюсь и через неделю двинемся… через три недели я буду в полку, – поправился он, выводя из игры Ганса Касторпа и относя вырвавшиеся в радостном возбуждении слова только к самому себе.
Ганс Касторп промолчал. Он ничего не сказал ни о полученном Иоахимом «разрешении», ни о разрешении, данном ему, которое тоже не мешало обсудить. Он готовился к процедуре лежания, сунул градусник в рот, быстрыми уверенными движениями, с искусством, доведенным до совершенства, в полном соответствии с освященной здесь практикой, о которой и понятия не имеют на равнине, завернулся в оба одеяла верблюжьей шерсти и замер, укутанный и неподвижный как колода, в удобном своем шезлонге среди холодной сырости надвигавшегося раннего осеннего вечера.
Низко нависли дождевые тучи, фантастический флаг был спущен, кое-где на мокрых ветках большой пихты еще лежали клочья снега. Снизу, с общей галереи, откуда более года назад впервые до его слуха донесся голос господина Альбина, подымался приглушенный шум болтовни, а лицо и руки принимавшего процедуру все сильнее коченели от мозглого холода. Но он к этому привык и был благодарен здешнему, давно ставшему единственно для него мыслимым положению в жизни за дарованное ему право лежать в укромном уголке и размышлять обо всем.
Итак, решено, Иоахим уезжает. Радамант его отпустил – не rite, не как вполне здорового, но все же отпустил, отчасти даже одобрив проявленную им твердость духа. Он отправится вниз по узкоколейке в Ландкварт, в Романсхорн, пересечет широкое бездонное озеро, по которому в балладе проскакал всадник, и через всю Германию поедет домой. Он будет жить там, в равнинном мире, среди людей, которые и понятия не имеют о том, как следует жить, ничего не знают о градусниках, об искусстве заворачивания в одеяла, о спальных мешках, о троекратных обязательных прогулках, о… даже трудно сказать, трудно перечислить все, чего люди там не знают, но мысль, что Иоахим, после проведенных здесь наверху полутора с лишним лет, вынужден будет жить среди непосвященных – мысль эта, относившаяся к одному лишь Иоахиму и разве что очень отдаленно, в виде некоего допущения приложимая и к нему, Гансу Касторпу, – привела его в такое расстройство, что он зажмурил глаза и замахал рукой. «Невозможно, невозможно», – пробормотал он.
Но если это невозможно, – значит, он должен остаться и жить здесь наверху один, без Иоахима? Да, должен. До каких же пор? До тех пор, пока Беренс не отпустит его как вполне здорового, не отпустит всерьез, а не так, как сегодня. Но, во-первых, срок этот был настолько неопределенен, что перед его необозримостью оставалось только развести руками, как это в свое время сделал Иоахим, и, во-вторых, спрашивалось: станет ли тогда невозможное более возможным? Скорее напротив. И если до конца быть честным с самим собой, то сейчас ему подавали руку помощи, сейчас, когда невозможное было не совсем невозможным, каким оно станет впоследствии, ему предлагались опора и вожатый, благодаря самовольному отъезду Иоахима, на трудном пути вниз, на равнину, который ему одному ввек не отыскать. О, как гуманист и педагог станет призывать его ухватиться за руку и пойти за вожаком, когда гуманист и педагог узнает о такой возможности! Ведь господин Сеттембрини был глашатаем идей и сил, к которым, конечно, стоило прислушаться, впрочем не безоговорочно и не только к ним, но и к другим идеям и силам. Да и с Иоахимом обстояло так же. Иоахим солдат, и этим все сказано. Он уезжает почти в то самое время, когда пышногрудая Маруся должна возвратиться (ее приезда ждали, как известно, к первому октября), тогда как ему, штатскому Гансу Касторпу, отъезд потому и представлялся невозможным, что он должен дождаться Клавдии Шоша, о возвращении которой пока даже и разговора нет. «Я придерживаюсь иного мнения», – сказал Иоахим, когда Радамант обвинил его в дезертирстве, что в отношении Иоахима представлялось лишь пустопорожней болтовней со стороны хандрившего гофрата. Но для него, для штатского, дело обстояло иначе. Для него – о, несомненно, так это и было! Ведь чтобы вырвать из сумбура чувств эту мысль, он и лег сегодня на балкон в мокрядь и холод, – для него и впрямь было бы дезертирством, воспользовавшись оказией, самовольно или полусамовольно бежать на равнину, бежать от чувства растущей ответственности, которая в нем всякий раз возникала при созерцании высшей формы органической жизни, именуемой Homo Dei, дезертирством и изменой по отношению к тяжелым и жгучим, непомерным для его слабых сил и все же волнующе-блаженным обязанностям «править», каким он предавался здесь, на балконе, и среди цветущей синевы своего уголка возле мостика.
Он выхватил изо рта градусник, выхватил с такой поспешностью, как лишь однажды в жизни, когда впервые пользовался этим изящным инструментом, проданным ему старшей сестрой, и с таким же нетерпением, как тогда, склонился над ним. Меркурий здорово взлетел, он показывал тридцать семь и восемь, даже почти девять.
Ганс Касторп сбросил с себя одеяла, вскочил и быстро прошелся по комнате, к двери в коридор и обратно. Потом, снова заняв горизонтальное положение, тихонько окликнул Иоахима и осведомился о его кривой.
– Я больше не меряю, – ответил Иоахим.
– А у меня темпы, – сказал Ганс Касторп, коверкая слово на манер фрау Штер; на что Иоахим за своей стеклянной перегородкой ничего не ответил.
И позже Иоахим ничего не сказал ни в этот день, ни в следующий, не пытался завести разговор о планах и намерениях брата, которые, при краткости назначенного к отъезду срока, должны были сами собой обнаружиться в действиях или в бездействии, как оно и случилось, а именно в бездействии. Видимо, Ганс Касторп придерживался воззрений квиетистов, считавших, что действовать значит гневить бога, которому одному угодно действовать. Во всяком случае, вся активность Ганса Касторпа в эти дни свелась к посещению Беренса, к повторной беседе, о которой Иоахим был осведомлен, а ход и результаты которой знал наперед до мелочей. Двоюродный брат заявил, что берет на себя смелость более доверять прежним многократным советам гофрата оставаться здесь до полного излечения, с тем чтобы не было больше надобности возвращаться, чем словам, сказанным сгоряча в минуту раздражения; ведь у него 37,8 и он не может считать себя отпущенным rite, и если недавнее заключение гофрата не следует понимать как своего рода изгнание, меру, к которой он, насколько ему известно, не подавал повода, то по зрелом размышлении и действуя сознательно в противоположность Иоахиму Цимсену, он решил еще остаться здесь, пока окончательно не избавится от инфекции. На что гофрат скорее всего ответил: «Bon[65], вот и прекрасно!» и «Какие же тут могут быть обиды!» и «Это самое разумное», и: он сразу определил, что из Ганса Касторпа получится более талантливый пациент, чем из того непоседы-вояки. И так далее и тому подобное.
Так примерно, по весьма недалеким от истины предположениям Иоахима, протекала беседа, и потому он ничего не сказал, лишь молча установил, что Ганс Касторп со своей стороны не предпринимает никаких шагов к отъезду. А у Иоахима хватало и своих забот! Где уж ему было в эти дни думать о судьбе остающегося двоюродного брата. Не трудно себе представить, какая буря бушевала у него в груди. Быть может, даже к лучшему, что он перестал измерять температуру; разбил градусник, якобы нечаянно уронив его; в том состоянии, в каком находился Иоахим, то пылая пунцовым румянцем, то бледнея от радости и возбуждения, его температура способна была хоть кого сбить с толку. Он больше не мог лежать; весь день шагал он взад и вперед по комнате, как установил Ганс Касторп, и это в те самые часы, четыре раза в день, когда весь «Берггоф» замирал в горизонтальном положении. Полтора года! И вдруг вниз, на равнину, домой, вдруг на самом деле в полк, пусть даже с частичного разрешения! Это во всех отношениях не малость, Ганс Касторп прекрасно понимал беспокойно шагавшего по комнате двоюродного брата. Восемнадцать месяцев, круглый год и еще полгода провести здесь наверху, глубоко сжиться, войти в колею этого распорядка, этого нерушимого ритма жизни, которому он семижды семьдесят дней всякий час подчинялся, – и вдруг отправиться домой, на чужбину, к непосвященным! Какие только трудности не придется ему преодолеть, прежде чем он там акклиматизируется? Можно ли удивляться, если волнение Иоахима вызывалось не одной лишь радостью, но и страхом, а может быть, его гнала из угла в угол этой комнаты боль разлуки с давно привычным и знакомым? Не говоря уже о Марусе.
Но радость перевешивала. От избытка сердца глаголют уста, и Иоахим не умолкая говорил о себе самом, предоставив брата собственной судьбе. Он говорил о том, каким обновленным и свежим покажется ему мир: и жизнь, и сам он, и время – каждый день и каждая минута. Снова время станет для него надежным мерилом, впереди длинные полновесные годы юности. Он говорил о своей матери, сводной тетке Ганса Касторпа, у которой были такие же мягкие черные глаза, как у Иоахима, и которую он не видел за все время своего пребывания в горах. Она тоже с месяца на месяц, с полугодия на полугодие откладывала свою поездку и так и не выбралась к сыну. Говорил с восторженной улыбкой о присяге, которую вскоре принесет, – церемония совершалась у полкового знамени в торжественной обстановке, присягали именно знамени.
– Неужели? – спросил Ганс Касторп. – Это ты серьезно? Палке? Какой-то тряпке?
– Да, конечно, а в артиллерии орудию, как символу.
– Довольно-таки романтический обычай, – заметил на это штатский. – Я сказал бы даже сентиментально-фанатический, – на что Иоахим гордо и радостно кивнул головой.
Он был поглощен приготовлениями к отъезду, оплатил последний счет в конторе, чуть ли не за три дня до назначенного себе срока начал укладывать чемоданы. Уложил и летние и зимние вещи, а спальный мешок и одеяла верблюжьей шерсти попросил портье зашить в мешковину: они могут пригодиться ему на маневрах. Он уже делал прощальные визиты. Побывал у Нафты и Сеттембрини – на сей раз один, двоюродный брат не пошел с ним и даже не поинтересовался, как Сеттембрини отнесся к предстоящему отъезду Иоахима и своему не предстоящему отъезду, и что сказал по этому поводу: только ли «вот, вот», или «так, так», или и то и другое, или «poveretto», – ему это, видимо, было совершенно безразлично.
Но вот наступил канун отъезда, и Иоахим в последний раз отдал должное всему санаторскому ритуалу, каждой трапезе, каждой процедуре лежания, каждой обязательной прогулке, простился со старшей сестрой и врачами. И наконец забрезжило утро знаменательного дня; глаза Иоахима лихорадочно блестели и руки были холодны как лед, когда он явился к утреннему завтраку: он не спал всю ночь, почти не притронулся к еде, стремительно вскочил со стула, лишь только карлица известила его, что вещи погружены, и торопливо простился с соседями по столу. Фрау Штер, желая ему счастливого пути, прослезилась, – это были легко льющиеся несоленые слезы человека необразованного, – и немедля, покачивая головой и вращая рукой с растопыренными пальцами, стала за спиной Иоахима делать зловещие знаки, самым вульгарным образом выражая учительнице свои сомнения относительно обоснованности подобного отъезда и благополучного его исхода. Ганс Касторп, допивавший свою чашку кофе стоя, чтобы сразу же последовать за Иоахимом, все это видел. Надо было еще раздать чаевые, ответить в вестибюле на официальное прощальное приветствие представителя дирекции. Как всегда, нашлось немало охотников поглядеть на отъезд: тут была и фрау Ильтис со «стерилетом», и фрейлейн Леви с лицом цвета слоновой кости, и припадочный Попов с невестой. Они махали платочками вслед экипажу, который, шурша по гравию приторможенным колесом, спускался вниз по главной аллее. Иоахиму поднесли розы. Он был в шляпе. Ганс Касторп – с непокрытой головой.
Утро выдалось великолепное, первое солнечное утро после долгого ненастья. Шьяхорн, Зеленые башни, купол Дорфберга удивительно явственно выступали на глубокой лазури, и Иоахим не мог оторвать от них взгляда. Даже обидно, заметил Ганс Касторп, что как раз к его отъезду установилась хорошая погода. Будто назло, куда легче расставаться неприветливым утром. На что Иоахим коротко возразил, что никакого облегчения ему не требуется, а погода как раз для маневров, лучшей и не пожелаешь для возвращения на равнину. А вообще они говорили мало. Все так сложилось для каждого из них и между ними, что им трудно было разговаривать. Кроме того, перед ними на козлах, рядом с кучером, торчал хромой служитель.
Высоко сидя и подскакивая на жестких подушках кабриолета, они оставили позади водопад и узкоколейку, выехали на неравномерно застроенную улицу, тянувшуюся вдоль железной дороги, и остановились на замощенной площади перед помещением станции «Деревня», мало чем отличавшейся от сарая. И тут Ганс Касторп с ужасом все припомнил. С того дня, когда он приехал сюда в надвигавшихся сумерках тринадцать месяцев назад, он ни разу не был на станции.
– Ведь это же я здесь высадился, – неизвестно зачем сказал он, на что Иоахим ответил только:
– Да-да, вот именно, – и стал рассчитываться с кучером.
С обычной расторопностью хромой позаботился обо всем, о билетах, багаже. Они стояли друг подле друга на платформе у крохотного поезда, возле обитого серым сукном купе, где Иоахим со своим пальто, портпледом и розами занял одно место.
– Ну, так валяй, приноси свою романтическую присягу, – сказал Ганс Касторп.
И Иоахим ответил:
– Будет сделано.
О чем же было говорить еще? Каждый просил другого кланяться: кланяться тем, кто был внизу, и тем, кто остался наверху. Потом Ганс Касторп уже только чертил тростью по асфальту. А когда пассажирам предложили занять свои места, он вздрогнул и взглянул на Иоахима, а тот взглянул на него. Они подали друг другу руки. Ганс Касторп неопределенно улыбался, а взгляд Иоахима стал серьезным и грустно-умоляющим.
– Ганс! – сказал он. Великий боже, что могло быть тягостнее? Он назвал Ганса Касторпа по имени! Не просто сказал ему «ты» или «старина», как они это всю жизнь делали, а наперекор всякой благовоспитанной сдержанности, тягостно-экзальтированно назвал его по имени! – Ганс! – сказал он, со страхом и мольбой сжимая руку двоюродному брату, и тот заметил, что у не спавшего всю ночь, охваченного дорожной лихорадкой, взволнованного Иоахима трясется голова, как у него самого, когда он «правил». – Ганс, – заклинал он, – приезжай поскорее! – И вскочил на подножку. Дверца захлопнулась, раздался свисток, загремели буфера, паровозик дернул и поезд тронулся. Уезжающий махал из окна шляпой, остающийся – рукой. С чувством щемящей тоски долго стоял он один на платформе. Потом медленно двинулся в обратный путь, той самой дорогой, по которой более года назад вел его Иоахим.
Отбитая атака
Колесо вращалось. Стрелка времени подвигалась вперед. Кукушкины слезки и водосбор отцвели, отцвела и дикая гвоздика. Темно-синие звездочки горечавки и бледные ядовитые безвременницы снова показались в сырой траве, а леса порыжели. Осеннее равноденствие осталось позади, близился праздник поминовения усопших, а для более искушенных расточителей времени первое воскресенье поста, самый короткий день в году и рождество. Но все еще стояли чудесные осенние дни – вроде того дня, когда двоюродные братья осматривали полотна гофрата.
После отъезда Иоахима Ганс Касторп уже не сидел больше за столом фрау Штер – тем самым столом, откуда «отправился в мир иной» доктор Блюменколь и сидя за которым Маруся заглушала взрывы беспричинной веселости пахнувшим апельсинными духами платочком. Там сидели теперь новые, совершенно незнакомые больные. А нашему приятелю, на два с половиной месяца продвинувшемуся в глубь своего второго года, дирекция отвела другое место, за соседним столом, стоявшим наискось от старого, ближе к левой двери на балкон, короче говоря за столом Сеттембрини. Да, на месте, покинутом гуманистом, сидел теперь Ганс Касторп, опять в конце стола, против докторского стула, приберегаемого за всеми семью столами для тура гофрата и его фамулуса.
Там, вверху стола, слева от медицинского председательского места, восседал на горе подушек горбатый фотограф-любитель из Мексики – он не знал ни одного языка, кроме испанского, и застывшим выражением лица напоминал глухого. Рядом с ним помещалась увядшая старая дева из Трансильвании, та самая, что всем и каждому без умолку рассказывала, на что однажды уже жаловался Сеттембрини, о своем зяте, хотя ни один человек его не знал, да и знать не хотел. В определенные часы дня она появлялась у балюстрады своего балкончика и, закинув за голову тросточку с рукояткой из черненого серебра, которой пользовалась также на обязательных прогулках, вздымала в гигиеническом глубоком дыхании плоскую, как тарелка, грудь. Место напротив занимал чех, которого все звали господином Венцелем, потому что настоящей его фамилии никто не в состоянии был выговорить. В свое время господин Сеттембрини иной раз пытался одним духом выпалить немыслимое сочетание согласных, из которых оно состояло, – разумеется, не всерьез, а лишь затем, чтобы забавы ради продемонстрировать благородную неспособность человека латинской культуры прорваться сквозь этот варварский частокол звуков. Жирный, как боров, и поразительно прожорливый даже по сравнению со здешними обитателями, чех тем не менее уже четыре года твердил, что непременно умрет. По вечерам, когда в гостиной собиралось общество, он иногда бренчал на перевязанной лентой мандолине песни своей родины и рассказывал о своих свекловичных полях, где работают одни только красивые девушки. Ближе к Гансу Касторпу, по обе стороны стола, сидели господин и госпожа Магнус, у которых был свой пивоваренный завод в Галле. Атмосфера грусти обволакивала эту пару, ибо и тот и другой теряли важные для жизни продукты обмена, господин Магнус – сахар, а фрау Магнус – белок. Бледная фрау Магнус всегда казалась подавленной, словно для нее не существовало и проблеска надежды; духовным убожеством веяло от нее, как из затхлого пустого погреба, и, быть может, еще нагляднее, чем у невежественной Штер, в ней проявлялось то сочетание болезни и глупости, которое так коробило Ганса Касторпа, за что ему уже однажды пенял Сеттембрини. Супруг ее был живее и общительнее, хотя по-прежнему вел все те же разговоры, которые когда-то выводили из себя итальянца. Вдобавок он легко приходил в ярость и часто вступал в жаркие словесные перепалки с господином Венцелем из-за политики или по другой какой-нибудь причине. Его возмущали национальные претензии чеха, к тому же оказавшегося врагом спиртных напитков и во всеуслышание морально осуждавшего профессию пивовара, тогда как тот, весь багровый, с пеной у рта доказывал неоспоримую полезность напитка, от которого зависело все его благосостояние. Прежде Сеттембрини с присущим ему юмором умел в таких случаях сгладить острые углы, но занявший место итальянца Ганс Касторп был менее ловок, да и не обладал достаточным авторитетом, чтобы его заменить.
Лишь с двумя соседями по столу Ганса Касторпа связывали более близкие отношения: один из них был сидевший слева от него А.К.Ферге из Петербурга, благодушный страдалец, любивший, цедя слова сквозь пышную бахрому рыжевато-каштановых усов, поговорить о производстве галош и о далеких окраинах российской империи, полярном круге и вечной зиме на Нордкапе; с ним Ганс Касторп иногда даже отправлялся на обязательные увеселительные прогулки. Другой – он сидел вверху стола, напротив горбатого мексиканца, и увязывался за ними при всяком удобном случае – был плешивый мангеймец с гнилыми зубами, тот, чей взгляд с мрачным вожделением неотступно следовал за привлекательной фигурой мадам Шоша; Везаль, Фердинанд Везаль по фамилии и коммерсант по профессии, он с карнавального вечера пытался сблизиться с Гансом Касторпом.
Он добивался его дружбы с упорством и смирением, с подобострастной преданностью, вызывавшей трепет отвращения в Гансе Касторпе, который понимал сложную подоплеку этой преданности, но все же считал себя обязанным отвечать на нее по-человечески. Зная, что достаточно слегка нахмурить брови, чтобы слабодушный мангеймец тотчас съежился и отпрянул, спокойно терпел он угодливые заискивания Везаля, пользовавшегося любым предлогом услужить ему и подольститься, терпел, когда тот на обязательных прогулках нес за ним пальто – он нес его чуть ли не с благоговением, перекинув через руку, – терпел, наконец, и рассуждения мангеймца, всегда мрачные. Везаль имел пристрастие ставить такие, например, вопросы: есть ли смысл объясняться в любви женщине, которую любишь, но которая знать тебя не хочет – безнадежное любовное признание, словом. Как господа считают? Он лично считал, что, несомненно, имеет, что оно сулит безграничное счастье. Если даже акт признания вызывает одну лишь гадливость и таит в себе много унизительного, то он на краткий миг все же устанавливает какую-то любовную близость с предметом вожделения, понуждает его к интимности, вовлекает в стихию своей страсти, и если на этом дело кончается, все же вечная утрата часто с лихвой окупается мгновением исступленного блаженства, ибо всякое признание означает насилие, и чем сильнее ты возбуждаешь отвращение, тем полнее испытываешь блаженство… Но тут Везаль пугался при виде омрачавшейся физиономии Ганса Касторпа, что, впрочем, скорее вызывалось присутствием благодушного Ферге, которому, как тот сам не раз подчеркивал, чужды были разговоры о высоких материях, нежели моральным осуждением со стороны нашего героя. Это можно заключить хотя бы из того, что, когда бедняга Везаль однажды вечером, оставшись наедине с молодым человеком, пристал к нему с жалкими словами, умоляя открыть ради бога ему во всех подробностях свои впечатления и переживания в ночь после карнавала, Ганс Касторп, которого мы не собираемся представлять ни лучше ни хуже, чем он был в действительности, со спокойной сердечностью снизошел к его просьбе, отнюдь не сводя эту разыгравшуюся под сурдинку сцену, как может подумать читатель, к чему-то низменно-легкомысленному. Тем не менее у нас имеются основания избавить и его и нас от ее изложения, добавим лишь, что Везаль после того с удвоенной преданностью носил за мягкосердечным Гансом Касторпом его пальто.
Таковы были новые соседи по столу Ганса Касторпа. Место справа от него пустовало: оно было занято лишь временно, всего лишь несколько дней, таким же постояльцем, каким явился он сюда некогда сам, приехавшим его навестить родственником, гостем с равнины, можно даже сказать послом оттуда, короче говоря дядей Ганса Касторпа – Джемсом Тинапелем.
Это было необыкновенно и потрясающе, с ним рядом сидел представитель и посланец родины, принесший в складках добротного своего английского костюма еще свежий аромат былой, канувшей в вечность, старой жизни, другого, лежащего где-то там в глубине подлунного мира. Но этого следовало ожидать. Ганс Касторп втихомолку давно готовился к подобному вторжению с равнины и даже заранее наметил лицо, которому в самом деле и была поручена рекогносцировка – что, впрочем, не представляло труда, поскольку вечно находившийся в плавании Питер вряд ли мог приниматься в расчет, а о двоюродном деде доподлинно было известно, что его и на аркане не затащишь в эти края, опасные для него своим атмосферическим давлением. Нет, только Джемсу домашние могли поручить разузнать все о пропавшем; и Ганс Касторп давно уже его поджидал. Но с тех пор как Иоахим возвратился один и в семейном кругу рассказал о здешнем положении вещей, атаки следовало ждать со дня на день, с часу на час, так что Ганс Касторп нисколько не растерялся, когда не далее чем через две недели после отъезда Иоахима портье вручил ему телеграмму, в которой, как он и предчувствовал, сообщалось о приезде Джемса Тинапеля. Он едет по делам в Швейцарию и решил, воспользовавшись случаем, прокатиться к племяннику в горы. Послезавтра он будет здесь.
«Прекрасно, – подумал Ганс Касторп. – Великолепно, – подумал он. И даже про себя добавил что-то вроде: – Милости просим!» «Если бы ты только знал!» – мысленно говорил он приближающемуся гостю. Словом, он принял известие очень спокойно, сообщил гофрату Беренсу и дирекции, чтобы дядюшке приготовили комнату – комната Иоахима все еще пустовала, – и через день, к тому примерно времени, когда прибыл сам, то есть вечером, этак в восьмом часу, – уже стемнело, – в том же жестком и тряском экипаже, в котором он провожал Иоахима, поехал на станцию «Деревня» встречать посланца равнины, собиравшегося самолично во всем разобраться.
С кирпично-красным лицом, без шляпы и без пальто, стоял он на краю платформы, когда подошел маленький поезд, стоял под окном купе своего родственника, предлагая ему не стесняться и поскорее выйти, он-де уже прибыл. Консул Тинапель – он был вице-консулом, успешно замещая отца и в этой почетной, но обременительной для старика должности, – зябко ежась в зимнем своем пальто, – октябрьский вечер и вправду был очень холодным, чтобы не сказать морозным, а к утру уж наверное подморозит, – сам не зная почему вышел из купе обрадованно-взволнованный, но выражал свои чувства в несколько скупой, церемонной форме благовоспитанного немца с северо-запада; приветствуя племянника, он подчеркнул, что рад видеть его таким цветущим и, предоставив хромому позаботиться о чемоданах, вместе с Гансом Касторпом взгромоздился на высокое и жесткое сиденье дожидавшегося их на площади экипажа. Под густо усыпанным звездами небом они тронулись в путь, и Ганс Касторп, закинув голову и подняв в воздух указательный палец, пояснил двоюродному дяде небесные поля, словом и жестом охватывая одно сверкающее созвездие за другим и называя по именам планеты – меж тем как тот, больше занятый своим спутником, нежели космосом, внутренне недоумевал: все это, конечно, так, и не обязательно быть сумасшедшим, чтобы сразу, тут же, с места в карьер, заговорить о звездах, но все же, казалось, нашлось бы немало более близких предметов для разговора. С каких это пор он стал так хорошо разбираться в астрономии, спросил он Ганса Касторпа, и молодой человек ответил, что это плод вечернего лежания на балконе весной, летом, осенью и зимой. Как? Он лежит на балконе ночью? Ну да. И консул будет лежать. Ему ничего другого не останется делать.
– Конечно, бес-спорно, – поспешил согласиться несколько обескураженный консул. Подопечный его говорил бесстрастно и монотонно. В почти морозной свежести осеннего вечера он сидел рядом с ним без пальто и без шляпы.
– Ты разве не зябнешь? – спросил его Джемс; сам он продрог в своем зимнем пальто из толстого сукна и разговаривал как-то торопливо и связанно, едва удерживаясь, чтобы не залязгать зубами.
– Мы не зябнем, – коротко и бесстрастно отвечал Ганс Касторп.
Консул то и дело сбоку украдкой на него поглядывал. Ганс Касторп не справлялся о родных и знакомых дома. Когда Джемс передал ему поклоны оттуда, в частности от Иоахима, который уже в полку и так и светится от счастья и гордости, он спокойно поблагодарил, но сам не стал его расспрашивать о том, что делается на родине. Встревоженный чем-то неуловимым, он не сумел бы даже толком объяснить, причиной ли тому племянник, или же он сам, его собственное, вызванное поездкой, самочувствие, Джемс озирался по сторонам, тщетно стараясь разглядеть ландшафт высокогорной долины, затем глубоко вдохнул и выдохнул из себя воздух и провозгласил его превосходным. Еще бы, отвечал его спутник, недаром Давос славится на весь мир. Здешний воздух обладает прямо чудодейственными свойствами. Хотя он усиливает обмен, организм все же усваивает больше белка. Он излечивает болезни, которые каждый человек носит в себе в скрытом состоянии, но сначала как бы даже способствует их развитию, всячески подстегивая и подхлестывая организм, вызывает, так сказать, торжественную вспышку.
– Позволь, как то есть торжественную?
Вот именно. Разве тот никогда не замечал, что во всякой вспышке болезни есть что-то торжественное, что она представляет собой как бы праздник плоти?
– Конечно, бес-спорно, – поспешил заверить дядюшка, отбивая дробь нижней челюстью, и сообщил, что может провести здесь всего восемь дней, то есть неделю, дней семь значит, а может быть и шесть. А поскольку он, как уже сказано, находит, что Ганс Касторп удивительно окреп и хорошо выглядит после своего затянувшегося против всяких ожиданий пребывания на курорте, племянник, надо думать, сразу же вместе с ним отправится вниз домой.
– Ну, ну, зачем же так сразу идти напролом, – сказал Ганс Касторп. Дядя Джемс рассуждает как житель равнины. Ему надо сперва здесь немного оглядеться, привыкнуть, тогда он иначе станет смотреть на вещи. Все дело в полной поправке, это сейчас главное, а Беренс недавно накинул ему еще полгода. Тут дядя назвал племянника «мой мальчик» и спросил, уж не рехнулся ли он.
– Ты что, совсем рехнулся? – спросил он. – Растянул каникулы на целый год с четвертью и теперь собираешься отдыхать еще полгода! Господи боже мой, разве можно терять столько времени!
Тут Ганс Касторп, обратив лицо к звездам, коротко и бесстрастно рассмеялся. Да, время! Что касается этого, человеческого времени, то Джемсу придется пересмотреть свои привезенные снизу понятия, прежде чем он здесь наверху вздумает рассуждать о времени. Завтра же утром он серьезно переговорит с господином гофратом относительно Ганса, пообещал Тинапель.
– Непременно, непременно переговори, – сказал Ганс Касторп. – Он тебе понравится. Любопытный тип, эдакий развязный меланхолик. – И, указав на огни санатория «Шацальп», мимоходом рассказал о покойниках, которых спускают оттуда на санях.
Они поужинали в ресторане «Берггофа», но предварительно Ганс Касторп отвел гостя в комнату Иоахима, чтобы тот умылся и привел себя в порядок. Комнату выпарили Н2СО, сказал Ганс Касторп, не посмотрели на то, что это самовольный отъезд, и выпарили столь же основательно, как после совершенно другого ухода – исхода, exitus'a. Дядюшка пожелал узнать, что это значит.
– Жаргон, – пояснил племянник. – Словечки, которые у нас здесь в ходу! – сказал он. – Иоахим дезертировал, дезертировал к знамени, как это ни странно, такое тоже случается. Но поторопись, не то тебе не подадут ничего горячего.
И вот они сидели друг против друга в хорошо натопленном уютном ресторане, у окна на возвышении. Карлица расторопно им прислуживала, и Джемс заказал бутылку бургундского, которую принесли в плетеной корзиночке. Они чокнулись, и сразу же приятное тепло разлилось у них по всему телу. Младший рассказывал о жизни здесь наверху в разные времена года, об отдельных примечательных лицах в этом зале, о пневмотораксе, разъяснив, что это значит, на примере благодушного Ферге, и подробно остановился на ужасах плеврального шока, не забыл упомянуть о «трехцветных обмороках» господина Ферге, сопровождавшихся галлюцинациями обоняния, и о вырвавшемся у него при коллапсе взрыве непристойного смеха. Ганс Касторп один поддерживал разговор. Джемс ел и пил, по обыкновению, много, а тут у него с дороги и от перемены воздуха еще сильнее разыгрался аппетит. Однако он время от времени прерывал свое занятие – сидел с набитым ртом, забывая прожевать кусок, держа застывшие в неподвижности нож и вилку под тупым углом над тарелкой, и во все глаза смотрел на Ганса Касторпа; он, видимо, даже этого не сознавал, а племянника это тоже, очевидно, нисколько не смущало. На поросших жидковатыми белокурыми волосами висках консула Тинапеля обозначились вздувшиеся вены.
О доме разговора не было, ни о лично-семейных, ни о городских, ни о коммерческих делах, ни о фирме «Тундер и Вильмс» (судостроительные верфи, машиностроительный завод, котельные мастерские), которая все еще ждала молодого практиканта, что, понятно, ни в коей мере не составляло единственной заботы и занятия достопочтенной фирмы, так что поневоле возникал вопрос, ждет ли она его еще вообще. Правда, Джемс Тинапель по пути сюда в кабриолете и позднее у себя в комнате пытался коснуться всех этих предметов, но они падали наземь, чтобы больше уже не подняться, натолкнувшись на спокойное, непреклонное и ничуть не притворное безразличие Ганса Касторпа, как на непроницаемую броню душевной неуязвимости, которая весьма напоминала его нечувствительность к холоду осеннего вечера, его слова: «Мы не зябнем», – что, быть может, и заставляло консула время от времени так пристально смотреть на него. Разговор шел о старшей сестре, о врачах, о лекциях доктора Кроковского, на одной из которых Джемс будет присутствовать, если пробудет здесь неделю. Откуда племянник взял, что дядюшка захочет присутствовать на лекции? Ниоткуда. Ганс Касторп сам это заключил и предрешил с такой спокойной уверенностью, что даже самая мысль не пойти на лекцию должна была показаться дикой и противоестественной, и дядя поспешным «конечно, бес-спорно» постарался отвести от себя малейшую тень подозрения в том, что он способен замыслить такую крамолу. В этом заключалась та сила, смутное, но властное ощущение которой безотчетно заставляло господина Тинапеля смотреть на племянника – в данную минуту с разинутым ртом, ибо нос ему заложило, хотя никакого насморка, по разумению консула, у него не наблюдалось. Он слушал, как родственник рассказывал о болезни, представлявшей общий для всех здесь профессиональный интерес, и о восприимчивости к ней; о собственном его, Ганса Касторпа, скромном, но затяжном случае, о раздражающем действии бацилл на клетки бронхов и легочных альвеол, об образовании бугорков-туберкул и возникновении дурманящих растворимых токсинов, о распаде клеток и казеозном процессе, который может обернуться по-всякому, то ли приведет к обызвествлению и прорастанию соединительной тканью, что приостановит болезнь, то ли разовьется дальше, размягчая все новые участки и образуя каверны, пока окончательно не разрушит легкие. Он услышал о скоротечной, галопирующей форме этого процесса, которая за два-три месяца или даже несколько недель приводит к exitus'y, услышал о пневмотомии, с величайшим искусством производимой гофратом, о резекции легких, – эту операцию завтра или послезавтра предполагают сделать недавно прибывшей тяжелобольной, очаровательной или некогда очаровательной шотландке, страдающей gangraena pulmonum, гангреной легких, ее точит черно-зеленая зловонная гниль, и она целыми днями вдыхает распыленную карболовую кислоту, чтобы от отвращения к себе самой не потерять рассудок, – и вдруг, совершенно неожиданно для себя, консул, к величайшему своему стыду, прыснул. Прыснул со смеху, правда тут же в ужасе опомнился и сдержался, закашлял и вообще всячески попытался замять нелепую выходку – и в какой-то мере успокоился, а затем даже забеспокоился, увидев, что Ганс Касторп, который не мог не заметить злополучного происшествия, нисколько не смутился, вернее оставил его без внимания, и это вовсе не вызывалось чувством такта, деликатностью, воспитанием, а чистейшим безразличием, какой-то чудовищной терпимостью, словно он давно разучился удивляться подобного рода вещам. Потому ли, что консул хотел задним числом найти благовидный предлог и объяснение своей неожиданной веселости, по другим ли причинам, но вдруг ни с того ни с сего он завел чисто мужской клубный разговор об одной так называемой «шансонетке», певичке из кафе, совершенно умопомрачительной особе, подвизавшейся теперь в Санкт-Паули и вскружившей головы всему мужскому населению родной республики своим зажигательным темпераментом и прелестями, которые дядюшка попытался описать племяннику. Язык у консула немного заплетался, но это его не тревожило, поскольку ничем неколебимая терпимость собутыльника явно распространялась и на это явление. Однако с дороги его так нестерпимо клонило ко сну, что он уже в половине одиннадцатого предложил разойтись и немало внутренне досадовал, когда они в вестибюле встретились с легким на помине доктором Кроковским. Психоаналитик сидел у дверей одной из гостиных, читая газету, и племянник нашел нужным представить ему своего родственника. На бодрое приветствие доктора консул почти ничего не смог ответить, кроме «конечно, бес-спорно», и почувствовал большое облегчение, когда племянник, пообещав зайти за ним к восьми часам утра, чтобы вместе идти завтракать, удалился из продезинфицированной комнаты Иоахима через балкон в свою собственную, и он мог наконец, закурив на сон грядущий сигарету, повалиться на постель «дезертировавшего к знамени». Консул чуть было не наделал пожара, так как дважды засыпал с тлеющим окурком во рту.
Джемс Тинапель, которого Ганс Касторп называл то дядей Джемсом, то просто Джемс, был долговязый господин лет сорока, всегда носивший костюмы из одних только добротных английских тканей и белоснежное белье; у него были канареечно-желтые, уже начавшие редеть волосы, голубые, близко посаженные глаза, торчавшие соломенной щеточкой, подбритые усики и холеные руки. Вот уже несколько лет как он был супругом и отцом семейства, женившись на девушке из своего круга, такой же воспитанной и изысканной, как он, и с такой же негромкой, быстрой, колко-любезной манерой разговаривать. С ней и детьми он продолжал жить в просторной вилле старого консула на Гарвестехудской дороге и там, у себя на родине, производил впечатление энергичного, дальновидного и, при всей своей элегантности, холодного и практичного дельца, но стоило ему попасть в чуждое по нравам и обычаям окружение, к примеру во время поездок на юг страны, как у него появлялась какая-то торопливая предупредительность и учтиво-поспешная готовность к самоотречению, что, впрочем, проистекало отнюдь не из неуверенности в усвоенной им культуре, а, напротив, как раз из сознания ее замкнутости и цельности, а также из желания внести корректив в свои аристократические повадки, чтобы сохранить непринужденность даже среди немыслимых, на его взгляд, обычаев и нравов. «Конечно, разумеется, бесспорно!» – поспешно соглашался он, дабы кто-нибудь, боже упаси, не подумал, что господин Тинапель хоть и утончен, но ограничен. Прибыв сюда с вполне определенной практической миссией, а именно с наказом и с намерением самолично во всем разобраться и, как он про себя говорил, «вызволить» и доставить домой заблудшего молодого родственника, он все же хорошо понимал, что ему предстоит действовать на чужой территории, и с первого же мгновения не без опаски ощутил, что принявший его как гостя особый мирок со своими обычаями и нравами не только не уступает, но даже превосходит своей замкнутой самоуверенностью его собственный мир, так что деловая энергия консула тотчас же вступила в конфликт, и жесточайший, с его благовоспитанностью, ибо самонадеянность этого мирка оказалась поистине подавляющей.
Это самое и предвидел Ганс Касторп, когда на телеграмму консула хладнокровно про себя ответил: «Милости просим!»; однако не следует думать, будто он сознательно рассчитывал использовать против дядюшки непреклонную самонадеянность окружения. Для этого Ганс Касторп сам слишком уж тесно сросся с окружающей средой, и не он управлял ею при отражении вражеской атаки, а она им, так что все шло своим естественным путем, как бы само собой, начиная с того мгновения, когда что-то в облике племянника заставило дядю смутно ощутить всю безнадежность затеянного предприятия, и вплоть до конца и развязки, которую Ганс Касторп все же не преминул встретить или, вернее, проводить меланхолической улыбкой.
В первое же утро после завтрака, во время которого старожил познакомил приезжего с избранным кругом за своим столом, Тинапель узнал от гофрата Беренса, – высоченный, синещекий, тот в сопровождении черняво-бледного своего ассистента прошествовал, загребая ручищами, по столовой, направо и налево задавая риторический свой вопрос «Ну как? хорошо спали?» – что он, вице-консул Тинапель, не только замечательно придумал навестить здесь наверху своего одинокого neveu[66], но и поступил весьма здраво, если говорить о его личных интересах, ибо у него, конечно, общее малокровие. Малокровие у него, Тинапеля? «И еще какое! – сказал Беренс, оттягивая ему нижнее веко указательным пальцем. – Классическое!» – подтвердил он. Уважаемый дядюшка поступит очень разумно, если недельки на две, на три со всем комфортом расположится здесь в горизонтальном положении у себя на балкончике, да и в остальном задастся целью во всем следовать благому примеру племянника. В его состоянии самое остроумное некоторое время пожить так, словно у него легкий tuberculosis pulmonum, который, кстати говоря, имеется у всех.
– Конечно, бес-спорно! – поспешил согласиться консул и еще некоторое время, открыв от усердия и учтивости рот, глядел на крутой затылок гофрата, который продолжал обход, загребая руками, тогда как видавший виды племянник невозмутимо стоял рядом. Засим они, как положено, отправились на увеселительную прогулку до скамейки у водостока и обратно, после чего Джемс Тинапель впервые приобщился к процедуре лежания, разумеется, под руководством Ганса Касторпа, который в придачу к привезенному пледу одолжил дяде одно из своих одеял верблюжьей шерсти – стояла такая чудная осенняя погода, что ему самому и одного за глаза было достаточно, – и добросовестно, прием за приемом, посвятил гостя во все тонкости искусства заворачиваться в них, а когда консул уже лежал, аккуратно спеленатый наподобие мумии, не поленился опять все развернуть, чтобы заставить того уже собственноручно, почти без его вмешательства, проделать весь установленный ритуал с самого начала, а также показал ему, как прикреплять полотняный зонт и загораживаться от солнца.
Консул острил. Дух равнины все еще крепко сидел в нем, и он посмеивался над всей этой премудростью, как перед тем насмехался над предписанной после завтрака строго регламентированной увеселительной прогулкой. Но когда он увидел безмятежно-спокойную улыбку, с какой племянник встречал все его шуточки, улыбку, отражавшую, как в зеркале, всю самонадеянность этого обособленного мирка, ему стало не по себе, он испугался за свою деловую энергию и тут же решил, не откладывая, возможно скорее, еще сегодня же днем добиться встречи с гофратом и серьезно поговорить с ним о племяннике, пока у него, Тинапеля, еще не иссяк запас сил и крепости духа, вывезенный из равнины, ибо он чувствовал, что слабеет, что дух санатория вкупе с его собственной благовоспитанностью уже вступили против него в опасный союз.
Вдобавок он чувствовал, что гофрату, собственно, было даже незачем рекомендовать ему для излечения малокровия следовать примеру других больных: это получалось здесь наверху само собой, просто представлялось неизбежным, но было ли это только воздействием спокойной неколебимой самоуверенности Ганса Касторпа, или на самом деле иной образ жизни был здесь невозможен и немыслим, ему, как человеку воспитанному, поначалу определить было трудно. Что могло быть естественнее, как после первого лежания на воздухе сесть за обильный второй завтрак, вслед за которым с самоочевидностью напрашивалась прогулка вниз, к «курорту», и потом позволить Гансу Касторпу вновь обернуть твои ноги. Вот именно, обернуть тебя… вокруг пальца. Он укладывал дядюшку на осеннем солнышке в шезлонг, удобство которого было не только бесспорно, но достойно высшей похвалы, и укладывался сам, пока громоподобный гонг не призывал их к обеду в кругу других больных, обеду первоклассному, безупречному и столь обильному, что следовавшая за этим процедура лежания соблюдалась им не столько из уважения к здешним обычаям, сколько из внутренней потребности и личного убеждения. Так оно и шло вплоть до роскошного ужина и вечерних развлечений в гостиной с оптическими приборами. Что оставалось возразить против такого распорядка дня, где все вытекало одно из другого со столь ненавязчивой и убедительной последовательностью? Здесь ничто не подало бы повода к протестам, если б даже критические способности консула не были ослаблены дурным самочувствием, которое консул не хотел прямо назвать недомоганием, хотя оно и представляло пренеприятное сочетание усталости и возбуждения, сопровождающихся ознобом и жаром.
Чтобы добиться желаемой и заранее тревожившей консула беседы с гофратом Беренсом, были предприняты надлежащие официальные шаги: Ганс Касторп передал просьбу массажисту, тот довел ее до сведения старшей, с которой консул Тинапель и завязал довольно своеобразное знакомство. Она явилась к нему на балкон, где застала его в шезлонге, и непривычными повадками подвергла немалому испытанию всегдашнюю благовоспитанность спеленатого наподобие младенца и совершенно беспомощного джентльмена. Уважаемый, услышал он, соблаговолит потерпеть денька два или три, гофрат занят, операции, общие обследования – ведь христианский долг повелевает прежде всего облегчать страждущих, а поскольку он, Тинапель, числится здоровым, то ему следует привыкнуть к тому, что он здесь не главная персона, претендовать ни на что здесь не может и должен подождать. Другое дело, если он просит себя обследовать, – чему она, Адриатика, нисколько бы не удивилась, – пусть-ка он посмотрит ей в лицо, ну конечно, глаза мутные и слегка воспаленные, и если приглядеться к нему хорошенько, когда он вот так лежит перед ней, очень похоже на то, что и с ним дело обстоит не совсем благополучно, не совсем ладно, пусть он не поймет ее превратно… Так для чего же он желает видеть главного врача: для обследования или для частной беседы? «Для частной беседы, бес-спорно!» – заверил лежащий. Тогда ему придется подождать, пока его не известят. Для частных бесед у гофрата редко находится время.
Короче говоря, все шло совсем не так, как представлял себе Джемс, а разговор со старшей еще больше вывел его из равновесия. Слишком учтивый, чтобы без стеснения сказать племяннику, чье нерушимое спокойствие прямо свидетельствовало о полном его единодушии с окружающей средой, какое отвратительное впечатление произвела на него эта ужасная особа, он робко постучал и осведомился, не находит ли тот, что старшая весьма оригинальная дама, с чем Ганс Касторп, на миг испытующе устремив взгляд в пространство, отчасти согласился, в свою очередь задав ему вопрос, не продала ли ему Милендонк градусника. «Мне? Нет, разве она ими торгует?» – ответил дядя… Но хуже всего было то, что, судя по лицу племянника, он нисколько не удивился бы и в том случае, если бы это на самом деле произошло. «Мы не зябнем» – было написано на его физиономии. Зато консул ужасно зяб, его постоянно тряс озноб, а голова пылала, и у него даже мелькнула мысль, что если бы старшая в самом деле предложила ему градусник, он, разумеется, от него бы отказался, но, пожалуй, поступил бы опрометчиво, поскольку человеку культурному пользоваться чужим градусником, например племянника, никак не подобает.
Так прошло несколько дней, четыре или пять. Жизнь посланца равнины катилась по рельсам – тем рельсам, которые были для него проложены, и казалось немыслимым, чтобы она шла иными путями. У консула были свои переживания, свои впечатления – мы не собираемся далее в них вникать. Однажды, находясь в комнате Ганса Касторпа, он взял с комода черную стеклянную пластинку, стоявшую там на миниатюрном резном мольберте среди других мелочей, которыми тот украсил свое опрятное жилье, и, подняв против света, обнаружил, что это негатив.
– Что это такое? – спросил дядя, рассматривая снимок.
Законный вопрос. Портрет был без головы и представлял собой скелет человеческого торса в призрачно-бледной оболочке плоти – к тому же женского торса…
– Это? Сувенир, – ответил Ганс Касторп. На что дядюшка сказал «пардон», поставил снимок на мольберт и поспешно отошел от комода. Мы привели этот эпизод лишь как пример его переживаний и впечатлений за эти четыре-пять дней. Присутствовал он и на одной из лекций доктора Кроковского, поскольку не присутствовать на ней казалось немыслимым. Что же касается личной беседы с гофратом Беренсом, которой добивался консул, то на шестой день он все же своего достиг. Его вызвали к главному врачу, и после завтрака, исполненный решимости серьезно переговорить с этим типом по поводу племянника и его времяпрепровождения, он бодро спустился в светлый полуподвал.
Но, вернувшись оттуда, спросил упавшим голосом:
– Ты когда-нибудь слышал что-либо подобное?
Однако поскольку было совершенно ясно, что Ганс Касторп, наверное, уже слышал нечто подобное и что его от этого не прошибет озноб, он ничего больше не добавил и на довольно вялые расспросы племянника отвечал только: «Да так, ничего, ничего». Зато у него тогда же появилась новая привычка: сдвинув брови и сложив губы трубочкой, он сосредоточенно глядел куда-то по диагонали вверх, затем резко поворачивал голову и устремлял такой же точно взгляд в прямо противоположную сторону… Не приняла ли беседа с Беренсом совершенно неожиданного для консула оборота? Об одном ли Гансе Касторпе шла речь, или также о нем, Джемсе Тинапеле, так что свидание все же утратило характер личной беседы? Поведение его указывало на то. Консул был очень оживлен, много говорил, беспричинно смеялся и, тыча племянника кулаком в живот, восклицал: «Ну как, старина!» Но время от времени у него появлялся этот странный взгляд, сначала туда, а потом сюда. Однако глаза его устремлялись и на более определенные предметы – за столом, на обязательных прогулках, в гостиной.
Вначале консул не обращал особого внимания на некую фрау Редиш, жену польского промышленника, сидевшую за столом отсутствующей фрау Заломон и прожорливого гимназиста в круглых очках; да она и вправду ничем особенно не выделялась по сравнению с другими больными женского пола в общей галерее для лежания, дама как дама, впрочем низенькая полная брюнетка, уже не первой молодости, даже чуть-чуть седая, но с миловидным двойным подбородком и живыми карими глазами. Ни осанкой, ни умением держаться, ни разговором она, разумеется, не шла ни в какое сравнение с консульшей Тинапель там, внизу на равнине. Но воскресным вечером, после ужина, в гостиной, консул благодаря сильно декольтированному черному с блестками платью, в которое фрау Редиш нарядилась, сделал важное открытие, а именно, что у нее имеются груди, матово-белые, туго стиснутые корсажем женские груди, разделенные довольно-таки далеко видной ложбинкой, – открытие, до глубины души потрясшее и восхитившее этого зрелого и утонченного джентльмена, словно речь шла о чем-то совершенно новом, доселе невиданном и неслыханном. Он захотел познакомиться и познакомился с фрау Редиш, долго с ней беседовал, сперва стоя, потом сидя, и отправился спать, напевая. На следующий день фрау Редиш была уже не в черном платье с блестками, а в наглухо закрытом, но консул что видал, то видал и остался верен первому своему впечатлению. Он старался перехватить свою даму на обязательных прогулках и, оживленно болтая, шел рядом, по-особенному настойчиво и обаятельно повернувшись и наклонившись к ней, за столом пил за ее здоровье, а она, улыбаясь в ответ, сверкала коллекцией золотых коронок, и в разговоре с племянником называл ее «божественной женщиной», после чего снова принимался что-то напевать. Все это Ганс Касторп спокойно терпел с таким видом, словно так оно и должно быть. Но это никак не могло поднять авторитет старшего родственника в глазах племянника и плохо вязалось с миссией консула…
Случилось так, что во время обеда, за которым Джемс Тинапель подымал бокал в честь фрау Редиш, подымал дважды: за рыбным рагу и под конец, когда подали шербет, – за столом Ганса Касторпа и его гостя сидел гофрат Беренс – он, как известно, столовался поочередно за всеми семью столами и во главе каждого для него ставился прибор. Сложив перед тарелкой свои огромные ручищи, он сидел между господином Везалем и горбуном-мексиканцем, с которым говорил по-испански – он владел всеми языками, в том числе турецким и венгерским, – и, топорща скошенные шрамом усики, выпученными, налитыми кровью синими глазами наблюдал, как консул Тинапель приветствует фрау Редиш фужером бордо. Несколько позже гофрат за трапезой прочел даже небольшой доклад, на что его вдохновил Джемс: он с противоположного конца стола неожиданно задал ему вопрос, как это человек обращается в прах. Гофрат ведь посвятил себя изучению телесной сущности человека, тело, так сказать, его профессия, он, если можно так выразиться, властелин над телами, так пусть же расскажет, что происходит, когда тело разлагается.
– Прежде всего у вас лопается живот! – провозгласил гофрат, положив локти на стол и почти касаясь подбородком сложенных рук. – Вы покоитесь себе на своих опилках и стружках, а газы, понимаете ли, вас пучат, раздувают, как лягушку, когда шалуны мальчишки надувают ее воздухом, – под конец вы превращаетесь в настоящий воздушный шар, и тогда кожный покров у вас на животе не выдерживает давления и лопается. Трах-тарарах! Какое облегчение, вы поступаете, как Иуда Искариот, когда он упал с дерева и у него расселась утроба, вы все из себя вытряхиваете. Н-да, а засим вы снова можете показаться в обществе. Получи вы с того света увольнительную, вы могли бы даже проведать оставшихся родственников, никого не шокируя. Вы, что называется, высмердились. Если выйдешь на воздух, опять будешь стройным красавцем, как граждане Палермо, висящие в подземельях монастыря капуцинов у Порта-Нуова. Они висят там, элегантно-поджарые, и пользуются всеобщим уважением. Все дело только в том, чтобы высмердиться.
– Бес-спорно! – сказал консул. – Весьма вам признателен! – И на следующее утро исчез.
Он удрал, уехал с самым ранним утренним поездом вниз на равнину – конечно, предварительно рассчитавшись за все: кто бы мог в этом усомниться! Он уплатил по счету, внес положенный гонорар за произведенное врачебное обследование, потихоньку, не сказав племяннику ни слова, уложил оба чемодана, – по всей вероятности, еще с вечера или ранним утром, когда все в доме спали, – и Ганс Касторп, зайдя перед первым завтраком за дядюшкой, обнаружил, что комната его пуста.
Молодой человек подбоченился и сказал:
– Так, так! – И тут-то на лице его и отразилась та самая меланхолическая улыбка. – Н-да, – сказал он и покачал головой. – Значит, дал тягу. Сломя голову, с лихорадочной молчаливой поспешностью. Словно желая воспользоваться мгновенной решимостью и до смерти боясь ее упустить, он побросал свои вещи в чемоданы и был таков: один, а не вдвоем, так и не выполнив почетной миссии, рад-радешенек, что хотя бы сам унес отсюда ноги, человек строгих правил, дядюшка Джемс, дезертировал на равнину. Что ж, счастливого пути!
Ганс Касторп никому и виду не подал, что ничего не знал о предстоящем отъезде гостившего в «Берггофе» родственника, особенно хромому портье, провожавшему консула на станцию. С Боденского озера пришла открытка: Джемс писал, что получил телеграмму, требовавшую его немедленного выезда по делам на равнину. Он не захотел беспокоить племянника. Вежливая отговорка. «Приятного пребывания и в дальнейшем!» Уж не насмешка ли это? В таком случае довольно-таки искусственная, вымученная насмешка, подумал Ганс Касторп, ибо дядюшке вовсе было не до смеху и не до шуток, когда он так скоропалительно укатил, нет, консул осознал, внутренне осознал и с содроганием представил себе, что когда он теперь, после недельного пребывания здесь, вернется на равнину, ему еще долго, очень долго будет казаться невозможным, диким, противоестественным не совершать после завтрака обязательной увеселительной прогулки и не располагаться затем горизонтально на свежем воздухе, завернувшись по всем правилам искусства в одеяла, а вместо того идти к себе в контору. И это леденящее кровь сознание и явилось непосредственной причиной его бегства.
Тем и кончилась попытка равнины вернуть заблудшую овцу, сиречь Ганса Касторпа. Молодой человек не скрывал от себя, что бесславный провал кампании, провал, который он заранее предвидел, имел решающее значение для его взаимоотношений с живущими там внизу. Они, пожимая плечами, окончательно махнут на него рукой, а он обретет полнейшую свободу, мысль о которой уже не заставляла учащенно биться его сердце.
Operationes spirituales
[67]
Лео Нафта родился в глухом местечке, где-то на границе Галиции и Волыни. Отец его, о котором он говорил с уважением, – очевидно считая, что уже перерос свою прежнюю среду и может отзываться о ней благосклонно, – был там шохетом, резником, но занятие его, как небо от земли, отличалось от занятия какого-нибудь христианского мясника – всего только ремесленника и лавочника. Другое дело – отец Лео. Он был должностным лицом, и даже как бы духовным должностным лицом. Проверенный раввином в благочестивом своем искусстве и уполномоченный им умерщвлять согласно с предписаниями талмуда скот, предназначенный по закону Моисея к убою, Элия Нафта, голубые глаза которого, по рассказам сына, лучились, как звезды, тихой одухотворенностью, сам проникся какою-то торжественностью и святостью, напоминавшими о том, что в первобытные времена заклание животных и в самом деле составляло привилегию жрецов. Когда Лейбе, – так звали Лео в детстве, – разрешали смотреть, как отец во дворе исправляет свою ритуальную должность с помощью дюжего подручного, молодого человека атлетического еврейского сложения и вида, возле которого тщедушный Элия с белокурой круглой бородкой казался еще миниатюрнее и хрупче, – как он заносит над связанным и стреноженным, но не оглушенным быком свой большой нож шохета и перерезает ему глотку до самого шейного позвонка, а подручный едва успевает подставлять под хлещущую фонтаном дымящуюся кровь большие бадьи, – он воспринимал это зрелище, как воспринимают дети, способные иногда чувством схватывать самую суть явлений, что, быть может, особенно было свойственно сыну лучистоглазого Элии. Он знал, что христианских мясников обязывали оглушать скот ударом дубинки или топора перед тем как убивать его и что предписание это давалось им, дабы избежать жестокости и не мучить животных; а отец его, хоть и несравненно более хрупкий и умный, чем те балбесы, и с лучистыми, как звезды, глазами, каких он не видел ни у кого из них, следуя закону, резал живую тварь неоглушенной и давал ей истечь кровью. Способ неотесанных гоев казался мальчику Лейбе выражением легковесного и нечестивого благодушия. Им не воздашь таких почестей божеству, как при исполненном торжественной жестокости отцовском обряде: так представление о благочестии навсегда соединилось у него с жестокостью, подобно тому как в детской его фантазии запах и вид бьющей фонтаном крови переплелись с мыслью о святости и одухотворенности. Ведь он хорошо понимал, что отец при хрупкости телосложения избрал свое кровавое ремесло не потому, что ему нравилась грубая жестокость, возможно и доставлявшая удовольствие христианским мужланам и даже его собственному еврею-подручному, а по внутреннему убеждению, как бы изливавшемуся из его лучистых глаз.
Элия Нафта и в самом деле был мечтателем и философом, не только начетчиком, но и толкователем торы; он обсуждал с раввином отдельные места писания и нередко даже вступал с ним в спор. В своей округе, притом не только среди единоверцев, для одних он слыл, отчасти благодаря своей набожности, человеком особенным, которому было открыто больше, чем иным-прочим, у других он вызывал своего рода суеверный страх или во всяком случае мысль, что с ним – дело нечисто. Что-то в нем было смущающе-сектантское, что-то от пророка, баал-шема или цадика[68], то есть чудотворца, тем паче что он однажды и вправду исцелил – при посредстве крови и заговора – женщину от злокачественной коросты, а в другой раз – мальчика от падучей. Но именно этот-то ореол несколько крамольной святости, при котором немалую роль играл присущий его ремеслу запах крови, и погубил Элию Нафту. Во время беспорядков и погромов, вызванных загадочной смертью двух христианских детей, Элия страшным образом поплатился жизнью: его распяли, пригвоздили к двери собственного дома, который погромщики подожгли, а чахоточная жена его, долгое время прикованная к постели, с детьми, – мальчиком Лейбой и четырьмя другими ребятишками, все мал мала меньше, – воздев руки, плача и причитая, бежала с насиженного места. Благодаря предусмотрительности Элии не оставшись целиком без средств, сраженная горем семья погибшего нашла прибежище в одном из городков Форарльберга[69]; там вдова Нафта устроилась на бумагопрядильную фабрику, где работала, сколько и пока хватало сил, а старшие дети ходили в школу. Но если преподносимый этим учебным заведением духовный рацион мог в какой-то мере отвечать складу характера и потребностям младших братьев и сестер, то для старшего, Лейбы, он казался чересчур скудным. От матери мальчик унаследовал предрасположение к чахотке, а от отца, помимо хрупкого телосложения, незаурядный ум и способности, к которым очень рано присовокупились тщеславие, непомерное честолюбие, неутолимая жажда изысканного комфорта, будившие в нем страстное желание подняться над окружавшей его средой. Чтением книг, которые пятнадцатилетний подросток добывал всеми правдами и неправдами, он нетерпеливо и беспорядочно развивал свой ум, поставляя ему таким образом недостававшую ему в школе пищу. Он думал и высказывал вслух такие вещи, от которых его чахнувшая на глазах мать только криво втягивала голову в плечи и всплескивала изможденными руками. Своим поведением и ответами на уроках закона божьего мальчик привлек внимание окружного раввина, набожного и ученого человека, который стал заниматься с ним у себя на дому, утолив его любовь к отточенной форме уроками древнееврейского и классических языков, а склонность к логическому мышлению – математикой. Но за все свои труды добряк ничего не пожал, кроме черной неблагодарности; чем дальше, тем яснее становилось, что он пригрел змею на своей груди. Как некогда Элия Нафта спорил со своим раввином, так спорил теперь его сын: они никак не могли поладить, то это были религиозные, то философские вопросы, из-за которых между учителем и учеником возникали разногласия, и разногласия эти все обострялись; честному книжнику пришлось немало натерпеться от непокорного ума, придирчивых вопросов и сомнений, духа противоречия и разящей диалектики юного Лео. Вдобавок мудрствования и интеллектуальные выверты Нафты приняли напоследок революционную окраску: знакомство с сыном одного социал-демократа, члена рейхсрата[70], а затем и с самим этим вожаком масс, заставило Лео размышлять о политике, а его страсть к логике направило на критику общественных порядков; от его речей у дорожившего своей лояльностью честного талмудиста волосы становились дыбом. Все это в конце концов привело к решительному разрыву между учителем и учеником. Короче говоря, дело кончилось тем, что учитель выгнал Нафту, запретив ему переступать порог своего кабинета, как раз в то время, когда мать Лео, Рахиль Нафта, лежала при смерти.
Но тут, непосредственно после кончины матери, Лео познакомился с патером Унтерпертингером. Шестнадцатилетний юноша сидел пригорюнившись на скамейке в парке так называемого Маргаретен-капфа, холма у западной окраины городка, на берегу Иля, откуда открывался великолепный вид на привольную долину Рейна, – сидел там, погруженный в мрачные и горькие мысли о своей участи и о будущем, как вдруг прогуливавшийся по аллеям преподаватель иезуитского пансиона «Утренняя звезда» уселся рядом с ним, положил возле себя шляпу, закинул под сутаной ногу на ногу и, полистав в молитвеннике, что-то у него спросил; слово за слово, они разговорились, и беседа эта решила всю дальнейшую судьбу Лео. Иезуит, образованный человек, много повидавший на своем веку, но педагог по призванию, знаток и ловец человеческих душ, навострил уши при первых же произнесенных с явной иронией фразах, которыми жалкий еврейский юноша отвечал на его расспросы. В них чувствовался острый озлобленный ум, а когда патер решил копнуть поглубже, то натолкнулся на знания и ядовитое изящество мысли, которых никак нельзя было предположить у молодого оборванца.
Они говорили о Марксе, с чьим основным трудом, «Капиталом», Лео познакомился по дешевенькому массовому изданию, а с него перешли на Гегеля, которого или о котором он тоже читал достаточно, чтобы высказать несколько оригинальных суждений. То ли вообще из любви к парадоксам, то ли учтивости ради, он назвал Гегеля «католическим» мыслителем, и на заданный патером с улыбкой вопрос, как же это обосновать, поскольку Гегеля в качестве прусского государственного философа[71], собственно, да и по существу, следовало бы скорее считать протестантом, возразил: именно выражение «государственный философ» доказывает, что в религиозном смысле (разумеется, не в церковно-догматическом) он прав в отношении католицизма Гегеля. Ибо – Нафта питал особое пристрастие к этому союзу, который приобретал в его устах что-то победоносно-неумолимое, и всякий раз, когда ему удавалось ввернуть это словечко, глаза его за стеклами очков вспыхивали холодным блеском, – ибо политика и католицизм – понятия психологически связанные, они принадлежат к одной категории, охватывающей все объективное, созидающее, деятельное, претворяющее в действительность и обращенное к внешнему миру. Ей противостоит пиетистская, идущая от мистики сфера протестантизма[72]. У иезуитов, добавил он, политико-педагогическая сущность католицизма становится особенно очевидной; орден всегда считал своей вотчиной искусство управления государством и педагогику. И он назвал еще Гете, уходящего корнями в пиетизм и несомненного протестанта, человеком, бывшим в некоторой мере католиком – именно благодаря его объективизму и призыву к действию. Он защищал таинство исповеди и как педагог в своих взглядах был чуть ли не иезуитом.
Высказал ли Нафта все эти мысли потому, что они соответствовали его внутреннему убеждению, или потому, что находил их остроумными, или в угоду своему собеседнику, как бедняк, вынужденный льстить и прикидывать, чем можно к себе расположить и чем оттолкнуть нужного человека, – патера занимала не столько правдивость его слов, сколько гибкость ума, о которой они свидетельствовали; разговор продолжался, вскоре иезуиту стали известны личные обстоятельства Лео, и встреча кончилась тем, что Унтерпертингер предложил юноше зайти к нему в пансион.
Так Нафте дозволено было переступить порог «Stella matutina»[73], давно уже манившей его воображение, как некая святая святых учености и аристократизма; больше того, ему посчастливилось найти нового наставника и покровителя, не в пример прежнему способного оценить его дарования и развивать их, учителя, чьи достоинства шли не от сердца, а основывались на знании жизни, и в окружение которого Лео очень хотелось проникнуть. Подобно многим одаренным евреям, Нафта от природы был и революционером и аристократом; этот социалист спал и видел, как бы самому приобщиться к изысканному и замкнутому образу жизни надменных высших кругов. Первое же заявление, на которое его толкнуло присутствие католического священника, хотя и выраженное в сугубо аналитически-сравнительной форме, было объяснение в любви к римско-католической церкви, которую он воспринимал как некую одновременно и аристократическую и духовную, то есть антиматериальную, враждебную действительности и всему мирскому, а стало быть, революционную силу. И это признание было искренним и шло из самых недр его существа; ибо, как сам он разъяснял, иудаизм, в силу своей направленности на все земное и практическое, в силу своего «социализма» и всего политического образа мысли, ближе стоит к католической сфере и более ей сродни, нежели протестантизм с его созерцательностью и мистическим субъективизмом, потому-то и обращение еврея в католичество – процесс духовно куда менее болезненный, чем обращение протестанта.
Рассорившийся с пастырем своей прежней духовной общины, осиротевший и одинокий, Нафта рвался из затхлой атмосферы к достатку и приволью, на которые ему давали право его способности, и сгорал от нетерпения отречься от веры отцов – он давно достиг положенного для этого возраста, – так что «открывшему» его Унтерпертингеру не стоило никакого труда привести эту душу, или, вернее, незаурядный ум, в лоно католической церкви. Еще до того как Лео принял крещение, его по ходатайству патера временно приютили в «Утренней звезде», зачислив на полное телесное и духовное довольствие. Он переселился туда не задумываясь, с величайшим хладнокровием, с невозмутимостью истинного аристократа духа, предоставив младших братьев и сестер заботам благотворительных учреждений и той незавидной доле, на какую обрекала их собственная посредственность.
Принадлежавшие пансиону земельные угодья были не менее обширны, чем жилые его постройки, где размещалось около четырехсот воспитанников; сюда входили леса и пастбища, полдюжины спортивных площадок, всевозможные службы, хлева на несколько сотен голов скота. Пансион «Утренняя звезда» был одновременно интернатом, образцовым поместьем, спортивной академией, лицеем и храмом муз, ибо там процветали театр и музыка. Жизнь здесь была помещичье-монастырской. Строгим своим порядком и внешним лоском, своей благочинной безмятежностью, интеллектуальной атмосферой и материальным благоденствием, четким и разнообразным расписанием дня она как нельзя более потворствовала подспудным наклонностям Лео. Он чувствовал себя на седьмом небе. Обильная и вкусная пища ждала его в большой и светлой трапезной, где, так же как и в коридорах пансиона, строго предписывалось хранить молчание, и молодой префект, сидя за высокой кафедрой, развлекал воспитанников, читая им вслух. Усердие Лео на уроках не знало пределов, и, несмотря на слабую грудь, он напрягал все силы, чтобы в играх и в спорте, которым уделялось время после чая, в грязь лицом не ударить. Благоговение, с которым он ежедневно слушал раннюю обедню и по воскресеньям выстаивал длинную праздничную службу, тоже, надо думать, радовало отцов педагогов. Да и поведением его они не могли нахвалиться. И по праздникам, полакомившись положенным в такие дни пирожным с вином, он в фуражке и серо-зеленом мундирчике со стоячим воротником и брюках с лампасами отправлялся в колонне воспитанников на прогулку.
Никто не напоминал ему о его низком происхождении, о том, что он выкрест и бедняк, и это переполняло юношу восторженной признательностью. По-видимому, никому даже в голову не приходило, что учится он бесплатно. Правила пансиона были таковы, что товарищам не представлялось случая узнать, что он отщепенец без роду и племени. Получать из дома посылки с продуктами и сластями не разрешалось. А если все-таки приходила посылка, ее распределяли между воспитанниками, и Лео тоже получал свою долю. В этом космополитическом учебном заведении его расовая принадлежность в глаза не бросалась. Там училось немало южных чужестранцев из экзотических стран, португальцы из Южной Америки даже больше походили на евреев, чем он, так что само понятие это не могло возникнуть. А эфиопский принц, поступивший в пансион одновременно с Нафтой, несмотря на черный, как у негра, цвет кожи и курчавые волосы, держался даже очень надменно.
Перейдя в класс риторики, Лео выразил желание изучать богословие, чтобы впоследствии, если его найдут достойным, вступить в орден. В итоге бесплатного воспитанника перевели из «второго разряда» пансиона, где плата и содержание были скромней, в «первый». Здесь ему за столом прислуживали лакеи, а спальня его с одной стороны примыкала к покоям силезского графа фон Гарбуваль-и-Шамаре, с другой – к опочивальне отпрыска маркизов ди Рангони-Сантакроче из Модены. Он блестяще закончил курс и, верный своему решению, сменил приволье пансиона на жизнь в доме для испытуемых[74] в близлежащем Тизисе, жизнь, исполненную смирения и покорности, молчаливого повиновения и религиозных упражнений, которым он, поставив себе в пример средневековых фанатиков, предавался с каким-то даже духовным сладострастием.
Но вскоре, однако, здоровье его пошатнулось, и не столько от монашески-сурового образа жизни, в которой, впрочем, предусматривалось и время на отдых, сколько по причинам внутреннего порядка. Приемы воспитания, предметом которого он стал, своим хитроумием и каверзностью как нельзя больше соответствовали его природным задаткам и способствовали их проявлению. При всех этих духовных упражнениях, в которых он проводил дни и даже часть ночи, всех этих испытаниях совести, размышлениях, самоуглублениях, созерцаниях он с дошлостью заядлого казуиста увязал в сотнях неразрешимых противоречий, трудностей, спорных вопросов. Нафта повергал в отчаяние своего духовного наставника, – что не мешало патеру возлагать на него самые большие надежды, – каждодневно допекая его страстной своей диалектикой и недостатком простодушной веры. «Ad haec quid tir?»[75] – вопрошал он, сверкая стеклами очков… И загнанному в тупик патеру не оставалось ничего другого, как призывать его к молитве, дабы он обрел душевный покой – ut in aliquem gradum quietis in anima perveniat. Однако «покой» этот если и достигался, то ценой полного отупения и потери собственного «я», превращения человека в простое орудие, – воистину могильный покой, зловещие внешние признаки которого брат Нафта мог заметить на многих, потерявших всякое выражение, пустоглазых физиономиях своих однокашников, такого покоя ему никогда не достичь, как бы он ни изнурял постом и молитвой свое тело.
Впрочем, все эти его сомнения и споры не повредили ему в мнении начальников, что свидетельствовало об их, несомненно, высоком интеллектуальном уровне. После двухгодичного искуса Нафту вызвал к себе сам отец-провинциал[76], беседовал с ним и дал указание принять его в члены ордена; и юный схоласт, посвященный в четыре низшие степени: привратника, служки, чтеца и заклинателя бесов, а также принесший «простые» обеты[77], уже как член ордена отправился в иезуитскую коллегию голландского города Фалькенбурга, чтобы приступить к изучению богословия.
Ему было тогда двадцать лет, а три года спустя от неблагоприятного климата и напряженной умственной работы наследственный его недуг настолько развился, что дальнейшее пребывание в коллегии могло стоить ему жизни. У Нафты пошла горлом кровь, несколько недель он находился между жизнью и смертью, и встревоженные начальники отослали едва оправившегося больного туда, откуда он прибыл. В том же самом учебном заведении, где Нафта когда-то учился сам, ему предоставили должность префекта, воспитателя и учителя древних языков и философии. Такой перерыв был так или иначе обязательным для всех схоластов, с той разницей, что, проработав несколько лет педагогами, они, как правило, возвращались в коллегии, чтобы продолжить и окончить семилетний курс богословия. Но брату Нафте этого не дано было сделать. Он все прихварывал, и начальство пришло к заключению, что самое для него подходящее пока что – это служба здесь, в здоровых климатических условиях, и физический труд на вольном воздухе с воспитанниками на ферме. Он, правда, был посвящен в первую высшую степень, получил право при торжественной воскресной литургии читать нараспев апостола – право, которым он, впрочем, не пользовался, во-первых, потому, что был совершенно немузыкален, а во-вторых, потому, что болезненная ломкость голоса не позволяла ему петь. Выше иподиакона он так и не пошел, не сподобился звания диакона и тем более священнического сана, и так как кровохаркания возобновились и его по-прежнему лихорадило, то на средства ордена он поселился здесь наверху для длительного лечения и лечился уже шестой год, так что пребывание в разреженном горном воздухе было, собственно, уже не лечением, а единственно для него возможным отныне условием существования, которое он в какой-то мере скрашивал преподаванием латыни в гимназии для туберкулезных детей…
Все это и еще многие другие подробности Ганс Касторп узнал из разговоров с самим Нафтой, когда навещал иезуита в его шелковой келье, один или в обществе своих соседей по столу, Ферге и Везаля, которых он тоже свел с ним, или когда, встретившись с Нафтой на обязательной прогулке, шел провожать его в «деревню» – узнавал случайно, иногда отрывками, иногда в форме связного рассказа, и не только сам находил его историю весьма примечательной, но требовал, чтобы и Ферге и Везаль изумлялись ей, что те и делали: первый всегда, впрочем, напоминая в виде оговорки, что ничего не смыслит в высоких материях (ибо плевральный шок был единственным переживанием, которым гордился этот на редкость скромный и непритязательный человек), второй же – испытывая явное удовлетворение от столь стремительной карьеры некогда приниженного и угнетенного человека, карьеры, которая, однако, застопорилась, дабы всяк сверчок знал свой шесток, и обмельчала, попав в затон общего всем здесь телесного недуга.
Что касается Ганса Касторпа, то он сожалел об этом застое и с гордостью и тревогой вспоминал принципиального Иоахима, героическим усилием воли порвавшего клейкую паутину суесловий Радаманта и бежавшего к своему знамени, в древко которого, как представлялось Гансу Касторпу, он судорожно теперь вцепился, подняв три пальца десницы в воинской присяге. Нафта тоже присягал знамени и тоже был принят под его сень, как сам он выражался, рассказывая Гансу Касторпу о целях своего ордена; но со своими отклонениями и комбинациями оказался, очевидно, менее ему верен, чем Иоахим – своему; причем Ганс Касторп, слушая бывшего или будущего иезуита, как штатский и дитя мира, еще больше укреплялся в прежнем своем мнении о взаимной симпатии, которую оба они должны чувствовать к своим родственно близким профессиям и сословиям. Ибо и то и другое сословие было военным во многих смыслах: как в смысле аскетизма и иерархии, так и в смысле повиновения и испанской чести. Последнее играло немаловажную роль в ордене Нафты, возникшем, как известно, в Испании[78], и принятое в обществе Иисуса расписание духовных упражнений[79], своего рода прообраз строевого устава, введенного впоследствии в Пруссии Фридрихом для пехоты, было написано первоначально на испанском языке, потому-то Нафта в своих рассказах и объяснениях часто прибегал к испанским выражениям. Так, например, он говорил о «dos banderas» – двух знаменах: господнем и сатанинском, под которыми собирались перед великим походом два воинства: вблизи Иерусалима – воинство, коим командовал Спаситель, «capitan general»[80] всех добрых христиан, и другое, на равнине Вавилонской, где «caudillo», или предводителем, был Люцифер…
А разве пансион «Утренняя звезда» не представлял собой настоящего кадетского корпуса, где разбитых на «дивизии» воспитанников приучали с честью блюсти воинскую и духовную благопристойность – своего рода сочетание «жесткого воротничка» и «испанских брыжей», если можно так выразиться? Понятия чести и отличий, игравшие столь важную роль в сословии Иоахима – как ясно бросались они в глаза, думал Ганс Касторп, и в обществе Иисуса, где Нафте, к сожалению, болезнь помешала выдвинуться. Послушать его – так орден сплошь состоял из честолюбивейших офицеров, воодушевленных одной лишь мыслью отличиться на службе («Insignes esse» называлось это по-латыни). По учению и уставу его основателя и первого генерала, испанца Лойолы, эти честолюбцы лучше, ревностнее служили всевышнему, чем те, кто руководствовался одним лишь разумом. Они свершали «ex supererogatione», сверх положенного, не просто противостояли искушениям бунтующей плоти («rebellioni carnis»), что свойственно всякому мало-мальски здравомыслящему человеку, а боролись и наступали на горло любым чувственным побуждениям, себялюбию и жизнелюбию даже в вещах, дозволенных всем и каждому. Ибо деятельно бороться с врагом, то есть атаковать, выше и достославнее, чем просто обороняться («resistere»). Измотать и сломить врага! – значилось в полевом уставе, и его составитель, испанец Лойола, и тут проявил полное единодушие с capitan general Иоахима, прусским Фридрихом и его правилом ведения войн: «Атаковать! Атаковать!», «Не давать врагу опомниться!», «Attaquez donc toujours!».[81]
Но что особенно сближало мир Нафты с миром Иоахима, было их отношение к насилию и общая для них аксиома, что не следует бояться обагрить руки кровью: в этом оба мира, ордена и сословия, совершенно сходились, и для дитяти мира было чрезвычайно поучительно услышать рассказы Нафты о воинственных монахах средневековья, изнурявших себя подвижничеством, но снедаемых жаждой духовной власти и не боявшихся проливать реки крови, дабы основать на земле град божий, всемирное господство духа, рассказы о рыцарях-храмовниках[82], считавших, что пасть в бою против неверных праведнее, чем почить в постели, и что убийство и смерть во славу Христову – не преступление, а высшая доблесть. Хорошо еще, если при этих разговорах не присутствовал Сеттембрини. Не то он опять превращался в докучливого шарманщика и дудел о мире, хотя сам отнюдь не отрицал священной национальной и цивилизаторской войны против Вены, а Нафта именно эту его страсть и слабость клеймил презрением. Во всяком случае, пока итальянец пылал патриотизмом, Нафта выдвигал против него в бой христианский космополитизм, утверждал, что считает каждую страну – и никакую – своей родиной и, желая его уязвить, цитировал формулу генерала ордена, Никеля, гласившую, что любовь к родине – «зараза и верная смерть христианской любви».
Понятно, что Нафта называл любовь к родине заразой, ратуя за аскетизм, ибо чего только не подразумевал он под этим словом и что только, на его взгляд, не противоречило аскетизму и царствию божьему! Привязанность к семье и родине и даже простая забота о своем здоровье и жизни, – этой-то заботой он и попрекал гуманиста, когда тот воспевал мир и счастье; он гневно уличал Сеттембрини в любви к плоти, amor carnalis, в любви к телесному комфорту, commodorum corporis, и прямо в глаза говорил ему, что придавать какое-либо значение жизни и здоровью – доказательство чисто буржуазного безверия.
На почве подобного рода разногласий как-то, незадолго до рождества, во время прогулки по снегу до курорта и обратно, состоялся большой коллоквиум о здоровье и болезни, и все они приняли в нем участие: Сеттембрини, Нафта, Ганс Касторп, Ферге и Везаль, – всех немного лихорадило, от ходьбы и разговоров на сильном морозе все чуть осоловели и вместе с тем были возбуждены, всех бросало в озноб, но независимо от того, участвовал ли кто активно в споре, как Нафта и Сеттембрини, или больше слушал, довольствуясь краткими репликами, – все рассуждали с такой горячностью, что не раз в полном самозабвении, перебивая друг друга, останавливались шумной жестикулирующей ватагой посреди тротуара, загораживая дорогу прохожим, которые вынуждены были их огибать или же замедляли шаг и с изумлением прислушивались к их неистовым препирательствам.
Собственно, диспут возник из-за Карен Карстед, бедной Карен с облепленными пластырем кончиками пальцев, которая недавно умерла. Ганс Касторп не знал, что ей вдруг стало хуже и что она скончалась, иначе при известном его пристрастии к похоронам он не преминул бы по-дружески проводить ее в последний путь. Но, поскольку здесь принято было умалчивать о подобного рода вещах, он слишком поздно узнал о кончине Карен и о том, что она, навсегда уже приняв горизонтальное положение, упокоилась под сенью купидона со снежной шапочкой слегка набекрень. «Requiem aeternam…»[83] Он посвятил ее памяти несколько дружеских слов, что побудило господина Сеттембрини иронически отозваться о его сердобольной деятельности, посещениях Лейлы Гернгросс, деловитого Ротбейна, передутой Циммерман, высокопарного сына «Tous-les-deux» и злосчастной Натали фон Малинкрод, да еще пройтись по поводу дорогих цветов, коими инженер вздумал почтить всю эту унылую и смешную компанию. Ганс Касторп на это заметил, что те, кому он оказывал внимание, за исключением пока что фрау фон Малинкрод и мальчика Тедди, как-никак не на шутку умерли, на что Сеттембрини спросил, стали ли они оттого более достойными уважения. Но разве христианский долг не повелевает почтительно склоняться перед страданием, возразил Ганс Касторп. Сеттембрини только было собрался его отчитать, но его опередил Нафта, заговорив о набожно-исступленном служении ближнему, которое знало средневековье, удивительных примерах фанатизма и экстаза в уходе за больными: дочери королей лобзали зловонные раны прокаженных, нарочно от них заражались и потом называли полученные язвы своими розами, пили воду, которой омывали гнойники, и клялись затем, что с ней не сравнится никакой нектар.
Сеттембрини сделал вид, что его сейчас вырвет. Его с души воротит не столько от физического отвращения, которое сами по себе вызывают эти рассказы и картины, сказал он, сколько от чудовищной бессмыслицы подобного представления о деятельном человеколюбии. Впрочем, он вскоре повеселел и приосанился, рассказывая о современных, передовых формах служения человечеству, победоносной борьбе с эпидемиями, и противопоставил всем тем мерзостям гигиену, социальные реформы наряду с достижениями медицины.
– Все эти весьма почтенные на буржуазный взгляд блага, – возразил Нафта, – в те времена вряд ли оказали бы большую услугу как больным и несчастным, так и здоровым и счастливым, которые, оказывая помощь ближнему, движимы были не столько состраданием, сколько заботой о собственной душе. Ибо успешные социальные реформы лишили бы одних – главного средства ко спасению, а других – ореола святости. Поэтому длительное сохранение нищеты и болезней было в интересах обеих сторон, и такой взгляд остается правомерным, пока остается в силе чисто религиозная точка зрения.
«Гнусная точка зрения!» – заявил Сеттембрини, – взгляд, вздорность которого он даже считает ниже своего достоинства оспаривать. Ведь «ореол святости», равно как и то, что инженер с чужих слов говорил о «христианском долге, повелевающем склоняться перед страданием», – сплошной обман, основанный на заблуждении, на ложном представлении, на психологической ошибке. Сострадание, которое здоровый испытывает к больному и возводит до благоговения, потому что не представляет себе, как бы сам он на его месте выносил подобные муки, – сострадание это в высшей степени преувеличено, больные его вовсе не заслуживают, оно не более как плод аберрации мысли и фантазии, поскольку здоровый приписывает больному свои собственные чувства и представляет себе больного как здорового, вынужденного переносить страдания больного, что в корне неправильно. Больной есть больной, у него другая, изменившаяся психика, и ощущает он все по-своему; болезнь так приспосабливает к себе свою жертву, что они преотлично друг с другом уживаются: тут вступают в действие понижение чувствительности, провалы сознания, наконец благодатные наркозы, духовные, нравственные средства приспособления и облегчения, о которых заботится сама природа, чего здоровый по наивности в расчет не принимает. Лучшей иллюстрацией тому служит весь этот туберкулезный сброд здесь наверху, с его легкомыслием, глупостью, распущенностью и недостатком доброй воли и желания выздороветь. Словом, если сострадательно-преклоняющийся перед болезнью вдруг сам бы захворал и перестал быть здоровым, то он живо бы убедился, что больные – это в своем роде тоже сословие, хотя не столь уж благородное, и что он принимал их чересчур всерьез.
Но тут возмутился Антон Карлович Ферге, горой встав на защиту плеврального шока от клеветы и поношений. Как? Что? Слишком серьезно принял свой плевральный шок? Нет уж, покорно благодарю и простите! Его большой кадык и благодушные усы заходили ходуном от такого пренебрежительного отношения к перенесенным им страданиям. Он, конечно, всего лишь простой человек, обыкновенный страховой агент, и ничего не смыслит в высоких материях – даже этот разговор выше его разумения. Но если господин Сеттембрини, например, думает отнести и плевральный шок к тому, что он только что наговорил – эту адскую щекотку с запахом сероводорода и трехцветными обмороками, – то простите, пожалуйста, и покорно благодарю! Какое там понижение чувствительности, благодатные наркозы и аберрация фантазии! Это самая страшная пакость, какая только существует на белом свете, и кто этого не пережил, как он, тот не может иметь об этой гнусности ни малейшего…
– Э-э-э! – протянул господин Сеттембрини. – День ото дня коллапс господина Ферге озаряется все большим величием и блеском, так что скоро он станет носить его вокруг головы наподобие нимба. – Он, Сеттембрини, не очень-то уважает больных, которые требуют, чтобы все им изумлялись. Он сам болен, тяжело болен, но, без всякой рисовки, скорее склонен этого стыдиться. Впрочем, он говорил не по чьему-либо адресу, а в чисто философском плане, и его замечания о различии в природе и характере переживаний больных и здоровых достаточно обоснованны, пусть-ка господа вспомнят о душевных болезнях и, в частности, о галлюцинациях. Положим, кто-нибудь из присутствующих, инженер, скажем, или господин Везаль, сегодня вечером, войдя в сумерках к себе в спальню, увидит там в углу покойного своего папашу[84], который, вперив в него взгляд, заговорит с ним, – это будет для него чем-то из ряда вон выходящим, в высшей степени потрясающим и тяжким переживанием, он глазам своим не поверит, усомнится в своих умственных способностях, выскочит, как ошпаренный, из комнаты и немедля же обратится к психиатру. Разве не так? Но вся штука в том, что этого ни с тем, ни с другим случиться не может, поскольку оба они психически здоровы. А если бы такое с ними все же стряслось, то они были бы не здоровы, а больны, и, следовательно, реагировали бы не как здоровые – то есть не выбежали бы в ужасе из комнаты, а восприняли бы призрак как нечто должное и вступили бы с ним в разговор, как это и делают больные галлюцинациями; полагать же, что галлюцинации вызывают в них здравый страх здорового, и есть та аберрация фантазии, которой подвержены небольные.
Господин Сеттембрини очень забавно и пластично рассказал о папаше в углу. Все невольно рассмеялись, даже Ферге, хотя он и был обижен недостатком уважения к его инфернальным мукам. Гуманист же воспользовался общим весельем, чтобы до конца развенчать и разоблачить всех галлюцинирующих и прочих pazzi[85]: эти люди, заявил он, слишком много себе позволяют и очень часто вполне способны совладать со своим безумием, как ему не раз представлялся случай убедиться при посещениях больниц для умалишенных. Ведь стоит только в палате появиться врачу или постороннему, и сумасшедший, как правило, тут же перестает гримасничать, разглагольствовать и кривляться, и пока думает, что за ним наблюдают ведет себя вполне пристойно, а затем снова распускается. Ибо безумие, несомненно, во многих случаях не что иное, как именно распущенность, оно служит прибежищем от большого горя, своеобразной мерой защиты натуры слабодушной от сокрушительных ударов судьбы, которые вынести в ясном сознании подобный человек не считает себя способным. Прибежище весьма заманчивое для многих, и ему, Сеттембрини, случалось одним только взглядом, тем, что он противопоставлял фиглярству сумасшедшего свое неумолимое здравомыслие, хотя бы на время заставить его обрести ясность рассудка.
Нафта язвительно рассмеялся, а Ганс Касторп заявил, что охотно верит господину Сеттембрини. Когда он представляет себе, как Сеттембрини, усмехаясь в усы, вонзал в сумасшедшего взгляд, исполненный непоколебимого здравомыслия, ему понятно, что бедняга скрепя сердце вынужден был брать себя в руки и обретал ясность рассудка, хотя, надо думать, воспринимал появление господина Сеттембрини как весьма нежелательную помеху… Но Нафта тоже бывал в домах для умалишенных, в частности он припомнил одно посещение «буйного отделения». Боже ты мой, там ему довелось видеть такие сцены и такие картины, перед которыми даже здравомыслящий взгляд и усмиряющее воздействие господина Сеттембрини, вероятно, пропали бы втуне – поистине дантовские сцены, трагикомические картины ужаса и муки: сумасшедшие, скорчившиеся нагишом под струями холодного душа в самых причудливых позах смертельного страха и тупого отчаяния, один – испуская истошные вопли, другие – воздев руки и широко разинув рты, заливаясь смехом, в котором смешались все атрибуты ада…
– Ага! – обрадовался господин Ферге и позволил себе напомнить о том смехе, что вырвался у него самого перед тем, как он впал в коллапс.
Короче говоря, безжалостная педагогика господина Сеттембрини может убираться куда угодно перед картинами буйного отделения, на которые все же человечнее было бы отозваться дрожью благоговейного ужаса, нежели кичливой рассудочной моралистикой, каковой светлейший рыцарь солнца и наместник Соломона[86] предпочитает врачевать безумие.
Гансу Касторпу некогда было раздумывать над новыми титулами, которыми Нафта наградил господина Сеттембрини. Он наспех решил, что выяснит это при первой возможности. А пока что все его внимание поглощала сама беседа, ибо Нафта как раз не без убедительности разбирал общие причины, побуждавшие гуманиста принципиально превозносить здоровье и по мере сил и возможности поносить и унижать болезнь, в чем он, надо признать, проявил удивительное и даже достохвальное самоуничижение, поскольку ведь господин Сеттембрини сам болен. Однако позиция его, при необыкновенном ее благородстве, все же оставалась в корне ошибочной, так как исходила из уважения и благоговения перед телом, а это было бы лишь тогда оправдано, если бы тело пребывало в своем первозданном божественном состоянии, а не в состоянии униженности – in statu degradationis. Ибо сотворенное бессмертным, оно, вследствие грехопадения, утратило свое совершенство, подпало порче и мерзости, сделалось смертным и тленным, не чем иным, как темницей и застенком души, способным пробуждать лишь чувство стыда и смятения, pudoris et confusionis sensum, как сказал святой Игнатий.
– Эти же чувства, – воскликнул Ганс Касторп, – выразил, как известно, и гуманист Плотин. – Но господин Сеттембрини, вскинув руку над головой, предложил ему не вносить путаницы, а лучше ограничиться восприятием излагаемого.
Нафта тем временем объяснял преклонение христианского средневековья перед телесной немощью тем, что вид страдающей плоти всегда вызывал сочувствие в религиозном сознании человека, ибо язвы телесные не только наглядно свидетельствовали о ничтожестве нашей земной оболочки, но весьма поучительным и доставляющим моральное удовлетворение образом выявляли пагубную испорченность души, тогда как цветущее тело было явлением оскорбительным для религиозного сознания и лишь вводило в заблуждение, и противоборствовать ему, уничижая его перед немощью, было великим благодеянием. Quis me liberabit de corpore mortis hujus? Кто избавит меня от тела смерти сей? Вот глас духа, который всегда был и будет гласом подлинно человеческим.
Нет, то был глас тьмы, по взволнованному заверению господина Сеттембрини, глас мира, над которым не воссияло еще солнце разума и человечности. Пусть тело его поражено пагубной гнилью, но дух свой он сумел сохранить достаточно здравым и невредимым, чтобы достойным образом дать отпор поповским воззрениям Нафты на тело и вволю поиздеваться над так называемой «душой». Итальянец позволил себе даже прославлять человеческое тело, яко истинный храм божий, на что Нафта заявил, что бренная эта ткань не более как завеса между нами и вечностью, после чего Сеттембрини запретил ему когда-либо произносить слова «человек», «человеческое» и так далее.
Без шляп, с онемевшими от мороза лицами, то шагая в резиновых ботах по поскрипывающему и посыпанному золой снежному слою, наросшему на тротуарах, то вспахивая рыхлый снег мостовых, Сеттембрини в зимней куртке с бобровым воротником и обшлагами, будто изъеденными паршой – так на них повытерся мех, – что, впрочем, не мешало ему носить куртку со всегдашней своей элегантностью, – Нафта в длинном до пят и наглухо застегнутом по самый подбородок черном пальто без воротника, но на меху – они спорили об этих принципах, словно дело шло о чем-то сугубо личном, причем часто обращались даже вовсе не друг к другу, а к Гансу Касторпу, которому говоривший, лишь движением головы или большого пальца указывая на оппонента, излагал и доказывал свою мысль. Затиснутый между ними Ганс Касторп, поворачивая голову из стороны в сторону, соглашался то с одним, то с другим или же останавливался и, откинув назад корпус и жестикулируя рукой в теплой шевровой перчатке, принимался доказывать что-то свое, и уж конечно весьма невразумительное, а Ферге и Везаль кружили вокруг этой троицы, держась либо впереди, либо позади или же пристраиваясь с боков, пока попадавшиеся навстречу прохожие вновь не ломали строя.
Именно благодаря их замечаниям дискуссия перекинулась на более конкретные предметы. Так, при все возрастающей активности всех присутствующих, в стремительном темпе, одна за другой, подверглись обсуждению такие проблемы, как кремация, телесные наказания, пытка и смертная казнь. Вопрос об экзекуциях поднял Фердинанд Везаль, что, по мнению Ганса Касторпа, вполне ему пристало. Не удивительно, что господин Сеттембрини в высокопарных выражениях и взывая к человеческому достоинству высказался против применения этой варварской меры как в педагогике, так тем более в правосудии, – и тоже совершенно не удивительно, что Нафта выступил в пользу порки, хотя мрачная дерзость его утверждений всех несколько смутила. По его словам получалось, что болтать о человеческом достоинстве в данном случае просто нелепо, ибо вместилищем истинного достоинства является дух, а не плоть, и так как человек чересчур даже склонен извлекать все радости жизни из тела, то наносимая телу боль весьма подходящее средство, чтобы отбить у него охоту к чувственным наслаждениям и обратить его помыслы, так сказать, от плоти к духу, дабы дух вновь восторжествовал. Усматривать в таком средстве наказания, как побои, что-то особенно постыдное – попросту глупо. Духовный наставник святой Елизаветы Конрад Марбургский высек ее до крови, после чего «душа ее», как говорится в «Житии», «вознеслась до третьего ангельского чина», и сама она наказала розгами бедную старуху, клевавшую носом на исповеди. А самобичевания, которым предавались члены некоторых орденов и сект, да и вообще люди благочестивые, чтобы укрепить в себе духовное начало, – неужели кто-нибудь всерьез осмелится назвать и это варварством и бесчеловечностью? Думать же, что отмена законодательным путем телесных наказаний в некоторых мнящих себя передовыми странах в самом деле является чем-то прогрессивным, просто смешно, и непоколебимость этого представления лишь придает ему еще больший комизм!
Одно во всяком случае следует признать, заметил Ганс Касторп, в противоречии духа и плоти: злое сатанинское начало, несомненно, воплощает собою плоть, ха-ха, значит, все-таки воплощает, так как плоть, естественно, является естественным началом – естественно естественным, это тоже недурно! – а природа, в противоположность духу, разуму бесспорно зла, можно, основываясь на своих знаниях и опыте, даже рискнуть сказать – мистически зла. Если же придерживаться этой точки зрения, то вполне логично соответствующим образом и обходиться с телом, а именно – подвергать его дисциплинирующим мерам воздействия, которые, тоже с некоторым риском, можно бы назвать мистически злыми. Кто знает, быть может, если бы у господина Сеттембрини, когда он, по телесной своей слабости, не смог отправиться на конгресс деятелей прогресса в Барселону, оказалась бы под боком такая вот святая Елизавета[87]…
Все дружно рассмеялись, и поскольку гуманист готов был вспылить, Ганс Касторп поспешно рассказал о том, как его самого однажды в детстве высекли: в низших классах гимназии, когда он учился, это наказание частично еще применялось, там всегда стояла наготове лоза, учитель, правда, не решался поднять на него руку, памятуя об общественном положении его родителей, зато один из его одноклассников, эдакий здоровенный верзила, всыпал ему таки тонким гибким прутом по ягодицам и икрам в одних только чулках, и это было ужасно, чертовски больно, гнусно, незабываемо, просто-таки мистично, от злости и унижения у него из глаз брызнули слезы, и он самым постыдным образом громко всхлипывал, впрочем Ганс Касторп читал где-то, что на каторге даже матерые грабители и убийцы, когда их подвергают телесным наказаниям, хнычут, как малые дети.
Сеттембрини закрыл лицо руками в сильно потрепанных кожаных перчатках, а Нафта, с невозмутимостью государственного деятеля, пожелал узнать, чем же обуздывать закоренелых преступников, как не плетями и батогами, которые, кстати сказать, совершенно в стиле каторжной тюрьмы и вполне там уместны; гуманная каторжная тюрьма – это ублюдок, эстетический компромисс, и господин Сеттембрини, хоть он и поклонник прекрасного слога, по существу ничего не смыслит в прекрасном. А что касается педагогики, то, со слов Нафты, получалось, что представление о человеческом достоинстве тех, кто ратует за уничтожение телесных наказаний, восходит к либеральному идеализму эпохи буржуазного гуманизма, коренится в просвещенном абсолютизме человеческого «я», который в недалеком будущем отомрет и уступит место уже нарождающимся, менее дряблым общественным идеям, идеям общности и подчинения, принуждения и послушания, при которых без священной жестокости никак не обойтись и которые заставят взглянуть иными глазами на наказание человеческого падла.
Отсюда и формула «повиноваться, как падло»[88], съязвил Сеттембрини, и так как Нафта заметил, что, поскольку господь бог, карая нас за первородный грех, подверг наше тело стыду и сраму тления, в конце концов не такая уж беда, если это же самое тело когда-нибудь и высекут, – подумаешь какое оскорбление величества! – разговор тут же перекинулся на кремацию.
Сеттембрини восхвалял ее на все лады. Этого стыда и срама очень легко избежать, радостно провозгласил он. Человечество, по причинам целесообразности и движимое идеальными побуждениями, вскоре навсегда избавится от них. И он объявил, что участвует в подготовке международного конгресса сторонников кремации, который, очевидно, состоится в Швеции. Там будет демонстрироваться образцовый крематорий, оборудованный по последнему слову техники, а также колумбарий, что, несомненно, вдохновит и привлечет к ним очень многих. Да и то сказать, что за устарелый архаический способ – погребение в земле, и до чего же он не созвучен условиям нашего времени. Взять хотя бы рост городов! Оттеснение так называемых кладбищ, занимающих огромную площадь, из центра на окраину! Цены на землю! Прозаизм похорон, которого не избежать, когда приходится пользоваться современными видами транспорта! У господина Сеттембрини многое что нашлось сказать прозаически-верного по этому поводу. Он потешался над согбенной горем фигурой вдовца, каждый божий день совершающего паломничество к могиле дорогой усопшей, чтобы там, на месте, беседовать с нею наедине. У такого идиллика должна быть бездна самого драгоценного на свете блага, а именно – свободного времени, не говоря уже о том, что шум и толкучка современного, расположенного в самом центре города кладбища живо отбили бы у него охоту к атавистическому сентиментальничанию. Уничтожение трупа огнем – какая опрятная, гигиеническая, достойная, даже героическая перспектива по сравнению с бесславным саморазложением и ассимиляцией низшими организмами! Да и чувства наши как-то легче мирятся с новым способом, больше отвечающим потребности человека в бессмертии. Ведь огонь поглощает без остатка именно изменчивые, еще при жизни подверженные обмену веществ части тела; те же, что наименее втянуты в общий круговорот и почти без изменения сопутствуют человеку в его зрелые годы, наиболее огнестойки, из них-то и получается пепел, стало быть с пеплом родные и близкие сохраняют то, что в покойном было действительно непреходящим.
– Чудесно! – сказал Нафта. – Нет, это в самом деле очень, очень мило. Непреходящее в человеке – это пепел.
Ну конечно, Нафте любо-дорого, чтобы человечество оставалось при своем иррациональном отношении к биологическим фактам, он хотел бы удержать его на той примитивной ступени религиозности, когда смерть являлась пугалом и была овеяна такой внушающей страх таинственностью, что никто не решался взглянуть на этот феномен ясным оком разума. Что за варварство! Страх смерти возник в эпоху, когда культура стояла на чрезвычайно низком уровне и насильственная смерть была правилом, и вот то ужасное, что в самом деле присуще такого рода кончине, на долгое время связалось в представлении людей с мыслью о смерти вообще. Но теперь, благодаря развитию здравоохранения и укреплению личной безопасности, естественная смерть все больше становится нормой, и современному трудящемуся мысль о вечном покое, после закономерного истощения его сил, не только не кажется ужасной, но скорее нормальной и даже желанной Нет, смерть не пугало и не тайна, это простое, разумное, физиологически необходимое явление, которое можно только приветствовать, и размышлять о ней долее положенного значит обкрадывать жизнь. Потому-то и предполагалось пристроить к образцовому крематорию и прилегающему к нему колумбарию, так сказать, к «залу смерти», еще и «зал жизни», где архитектура, живопись, скульптура, музыка и поэзия совокупными усилиями создадут обстановку, отвлекающую эмоции живых от переживаний смерти, тупой печали и бесплодных сетований к радостям жизни…
– И галопом! – сыронизировал Нафта. – Чтобы только не справлять тризну по усопшему долее положенного, только не впадать в излишнее благоговение перед таким простым фактом, без которого, однако, не существовало бы ни архитектуры, ни живописи, ни скульптуры, ни музыки, ни поэзии.
– Он дезертирует к знамени, – мечтательно произнес Ганс Касторп.
– Невразумительность вашего замечания, инженер, – срезал его Сеттембрини, – уже сама говорит о его порочности. Как ни крути, переживание смерти – это все еще жизненное переживание, либо смерть просто пугало.
– Будут ли в «зале жизни» изображены эротические символы, как на древних саркофагах? – вполне серьезно осведомился Ганс Касторп.
– Во всяком случае, там будет полное раздолье чувственным эмоциям, – заверил Нафта. – Устроители, чей вкус явно тяготеет к античности, позаботятся о том, чтобы там и в мраморе и на холсте было возвеличено человеческое тело, то греховное тело, которое спасают от тления, что и не удивительно, ибо от великой к нему нежности даже не разрешают больше его наказывать.
Тут вмешался Везаль, поставив на обсуждение вопрос о пытках, что от него и следовало ожидать. Как относятся господа к допросу с пристрастием? Он, Фердинанд, разъезжая по делам, никогда не упускал случая в старинных культурных центрах посетить те потаенные места, где некогда применяли подобное своеобразное испытание совести. Он побывал в застенках Нюрнберга, Регенсбурга и для пополнения своего образования тщательно с ними ознакомился. Слов нет, там ради спасения души действительно отнюдь не нежничали с телом, придумав для этого немало остроумных способов. И даже крику не было. Запихнут в рот кляп, знаменитую деревянную грушу – само по себе не такое уж лакомство, – и тогда уже спокойно приступают к делу.
– Porcheria[89], – пробормотал Сеттембрини.
Ферге, отдав должное груше и спокойной деловитости, все же добавил, что, однако, большей пакости, чем ощупывание плевры, и тогда никто не мог бы изобрести.
Да ведь это делалось для его же пользы!
Но закоснелая душа и попранная справедливость не в меньшей мере оправдывали временную жестокость. А кроме того, пытка – плод того же рационалистического прогресса.
Нафта, видимо, не в своем уме.
Нет, в своем более или менее. Господин Сеттембрини – прекраснодушный эстет и, очевидно, мало знаком с историей средневекового судопроизводства. Оно шло на все большие и большие уступки рационализму, так что постепенно, в угоду доводам рассудка, бога окончательно вытеснили из юриспруденции. От суда божьего пришлось отказаться, ибо было замечено, что побеждает сильнейший, хотя бы даже он был и неправ. Люди, подобные господину Сеттембрини, маловеры, критиканы обратили на это внимание и добились того, что место старого, наивного судопроизводства заняла инквизиция, не полагавшаяся более на божье вмешательство в пользу правого и стремившаяся достичь признания истины от обвиняемого. Ни одного осуждения без собственного признания – достаточно прислушаться к тому, что еще сегодня говорят в народе: это инстинктивное убеждение очень крепко засело в головах людей, и как бы ни была последовательна цепь доказательств, без признания обвинительный приговор все же покажется всем незаконным. Как же его добиться? Как помимо одних только улик, одних только подозрений открыть правду? Как заглянуть в сердце, в мозг человека, который эту правду утаивает и все отрицает? Если дух упорствует, то не остается ничего другого, как обратиться к телу – уж оно-то в нашей власти! Применение пытки, как средства добиться нужного до зарезу признания, диктовалось разумом. Но если уж говорить о том, кто требовал и ввел категорию признания в судопроизводство, то сделал это не кто иной, как господин Сеттембрини, а стало быть, он и есть инициатор пыток.
Гуманист умолял своих спутников не верить ни единому слову Нафты. Все это от лукавого. Если бы все было так, как излагает господин Нафта, если бы разум в самом деле оказался изобретателем подобных ужасов, это только доказывало бы, сколь разум во все времена нуждался в поддержке и в просвещении и сколь необоснованны опасения поклонников природного инстинкта, что на земле все станет чересчур уж разумным. Однако предыдущий оратор попал пальцем в небо. Все эти процессуальные ужасы уже потому только нельзя приписать разуму, что в основе их лежала вера в существование ада. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в музеи и застенки: дыба, крючья, огонь, клещи, – все это, совершенно очевидно, плод фантазии людей, в детском ослеплении своем набожно стремившихся воспроизвести вечные муки, которые ждут грешников на том свете. Более того, ведь преступнику искренне желали помочь. Полагали, что бедная его душа жаждет признания и только плоть в качестве злого начала противится благому порыву. Поэтому считали, что, сокрушая плоть, преступнику оказывают истинную услугу. Аскетическое безумие…
– А древние римляне тоже ему были подвержены?
– Римляне? Ma che![90]
– Но ведь и они применяли пытку, как средство дознания.
Общее замешательство. Логика пасовала… Ганс Касторп попытался вывести всех из тупика, самочинно выдвинув проблему смертной казни, словно подобная тема была ему по плечу. Пытки, правда, отменили, но у следователя имелось достаточно средств допечь обвиняемого с тем, чтобы он стал более сговорчив. А вот смертная казнь, по-видимому, бессмертна, без нее не обойтись. Даже самые цивилизованные нации крепко за нее держатся. Французы ничего хорошего не добились, ссылая преступников в колонии. Просто никто толком не знает, как практически поступить с некоторыми человекоподобными особями, разве только укоротить их на голову.
Это вовсе не «человекоподобные», поправил его господин Сеттембрини, а такие же люди, как уважаемый инженер и он сам, только слабовольные и павшие жертвой несовершенного общественного строя. И он рассказал о крупном преступнике, матером убийце, том самом типе «кровожадного зверя» и «скота в человеческом образе», как любят выражаться в обвинительных речах прокуроры, – этот человек исписал стены своей камеры стихами. И совсем не плохими стихами, – намного лучше тех виршей, которые подчас слагают сами столпы правосудия.
– Это несколько неожиданным образом освещает природу искусства, – заметил Нафта. В остальном же он не видит тут ничего особенного.
Ганс Касторп ожидал, что господин Нафта выскажется за сохранение смертной казни. Нафта, считал он, вероятно, не менее революционен, чем господин Сеттембрини, но в охранительном смысле, революционер-охранитель.
Мир, самоуверенно усмехнулся господин Сеттембрини, перешагнет через так называемую «революцию» антигуманного регресса и приступит к тем задачам, которые стоят в порядке дня. Господин Нафта скорее готов бросить тень на искусство, чем признать, что оно способно поднять даже самое отверженное создание до высокого звания человека. Таким фанатизмом не завоюешь ищущей светоча молодежи. Недавно основана интернациональная лига, которая ставит себе целью уничтожение законодательным порядком смертной казни во всех цивилизованных странах. Господин Сеттембрини имеет честь быть ее членом. Пока еще неизвестно, где состоится первый конгресс лиги, но человечество может не сомневаться, что ораторы, которые выступят на нем, будут иметь в своем арсенале достаточно веские доводы. И он привел эти доводы, в частности тот, что никогда не исключена возможность судебной ошибки, казни невинного, так же как и тот, что никогда не следует отчаиваться и терять надежду на исправление; даже «мне отмщение» процитировал он, уверяя, что государство, если оно хочет воспитывать, а не карать, не должно платить злом на зло, и отверг понятие «наказания», после того как, основываясь на научном детерминизме, опроверг понятие «вины».
Вслед за тем «ищущей светоча» молодежи дано было лицезреть, как Нафта расправляется со всеми его доводами, так что только пух и перья летят. Иезуит потешался над кровобоязнью друга человечества и его жизнепочитанием, утверждал, что такое низкопоклонничество перед жизнью отдельного человека свойственно лишь пошлейшим эпохам «буржуа с зонтиком», но когда страсти разгораются, когда в игру вступает идея, возвышающаяся над «идеей безопасности», стало быть нечто, стоящее выше личного, выше индивидуального, а такое положение по существу нормально, ибо лишь оно достойно человека – отдельной жизнью всегда бесцеремонно жертвовали ради высшей идеи, более того, – сам индивид добровольно и не колеблясь возлагал ее на алтарь. Филантропия его уважаемого противника, сказал он, хочет устранить из жизни все ее тяжелые и трагические моменты, иными словами – выхолостить жизнь, как то и старается сделать детерминизм его псевдонауки. Но дело в том, что детерминизм не только не упраздняет понятие вины, напротив, он-то и отягощает ее, делает еще ужасней.
Превосходно, но уж не требует ли он, чтобы злосчастная жертва общества всерьез осознала себя виновной и сама, по убеждению, взошла на эшафот.
Без сомнения. Преступник весь преисполнен своей виной, как преисполнен собственной личностью. Ибо он таков, каков есть, и не может, да и не хочет быть иным, и в этом-то и заключается его вина. Господин Нафта переносил понятие вины и заслуги из эмпирической области в метафизическую. Правда, в действиях, в поступках господствует строгий детерминизм, здесь нет свободы, но в бытии свобода существует. Человек таков, каким он пожелал быть и не перестанет желать до скончания своих дней. Убивать – его страсть, она человеку буквально «дороже жизни», и, следовательно, расплачиваясь за эту страсть своей жизнью, он платит не слишком дорого. Ему можно теперь умереть, ибо он удовлетворил свою глубочайшую страсть.
– Глубочайшую страсть?
– Да, глубочайшую.
Все поджали губы. Ганс Касторп кашлянул. Везаль скривил рот. Господин Ферге вздохнул. Сеттембрини тонко заметил:
– По-видимому, существует такая манера обобщать, которая даже самым отвлеченным рассуждениям придает субъективную окраску. У вас есть страсть к убийству?
– Это вас не касается. Но если бы я убил, то рассмеялся бы в лицо тому невежественному гуманисту, который захотел бы держать меня до моей естественной кончины на тюремной похлебке. Нет никакого смысла в том, чтобы убийца пережил убитого. С глазу на глаз, схоронившись от всех, один претерпевая, другой действуя, как это бывает с двумя человеческими существами лишь в одном еще сходном случае, они приобщились к тайне, которая навек их связала. Они слиты воедино.
Сеттембрини холодно признал, что у него, по-видимому, отсутствует орган чувств, способный воспринимать столь смертоубийственную мистику, и он нисколько о том не сожалеет. Он не хочет сказать ничего худого о метафизических дарованиях господина Нафты – они, несомненно, превышают его собственные, однако отнюдь не вызывают его зависти. Непреодолимая брезгливость держит его вдали от сферы, где то самое преклонение перед страданием, о котором перед тем упоминала экспериментирующая молодежь, царит не единственно в отношении тела, но и духа, – короче говоря, той сферы, где ни во что не ставится добродетель, разум, здоровье и зато бог весть как превозносятся порок и патология.
Нафта подтвердил, что добродетель и здоровье действительно ничего общего не имеют с религиозностью. Будет только хорошо, сказал он, если мы сразу оговорим, что религия не имеет никакого отношения ни к разуму, ни к нравственности. Ибо, добавил он, она не имеет никакого отношения к жизни. Жизнь определяется условиями и основами, отчасти связанными с теорией познания, отчасти с областью морали. Первые именуются временем, пространством, причинностью, вторые – нравственностью и разумом. Все это не только в корне чуждо и безразлично сущности религии, но и прямо ей враждебно, ибо они-то и составляют жизнь, так называемое здоровье, то есть: архифилистерство и сверхбуржуазность, абсолютной, притом абсолютно гениальной противоположностью которым и следует признать религиозный мир. Впрочем, он, Нафта, не собирается всецело отрицать возможность гениальности в сфере жизни. Существует такой вид жизнеутверждающей буржуазности, монументальное достоинство которой неоспоримо, филистерское величие, коему нельзя не воздать должного, если почесть его, это широко расставившее ноги – руки за спину, грудь вперед – буржуазное самодовольство за воплощенное безверие.
Ганс Касторп поднял руку, как в школе. Он не хочет задевать ни того, ни другого, сказал он, но, по-видимому, речь идет о прогрессе, человеческом прогрессе, а тем самым в какой-то мере о политике, о риторической республике и цивилизации просвещенного Запада, и вот он думает, что различие или, если господин Нафта непременно так хочет, противоречие между жизнью и религией нужно искать в противоречии между временем и вечностью. Ибо прогресс может существовать только во времени; в вечности нет прогресса, как нет политики и риторики. Там, препоручая себя богу, закидываешь, так сказать, назад голову и закрываешь глаза. В этом и заключается разница между религией и нравственностью, выраженная, правда, сумбурно.
Не столько наивность его манеры выражать свои мысли внушает тревогу, сказал Сеттембрини, сколько его боязнь кого-то задеть и тем самым готовность идти на уступки черту.
Ну, о дьяволе они уже более года назад как беседовали, господин Сеттембрини и он, Ганс Касторп. «О Satana, о ribellione!» Какому же дьяволу он, собственно говоря, пошел на уступки? Тому, что за бунт, за труд, за критику, или другому? Так и погибнуть не трудно – черт справа, черт слева, как же тут, черт возьми, выбраться целым и невредимым!
В толковании Касторпа, сказал Нафта, взаимосвязь понятий, как они представляются господину Сеттембрини, искажена. Основное в миропонимании его оппонента то, что он превращает бога и дьявола в два обособленные существа или принципа, а «жизнь», кстати говоря, точь-в-точь по средневековому образцу, помещает между ними как объект спора. В действительности же оба они в совокупности противостоят жизни, «жизнеутверждающей буржуазности», этике, разуму, добродетели, – противостоят как религиозный принцип, который они сообща и представляют.
– Что за тошнотворный винегрет – che guazzabuglio proprio stomachevole! – воскликнул Сеттембрини. – Добро и зло, святость и порок – все вперемешку! А где же критика? Где воля? Где право проклинать то, что проклято? Понимает ли господин Нафта, что он отрицает, когда в присутствии молодежи валит в одну кучу бога и дьявола и во имя этого безнравственного двуединства отвергает этический принцип! Он отрицает критерий ценности, даже страшно сказать – всякий критерий оценки. Хорошо, допустим, что нет добра и зла, а лишь одна нравственно неупорядоченная вселенная. Нет и отдельной личности, которой способность к критике и придает человеческое достоинство, а существует лишь всепоглощающая и нивелирующая общность, мистическое растворение в ней. Индивидуум…
Восхитительно, что господин Сеттембрини опять возомнил себя индивидуалистом! Чтобы им быть, надо все же представлять себе различие между нравственностью и благодатью, чего безусловно нельзя сказать про нашего уважаемого мониста и иллюмината[91]. Там, где жизнь весьма тупоумно представляется самоцелью и не задают себе вопроса о высшем ее смысле и цели, там господствует родовая и социальная этика, мораль позвоночных, а не индивидуализм, которому открывается простор лишь в сфере религиозной и мистической, в так называемой «нравственно неупорядоченной вселенной». А что представляет и на что может претендовать столь ценимая господином Сеттембрини нравственность? Она по рукам и по ногам связана жизнью, – стало быть, чисто утилитарна, стало быть, на редкость убога и негероична, достойна сожаления. Она учит, как дожить до глубокой старости счастливым, богатым и здоровым и ничего больше. Вот это-то рассудочное и сугубо практическое филистерство заменяет ему этику. Что касается Нафты, то он позволит себе еще раз назвать ее жалкой жизнеутверждающей буржуазностью.
Сеттембрини просил его умерить свой полемический пыл, но у него самого голос дрожал от волнения, когда он указал на нетерпимость того, что Нафта постоянно толкует о жизнеутверждающей буржуазности каким-то бог весть почему аристократически-пренебрежительным тоном, словно противоположное, а ведь известно, что противоположно жизни – нечто особенно благородное!
Опять только громкие слова и фразы! Теперь они заспорили о благородстве и аристократизме! Ганс Касторп, разгоряченный и ослабевший от мороза и непосильных проблем, не соображая, насколько вразумительны или лихорадочно смелы употребляемые им выражения, онемевшими губами промямлил, что всегда представлял себе смерть в накрахмаленных испанских брыжах или во всяком случае, так сказать, в полупарадной форме, с высоким, подпирающим подбородок воротником, а жизнь, наоборот, в таком обычном современном отложном воротничке… Но затем сам испугался произнесенных, будто спьяну или в бреду, неприличных слов и стал уверять, что вовсе не то хотел сказать. Но ведь правда, что есть люди, определенная категория людей, которых просто невозможно представить себе мертвыми, именно потому, что уж очень они обыденны! То есть так уж они жизнеспособны, что кажется, будто они никогда не умрут, будто они недостойны таинства смерти.
Господин Сеттембрини выразил твердую надежду, что Ганс Касторп говорит все это лишь затем, чтобы ему возражали. Молодой человек может быть уверен, что ему всегда с радостью будет оказана всяческая помощь в его духовной борьбе с подобными заскоками. «Жизнеспособны», говорит он? «Жизнедостойны» – вот какое слово следовало бы употребить, и тогда понятия предстали бы перед ним в их стройной и изящной последовательности. «Жизнедостойны» – и сразу же по простейшей и закономернейшей аналогии напрашивается понятие «любвидостойны», самым тесным образом связанное с первым, так что мы вправе сказать, что лишь истинно достойное жизни одновременно и истинно достойно любви. А оба вместе, то есть достойное жизни и, стало быть, любви, составляют то, что мы именуем благородством.
Ганс Касторп счел это восхитительным и весьма интересным. Господин Сеттембрини, сказал он, совершенно пленил его своей пластической теорией. Ибо что ни говори, – а кое-что можно бы возразить, ну, например, что болезнь – приподнятое жизненное состояние и, следовательно, в ней есть нечто торжественное, – одно несомненно ясно, болезнь выдвигает на первый план телесное начало, заставляет человека целиком и полностью концентрироваться на своем теле и таким образом губительна для достоинства человека, которого она принижает, оставляя ему одно только тело. Следовательно, болезнь обесчеловечивает.
Болезнь в высшей степени человечна, не замедлил возразить Нафта; ибо быть человеком значит быть больным. Человеку присуща болезнь, она-то и делает сто человеком, а тот, кто хочет его оздоровить, заставить его пойти на мировую с природой, «вернуть к естественному состоянию» (в котором, кстати, он никогда не пребывал), все эти подвизающиеся ныне обновители, апостолы сырой пищи, проповедники воздушных и солнечных ванн, всякого рода руссоисты, добиваются лишь его обесчеловечивания и превращения в скота… Человечность? Благородство? Дух – вот что отличает от всей прочей органической жизни человека, это в большой степени оторвавшееся от природы, в большой степени противопоставляющее себя ей живое существо. Стало быть, в духе, в болезни заложено достоинство человека и его благородство; иными словами: в той мере, в какой он болен, в той мере он и человек; гений болезни неизмеримо человечнее гения здоровья. Можно только удивляться, что тот, кто изображает из себя друга человечества, закрывает глаза на такие основные человеческие истины. Господин Сеттембрини на все лады склоняет слово прогресс. Но разве прогресс, если он в самом деле существует, не обязан всем болезни, то есть гению, – а что такое гений, как не болезнь! И разве здоровые во все времена и эпохи не жили открытиями, добытыми болезнью! Были люди, которые сознательно и намеренно обрекали себя на болезнь и безумие, чтобы добыть людям знания, служившие здоровью, после того как были обретены безумием, и обладание и пользование которыми после подобного акта героического самопожертвования уже не предопределялось болезнью и безумием. Это и есть истинная Голгофа.
«Ах ты впадший в ересь иезуит с комбинациями! – подумал Ганс Касторп. – Так вот как ты толкуешь Голгофу! Теперь понятно, почему ты не стал патером, joli jesuite a la petite tache humide![92] Ну-ка, рыкни на него погрознее, лев!» – мысленно обратился он к Сеттембрини. И лев «рыкнул», объявив все, что перед тем утверждал Нафта, фантасмагорией, казуистикой, развращением умов. – Скажите прямо и недвусмысленно, – кричал он своему оппоненту, – скажите со всей ответственностью воспитателя и наставника перед лицом этих юных неофитов, что дух есть болезнь! Без сомнения, это поистине пробудит в них дух и заставит их уверовать в него! А если вы к тому же объявите болезнь и смерть благородными, а здоровье и жизнь подлыми, то это будет вернейший способ вдохновить малых сих на служение человечеству. Davvero, e criminoso![93] – И он как рыцарь ринулся в бой на защиту благородства здоровья и жизни, которые дарует природа и которым незачем тревожиться о духе. «Форма!» – говорил он, а Нафта высокопарно отвечал: «Логос!» Но тот, который знать ничего не хотел о логосе, возглашал: «Разум!» – тогда как поборник логоса ратовал за «страсть». Это сбивало с толку. «Объект!» – кричал один. «Субъект!» – восклицал другой. Под конец один даже заговорил об «искусстве», а другой о «критике», и, конечно, снова и снова речь шла о «природе» и «духе» и о том, что из них более благородно, о «проблеме аристократизма». Но никакой стройной и ясной концепции не получалось, пусть даже не одной, а двух противоположных и враждующих; ибо все говорилось не только в пику противнику, но и невпопад, и оппоненты не только противоречили друг другу, но и самим себе. Сеттембрини, который раньше неоднократно пел дифирамбы критике, теперь ссылался на то, в чем видел ее антипод, на искусство, как на аристократический принцип. А Нафта, обычно защищавший природный инстинкт в своих спорах с Сеттембрини, который трактовал природу как «слепую силу» и «грубый факт и рок», перед коими разум и гордость человеческая никогда не должны смиряться, теперь становился на сторону духа и болезни, в них только и видя благородство и человечность, тогда как итальянец, позабыв об эмансипации духа, выступал как адвокат природы и благородства, даруемого ей здоровьем. Не менее путано обстояло дело и с «объектом» и «субъектом». Здесь и так уже царившая неразбериха достигла своего апогея, и никто толком не знал, кто из них, собственно, благочестив, а кто свободомыслящ. Нафта, разя противника, запретил Сеттембрини называть себя «индивидуалистом», ибо он отрицает противоречие между богом и природой, видит проблему человеческой личности, основу ее внутреннего конфликта исключительно в противоречии между личными и общими интересами, а следовательно, является ярым приверженцем связанной с жизнью буржуазной морали, почитающей жизнь самоцелью, весьма негероично пекущейся лишь о пользе и усматривающей в благе государства высший нравственный закон, тогда как он, Нафта, хорошо зная, что проблема человеческой души прежде всего состоит в столкновении чувственного и сверхчувственного, выступает поборником подлинного, мистического индивидуализма, истинным защитником свободы и субъекта. Так ли это, думал Ганс Касторп, и как же это согласуется с «безымянным и коллективным» – чтобы в качестве примера сразу указать хотя бы на одну из бесчисленных несообразностей? И как же тогда быть с теми оригинальными замечаниями, которыми юный Нафта захотел поразить патера Унтерпертингера: с католицизмом государственного философа Гегеля и внутренней связью, существующей между «политикой» и «католицизмом», с категорией «объективного», к которому оба эти понятия принадлежат? Разве искусство управления государством и воспитание не представляли излюбленного поля деятельности ордена, к которому принадлежал Нафта?[94] И какое воспитание! Господин Сеттембрини, несомненно, ревностный педагог, ревностный до того, что становился подчас назойливым и обременительным, но в отношении аскетического, попирающего личность объективизма его принципы никак не могли тягаться с принципами Нафты. Категорический приказ! Железная спаянность! Насилие! Послушание! Террор! В этих принципах могло быть свое благородство, но достоинство индивидуума и его право на критику здесь вряд ли принимались в расчет. То был строевой устав пруссака Фридриха и испанца Лойолы, жесткий и ортодоксальный до кровавого пота, но тут возникал вопрос: каким образом Нафта, собственно говоря, пришел к такой кровавой необходимости, раз он, по его собственным словам, не верил ни в какое чистое познание и беспристрастное исследование, – словом, не верил в истину, объективную научную истину, стремление к которой было для Лодовико Сеттембрини высшим законом человеческой нравственности? Сеттембрини в данном случае был ортодоксален и строг, а Нафта – морально шаток и распущен, поскольку он пристегивал истину к человеку и заявлял: истинно то, что человеку на пользу! Разве не жизнеутверждающая буржуазность и не филистерский утилитаризм ставить истину в такую тесную зависимость от интересов человека? Какая же это железная объективность? В этом больше свободы и субъективизма, чем на то согласился бы Лео Нафта, и вместе с тем это, конечно, политика, такая же политика, как и нравоучительное изречение Сеттембрини: свобода есть высший закон человеколюбия. Разве это не значило связать свободу, как Нафта связывал истину, а именно, связать ее с человеком. Тут было, несомненно, больше ортодоксального благочестия, нежели свободомыслия, это опять-таки различие, которое в подобного рода спорах легко может быть утрачено совсем. Ах, этот господин Сеттембрини! Недаром же он литератор, то есть внук политика и сын гуманиста. Он прекраснодушно толковал о критике и красоте духовного раскрепощения и подмигивал девушкам на улице, тогда как язвительно-острого маленького Нафту связывали строгие обеты. И все же последний был чуть ли не распутником от избытка свободомыслия, а первый, если угодно, помешан на добродетели. Господин Сеттембрини побаивался «абсолютного духа» и во что бы то ни стало хотел пристегнуть дух к демократическому прогрессу, возмущаясь религиозным вольнодумством воинственного Нафты, который валил в одну кучу бога и дьявола, святость и порок, гениальность и болезнь и не желал признавать никакой оценки, никакого приговора разума, никакой воли. Кто же из них свободомыслящий и кто благочестивый и в чем истинное назначение человека и его царства: в отказе от своего «я» и растворении во всепоглощающем и нивелирующем коллективе, безнравственном и в то же время аскетическом, или же в «критическом субъективизме», в котором непозволительным образом переплелись краснобайство и суровая гражданская доблесть. Ах, принципы и взгляды то и дело переплетались, внутренних противоречий было хоть пруд пруди, и настолько трудным представлялось осознавшему свою ответственность штатскому не только выбрать из них что-нибудь одно, но даже просто их рассортировать и, как препараты в гербарии, держать в порядке и чистоте, что подчас возникало большое искушение – броситься вниз головой в «нравственно неупорядоченную вселенную» Нафты. Все смешалось и переплелось, и Ганс Касторп втайне подозревал, что спорщики, вероятно, не полемизировали бы с таким ожесточением, если бы их не угнетало сознание сей великой путаницы.
Все вместе поднялись к «Берггофу», затем те трое, которые жили там, проводили иезуита и итальянца к их домику и еще долго стояли там на снегу, пока Нафта и Сеттембрини спорили – исключительно в педагогических целях, как прекрасно понимал Ганс Касторп, с тем, чтобы обработать мягкую, как воск, «ищущую светоча» молодежь. Для господина Ферге, как он сам неоднократно давал понять, это были слишком высокие предметы. Везаль же утратил интерес к дискуссии, лишь только перестали говорить о порке и пытках. Ганс Касторп, опустив голову, ковырял тростью снег и размышлял о великой путанице.
Наконец они расстались. Сколько ни стой, а ни до чего не договоришься. Трое обитателей «Берггофа» повернули обратно к санаторию, а оба педагога-соперника, войдя в дом, разошлись по своим углам. Нафта – в свою шелковую келью, Сеттембрини – в мансарду гуманиста, где стояли конторка и графин с водой. Когда Ганс Касторп расположился на балконе, ему все еще слышались боевые клики и звон оружия двух воинств, которые двинулись в поход под сенью dos banderas от Иерусалима и Вавилона, и мерещился грохот жестокой рукопашной.
Снег
Пять раз на дню за семью столами высказывалось единодушное недовольство нынешней зимой. Она-де весьма недобросовестно выполняет свои обязанности высокогорной зимы, в отнюдь не достаточном объеме поставляя целебные метеорологические средства, прославившие эти края и возвещавшиеся во всех проспектах, средства, к которым давно привыкли долголетние обитатели санатория и которые так заманчиво рисовались воображению новичков. Солнце подолгу не показывается, а отсутствие солнечного света, этого важнейшего лечебного фактора, несомненно затягивает выздоровление… И что бы там ни думал господин Сеттембрини относительно чистосердечного стремления больных к восстановлению здоровья, к возврату с «родины» на равнину, они все равно требовали того, на что имели право, и уж конечно хотели, чтобы окупились издержки, которые из-за них несли их родители, их мужья или жены, и выражали недовольство, где бы ни находились – за столом, в лифте и в вестибюле санатория. Надо сказать, что администрация выказывала полную готовность прийти им на помощь и по мере сил возместить убытки. Так, например, был приобретен новый аппарат «горного солнца», ибо двух уже имевшихся не хватало для удовлетворения спроса на «электрический загар», очень красивший молодых девушек и женщин, а мужчинам, несмотря на то что они вели горизонтальный образ жизни, придававший горделивый и спортивно-победоносный вид. Этот вид так или иначе приносил свои плоды; женщины, ясно отдавая себе отчет в его технико-косметическом происхождении, были либо достаточно глупы и всеядны, либо очень уж падки на обман чувств, но эта иллюзорная мужественность их обольщала и пьянила.
– Бог ты мой! – как-то вечером в вестибюле сказала фрау Шенфельд, рыжеволосая и красноглазая пациентка из Берлина, длинноногому господину со впалой грудью, значившемуся на визитной карточке «Aviateur diplome et Enseigne de la Marine allemande»[95]; он был снабжен пневмотораксом, но к обеду неизменно являлся в смокинге, вечером же никогда его не надевал, уверяя, что таков флотский обычай. – Бог ты мой! – сказала она, алчным взором глядя на Enseigne[96]. – Как он великолепно загорел от горного солнца! Этот черт точь-в-точь охотник на орлов!
– Погоди, русалка! – шепнул он ей на ухо, когда они поднимались в лифте, у нее даже мурашки прошли по коже. – Вы еще поплатитесь за пагубную игру глазами. – И по балконам, минуя стеклянные перегородки, «черт и охотник на орлов» сыскал дорогу к русалке…
И все же искусственное горное солнце никто не мог ощущать как полноценную замену подлинно небесного света. Двух или трех ясных солнечных дней в месяц, с необычным великолепием воссиявших из тающих серых туманов и плотной пелены облаков, когда синева ярче яркого оттеняет алмазное сверкание белых вершин и животворный огонь обжигает шеи и лица, – двух или трех таких дней за долгие недели было все же недостаточно для тех, чья участь вполне оправдывала их чрезвычайную требовательность к всевозможным усладам. Ибо все эти люди в глубине души полагали, что за отказ от радостей и горестей равнинного бытия им должна быть гарантирована жизнь пусть безжизненная, но легкая, приятная и уж конечно беззаботная – вплоть до отмены реальности времени. Гофрат, правда, пытался заверить, что и в такую погоду «Берггоф» нимало не напоминает каторгу или сибирские рудники и что здешний воздух, разреженный и легкий (едва ли не пустой эфир мироздания, бедный земными примесями, равно добрыми и злыми), пусть даже без солнца, не идет ни в какое сравнение с испарениями и чадом равнины. Но тщетно! Протест и недовольство все возрастали, многие грозились уехать без дозволения врачей, а кое-кто даже привел в исполнение свои угрозы, и это несмотря на печальный пример недавно возвратившейся госпожи Заломон, болезнь которой вначале протекала хоть и в затяжной, но не в тяжелой форме, а теперь из-за самовольного отъезда в сырой и открытый всем ветрам Амстердам стала неизлечимой…
Но все равно, вместо солнца был снег, такие огромные массы снега, каких Ганс Касторп в жизни не видывал. Прошлогодняя зима в этом смысле тоже не оплошала, но далеко ей было до нынешней. Нынешняя преуспела так невероятно, так непомерно, что можно было только диву даваться, до чего же прихотлива и эксцентрична эта сфера природы. Снег шел напролет, все дни и все ночи, то реденькими хлопьями, то густой пеленой, шел и шел без роздыха. Те немногие дороги, которые ежедневно расчищались, походили на ущелья меж снежных стен выше человеческого роста, точно сложенных из алебастровых плит и радовавших глаз своим зернисто-кристальным сиянием; обитатели санатория вдоль и поперек изрисовали, исписали их разными сообщениями, шутками и колкостями. Но даже и между стенами, как ни тщательно здесь разгребали снег, грунт был высоко поднят, что было особенно заметно по рыхлым обочинам и ямам, в которые вдруг проваливалась нога чуть ли не по колено; ступать приходилось очень осторожно; не ровен час, сломаешь ногу. Скамейки пропали, ушли в снега, только спинки их там и сям высовывались из белой своей могилы. Внизу, в курорте, уровень улиц так небывало повысился, что магазины оказались в подвалах, и спускаться туда с высоты тротуара приходилось по снежным ступеням.
А на массивы снега падал новый снег. День за днем тихо ложился он при десяти-, пятнадцатиградусном морозе, не пробиравшем до костей, почти нечувствительном, казалось даже, не превышавшем двух-трех градусов, ибо сухой воздух и безветрие лишали его колючести. По утрам было очень темно, столовая, с веселыми, расписанными по шаблону стенами, во время завтрака освещалась лунами люстр. К окнам вплотную подступало хмурое ничто, мир, запакованный в серую вату снежной мглы и туманов. Контуры горных вершин стали невидимы; правда, днем все же можно было на несколько мгновений различить ближайший хвойный лес: он стоял под ношей снегов и скоро опять исчезал в мутном мареве; время от времени сосна, сбрасывая непосильное бремя, белой пылью порошила серую мглу. В десять часов солнце чуть подсвеченным дымком вставало над своей горою, чтобы внести блекло-призрачную жизнь, тусклый отсвет чувственности в стертый до неузнаваемости пейзаж. Но все по-прежнему оставалось растворенным в бледной бесплотной нежности, без единой линии, которую мог бы уследить глаз. Очертания вершин расплывались, таяли, застилались туманом. Слабо освещенные заснеженные плоскости, громоздясь одна над другою, уводили взор в небытие. И вдруг наплывало пронизанное светом облако и, не меняя очертаний, как столб дыма стояло над отвесной скалой.
В полдень солнце, едва пробившись сквозь тучи, пыталось растворить туман в синеве. Эта попытка оставалась безуспешной, и все же минутами глазу чудилось подобие голубого неба, и скудного света хватало на то, чтобы вся округа, неузнаваемая под волшебным плащом снегов, внезапно засияла алмазной россыпью. Снегопад в это время обычно прекращался, как бы для того, чтобы можно было полюбоваться на им содеянное, и этой же цели, казалось, служили и редко выдававшиеся солнечные дни, когда метель давала себе передышку и небесный огонь, порвав все завесы, тщился растопить упоительно чистую поверхность свежевыпавшего снега. Мир тогда становился сказочным и детски-смешным. Пышные, пухлые, взбитые подушки на ветвях дерев, снежные холмы на земле, под которыми притаился ползучий кустарник или ребристый камень, бугры и впадины, маскарадная таинственность ландшафта – все походило на царство гномов, трогательно смешное и точно выскочившее из книги сказок. Но если весь ближний мир, по которому лишь с трудом можно было передвигаться, выглядел так фантастично и лукаво, то дальний его фон – гигантские изваяния заснеженных Альп – дышал величием и святостью.
Днем, между двумя и четырьмя часами, Ганс Касторп, лежа на балконе, тепло укутанный, с головой, покоившейся на удобной, не слишком покатой, но и не слишком плоской спинке добротного шезлонга, смотрел поверх запорошенной снегом балюстрады на лес и горы. Отягощенный снегом черно-зеленый бор поднимался по склону, снег пуховиком расстилался меж стволов. Над бором, в сероватую белизну, вздымались скалистые уступы с необозримыми заснеженными плоскостями, там и сям прорезанными темнеющим утесом, а дальше виднелись подернутые мягкою дымкой гребни гор. Шел снег, тихо, неторопливо. Ландшафт расплывался все больше и больше. Глаза, видящие лишь ватное ничто, поневоле смыкались, Легкий озноб сопровождал мгновение перехода ко сну, но нигде на свете не спалось лучше, чем среди этой стужи. То был сон без сновидений, не затронутый бессознательным чувством органического бремени жизни, ибо вдыхать пустой, без испарений, воздух организму было не труднее, чем мертвецу быть бездыханным. Проснешься, а горы исчезли в снежной мгле, и только выступает попеременно отдельная вершина или утес, чтобы тут же спрятаться за белесой дымкой. Эта неслышная игра призраков очень занимательна. Нужно смотреть зорко и собранно, чтобы подметить изменения в мглистой фантасмагории. Вот, величественная и дикая, из тумана выступила скала, но ни вершины ее, ни подножья не видно. А отведешь на минуту глаза, и уже ее нет – исчезла.
Иногда налетала пурга, и пребывание на балконе становилось просто немыслимым, так как неистовая белизна, врываясь миллионами снежинок, густо покрывала все – мебель, перила, пол. Да, и в умиротворенной горной долине бушевали бури! Разреженная, пустая атмосфера поднимала бунт, так густо кипела белыми хлопьями, что и в двух шагах ничего не было видно. Ветры, от которых занималось дыхание, сообщали вьюге бешеное, вихревое движение, швыряли ее в сторону, вверх и вниз, вздымали со дна долины высоко в воздух, кружили в неистовой пляске, – это был уже не снегопад, а хаос белой тьмы, разгул, отъявленно наглое пренебрежение умеренностью, и только невесть откуда взявшиеся стаи снежных вьюнов чувствовали себя здесь как дома.
И все же Ганс Касторп любил эту жизнь в снегах. Ему она очень напоминала жизнь на взморье, общим здесь было извечное однообразие природы: снег, глубокий, рассыпчатый, девственный, с успехом играл роль желто-белого песка там, на равнине. Одинаково чисто было соприкосновение с тем и с другим. Сухой от мороза, белый покров так же легко, не оставляя следов, стряхивался с башмаков и с одежды, как беспыльный порошок из камушков и раковин морских глубин, и так же трудна, как ходьба по дюнам, была ходьба по снегу, если только верхний его слой, подтаяв на солнце, не успел подмерзнуть ночью; тогда ступать по нему было легче, приятнее, чем по паркету, пожалуй, столь же легко и приятно, как по наглаженному, твердому, пропитанному влагой упругому песку у самой кромки моря.
Но в этом году снегопады и гигантские массивы снега досаднейшим образом ограничивали движение на свежем воздухе для всех, кроме лыжников. Снегоочистители работали вовсю, но едва-едва управлялись с расчисткой наиболее людных дорожек и главной улицы курорта; немногие удобопроходимые дороги, очень скоро заканчивавшиеся неприступным снежным полем, были заполнены здоровыми и больными, местными жителями и интернациональной толпой приезжих. Но пешеходов едва не сбивали с ног, санки, на которых катили с горы господа и дамы, откинувшись назад, вытянув вперед ноги, с громким «берегись», по тону которого чувствовалось, насколько они проникнуты важностью своего занятия: на детских вихляющих, подскакивающих салазках мчаться с горы и, едва добравшись до низу, опять тащить наверх свою модную игрушку.
Ганс Касторп был по горло сыт этими прогулками. Им владели два желания: первое и сильнейшее – оставаться наедине со своими мыслями и делами, словом, «править», а оно не в полной мере удовлетворялось лежанием на балконе, и второе, связанное с первым и состоявшее в живом стремлении ближе, непосредственнее соприкоснуться с заснеженными горами, которые так ему полюбились. Это, второе желание было и вовсе невыполнимо, ежели его лелеял беспомощный, неокрыленный пешеход, которому, сверни он с проторенной и расчищенной дорожки, грозила опасность тотчас же по грудь увязнуть в снежной стихии.
Итак, в эту свою вторую зиму «наверху» Ганс Касторп решил приобрести лыжи и научиться пользоваться ими в той мере, в какой это было необходимо для его замыслов. Он не был спортсменом в силу своей физической организации, к спорту никогда не тянулся и даже не притворялся любителем такового – не в пример многим обитателям «Берггофа», в угоду местному духу и моде глупейшим образом рядившихся спортсменами. Женщины в этом не отставали от мужчин, – Гермина Клеефельд, например, несмотря на то что от недостаточности дыхания у нее кончик носа и губы всегда были синими, любила выходить ко второму завтраку в брюках и свитере, чтобы иметь возможность после еды, с вызывающим видом раздвинув колени, небрежно развалиться в одном из соломенных кресел вестибюля. Обратись Ганс Касторп к гофрату за разрешением осуществить свое дерзостное намерение, он непременно получил бы отказ. Занятия спортом категорически запрещались пациентам «Берггофа» и других подобных заведений: здешний воздух, казалось бы так легко вдыхаемый, и без того предъявлял немалые требования к сердечной мышце. Что же касается лично Ганса Касторпа, то дерзкое его изречение относительно «привычки не привыкать» по-прежнему оставалось в силе, иными словами, свойственная его температуре склонность к повышению, которую Радамант относил за счет влажного очажка, ничуть не уменьшалась. Да зачем бы он иначе и торчал здесь наверху? Конечно, его желания и намерения были противоречивы и неосуществимы. Но его надо было понять. Тщеславие не подстегивало его к соревнованию с фатоватыми энтузиастами свежего воздуха и «шикарными» спортсменами, которые, будь это моднее, с таким же сосредоточенным усердием уселись бы в душной комнате за карточный стол. Он безусловно чувствовал себя причастным к другому, более чопорному сообществу, нежели этот беспечный туристский народец, и со своей новой, более широкой точки зрения, основанной на отчуждающем чувстве собственного достоинства и долга, полагал, что ему не пристало резвиться здесь и, наподобие этих дураков, валяться в снегу. Ни о каких эскападах он не помышлял и был полон благоразумия. Радамант, конечно, мог бы ему позволить то, что он задумал, но так как в силу установленного здесь порядка все-таки бы не позволил, то Ганс Касторп решил действовать за его спиной.
При случае он посвятил в свое намерение господина Сеттембрини, и господин Сеттембрини от восторга едва не заключил его в объятия: «Ну конечно же, инженер, разумеется, ради бога, сделайте это! Никого не спрашивайте и беритесь за дело – добрый гений внушил вам эту мысль! Торопитесь, покуда не прошла охота. Я иду с вами в магазин, давайте немедленно приобретем эти благословенные штуки. Я бы и в горы помчался с вами, в крылатых башмаках, как Меркурий, но не смею… Э, „сметь“! Меня бы уж ничто не остановило, если б я только „не смел“, но я не могу, я конченый человек. Тогда как вы… вам это не повредит, ни капельки не повредит, только бы вы благоразумно соблюдали меру. Ах, да что там, если немножко и повредит, все равно это вам добрый гений… Молчу. Великолепная затея! После двух лет пребывания здесь и такая мысль, – значит, ядро у вас здоровое, ставить крест на вас еще рано. Браво, браво! Вы натянете нос вашему властителю теней, покупайте лыжи и велите прислать их ко мне или к Лукачеку, а еще лучше в лавчонку к бакалейщику. По мере надобности будете брать их для тренировки и затем… уноситесь вдаль…»
Так все и сделалось. На глазах господина Сеттембрини, строившего из себя знатока, хотя он ровно ничего не смыслил в спорте, Ганс Касторп приобрел в магазине на главной улице щегольские лыжи из отличного ясеневого дерева, покрытые коричневым лаком, с великолепными ремнями, красиво загнутые спереди, а также палки с железными наконечниками и кружками и, отказавшись от всякой помощи, взвалил их на плечо и донес до квартиры Сеттембрини, а там уже договорился с бакалейщиком, что лыжи будут стоять у него. Вдоволь наглядевшись на лыжников, он имел некоторое представление, как обращаться с этим спортивным орудием, и начал кое-как ковылять в одиночку у безлесного склона, неподалеку от санатория «Берггоф», в стороне от тех мест, что кишели начинающими спортсменами. Сеттембрини, случалось, стоял тут же, опершись на свою трость, изящно скрестив ноги, и наблюдал за ним, приветствуя первые проявления сноровки громким «браво!». Все обошлось благополучно и в тот раз, когда Ганс Касторп, спускаясь по расчищенной, извилистой дороге в «деревню», чтобы водворить лыжи к бакалейщику, повстречался с гофратом. Беренс его не узнал среди бела дня, хотя новоиспеченный лыжник едва не налетел на него. Гофрат скрылся за облаком сигарного дыма и прошествовал дальше.
Ганс Касторп убедился, что сноровка, в которой испытываешь внутреннюю потребность, приобретается довольно быстро. На то, чтобы стать виртуозом этого спорта, он не претендовал, а того, что ему было нужно, ни разу даже не вспотев и не запыхавшись, добился за несколько дней. Он приучал себя держать ноги вместе, оставляя на снегу параллельно бегущий след, понял наконец, как орудовать палками, трогаясь с места, научился с разбега, распластав руки, брать препятствия – небольшие бугры и возвышенности, взлетая и опускаясь, как корабль в бурю, и с двадцатого раза уже не падал, когда тормозил на полном ходу телемарком, выставив одну ногу вперед, а другую согнув в колене. Мало-помалу он усваивал все большее количество приемов. И в один прекрасный день скрылся в белесой мгле с глаз господина Сеттембрини, который, сложив руки рупором, прокричал ему вслед какие-то предостережения и, вполне удовлетворенный как педагог, отправился восвояси.
Хороши были заснеженные горы. Не то чтобы очень уж мирные и приветливые, они походили на дивные пустынные просторы Северного моря при сильном западном ветре, только вместо оглушающего шума здесь стояла мертвая тишина, которая наполняла сердце почти тем же чувством благоговения. Во все стороны носился Ганс Касторп в своих новых, длинных и гибких, семимильных сапогах: вдоль левого склона в направлении Клаваделя или направо, мимо Фрауэнкирха и Клариса, позади которых грозным призраком вздымался массив Амзельфлю; или в Дишматаль, или же вверх за «Берггоф», к лесистому Зехорну с его заснеженной вершиной, торчавшей там, где кончалась полоса лесов, и дальше к Друзачавальду, за которым виднелся белый силуэт покрытой снегами Ретийской горной цепи. Прихватив лыжи, он поднялся также в вагончике канатной железной дороги на Шацальп и там, на высоте в две тысячи метров, привольно носился по сверкающим, осыпанным снежной пудрой откосам, с которых в ясную погоду открывались величавые дали – арена нынешней его жизни и треволнений.
Ганс Касторп радовался своим успехам, перед лицом которых недоступное стало доступным, а препятствия почти вовсе сгинули. Благодаря им на него дохнуло желанным одиночеством, таким глубоким, что глубже и быть не может, одиночеством, полнившим сердце ощущением чего-то начисто чуждого человеку и его отрицающего. С одной стороны здесь была поросшая елями пропасть, терявшаяся в снежной мгле, с другой – скалистый подъем с чудовищным, циклопическим нагромождением снега, образующим пещеры и своды. Тишина, когда он останавливался и стоял неподвижно, чтобы не слышать себя самого, была предельной и безусловной – беззвучие, подбитое ватой, неведомое, неслыханное, нигде более невозможное. Ветерок не притронется к деревьям, ничто не шелохнется, птица голоса не подаст. В это первозданное безмолвие и вслушивался Ганс Касторп, когда стоял вот так, опершись на палку, склонив голову на плечо, раскрывши рот. А снег все шел в этой немой тишине, неспешно, неустанно и беззвучно ложась на землю.
Нет, этот мир в бездонном своем молчании знать не знал о радушии. Гостя он принимал как незваного пришельца, вернее и вовсе не принимал, не привечивал, только терпел его вторжение, его присутствие, терпел неподобающим образом, ничего доброго не сулящим, и от этой терпимости веяло чем-то стихийным, грозным, не враждебным даже, а безразличным и смертоносным. Дитя цивилизации, с рождения далекое и чуждое дикой стихии, куда острее воспринимает ее величие, нежели угрюмый сын природы, с младых ногтей с нею связанный, привыкший к ее будничной близости. Этому неведома благоговейная робость, с которою тот, высоко вскинув брови, предстает перед ней, робость, собственно, определяющая все его чувства, все отношение к природе и заставляющая его навек сохранить в душе благочестивый трепет и боязливое волнение. Ганс Касторп на своих великолепных лыжах, в свитере из верблюжьей шерсти и в обмотках, казался себе предерзким юнцом, когда подслушивал первозданную тишину, мертвенно безгласную зимнюю пустыню, и чувство облегчения, поднявшееся в нем на обратном пути, едва только первое человеческое жилье вынырнуло из туманной дымки, помогло ему осознать недавнее свое состояние, отдать себе отчет в том, что много часов кряду им владел тайный и священный ужас. На Зильте он стоял в свое время в белых брюках, самоуверенный, элегантный, исполненный уважения, у самых бурунов, точно это клетка со львом, где зверь разевает свою пасть, глубокую, как бездна, обнажая грозные клыки. Затем он купался, а дозорный на берегу трубил в рожок, предупреждая об опасности тех, что дерзко пытались уйти за первую волну, навстречу приближающейся буре, тогда как уже рассыпающийся вал ударял по спине, словно львиная лапа. В тех краях молодой человек познал восторженную радость легкого любовного прикосновения к силам, которые – в более тесном объятии – его неизбежно бы уничтожили. Но тогда ему еще не было дано познать этот соблазн так далеко зайти в этих восторженных прикосновениях к смертоносной природе, чтобы ее объятие стало неминучим. Слабое дитя человеческое, хоть и оснащенное дарами цивилизации, он тогда не стремился проникнуть в глубь наистрашнейшего, не считал еще зазорным обратиться в бегство перед его лицом раньше, чем опасная близость дойдет до критической черты и едва ли будет возможным на ней удержаться. Правда, здесь речь пойдет уже не о пенном всплеске, не о легком ударе львиной лапой, а о валах, о ненасытной пасти, о море.
Короче говоря, Ганс Касторп набрался мужества здесь наверху, если мужество перед стихиями является не тупым рационализмом по отношению к ним, а сознательным самопожертвованием и подавлением в себе, из симпатии, страха смерти. Из симпатии? Да, конечно, в узкой, цивилизованной груди Ганса Касторпа теплилась симпатия к стихиям; и эта симпатия объединялась с новым для него чувством собственного достоинства, которое он осознал при виде господ и дам, катающихся на салазках, и благодаря которому понял, что подобающим и необходимым для него является одиночество более глубокое, более значительное, чем то гостинично комфортабельное одиночество, которым он баловался на своем балконе. С балкона смотрел он на громады затуманенных гор, на пляску метели и в душе стыдился, что глазеет, укрывшись за бруствером уюта. Поэтому-то, а вовсе не из спортивного азарта или врожденной любви к физическим упражнениям, он научился бегать на лыжах. И если ему и было не по себе среди снежной мертвенной тишины, – а не по себе там, конечно же, было этому отпрыску цивилизации, – так что с того: живя наверху, он давно уже приобщился умом и чувством к вещам, от которых становится не по себе. Коллоквиум с Нафтой и Сеттембрини тоже не способствовал благодушному настроению, уводя в бездорожье, в величайшие опасности. И если могла идти речь о симпатии Ганса Касторпа к снежной пустыне, то лишь потому, что, вопреки своему благочестивому ужасу, он рассматривал ее как наилучшую среду для вынашивания всех своих мыслей, как наиболее подобающее местопребывание для того, кто, правда, сам не зная, как это произошло, принял на себя тяготы правления, заботу о назначении Homo Dei и его царства.
Здесь не стоял дозорный и не трубил в рожок, предупреждая смельчаков об опасности, если только им не был господин Сеттембрини в минуту, когда он складывал руки рупором и что-то кричал вслед уносящемуся на лыжах Гансу Касторпу. Но тот был оснащен мужеством и симпатией, а потому обратил на этот окрик не больше внимания, чем на крик, некогда раздавшийся за его спиной в карнавальную ночь после пресловутых шагов, им предпринятых: «Eh Ingegnere, un po di ragione, sa!»[97] – Эх ты, педагогический сатана с твоими ragione и ribellione, – подумал он. – И все равно ты мне нравишься. Ты, конечно, ветрогон, шарманщик, но намерения у тебя добрые, куда добрее, чем у маленького злючки – иезуита и террориста, да и люблю я тебя больше, чем этого испанского заплечных дел мастера с его блестящими очками, хотя, правда почти всегда на его стороне, когда вы ссоритесь, педагогически единоборствуя за мою бедную душу, как бог и черт в средние века единоборствовали за человека…»
В осыпанных снегом башмаках, усиленно работая палками, он пробирался к белесым высям, полотнища которых уступами шли вверх, все выше, выше – бог весть куда, казалось даже, что никуда, ибо их верхние края сливались с небом, таким же белесым и неведомо где начинавшимся. Ни одной вершины, ни одного контура не было видно. Ганс Касторп подымался в мглистое ничто, и так как мир позади него – населенная людьми долина – тоже вскоре скрылся из глаз и ни один звук оттуда уже до него не доносился, то глубина его одиночества, более того – потерянности, прежде чем он успел об этом подумать, превзошла его мечтания; это было одиночество глубокое до ужаса – непременной предпосылки отваги. Praeterit figura hujus mundi[98], сказал он про себя по-латыни, это была отнюдь не гуманистическая латынь, а самое изреченье он слышал однажды от Нафты. Он остановился, чтобы осмотреться. Куда ни глянь, нигде ничего не видно, кроме отдельных малюсеньки» снежных хлопьев, которые появлялись из белой выси и мягко ложились на белую землю, а вокруг неистово молчала тишина. В то время как взгляд его упирался в белую слепящую пустоту, он ощутил усилившееся от подъема биение своего сердца – этого мышечного органа, животный облик которого и то, как оно трепещет, он, быть может дерзко, подглядел под треск и вспышки молний в кабинете для просвечивания, и вдруг его охватило умиление, немудреная, благоговейная симпатия к своему сердцу, к бьющемуся человеческому сердцу, такому одинокому здесь, среди ледяной пустоты, со своим вопросом, со своей загадкой.
Он двинулся дальше, еще выше, к небу. Временами он втыкал в снег верхний конец палки и, вынимая ее, смотрел, как из глубины отверстия выплескивается синий свет. Его это забавляло, он подолгу стоял на месте, снова и снова наблюдая маленький оптический феномен. Так странен был этот нежный горно-глубинный свет, зеленовато-голубой, прозрачный, как лед, и в то же время затененный и таинственно влекущий. Он напомнил ему свет и цвет некиих глаз, роковых раскосых глаз, которые господин Сеттембрини, твердо стоявший на гуманистических позициях, презрительно окрестил «татарскими щелками» и «огоньками волчьих глаз в степи», – давно увиденные и неизбежно вновь обретенные глаза Хиппе и Клавдии Шоша. «Охотно, – вполголоса проговорил он среди безмолвия… – Только смотри не сломай: il est a visser, tu sais».[99] И внутренним слухом услыхал благозвучные призывы образумиться.
Справа поодаль из тумана выступил лес. Он двинулся к нему, чтобы иметь перед глазами земную цель вместо белесой трансцендентности, и вдруг, ослепленный белизной, скатился вниз, не успев заметить перед собой откоса, не разобрав рельефа местности. Ничего не было видно, все расплывалось перед глазами. Препятствия возникали совершенно неожиданно. Он вверился откосу, даже не определив глазом его высоты.
Лес, привлекший сюда Ганса Касторпа, находился по другую сторону ущелья, в которое он нечаянно съехал. Двигаясь по его покрытому снегом дну, он заметил, что ближе к горе оно становится покатым, идет книзу. По мере того как он спускался, откосы становились выше, ложбина, точно туннель, врезалась в глубь горы. Затем носы его лыж опять приняли почти вертикальное положение; грунт сделался выше, боковые стены сошли на нет. Бездорожным своим путем Ганс Касторп снова вышел на открытый склон, вздымавшийся к небу.
Хвойный лес был теперь сбоку от него и под ним; он повернул и, быстро съехав вниз, оказался среди заснеженных елей, последних деревьев большого бора, клином врезавшихся в безлесное пространство. Под их сенью он отдохнул, выкурил папиросу, в душе все еще подавленный, взволнованный и угнетенный бездонной тишиной и таинственным одиночеством, но гордый тем, что завоевал их, и полный отваги от сознания своего почетного права на такое окружение.
Было три часа. Он ушел вскоре после обеда, намереваясь пропустить час «главного лежания» и полдник, но вернуться еще засветло. Предстоящие часы блужданья среди величавых просторов наполняли радостью его сердце. Он засунул плитку шоколада в карман бриджей и маленькую фляжку портвейна в жилет под свитером.
Солнце было едва различимо за туманной дымкой. Сзади, там, где кончалась долина, возле угла горного кряжа, невидимого Гансу Касторпу, темные облака и плотная мгла, казалось, двигались ему навстречу. Похоже было, что пойдет снег, и, пожалуй, сильнее, чем это нужно для удовлетворения его мечты о настоящей метели. И правда, маленькие, беззвучные хлопья все гуще падали на горное плато.
Ганс Касторп вышел из-под деревьев, протянул руку и глазами исследователя-дилетанта стал разглядывать хлопья, опустившиеся на его рукав. С виду это были бесформенные клочочки, но он уже не раз смотрел на им подобных через свое увеличительное стекло и отлично знал, из каких изящных, отчетливо сделанных крохотных драгоценностей они составляются – из подвесок, орденских звезд, брильянтовых аграфов; роскошнее и тщательнее их не мог бы сработать самый искусный ювелир. Да, с этими пушинками, бременем ложившимися на деревья и устилавшими просторы, по которым он носился на лыжах, дело все-таки обстояло иначе, чем с детства ему привычным морским песком, который они напоминали: они, как известно, состояли не из мельчайших каменных крупинок, а из мириадов водяных частиц, в процессе замерзания откристаллизовавшихся в симметрическое многообразие, – частиц той неорганической субстанции, которая струится в жизненной плазме, в растениях, в человеческом теле, – и среди мириадов волшебных звездочек, с их недоступной зрению, не предназначенной для глаз человеческих, тайной микророскошью ни одна не была похожа на другую. Здесь наличествовала беспредельная изобретательность, нескончаемое рвение видоизменять, скрупулезно разрабатывать одну и ту же основную схему – равносторонний и равноугольный шестиугольник. Но каждое из этих студеных творений было в себе безусловно пропорционально, холодно симметрично, и в этом-то и заключалось нечто зловещее, антиорганическое, враждебное жизни; слишком они были симметричны, такою не могла быть предназначенная для жизни субстанция, ибо жизнь содрогается перед лицом этой точности, этой абсолютной правильности, воспринимает ее как смертоносное начало, как тайну самой смерти. И Гансу Касторпу показалось, что он понял, отчего древние зодчие, воздвигая храмы, сознательно, хотя и втихомолку, нарушали симметрию в распорядке колонн.
Он оттолкнулся, заскользил на своих деревянных полозьях по толстому снежному настилу лесной опушки, съехал вниз во мглу и помчался дальше вверх, вниз, бесцельно и беспечно, по мертвой земле, которая своими опустелыми волнистыми просторами, своей иссохшей растительностью – там и сям на снегу темнели скрюченные карликовые сосенки, – своими мягко очерченными холмами на горизонте так походила на северные дюны. Останавливаясь, чтобы вдоволь налюбоваться этим сходством, Ганс Касторп удовлетворенно кивал головой; жар в лице и легкое дрожание конечностей – своеобразная, дурманящая смесь возбуждения и усталости – вызывали в нем не досаду, а приятное воспоминание о морском воздухе, будоражащем и одновременно усыпляющем. С не меньшим удовлетворением ощущал он свою окрыленную независимость и привольную подвижность. Перед ним не расстилалась дорога, его связывавшая, позади не пролегал путь, который привел его сюда и должен был отсюда увести. Поначалу ему еще встречались вехи, вбитые в землю колья, отметки на снегу, но он постарался как можно скорее выскользнуть из-под их опеки, так как они ему напомнили дозорного с рожком, а следовательно, были не подобающими для внутреннего его отношения к великой зимней пустыне.
Заснеженные скалы, меж которых он лавировал то в одну, то в другую сторону, сменились крутым откосом, затем ровным плато и наконец горным кряжем, теснины которого, устланные пушистым белым ковром, показались ему доступными и необыкновенно заманчивыми. Да, душа Ганса Касторпа легко поддавалась соблазну высей и далей, соблазну одиночества, всякий раз наново перед ним открывавшегося, и, рискуя опоздать, он все дальше углублялся в молчание, суровое, неприветное, не сулящее ничего доброго, хотя внутреннее его напряжение и тревога и без того уже превратились в откровенный страх перед лицом раньше времени сгущавшейся темноты, все кругом затянувшей серой пеленою. Этот страх открыл ему, что до сих пор он невольно делал все возможное, чтобы потерять ориентировку, позабыть, в каком направлении лежат долина и «деревня», в чем и преуспел в полной мере. Впрочем, он мог бы себе сказать, что если тотчас же повернет и все время будет идти под гору, то очутится в долине, хотя, может быть, и не возле самого «Берггофа», довольно быстро, даже слишком быстро, а значит не использует своего времени; с другой стороны, застигнутый метелью, он едва ли скоро отыщет дорогу домой. Но из-за этого уже сейчас обращаться в бегство он не желал, как бы ни томил его страх перед стихиями. Это было не спортсменское решение, ибо спортсмен якшается со стихиями, лишь покуда он их господин и повелитель, он всегда осторожен и – более разумный – идет на уступки. Но то, что творилось в душе Ганса Касторпа, могло быть определено лишь одним словом: вызов. И сколько бы порицания ни заключалось в этом слове, даже если, вернее в особенности, если вытекающее из него своеволие чувств связано с откровенным страхом, то все же, по-человечески рассуждая, можно понять, что в тайниках души молодого человека, мужчины, годами жившего так, как этот здесь, накапливается, или, как сказал бы Ганс Касторп, инженер, «аккумулируется», много такого, что в один прекрасный день неизбежно находит разрядку в виде простейшего, но горько-нетерпеливого: «Ну и пусть!» или «Была не была!» – одним словом, в виде вызова и отказа от разумной осторожности. Итак, он двинулся вперед в своих семимильных сапогах, соскользнул с откоса, пересек следующую поляну, где чуть поодаль стояло деревянное строение, не поймешь: сарай или пастушья хижина, с наваленными камнями на крыше, чтобы не снесло, – держа путь к ближайшей горе с ощетинившимся елями хребтом, позади которого громоздились подернутые облачной дымкой вершины. Стеною вставший перед ним косогор, кое-где поросший деревьями, был неприступен, но, немного подавшись вправо, его можно было с грехом пополам обойти, не утомляя себя крутым подъемом, и увидеть, что там делается дальше. Этим-то исследованием и занялся Ганс Касторп, предварительно съехав с поляны, на которой стояла хижина, в довольно глубокую низину со спадом налево.
Только что он начал выбираться оттуда, как (чего, конечно, и следовало ожидать) повалил снег, налетела пурга, такая, что только держись, давно уже грозившая снежная буря, если можно говорить об «угрозе» применительно к слепым и неведающим стихиям, которые отнюдь не тешат себя намерением нас уничтожить, это бы еще куда ни шло, но которым до ужаса безразлично, если это и случится ненароком. «Честь имею», – подумал Ганс Касторп, когда первый порыв ветра, взвихривший снег, обдал его холодом. «Вот это, я понимаю, дохнул! Так и пробрало до костей». И правда, это был жестокий ветер; сильнейший мороз, около двадцати градусов ниже нуля, был нечувствителен и даже казался мягким, покуда воздух, как обычно, оставался сухим и неподвижным, но стоило подуть ветру, как он словно ножами резал тело. Да, если это было только началом и первый порыв ветра, взметнувший снег, был только предварением пурги, то здесь и семи шуб не хватит защитить человека от ледяного кошмара, а на Гансе Касторпе было не семь шуб, а всего только шерстяной свитер, достаточно его гревший, когда же проглядывало солнце, даже казавшийся слишком теплым. Поскольку ветер сейчас дул в бок и в спину, вряд ли имело смысл поворачиваться к нему грудью. Так как это соображение объединялось с его упорством и с постоянным «ну и пусть!» его души, то безрассудный юнец снова двинулся в путь меж одиноко стоявших елей, чтобы укрыться за горой, которую штурмовал ветер.
Удовольствия он при этом не получал ни малейшего, ибо ничего не видел, кроме пляски снежинок, вихрем круживших в воздухе, словно и не собираясь падать на землю и заполнявших собою все пространство. Порывы ледяного ветра острой болью обжигали уши, парализовали конечности, руки немели так, что не поймешь, держат они еще палки или нет. Снег сыпался ему за воротник, холодными струйками стекал по спине, ложился ему на плечи, примерзал на правом боку, Гансу Касторпу казалось, что он вот-вот превратится в снежное чучело, которому всунули в руки палку; и ведь все эти беды на него навалились в обстоятельствах еще сравнительно благоприятных: повернись он, станет многим хуже. Так или иначе, но обратная дорога превратилась в тяжкий труд, за который надо было приниматься без промедления.
Итак, он остановился, сердито передернул плечами и переставил лыжи. От встречного ветра у него захватило дух, и ему пришлось вторично проделать неприятную процедуру перестановки, дабы собраться с силами и в полном самообладании встретить лобовую атаку равнодушного врага. Опустив голову и строго рассчитывая каждый вдох и выдох, он все-таки двинулся в обратном направлении, пораженный, несмотря на то что ничего доброго не ждал, трудностью этого пути для ослепленного и задыхающегося путника. Ему приходилось то и дело останавливаться, чтобы, отвернувшись от ветра, перевести дыхание, и еще оттого, что, наклоняя голову и жмурясь, он ничего не видел в белесых потемках и боялся напороться на дерево или упасть, споткнувшись о какое-нибудь препятствие. Стаи снежных хлопьев опускались к нему на лицо и таяли, отчего оно превращалось в ледяную маску. Они влетали ему в рот, оставляя слабый водянистый привкус, на лету ударялись о судорожно сжимавшиеся веки, растекались по глазам, не давая им смотреть, что, впрочем, было несущественно, так как густая пелена, заволокшая все поле зрения, и болезненная ослепительная белизна и без того исключали возможность видеть. Ничто, белый круговорот пустоты, вот все, что он видел, когда тщился видеть. Лишь изредка проступали из мглы призраки мира явлений: торчащий куст, сбившиеся в кучку сосны или едва очерченный абрис стога, мимо которого он недавно пробегал.
Он оставил его в стороне и через поляну с хижиной пустился в обратный путь. Но пути-то ведь не было, держать направление, хоть приблизительное направление домой, в долину, можно было лишь с помощью счастливого случая, а не разума, ибо если руку, поднятую до уровня глаз, с грехом пополам еще можно было разглядеть, то носы лыж уже находились вне поля зрения. Впрочем, если б он и лучше видел, природа все равно бы не поскупилась на козни, до крайности затруднявшие продвижение вперед. Лицо, залепленное снегом! Ветер словно лютый враг! Он перехватывал дыхание, вовсе пресекал его, не давая сделать ни вдоха, ни выдоха, так что Гансу Касторпу то и дело приходилось отворачивать лицо, чтобы судорожно глотнуть воздуха. Ну как тут было продвигаться вперед ему или другому, пусть более сильному, когда на каждом шагу надо было останавливаться, усиленно моргать, чтобы стряхнуть воду с ресниц, сбивать с себя плотную снежную броню, сознавая, что идти вперед в этих условиях неразумно и дерзко?
И все-таки Ганс Касторп устремлялся вперед, вернее, кое-как продвигался. Но было ли такое продвижение целесообразным, не потерял ли он направление и не умнее ли было вовсе не двигаться с места (что представлялось ему невозможным), этого он не знал. Теоретическая вероятность говорила об обратном, практически же Гансу Касторпу вскоре показалось, что с почвой у него под ногами не все обстоит благополучно, словно не та это почва, то есть не ровная поляна, на которую с превеликим трудом он вскарабкался из теснины и с которой следовало пуститься в обратный путь. Ровное место подозрительно быстро осталось позади: он опять шел вверх. По-видимому, ураганный ветер, дувший с юго-запада, со стороны, где кончалась долина, оттеснял его своим яростным напором. Напрасны были усилия, которыми он так долго изнурял себя. Вслепую, среди вихрей белого мрака, он лишь глубже уходил в равнодушно-грозное ничто.
«Ну и ну!» – сквозь зубы процедил он и остановился. Патетичнее он не выразился, хотя на мгновение ему и почудилось, что холодная, как лед, рука сдавила его сердце, отчего оно замерло и потом часто-часто застучало в ребра, как тогда, когда Радамант обнаружил у него влажный очажок. Он сознавал, что не имеет права на пышные слова и жесты, он сам бросил вызов, и пенять ему оставалось только на себя. «Недурно», – проговорил он и почувствовал, что его лицевые мускулы, мышцы, от которых зависело выражение лица, больше не повинуются душе и ничего уже не могут выразить, ни страха, ни ярости, ни презрения, ибо они окоченели. «А что теперь? Наискосок вниз, а потом вперед и все время нос по ветру? Легче сказать, чем сделать!» Отрывисто, задыхаясь, он все же вполголоса проговорил эти слова и опять двинулся вперед: «Но надо что-то предпринять, сидеть и ждать невозможно. Меня засыплет эта шестиугольная симметрия, и Сеттембрини, когда он придет со своим рожком посмотреть, что со мною сталось, увидит, что я сижу здесь с остекленевшими глазами и в снежной шапке набекрень…» Он заметил, что разговаривает сам с собой и вдобавок несколько странно. Настрого запретив себе такой разговор, он тут же возобновил его вполголоса, но тем выразительнее, хотя губы у него онемели, так что говорить приходилось, не двигая губами и без согласных, которые образуются с их помощью, и это невольно ему напомнило один случай из его жизни, когда дело обстояло точно так же. «Молчи и старайся идти вперед, – произнес он и добавил: – Ты, кажется, заболтался и в голове у тебя какая-то муть. В известном отношении это плохо».
Однако утверждение, что это плохо с точки зрения необходимости выбраться отсюда, было лишь утверждением контролирующего разума, словно бы стороннего, непричастного, хотя в известной мере и заинтересованного лица. Собственное его естество склонялось к тому, чтобы отдаться во власть неясности, которая все больше завладевала им по мере того как росла усталость; но он поймал себя на этом желании и стал о нем размышлять. «Это изменившаяся психика и ощущения того, кто застигнут пургой в горах и не находит дороги домой, – думал он, работая ногами и руками, и, задыхаясь, бормотал себе под нос обрывки этих мыслей, тактично избегая более определенных выражений. – Тому, кто задним числом узнает об этом, это кажется ужасным, но он забывает, что болезнь – а ведь мое положение в известной мере болезнь – так приспосабливает к себе свою жертву, что они преотлично друг с другом уживаются. Тут вступают в действие понижения чувствительности, благодатные наркозы и прочие природные болеутоляющие средства… Да, конечно… Но против них надо бороться, потому что они двулики, в высшей степени двусмысленны, и оценка их зависит исключительно от точки зрения. Они здорово придуманы, – истинное благодеяние, если тебе уже не суждено вернуться домой; но ничего нет зловреднее их, и с ними надо бороться всеми силами, поскольку еще может идти речь о возвращении, как сейчас для меня, ибо я отнюдь не намерен, всем буйно бьющимся сердцем своим не намерен, позволить дурацки-равномерной кристаллометрии меня засыпать…»
Он и вправду уже очень обессилел и наступившую неясность сознания пытался преодолеть тоже каким-то неясным, лихорадочным усилием. Он не испугался, как испугался бы в нормальном состоянии, когда заметил, что опять уже тащится не по ровному месту; на сей раз он, видимо, вышел на ту сторону, где поляна круто шла книзу. При спуске встречный ветер дул сбоку, – значит, спускаться еще не следовало, но в данный момент ему ничего другого не оставалось. «Ладно уж, – подумал он, – внизу опять возьму нужное направление». Так он и сделал, или вообразил, что сделал, или даже и не вообразил, а еще вернее, ему было все равно, правильно он идет или неправильно. Такие у него начинались провалы в сознании, и боролся он с ними уже вяло. Смесь усталости и возбуждения – обычное и длительное состояние новичка в этих краях, акклиматизация которого состоит «в привычке не привыкать», настолько усилилась в обеих своих составных частях, что о разумном отношении к провалам сознания не могло быть и речи. С помутневшей, одурманенной головой, он весь дрожал от раздражения и душевной взволнованности, как после коллоквиума с Нафтой и Сеттембрини, только много сильнее. Поэтому-то он, наверно, и приукрашал свою вялость в борьбе против наркотических провалов опьяняющими воспоминаниями о тогдашних рассуждениях, вопреки своему презрительному негодованию при мысли быть погребенным под шестиугольной симметричностью, он беззвучно бормотал что-то, то ли осмысленное, то ли несуразицу: что, мол, чувство долга, заставляющее его вступать в борьбу с подозрительным понижением чувствительности, это голая этика, иными словами – воплощенное безверие, жалкая «жизнеутверждающая буржуазность». Потребность, искушение лечь и отдохнуть до такой степени овладели им, что он говорил себе: это как песчаный вихрь в пустыне, который заставляет арабов плашмя бросаться на землю и натягивать на голову бурнус. Только одно обстоятельство, думал он, а именно, что у него нет бурнуса, шерстяной свитер же толком на голову не натянешь, удерживает его от такого поступка, хотя он взрослый человек и имеет довольно точные сведения о том, как люди замерзают.
После сравнительно не очень быстрого спуска и краткого продвижения по ровной местности пред ним вновь оказался подъем, и к тому же довольно крутой. Возможно, что сейчас он взял верное направление, ведь по дороге в долину обязательно надо было преодолеть подъем, что же касается ветра, то ему, видно, вздумалось перемениться, ибо теперь он дул Гансу Касторпу в спину, что само по себе было не так уж плохо. Но что это? Пурга пригибает его к земле или мягкий белый косогор, затянутый сумеречным пологом метели, манит отдохнуть его усталое тело? Если он и поддастся искушению, то ведь только чтобы прислониться на секунду, а искушение велико, так велико, как о том говорилось в книжке, где оно было названо «типически опасным». Но ведь от этого ничуть не умалялась его нынешняя, животрепещущая сила! Искушение утверждало свои индивидуальные права, никак не хотело встать в один ряд с общеизвестными понятиями, отказывалось узнать себя в них, заявляло о своей единственности и несравненной настойчивости, не отрицая, впрочем, что оно нашептано, внушено некиим существом в черном испанском одеянии и белоснежных туго наплоенных брыжах, с представлением о котором, с самой его идеей, связано немало мрачного, явно иезуитского, человеконенавистнического, всякие там истязания и пытки, столь омерзительные господину Сеттембрини. Но нельзя не признать, что и господин Сеттембрини, всему этому себя противопоставляющий, достаточно смешон со своей шарманкой и своим ragione…[100]
И все-таки Ганс Касторп проявлял выдержку, не поддавался соблазну прислониться. Он ничего не видел, но боролся и шел вперед, – было это осмысленно или нет, но он двигался, вопреки тягчайшим оковам, в которые мороз и вьюга все беспощаднее его заковывали. Подъем был для него слишком крут, почему он безотчетно свернул в сторону и некоторое время шел вдоль косогора. Чтобы разомкнуть судорожно сжатые веки и попытаться хоть что-то увидеть, требовалось усилие, заведомо бесполезное, отчего он его и не делал. Временами он, правда, кое-что видел: сгрудившиеся в кучку ели, ручей или обрыв, черной полосою пролегающий меж нависшими снежными краями; а когда его для разнообразия опять потащило под гору, на сей раз уже против ветра, он заметил в некотором отдалении как бы взнесенную ввысь снежными вихрями тень человеческого жилья.
Долгожданное, утешительное зрелище! Молодец он, что этого добился, несмотря на все препятствия, ведь вот уже виден дом, создание рук человеческих, а значит недалеко и до обитаемой долины. Может быть, в доме есть люди, может быть, он войдет к ним, в тепло, переждет под крышей непогоду и на худой конец попросит себе провожатого, если к тому времени уже наступит ночь. Он двигался к этой химере, к неопределенности, то и дело исчезавшей в ненастном сумраке, и чтоб до нее добраться, преодолел еще один изнурительный подъем против ветра, но, подойдя к ней вплотную, с негодованием, с удивлением, со страхом и чувством дурноты убедился, что это знакомая хижина с камнями на крыше, а ведь он столько затратил сил, столько прошел кружных путей – лишь затем, чтобы вновь отвоевать ее.
Вот дьявольщина! Энергические проклятия (без согласных) сорвались с окоченевших губ Ганса Касторпа. Он протащился, однако, кругом хижины, чтобы сориентироваться, и установил, что на сей раз подошел к ней с тыльной стороны, а следовательно, битый час, по его расчету, потратил на бесполезнейшую ерунду. Но так бывает, говорилось в книжке. Мечешься по кругу, выбиваешься из сил, всем сердцем веришь, что движешься вперед, а на деле описываешь широкую, нелепую дугу, которая возвращается к себе самой, как дразнящий нас кругооборот года. Вот так и блуждаешь, не находя дороги домой. Ганс Касторп отнесся к этому извечному феномену с некоторым удовлетворением, хотя и со страхом; он даже хлопнул себя по ляжке от гнева и удивления, что всеобщее так точно повторилось в его особом, индивидуальном случае.
Одинокий сарай был неприступен, дверь на запоре, ниоткуда не войти. Тем не менее Ганс Касторп решил пока что остаться здесь, ибо нависшая крыша создавала некую иллюзию гостеприимства, а само строение, тыльной своей стороной обращенное к горам, действительно могло служить некоторой защитой от ураганного ветра, если прислониться плечом к его бревенчатой стене, – прислониться спиной не позволяли длинные лыжи. Так он стоял, воткнув в снег лыжную палку, засунув руки в карманы, высоко подняв воротник свитера и опираясь для равновесия на отставленную вбок ногу; глаза у него закрылись, усталую, кружившуюся голову он склонил к деревянной стене и лишь изредка через плечо поглядывал на другую сторону ущелья, где в снежной мути порой вырисовывался отвесный склон горы.
Он находился в положении более или менее сносном. «На худой конец так можно простоять всю ночь, – подумал он, – надо только время от времени менять ногу, так сказать „переворачиваться на другой бок“, и, конечно, хорошенько разминать тело, иначе пропадешь. Пусть я весь закоченел снаружи, но внутри-то я при движении скопил немало тепла, а значит и мое блужданье было небесполезно, хоть я и беспутно таскался вокруг этой хижины… „Беспутно“, что за выражение? Его совсем не так употребляют, для того, что со мной случилось, оно не годится, я его применил произвольно, потому что в голове у меня все путается… Нет, по-своему это, пожалуй, правильное слово. Хорошо, что можно здесь переждать, ведь вся эта суматоха, снежная суматоха, нечестивая суматоха, свободно может продлиться до утра, – ей-то что? – а если она и продлится только до темноты, все равно худо, ночью опасность беспутья, беспутной беготни по кругу не меньше, чем в пургу… А ведь, наверно, уже вечер, часов шесть, – сколько же времени я бессмысленно проплутал? Который теперь час?» И он взглянул на часы, хотя вытащить их замерзшими пальцами из жилетного кармана было не так-то легко, – на свои золотые часы с монограммой на крышке, которые честно и оживленно тикали в пустынном одиночестве, подобно его сердцу, трогательному человеческому сердцу в органическом тепле грудной клетки…
Половина пятого. Черт подери, да ведь почти столько же было, когда разыгралась непогода. Неужто он проблуждал всего какие-нибудь четверть часа? «Время сделалось долгим для меня, – подумал он. – Погибель, видимо, тянется долго. Но в пять или в половине шестого уже темнеет, об этом забывать нельзя. Утихнет ли вьюга дотемна, чтобы мне опять не блуждать так беспутно? На всякий случай подкреплюсь-ка я глотком портвейна».
Этот дилетантский напиток он взял с собой единственно потому, что в «Берггофе» его всегда держали про запас в плоских бутылочках – для экскурсантов, разумеется, не имея в виду тех, что, самым непозволительным образом заблудившись в горах, дожидаются в пургу наступления ночи и коченеют от мороза. Не будь у него такой туман в голове, он бы понял, что в смысле возвращения домой ничего более глупого нельзя было придумать; впрочем, он это уразумел, но лишь после того как сделал несколько глотков, тотчас же оказавших действие, весьма сходное с действием кульмбахского пива в первый его вечер здесь наверху, когда он своей неумеренной болтовней о соусах к рыбе и тому подобной ерунде рассердил Сеттембрини – господина Лодовико, педагога, который даже сумасшедших, потерявших всякую власть над собой, одним взглядом заставлял образумиться и чей благозвучный рожок донесся сейчас до слуха Ганса Касторпа в знак того, что красноречивый ментор приближается, спеша высвободить своего незадачливого питомца, трудное дитя жизни, из отчаянного положения, в которое он попал, и отвести его домой… Разумеется, то была чепуха, следствие ненароком выпитого кульмбахского пива. Ибо, во-первых, у господина Сеттембрини никакого рожка не было, а была только шарманка, она стояла на своей деревяшке на мостовой, и под бойкую ее игру он бросал гуманистические взгляды на окна домов; во-вторых же, он ровно ничего не знал и не видел из того, что происходило, так как жил уже не в санатории «Берггоф», а в чердачной комнатушке, где всегда стоял графин с водой, у дамского портного Лукачека, как раз над шелковой кельей Нафты. К тому же он здесь не имел ни права, ни возможности вмешиваться, как и в ту карнавальную ночь, когда Ганс Касторп тоже находился в отчаянно трудном положении, возвратив больной Клавдии Шоша son crayon, карандаш, карандаш Пшибыслава Хиппе… Кстати, что значит «положение»? Чтобы у этого слова был правильный, точный, а не чисто метафорический смысл, нужно бы лежать, а не стоять. Горизонталь – вот положение, подобающее долголетнему собрату этих, здесь наверху. Да и разве он не привык в мороз и вьюгу лежать на воздухе днем и ночью? Он уже совсем собрался опуститься на снег, как вдруг его пронизало, схватило, так сказать, за шиворот и удержало на ногах соображение, что эту мысленную болтовню о «положении» следует отнести исключительно за счет кульмбахского пива, за счет безличного и, как написано в книжке, типически опасного желания лечь и спать, желания, едва не одурачившего его софизмами и каламбурами.
«Я сделал то, чего не следовало делать, – решил он. – Портвейн мне был ни к чему, несколько глотков, и голова у меня так отяжелела, что валится на грудь, в мыслях – путаница, какие-то навязчивые и плоские остроты, на них нельзя полагаться, не только первым, которые приходят мне на ум, а и вторым, критическим по отношению к первым, – вот в чем беда. Son crayon! Нет, в данном случае „ее“ crayon, а не его, a son говорится потому, что crayon мужского рода, все остальное пустые остроты. И зачем я об этом размышляю! Куда важнее тот факт, что моя левая нога, а я на нее опираюсь, изрядно напоминает деревянную ногу Сеттембриниевой шарманки, которую он толкает перед собою по мостовой, подходя к окну и подставляя свою бархатную шляпу, чтобы девчушка там, в окне, бросила ему монетку. Право же, меня самым безличным образом, ну точно руками, тянет лечь на снег. Этой беде поможет только движение. Надо двигаться в наказание за кульмбахское пиво и чтобы размять одеревенелую ногу».
Он оттолкнулся плечом. Но едва он отделился от сарая, едва шагнул вперед, как ветер точно ножом полоснул его и погнал обратно к спасительной стене, Она явно была предуказанным местонахождением, которым он до поры до времени должен был удовлетвориться, причем для разнообразия ему предоставлялась возможность прислониться не правым, а левым плечом и выставить правую ногу, слегка притопывая левой, чтобы ее оживить. «В такую погоду из дому не выходят, – подумал он. – Немного развлечься, куда ни шло, но не предаваться поискам нового, не заигрывать с пургой. Стой тихо и, ладно уж, опусти голову, раз она такая тяжелая. Отличная стена, бревна, от них как будто исходит тепло, поскольку здесь может быть речь о тепле, подспудное тепло дерева, а возможно, что это мне только кажется, субъективное восприятие… Ах, сколько деревьев! Ах, живительный воздух живых! Какое благоуханье!..»
Парк расстилался под ним, под балконом, на котором он, видимо, стоял – обширный, пышно зеленеющий парк; лиственные деревья, вязы, платаны, буки, клены, березы с чуть различной по оттенку, роскошной, свежей мерцающей листвой тихо шелестели ветвями. Пахнуло чарующим, влажным воздухом, напоенным дыханьем дерев. Налетел теплый ливень, но весь просвеченный солнцем. Высоко до самого неба переливались в воздухе блистающие струйки. Как хорошо! О, прелесть родных краев, изобилие и благоухание давно покинутой равнины! Воздух полон птичьего гомона, задушевно манерных и сладостных трелей, чириканья, воркованья, щелканья и всхлипов, хотя ни одной пичужки не видно. Ганс Касторп улыбался, исполненный благодарности, дышал всею грудью. А между тем вокруг стало еще прекраснее. В стороне радуга осенила собою ландшафт, полная яркая радуга, чистейшее великолепие, влажно мерцающее всеми своими красками, что густо, как масло, изливались на сочную блестящую зелень. О, да ведь это точно музыка, точно звуки арфы, мешающиеся с флейтами и скрипками. Всего удивительнее лились синева и лиловость. Как по волшебству, все растворялось в них, видоизменялось, еще краше расцветало вновь. Так уже было однажды, в давнюю пору, когда Гансу Касторпу довелось услышать прославленного на весь мир итальянского тенора, чей голос благодатной мощью искусства вливался в людские сердца. Он держал высокую ноту, которая была прекрасна с самого начала. Но затем постепенно, от мгновенья к мгновенью, этот страстный дивный звук стал набухать, приоткрываться – и раскрылся совсем, просветленный и сияющий. Словно пелена за пеленой, дотоле никем не замечаемые, спадали с него, – вот упала последняя, та, что, казалось, обнажила ярчайший, наичистейший свет, но тут же засиял свет доподлинно последний, невероятный, освободивший из оков такой избыток блеска и нестерпимо сверкающего великолепия, что в толпе раздались приглушенные возгласы восхищения, звучавшие почти как протест, и у него самого, у молодого Ганса Касторпа, комок подкатился к горлу. Вот именно так теперь преображался ландшафт, раскрывался все в большем просветлении. Синева плыла… Спадали блестящие пелены дождя: море простиралось перед глазами. Это было южное море, синее-синее, взблескивавшее серебристой рябью; чудно красивый залив, с одной стороны открытый в подернутые дымкой дали, с другой – опоясанный цепью гор, чем дальше, тем тусклее голубевшей, залив с островами, на которых вздымались пальмы и во тьме кипарисовых рощ светились белые домики. О, о, довольно! Не по заслугам эта благодать света, ясной небесной лазури, морской солнечной свежести! Никогда Ганс Касторп такого не видел. Во время каникулярных поездок он едва пригубил юга, знал только суровое, бледное море и всеми своими ребяческими немудрящими чувствами был к нему привержен, на Средиземном же море, в Неаполе, в Сицилии или в Греции вовсе не бывал. И тем не менее он вспоминал. Да, странным образом он праздновал повторную встречу.
«Ах, да ведь это оно самое!» – воскликнул в нем внутренний голос, – словно издавна он вынашивал в сердце, тая от себя самого, синее солнечное счастье» разостлавшееся перед ним; и это «издавна» было необозримо бесконечно, как открытое море слева, там, где с ним сливалось чуть лиловеющее небо.
Горизонт был высок, ширь, казалось, росла вверх, это происходило оттого, что Ганс смотрел на залив с некоторой высоты: горы, опоясавшие бухту, лесистыми отрогами вдавались в море и с середины доступного его взгляду ландшафта полукружием тянулись до того места, где он сидел, и еще дальше. Гористое побережье. Прикорнув на теплых от солнца каменных ступенях, он смотрел, как оно мшисто-каменными террасами, кое-где утыканными жестким кустарником, спускалось к ровной береговой полосе, где груды валунов образовывали меж камышей голубеющие бухточки, маленькие гавани, лиманы. И этот солнечный край, и эти легко доступные высокие берега, и эти веселые скалистые водоемы, так же как и само море, вплоть до островов, возле которых сновали лодки, все, все было полно людей; люди, дети солнца и моря, были повсюду, они двигались или отдыхали, разумно резвая, красивая молодая поросль человечества. Сердце Ганса Касторпа, глядевшего на них, раскрывалось, до боли широко раскрывалось от любви.
Юноши объезжали коней, схватившись за недоуздок, мчались рядом с храпящими, вскидывавшими головы скакунами, то и дело встававшими на дыбы, осаживали их, дернув книзу длинный повод, или же без седла, босыми ногами колотя коней по лоснящимся бокам, мчались прямо в море; при этом мускулы играли под кожей золотисто-смуглых спин юных всадников, а громкие возгласы, которыми они обменивались друг с другом или же поощряли коней, по какой-то непонятной причине звучали обворожительно. Возле глубоко врезавшегося в сушу заливчика, что, как горное озеро, отражал берега, плясали девушки. Одна из них, с волосами, собранными в высокий узел на затылке, от которой веяло таинственным очарованием, сидела, опустив ноги в неглубокую ямку, и играла на пастушьей свирели, глядя на подруг поверх своих пальцев, бегло перебиравших лады; в длинных и широких одеждах они то кружились поодиночке, с улыбкой простирая руки, то, соединившись в пары, нежно прижимались щека к щеке, а за спиной девушки, игравшей на свирели, за ее белой, длинной, из-за приподнятых рук казавшейся нежно округлой спиной, сидели или, обнявшись, стояли другие сестры и, тихонько переговариваясь, смотрели на плясуний. Поодаль юноши упражнялись в стрельбе из лука. Отрадно и весело было видеть, как старшие обучали еще неловких кудрявых отроков натягивать тетиву и держать лук, целились вместе с ними, со смехом поддерживали пошатнувшихся от отдачи в миг, когда, звеня, вылетала стрела. Другие удили. Они лежали на плоских прибрежных каменьях, задрав одну ногу вверх, опустив удочки в море, и беспечно болтали с соседом, который, весь изогнувшись, старался подальше забросить крючок с наживкой. Многие, наконец, были заняты спуском на воду судна с высокими бортами, мачтой и реями; они толкали его, волокли, подкладывали бревна, чтобы создать разгон. Дети играли и прыгали в пене разбивавшихся о берег валов. Молодая женщина, растянувшаяся на песке, заведя глаза, одной рукою придерживала между грудей пестротканое одеяние, другую же простирала вверх, ловя ветку с плодами, которою ее дразнил стоявший у нее в изголовье узкобедрый мужчина. Многие лежали под сенью скал, другие в нерешительности стояли у кромки моря и, схватившись перекрещенными на груди руками за плечи, осторожно пробовали ногой, тепла ли вода. Пары прогуливались вдоль берега, и губы того, кому девушка доверила вести себя, касались ее уха. Длинношерстые козы скакали с уступа на уступ, под надзором юного пастуха, который стоял на скале, опираясь на длинный посох, в шляпе с отогнутыми сзади полями на русых кудрях.
«Ну что за прелесть! – от души восхитился Ганс Касторп. – До чего же отрадное, привлекательное зрелище! Как они красивы, здоровы, умны, счастливы! И это не внешняя оболочка – они изнутри умны и достойны. Дух, положенный в основу их существования, дух и смысл, в котором они живут и друг с другом общаются, вот что умиляет мое сердце!» Под этим он подразумевал истинное дружелюбие и равномерно поделенную учтивую внимательность, пронизывавшую взаимоотношения солнечных людей, эту скрытую под легкой усмешкой почтительность, которую они неприметно, лишь в силу властвовавшей над ними общности чувств или некоей вошедшей в плоть и кровь идеи, на каждом шагу друг другу выказывали, и даже более, чем почтительность, – достоинство и строгость, но растворенные в веселости и определявшие все их поведение только как невысказанное, духовное влияние этой просветленной серьезности, какого-то разумного благочестия, хоть и не вовсе чуждого обрядности. Ибо чуть поодаль, на круглом замшелом камне, в коричневом платье, спущенном с одного плеча, сидела молодая мать и кормила грудью ребенка. И каждый проходящий мимо приветствовал ее на особый лад, в котором сочеталось все, о чем выразительно умалчивало поведение этих людей: юноши, при виде воплощенного материнства, быстро и ритуально складывали руки крестом на груди и с улыбкой наклоняли голову, девушки почти неуловимым движением сгибали колена, как сгибает их набожный прихожанин, проходя мимо царских врат. Но при этом они по нескольку раз – живо, весело и сердечно – кивали ей головой. И это смешение обрядового благочиния и непринужденного дружелюбия, да еще неторопливая ласковость, с которой мать отводила глаза от своего малютки (облегчая ему труд, она слегка надавливала указательным пальцем грудь возле соска) и улыбкой благодарила тех, что воздавали ей почести, все это вместе взятое привело Ганса Касторпа в восторг. Он никак не мог вдосталь наглядеться и только, волнуясь, спрашивал себя, не заслуживает ли суровой кары за это созерцание, за это подслушивание солнечно-благостного счастья, непосвященный, кажущийся себе таким грубым, нескладным и безобразным.
Пожалуй, что так. Пониже того места, где сидел Ганс Касторп, красивый мальчик, пышные волосы которого были зачесаны набок и, слегка приподнятые надо лбом, спадали на виски, сидел в стороне от остальных, прижав к груди сплетенные руки, – не грустный или рассерженный, нет, просто так, сидел в стороне. Мальчик его заметил, поднял на него глаза, потом его взор стал перебегать с Ганса Касторпа на пестрые картины взморья: он явно подглядывал за соглядатаем. Внезапно он посмотрел поверх его головы, посмотрел вдаль, и с его красивого, полудетского лица со строгими чертами мгновенно сбежала игравшая здесь на всех лицах улыбка учтивой братской внимательности, и хоть брови его не нахмурились, но в чертах появилась суровость, каменная, лишенная выражения, непроницаемая, смертная замкнутость, от которой холодный пот прошиб уже успокоившегося было Ганса Касторпа, ибо он начал догадываться, что она означает.
Ганс Касторп тоже оглянулся… Могучие колонны без цоколя, сложенные из цилиндрических глыб и в пазах поросшие мохом, вздымались за ним, – колонны, образующие врата храма; на широкой лестнице, ведущей к ним, он и сидел. Он поднялся с тяжелым сердцем и пошел вниз по ступеням, все время держась с краю, и потом завернул в проход под вратами, откуда вышел на улицу, мощенную каменными плитами и приведшую его к новым пропилеям. Он их тоже миновал, и перед ним открылся храм, тяжелый, серо-зеленый от времени, с крутым ступенчатым цоколем и широким фасадом, покоившимся на капителях мощных, почти приземистых, но кверху утончавшихся колонн, над которыми то тут, то там торчал сдвинувшийся с места круглый обломок камня. С усилием, помогая себе руками и тяжело дыша, так как у него все больше и больше теснило сердце, Ганс Касторп добрался до леса колонн. Это была очень глубокая колоннада, и он бродил в ней, словно в лесу меж буковых стволов у белесого моря, старательно обходя ее середину. Но его поневоле тянуло к ней, и там, где колонны расступались, он очутился перед изваянием, перед двумя высеченными из камня фигурами на пьедестале, видимо, изображавшими мать и дочь. Одна, сидящая, была старше, почтеннее. Весь ее облик, облик матроны, светился величавой кротостью, только брови были скорбно сдвинуты над пустыми глазницами; туника складками ниспадала из-под ее плаща, а на кудрявые волосы было наброшено покрывало; одной рукой она обнимала вторую фигуру, с округлым девичьим лицом и руками, спрятанными в складках одежды.
Ганс Касторп созерцал эту группу, и сердце его почему-то сжималось тяжелым, смутным предчувствием. Он боялся верить себе, но все же вынужден был обойти вокруг изваяния и двинуться дальше, вдоль двойного ряда колонн. Перед ним возникла металлическая дверь, открытая во внутренность храма, и у бедняги подогнулись колени от ужаса перед тем, что он увидел. Две седые старухи, полуголые, косматые, с отвислыми грудями и сосками длиною в палец, мерзостно возились среди пылающих жаровен. Над большой чашей они разрывали младенца, в неистовой тишине разрывали его руками, – Ганс Касторп видел белокурые тонкие волосы, измазанные кровью, – и пожирали куски, так что ломкие косточки хрустели у них на зубах и кровь стекала с иссохших губ. Ганс Касторп оледенел. Хотел закрыть глаза руками – и не мог. Хотел бежать – и… не мог. За гнусной, страшной своей работой они заметили его и стали потрясать окровавленными кулаками, ругаться безгласно, но грязно и бесстыдно, да еще на простонародном наречии родины Ганса Касторпа. Ему стало тошно, дурно, как никогда. В отчаянии он рванулся с места и, скользнув спиной по колонне, упал наземь – омерзительный гнусный шепот все еще стоял у него в ушах, ледяной ужас по-прежнему сковывал его – и… очнулся у своего сарая, лежа боком на снегу, головой прислонившись к стене, с лыжами на ногах.
Но это не было настоящим, доподлинным пробуждением. Он лишь моргнул глазами, радуясь избавлению от мерзких старух, но все же не уяснил себе до конца, да, впрочем, ему это было безразлично, лежит ли он у колонны храма или у сарая, и отчасти еще продолжал спать, только уже не пестрые картины представлялись ему, а он думал во сне, думал не менее причудливо и дерзостно.
«Я так и знал, что это сон, – бормотал он про себя. – Мне приснился сон, прелестный и страшный. Собственно говоря, я всегда это знал и все сам для себя создал – зеленеющий парк, и чудную влажность, и все остальное, прекрасное и мерзкое. Я, можно сказать, знал это наперед. Но можно ли такое знать и создавать для себя, так себя тешить и пугать? Откуда они у меня взялись – этот прекрасный залив с островами, а потом пропилеи и храм, на который указали мне глаза того милого отрока, что сидел в стороне? Грезы-то ведь зарождаются не в одной твоей душе, сказал бы я, грезишь безымянно и коллективно, хотя и на свой собственный лад. Великая душа, частицей которой ты являешься, грезит – через тебя и по-твоему – о вещах, которые извечно грезятся ей: о своей юности, своей надежде, своем счастье, о мире и… о своем кровавом пиршестве. Вот я лежу у колонны, и во мне еще живут остатки моего сна, леденящий ужас перед лицом кровавого пиршества и то, что было до него – радость при виде счастья и добродетели светлого народа. Мне подобает, я это утверждаю, мне дано преимущественное право лежать здесь и грезить обо всем этом. Я многое узнал от живущих здесь наверху относительно дезертирства и разума. Я блуждал с Нафтой и Сеттембрини по опасным высотам. Я все знаю о человеке. Я познал его плоть и кровь, я вернул больной Клавдии карандаш Пшибыслава Хиппе. Но тот, кто познал плоть, жизнь, познал и смерть. И это еще не все, это только начало, если смотреть с педагогической точки зрения. Нужно это сложить с другой половиной – противоположной. Ибо интерес к смерти и болезни не что иное, как своеобразное выражение интереса к жизни, как то доказывает гуманистическая наука – медицина, которая всегда так учтиво, по-латыни, обращается к смерти и болезни, сама будучи лишь тенью того великого, наиважнейшего, что я от полноты сердца назову настоящим его именем: это трудное дитя жизни, это человек и его назначение в мире, его царство… Я недурно в нем разбираюсь, многому научился у живущих здесь наверху. Меня так высоко взметнуло над равниной, что я, бедняга, чуть не задохся; зато мне все видно отсюда, с подножия колонны… Мне снился сон о назначении человека, о его пристойно разумном и благородном товариществе на фоне разыгрывающегося в храме омерзительного кровавого пиршества. Или солнечные люди потому так учтивы и внимательны друг с другом, что втайне знают о совершающемся ужасе? В таком случае они сделали из этого весьма утонченные и галантные выводы! Я заодно с ними, а не с Нафтой, но и не с Сеттембрини – оба болтуны. Один злой сладострастник, а другой только и знает, что дудеть в дудку разума, и воображает, будто действует оздоровляюще даже на сумасшедших, что уже просто пошлость. Это филистерство, голая этика, безверие и ничего больше. Но и на сторону недомерка Нафты я тоже не стану, с его религией – сплошной guazzabuglio[101] бога и дьявола, добра и зла, пригодной лишь на то, чтобы отдельный человек очертя голову бросался в нее, с целью мистически раствориться во всеобщем. Уж эти педагоги! Их споры и разногласия – это всего-навсего guazzabuglio, путаная многоголосица боя, и ей не оглушить того, кто мыслит хоть сколько-нибудь независимо и чист в сердце своем. Вопрос об аристократизме! Благородство! Что благороднее: жизнь или смерть, болезнь или здоровье, дух или природа? Да разве это противоречия? Помилуйте: разве это вопросы? Нет, не вопросы, и вопроса о том, что благороднее, тоже не существует. Дезертирство в смерть неотделимо от жизни, без него жизни бы не было, а стоять посередке, посередке между дезертирством и разумом, – назначение Homo Dei. Ведь и царство его – посередке между мистическим единением и ветреным индивидуализмом. Я это вижу со своей колонны. Верный своему назначению, Homo Dei должен быть изысканно учтив и дружелюбно почтителен с самим собой: благороден он, а не противоречия. Человек – хозяин противоречий, через него они существуют, а значит он благороднее их. Благороднее смерти, ибо где ей тягаться со свободой его разума? Благороднее жизни, ибо где ей тягаться с чистотой его сердца? Вот я и сочинил поэму о человеке. Я ее запомню. Я буду добрым. Не дам смерти управлять моими мыслями. Ибо в этом и ни в чем ином заключены доброта и человеколюбие. Смерть – великая сила. Перед ней снимают шляпу, склонив голову, стараются ступать неслышно. Она носит почтенные брыжи прошлого, и мы в ее честь одеваемся строго, во все черное. Разум глуп перед нею, он ведь не более как добродетель, она же – свобода, дезертирство, бесформенность и похоть. Похоть, говорит мой сон, не любовь. Любовь и смерть, не стоит сочетать эти понятия, получится безвкусица и пошлость. Любовь противостоит смерти, только она, а не разум, сильнее ее. Только она, а не разум, внушает нам добрые мысли. И форма состоит единственно из любви и доброты: форма и обычай разумно-дружеского общения, прекрасное человеческое царство – с молчаливой оглядкой на кровавое пиршество. О, как вразумителен был мой сон! Как он поможет мне править! Я буду помнить о нем. В сердце своем я сохраню верность смерти, но в памяти буду хранить убеждение, что верность смерти, верность прошлому – злоба, темное сладострастие и человеконенавистничество, коль скоро она определяет наши мысли и чаяния. Во имя любви и добра человек не должен позволять смерти господствовать над его мыслями. И на этом я просыпаюсь… На этом я до конца досмотрел свой сон и достиг цели. Давно уже я искал эти слова: и там, где мне явился Хиппе, и на моем балконе, и раньше, всегда и везде. Ведь и в заснеженные горы меня тоже погнали эти поиски. И вот я нашел. Сон настойчиво преподал мне это, чтобы я запомнил навек. О, я в восхищении, это согрело меня! Мое сердце бьется сильно и знает почему. Оно бьется не только по физиологическим причинам, вроде того, как у трупа еще продолжают расти ногти, – бьется по-человечески, от полноты счастья. Слова моего сновидения – напиток лучше портвейна и эля! Этот напиток пробегает по моим жилам, как любовь и жизнь, и я пробуждаюсь ото сна и грез, очень опасных, угрожающих моей молодой жизни… Встать, встать, открыть глаза! Это – твои руки, твои ноги, там в снегу! Соберись с силами, встань! Смотри-ка, небо прояснилось!»
Трудно далось ему освобождение от уз, что его опутывали, клонили к земле, однако стимул, который он в себе выработал, оказался сильнее. Ганс Касторп с силой уперся локтем, мужественно подтянул колени, рванулся, нашел точку опоры, встал на ноги. Он притоптал лыжами снег, похлопал себя по ребрам, передернул плечами, не переставая беспокойно и напряженно вглядываться в небо, где среди медленно уплывающих легких сероватых облаков стали появляться бледно-голубые просветы и наконец встал тоненький серп луны. Смеркалось. Ни метели, ни ветра. Гора напротив, со щетиной елей на хребте, была ясно видна и покоилась в мире. Тень окутывала только нижнюю ее половину, верхнюю же озарял нежнейший розовый свет. Что произошло, что творилось на свете? Или это уже утро? Тогда, значит, он всю ночь пролежал на снегу и не замерз, хотя та книжка предрекала именно такой исход. Ни руки, ни ноги у него не отмерли, кости не ломались с хрустом, покуда он топал, отряхивался, бил себя по ляжкам, а он этим занимался весьма усердно, обдумывая в то же время положение вещей. Уши, кончики пальцев на руках и ногах у него, правда, онемели, но не больше, чем при вечернем лежании на балконе в холодную погоду. Ему удалось наконец вытащить часы. Они шли. Не остановились, как останавливались, когда он забывал завести их на ночь. И показывали они не пять, куда там. До пяти оставалось еще минут двенадцать – тринадцать. Удивительное дело! Неужто же он пролежал на снегу какие-нибудь десять минут или чуть-чуть дольше и успел насочинить столько счастливых и страшных видений, столько отчаянно-смелых мыслей, а шестиугольное неистовство тем временем окончилось так же быстро, как возникло. В таком случае ему выпало редкостное счастье, и он вернется домой. Ибо дважды его грезы и сочинительство принимали такой оборот, что он оживал: один раз от ужаса, второй – от радости. Похоже, что жизнь дружелюбно обошлась с трудным своим дитятей…
Так или иначе, будь то утро или вечер (без сомнения, день еще только клонился к вечеру), но ничто (ни внешние обстоятельства, ни собственное его самочувствие) не препятствовало Гансу Касторпу пуститься в обратный путь. Сказано – сделано, он лихо скатился в долину, где уже зажигались огни; впрочем, дорогу ему еще достаточно освещали прощальные отблески дневного света на снегу. Он спустился через Бременбюль, вдоль Маттенвальда, и в половине шестого уже был в «деревне», оставил там свои лыжи у бакалейщика, зашел передохнуть на чердак к Сеттембрини и поведал ему о том, что был застигнут пургой. Гуманист пришел в ужас. Он схватился за голову, разбранил его за столь опасное легкомыслие и бросился разжигать пыхтящую спиртовку, чтобы напоить усталого гостя кофе, крепость которого, впрочем, не помешала ему тотчас же уснуть на стуле.
Часом позднее его уже окружала высокоцивилизованная атмосфера «Берггофа». Ужин он уписывал за обе щеки. Привидевшийся ему сон понемногу тускнел. Мысли, бродившие у него в голове, уже в этот вечер стали ему не совсем понятны.
Храбро, по-солдатски
Ганс Касторп постоянно получал вести от двоюродного брата, сначала хорошие, полные надежд, затем уже менее восторженные и, наконец, лишь кое-как приукрашивающие нечто весьма печальное. Длинный ряд открыток начался с веселого сообщения Иоахима о вступлении в полк и о романтической церемонии, которую Ганс Касторп в ответном письме назвал «принесением обета бедности, целомудрия и послушания». Продолжение носило все тот же жизнерадостный характер; открытки, сообщавшие о различных этапах удачливого служебного пути, очень гладкого из-за страстной любви к делу и благоволения начальства, обычно заканчивались приветами и поклонами. Иоахим, в течение нескольких семестров посещавший университет, был освобожден от прохождения школы прапорщиков. Уже к новому году он был произведен в унтер-офицеры и прислал свою фотографию в мундире с нашивками. В кратких его донесениях сквозило восторженное преклонение перед духом иерархии, которому он теперь подчинялся, суровой в вопросах чести, идеально пригнанной и вместе с тем юмористически-сдержанно снисходящей к человеческим слабостям. Он не скупился на анекдоты о романтически-сложном отношении к нему фельдфебеля, ворчливого фанатичного служаки, который в неопытном рядовом провидел завтрашнего начальника; Иоахим и в самом деле уже посещал офицерский клуб. Все это было смешно и диковато. Затем речь пошла о том, что он допущен к экзамену на офицерский чин. В начале апреля состоялось его производство в лейтенанты.
Казалось, не было на свете человека счастливее, человека, чье существо и желания полнее слились бы с этой особой формою жизни. С каким-то стыдливым упоением рассказывал он, как впервые во всем своем юном великолепии шел мимо ратуши и еще издали крикнул «отставить!» взявшему на караул часовому. Он сообщал о мелких неурядицах и об удовлетворении, которое ему давала служба, о великолепной дружественной спаянности офицерского состава и о плутоватой преданности своего вестового, о комических случаях во время строевого учения или занятий воинским уставом, о смотрах и братских трапезах. Иногда упоминал о своих светских обязанностях, о визитах, званых обедах, балах. О здоровье ни слова.
До самого лета – ни слова. Затем пришло известие, что он лежит в постели и, к сожалению, был вынужден подать рапорт о болезни: небольшая лихорадка, дело двух-трех дней. В начале июня он уже был в строю, но в середине месяца снова «расклеился» и горько сетовал на «невезенье», между строк читался страх не выздороветь к началу больших маневров в августе, которым он заранее радовался всем сердцем. Глупости! В июле он был здоровехонек, но потом речь зашла о медицинском обследовании, назначенном из-за этих дурацких колебаний температуры, теперь от нее многое будет зависеть. Относительно результатов медицинского обследования Ганс Касторп долго оставался в неведении, а когда весть наконец пришла, она была не от Иоахима – оттого ли, что он был не в состоянии писать, оттого ли, что стыдился? – а от его матери, госпожи Цимсен, которая, кстати сказать, не писала, а телеграфировала. Телеграмма сообщала, что врачи считают необходимым предоставить Иоахиму отпуск на месяц-другой. Рекомендуется горная местность, немедленный отъезд. Просьба заказать две комнаты. Ответ оплачен. Подпись: тетя Луиза.
Был конец июля, когда Ганс Касторп, лежа на своем балконе, пробежал глазами эту депешу, затем перечитал ее раз, второй. При этом он тихонько кивал головой, собственно даже не головой, а всем корпусом и сквозь зубы цедил: «Н-да, н-да, н-да!.. Так, так! Иоахим возвращается», – обрадовался он вдруг. Но тотчас же сник и подумал: «Гм-гм, довольно внушительные новости. Можно даже сказать, хорошенький сюрприз. Черт побери, быстро же это сделалось – уже созрел для родины! Мать едет с ним (он сказал „мать“, а не „тетя Луиза“; его родственные чувства, его связь с семьей мало-помалу ослабели, превратились едва ли не в отчужденность) – это скверно, И перед самыми маневрами, о которых бедняга так мечтал! Д-да, есть в этом изрядная доля низости, издевательской низости, – факт прямо-таки противо-идеалистический. Торжество тела, оно хочет не того, что душа, в посрамление возвышенных умов, которые учат нас, что тело в подчинении у души. Похоже, они не ведают, что говорят; окажись они правы, это бросило бы на душу весьма сомнительный свет, по крайней мере в данном случае. Sapienti sat[102], я знаю, в чем тут суть. Ибо вопрос, который я выдвигаю, как раз и сводится к тому, насколько ошибочно противопоставлять душу и тело, ежели они одного поля ягоды и играют друг другу в руку, – возвышенные умы, на свое счастье, об этом не думают. Бедняга Иоахим, ну кому охота становиться поперек дороги твоему рвению! Намерения у тебя честные, но что такое честность, ежели душа и тело одного поля ягоды. Возможно ли, что ты не смог позабыть освежающих духов, высокой груди и беспричинного смеха, что поджидают тебя за столом Штер?.. Иоахим возвращается! – опять подумал он и даже поежился от радости. – Наверно, со здоровьем у него плохо, но мы опять будем вместе, я не буду больше жить предоставленным самому себе. Это хорошо. Конечно, не все будет в точности как прежде; ведь его комната занята миссис Макдональд, она там задыхается от беззвучного кашля, и, конечно, на столике рядом с кроватью стоит фотография ее сынишки, а может быть, она держит ее в руках. Но это финальная стадия, и если комната еще ни за кем не закреплена… До поры до времени можно взять другую. Номер 28, помнится, свободен. Надо сейчас же поставить в известность администрацию и сходить к Беренсу. Вот новость так новость, с одной стороны, правда, печальная, а с другой – прямо-таки великолепная, во всяком случае примечательная новость! Надо только дождаться, пока придет коллега и скажет «пьветствую». Ему пора, уже половина четвертого. Интересно, останется ли он и сейчас при том мнении, что телесное следует рассматривать как некое вторичное явление…»
Ганс Касторп еще до чая зашел в контору. Комната, которую он имел в виду, по тому же коридору, что и его собственная, была свободна. Для госпожи Цимсен тоже найдется место. Он поспешил к Беренсу и застал его в «лаборатории» с сигарой в одной руке и пробиркой с чем-то бесцветным в другой.
– Вы знаете, господин гофрат, что я хочу вам сообщить?.. – начал Ганс Касторп.
– Знаю, что неприятностям нет конца, – отвечал тот. – Это Розенгейм из Утрехта, – и он ткнул сигарой в пробирку. – Гафки десять. А тут является директор фабрики Шмитц вне себя и жалуется, что Розенгейм плюнул на дорожку, – это с Гафки-то десять. И я, мол, должен как следует отчитать его. Да, но если я его отчитаю, он взъерепенится, он ведь невероятно раздражителен, а семейство Розенгейм как-никак занимает три комнаты. Я не могу его выгнать, дирекция меня со свету сживет. Вот видите, в какие недоразумения впутываешься на каждом шагу, хоть тебе всего милее тихо и добросовестно заниматься своим делом.
– Глупейшая история, – проговорил Ганс Касторп с вдумчивой миной «своего человека» и старожила. – Я знаю обоих. Шмитц в высшей степени корректен и опрятен, а Розенгейм – неряха. Но, помимо гигиенических, здесь, думается мне, имеются и другие точки преткновения. Они оба дружат с доньей Перес из Барселоны, со стола Клеефельд, в этом-то, наверно, все дело. Я считаю, что вам следовало бы еще раз напомнить всем пациентам о существующем запрете, а на остальное закрыть глаза.
– Разумеется, закрою. У меня уже начинается нервный тик от беспрерывного закрывания глаз. Ну, а вы чего сюда пожаловали?
И Ганс Касторп немедленно выложил свою печальную и вместе с тем преотличную новость.
Гофрат не то чтобы удивился. Он и так ни за что бы не выказал удивления, а в этом случае и подавно, так как Ганс Касторп, спрошенный или не спрошенный, всегда рассказывал ему о жизни Иоахима на равнине и еще в мае сигнализировал, что его кузен слег в постель.
– Ага, – буркнул Беренс. – Вот оно самое. Ну что я вам говорил? Что я говорил ему и вам не десять, а по крайней мере сто раз? Вот пожалуйста. Три четверти года он жил по собственному усмотрению, пребывал, так сказать, в раю. Только в раю не полностью обеззараженном, а значит ничего доброго не сулящем; беглец не хотел верить старику Беренсу. А старику Беренсу надо верить, не то плохо придется, а спохватишься – и уже поздно. Он дослужился до лейтенанта, что ж, хорошо, ничего не скажешь. А что толку? Господь видит сердце человеческое, на чины и звания он не смотрит, перед ним все стоят в чем мать родила, будь то генерал или простой парень…
Он понес сущий вздор, стал громадной своей ручищей тереть глаза, не выпуская из пальцев сигары, и попросил Ганса Касторпа сегодня больше не обременять его своим присутствием. Комнатушка для Цимсена, конечно, найдется, и когда он приедет, пусть кузен незамедлительно уложит его в постель. Он, Беренс, зла не помнит и готов заклать тельца для этого дезертира.
Ганс Касторп дал телеграмму. Он рассказывал всем встречным и поперечным о том, что его кузен возвращается, и все знавшие Иоахима были опечалены и обрадованы, искренне опечалены и искренне обрадованы, потому что своей чистой рыцарственной сущностью он завоевал всеобщее расположение, и невысказанные чувства и мысли многих склонялись к тому, что Иоахим был лучшим из всех здесь наверху. Мы никого, в частности, не подразумеваем, но верим, что кое-кто испытал удовлетворение, узнав, что солдатская служба для Иоахима сменяется горизонтальным образом жизни и что он с обаятельной своей корректностью снова станет «нашим». У фрау Штер немедленно возникли свои соображения по этому поводу. Возвращение Иоахима подтверждало те низкопробные сомнения, которые в ней вызвало его бегство на равнину, и она, нимало не стесняясь, стала хвалиться своей прозорливостью. «Дрянь, дрянь!» – восклицала фрау Штер. Ей сразу было ясно, что дело дрянь, остается только надеяться, что Цимсен из-за своего упрямства не «сыграет в ящик» (так она и выразилась в чудовищной своей вульгарности). Уж куда лучше сидеть на месте, как она, а ведь кое-какие интересы и ее связывают с равниной, в Каннштате у нее муж и двое детей, однако она себя держит в руках…
Ответа ни от Иоахима, ни от фрау Цимсен не последовало. Ганс Касторп пребывал в неизвестности относительно дня и часа их приезда; о встрече на вокзале, следовательно, не могло быть и речи, но уже через три дня после телеграммы Ганса Касторпа они оказались на месте, и лейтенант Иоахим, возбужденно смеясь, подошел к ложу, на котором его кузен отбывал свою санаторскую повинность.
Это было вскоре после начала вечернего лежания. Их привез сюда наверх тот же поезд, что и Ганса Касторпа несколько лет назад, лет не коротких и не длинных, а безвременных, до отказа насыщенных треволнениями жизни и тем не менее ничтожных, равных нулю; даже время года было точно то же самое – один из первых дней августа. Иоахим, как сказано выше, радостно, да, в этот момент, несомненно, радостно возбужденный, вошел или, вернее, вышел на балкон из комнаты, которую он почти что пробежал, и, смеясь, тяжело дыша, глуховатым, срывающимся голосом приветствовал своего двоюродного брата. Позади осталась дорога через множество стран, по большому, как море, озеру, по горным тропам, которые вели его наверх, все выше наверх, и вот он стоит здесь, словно никогда и не уезжал, а двоюродный брат охает и ахает, привстав на своем ложе. На лице Иоахима играл румянец, то ли от жизни на свежем воздухе, которую он вел в продолжение нескольких месяцев, то ли он был еще разгорячен путешествием. Не зайдя даже в свою комнату, он поспешил, покуда его мать приводила себя в порядок, в № 34, чтобы скорее свидеться с товарищем прежних дней, вновь ставших настоящим. Минут через десять они пойдут ужинать, в ресторан, разумеется. Ганс Касторп, право же, может перекусить с ними или хотя бы выпить глоток вина. И Иоахим потащил его за собой в № 28, где все происходило точно так же, как в вечер приезда Ганса Касторпа, только наоборот: теперь Иоахим, лихорадочно болтая, мыл руки над сверкающей раковиной, а Ганс Касторп смотрел на него, удивленный и несколько разочарованный тем, что кузен в штатском костюме. Ничто не напоминает о его принадлежности к военному сословию. Он всегда представлял его себе офицером, затянутым в мундир, а он стоит перед ним в обыкновеннейшей серой паре. Иоахим расхохотался и назвал его наивным. О нет, мундир он преспокойно оставил дома. Мундир, да будет известно Гансу Касторпу, вещь обязывающая. Не во всякое заведение пойдешь в мундире. «Ах так, покорнейше благодарю», – вставил Ганс Касторп. Но Иоахим, видимо, не нашел ничего обидного в своем замечании и стал расспрашивать о новостях «Берггофа» и о его обитателях не только не высокомерно, но с чистосердечным умилением возвратившегося на родину. Затем из смежного номера вышла фрау Цимсен и поздоровалась с племянником так, как здороваются в подобных обстоятельствах, а именно – сделала вид, что радостно удивлена, застав его здесь, – эта мина меланхолически смягчалась усталостью и затаенной грустью, относившейся к положению Иоахима, – и они спустились на лифте в первый этаж.
У Луизы Цимсен были такие же прекрасные, черные, кроткие глаза, как у Иоахима. Ее волосы, тоже черные, но уже с сильной проседью, были заботливо уложены и закреплены почти невидимой сеткой, что хорошо гармонировало с ее рассудительной, дружелюбно-сдержанной, мягкой манерой держаться и, несмотря на слишком очевидное простодушие, сообщало приятное достоинство всему ее существу. Она явно не понимала, и Ганс Касторп этому не удивлялся, веселья Иоахима, его учащенного дыхания, торопливых речей, всего, что, надо думать, противоречило его поведению дома и в дороге и вправду так не вязалось с его положением, не понимала и даже чувствовала себя уязвленной.
Этот приезд представлялся ей грустным, и она полагала, что соответственно должна и вести себя. Чувства Иоахима, буйные чувства того, кто возвратился домой из дальних странствий, пересиливавшие сейчас все остальное и еще больше воспламененные тем, что он вновь вдыхал наш несравненно легкий, пустой и возбуждающий воздух, были для нее непостижимы и непроницаемы. «Бедный мой мальчик», – думала она и при этом видела, как бедный мальчик предается неуемному веселью со своим кузеном, как они освежают в памяти множество воспоминаний, забрасывают друг друга вопросами и, едва дослушав ответ, с хохотом откидываются на спинку стула. Она уже не раз говорила: «Полно вам, дети!» И в заключение сказала то, что должно было прозвучать радостно, а прозвучало отчужденно и даже укоризненно: «Право же, Иоахим, я давно тебя таким не видела. Нам, оказывается, надо было приехать сюда, чтобы ты выглядел, как в день своего производства!» После чего веселое настроение Иоахима как рукой сняло. Он опомнился, сник, замолчал, не притронулся к десерту – весьма лакомому шоколадному суфле со сбитыми сливками (зато Ганс Касторп воздал ему должное, хотя со времени обильного ужина прошло не более часа) и под конец вообще уже не поднимал глаз, вероятно оттого, что в них стояли слезы.
Это, конечно, не входило в намерения фрау Цимсен. Она ведь только стремилась внести в разговор благопристойную сдержанность, не ведая, что среднее и умеренное чуждо этим высям, что выбор здесь существует лишь между крайностями. Видя сына таким поникшим, она сама готова была заплакать и чувствовала искреннюю благодарность к племяннику за его старания вновь развеселить глубоко опечаленного Иоахима. Да, что касается личного состава пациентов, говорил Ганс Касторп, то он, как Иоахим сам увидит, претерпел некоторые изменения, многое обновилось, а многое, напротив, за время его отсутствия вновь восстановилось в прежнем виде. Двоюродная бабушка, например, опять уже давно здесь со всей своей компанией. И по-прежнему они сидят за столом Штер. Маруся то и дело хохочет.
Иоахим молчал, но фрау Цимсен эти слова напомнили об одной встрече, о приветах, которые она должна передать, пока не забыла, о встрече с дамой, скорее симпатичной, хотя и несколько экстравагантной и с очень уж ровными бровями, которая в мюнхенском ресторане – по пути они на один день задержались в Мюнхене – подошла к их столу, чтобы поздороваться с Иоахимом. Тоже бывшая пациентка «Берггофа», пусть Иоахим подскажет…
– Мадам Шоша, – тихо проговорил Иоахим. – Она сейчас на одном из альгейских курортов, а осенью собирается в Испанию. На зиму она, вероятно, приедет сюда. Просила передать привет и наилучшие пожелания.
Ганс Касторп был уже не мальчик, он владел сосудо-двигательными нервами, которые могли заставить его лицо покрыться краской или побледнеть. Он сказал:
– Ах, так это была она? Смотри-ка, уже вернулась из Закавказья. И, говоришь, собирается в Испанию?
– Эта дама назвала какой-то городок в Пиренеях Хорошенькая, вернее, обаятельная женщина. Приятный голос, приятные движения. Но уж слишком свободные, небрежные манеры, – заметила фрау Цимсен. – Подходит и заговаривает с нами по-приятельски, расспрашивает, рассказывает, хотя Иоахим, как выяснилось, никогда не был ей представлен. Очень странно.
– Это Восток и болезнь, – отвечал Ганс Касторп. – Тут с меркой гуманистической культуры подходить не стоит, ничего не получится.
Итак, значит, мадам Шоша собирается в Испанию. Гм! Испания также удалена от гуманистической середины, – только в сторону жестокости, а не мягкости; это не бесформенность, не сверхформа, я бы сказал: смерть как форма – не растворение в смерти, а суровый уход в нее, смертная суровость, черная, аристократическая и кровавая, инквизиция, накрахмаленные брыжи, Лойола, Эскуриал… Интересно, понравится ли мадам Шоша Испания. Хлопать дверьми она там отучится, и, может быть, там даже сольются в человечности оба антигуманистических лагеря. Но может, конечно, из этого получиться и нечто злостно террористическое, коль скоро Восток направился в Испанию…
Нет, он не покраснел и не побледнел. Впечатление, произведенное на него нечаянно вестью о мадам Шоша, выразилось в речах, единственным ответом на которые могло быть смущенное молчанье. Иоахим не так испугался, он давно знал, что кузен научился мудрствовать здесь наверху. Но взгляд фрау Цимсен отразил крайнюю растерянность; она повела себя так, словно Ганс Касторп сказал грубейшую непристойность: после тягостной паузы произнесла несколько слов, тактично сглаживающих неловкость, и встала из-за стола. Прежде чем уйти к себе, Ганс Касторп передал распоряжение гофрата, согласно которому Иоахим, завтра во всяком случае, должен был остаться в постели и ждать его визита. Дальше будет видно. Вскоре они все трое лежали по своим комнатам, где окна были распахнуты в прохладу летней высокогорной ночи, каждый со своими мыслями, – у Ганса Касторпа они вращались вокруг мадам Шоша и возможного ее возвращения через полгода.
Итак, бедняга Иоахим водворился на родине для прохождения, как на том настаивали врачи, небольшого дополнительного курса лечения. Выражение «небольшой дополнительный курс», видимо, было паролем, который в низине придумали, а здесь оставили в силе. Даже гофрат Беренс принял эту формулу, хотя сразу уложил Иоахима на месяц в постель: это-де необходимо для того, чтоб исправить наиболее грубые нарушения, для новой акклиматизации, а также для регулирования калорийного бюджета. Вопрос о сроке дополнительного лечения он сумел обойти. Фрау Цимсен, дама разумная, рассудительная, характера отнюдь не сангвинического, вдалеке от постели Иоахима предложила наметить срок отъезда на осень, скажем на октябрь, и Беренс с нею как будто согласился, заявив, что к этому времени дело уж конечно продвинется. В общем, гофрат пришелся ей очень по душе. Он вел себя по-рыцарски, то и дело говорил «сударыня», преданно, по-мужски, смотрел на нее своими налитыми кровью глазами и пользовался студенческим жаргоном, так что она, несмотря на свою горесть, не могла удержаться от смеха… «Я знаю, что Иоахим в надежных руках», – сказала она и через неделю после приезда отбыла обратно в Гамбург, ведь о необходимости особо тщательного ухода в данном случае не могло быть и речи, вдобавок с Иоахимом остался его двоюродный брат.
– Итак, радуйся: осенью, – говорил Ганс Касторп, сидя в № 28 у постели Иоахима. – Старик в известной мере связал себя этими словами; ты так и рассчитывай. Октябрь – вот твое время. В октябре некоторые отправляются в Испанию, а ты вернешься под свое bandera[103], чтобы отличиться «сверх положенного»…
Главным его занятием было ежедневно утешать Иоахима, который, лежа здесь наверху, пропускал начавшуюся в августе большую военную игру, ибо это ему всего труднее было снести, и он прямо-таки презирал себя за проклятую слабость, напавшую на него, можно сказать, в последнюю минуту.
– Rebellio carnis[104], – заметил Ганс Касторп. – Ну что поделаешь? Тут и самый храбрый офицер ничего поделать не может. Эту беду на себе испытал даже святой Антоний[105]. Бог ты мой, да ведь маневры бывают каждый год, а кроме того, ты знаешь, как здесь течет время! Да его здесь просто не существует, а ты не так долго отсутствовал, чтобы с легкостью не войти в этот темп: не успеешь оглянуться, и твой дополнительный курс позади.
И все-таки обновление чувства времени, испытанное Иоахимом благодаря жизни на равнине, было слишком значительно, чтобы он мог не страшиться этих четырех недель. Правда, ему усердно помогали скоротать их; симпатия, которую решительно во всех возбуждала его прямодушная натура, проявлялась в виде нескончаемых визитов. Приходил Сеттембрини, участливый, обаятельный, и величал Иоахима «capitano», поскольку уже раньше титуловал его лейтенантом; Нафта тоже посетил его, а потом стали приходить и все старые знакомые, пациенты «Берггофа», дамы – Штер, Леви, Ильтис и Клеефельд, господа Ферге, Везаль и другие, чтобы, улучив свободную от своих обязанностей минутку, посидеть у его постели, еще раз повторить слова о небольшом дополнительном курсе и порасспросить о его жизни на равнине. Многие даже приносили цветы. По прошествии четырех недель он встал, так как температура у него настолько упала, что он мог ходить куда вздумается, и в столовой занял место между двоюродным братом и супругой пивовара, фрау Магнус, напротив господина Магнуса, – угловое место, на котором некогда сидел дядя Джемс, а потом в течение нескольких дней госпожа Цимсен.
Итак, молодые люди снова зажили бок о бок, как раньше; для полноты картины Иоахиму досталась его прежняя комната (миссис Макдональд скончалась с фотографией своего сынишки в руках), разумеется, после основательной обработки H2CO Собственно говоря, да они оба так это и ощущали, теперь Иоахим жил при Гансе Касторпе, а не наоборот: этот был старожилом, а тот лишь на время, как гость, делил с ним его образ жизни. Ибо Иоахим старался твердо и неуклонно помнить, что в октябре кончается его «небольшой дополнительный курс», хотя некоторые точки его центральной нервной системы не желали придерживаться гуманистических норм поведения и препятствовали компенсирующей отдаче тепла его кожей.
Они опять стали наведываться к Сеттембрини и Нафте, а также совершать прогулки с обоими этими братьями по вражде. Случалось, и нередко, что к ним присоединялись А.К.Ферге и Фердинанд Везаль, тогда их бывало шестеро, и духовные дуэлянты перед многочисленной публикой вели нескончаемые поединки, исчерпывающе излагать которые мы не можем без риска безнадежно растечься, как это ежедневно бывало с ними, хотя Ганс Касторп и полагал, что его бедная душа являлась главным объектом их диалектического единоборства. От Нафты он узнал, что Сеттембрини масон, и это произвело на него не меньшее впечатление, чем в свое время рассказ итальянца о принадлежности Нафты к иезуитам и попечении ордена о его благоденствии. Воображение Ганса Касторпа было потрясено открытием, что подобное еще существует, и он засыпал террориста вопросами относительно возникновения и сущности этой любопытнейшей организации, которой через несколько лет предстояло справить свой двухсотлетний юбилей.[106] Если Сеттембрини за спиною Нафты говорил о его духовной сущности в тоне патетических предостережений, как о чем-то диаболическом, то Нафта за его спиной откровенно потешался над сферой интересов, которые представлял Сеттембрини, давая понять, что это нечто весьма старомодное и отсталое: буржуазное просвещенство, позавчерашнее свободомыслие, выродившееся в жалкое фиглярство, но в дурацком самообольщении воображающее себя исполненным революционного духа. Он говорил: «Что вы хотите, его дед был карбонарий, иными словами – угольщик». От него он унаследовал веру угольщика в разум, в свободу, прогресс, всю эту изъеденную молью классически-буржуазную идеологию добродетели… Человека, видите ли, всегда повергает в смущение несоответствие между стремительным полетом духа и чудовищной неповоротливостью, медлительностью, косной инертностью материи. Не приходится удивляться, что это несоответствие убивает всякий интерес духа к действительности; как правило, ферменты, вызывающие революции действительности, духу уже успели осточертеть. И мертвый дух, право же, сильнее контрастирует с живым, чем, скажем, базальт, по крайней мере не претендующий на то, чтобы быть духом и жизнью. Эти базальты, остатки былой действительности, которые дух опередил в такой мере, что уже отказывается связывать с ними какое бы то ни было понятие действительности, продолжают косно сохраняться и в силу своей неуклюжей мертвой сохранности не позволяют пошлости осознать свою пошлость. Я говорю обобщенно, но вы сумеете практически применить мои слова к гуманитарному свободомыслию, воображающему, что оно все еще находится в героической оппозиции к власти и государству. А тут еще катастрофы, посредством которых оно надеется доказать свою жизнеспособность, запоздалые и помпезные триумфы, им подготовляемые – в надежде, что в один прекрасный день оно торжественно их отпразднует! От одной мысли об этом смертная тоска могла бы охватить живой дух, не знай он, что из таких катастроф только он один выйдет обогащенным победителем и что только в нем элементы старого соединятся с элементами грядущего, образуя истинную революционность… Как дела вашего кузена, Ганс Касторп? Вы же знаете, я очень ему симпатизирую.
– Благодарю вас, господин Нафта. Ему все симпатизируют, потому что он по-настоящему славный малый. Господин Сеттембрини тоже очень хорошо к нему относится, хотя своего рода романтический терроризм, заложенный в профессии Иоахима, несомненно претит ему. Итак, значит, он член масонской ложи? Скажите на милость! Теперь вся его личность предстает мне в каком-то новом свете, многое проясняющем. Неужто и он ставит ступни под прямым углом и вкладывает особый смысл в свое рукопожатие?[107] Я ничего подобного за ним не замечал…
– Такое ребячество наш добрый каменщик, конечно, перерос. Я думаю, что обрядовая сторона масонства ныне самым жалким образом приспособлена к трезво-буржуазному духу времени. Прежний ритуал они сами бы сейчас восприняли как непросвещенный фокус-покус и устыдились бы его – не без основания, так как рядить атеистическое республиканство в мистерию – по меньшей мере безвкусица. Я не знаю, с помощью каких ужасов испытывали стойкость господина Сеттембрини, – может быть, его водили с завязанными глазами по бесконечным переходам и заставляли дожидаться в «Черной храмине»[108], прежде чем перед ним распахнется сияющий огнями зал ложи, может быть, поставив его перед черепом и трехсвечником, ему торжественно задавали ритуальные вопросы, направляя острия мечей в его обнаженную грудь.[109] Спросите сами, хотя, боюсь, он будет не особенно разговорчив, так как, если вся церемония приема и протекала гораздо прозаичнее, обет молчания он тем не менее дал[110].
– Обет? Обет молчания? Значит, все же…
– Разумеется. Молчания и покорности.
– Еще и покорности. Знаете, профессор, сейчас мне думается, что он не имел достаточных оснований ополчаться на романтический терроризм в призвании моего кузена. Молчание и покорство! Никогда бы не подумал, что такой свободомыслящий человек, как Сеттембрини, подчинится этим чисто испанским условностям и обетам. В масонстве, видно, есть что-то военно-иезуитское.
– Вы это правильно почувствовали, – отвечал Нафта. – Ваш волшебный жезл дрогнул и застучал.[111] Идея этого союза коренным образом связана с идеей безусловного. А следовательно, она террористична, то есть антилиберальна. Она снимает бремя с совести отдельного человека и во имя абсолютной цели освящает любое средство, даже кровавое, даже преступление. Существует версия, что и в масонских ложах братский союз некогда символически скреплялся кровью. Союз не есть нечто созерцательное, он всегда по самой своей сути является абсолютно организующим началом. Известно ли вам, что основатель ордена иллюминатов, одно время почти что слившегося с масонством, некогда был членом ордена Иисуса?
– Нет, этого я не знал.
– Адам Вейсгаупт организовал свой гуманитарный тайный союз по точному подобию иезуитского ордена. Сам он был вольным каменщиком, а виднейшие члены ложи – иллюминатами. Я говорю о второй половине восемнадцатого столетия, которую Сеттембрини не преминет назвать вам ущербной эпохой масонства. На самом же деле то была пора наибольшего расцвета всех тайных обществ, пора, когда масонство действительно поднялось на значительную высоту, с которой его позднее низвели люди типа нашего человеколюбца; в ту пору он, несомненно, был бы в числе тех, кто обвинял масонство в иезуитстве и обскурантизме.
– И на то имелись основания?
– Да, если хотите. У тривиального вольнодумства основания имелись. В те времена наши деды пытались вдохнуть в братство каменщиков католико-иерархическую жизнь, и в Клермоне во Франции процветала иезуитская ложа вольных каменщиков. Далее, в ту пору в ложи проникло розенкрейцерство – весьма примечательное братство, которое, надо вам знать, чисто рационалистические политико-общественные цели исправления и облагораживания человечества сочетало с весьма своеобразным отношением к тайным наукам Востока, к индийской и арабской мудрости и магическому познанию природы. Тогда же была проведена реформа и реорганизация масонских лож в смысле «строгого наблюдения»[112] – в явно иррациональном, таинственном, магическо-алхимическом смысле; кстати сказать, ему обязаны своим существованием высокие степени[113] шотландского братства вольных каменщиков – орденско-рыцарские степени, которыми была пополнена старая, создававшаяся по образцу военной, иерархическая лестница: ученик, подмастерье, мастер, а также гроссмейстерские степени, восходящие к жречеству и насыщенные «тайным знанием» розенкрейцеров. Это был своего рода возврат к духовным рыцарским орденам средневековья, прежде всего к ордену храмовников, которые, как вы знаете, произносили перед иерусалимским патриархом обет бедности, целомудрия и послушания. Одна из высших степеней масонской иерархии и поныне носит название «Великий князь Иерусалимский».
– Все это мне ново, совсем ново, господин Нафта. Я начинаю понимать хитрости нашего Сеттембрини… «Великий князь Иерусалимский» – звучит неплохо. Шутки ради надо вам при случае так назвать его. Он, со своей стороны, недавно дал вам прозвище «doctor angelicas»[114]. Это взывает к мести.
– О, существует еще множество торжественных титулов для высших иерархических степеней «строгого наблюдения». Совершенный мастер, например, Рыцарь Востока, Великий Первосвященник, а тридцать первая степень даже именуется «Высокий блюститель царственной тайны». Вы замечаете, что все эти титулы свидетельствуют о связи с восточной мистикой. Самое возрождение храмовников означало не что иное, как подтверждение этой связи, фактически же вторжение иррационального бродильного материала в мир разумно-полезных идей совершенствования человечества. Это сообщило масонству новое обаяние и новый блеск и значительно расширило его ряды. Вольными каменщиками становились все, кому наскучило умствование той эпохи, ее гуманистическое просветительство и пресное здравомыслие, все, кто жаждал отведать более крепких напитков жизни. Успех ордена был огромен, и филистеры сетовали на то, что он отчуждает мужчин от семейного счастья и умаляет достоинство женщин.
– Но в таком случае, господин профессор, понятно, почему господин Сеттембрини так не любит вспоминать об этом расцвете ордена.
– Конечно! Ему неприятно вспоминать о временах, когда масоны приняли на себя всю антипатию, которую вольнодумцы, безбожники и энциклопедисты ранее обрушивали на комплекс: церковь, католицизм, монах, средневековье. Вы, верно, слышали, что каменщиков обвиняли в обскурантизме…
– Но почему? Мне бы хотелось узнать точнее, в чем тут дело.
– Сейчас вам скажу! «Строгое наблюдение» было равнозначно углублению и расширению традиций ордена, обращенью вспять к его историческим истокам, к миру таинств, к так называемому мраку средневековья. Гроссмейстеры лож были посвящены в physica mystica[115], являлись носителями магических познаний о природе, а главное – великими алхимиками…
– Я сейчас напрягаю все силы, чтобы осмыслить, чем, собственно, в общем и целом была алхимия. Алхимия – это ведь попытка изготовить золото, поиски философского камня, aurum potabile[116].
– Да, говоря популярно. Говоря же несколько более научно, алхимия – это очищение, облагораживание материи, ее превращение, транссубстанция, но всегда в нечто высшее, а следовательно – повышение; lapis philosophorum[117], мужеско-женский продукт серы и ртути, res bina[118], двуполая prima materia[119] были не чем иным, не чем меньшим, как принципом повышения, насильственного выращивания посредством внешних воздействий, магической педагогикой, если хотите.
Ганс Касторп молчал, щурясь и как-то искоса смотря вверх.
– Символом алхимической трансмутации, – продолжал Нафта, – прежде всего была гробница.
– Могила?
– Да, место тления. Оно – воплощение всей герметики, сосуд, заботливо сохраненная кристаллическая реторта, в которой материю вынуждают претерпевать свое последнее превращение и очищение.
– Герметика, это хорошо сказано, господин Нафта. Мне всегда нравилось слово «герметический». Волшебное слово, вызывающее неопределенные и далеко идущие ассоциации. Не смейтесь надо мной, но, когда я его слышу, мне всегда вспоминаются банки, которые у нашей гамбургской экономки Шаллейн, – просто Шаллейн, а не фрау или фрейлейн Шаллейн, – рядками стоят на полках в кладовой, герметически закупоренные банки с фруктами, мясом и всем чем угодно. Они стоят годами, а когда откроешь какую-нибудь одну, ее содержимое оказывается свежим и нетронутым, можно сразу употреблять в пищу, потому что годы на нем нисколько не отразились. Это, конечно, не алхимия и не очищение, просто сохранность, консервация, – отсюда и название «консервы». Волшебство здесь заключалось в том, что продукты в банках были изъяты из времени, герметически от него отделены, время шло мимо, их не затрагивая, для них его не существовало. Вне времени стояли они на своей полке. Не очень-то удачно это у меня получилось. Pardon. Вы, кажется, собирались еще кое в чем просветить меня.
– Только если вы этого пожелаете. Ученик должен жаждать познаний и быть бесстрашным, выражаясь в стиле нашей темы. Гроб, могила всегда были символом посвящения в члены ордена.[120] Ученик, стремящийся получить доступ к этим познаниям, ищущий, должен сохранять бесстрашие при любых ужасах, которыми станут ему угрожать. Обычаи ордена требуют, чтобы он в виде испытания сошел в подземелье, и его должна вывести рука неведомого брата. Отсюда все эти запутанные ходы и переходы с угрюмыми сводами, по которым он должен бродить, отсюда и обтянутый черным зал «Строгого наблюдения», культ гроба, играющий столь важную роль в церемониях посвящения и совместных собраниях ложи. Путь мистерий и очищения вел через опасности, через страх смерти, через царство тления; ученик, неофит, – это представитель молодежи, жаждущей познать чудо жизни, стремящийся к пробуждению в себе демонических способностей к новым переживаниям, а ведут его маски, которые только тени тайны.
– Очень вам благодарен, профессор Нафта. Замечательно. Значит, это и есть герметическая педагогика. Невредно и мне кое-что узнать об этом предмете.
– Тем более что ведь речь идет о пути к последнему, к абсолютному признанию сверхчувственного, и тем самым – к основной цели. В последующие десятилетия руководители ложи привели к этой цели не один пытливый и возвышенный ум: незачем повторять, вы, вероятно, и сами обратили внимание на то, что лестница высших шотландских степеней – только суррогат подлинной иерархии, что алхимическая мудрость масона-мастера выражена в таинстве пресуществления, что сокровенные указания, которые неофиты получают в алхимической ложе, они могут почерпнуть и в святых таинствах религии, а то, что им предстает как символические спектакли орденских ритуалов, они найдут в литургической и архитектурной символике нашей святой католической церкви.
– Ах вот как!
– Позвольте, и это еще не все. Я уже позволил себе отметить, что когда объясняют возникновение масонских лож из почтенного цеха каменщиков[121], это делается только ради исторической наглядности. Система «Строгого наблюдения» подвела под это гораздо более глубокий человеческий фундамент. В тайных ритуалах лож, а также некоторых таинствах нашей церкви ясно чувствуется связь с сокровенными празднествами и священными эксцессами древнейшего человечества… Говоря о церкви, я имею в виду тайную вечерю и братскую трапезу, таинство вкушения тела и крови, а в отношении лож…
– Минутку. Одну минутку, мне хочется сделать побочное замечание: в той строгой организации, к которой принадлежит мой кузен, тоже существуют так называемые братские трапезы. Он частенько писал мне о них. Если не считать легкой выпивки, то там все протекает очень прилично, даже менее буйно, чем на корпорантских пирушках…
– …А в отношении лож – культ могилы и гроба, на что я уже обращал ваше внимание. В обоих случаях речь идет о последнем и крайнем, об элементах оргиастической прарелигиозности, о распутных ночных жертвоприношениях в честь умирания и становления, смерти, пресуществления и воскресения. Вы, вероятно, помните, что и мистерии Изиды и Элевсинские мистерии совершались ночью, в мрачных пещерах. Так вот, в масонстве жило и живет очень многое, взятое из культов древнего Египта, а среди тайных обществ иные называли себя элевсинскими союзами. Там происходили празднества лож, празднества элевсинских мистерий и афродисий, в которых наконец участвует женщина, а именно – в празднестве роз; намеком на них являются три голубые розетки на масонском запоне[122]: эти празднества обычно принимали вакхический характер…
– Ну и ну, профессор Нафта, что я слышу? И все это – масонство? И все это я должен соединить в своем представлении с нашим благоразумнейшим Сеттембрини?..
– Это было бы по отношению к нему жестокой несправедливостью. Нет, обо всем этом Сеттембрини, конечно, уже ничего не знает. Я ведь говорил вам, что такие люди, как он, лишили масонство всех элементов более высокой духовной жизни. Конечно же, оно гуманизировалось, модернизировалось! Оно выбралось из всей этой путаницы и вернулось к идеям полезности, разума и прогресса, к борьбе против попов и государей, – словом, к построению общественного благополучия; на собраниях лож опять рассуждают о природе, добродетели, умеренности и отечестве. Допускаю, что даже о коммерции. Короче говоря, это – воплощение буржуазного убожества, это – клубы…
– А жаль. Особенно жаль празднества роз, Я спрошу Сеттембрини, неужели он так ничего о них и не знает?
– Да, доблестный рыцарь наугольника[123]! – насмешливо отозвался Нафта. – Вы должны учесть, что этому рыцарю было вовсе нелегко получить доступ к месту, где возводится храм человечества, ведь он беден как церковная мышь, а там требуется не только высшее образование, простите – гуманистическое образование, нужно, кроме того, принадлежать к состоятельным классам, иначе не осилить вступительные и ежегодные членские взносы. Образование и собственность – вот что такое буржуа. Вот непоколебимые основы либеральной всемирной республики!
– Действительно, он именно такой буржуа и есть, – рассмеялся Ганс Касторп.
– Все же, – продолжал Нафта после небольшой паузы, – я бы посоветовал вам не смотреть так легко на этого человека и его дело, и раз уж мы заговорили о подобных вещах, я просил бы вас даже остерегаться его. Пошлость далека от невинности. И ограниченность может быть вовсе не безобидной. Эти люди влили немало воды в то вино, которое когда-то было огненным, но сама идея всемирного масонского союза достаточно живуча и может выдержать немало воды: он хранит в себе остатки плодотворной тайны, и совершенно ясно, что масонские ложи влияют на мировую политику; не приходится сомневаться и в том, что в нашем любезном господине Сеттембрини следует видеть не только его самого, но и стоящие за ним силы, приверженцем и эмиссаром которых он является…
– Эмиссаром?
– Ну да, вербовщиком прозелитов, ловцом человеческих душ.
«А ты чей эмиссар?» – подумал про себя Ганс Касторп. Вслух же он сказал:
– Благодарю вас, профессор Нафта. Искреннее спасибо за намек и предупреждение. И знаете что? Поднимусь-ка я этажом выше, поскольку там наверху еще может идти речь об этажах, и слегка пощупаю этого члена ложи, надевшего маску. Ученик должен жаждать познаний и быть бесстрашными… Но, разумеется, и осторожным… А с эмиссарами надо тем более соблюдать осторожность.
Он мог смело просить у Сеттембрини дальнейших наставлений, ибо итальянец не имел никаких оснований упрекнуть Нафту в болтливости, да и сам не делал особой тайны из своей принадлежности к этому гармоническому сообществу, «Rivista della Massoneria Italiana»[124] открыто лежал у него на столе – Ганс Касторп просто не обратил внимания на этот журнал. И когда молодой человек, просвещенный беседой с Нафтой, навел разговор на некое царственное искусство таким тоном, как будто в причастности к нему Сеттембрини и сомнения не могло быть, масон оказал лишь очень незначительное сопротивление. Правда, по поводу отдельных вопросов он не шел на откровенность, и как только речь заходила о них, даже вызывающе умолкал, видимо связанный теми террористическими обетами[125], о которых упоминал Нафта; это было секретничанье по мелочам относительно внешних обрядов и собственного положения Сеттембрини в упомянутой своеобразной организации. Что касается остального, то он очень охотно и даже многословно живописал Гансу Касторпу внушительную картину распространения своей лиги, влияние которой через ее – скажем для ровного счета – двадцать тысяч лож и сто пятьдесят великих лож – распространялось даже на такие цивилизации, как Гаити или негритянскую республику Либерия, и охватывало весь мир. Он оказался также весьма осведомленным относительно ряда славных имен, чьи носители были в прошлом или являются ныне масонами, назвал Вольтера, Лафайета и Наполеона, Франклина и Вашингтона, Мадзини и Гарибальди, а из живых – короля Англии[126] и еще множество лиц, державших в руках судьбы европейских государств[127], имена членов правительств и парламентов.
Ганс Касторп выразил свое уважение, но не удивился. То же самое происходит и в студенческих корпорациях, заметил он. Их члены сохраняют связь на всю жизнь, хорошо умеют устраивать своих, так что человеку, который не был корпорантом, едва ли удастся высоко подняться по лестнице служебной иерархии. Поэтому, может быть, не следует господину Сеттембрини подчеркивать участие таких знаменитых лиц в масонских ложах как нечто для них особенно лестное: ведь можно предположить и обратное, что замещение столь важных постов членами союза только доказывает его могущество и что масонство, вероятно, играет гораздо более важную роль в мировой политике, чем хочет признать господин Сеттембрини.
Сеттембрини улыбнулся. Он стал даже обмахиваться номером «Massoneria», который держал в руках. Его, кажется, хотят поймать в западню, осведомился он. Стремятся вызвать на разговор о политическом существе или о сущности политического духа ложи?
– Бесполезная хитрость, инженер! Да, мы исповедуем политику открыто, явно. Мы не признаем за ней той одиозности, которая связана с этим словом, с этим термином в глазах некоторых глупцов, – а они сидят главным образом в вашей стране, инженер, и больше почти нигде. Друг человечества вообще не может признать разницу между тем, что надо отнести к области политики, а что нет. Все политика.
– Решительно все?
– Я отлично знаю, что есть люди, которые считают нужным подчеркивать аполитичную природу первоначальных идей масонства. Но эти люди играют словами и проводят границы, которые давно пора объявить мнимыми и бессмысленными. Во-первых, взять хотя бы испанские ложи, – они с самого начала имели политическую окраску…
– Могу себе представить.
– Вы очень немногое можете себе представить, инженер. Не воображайте, будто вы так уж сразу способны многое себе представить, а постарайтесь воспринять и усвоить, – я вас прошу об этом ради вас самих, ради интересов вашей страны, ради интересов всей Европы, – усвоить то, что я намерен внушить вам во-вторых: что идея масонства никогда не была аполитична, ни в какие эпохи, да и быть не могла, а если и считала себя таковой, то обманывалась относительно своей сущности. Что мы? Строительные и подручные рабочие на постройке здания.[128] Цель у всех одна – высшее благо целого, основной закон братства. Каково же это благо, это здание? Искусно возведенное здание общества, совершенное человечество, новый Иерусалим[129]. При чем же тут, скажите на милость, политика или аполитичность? Но все дело в том, что сама проблема общества, проблема сосуществования людей – это политика, с начала и до конца политика, и только политика. Тот, кто себя посвящает этой проблеме, – а уклоняющийся от нее недостоин называться человеком, – обречен быть политиком как внутренне, так и внешне, он понимает, что искусство вольного каменщика – это искусство управления[130]…
– Управления…
– Что у масонов-иллюминатов была степень «правителя»…
– Очень хорошо, господин Сеттембрини, искусство управления, степень правителя, это мне нравится. Но скажите одно: вы, все вместе взятые в вашей ложе – христиане?
– Perche![131]
– Извините, я задам вопрос иначе, в более общей форме и проще: в бога вы верите?
– Хорошо, я отвечу вам. Но почему вы спрашиваете?
– Я до этого не хотел искушать вас, но вы знаете, существует в библии такой рассказ[132]. Некий господин в римской шапке искушает Христа, показав ему римскую монету, а Христос отвечает, что надо отдавать кесарево – кесарю, а божье – богу. И вот мне кажется, что этот пример и показывает, в чем разница между политикой и неполитикой. Если бог есть, то существует и это различие. Верят масоны в бога?[133]
– Я обещал ответить вам. Вы разумеете некое единство, над созданием которого сейчас люди трудятся, но его еще не существует. Мирового союза масонов не существует. Если он будет создан – а я повторяю, что масоны втайне усердно трудятся над этой великой задачей, – тогда и исповедание веры этого союза станет единым, и оно прозвучит так: «Ecrasez l'infame».[134]
– Принудительно? Это было бы нетерпимостью.
– Ну, до проблемы терпимости вы едва ли доросли, инженер. Но запомните, что терпимость – преступление, когда речь идет о зле.
– Разве бог – зло?
– Метафизика – вот что зло. Ибо она только убаюкивает рвение, которое мы должны вкладывать в создание этого нового общества, этого храма. И тут «Великий Восток Франции» еще четверть века назад подал пример, вычеркнув из всех своих документов имя божие.[135] Мы, итальянцы, последовали их примеру…
– Совсем в духе католицизма!
– Вы имеете в виду…
– Я нахожу, что это удивительно в духе католицизма – вычеркивать бога!
– Вы хотите сказать…
– Ничего заслуживающего внимания, господин Сеттембрини. Не придавайте значения моей болтовне. Только мне в эту минуту показалось, что атеизм – явление в высокой степени католическое и бога вычеркивают только для того, чтобы стать еще более правоверными католиками.
Наступила короткая пауза, но было ясно, что Сеттембрини допустил ее лишь из педагогической предусмотрительности. После выразительного молчания он ответил:
– Поверьте, инженер, я очень далек от желания задеть вас или поколебать ваши протестантские воззрения. Мы говорили о терпимости… Незачем подчеркивать, что я отношусь к протестантству более чем терпимо и глубоко восхищаюсь им как историческим оппонентом поработителей совести. Изобретение книгопечатания и реформация были и останутся двумя величайшими заслугами, которые Европа оказала человечеству. Это бесспорно. Но после того, что вами сейчас было высказано, вы, не сомневаюсь, поймете меня правильно, если я отмечу, что это лишь одна сторона дела, а есть и другая. В протестантстве таятся элементы… В самой личности вашего реформатора таились элементы… Я имею в виду состояние блаженного покоя и гипнотическое «погружение в себя», они не европейского происхождения, они чужды и враждебны жизненному строю этой столь деятельной части света. Вглядитесь-ка в нею, в вашего Лютера! Посмотрите на его портреты – в молодости и в более зрелом возрасте! Какое у него строение черепа, какие скулы, какой странный разрез глаз! Друг мой, это же Азия! Меня бы удивило, меня бы весьма удивило, если бы тут не оказалось какой-то вендо-славяно-сарматской примеси; и если, при отсутствии стойкого равновесия в вашей стране, эта столь грандиозная фигура – кто же станет отрицать ее грандиозность – легла чрезмерным и опасным грузом на одну чашу весов, то восточная перетянула с такой силой, что западную до сих пор тянет в небо.
От гуманистической конторки у окошечка Сеттембрини перешел к круглому столу с графином, поближе к своему ученику, сидевшему у стены на кушетке без спинки, опершись локтем о колено и обхватив ладонью подбородок.
– Caro! – сказал Сеттембрини. – Caro amico![136] Предстоят великие решения – решения, имеющие исключительную важность для счастия и будущего Европы, и это выпадет на долю вашей страны, в душе ее народа должно свершиться великое решение. Она поставлена между Востоком и Западом, и ей придется сделать выбор, примкнуть к той или другой сфере, так как обе притязают на ее сущность. Вы молоды, вы будете участвовать в этом решении, вы призваны оказать на него влияние. Поэтому благословим же судьбу, забросившую нас в эти ужасные места, ведь я тем самым получил возможность влиять своим не таким уж неумелым и не таким уж вялым словом на вашу восприимчивую молодую душу и дать ей почувствовать всю ту ответственность, которую ваша страна несет перед лицом культуры…
Ганс Касторп продолжал сидеть, сжимая пальцами подбородок. Он смотрел в окошечко мансарды, и в его простодушных голубых глазах можно было прочесть какое-то сопротивление речам своего наставника. Он не говорил ни слова.
– Вы молчите, – взволнованно продолжал Сеттембрини. – Вы и ваша страна предпочитаете хранить загадочное молчание, непроницаемость которого не позволяет проникнуть в его глубины. Вы не любите слова, может быть вы не владеете им или относитесь к нему неприязненно; мир, пользующийся членораздельной речью, не знает и не может узнать, чего ему ждать от вас. Друг мой, это опасно… Речь – воплощение культуры… Слово, если даже оно противоречиво, связывает… А бессловесность обрекает на одиночество. Нужно надеяться, что вы разрушите ваше одиночество с помощью действий. Вы предоставите вашему кузену Джакомо (так Сеттембрини для удобства называл Иоахима), вы предоставите вашему кузену Джакомо из-за вашего молчания опередить вас действием, и он «двоих мощным ударом сразит, а другие бегут»…
Ганс Касторп рассмеялся, улыбнулся и Сеттембрини, довольный впечатлением от своих пластических слов.
– Хорошо, давайте смеяться! – сказал он. – К веселью я всегда готов. «Смех – это сверканье души», сказал древний автор. Да, мы уклонились в сторону и перешли на трудности, с которыми, должен сознаться, сталкивается и наша подготовительная работа по созданию масонского всемирного союза, и эти трудности нам как раз и чинит протестантская Европа. – Сеттембрини продолжал с увлечением говорить об идее этого всемирного союза, зародившегося в Венгрии и чье осуществление, на которое возлагают столько надежд, сделает масонство решающей силой во всем мире. Он как бы мимоходом показал письма, полученные им от ведущих членов союза за границей, собственноручное послание швейцарского великого мастера, брата тридцать третьей степени Картье ла Танта и рассказал о плане объявить искусственный язык эсперанто языком всемирного союза. В пылу увлечения он затронул и сферу высшей политики, одобрял одно, порицал другое и дал оценку тем шансам, какие имеют революционно-республиканские идеи на его родине, в Испании, в Португалии. Он утверждал, что переписывается с лицами, стоящими во главе Великой ложи вышеупомянутой монархии. Там дело, несомненно, идет к развязке. Пусть Ганс Касторп вспомнит его слова, когда в самое ближайшее время события на равнине начнут стремительно развиваться. И Ганс Касторп обещал вспомнить.
Следует отметить, что эти разговоры о масонстве между воспитанником и обоими его менторами происходили еще до возвращения Иоахима к живущим здесь наверху. Дискуссия же, которую мы сейчас опишем, имела место уже тогда, когда он опять оказался тут и в его присутствии, через девять недель после его возвращения, в начале октября; Гансу Касторпу потому особенно запомнилась эта встреча под осенним солнышком перед курзалом, за прохладительными напитками, что Иоахим вызвал в нем тайную тревогу, хотя обычно такие признаки и явления, как боль в горле и хрипота, тревоги не вызывают и сами по себе довольно безобидны; но молодому Гансу Касторпу они предстали в каком-то странном свете, – в том свете, который, так сказать, шел из глубины Иоахимовых глаз; эти глаза, и без того большие и кроткие, казались именно в тот день как будто еще больше и глубже, в них было задумчивое и, да разрешит мне читатель это слово, угрожающее выражение, а также идущий изнутри уже упомянутый тихий свет, причем мы неверно определили бы чувство Ганса Касторпа, если бы сказали, что этот свет не понравился ему, – наоборот, он даже очень ему нравился, но вместе с тем и тревожил. Словом, эти впечатления можно изобразить лишь крайне сбивчиво, ибо такова сама их природа.
Что касается спора, вернее диспута, происходившего между Нафтой и Сеттембрини, то это было дело особое и не стояло в прямой связи с вышеописанными разъяснениями относительно сущности масонских лож. Кроме двоюродных братьев, при споре присутствовали также Ферге и Везаль; все принимали в нем живое участие, хотя не всем, быть может, эта тема оказалась и по плечу – господину Ферге, например, определенно нет. Но спор, который ведется так, как будто это вопрос жизни, и вместе с тем с таким остроумием и блеском, как будто это отнюдь не вопрос жизни, а всего лишь элегантное состязание умов, – таковы были, впрочем, все диспуты между Сеттембрини и Нафтой, – подобный спор, конечно, интересен сам по себе и для того, кто мало что в нем понимает и лишь смутно догадывается о его значении. Даже сидевшие вокруг посторонние люди удивленно прислушивались, захваченные страстностью и изяществом этого словесного поединка.
Происходил он, как мы уже упоминали, перед курзалом, после чая. Четверо берггофских пациентов встретили там Сеттембрини, а вскоре подошел и Нафта. Они сидели вокруг металлического столика и пили всякие, разбавленные содовой напитки, анисовую водку и вермут. Нафта, который обычно здесь ужинал, приказал себе подать вина и пирожных, что, вероятно, напоминало ему школьные годы; Иоахим то и дело освежал болевшее горло глотками натурального лимонада, очень крепкого и кислого, такой вяжущий лимонад облегчает боль; а Сеттембрини тянул через соломинку просто сахарную воду, но делал это так грациозно и аппетитно, точно наслаждался изысканнейшим освежающим напитком. Он сказал шутливо:
– Что я слышу, инженер? Знаете, какие до меня доходят вести? Ваша Беатриче возвращается? Ваша водительница по всем девяти кругам рая? Что ж, хочу надеяться, вы и тогда не отвергнете окончательно направляющую дружескую руку вашего Вергилия? Наш сидящий здесь экклезиаст подтвердит вам, что картина medio evo[137] окажется неполной, если францисканской мистике не будет противостоять как полюс идея познания, созданная томизмом.
Все рассмеялись по поводу столь великой учености и посмотрели на Ганса Касторпа, который, тоже смеясь, поднял в честь «своего Вергилия» стакан с вермутом. Даже трудно было поверить, что из этого хоть и кудреватого, но совершенно безобидного замечания Сеттембрини в ближайшие часы возникнет отчаянная перепалка, полная неистощимой умственной изобретательности. Ибо Нафта, правда, до известной степени вызванный на это, сейчас же перешел в наступление и напал на латинского поэта, которого Сеттембрини, как известно, боготворил и ставил даже выше Гомера, тогда как Нафта уже не раз высказывался о нем – да и вообще о латинской поэзии – в высшей степени пренебрежительно, и теперь немедленно и со злостью воспользовался случаем поиздеваться над ним. То, что великий Данте относился к сему посредственному версификатору с такой торжественной серьезностью и отвел ему в своей поэме столь почетную роль[138], хотя господин Лодовико и придает этой роли слишком вольное масонское толкование, объясняется, конечно, добродушием поэта и узостью кругозора тогдашней эпохи. А чем еще был он замечателен, этот придворный лауреат и блюдолиз рода Юлиев[139], этот литератор всемирного города и напыщенный краснобай, безо всякой творческой искры, чья душа, если только она у него была, получена им из вторых рук? Он же вообще не поэт, это же француз эпохи Августа[140], француз в длинноволосом парике!
Разумеется, заявил Сеттембрини, предыдущий оратор уж найдет пути и способы сочетать презрение к расцвету римской цивилизации со своей профессией преподавателя латыни! Все же следует указать ему на то, что, изрекая подобные суждения, он впадает в глубокое противоречие с дорогими его сердцу средними веками, ибо они не только не презирали Вергилия, не только признавали его величие, но сделали из него, в простоте душевной, сильного своей мудростью чародея.
Совершенно напрасно, возразил Нафта, господин Сеттембрини ссылается на простодушие былых эпох, – оно было тогда победителем, и его творческая сила сказалась даже в демонизации того, что оно преодолело[141]. Впрочем, учителя молодой церкви неутомимо твердили людям, чтобы они остерегались ложных взглядов философов и поэтов древности, особенно же не загрязняли душу пустым красноречием Вергилия, а теперь, когда опять сходит в могилу отжившая эпоха и занимается пролетарское утро новой, настало самое подходящее время вспомнить об этих предостережениях. Но чтобы господин Лодовико мог сразу ответить на все, пусть не сомневается, что сам он, Нафта, хоть и со всякими reservatio mentalis[142], но тоже выполняет некоторые обязанности гражданина, на которые так любезно намекнул собеседник, и, правда, не без иронии, но приспосабливается к риторико-классическому методу образования, хотя, по расчетам какого-нибудь сангвиника, и жить-то этому методу осталось всего несколько десятилетий.
– А вы, – завопил Сеттембрини, – разве вы не потели над этими древними поэтами и философами, стараясь присвоить себе их драгоценное наследие, так же как вы воспользовались образцами античных зданий для постройки ваших молитвенных домов? Ведь вы отлично знали, что своими силами, силами своей пролетарской души, никаких новых форм искусства создать не можете, и надеялись побить древность ее же собственным оружием. И так будет опять, так будет всегда! Вашему неотесанному «утру эпохи» придется пойти учиться к тем, к кому вы хотели вызвать презрение и в себе и в других, так как без образования вы же не выстоите перед лицом человечества, а существует лишь одно образование: то, которое вы именуете буржуазным, хотя оно по существу общечеловеческое! Вы считаете, что конец гуманистического воспитания – вопрос всего нескольких десятилетий? – Только вежливость мешает ему, Сеттембрини, расхохотаться столь же беспечно, сколь и насмешливо. Европа умеет хранить свое извечное достояние и, просто перешагнув через всякие пролетарские апокалипсисы, которые измышляются то здесь, то там, совершенно спокойно перейдет к стоящему в порядке дня классическому разуму.
А вот насчет порядка дня господин Сеттембрини, видимо, не вполне осведомлен: дело в том, что в этом порядке дня как раз и стоит вопрос, который он почему-то считает решенным, а именно: следует ли считать средиземноморско-классически-гуманистическое наследие достоянием общечеловеческим и потому имеющим для человечества вечную ценность, или оно, самое большее, духовная форма, принадлежащая одной определенной эпохе, а именно эпохе буржуазного либерализма, и умрет вместе с нею. Решить этот вопрос предстоит истории, а господину Сеттембрини рекомендуется не очень-то убаюкивать себя надеждами, что решение будет в пользу его латинского консерватизма.
Уж это было возмутительной наглостью со стороны недомерка Нафты назвать Сеттембрини, известного слугу прогресса, консерватором! Все это так и восприняли и, конечно, с особой горечью сам обиженный: он взволнованно принялся теребить свои красиво подкрученные усы и, придумывая, как бы наиболее метко нанести ответный удар, дал возможность врагу продолжать свои выпады против идеала классического образования, против риторически-литературного духа европейской школьной и образовательной системы и его формально-грамматического сплина, который является частью классовых интересов господствующей буржуазии, а для народа давно стал посмешищем. Да, никто даже не подозревает, как издевается народ над нашими учеными званиями, над всем нашим образованием для привилегированных сословий и над нашей государственной школой, этим орудием буржуазной классовой диктатуры, причем буржуазия воображает, будто бы народное образование – это есть разведенная водой псевдонаучность. То образование и воспитание, которое нужно народу для борьбы с прогнившим буржуазным государством, он уже давно умеет находить в другом месте, а не в административных принудительных учебных заведениях; и уже всем известно, что вообще тип нашей школы, такой, каким он вырос из монастырской школы средневековья, – это нелепый пережиток и анахронизм, что уже никто не обязан истинной образованностью современной школе и что свободное, общедоступное обучение, осуществляемое с помощью публичных лекций, выставок, фильмов, несравненно выше всякого образования, получаемого в школе.
В этой смеси революции и мракобесия, которую Нафта преподносит слушателям, – наконец нашелся ответить Сеттембрини, – больше всего пошлейшего обскурантизма. Конечно, забота Нафты о просвещении народа весьма почтенна, но возникают опасения, что в этой заботе таится инстинктивное желание погрузить и народ и весь мир в темноту неграмотности.
Нафта усмехнулся. Неграмотность! Подумаешь – грозное слово! Показали голову Горгоны и воображают, что все сочтут своей обязанностью побледнеть. Он, Нафта, весьма сожалеет, однако должен разочаровать своего оппонента – от этого страха гуманистов перед понятием неграмотности ему просто становится весело. Нужно быть литератором эпохи Возрождения, жеманником, писателем семнадцатого века, маринистом[143], шутом estilo culto[144], чтобы придавать таким учебным предметам, как чтение и письмо, столь преувеличенное и исключительное образовательное значение и считать, что там, где ими не овладели, царит духовная ночь. Может быть, господин Сеттембрини вспомнит, что величайший поэт средневековья, Вольфрам фон Эшенбах[145], был неграмотен? В те времена в Германии считалось зазорным посылать в школу мальчика, если он не собирался стать священником, дворянски-народное презрение к искусству литературы говорило и говорит о принадлежности к аристократии, а литератор, этот истинный сын гуманизма и буржуазии, хоть и умеет читать и писать, чего дворянин, воин и народ не умеют или умеют только кое-как, – но уж, кроме этого, он решительно ничего на свете не умеет: это и в наши дни просто латинизированный болтун, он ведает словами, а жизнь предоставляет порядочным людям, почему и политику превращает в сплошную болтовню, а именно – в сплошную риторику и изящную словесность, которые на языке упомянутой партии называются радикализмом и демократией, – и так далее и тому подобное.
А Сеттембрини в ответ: слишком смело его оппонент открывает свое пристрастие к пылкому варварству некоторых эпох, издеваясь над любовью к литературной форме, хотя без такой любви никакая человечность немыслима и невозможна, – никогда и ни при каких условиях! – Аристократизм? – воскликнул он. – Только враг человечества способен назвать этим именем бессловесность, грубую и немую предметность. Аристократична, наоборот, только благородная роскошь, generosita, она выражается в признании за формой, независимо от содержания, определенной самостоятельной ценности; культ речи как искусства и ради самого искусства – это наследие греко-римской культуры, которое гуманисты, uomini letterati, вернули романским странам, – вернули хоть им, – и является источником всякого дальнейшего осмысленного идеализма, в том числе и политического. Вот именно, милостивый государь! То, что вы хотели оклеветать, как расхождение слова и жизни, оказывается на самом деле лишь более высокой формой единства в венце прекрасного, и я не боюсь за возвышенную духом молодежь, когда она будет делать выбор между литературой и варварством.
Ганс Касторп, который только краем уха слушал этот спор, ибо его занимал присутствующий здесь воин и представитель аристократии, или, вернее, какое-то новое выражение, появившееся в его глазах, слегка вздрогнул, ибо почувствовал, что последние слова Сеттембрини обращены к нему с призывом и требованием, а потом состроил такую же мину, как тогда, когда Сеттембрини торжественно принуждал его сделать выбор между «Востоком и Западом», – мину, выражавшую решительную независимость и строптивость, и промолчал. Они все неверно заостряют, эти двое, впрочем, должно быть так и нужно, когда люди жаждут спора и яростно препираются, противопоставляя одну крайнюю точку зрения другой; а ему кажется, что где-то посередине между непримиримыми полярностями, между болтливым гуманизмом и неграмотным варварством, и находится то, что можно было бы примирительно назвать человеческим или гуманным. Но он не высказал этого вслух, чтобы не рассердить обоих противников, и, замкнувшись в своей независимой сдержанности, наблюдал за тем, как они продолжают спор и, враждуя, невольно помогают друг другу без конца перескакивать с пятого на десятое, – и все это после того, как Сеттембрини дал толчок своей безобидной шуткой по поводу латинянина Вергилия.
Он еще не сказал последнего слова, он размахивал им, он готовил ему победу. Гуманист объявил себя воином и защитником гения литературы, прославлял историю письменности с той поры, когда человек, чтобы придать своим мыслям и чувствам долговечность памятника, впервые врезал в камень иероглифы. Он говорил о боге Тоте, который был для египтян тем же, что Гермес Трисмегист для эллинов, и почитался как изобретатель письменности, покровитель библиотек и вдохновитель всех духовных исканий. Он как бы преклонял колени перед этим Трисмегистом, гуманистическим Гермесом, мастером палестры[146], которому человечество обязано высочайшим даром литературного слова и агональной риторики, и вызвал Ганса Касторпа на замечание: значит, этот прирожденный египтянин был, очевидно, и политическим деятелем и в более широких масштабах играл ту же роль, что и Брунетто Латини, который придал флорентинцам надлежащий лоск и научил их изысканной речи, а также искусству управлять республикой по законам политики, на что Нафта возразил, что господин Сеттембрини немножко приврал и сделал образ Тота-Трисмегиста уж очень прилизанным.
А ведь на самом деле это скорее обезьянье, лунное божество, повелитель душ, павиан с полумесяцем на голове; как Гермес, он прежде всего бог смерти и бог мертвых, владыка и вожатый человеческой души, который для более поздней античности стал архичародеем, а для кабалистического средневековья – отцом герметической алхимии.
Что? Что? В мыслях Ганса и в мастерской его мозга, где создавались понятия и представления, все смешалось. Оказывается, перед ним смерть в синем плаще, исполняющая роль гуманистического ритора; а если приглядеться повнимательнее, то, вместо литературно-педагогического бога и друга человечества, на него смотрит этакая обезьянья морда, и у нее на лбу – символ ночи и колдовства… Ганс Касторп решительно отмахнулся от этих образов, словно отстранив их, и прикрыл глаза рукой. Но и во мраке, в который он отступил, спасаясь от всей этой путаницы, продолжал звучать голос Сеттембрини, прославлявшего литературу. Не только созерцательное, но и активное величие было всегда с ней связано; и он назвал имена Александра, Цезаря, назвал короля Фридриха прусского и других героев, даже Лассаля и Мольтке. Его ничуть не тронуло, что Нафта отослал его к китайщине, где царило самое нелепое на свете преклонение перед азбукой и где давали звание фельдмаршалов тому, кто был в состоянии вывести тушью все сорок тысяч алфавитных знаков, что, конечно, должно в высшей степени радовать сердце такого гуманиста, как Сеттембрини. Он-то, Нафта отлично понимает, – отпарировал Сеттембрини, – что дело тут не в туши, а в литературе, как импульсе к развитию человечества, речь идет о духе литературы, – да, жалкий зубоскал, – ибо это и есть сам дух, чудо сочетания анализа и формы. Именно он пробудил понимание всего человеческого, он помог бороться с властью глупых взглядов и предрассудков и уничтожить их – содействовал культуре и совершенствованию человеческого рода. Развивая в людях высшую моральную утонченность и чуткость, он воспитывал в них, не делая из них фанатиков, дар сомнения, чувство справедливости, терпимость… Очистительное, освещающее воздействие литературы, преодоление страстей через познание и слово, литература как путь к пониманию, к прощению и любви, освобождающая мощь речи, дух литературы как благороднейшее проявление человеческого духа вообще, литератор как совершенный человек, как святой – вот что восторженно превозносил в своем апологетическом гимне Сеттембрини. Но ах, и противник не лез за словом в карман: он тут же разрушил впечатление от ангельского «аллилуйя» несколькими весьма неприятными и блистательными контрходами, решительно став на сторону тех, кто защищает сохранность человека и жизни против начала разрушения, скрывающегося за этим серафическим и лицемерным славословием. Чудотворное единство, которое с дрожью в голосе воспевает господин Сеттембрини, сводится к обману и шарлатанству, ибо, если дух литературы и похваляется тем, что сочетает форму с принципом исследования и расчленения, то это форма мнимая и ложная, а не подлинная, зрелая, естественная и жизненная форма. Наш так называемый исправитель человечества, правда, твердит об очищении и освящении, но на самом деле стремится к оскоплению и обескровливанию жизни: дух, изуверствующая теория оскверняют жизнь, и тот, кто хочет уничтожить страсти, у того одна цель, и цель эта – «Ничто», чистое ничто, ибо «чистое» – единственный атрибут, который приложим к «Ничто». Вот тут-то господин Сеттембрини, литератор, и показал свое истинное лицо, лицо служителя прогресса, либерализма и буржуазной революции. Ведь прогресс – это нигилизм в чистом виде, а для либерального буржуа основное – культ этого «Ничто» и дьявола, да, он отрицает бога, отрицает консервативный и позитивный Абсолют, ибо дает клятву верности дьявольскому антиабсолюту и со своим мертвым пацифизмом еще воображает себя невесть каким праведным. Но тут и речи не может быть ни о какой праведности, – он величайший преступник перед жизнью и заслуживает того, чтобы его привлекли к ответу перед ее инквизицией, строго судили на ее тайном судилище, et cetera[147].
Так Нафта сумел, искусно нанося удары, превратить хвалебный гимн в дьяволиаду и изобразить из себя воплощенного хранителя строгой любви, почему снова стало совершенно невозможным понять, где бог и где дьявол, где жизнь и где смерть. Читатель поверит нам на слово, что противник Нафты обладал достаточной отвагой для достойного ответа, блестяще опроверг его и получил в свою очередь не менее решительный отпор; перепалка продолжалась еще некоторое время, причем обе стороны начали повторяться, высказывая уже приведенные точки зрения. Ганс Касторп перестал слушать, так как Иоахим, между прочим, заявил, что, кажется, простудился и теперь не знает, как быть, ведь простуда здесь не в «чести». Дуэлянты не обратили на это внимания, а Ганс Касторп, как мы уже отмечали, внимательно следивший за двоюродным братом, внезапно вышел вместе с ним, не дослушав какой-то реплики и не интересуясь тем, послужит ли присутствие оставшейся публики – в данном случае это были всего-навсего Ферге и Везаль – достаточным педагогическим стимулом для продолжения словесного поединка.
По пути Ганс Касторп условился с Иоахимом, что в отношении его простуды и боли в горле следует действовать обычным путем, то есть поручить массажисту поставить в известность старшую, после чего больным, вероятно, займутся. Это было самое правильное. И в тот же вечер, сейчас же после ужина, Адриатика постучалась к Иоахиму, как раз когда у него был Ганс Касторп, и пискливо осведомилась о том, на что жалуется и чего желает молодой офицер. «Болит горло? Хрипите? – повторила она его слова. – Послушайте, уважаемый, это еще что за шуточки?» И она попыталась проницательно посмотреть ему в глаза, однако не по вине Иоахима их взоры так и не встретились: ее взгляд то и дело ускользал. И зачем только она делала все новые попытки, если знала заранее, что осуществить их ей не дано! Вытащив из висевшей у пояса сумки нечто вроде металлического рожка для обуви, она осмотрела пациенту зев, предложив Гансу Касторпу посветить ей настольной лампой. Приподнявшись на цыпочки и разглядывая язычок Иоахима, она спросила:
– А скажите-ка, уважаемый, вы не поперхнулись? С вами это бывало?
Что тут можно было ответить? Пока она обследовала ему горло, невозможно было слова вымолвить; но и когда она отпустила больного, он решительно не знал, что сказать. Ну, конечно, ему не раз случалось поперхнуться, когда он ел и пил; таков уж удел человека, и не это же она имела в виду. Он сказал: как вас понять? Я и не помню, когда это было в последний раз.
Ну, ладно; просто ей это пришло в голову. Итак, он простудился, сказала она, к удивлению кузенов, – ведь слово «простуда» было изгнано из этого дома. Чтобы более тщательно исследовать горло, нужен ларингоскоп гофрата, констатировала старшая. Уходя, она оставила ему на ночь формаминт, а также клеенку и бинт для компресса. Иоахим воспользовался тем и другим, а потом заявил, что благодаря этим средствам определенно почувствовал облегчение, и продолжал применять их, поскольку хрипота никак не проходила, а наоборот, в ближайшие дни даже усилилась, хотя боль в горле временами совсем затихала.
Впрочем, оказалось, что эта простуда – чистая фантазия. Объективные данные показали то самое, что вместе с результатами осмотров гофрата и вынудило врачей задержать здесь честного Иоахима, чтобы он еще подлечился, прежде чем поспешит обратно в армию, под ее знамена. Назначенный ему октябрьский срок прошел незаметно и беззвучно. Ни гофрат, ни кузены не обмолвились ни словом: опустив глаза, обошли они молчанием этот срок. После результатов обычного ежемесячного осмотра Беренса, продиктованных его помощнику-психологу, и данных фотопластинки, стало совершенно ясно, что речь может идти лишь о совершенно самовольном отъезде, тогда как сейчас особенно важно нести свою службу здесь наверху с неукоснительной железной выдержкой, пока Иоахим не приобретет необходимую выносливость для военной службы на равнине и выполнения присяги.
Таков был вполне убедительный лозунг, на котором обе стороны, не говоря ни слова, как будто сошлись. Однако в действительности каждый не очень-то был убежден, что другой так уж верит в этот лозунг, и если при встречах они опускали глаза, то именно из-за этих сомнений, и опускали их лишь после того, как их взгляды встретятся. А это случалось частенько с того самого коллоквиума по литературе, когда Ганс Касторп впервые заметил в глазах Иоахима какой-то затаенный новый свет, какое-то странное «угрожающее» выражение. И вот что случилось однажды за столом: охрипший Иоахим поперхнулся, и настолько сильно, что едва отдышался. Пока Иоахим переводил дух, прикрыв рот салфеткой, а фрау Магнус, его соседка, по старинке колотила его по спине, – глаза кузенов встретились, и в этой встрече взглядов было что-то потрясшее Ганса Касторпа больше, чем сам инцидент, который мог, конечно, случиться с каждым; потом Иоахим опустил глаза и, прижимая к губам салфетку, вышел из столовой, чтобы откашляться за дверью.
Уже улыбаясь, хотя все еще бледный, вернулся он минут через десять, извинился за невольное беспокойство и продолжал, как и до того, участвовать в сверхобильной трапезе. Об этом случае вскоре позабыли, и никто даже не вспомнил о нем. Но когда через несколько дней то же самое произошло за сытным вторым завтраком, – впрочем, встречи взглядов не было, по крайней мере между кузенами, так как Ганс Касторп, склонившись над тарелкой, продолжал есть, как бы ничего не замечая, – после завтрака все же об этом случае заговорили, и Иоахим стал ругать эту дуру Милендонк, это она в прошлый раз своим дурацким вопросом, заданным ни к селу ни к городу, сбила его с толку, что-то внушила ему, сглазила, черт бы ее взял. Да, тут, видимо, было внушение, согласился Ганс Касторп, очень любопытно это констатировать, хотя и вышла неприятность. А Иоахим, после того как странное явление было точно определено, стал в дальнейшем вполне успешно бороться против колдовства и давился не чаще, чем люди, не подвергавшиеся сглазу: он поперхнулся опять только через девять-десять дней, и тут говорить уже было не о чем.
Все же его вне очереди и в неурочное время пригласили к Радаманту. Старшая записала Иоахима на прием, и, пожалуй, это было неглупо; раз в санатории имелся ларингоскоп, то казалось, что упорная хрипота, сменявшаяся на долгие часы даже полной потерей голоса, а также боль в горле, возобновлявшаяся, едва Иоахим забывал смягчать гортань слюногонными средствами, – казалось, эта хрипота – достаточный повод, чтобы извлечь из шкафа хитроумный прибор, уже не говоря о том, что если теперь у Иоахима кусок попадал в дыхательное горло не чаще, чем у других, то достигал он этого только крайней осторожностью при еде и обычно отставал от других.
Итак, гофрат долго наводил зеркало на горло Иоахима, освещая, исследуя и заглядывая в него как можно глубже, после чего пациент, по настоятельному желанию Ганса Касторпа, сейчас же пришел к нему на балкон, чтобы обо всем доложить.
– Было довольно противно и щекотно, – сказал Иоахим почти шепотом, ибо это был час главного лежания, во время которого предписывалась тишина, – и в результате Беренс наговорил всякой всячины насчет раздражения горла и заявил, что горло каждый день необходимо смазывать, завтра же они начнут прижигания, нужно только приготовить лекарство, – итак, раздражение и прижигания.
У Ганса Касторпа, в голове которого возникли всевозможные ассоциации и воспоминания и которому пришли на память даже такие далекие ему люди, как хромой портье и дама, целую неделю хватавшаяся за ухо, хотя ее потом вполне успокоили, у Ганса Касторпа вертелось на языке еще множество вопросов, но он их не задал, а решил выложить гофрату с глазу на глаз; сейчас он просто ограничился тем, что высказал Иоахиму свое удовольствие: наконец-то столь досадное явление взято под контроль и гофрат лично займется им. Беренс молодец и наверняка поможет, на что Иоахим кивнул, не глядя на кузена, повернулся и ушел к себе на балкон.
Что же случилось с честным Иоахимом? За последние дни в его глазах появилась какая-то неуверенность и робость. Еще совсем недавно старшая сестра Милендонк попыталась просверлить его взглядом, но броня этих мягких темных глаз оказалась непроницаемой; однако если бы она сейчас возобновила свою попытку, ее, может быть, и ждал бы успех. Во всяком случае, он избегал встречаться с людьми глазами, а если дело все же доходило до этого (Ганс Касторп частенько посматривал на него), то легче не становилось. Когда Иоахим ушел и Ганс Касторп остался за своей перегородкой подавленный всем услышанным, он почувствовал непреодолимое искушение тут же отправиться к начальству и призвать его к ответу. Однако это было невозможно: Иоахим услышал бы, что он встает, поэтому пришлось отложить свое намерение и постараться перехватить Беренса в послеобеденное время.
Но странно! Гансу Касторпу это никак не удавалось. Не удалось ему поймать гофрата ни в тот вечер, ни в течение двух ближайших дней. Конечно, несколько мешал Иоахим, ведь он ничего не должен был знать, но все же одним этим нельзя было объяснить полную невозможность где-то перехватить Радаманта и добиться с ним разговора. Ганс Касторп искал его по всему санаторию и всюду расспрашивал о нем, его посылали то в одно, то в другое место, где он непременно должен был застать гофрата, однако неизменно оказывалось, что тот уже ушел. Правда, Беренс присутствовал на одной из трапез, но сидел очень далеко, за «плохим» русским столом и исчез перед десертом.
Несколько раз Гансу Касторпу казалось, что вот он уже ухватил врача за полу, он видел его то на лестнице, то в коридорах, гофрат беседовал с доктором Кроковским, со старшей, с кем-нибудь из пациентов, и молодой человек терпеливо ждал, когда он освободится. Но едва он случайно отводил взгляд, как Беренса уже не было.
Лишь на четвертый день Ганс Касторп наконец добился своего. С балкона он увидел, что предмет его преследований вышел в сад и отдает распоряжения садовнику; поэтому он тут же выскользнул из-под одеяла и сбежал вниз. Гофрат, ссутулясь и загребая руками, как раз уходил к себе. Ганс Касторп поспешил вдогонку и даже позволил себе окликнуть его, но не получил ответа. Запыхавшись, настиг он наконец врача и заставил его остановиться.
– Вы зачем здесь? – накинулся на него гофрат, выпучив глаза. – Прикажете вручить вам личный экземпляр правил распорядка? По-моему, сейчас полагается лежать. Ваша кривая и ваш снимок не дают вам никаких оснований изображать из себя какого-то фон барона. Следовало бы поставить в саду этакое божественное пугало, пусть угрожает посадить на кол тех больных, кто между двумя и четырьмя тут своевольничает. Что вам угодно?
– Господин гофрат, на минутку, мне совершенно необходимо поговорить с вами!
– Да это вам уже давно втемяшилось, я заметил. Вы гоняетесь за мной, точно я красотка или во мне невесть какая сладость… Что же вам нужно от меня?
– Только насчет моего двоюродного брата, господин гофрат, простите великодушно! Вот ему смазывают горло… Я уверен, что теперь все наладится. Ведь это явление у него неопасное… я только об этом хотел спросить вас…
– Вы всегда хотите, чтобы все было неопасно, Касторп, уж такой вы человек. Иногда вы сами вовсе не прочь пуститься и в небезопасные предприятия, но тогда вы ведете себя так, как будто они совершенно безобидные, и надеетесь угодить этим и богу и людям. Вы, милейший, все-таки трус, тихоня и ханжа, и когда ваш кузен вас называет человеком штатским, это еще очень мягко сказано.
– Все может быть, господин гофрат. Ну, разумеется, мои недостатки очевидны. Но ведь суть-то в том, что сейчас речь не о них, и я вот уже три дня хочу попросить вас, чтобы вы…
– Сказал вам правду, но приятно подслащенную и подкрашенную? Вы хотите приставать ко мне и надоедать, чтобы я поддержал в вас ваше проклятое лицемерие и вы бы могли спать сном невинности, когда другие бодрствуют и за все несут ответственность?
– Но, господин гофрат, вы слишком строги ко мне. Я же хотел наоборот…
– Да, строгость, этим качеством вы не блещете. Вот ваш кузен – совсем другой человек, он сделан из другого теста. Он знает, в чем дело. Знает и молчит, понимаете? Он не хватает людей за фалды, чтобы они напустили ему розового туману насчет всяких неопасностей. Он понимал, что делал и что ставил на карту, он – настоящий мужчина, он знает, как надо себя держать и как держать язык за зубами, и это мужское искусство, а такие, как вы, двуногие конфетки, к сожалению, на него не способны. Однако я вам заявляю твердо, Касторп, если вы тут начнете разыгрывать драмы, поднимете крик и дадите волю вашим штатским чувствам, я вас отсюда выставлю. В таких случаях здесь место только мужчинам, поймите же.
Ганс Касторп молчал. Теперь его лицо тоже бледнело пятнами. Оно было слишком медно-красным и не могло бледнеть все целиком. Наконец он проговорил дрожащими губами:
– Я очень вам благодарен, господин гофрат. Должно быть, я тоже угадал правду, ведь вы, мне кажется, никогда… как бы это выразиться… не говорили со мной так торжественно, если бы состояние Иоахима не было серьезным. И я вовсе не сторонник драм и крика, тут вы ко мне несправедливы. А если вопрос в том, чтобы молчать, на это у меня тоже хватит сил, поверьте.
– Вы очень привязаны к вашему двоюродному брату, Ганс Касторп? – спросил гофрат, вдруг схватив молодого человека за руку и глядя на него исподлобья налитыми кровью синими глазами в белесых ресницах…
– Что вам ответить, господин гофрат? Он же очень близкий родственник и добрый друг, он мой товарищ по болезни… – Ганс Касторп коротко всхлипнул и поставил ногу на носок, пяткой наружу.
Гофрат поспешно выпустил его руку.
– Так вот, будьте с ним поласковее эти полтора-два месяца, – сказал он. – Дайте волю своей естественной склонности к безобидному, это будет для него самое приятное. Я ведь тоже здесь, в частности, для того, чтобы придавать всему этому наиболее благородные и комфортабельные формы.
– Larynx[148], верно? – спросил Ганс Касторп, кивнув гофрату.
– Laryngea[149], – подтвердил Беренс. – Быстро прогрессирующий процесс разрушения. И слизистая оболочка дыхательных путей сильно затронута. Возможно, что громкие выкрики при командовании и создали здесь locus minoris resistentiae[150]. Но таких диверсий всегда можно ждать. Надежды мало, мой мальчик; говоря по правде, никакой. Разумеется, надо испробовать самые эффективные, самые сильные средства.
– Мать… – проговорил Ганс Касторп.
– Потом, потом. Спешить некуда. Тактично и без нажима позаботьтесь о том, чтобы она своевременно появилась на сцене. А теперь проваливайте, возвращайтесь на свое место. Иначе он заметит. А ведь ему, наверное, тяжело, что о нем говорят у него за спиной.
Каждый день ходил Иоахим на смазывание. Стояла ясная осень; в белых фланелевых брюках и синем пиджаке являлся он от врача к столу нередко уже после начала трапезы, аккуратно одетый, по-военному подтянутый, здоровался кратко и приветливо, с мужественной сдержанностью, просил извинить его за опоздание и принимался за еду, – ему теперь готовили отдельно, ибо при обычной пище он медлил, боясь поперхнуться, и отставал от других; ему давали супы, рубленое мясо и каши. Соседи по столу очень скоро догадались, в чем дело. Они отвечали на его поклон с подчеркнутой вежливостью и приветливостью, они называли его «господин лейтенант». А в его отсутствие расспрашивали Ганса Касторпа, подходили и сидевшие за другими столами и тоже осведомлялись об Иоахиме. Фрау Штер, ломая руки, некультурно причитала. Однако Ганс Касторп отвечал односложно, да, случай серьезный, но до известной степени и отрицал эту серьезность, чувствуя, что недостойно раньше времени ставить крест на Иоахиме.
Они ходили вместе гулять, совершали три раза в день обязательную увеселительную прогулку, причем гофрат для Иоахима ее строжайшим образом ограничил, чтобы тот без нужды не тратил силы. Ганс Касторп обычно шел слева от кузена – раньше они ходили как придется, но теперь Ганс Касторп старался держаться левой стороны. Разговаривали они мало, обменивались лишь теми немногими словами, которые подсказывал обычный берггофский день, а больше ни о чем. Ведь о том, что знали оба, говорить было незачем, оба они – люди сдержанные, замкнутые, даже по имени называют друг друга только в исключительных случаях. И все-таки иногда в штатской груди Ганса Касторпа что-то закипало и рвалось наружу, – кажется, вот-вот он не выдержит. Но он понимал, что это невозможно. Бурно вздымавшиеся мучительные чувства снова опадали, и он хранил молчание.
А Иоахим шагал рядом с ним, опустив голову. Он смотрел себе под ноги, словно созерцал землю. Как странно: вот он идет, подтянутый и аккуратный, с рыцарской вежливостью кланяется встречным, он по-прежнему заботится о своей наружности, о приличиях, и вместе с тем он уже обречен земле. Конечно, все мы будем обречены ей рано или поздно. Но когда человек так молод, так радостно жаждет служить знамени, это очень горько; и еще горше и непонятнее для идущего рядом и знающего обо всем Ганса Касторпа, чем для самого «земляного» человека, который с достоинством молчит о своем знании, хотя, в сущности, знание это весьма теоретическое, оно обладает для него очень малой степенью реальности, и в основном не столько его дело, сколько дело окружающих. Ведь фактически смерть больше затрагивает остающихся, чем уходящих; ибо знаем мы эту цитату или нет, но слова некоего остроумного мудреца сохраняют для нас и теперь свой полный внутренний смысл: пока мы есть, смерти нет, а когда есть смерть – нас нет; таким образом, между нами и смертью не возникает никаких конкретных связей, это такое явление, которое нас вообще не касается, и лишь отчасти касается мира и природы, почему все создания взирают на нее с большим спокойствием, хладнокровием, безответственностью и эгоистическим простодушием. За последнее время Ганс Касторп тоже подметил в Иоахиме эту безответственность и простодушие и понял, что хотя двоюродный брат и знает, но ему нетрудно хранить пристойное молчание, так как его внутреннее знание – только смутное и абстрактное, что до практической стороны – то она регулируется и определяется здоровым чувством пристойности, не допускающим никаких обсуждений этого знания, как не допускается обсуждение других неприличных функций жизни, – она их осознает, она обусловлена ими, но они не мешают ей соблюдать приличия.
Итак, они гуляли рядом, не упоминая о непотребствах природы. По приезде сюда Иоахим вначале взволнованно и гневно жаловался на то, что пропускает маневры и военную службу на равнине, теперь эти жалобы прекратились. Но почему, невзирая на все его простодушие, в его мягком взгляде так часто появлялась та грустная робость, та неуверенность, которая при новой попытке старшей проникнуть в него, наверное, помогла бы ей одержать победу? Или причина была в том, что глаза его ввалились, лицо осунулось гораздо сильнее, чем когда он вернулся с маневров на равнине, и он это знал? Зловещие перемены совершались за последнее время у всех на глазах, а бронзовый цвет лица все больше переходил в желтовато-пергаментный. Словно эта среда больных вместе с господином Альбином, только и мечтавшая о том, чтобы наслаждаться всеми безграничными преимуществами позора, заставляла его стыдиться и презирать самого себя. Но перед чем или перед кем опускал он и прятал теперь свой некогда столь прямой и открытый взгляд? Как удивителен этот стыд перед жизнью, охватывающий земную тварь, которая прячется в укромное место, чтобы там умереть, уверенная, что на воле, среди природы, ей нечего ждать ни бережности, ни благоговения к ее страданиям и смерти; ведь стая быстрокрылых птиц не только не чтит больного товарища – она с яростью и презрением забивает его клювами. Но такова примитивная природа, а в груди Ганса Касторпа вспыхивала глубоко человечная любовь и жалость, когда он видел в глазах бедного Иоахима затаенный инстинктивный стыд. Он шел слева от него и делал это вполне сознательно; а так как теперь и походка стала у Иоахима несколько неуверенной, то, когда приходилось подниматься на небольшой луговой склон, он поддерживал его и, преодолевая привычную замкнутость, обнимал и, даже словно забыв ее, не снимал потом руку с его плеча, пока тот с некоторой досадой не говорил:
– Ну что ты, брось. Можно подумать, что мы пьяные.
Все же настала такая минута, когда померкший взгляд Иоахима сказал молодому Гансу Касторпу и еще кое-что: дело в том, что ему приказали не вставать с постели – это было в начале ноября, лежал глубокий снег. В те дни Иоахиму стало трудно есть даже рубленое мясо и кашу, чуть не каждый глоток попадал не в то горло. Его перевели на жидкую пищу, и Беренс предписал продолжительный постельный режим, чтобы экономить силы. И вот накануне, в последний вечер, когда Иоахим был на ногах, Ганс Касторп застал его – застал беседующим с Марусей, хохотушкой Марусей, у которой была такая пышная и как будто вполне здоровая грудь и в руках – апельсинный платочек. Дело было после ужина, в холле, во время совместного пребывания пациентов. Ганс Касторп задержался в музыкальной комнате и вышел, чтобы поискать Иоахима: он увидел его перед выложенным кафелями камином, подле кресла, где сидела Маруся, она сидела в качалке, а Иоахим, держась левой рукой за спинку, откинул качалку назад, так что Маруся, лежа, смотрела снизу своими круглыми карими глазами на его склоненное к ней лицо; он тихо и отрывисто говорил ей что-то, а она то улыбалась, то пренебрежительно и взволнованно пожимала плечами.
Ганс Касторп поспешно отступил, однако успел заметить, что другие, наблюдавшие эту сцену, как было принято здесь, подшучивали над ней, а двоюродный брат не замечал их или не хотел замечать. И это зрелище – Иоахим, самозабвенно погруженный в разговор с пышногрудой Марусей, с которой он столько времени просидел за одним столом, не обменявшись ни единым словом, перед личностью и фактом существования которой он со строгим лицом благоразумно и честно опускал глаза, хотя бледнел пятнами, когда речь заходила о ней, – это зрелище потрясло Ганса Касторпа больше, чем любой признак упадка сил, замеченный им у двоюродного брата в течение последнего времени. «Да, он погиб!» – сказал про себя Ганс Касторп и потихоньку сел на стул в музыкальной комнате, чтобы не мешать Иоахиму пережить в этот последний вечер то немногое, что он еще мог себе позволить.
С этого времени Иоахим надолго принял горизонтальное положение, и Ганс Касторп, улегшись в свой превосходный шезлонг, написал об этом Луизе Цимсен. Он написал, что должен прибавить к своим прежним сообщениям, которые посылал при случае, весть о том, что Иоахим слег, и хотя он этого не высказывает вслух, но по глазам его явно можно прочесть желание, чтобы около него была мать, а гофрат Беренс решительно поддерживает невысказанное желание Иоахима. Ганс Касторп и для этого нашел бережные, и все же ясные слова. Поэтому не удивительно, что фрау Цимсен воспользовалась самыми скорыми средствами сообщения, чтобы приехать к сыну: уже через три дня после отправки этого мягкого, но тревожного письма она была здесь, и Ганс Касторп в метель, на санях, встретил ее на станции «Деревня» и, стоя на платформе, перед приходом поезда, придал своему лицу такое выражение, чтобы мать сразу не слишком испугалась, но с первого же взгляда увидела, что он не напускает на себя никакой фальшивой бодрости.
Сколько раз происходили здесь, наверное, такие встречи, сколько раз бросались люди друг к другу и сошедший с поезда испытующе и тревожно заглядывал в глаза встречавшему его! Казалось, фрау Цимсен прибежала сюда из Гамбурга пешком. Вся раскрасневшаяся, прижала она руку Ганса Касторпа к своей груди и, как-то пугливо озираясь, стала торопливо и словно тайком задавать ему вопросы; но он от ответов уклонился и поблагодарил за то, что она так скоро приехала, – это прямо замечательно, Иоахим страшно обрадуется. Н-да, он сейчас, к сожалению, лежит из-за жидкой пищи, ведь это не может не ослаблять его. Но найдутся в случае необходимости и другие выходы, например – искусственное питание. Впрочем, она сама увидит.
И она увидела, а стоя рядом с ней, увидел и Ганс Касторп. До этой минуты он не очень замечал перемены, которые за последнее время произошли с Иоахимом, молодежь в таких случаях недостаточно наблюдательна. Но сейчас, стоя возле матери, явившейся из внешнего мира, он как бы смотрел на Иоахима ее глазами, словно давно его не видел, и понял ясно и отчетливо то, что без сомнения поняла и она и что сам Иоахим знал лучше их обоих, а именно, что он уже стал «морибундусом». Иоахим держал руку фрау Цимсен в своей руке, такой же изможденной и желтой, как и лицо, по сторонам которого, вследствие резкого исхудания, его уши, это небольшое огорчение его юности, торчали еще больше, чем раньше, но и этот недостаток благодаря выражению серьезности и строгости, даже гордости, появившихся на лице больного, делал его как-то еще мужественнее и красивее, хотя губы, под небольшими черными усиками, при глубоко ввалившихся щеках казались теперь слишком полными. Две морщины, залегшие между глазами, прорезали желтоватый лоб; эти глаза глубоко запали, но были красивее и больше, чем когда-либо, и Ганс Касторп мог только восхищаться ими. Ибо с тех пор как Иоахим перешел на положение лежачего больного, из них исчезли всякая тревога, печаль и неуверенность, и в их темной спокойной глубине остался только тот давно подмеченный Гансом Касторпом свет, и не только свет, но и та «угроза». Держа руку матери в своей и шепотом здороваясь с ней, он не улыбался. И когда она вошла в комнату, на лице его не мелькнуло даже проблеска улыбки, и эта неподвижность, эта неизменность выражения сказали все.
Луиза Цимсен была мужественная женщина. Она не предалась отчаянию, видя, как тверд и спокоен ее сын. С полным присутствием духа, изо всех сил сдерживая себя, так же как сдерживала едва заметная сетка ее волосы, флегматичная и решительная, она смотрела на него, и в ней разгоралась жажда материнской борьбы за сына и глубокая вера в то, что если еще можно его спасти, то это сделает только ее воля и ее бдительность. И не ради собственного удобства, а лишь потому, что так полагалось, согласилась она через несколько дней пригласить к больному медицинскую сестру. У постели Иоахима появилась со своим черным чемоданчиком сестра Берта, в действительности – Альфреда Шильдкнехт; но ревнивая энергия матери была столь велика, что фрау Цимсен и днем и ночью почти все делала сама, поэтому у сестры Берты оставалась пропасть свободного времени, и она могла без конца торчать в коридоре, закинув за ухо шнурок от пенсне, и с любопытством высматривать и вынюхивать.
Эта протестантская диакониса весьма здраво смотрела на жизнь. Сидя наедине с Гансом Касторпом и с больным, который и не думал спать, а лежал на спине с открытыми глазами, она была способна заявить:
– И во сне не снилось, что придется ухаживать за одним из вас перед смертью…
Испуганный Ганс Касторп с яростью показал ей кулак, но она едва ли поняла почему, далекая от мысли, что нужно щадить Иоахима, в чем была права, – и слишком трезво настроенная, чтобы допустить, будто кто-нибудь, особенно лицо столь близкое, может предаваться иллюзиям относительно характера и исхода болезни. «Вот, – сказала она, намочила носовой платок одеколоном и поднесла его к носу Иоахима, – побалуйте себя напоследок, лейтенант!» Да и действительно, какой смысл был втирать очки бедному Иоахиму, – может быть, только для бодрости, как полагала фрау Цимсен, когда уверенно и прочувствованно говорила ему о выздоровлении. Ибо две вещи были бесспорны и очевидны: что, во-первых, Иоахим с совершенно ясным сознанием ожидает приближения смерти и, во-вторых, что он ожидает ее в полном мире и согласии с самим собой. Лишь в последнюю неделю, в конце ноября, когда наступила сердечная слабость, он уже лежал в полузабытьи целыми часами, полный надежд, в блаженном неведении относительно своего состояния, и говорил о скором возвращении в полк и об участии в больших маневрах: ему казалось, что они все еще продолжаются. Но гофрат Беренс уже не счел возможным поддерживать в близких хоть какую-нибудь надежду и заявил, что конец – вопрос нескольких часов.
Это забывчивое доверие к судьбе, этот самообман – грустное, но закономерное явление даже у самых мужественных натур в тот период, когда процесс распада близится к летальному исходу, – явление закономерно-безличное, оно сильнее всякого индивидуального создания и подобно соблазнительному сну, который сковывает замерзающего, или хождению по кругу заплутавшегося.
Ганс Касторп, которому горе и боль не мешали со вниманием наблюдать за двоюродным братом, описывая этот факт в разговорах с Нафтой и Сеттембрини, строил всевозможные хитроумные, но шаткие теории и получил от итальянца даже выговор, когда заявил, что ходячий взгляд, будто философская вера и надежда на победу добра служат признаком здоровья, а склонность все видеть в мрачном свете и все осуждать – признак болезни, – видимо, ошибочен, ибо тогда именно безнадежное предсмертное состояние не могло бы вызывать у Иоахима такого оптимизма, а теперь в сравнении с его розовыми, но трагическими иллюзиями предшествующее уныние кажется мощным и здоровым проявлением жизни. К счастью, он мог сообщить соболезнующим слушателям, что Радамант даже в самой безнадежности оставляет надежду и предсказывает Иоахиму, невзирая на его молодость, спокойную и безболезненную кончину.
– Идиллическое состояние сердца, сударыня, – сказал гофрат, держа руку Луизы Цимсен в своих похожих на лопаты ручищах и глядя на нее исподлобья выпученными синими глазами, слезящимися и налитыми кровью. – Я рад, ужасно рад, что развязка наступит кордиальная и ему не придется ждать отека глотки и прочих гадостей; так он будет избавлен от многих и многих неприятностей. Сердце сдает очень быстро, это хорошо для него, хорошо и для нас, мы можем только добросовестно исполнить наш долг и бороться шприцем с камфарой, что едва ли даст серьезные результаты. Перед финалом он будет много спать и видеть приятные сны, это я, кажется, могу вам обещать, а если перед самым концом сна может и не быть, переход все равно произойдет быстро и незаметно, и он отнесется к нему довольно равнодушно, уверяю вас. В сущности, так всегда бывает. Я знаю смерть, я давно служу при ней, ее переоценивают, поверьте мне! Могу сказать вам, что ничего особенного тут нет. Ведь нельзя же те мучения, которые в некоторых случаях ей предшествуют, относить за счет самой смерти, они – дело переменчивое и могут послужить жизни и привести к выздоровлению. Но о смерти ни один человек, если бы он ожил, ничего не смог бы толком рассказать, ведь смерть не переживают. Мы приходим из тьмы и уходим во тьму, между этим лежат переживания, но начало и конец, рождение и смерть нами не переживаются, они лишены субъективного характера, как события, они целиком относятся к сфере объективного, вот как обстоит дело.
Таков был способ гофрата утешать близких. И мы надеемся, что он этим немножко поддержал такую разумную женщину, как фрау Цимсен; да и его предсказания почти полностью сбылись. В эти последние дни ослабевший Иоахим спал целыми часами и, вероятно, видел во сне то, что ему приятно было видеть, допустим – сны о жизни на равнине и об армии; а когда он просыпался и его спрашивали, как он себя чувствует, умирающий неизменно отвечал невнятно, что ему хорошо и он счастлив, хотя пульса почти не было и он в конце концов даже не ощущал укола иглой при инъекции; тело потеряло чувствительность, его можно было жечь и рвать, честного Иоахима это уже не касалось.
И все же после приезда матери с ним произошли большие перемены. Так как бриться ему стало не под силу и он уже неделю-полторы этого не делал, а волосы росли чрезвычайно быстро, то его восковое лицо с кроткими глазами скоро оказалось обрамленным густой черной бородой – военной бородой, ибо так отрастает она у солдат в походе; впрочем, эта борода, как все говорили, очень украшала его, придавая особенно мужественный вид. Да, Иоахим из юноши вдруг превратился в зрелого мужа, благодаря этой бороде, и не только ей. Он жил ускоренными темпами, словно раскручивавшаяся пружина от часов, он галопом проносился через возрасты, которых ему не было суждено достигнуть в условиях обычного времени, и за последние сутки превратился в старца. Ослабление сердца вызвало отечность лица, придававшую ему изнуренный вид настолько, что у Ганса Касторпа возникло впечатление, будто умирание – это мучительный труд, хотя сам Иоахим, у которого то и дело затемнялось сознание, этого, видимо, не замечал; особенно сильно отекло лицо вокруг губ, что было, вероятно, связано с сухостью и нервной расслабленностью внутренней полости рта, поэтому Иоахим, разговаривая, мямлил, точно глубокий старик, – впрочем, этот недостаток его очень сердил: только бы ему от него освободиться, лепетал он, и все будет хорошо, да вот эта проклятая штука ужасно мешает.
Что он разумел под этим «все будет хорошо», оставалось довольно неясным; во всяком случае, особенно бросалась в глаза вызванная его состоянием склонность выражаться загадочно, он не раз высказывал вещи, имевшие двойной смысл, как будто знал и не знал, и однажды, должно быть содрогаясь в душе от предчувствия близкого уничтожения и даже как будто придавленный этим, заявил, покачав головой: так ужасно он себя еще никогда не чувствовал.
Потом он стал замкнут и неприветлив, даже невежлив; оставался глух ко всяким выдуманным утешениям и прикрасам, не отвечал на них, смотрел перед собой отчужденным взглядом. А после того, как приглашенный Луизой Цимсен молодой пастор с ним помолился, – к великому огорчению Ганса Касторпа, на нем оказались не брыжи, а лишь обыкновенный воротничок, – в манере Иоахима обращаться с людьми появилось что-то официально-служебное, он выражал свои желания только в форме кратких приказов.
В шесть часов вечера он начал делать какие-то странные движения: то и дело проводил правой рукой с золотой цепочкой браслета по одеялу вдоль бедра, потом слегка приподнимал кисть и, точно соскабливая что-то или сгребая, вел руку обратно, как будто это что-то тянул к себе и собирал.
В семь часов он умер; Альфреда Шильдкнехт находилась в коридоре, при нем были только мать и двоюродный брат. Он сполз с подушки и коротко приказал, пусть его поднимут повыше. Пока фрау Цимсен, обхватив сына за плечи, выполняла приказ, он как-то торопливо пробормотал, что ему нужно немедленно составить и подать прошение о продлении его отпуска, и тут-то, пока он это говорил, и совершился «быстрый переход», за которым Ганс Касторп благоговейно следил при свете закутанной красным настольной лампочки. Взор Иоахима словно надломился, сведенные бессознательным напряжением черты разгладились, болезненная одутловатость вокруг губ быстро исчезала, затихшее лицо стало опять прекрасным – красотою юности и уже созревшей мужественности: так это свершилось.
Луиза Цимсен, рыдая, отвернулась, поэтому именно Ганс Касторп кончиком безымянного пальца закрыл веки неподвижному и бездыханному Иоахиму и бережно сложил ему руки на одеяле. Потом стал рядом и заплакал, по его щекам бежали слезы, которые некогда так обжигали щеки английского морского офицера, – эта прозрачная влага, столь щедро и горестно льющаяся по всей земле в каждое мгновение, что ее именем назвали земную юдоль – долиной слез, – этот щелочно-соленый продукт желез, который исторгается из нашего тела потрясающим нервы, мучительным страданием. Касторпу было также известно, что в этом продукте содержится немного муцина и белка.
Явился гофрат, извещенный сестрой Бертой. Он был здесь всего полчаса тому назад и сделал укол камфары, только мгновение быстрого перехода он пропустил.
– Н-да, для него это уже позади, – сказал он, отняв стетоскоп от умолкшей груди Иоахима и выпрямляясь. Потом пожал матери и кузену руку и соболезнующе кивнул головой. Постоял с ними еще немного у постели Иоахима, глядя на неподвижное молодое лицо с бородой солдата. – Безумный мальчик, безумный человек, – сказал он через плечо, кивая на покоившегося Иоахима. – Хотел действовать силком, знаете ли, – конечно, вся эта история с его службой на равнине была принуждением и насилием над самим собой, – служил, а самого лихорадило, но хоть плыть, да быть. Поле брани влекло его, понимаете ли, – он вырвался от нас на поле чести, вояка этакий. Но воинская честь была для него смертью, а смерть – если хотите, это можно и перевернуть… словом, он теперь как бы доложил на том свете «имею честь явиться». Да, безумный мальчуган, безумный человек. – И он ушел, длинный, сгорбившийся, сутулый.
Перевозка тела Иоахима на родину была делом решенным, и фирма «Берггоф» позаботилась обо всем, что для этого было необходимо и что в таких случаях считалось общепринятым и приличным. Мать и кузена избавили почти от всех хлопот. На другой день Иоахим, покоившийся в шелковой рубашке с манжетами и с цветами на покрове, озаренный матовым светом снежного зимнего дня, казался еще красивее, чем сейчас же после своего перехода. Из его лица исчезла всякая тень напряжения; похолодев, оно приняло чистейшую форму и в ней окончательно застыло. Завитки коротких темных волос упали на неподвижный желтоватый лоб, казалось сделанный из благородного, но хрупкого материала, что-то среднее между воском и мрамором, а в слегка волнистой бороде выступал красиво изогнутый полный и гордый рот. К этому челу очень подошел бы древний шлем, что и высказали многие посетители, которые пришли проститься с ним.
При виде этой телесной формы, некогда принадлежавшей Иоахиму, фрау Штер с упоением разрыдалась.
– Герой! Просто герой! – крикнула она несколько раз и потребовала, чтобы на его похоронах играли «Эротику» Бетховена[151].
– Да помолчите вы! – зашипел на нее стоявший рядом Сеттембрини, он и Нафта оказались в комнате одновременно с ней; и Сеттембрини был искренне взволнован. Простерев обе руки, указывал он присутствующим на Иоахима, как бы призывая их к скорби: – Un giovanotto tanto simpatico, tanto stimabile![152] – то и дело восклицал он.
А Нафта, все такой же натянутый и скованный, не глядя, язвительно шепнул ему:
– Рад видеть, что, кроме свободы и прогресса, вы способны также воспринимать и серьезные события.
Сеттембрини молча проглотил это замечание. Может быть, он чувствовал, что события дали временное превосходство Нафте и его воззрениям, может быть именно этот случайный успех противника он хотел уравновесить живейшими выражениями печали и промолчал даже тогда, когда Нафта, пользуясь своими случайными преимуществами, с резкой назидательностью заявил:
– Ошибка литераторов в том, что они воображают, будто бы только дух придает благообразие. А правильнее скорее обратное. Благообразие там, где нет духа.
«Ну, – подумал Ганс Касторп, – прямо пифийское изречение! Если произнести его и замкнуть уста, то на миг все даже растеряются…»
Под вечер принесли металлический гроб. Человек, сопровождающий его, видимо был непоколебимо убежден в том, что водворение Иоахима в это великолепное, украшенное кольцами и львиными головами хранилище только личное дело его, агента. Этот представитель похоронного учреждения, к которому обратились, был облачен в черное, в какое-то подобие кургузого сюртука, с обручальным кольцом на плебейской руке: желтый ободок кольца совсем врос в мясо, и оно прикрыло его пухлым валиком. Невольно начинало казаться, что от сюртука агента исходит трупный запах, но это, конечно, было предубеждением. Однако представитель бюро выказал присущее специалистам самомнение, ибо он, видимо, считал, будто вся его деятельность должна протекать как бы за кулисами, и следует показывать оставшимся только почтенно-парадные ее результаты, что вызвало у Ганса Касторпа даже возмущение и совершенно не соответствовало его намерениям. Он, правда, настоял на том, чтобы фрау Цимсен удалилась, но себя не позволил любезно выпроводить, а остался, чтобы помочь. Он взял тело под руки, и они вдвоем перенесли его с постели в гроб; и вот на простынях и подушках с кистями высоко и торжественно покоилась теперь земная оболочка Иоахима, между подсвечниками, предоставленными санаторием «Берггоф».
Однако на следующий день Ганс Касторп обнаружил некое явление, заставившее его душевно как бы расстаться с физической оболочкой Иоахима и предоставить поле действия профессионалу, этому сомнительному блюстителю благопристойности. Дело в том, что Иоахим, лицо которого до сих пор хранило строгое и достойное выражение, начал улыбаться в свою солдатскую бороду, и Ганс Касторп не мог скрыть от себя, что эта улыбка – уже начало распада; он почувствовал в сердце своем, что надо спешить. Поэтому, слава богу, что предстоит вынос, потом гроб закроют и завинтят крышку. Ганс Касторп забыл о врожденной сдержанности и, прощаясь, особенно нежно коснулся губами холодного, словно камень, лба того, кто был когда-то его Иоахимом, и, вопреки всему своему недоверию к служителю закулисных дел, вместе с Луизой Цимсен покорно вышел из комнаты.
В предпоследний раз падает занавес. Но пока он, шурша, скользит вниз, давайте вместе с Гансом Касторпом, оставшимся там наверху, посмотрим и послушаем, что делается на равнине, далеко внизу, на сыром кладбище, где, сверкнув, опускается сабля, раздается короткая команда и три ружейных залпа, три горячих салюта гремят над могилой с проросшими корнями, над солдатской могилой Иоахима Цимсена.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Прогулка по берегу моря
Можно ли рассказать время, какое оно есть, само время, время в себе? Конечно же нет, это было бы нелепой затеей. Рассказа, который мы вели бы примерно так: «Время текло, бежало, потоком проносилось время…» – и все в том же роде, – никто, будучи в здравом уме, не признал бы за рассказ. Все равно как если бы некий фантазер целый час повторял одну и ту же ноту или один и тот же аккорд, уверяя, будто это и есть музыка. Ибо рассказ тем и подобен музыке, что тоже заполняет время, «достойно его заполняет», «делит его», что-то «начинается», что-то «происходит», как выразился покойный Иоахим, если мы, с тем горестным пиететом, с каким вспоминают речения умерших, вспомним его слова, слова давно умолкшие, мы еще не знаем, уяснил ли себе читатель, сколь давно они умолкли. Время – одна из необходимых стихий рассказа, так же как оно является одной из стихий жизни, ведь жизнь неразрывно связана с временем и с телами в пространстве. И оно также стихия музыки, которая отмеряет его, делит, делает быстролетным, драгоценным и тем самым, повторяем, роднит музыку с рассказом, ибо рассказ тоже (но иначе, чем отражающее один-единственный миг произведение изобразительного искусства, связанное с временем лишь как тело) предстает нам только как некая последовательность и как некое течение, и даже если бы он стремился в каждый данный миг быть тут весь перед нами, от начала и до конца, он все же нуждался бы во времени для своего развертывания.
Это совершенно очевидно. Но не менее очевидно и то, что между ними существует разница. Время в музыке одно: это как бы выемка в человеческом земном времени, в которую изливается музыка, чтобы несказанно его облагородить и возвысить. Рассказу же присущи два времени: во-первых, его собственное, музыкально-реальное время, определяющее самое течение рассказа, продолжительность сообщения; и, во-вторых, время его содержания, которое подчинено законам перспективы, но измерения его столь разнообразны, что воображаемое время содержания может иногда полностью совпасть с музыкальным временем самого рассказа, а может быть от него далеким, как звезды. Музыкальное произведение под названием «Пятиминутный вальс» продолжается пять минут, только этим, и ничем другим, связано оно со временем. Рассказ же, рассчитанный по своему содержанию на пять минут, при исключительно добросовестном заполнении этих пяти минут, может продолжаться в тысячу раз дольше и при этом быть очень быстролетным, хотя, в сравнении с воображаемым временем, может тянуться и очень долго. Однако вполне вероятны случаи, когда само время содержания рассказа благодаря сокращению переходит в неизмеримое, – мы говорим «сокращение», чтобы подчеркнуть явно иллюзорный, или, вернее, патологический, характер, присущий такого рода случаям, ибо тогда рассказ подчиняется некоей герметической магии и временной сверхперспективе, напоминающей иные захватывающие область сверхчувственного, ненормальные явления повседневного опыта. Существуют записки курильщиков опия, доказывающие, что одурманенный за короткое время своего выключения из действительности переживал сновидения, охватывающие периоды в десять, тридцать, даже в шестьдесят лет, а иногда и уходящие за грань всякого возможного и доступного человеку восприятия времени; следовательно, в этих сновидениях, где воображаемый охват времени мощно превосходил их собственную продолжительность, царило невероятно сокращенное переживание времени, а образы, теснясь, сменялись в них с такой быстротой, словно, как выразился один приверженный к гашишу наркоман, из мозга опьяненного вынули нечто подобное испорченной ходовой пружине в часах.
Рассказ может обращаться с временем примерно так же, как эти порочные сновидения, так же поступать с ним. Но если он может как-то «обращаться» с временем, то ясно, что время, будучи его стихией, может стать и темой рассказа; и если едва ли возможно «рассказать время», то попытка рассказать о времени, видимо, не так уж бессмысленна, как могло представиться вначале, и поэтому «роман о времени» может приобрести своеобразный двойной и фантасмагорический смысл. На деле же мы только потому и задали вопрос, можно ли рассказать само время, что в данном повествовании действительно поставили себе такую цель. И если мы коснулись следующего вопроса, а именно – уясняют ли себе окружающие, сколько времени прошло с тех пор, как ныне скончавшийся доблестный Иоахим вставил в разговор это замечание о музыке и времени (что свидетельствует, впрочем, о том, что алхимический состав его существа значительно облагородился, ибо подобные замечания были не в духе его простодушной натуры), то мы едва ли рассердились бы, услышав, что да, в данную минуту этот вопрос присутствующим не совсем ясен, и не только не рассердились бы, а были бы даже довольны – по той простой причине, что общее участие в этих ощущениях нашего героя, конечно же, отвечает и нашим интересам, поскольку сам Ганс Касторп не разбирался в этих вопросах, притом уже давно; и все это входит в роман о нем, в роман о времени – в прямом и в переносном смысле.
Сколько же Иоахим все-таки прожил вместе с кузеном здесь наверху до своего самочинного отъезда – или, в общей сложности: когда, в какую именно календарную дату состоялся его первый упрямо-своевольный отъезд, сколько он пробыл в отсутствии, когда возвратился и какое время здесь пробыл сам Ганс Касторп до того дня, когда Иоахим вернулся и потом выбыл из времени; с каких пор, оставив в стороне вопрос об Иоахиме, отсутствовала мадам Шоша, с какого хотя бы года она опять была здесь (а она опять была здесь) и какой отрезок земного времени Ганс Касторп уже провел в «Берггофе» до ее возвращения? В ответ на все эти вопросы, если бы они ему были заданы, хотя их никто не задавал, даже он сам, ибо боялся их задавать, – Ганс Касторп постучал бы кончиками пальцев себя по лбу и решительно отказался бы ответить – явление не менее тревожное, чем его внезапная забывчивость, когда в первый вечер приезда сюда он не смог сообщить господину Сеттембрини свой возраст, – забывчивость, которая даже усилилась, ибо теперь он самым серьезным образом и ни за что бы не сказал, сколько же ему все-таки лет.
Это может показаться какой-то фантастикой, однако не только далеко от неправдоподобия и неслыханности, а напротив, при известных условиях может постичь каждого; и попади мы в такие же условия, ничто не уберегло бы нас от погружения в глубочайшее незнание относительно протекающего времени, а следовательно, и нашего возраста. Подобное явление возможно именно из-за отсутствия в нашей душе какого-либо органа времени, и поэтому нашей полной неспособности, исходя из самих себя, без внешней точки опоры, измерять, хотя бы с приблизительной точностью, течение времени. Известен случай, когда горняки, засыпанные в шахте и отрезанные от всякого наблюдения за сменой дня и ночи, после своего благополучного спасения, определили срок, проведенный ими во мраке, между надеждой и отчаяньем, как три дня. А на самом деле прошло десять. Можно было бы думать, что в столь гнетущем состоянии время должно казаться более долгим, чем на самом деле. А для них оно как бы усохло и сжалось до одной трети своей объективной продолжительности. Видимо, люди, при сбивающих с толку условиях, склонны, в своей беспомощности, ощущать время скорее сильно сокращенным, чем растянутым.
Правда, никто не спорит против того, что Ганс Касторп мог бы при желании без всякого труда покончить с неопределенностью и высчитать протекшее время так же, как это мог бы при небольшом усилии сделать и читатель, если бы всякий туман и сумбур претили его здравому смыслу; что касается Ганса Касторпа, то из-за этого вопроса о времени ему было немного не по себе, но казалось нестоящим даже малейшее усилие, которое помогло бы вырваться из сумбура и тумана и наконец уяснить себе, сколько же ему лет; боязнь, удерживавшая его, была боязнью его совести, хотя совершенно очевидно, что не считаться с временем – это самый худший вид бессовестности.
Мы не знаем, следует ли извинить ему недостаток доброй воли, чтобы не назвать это злой волей, – но уж очень все благоприятствовало его бездеятельности. Когда вернулась мадам Шоша (правда, ее возврат был иным, чем представлял себе в мечтах Ганс Касторп, но об этом мы скажем в своем месте), снова шел рождественский пост и приближался самый короткий день года, или, выражаясь астрономически, наступило начало зимы. В действительности же, невзирая на теоретический распорядок, и если считать зимой снега и морозы, то она наступила опять бог знает как давно, собственно говоря, она и не прекращалась, лишь иногда перемежаясь знойными летними днями с неправдоподобно синим, почти черным небом. Такие дни бывали и зимой и казались совсем летними, невзирая на снег, тем более что он выпадал и в летние месяцы. Как часто Ганс Касторп болтал с покойным Иоахимом об этой отчаянной путанице, в которой смешивались и перетасовывались сезоны, исчезала очередность времен года и его быстротечность становилась тягучей или тягучесть становилась быстротечной, так что о подлинном времени, как с отвращением еще давно заметил Иоахим, и речи быть не могло. Главным же образом, при этой путанице происходили перетасовки и перемещения наших восприятий и определенных состояний сознания, связанных с понятиями «еще» и «уже снова», и это вызывало весьма непонятные, извращенные и дурманящие ощущения – безнравственное желание изведать их Ганс Касторп испытал в первый же день своего приезда сюда наверх, а именно – за пятью сверхобильными трапезами, в расписанной веселенькими шаблонами столовой, когда он впервые почувствовал, что происходит какое-то пока еще невинное, но головокружительное смещение времени.
С тех пор этот обман чувств и ума принял гораздо больший размах. Время, даже если его субъективное восприятие ослаблено или отсутствует, обладает все же конкретной реальностью, поскольку оно деятельно, поскольку оно вынашивает перемены. Вопрос о том, находится ли стоящая на полке герметически закрытая банка с консервами в потоке времени или вне времени, – это вопрос для мыслителя-профессионала, Ганс Касторп занялся им только из юношеской самонадеянности. Однако мы знаем, что время делает свое дело даже по отношению к тем, кто спит летаргическим сном. Один врач подтверждает случай, имевший место с двенадцатилетней девочкой: однажды она заснула и проспала тринадцать лет, причем не осталась двенадцатилетней, а постепенно расцвела и сделалась зрелой женщиной. Да иначе и быть не могло. Мертвец мертв и приказал долго жить; у него много времени, то есть совсем нет – в личном смысле. И все-таки у него еще вырастают ногти и волосы, поэтому в конечном счете… впрочем, не будем повторять выражение, которое однажды по этому поводу употребил Иоахим и которое тогда покоробило Ганса Касторпа, ибо оно показалось ему, как жителю равнины, слишком уж бесцеремонным. Ведь у него самого тоже вырастали ногти и волосы и, видимо, очень быстро, так как он то и дело восседал, закутанный в белое, в кресле парикмахера и стригся, ибо за ушами неизменно появлялись вихры. Собственно, он сидел тут как бы всегда, вернее, когда он сидел и болтал с льстивым и ловким парикмахером, который делал над ним свое дело, после того как время сделало свое, или когда стоял перед дверью на свой балкон и с помощью маленьких ножниц и пилочки, вынутых из подбитого бархатом элегантного несессера, подстригал ногти – он вдруг испытывал непривычное ощущение, сопровождаемое каким-то страхом, к которому примешивалось сладостное любопытство: у него голова начинала идти кругом в двойном и неустойчивом значении этого слова – и в смысле головокружения, и в смысле путаницы, обманчивой неразличимости понятий «еще» и «опять», которые, при их смешении и смещении, создают вневременное «Всегда» и «Вечно».
Мы не раз уверяли читателя, что хотим изобразить Ганса Касторпа не лучше, но и не хуже, чем он есть, поэтому не будем скрывать и того, что свою не слишком похвальную склонность к подобным мистическим искушениям, которые он притом вызывал вполне сознательно и преднамеренно, наш герой пытался искупить противоположными усилиями. Он мог сидеть подолгу, держа в руке часы, свои плоские и гладкие золотые часы, открыв их крышку с выгравированной на ней монограммой, и созерцать их обведенный двойным кругом красных и черных арабских цифр фарфоровый циферблат, на котором обе изящные и вычурные золотые стрелки указывали в разные стороны, а тонкая секундная стрелка, деловито тикая, совершала пробег в своей особой маленькой сфере. Ганс Касторп не спускал с нее глаз, он хотел затормозить хоть несколько минут и растянуть их, чтобы удержать время за хвост. Но стрелка, стрекоча, семенила дальше, пренебрегая цифрами, которых достигала, касалась, уходила, снова приближалась, снова достигала. Она была равнодушна ко всякой цели, отрезкам, делениям. А следовало бы ей, отмерив шестьдесят секунд, хоть на миг задержаться или подать хоть крошечный сигнал: тут, мол, что-то завершилось. Но по тому, как она торопливо переступала этот предел – она так же переступала и всякую иную, не обозначенную цифрой черточку – становилось ясно, что всю эту систему цифр и делений ее пути ей лишь подсунули, а она только шла, шла… Потому Ганс Касторп снова опускал свой стеклянный заводик в жилетный карман и предоставлял время собственному течению.
Где способ сделать понятными для степенного купечества на равнине те перемены, которые произошли во внутреннем обиходе нашего молодого искателя приключений? Ведь масштаб головокружительных тождеств все вырастал. Если даже при некоторой уступчивости было нелегко отличить сегодняшнее «теперь» от вчерашнего, от бывшего два дня, три дня тому назад и похожего на сегодняшнее как две капли воды, то само «теперь» было также склонно и способно спутать свое настоящее с тем, которое было месяц, год тому назад, и слиться с ним в некое «всегда». Но, поскольку моральные формы сознания, выраженные в понятиях «еще», «опять», оставались разобщенными, закрадывался соблазн расширить содержание таких определений, как «вчера» и «завтра», с помощью которых «сегодня» защищается от прошедшего и будущего, и распространить их на более широкие отрезки времени. Нетрудно было бы представить себе, например, существа, живущие, быть может, на более малых планетах и располагающие некиим «миниатюрным» временем, для них семенящие шажки нашей секундной стрелки равнялись бы нашему упорному и экономному ходу стрелки часовой. Но можно вообразить существа, живущие в таком пространстве, где связанное с ним время делает великанские шаги, причем понятия «только что», «попозднее», «вчера», «сегодня», как переживания, получили бы чудовищно расширенные значения. Это было бы, повторяем, не только возможно, но в духе некоей терпимой теории относительности, и обсуждено в согласии с поговоркой «что город, то норов», признано вполне законным, естественным и почтенным. А вот что сказать о сыне земли, притом находящемся в таком возрасте, когда день, неделя, месяц, три месяца еще должны играть столь важную роль, приносить в его жизнь столько успехов и перемен? Что сказать о нем, если у него вдруг появляется порочная привычка или он время от времени уступает странному влечению говорить вместо «год тому назад», вместо «через год» – «вчера» и «завтра»? Здесь, без сомнения, уместно будет назвать это «смешением и смещением» и высказать глубокую тревогу.
Бывают на свете такие жизненные положения, такие особенности ландшафта (если в допущенном нами случае можно говорить о «ландшафте»), при которых «смещение и смешение» пространственно-временных дистанций до головокружительных одинаковостей в известной степени естественны и правомерны, и отдаваться их волшебству в часы досуга во всяком случае допустимо. Мы имеем в виду прогулки по берегу моря, мысль о которых всегда была Гансу Касторпу чрезвычайно приятна, – как нам известно, жизнь среди снегов будила в нем радостные и благодарные воспоминания о просторах родных дюн. Мы надеемся, что опыт и память читателя не изменят нам, если мы обратимся к этому волшебному забытью. Идешь, идешь… никогда ты с такой прогулки вовремя не вернешься домой, ибо ты и время – вы потеряли друг друга. О море, рассказывая это, мы далеко от тебя, но мы обращаем к тебе наши мысли, нашу любовь. Громко и ясно зовем мы тебя: живи в нашем рассказе, как втайне ты жило и раньше, живешь и будешь жить всегда… Шумящая пустыня, затянутая бледной светло-серой дымкой, насыщенной терпкой сыростью, которая оставляет вкус соли на наших губах! А мы идем, идем по упругому, усеянному ракушками и водорослями песку; ветер окутывает нам уши, этот огромный, широкий и мягкий ветер, он безудержно, честно и вольно проносится через пространства, навевая нам легкий хмель, и мы бредем, бредем, а пенные языки накатывающих и отступающих валов пытаются лизнуть наши ноги. Прибой кипит, то гулко ухает волна за волной, то стелется и ластится, набегая на плоский берег – и тут, и там, и на иных, далеких побережьях, и этот сумбурный и всеобщий, мягко рокочущий грохот замыкает наш слух для любых голосов на свете… Глубокая утоленность души, добровольное забвенье… Сомкнем же глаза, нас охраняет вечность… Нет, взгляни, там, в пенном, серо-зеленом просторе, в исполински сокращенной дали, уходящей к горизонту, там стоит парус. «Там»? Что это за «там»? Далеко ли? Близко ли? Ты не знаешь. Это головокружительно ускользает от твоего определения. И чтобы сказать, далеко ли то судно от берега, тебе надо бы знать, каков его собственный, как тела, объем. Маленькое ли оно и близкое, или большое и далекое? Твой взгляд прокладывает путь через неведомое, ибо в тебе в самом нет органа и нет ощущения, определяющих для тебя пространство… Мы идем, идем… Долго ли? Далеко ли? Стоя на месте – идем вперед. Ничто не меняется при нашем шаге, там – все равно что здесь, раньше – все равно что теперь и потом, в безмерном однообразии пространства тонет время, движение от точки к точке – уже не движение, тут властвует тождество, а там, где движение перестает быть им, там времени уже нет.
Учители средневековья утверждали, что время – иллюзия, что его течение в формах причинности и последовательности – лишь восприятие наших органов чувств, особым образом построенных, истинное же бытие вещей – это неподвижное «теперь». Бродил ли он по берегу моря, этот «доктор», которому впервые пришла подобная мысль, и ощутил ли на губах легкую горечь вечности? Во всяком случае, повторяем, мы говорим здесь о вольностях, каким предаются во время каникул, о фантазиях досуга, – дух нравственности же пресыщается ими так же скоро, как здоровый человек – лежанием на теплом песке. Заниматься критикой средств и форм человеческого познания, ставить под вопрос самую их ценность, было бы абсурдно, бесчестно, было бы коварством, если бы эта критика не имела иной цели, как указать разуму его границы, которые он не может переступить, не пренебрегая своими истинными задачами. И мы можем только быть благодарны такому человеку, как Сеттембрини, когда он со всей твердостью педагога заявил молодому человеку, чья судьба нас интересует, и которого он при случае так метко назвал «трудное дитя нашей жизни», когда этот педагог заявил, что метафизика – зло. И лучше всего мы почтим память дорогого нам покойника, подчеркнув, что у критики должны и могут быть лишь один смысл, одна задача и цель: это идея долга, выполнение приказов жизни. Да, в то время как законополагающая мудрость критически разметила границы разума, она на тех же границах водрузила знамя жизни и объявила воинской повинностью человека – служить под ним! И можно ли найти оправданье Гансу Касторпу и признать, что в его распутном обращении с временем, в его порочном заигрыванье с вечностью сказалась та же черта, которую некий меланхолический сотоварищ его воинствующего кузена назвал «особым рвением» и которое довело этого кузена до могилы?
Мингер Пеперкорн
Мингер Пеперкорн, пожилой голландец, уже в течение некоторого времени находился в санатории «Берггоф», вполне заслуженно поставившем на своей вывеске прилагательное «интернациональный». Легкая примесь цветной расы, – ибо Пеперкорн был голландцем из колоний, уроженцем Явы и кофейным плантатором, – едва ли побудила бы нас этого Питера Пеперкорна (так его звали, так он сам себя именовал: «Теперь Питер Пеперкорн побалует себя рюмочкой водки», говорил он обычно), – повторяем, едва ли побудила бы нас ввести данное лицо в наше повествование, особенно под конец; ведь какими только красками и оттенками не переливала расцветка общества, проживавшего в столь почтенном заведении, лечебной деятельностью которого руководил с многоязычной витиеватостью гофрат Беренс! Мало того, с некоторых пор здесь опять появилась некая египетская принцесса – та самая, которая когда-то подарила гофрату достопримечательный кофейный сервиз и папиросы «Сфинкс». Это была сенсационная особа с унизанными перстнями, пожелтевшими от никотина пальцами и коротко подстриженными волосами; не считая обеда и ужина, когда она появлялась в парижских туалетах, принцесса ходила обычно в мужском пиджаке и брюках с отглаженной складкой, притом знать не хотела никаких мужчин и дарила свою ленивую, но пылкую благосклонность лишь одной румынской еврейке, которая была просто мадам Ландауэр, хотя прокурор Паравант ради ее высочества принцессы даже забросил математику и от влюбленности совсем одурел.
Мало того, что здесь самолично проживала упомянутая принцесса, – среди ее маленькой свиты находился еще мавр-кастрат, человек больной и хилый, но, невзирая на свою конституцию, над которой любила потешаться Каролина Штер, цеплявшийся за жизнь больше, чем кто-нибудь; он был совершенно безутешен, когда просветили внутренний мрак его организма и пластинка показала отнюдь не утешительную картину.
На фоне таких фигур мингер Пеперкорн мог показаться почти бесцветным. И хотя мы могли бы и эту часть повествования назвать, подобно одной из предшествующих, – «Еще один», но пусть читатель не тревожится – мы не покажем здесь еще одного зачинателя умственного и педагогического сумбура. Нет, мингер Пеперкорн отнюдь не из тех людей, которые способны вносить в жизнь логическую путаницу. Это, как мы увидим, человек совсем другого склада, а причины, по которым он все же внес смятение в жизнь нашего героя, также выяснятся из дальнейшего.
Мингер Пеперкорн прибыл на станцию «Деревня» с тем же вечерним поездом, что и мадам Шоша, в тех же санях укатил с нею в санаторий «Берггоф» и с нею отужинал в ресторане. Это был не только одновременный, это был совместный приезд, и их совместность, имевшая свое продолжение хотя бы в том, что мингера Пеперкорна посадили рядом с возвратившейся больной за «хороший» русский стол, против места врача, на котором некогда больной учитель Попов судорожно и двусмысленно ломал комедию, именно эта неразлучность и расстроила честного Ганса Касторпа, ибо такой возможности он не предвидел. Перед тем гофрат по-своему сигнализировал ему о дне и часе возвращения Клавдии Шоша.
– Ну, Касторп, старик, – сказал он, – преданное ожиданье будет вознаграждено. Послезавтра вечером кошечка опять прокрадется сюда. Я получил телеграмму. – Но о том, что фрау Шоша явится не одна, – ни звука. Может быть, он и сам не знал, что они с Пеперкорном приедут вместе, что они – одно; по крайней мере гофрат прикинулся крайне удивленным, когда Ганс Касторп на другой день после ее приезда, так сказать, привлек его к ответу.
– Даже не знаю, где она его подцепила, – заявил он. – Видимо, познакомились в дороге, вернее всего в Пиренеях. Н-да, придется вам, разочарованный селадон, с этим считаться, ничего не попишешь. Уж такая дружба, водой не разольешь. Видимо, даже касса общая. Судя по всему, что я о нем слышу, он страшно богат. Кофейный король на покое, примите к сведению, камердинер малаец, роскошная жизнь. Впрочем, явился он сюда вовсе не за тем, чтобы развлекаться: кроме серьезного катара слизистых оболочек на почве алкоголизма, имеется как будто еще коварная тропическая лихорадка, перемежающаяся, понимаете ли, затянувшаяся, упорная. Вам придется запастись терпеньем.
– Да пожалуйста, пожалуйста, – ответил Ганс Касторп свысока. «А ты? – подумал он. – Тебе каково? Ты ведь тоже был тогда не безгрешен, насколько я могу судить… Ты, синещекий вдовец, с твоей осязаемой живописью. В твоих словах я слышу злорадство, а ведь мы с тобой все-таки товарищи по несчастью, по крайней мере в отношении Пеперкорна».
– Занятный тип, бесспорно оригинальная фигура, – сказал вслух Ганс Касторп и сделал выразительный жест. – Крепыш, а вместе с тем мозгляк – вот какое он производит впечатление, по крайней мере произвел на меня за первым завтраком. Крепыш и мозгляк – этими двумя словами можно, пожалуй, определить в нем самое характерное, хотя, говорят, такие противоположности сочетать нельзя. Он, правда, рослый и широкоплечий, любит стоять расставив ноги, засунув руки в карманы брюк – прямые карманы, не наискось, как у вас или у меня и как принято в светских кругах, – и когда он так стоит и на голландский манер произносит все буквы, точно они небные, тогда про него невольно скажешь – вот здоровяк. Но бородка у него длинная, а реденькая, каждый волосок сосчитать можно, и глаза, как хотите, тоже маленькие и бледные, прямо бесцветные, и он напрасно таращит их, поэтому у него на лбу такие резкие складки – они сначала идут вверх от висков, потом горизонтально, через лоб, знаете, через его высокий багровый лоб, а надо лбом стоят седые, правда, длинные, но жидкие волосы, и глаза все равно маленькие, бледные, как бы он их ни таращил. Высокий глухой жилет придает ему сходство с пастором, хотя сюртук у него в клетку. Вот впечатление, которое он произвел на меня нынче утром.
– Да уж вижу, вы взяли его на мушку, – ответил Беренс, – и внимательно разглядели его, со всеми его своеобразными черточками, что, по-моему, очень благоразумно, ведь вам придется как-никак мириться с его присутствием.
– Да, видимо, нам придется, – сказал Ганс Касторп. Ему было предоставлено набросать примерный портрет нового пациента, и он справился со своей задачей удовлетворительно, в сущности и мы сделали бы не лучше. Правда, его наблюдательный пункт весьма этому благоприятствовал: ведь мы знаем, что за отсутствие Клавдии Ганс Касторп, постепенно пересаживаясь, оказался совсем рядом с «хорошим» русским столом. Оба стола стояли параллельно, но русский стол оказался немного ближе к двери на веранду; места Ганса Касторпа и голландца были у поперечной стороны столов, обращенной внутрь зала, так что они сидели как бы бок о бок, молодой человек чуть позади Пеперкорна, что облегчало ему наблюдение, тогда как место мадам Шоша было от него наискосок, и он видел ее несколько в профиль. К сделанному им талантливому наброску следовало бы еще прибавить, что Пеперкорн усы брил, нос у него был крупный и мясистый, рот тоже крупный, и губы столь прихотливо очерчены, что казались разорванными. Руки были, правда, довольно широкие, но с длинными холеными ногтями, напоминавшими острые копья; и когда он говорил, а говорил он почти не умолкая, хотя смысл его слов Ганс Касторп далеко не всегда улавливал, – Пеперкорн сопровождал свою речь усиливающими внимание слушателя жестами, тонко нюансируя их: они были изящны, изысканны, точны и отработаны, как жесты дирижера; то он изображал с помощью пальцев кружочек, сгибая указательный и сводя его с кончиком большого, то раскрывал плашмя ладонь – широкую, но с острыми ногтями, как бы успокаивая, смягчая, требуя чуткой бережности, чтобы потом разочаровать осторожно улыбающихся людей невнятицей столь энергично подготовленного высказывания, и даже не разочаровать, а превратить их ожидание в радостное удивление, ибо сила, многозначительность и тщательность подготовки в немалой степени возмещали то, что слушателями не схватывалось, давали сами по себе удовлетворение, были увлекательны, даже обогащали. Порой высказыванья не следовало вовсе. Он бережно клал руку на руку своего соседа слева, молодого болгарского ученого, или на руку мадам Шоша справа, затем вскидывал эту руку вверх и наискось, требуя тишины и внимания к тому, что намеревался сказать, и, высоко подняв брови, так что складки, бежавшие под прямым углом к наружным уголкам его глаз, углублялись, точно это было не лицо, а маска, смотрел мимо таким образом прикованного им к месту соседа на скатерть, причем его приоткрытые крупные, словно разорванные губы, казалось, вот-вот изрекут нечто необычайно важное. Но через минуту, вздохнув, словно давал команду «вольно», и так и не выполнив обещанного, возвращался к своему кофе, которое по его требованию должно было быть особенно крепким и подавалось в его собственном кофейнике.
Покончив с кофе, он обычно делал следующее: движением руки приостанавливал беседу и водворял тишину, подобно дирижеру, который заставляет умолкнуть пеструю разноголосицу инструментов и сдержанно, но властно, как бы собирает воедино внимание всего оркестра, чтобы начать исполнение; и так как крупная голова Пеперкорна, окруженная, точно пламенем, нимбом белых волос, бледные глаза, мощные складки на лбу, длинная борода и страдальчески изогнутый рот, вне всяких сомнений, внушали уважение, то присутствующие тут же подчинялись его властному жесту. Все затихали, улыбаясь смотрели на него, ждали, кое-кто с улыбкой ободряюще кивал ему. А он начинал довольно тихо:
– Господа… Хорошо. Кон-чено. Однако имейте в виду, и… ни на мгновенье не забывайте… что… Впрочем, об этом молчу. То, что мне следует высказать, и не столько это, сколько прежде всего главное, что мы обязаны… к нам обращено несокрушимое… повторяю и хочу всячески подчеркнуть это слово… несокрушимое требование… Нет, нет, господа, не то! Не то, чтобы, скажем я… было бы большой ошибкой думать, что я… Кон-чено, господа! Я уверен, что мы все единодушны… итак, приступим к делу!
В сущности, он ничего не сказал, но голова его была настолько внушительна, мимика и жесты до такой степени категоричны, проникновенны и выразительны, что слушателям, в том числе и Гансу Касторпу, казалось, будто они узнали нечто чрезвычайно важное, а те, кто понял, что в конце концов все же ничего конкретного и ясно выраженного в словах не последовало, не пожалели об этом. И мы спрашиваем себя: а что испытал бы глухой? Быть может, он огорчился бы, так как по выражению лиц судил бы о выраженном словами, и вообразил бы, что из-за своей глухоты оказался как бы духовно обойденным. Такие люди легко обижаются и склонны к недоверию. Некий молодой китаец, на другом конце стола, еще недостаточно владевший немецким, просто не понял того, что говорит Пеперкорн, но слышал его и видел, и выразил свое удовольствие, воскликнув «very well!»[153]. И даже зааплодировал.
А мингер Пеперкорн приступил «к делу». Он встал, выпятил широкую грудь, застегнул клетчатый сюртук поверх высокого жилета, – и в очертаниях его головы опять появилось что-то царственное. Он важно подозвал одну из «столовых дев» – оказалось, что это карлица, – и хотя девушка была очень занята, она тотчас послушалась зова и, держа в руках кофейник и молочник, остановилась подле его стула. Она тоже невольно улыбнулась ему и ободряюще закивала большой головой с широким старообразным лицом, почтительно завороженная взглядом его бледных глаз, смотревших на нее из-под мощных складок лба, его воздетой рукой. Желая изобразить кружочек, он свел указательный палец с большим, три остальных были подняты, и над ними выступали острые копья ногтей.
– Дитя мое, – сказал он, – хорошо. До сих пор – все хорошо. Вы малютка – но что мне до этого? Напротив! Я оцениваю это как нечто положительное, я благодарю бога за то, что вы такая, какая есть, и что характерный для вас малый рост… Ну, ладно! И от вас я тоже хочу получить… нечто маленькое-маленькое, но характерное. Прежде всего – как вас зовут?
Улыбаясь, она пробормотала что-то, потом сказала, что ее зовут Эмеренция.
– Великолепно! – воскликнул Пеперкорн, откинулся на спинку стула и простер руку к карлице. Он воскликнул это таким тоном, как будто хотел сказать: «Чего же вам еще надо! Все обстоит чудесно!» – Дитя мое! – продолжал он очень серьезно, даже строго. – Это превосходит все мои ожидания! Эмеренция – и вы произносите свое имя так скромно, однако это имя… и притом в сочетании с вашей наружностью… Словом, оно открывает самые богатые возможности, Оно заслуживает того, чтобы быть ему преданным, вложить все свои чувства… чтобы… в ласкательной форме… Вы, конечно, понимаете меня, дитя мое, в ласкательной форме звать вас Ренция, хотя и Эмхен звучало бы тепло – в данную минуту я решительно останавливаюсь на Эмхен. Итак, Эмхен, дитя мое, запомни: чуточку хлеба, любовь моя! Стой! Подожди! Чтобы не вышло недоразумения! Я вижу по твоему сравнительно большому лицу, что мне грозит опасность получить хлеб, Ренцхен, но нужен не печеный хлеб, нам его дают сколько угодно, во всяких видах. Нет, дай мне хлеб очищенный, ангел мой! Божий хлеб, прозрачный хлеб, в ласкательной форме – хлебушко, именно для услаждения души. Не знаю, понимаете ли вы смысл этого слова… Я предложил бы назвать его «подкрепительным», но тут грозит опасность, что это истолкуют в духе самого обычного легкомыслия… Кон-чено, Ренция, кончено и исключено. Нет, скорее в смысле нашего долга и святых наших обязательств… Например, хотя бы лежащего на мне долга чести… от всего сердца… Рюмку джина, возлюбленная, – порадоваться твоей характерной миниатюрности, хотел я сказать. Будь порасторопнее, Эмеренцхен. Скорей принеси мне рюмочку!
– Рюмку джина, чистого, – повторила карлица, сделала крутой поворот и, желая освободиться от стеснявших ее кувшина и кофейника, поставила их на стол Ганса Касторпа, возле его прибора, видимо не желая стеснять ими господина Пеперкорна. Потом тут же убежала и мигом принесла заказанное. Рюмка была налита так полно, что «хлебушко» стекал со всех сторон на тарелку. Он взял ее большим пальцем и безымянным, поднял и посмотрел на свет.
– Итак, – заявил он, – Питер Пеперкорн услаждает себя рюмочкой водки. – И он проглотил дистиллированную пшеницу. – Теперь, – продолжал он, – я смотрю на вас оживившимся взором. – Он взял лежавшую на скатерти руку мадам Шоша, поднес к губам и положил обратно, причем его рука еще некоторое время продолжала лежать на ней.
Своеобразная личность, по-своему значительная, но непонятная. Берггофское общество было чрезвычайно заинтриговано. Говорили, что он недавно покончил со своими колониальными коммерческими делами и вынул оттуда капитал. Рассказывали о его роскошном особняке в Гааге и вилле в Шевенингене. Фрау Штер называла его «денежным магнитом». (Магнатом! О невозможное создание!) Она сослалась на жемчужное ожерелье, которое мадам Шоша после своего возвращения надевала к вечернему туалету; по мнению Каролины Штер, оно едва ли могло быть свидетельством закавказской галантности ее супруга и, очевидно, имело своим источником «общую кассу». При этом Штер подмигнула, мотнула головой в сторону Ганса Касторпа и, пародируя его предполагаемое огорчение, горестно опустила уголки рта; болезнь и страдание не облагородили ее, и она воспользовалась его ложным положением, чтобы бесцеремонно поиздеваться над ним. Он же не терял самообладания. Он даже не без остроумия поправил вызванную ее невежеством ошибку. Она, видно, оговорилась, заметил он. Денежный магнат. Но магнит – тоже не плохо, ибо Пеперкорн, должно быть, весьма притягателен. Когда учительница Энгельгарт, невыразительно покраснев, криво улыбаясь и не глядя на него, спросила, нравится ли ему новый пациент, Ганс Касторп ответил, с успехом сохраняя полное хладнокровие: мингер Пеперкорн-де бесспорно выдающаяся индивидуальность, но потускневшая. Точность такого определения свидетельствовала о его объективности и душевном спокойствии и выбила учительницу из ее позиций. Что касается Фердинанда Везаля и его ехидного намека на непредвиденную комбинацию, в которой вернулась мадам Шоша, то Ганс Касторп доказал на деле, что можно бросить такой взгляд, который по своему совершенно явному смыслу ничем не уступает произнесенному слову; и взгляд, каким он смерил мангеймца, сказал «ничтожество», причем сказал настолько ясно, что не мог ни в какой мере быть истолкован иначе. Везаль понял и молча проглотил оскорбление, он даже кивнул, показав испорченные зубы, но с тех пор во время прогулок с Нафтой, Сеттембрини и Ферге уже не носил за Гансом Касторпом его пальто.
Ради бога, он отлично сам может нести пальто и даже с большим удовольствием, а если иногда и отдавал его, то делал это только из внимания к столь жалкому существу. Все же никто не стал бы отрицать, что эта совершенно непредвиденная комбинация уничтожила, свела на нет всю душевную подготовку Ганса Касторпа к свиданию с предметом его приключения в карнавальную ночь, больше того – она сделала эту подготовку ненужной, что и было унизительно.
А ведь он намеревался вести себя так деликатно, так благоразумно, он был далек от мысли допустить какую-либо бестактную пылкость и даже не помышлял о том, чтобы поехать за Клавдией на вокзал, и – какое счастье, что он не дал ходу этой мысли! Потом было вообще неизвестно, захочет ли женщина, которой болезнь давала такую свободу, признать за факт фантастические события одной давней ночи, маскарадной, иноязычной и полной грез, – захочет ли она даже, чтобы ей напоминали об этом! Нет, никакой навязчивости, никаких неуклюжих притязаний! Если его отношение к пленительной больной с раскосыми глазами по сути дела и перешло границы западноевропейского благоразумия и добрых нравов, – все же на людях следовало соблюдать вполне цивилизованные формы общения и даже изобразить некоторую забывчивость. Рыцарский поклон от стола к столу – и пока больше ничего. При случае учтиво подойти и непринужденно осведомиться о том, как ей жилось, как путешествовалось. А потом когда-нибудь, может быть, состоится и настоящее свидание, как награда за то, что он столь по-рыцарски обуздал себя.
Но из всех этих тонкостей, как мы уже сказали, ничего не вышло, ибо у него была отнята добровольность отречения, а следовательно, и заслуга. Присутствие мингера Пеперкорна уж слишком очевидно исключало всякую возможность какой-либо тактики, не основанной на крайней сдержанности. В вечер приезда Ганс Касторп видел со своего балкона санаторские сани, поднимавшиеся шагом по подъездной аллее; на козлах, рядом с кучером, сидел камердинер малаец, желтый человечек в пальто с меховым воротником и в цилиндре, а подле Клавдии, надвинув шляпу на глаза, незнакомец. В эту ночь Ганс Касторп почти не спал. А утром он без труда узнал фамилию сопровождавшего Клавдию господина, повергшего его в такое смятение; в придачу ему сообщили, что они заняли в первом этаже самые лучшие комнаты, и даже расположенные рядом. Затем наступил час первого завтрака, Ганс Касторп был вовремя на своем месте и с несколько побледневшим лицом стал ждать, что вот сейчас грохнет застекленная дверь. Однако этого не произошло. Клавдия вошла неслышно, ибо за ней притворил дверь мингер Пеперкорн – рослый, широкоплечий, высоколобый человек, в нимбе белых волос, полыхавших, точно пламя, вокруг мощной головы; он следовал за своей спутницей, которая, вытянув шею, обычной кошачьей походкой кралась к своему столу. Да, это была она, и она ничуть не изменилась. Вопреки программе, забыв обо всем на свете, Ганс Касторп охватил ее всю одним взглядом воспаленных от бессонницы глаз. Это были ее волосы, белокурые с рыжеватым отливом, без искусной завивки, а просто заплетенные в косу и уложенные вокруг головы, ее глаза, подобные «огонькам волчьих глаз в степи», ее линия затылка, ее губы, казавшиеся полнее, чем на самом деле, благодаря выступающим скулам, которые придавали щекам милую, чуть заметную впалость… «Клавдия!» – мысленно произнес он, задрожав, и взглянул на ее нежданного спутника не без насмешливого и упрямого вызова: закинув голову, Ганс Касторп как бы бросил его этому величественному персонажу – почти маске, не без тайной жажды посмеяться над его теперешним великодержавным правом владения, которое, если вспомнить кой-какие вполне определенные факты прошлого, представало в довольно сомнительном свете, действительно вполне определенные, а не что-то туманное и неясное, из области любительской мазни, вызывавшее когда-то и в нем тревогу. Сохранила мадам Шоша и привычку, перед тем как занять свое место, становиться перед залом во фронт, словно представляясь собравшемуся здесь обществу. Пеперкорн тоже подчинился этому обряду; пропустив ее вперед, он дал ей выполнить привычную церемонию, а затем уселся рядом с Клавдией в конце стола.
Из рыцарского поклона, посланного от стола к столу, ничего не вышло. Взгляд Клавдии, когда она «представлялась», скользнул по особе Ганса Касторпа и сидевшим рядом с ним и устремился в отдаленные области зала; то же повторилось и при следующей встрече в столовой; уже сколько раз, когда они сидели за столом, их глаза встречались, иногда мадам Шоша даже оборачивалась, но ее словно невидящий, равнодушный взгляд неизменно лишь касался его взгляда, почему рыцарский поклон становился особенно неуместным. Вечером, во время недолгого совместного пребывания пациентов, мадам Шоша и ее спутник обычно располагались в маленькой гостиной; они сидели рядом на диване, в кругу своих соседей по столу, и Пеперкорн, чье величественное и раскрасневшееся лицо особенно подчеркивалось пламенеющей белизной волос и бородки, допивал бутылку красного вина, которую успел начать за ужином. Выпивал он бутылку и за обедом, а иногда полторы и даже две, уже не говоря о «хлебном», с которого неизменно начинался его первый завтрак. Эта царственная личность, видимо, нуждалась в «услаждении» больше, чем принято. Он услаждал себя по нескольку раз в день не только с помощью вина, но и кофе исключительной крепости, и не только утром – он пил его из огромной чашки и днем, – не после обеда, а за обедом, вперемежку с вином. Ганс Касторп слышал не раз, как Пеперкорн уверял, что и то другое очень помогает при лихорадке и, помимо «услаждения», особенно целебно, в частности – при перемежающейся тропической лихорадке, которая на второй же день после приезда на несколько часов приковала его к постели и к комнате. Гофрат определил ее как квартану, ибо приступы чередовались примерно каждые четыре дня: сначала больного тряс озноб, потом начинался жар, потом тело покрывалось обильной испариной. От этого, говорил врач, у него и селезенка увеличена.
Vingt et un
[154]
Так прошло некоторое время, на наш взгляд – целые недели, может быть даже три или четыре, ибо доверять уточнениям и расчетам Ганса Касторпа мы не можем. Недели эти проскользнули незаметно, не вызвав никаких перемен, в нашем же герое они вызвали ставшую для него уже привычной упрямую злость против непредвиденных препятствий, вынуждавших его к сдержанности, которая, таким образом, отнюдь не являлась его заслугой; против основного препятствия, возникшего перед ним в лице Питера Пеперкорна, как тот себя именовал, когда собирался выпить рюмку водки, и главным образом – против присутствия этого по-царски величественного непонятного человека, действительно «мешавшего» Гансу Касторпу в гораздо более грубой форме, чем мешал в былые дни господин Сеттембрини. И вот между насупленными бровями молодого человека залегли упрямые, гневные складки, из-под которых его глаза пять раз в день созерцали некую возвратившуюся в «Берггоф» особу, причем он все-таки был рад, что может хоть созерцать ее и чувствовать пренебрежение к воплощенному в ее спутнике великодержавному настоящему, не подозревающему, какой сомнительный свет на это настоящее бросает прошлое.
Однажды вечером, без особой причины, как часто бывает в таких случаях, совместное пребывание пациентов в вестибюле и гостиных протекало оживленнее, чем обычно. Слушали музыку, цыганские песни, которые лихо исполнял на скрипке венгерский студент, затем гофрат Беренс, тоже заглянувший сюда на четверть часа с доктором Кроковским, предложил кому-то сыграть в басовых регистрах «Хор пилигримов», а сам, стоя рядом с пианино, отрывисто бил щеткой по струнам верхних ладов, пародируя скрипичные пассажи. Все очень смеялись, и гофрат удалился под гром аплодисментов, снисходительно покачивая головой, словно дивился собственной шаловливости.
Однако пациенты не расходились, кое-кто продолжал музицировать, не привлекая к этому всеобщего внимания, другие играли в домино и бридж, иные развлекались оптическими приборами или болтали, разбившись на группы. Сидящие за «хорошим» русским столом тоже смешались с теми, кто толпился в вестибюле и в музыкальной комнате.
Мингера Пеперкорна видели то там, то здесь, его нельзя было не видеть, его величественное чело вздымалось над всеми прочими пациентами, затмевало их царственной мощью и значительностью, и если людей вначале, быть может, притягивали только слухи о его богатстве, то очень скоро оказалось, что их сама по себе влечет эта яркая индивидуальность; улыбаясь, они обступили его, кивали ободряюще и самозабвенно. Он словно приворожил их своими бледными глазами и мощными складками лба, держал в постоянном напряжении выразительностью проработанных жестов своих рук с длинными ногтями, причем окружающие не испытывали ни малейшего разочарования от того, что слова, следовавшие за этими жестами, были бессвязны, неясны и даже сумбурны.
Если мы поищем в эти минуты Ганса Касторпа, то найдем его в читальне, в той самой комнате, где когда-то (это «когда-то» звучит довольно туманно – рассказчик, герой и читатель уже не совсем ясно себе представляют, когда именно) ему были открыты очень важные тайны относительно тех мер, которые должны содействовать человеческому прогрессу. Тут было тише; лишь несколько человек разделяло его уединение. Кто-то писал под висячей лампой у двойного письменного стола. Дама с двумя пенсне на носу сидела перед библиотечным шкафом и листала иллюстрированную книгу. Ганс Касторп устроился возле открытой двери в музыкальную комнату, спиной к портьере, в случайно оказавшемся здесь кресле – это было обитое плюшем кресло в стиле ренессанс, если читатель хочет наглядно себе представить себе всю картину – с высокой прямой спинкой и без ручек. Правда, молодой человек держал газету так, как ее держат, когда читают, но не читал, а, склонив голову набок, прислушивался к обрывкам прошитой разговором музыки, доносившейся из гостиной, причем его нахмуренные брови показывали, что и ее он слушает невнимательно и что его мысли следуют вовсе не путями музыки, а бредут тернистым путем разочарований, ибо наш герой, возложивший на себя бремя долгого ожидания, вынужден был признать, что, когда этому ожиданию в результате определенных событий пришел конец, сам он остался в дураках, поэтому его мысли и брели горькими путями упрямой злости, от которых было недалеко до решения бросить газету на это неудобное и случайно подвернувшееся кресло, выйти через дверь, ведущую в вестибюль, и, так как вечер испорчен, сменить общество больных на морозное одиночество на балкончике вдвоем с «Марией Манчини».
– А где же ваш двоюродный брат, месье? – спросил позади него, над самой его головой, чей-то голос. Для слуха Ганса Касторпа это был волшебный голос, как бы созданный ради того, чтобы своей сладостно-терпкой глуховатостью доставлять ему невыразимое блаженство, блаженство, доведенное до своей высшей степени, – это был голос, сказавший давно-давно: «С удовольствием. Только смотри, не сломай», – властный голос, голос судьбы; и если Ганс Касторп не ошибся, тот же голос осведомлялся сейчас об Иоахиме.
Он медленно опустил газету и слегка поднял лицо, так что голова его оказалась выше спинки кресла и он оперся на ее край только шейным позвонком. Молодой человек на миг даже закрыл глаза, но тут же снова открыл их и устремил взгляд куда-то вверх и вбок, туда, откуда доносился голос. Бедный малый! В выражении его лица было прямо что-то от провидца и сомнамбулы. Ему хотелось, чтобы его спросили еще раз, но она не спросила. Поэтому он даже не был уверен, стоит ли она еще позади его кресла, когда, после довольно долгой паузы, со странным опозданьем ответил вполголоса:
– Он умер. Вернулся на равнину, пошел служить в армию и умер.
Он сам заметил, что слово «умер» оказалось первым значительным словом, прозвучавшим между ними. Заметил он также, что она, не зная достаточно его язык и желая высказать свое сочувствие, выбирает слишком легковесные выражения: продолжая стоять за ним, над ним, она ответила:
– Увы! Как жаль. Совсем умер и похоронен? И давно?
– Не так давно. Его мать увезла тело на родину. Он оброс бородой, как на войне. В его честь над могилой дали три залпа.
– И он это заслужил. Он был очень храбрый. Гораздо храбрее, чем другие люди, некоторые другие…
– Да, он был храбрый. Радамант вечно упрекал его за чрезмерное усердие и пыл. Но тело привело его к другому. Иезуиты называют это rebellio carnis. Он всегда был обращен к телесному, но в достойном смысле слова. Однако его тело дало проникнуть в себя недостойному началу и обмануло его чрезмерный пыл. Впрочем, нравственнее потерять себя и даже погибнуть, чем себя сберечь.
– Я уж вижу, вы по-прежнему философствуете без толку. Радамант? Кто это?
– Беренс. Так его называет Сеттембрини.
– А, Сеттембрини, знаю. Тот итальянец… Я его не любила. Слишком мало в нем человеческого. (Голос произнес «человеееческого», лениво и мечтательно растягивая звук «е».) Он смотрел на всех свысока (она сделала ударение на втором слоге). Его уже тут нет? Я глупа. Я не знаю, кто это – Радамант.
– Нечто гуманистическое. А Сеттембрини переехал. Мы все это время отчаянно философствовали, он, Нафта и я.
– А кто это – Нафта?
– Его противник.
– Раз он противник, мне хотелось бы с ним познакомиться. Но разве я не говорила, что ваш кузен умрет, если сделает попытку стать на равнине солдатом?
– Да, ты это предчувствовала.
– Что это вам вздумалось?
Наступило продолжительное молчание. Он, видимо, упорствовал. Он ждал, прижавшись шейным позвонком к прямой спинке кресла, и глядел перед собой глазами провидца, ожидая, когда опять раздастся голос, и снова не уверенный, что она стоит позади него, страшась, что отрывочная музыка в гостиной могла заглушить ее удаляющиеся шаги. Наконец голос прозвучал опять:
– А месье даже не поехал на похороны кузена?
Он ответил:
– Нет, я здесь с ним простился, перед тем как закрыли гроб, он уже начал улыбаться. Ты себе представить не можешь, до чего у него был холодный лоб.
– Ну вот, опять! Разве так разговаривают с дамой, с которой едва знакомы!
– Что ж, прикажешь говорить по-гуманистически, а не по-человечески?
(Невольно и как-то сонно он растянул это слово, точно потягивался и зевал.)
– Quelle blague![155] Вы все время жили здесь?
– Да. Я ждал.
– Чего?
– Тебя.
Над его головой раздался смех, и, продолжая смеяться, она проговорила:
– Дурачок! Меня! Просто тебя не отпустили!
– Неправда, Беренс один раз меня отпустил, он был в гневе. И все-таки это был бы самовольный отъезд. Кроме старых и зарубцевавшихся следов – я болел еще в школьном возрасте, ну ты же знаешь, – у меня есть и новый очажок, который нашел Беренс, из-за него и температура.
– Все еще температура?
– Да, небольшая. Почти постоянно. Иногда перемежается с нормальной. Но это не перемежающаяся лихорадка.
– Des allusions?[156]
Он промолчал. Брови над его глазами провидца нахмурились. Через некоторое время он спросил:
– А где ты побывала?
За ним стукнули рукой по спинке кресла.
– Mais c'est un sauvage![157] Где я побывала? Везде. В Москве (голос произнес Маааскве, с такой же ленивой протяжностью, как «человеееческого»), в Баку, на немецких курортах, в Испании.
– О, в Испании! Ну и как?
– Так себе. Путешествовать там плохо. Жители – наполовину мавры. Кастилия какая-то сухая, окостеневшая. А Кремль прекраснее, чем тот замок или монастырь, ну у подножия горной цепи…
– Эскуриал.
– Да, замок Филиппа. Какой-то он бесчеловееечный, этот замок. Мне гораздо больше понравился каталонский народный танец, сардана, под волынку. Я вместе с ними танцевала. Все берутся за руки и ведут хоровод. Площадь полна танцующими, c'est charmant[158]. Это очень по-человечески. Я купила себе синюю шапочку, ее носят там все мужчины и мальчики из народа, вроде фески, называется бойна. Я надеваю ее во время лежания, и вообще. Месье решит, идет ли она мне.
– Какой месье?
– А вот этот, в кресле.
– Я думал: мингер Пеперкорн.
– Он уже решил. Он говорит, что она идет мне замечательно.
– Он это сказал? Сказал всеми словами? Договорил фразу до конца, так что можно было все понять?
– Ах, мы, видимо, не в духе. Нам хочется быть злым, язвительным. Мы пытаемся поиздеваться над людьми, которые гораздо великодушнее, лучше и человечнее, чем мы сами с нашими… avec son ami bavard de la Mediterranee, son maitre grand parleur…[159] Но я не позволю, чтобы моих друзей…
– У тебя еще сохранился мой внутренний портрет? – печально прервал он ее.
Она рассмеялась:
– Надо будет поискать.
– А твой я ношу вот здесь. Кроме того, на моем комоде есть маленький мольберт, я на ночь ставлю его туда и…
Ганс Касторп не договорил. Перед ним вырос Пеперкорн. Разыскивая свою спутницу, он вошел через дверь, завешенную портьерой, и теперь стоял перед креслом того, кто сидел к ней спиной и с кем она, видимо, оживленно болтала, – не стоял, а высился и притом у самых ног Ганса Касторпа, и тот, несмотря на свое сомнамбулическое состояние, тут же сообразил, что полагается вскочить; он попытался встать на ноги между обоими, но это было трудно сделать, поэтому он соскользнул с сиденья боком, в результате чего действующие лица этой сцены как бы образовали треугольник с креслом посередине.
Мадам Шоша выполнила требование воспитанного Запада и представила «этих господ» друг другу. Старый знакомый, сказала она о Гансе Касторпе, еще с тех времен, когда она была здесь в последний раз. Присутствие господина Пеперкорна не нуждалось в объяснении. Она назвала его, и голландец из-под своих, как у идола, задумчиво-углубленных арабесок на лбу и висках устремил взгляд бледных глаз на молодого человека, протянул ему руку, широкая тыльная сторона которой была усеяна веснушками; «капитанская рука, если бы не копья ногтей», – решил Ганс Касторп. Впервые он оказался под непосредственным воздействием мощной индивидуальности Пеперкорна (в его присутствии всегда приходило на ум именно это слово – индивидуальность, и человек вдруг начинал понимать, что такое индивидуальность, больше того – он убеждался, что индивидуальность иначе и выглядеть не может), и Ганс Касторп, при его хрупком юношеском возрасте, чувствовал себя как бы придавленным тяжестью этих плечистых багроволицых шестидесяти лет, этого старика в белом пламени волос, со страдальчески-разорванным ртом и острой бородкой, длинной и узкой, спускавшейся на глухой, как у пастора, жилет. Впрочем, Пеперкорн был сама любезность.
– Сударь… – сказал он, – …весьма. Нет, разрешите мне – весьма! Сегодня вечером я знакомлюсь с вами, знакомлюсь с внушающим доверие молодым человеком. Я делаю это вполне сознательно, сударь, от всей души. Вы мне нравитесь, сударь; я… прошу покорно! Кончено. Вы мне нравитесь.
Возразить было нечего. Проработанные жесты голландца были слишком категоричны. Ганс Касторп пришелся ему по вкусу. И Пеперкорн сделал из этого соответствующие выводы, он выразил их в форме намеков, а потом они в устах его спутницы получили разъясняющие и дополняющие уточнения.
– Дитя мое, – сказал он, – …все хорошо. А что, если бы… Прошу понять меня правильно. Жизнь коротка, и наши возможности пользоваться тем, что она предлагает нам… увы, таковы факты, дитя мое. Закон. Неумолимый. Словом, дитя мое, словом, короче говоря… – Он застыл, сделав выразительный призывающий жест, как бы говоря, что снимает с себя всякую ответственность, если, несмотря на его указания, произойдет ошибка.
Но мадам Шоша, видимо, привыкла с полуслова угадывать направление его желаний. Она сказала:
– Почему бы и не побыть еще вместе, поиграем в карты, разопьем бутылку вина. Что же вы стоите? – обратилась она к Гансу Касторпу. – Пошевеливайтесь. Не будем же мы сидеть втроем, надо пригласить людей. Кто еще остался в гостиной? Зовите всех, кого найдете. Приведите нескольких друзей с балконов. А мы пригласим доктора Тин-фу от нашего стола.
Пеперкорн потер руки.
– Вот именно, – отозвался он. – Превосходно. Спешите, молодой друг! Повинуйтесь! Пусть соберется компания. Мы будем играть и есть и пить. И почувствуем, что мы… Вот именно, молодой человек!
Ганс Касторп поднялся в лифте на второй этаж. Он постучался к А.К.Ферге, а тот, со своей стороны, вытащил из их шезлонгов Фердинанда Везаля и господина Альбина, лежавших на нижней галерее. Прокурора Параванта и чету Магнус застали еще в вестибюле, а фрау Штер и фрейлейн Клеефельд – в гостиной. И вот под средней люстрой раскрыли большой карточный стол, к нему пододвинули стулья и столики для закусок. Мингер приветствовал каждого, кто присоединялся к его компании, любезным взглядом бледных глаз из-под внимательно приподнятых арабесок на лбу. Вокруг стола уселись двенадцать человек, Ганс Касторп оказался между величественным хозяином и Клавдией Шоша; на стол положили карты и фишки, ибо сообща было решено сыграть несколько партий в vingt et un, а Пеперкорн, с присущей ему торжественностью, заказал вызванной им карлице белого шабли 1906 года, для начала – три бутылки, и к нему сладостей, что найдется – сушеных фруктов, конфет. Потирая руки, он приветствовал появление вкусных вещей и пытался также выразить свои ощущения отдельными фразами, которые многозначительно обрывал, и эти ощущения ему действительно удалось выразить, поскольку за него говорила вся его незаурядная личность. Он положил обе руки на руки своих соседей и, подняв указательный палец с ногтем в виде копья, потребовал самого пристального внимания – его охотно послушались – и к восхитительному золотистому цвету вина в высоких бокалах, к сахару, выступавшему на ягодах винограда «малага», и к особому сорту маленьких соленых крендельков, посыпанных маком, которые назвал божественными, причем любое возражение, которое ему могли сделать против столь смелого определения, тотчас подавлял категорическим, проработанным жестом. Он первый стал держать банк; но вскоре уступил господину Альбину, ибо, если гости его верно поняли, обязанность банкомета мешала ему наслаждаться всеми подробностями этого вечера.
Азартная игра была для него, видимо, делом второстепенным, – с его точки зрения и игра-то была пустяковая: самой маленькой ставкой, по его предложению, объявили пятьдесят сантимов; но для многих участников и это оказалось слишком много; прокурор Паравант и фрау Штер то краснели, то бледнели, причем особенно извивалась в муках эта дама, когда перед ней встал вопрос, прикупать ли при восемнадцати. Она пронзительно взвизгивала, если господин Альбин хладнокровно бросал ей привычным жестом игрока такую карту, где число очков подрывало в корне все ее дерзкие планы; а Пеперкорн от души смеялся.
– Визжите, визжите, сударыня! – сказал он. – Ваш визг пронзителен и полон жизни, он исходит из глубочайшей… Пейте же, подкрепитесь для новых… – И он налил ей, налил своим соседям и себе, заказал еще три бутылки, чокнулся с Везалем и с опустошенной фрау Магнус, ибо ему казалось, что они больше всего нуждаются в подбадривании. Лица быстро раскраснелись, запылали от поистине чудодейственного вина, – за исключением доктора Тин-фу, он был желт по-прежнему, и на фоне этой желтизны особенно выделялись агатовые узкие глазки, поставленные косо, как у крысы; неслышно хихикая, он делал очень крупные ставки, и ему бессовестно везло. Другие тоже не хотели отставать. Прокурор Паравант решил бросить вызов судьбе и с затуманенным взглядом поставил десять франков на такую карту, которая сулила очень относительные успехи, а затем, побелев от волнения, перекупил и забрал двойной выигрыш, так как господин Альбин, напрасно понадеявшись на полученного им туза, удвоил свои ставки. Все это были потрясения, которые распространялись не только на тех, кого они касались непосредственно. В них участвовали все собравшиеся, и даже господин Альбин, хотя холодной осмотрительностью он мог соперничать с любым крупье из Монте-Карло, где, по его словам, был раньше завсегдатаем, – даже он не очень-то владел своими чувствами.
Ганс Касторп тоже играл по большой; а также Клеефельд и мадам Шоша. Потом перешли к «турам»; играли в «железную дорогу», в штос, в опасный «диферанс». Ликование и отчаянье, взрывы ярости и истерические приступы смеха, которые вызывала у играющих озорная удача, взвинчивая их нервы хмелем возбуждения, были искренни и подлинны – именно так звучали бы они среди перипетий самой жизни.
Однако не только вино и игра, и в значительной мере даже не они создавали у присутствующих особый подъем: эти пылающие лица, этот блеск расширенных глаз, то, что можно было назвать судорожной напряженностью словно затаившего дыханье маленького кружка, его почти мучительной сосредоточенностью на данном, переживаемом мгновении, – все это скорее объяснялось присутствием властной натуры, яркой индивидуальности, объяснялось влиянием мингера Пеперкорна, ибо он держал бразды правления в своей столь богатой жестами руке и своим торжественным лицом, бледным взглядом и монументальными складками на лбу, своей речью и выразительной пантомимой заставлял людей подчиняться велениям данного часа. Что говорил он? Нечто весьма несуразное, и тем более несуразное, чем больше он пил. Но гости ловили каждое слово, удивленно подняв брови, улыбаясь и кивая, смотрели на его указательный и большой пальцы, которые он соединил округлым движением, словно что-то уточняя, на остальные пальцы, торчавшие, точно поднятые копья, на его царственный лик с живой игрой выражений, и, не противясь, отдавались восторженным чувствам, намного превосходившим ту преданность, на какую эти люди считали себя способными. Эта преданность их так обуревала, что иные были не в состоянии выдерживать наплыва чувств – фрау Магнус даже стало нехорошо. Она вот-вот готова была упасть в обморок, однако упорно не желала уйти к себе в комнату и удовольствовалась тем, что прилегла на шезлонг, ей тут же освежили лоб мокрой салфеткой, и она, немного отдохнув, снова присоединилась к остальным.
По мнению Пеперкорна, причина такого упадка сил – в том, что она слишком мало поела. Он и высказал эту мысль, многозначительно обрывая фразы и воздев указательный палец. Надо поесть, хорошенько поесть, чтобы отвечать требованиям жизни, пояснил он и заказал для всех подкрепляющие кушанья. Было подано щедрое угощение – холодное мясо, язык, гусиная грудинка, жаркое, колбаса и ветчина – целые блюда, полные жирных и лакомых кусков, украшенных шариками масла, редиской и петрушкой, делавшими их похожими на пышные клумбы. Но хотя присутствующие, невзирая на недавний обычный ужин, об обилии которого нечего и говорить, принялись немедля уничтожать поданное угощение, мингер Пеперкорн, съев два-три куска, заявил, что все это – чепуха, притом с таким гневом, который показывал, какие опасные неожиданности таит в себе его властная натура. Он прямо-таки разъярился, когда кто-то рискнул взять закуску под свою защиту; его массивное лицо налилось кровью, он грохнул кулаком по столу и заявил, что все это дрянь, после чего гости растерянно замолчали, ибо угощал-то в конце концов он, он был хозяином и имел право судить о своих дарах.
Впрочем, как ни трудно было объяснить этот взрыв непонятного гнева, он удивительно шел мингеру Пеперкорну, и Ганс Касторп не мог этого не признать. Гнев ничуть не безобразил его, не умалял и производил в своей непонятности, которую никто не осмеливался даже втайне связать с обилием выпитого вина, столь величественное, царственное впечатление, что все окончательно оробели и уже не решались взять хотя бы еще один кусочек мяса. Успокоила своего спутника мадам Шоша. Она погладила его широкую капитанскую руку, после удара кулаком оставшуюся лежать на столе, и вкрадчиво заметила, что можно ведь заказать и что-нибудь другое, какое-нибудь горячее блюдо, если он хочет и если повар согласится.
– Дитя мое, – ответил он, – хорошо. – И, полный достоинства, без всяких усилий перешел от ярости к спокойствию и поцеловал Клавдии руку. Пусть подадут яичницу, на всех, – вкусную яичницу с зеленью, чтобы иметь силы отвечать требованиям жизни. И послал на кухню вместе с заказом сто франков, желая поощрить персонал, который уже кончил работу.
К Пеперкорну полностью вернулось благодушное настроение, когда внесли несколько подносов с яичницей. Она была канареечно-желтого цвета, посыпана зеленью и издавала пресноватый теплый запах яиц и масла. Все тут же занялись ею, не исключая и самого Пеперкорна, притом наблюдавшего, как его гости наслаждаются едой. Отрывистыми словами и настойчивыми выразительными жестами он как бы принуждал каждого оценить по достоинству и даже с особым вниманием эти дары божьи. Потом велел подать на круг голландского джина и заставил всех выпить прямо-таки с благоговением прозрачную влагу, от которой исходил здоровый запах жита с легкой примесью можжевельника.
Ганс Касторп закурил. Потянулась к папиросам с мундштуком и мадам Шоша, для удобства она положила перед собой на стол портсигар, в котором держала их, портсигар был русский, лакированный, с изображением мчащейся тройки; Пеперкорн не возражал против того, что соседи предаются этому удовольствию, но сам не курил никогда. Насколько можно было его понять, он относил употребление табака к числу слишком утонченных наслаждений, которые как бы отнимают величие у скромных и простых даров и требований жизни и лишают наши чувства возможности с должной силой отзываться на них.
– Молодой человек, – обратился он к Гансу Касторпу, точно приковав его к месту взглядом бледных глаз и проработанным жестом, – молодой человек… Простое! Священное! Хорошо! Вы понимаете меня! Бутылка вина, горячая яичница, рюмка очищенной, – вкусим сначала это наслаждение, исчерпаем его до дна, в полной мере отдадим ему должное, до того как… безусловно, молодой человек. Ясно. Я знавал людей – мужчин и женщин – кокаинистов, любителей гашиша, морфинистов, – и вот, милый друг, – хорошо, милый друг! Превосходно! Пусть! Не будем судить и осуждать. Но перед тем, что должно предшествовать, простым, великим, возникшим из божественных первооснов, эти люди… Ясно, мой друг… Кончено. Осуждены. Отвергнуты. Они этому простому всем обязаны и остались перед ним в долгу! Как бы вас ни звали, молодой человек… Хорошо, я знал, но позабыл… Не в кокаине, не в опии, не в пороке, как таковом, состоит порочность. Грех, который не простится, состоит в…
Он умолк. Обернувшись к соседу, он точно застыл в выразительном мощном молчании, рослый и широкий, воздев указательный палец, приоткрыв неровно разорванный рот, с нагой и красной, слегка порезанной бритвой верхней губой, напряженно приподняв горизонтальные тяжелые складки лысого лба, окруженного пылающим нимбом белых волос, расширив маленькие бледные глаза, и в них Ганс Касторп вдруг увидел вспышку отчаянной боязни перед преступлением, перед великим грехом, перед непростительным бессилием, на которые голландец намекнул; теперь он молча, со всей волшебной силой не выявившей себя натуры властителя, приказывал понять их грозный ужас. Ужас, подумал Ганс Касторп, объективный ужас, но в нем есть и что-то личное, касающееся его самого, этого царственного человека, – страх, но не мелкий и ничтожный страх, в этих глазах вспыхнул на миг какой-то панический страх; однако по своей природе Ганс Касторп был настолько склонен к почтительности, что, невзирая на все имевшиеся у него основания для враждебных чувств к величественному спутнику мадам Шоша, это наблюдение не могло не потрясти его.
Он опустил глаза и кивнул, желая доставить царственному соседу удовольствие от сознания, что его поняли.
– Вы, вероятно, правы, – сказал он. – Может быть, в самом деле это грех и признак неполноценности, если человек предается всяким утонченным наслаждениям, сначала не отдав дань простым благам жизни, которые так возвышенны и святы. Если я не ошибся, то именно таково ваше мнение, мингер Пеперкорн, и хотя мне самому эта мысль еще не приходила в голову, но сейчас, когда вы ее высказали, я готов согласиться с вами. Впрочем, простым и здоровым жизненным благам редко воздают должное, хотя они того заслуживают. Для этого большинство людей, безусловно, слишком инертны и невнимательны, слишком безответственны и душевно изношены, чтобы оценить их, все это, видимо, так и есть.
Властитель был очень доволен.
– Молодой человек, – ответствовал он, – превосходно. Разрешите же мне… Ни слова больше. Я вас прошу чокнуться со мной и выпить до дна, рука об руку. Это еще не значит, что я предлагаю вам перейти на братское «ты» – я хотел было, но все-таки удержался, решив, что это было бы, пожалуй, преждевременно. Весьма вероятно, что я в самом ближайшем будущем вам и… Можете не сомневаться! Но если вы желаете и настаиваете на том, чтобы мы теперь же…
Ганс Касторп жестом выразил свое согласие с предложенной Пеперкорном отсрочкой.
– Хорошо, мальчуган. Хорошо, товарищ. Неполноценность – хорошо. Хорошо и страшно. Безответственность – очень хорошо. Блага – не хорошо! Требования! Священные женские требования жизни к мужской чести и силе…
Ганс Касторп неожиданно обнаружил, что Пеперкорн отчаянно пьян. Но даже опьянение не казалось в нем чем-то низменным и постыдным, не бесчестило его, но придавало его величественному облику что-то грандиозное, вызывающее благоговенье. Да ведь сам Вакх, думал Ганс Касторп, будучи пьян, опирался на своих восторженных последователей, не теряя при этом ни капли своей божественности, ведь все дело в том, кто пьян, крупная индивидуальность или ничтожество. Ганс Касторп усиленно старался, чтобы в нем ни на чуточку не убавилось почтения к подавляющей личности спутника Клавдии Шоша, проработанные жесты которого уже стали вялыми, а язык начал заплетаться.
– Ну, побратим, – сказал Пеперкорн в непринужденном и гордом хмелю, откидываясь назад мощным телом, кладя вытянутую руку на стол и тихонько постукивая по нему вялым кулаком… – в будущем… в близком будущем, хотя благоразумие пока еще… хорошо. Ясно. Жизнь, молодой человек, это женщина, распростертая женщина, пышно вздымаются ее груди, словно два близнеца, мягко круглится живот между выпуклыми бедрами, у нее тонкие руки, упругие ляжки и полузакрытые глаза, и она с великолепным и насмешливым вызовом требует от нас величайшей настойчивости и напряжения всех сил нашего мужского желания, которое может одержать победу, а может быть и посрамлено, – посрамлено, понимаете ли вы, молодой человек, что это такое? Поражение чувства перед лицом жизни, вот где неполноценность, для нее не может быть ни прощения, ни жалости, ни пощады, напротив, ее отвергают без снисхождения, с ироническим смехом, и тогда все кончено, молодой человек, и отрезано… Стыд и бесчестие – слишком слабые выражения для этого крушения и банкротства, для этого ужасного позора. Это – финал, адское отчаяние. Страшный суд…
По мере того как голландец говорил, он все больше откидывал назад свое могучее тело, а царственное чело все ниже склонялось на грудь, словно он готов был заснуть. Но с последним словом он замахнулся вялым кулаком и уронил его на стол с такой силой, что хилый Ганс Касторп, чьи нервы и без того были взвинчены игрой, вином и необычностью этого вечера, испуганно вздрогнул и с почтительным страхом взглянул на разгневанного властителя. «Страшный суд»! Как подходило ему это выражение! Ганс Касторп не помнил, чтобы кто-нибудь когда-нибудь употреблял в его присутствии эти слова – только на уроках закона божьего. И сейчас это не было случайностью, подумал он, ибо кому из всех известных ему людей больше пристали подобные громовые слова, у кого были соответствующие им масштабы, если ставить этот вопрос по-настоящему? Их мог бы при случае произнести недомерок Нафта; по это было бы узурпацией и пародией, тогда как в устах Пеперкорна эти громовые слова прозвучали со всей яростно гремящей мощью трубного гласа, – словом, приобрели все свое библейское величие. «Боже мой, вот это индивидуальность, – в сотый раз восклицал он про себя. – Наконец-то я столкнулся с исключительным человеком – и он оказался спутником Клавдии!» Основательно захмелев и сам, он вертел одной рукой свою рюмку, другую засунул в карман и прищурил один глаз, чтобы защитить его от дыма папиросы, которую держал в уголке рта. И разве не подобало ему молчать, после того как призванный говорить произнес громовые слова? К чему тут его тощий голос? Но, приученный к дискуссиям своими демократическими воспитателями – оба были по натуре демократами, хотя один из них и противился такому определению, – Ганс Касторп все же поддался соблазну и пустился в один из своих чистосердечных комментариев, сказав:
– Ваши замечания, мингер Пеперкорн (что это еще за слово «замечания»? «Замечания» по поводу Страшного суда?), заставляют мои мысли еще раз вернуться к тому, что мы с вами установили относительно порока, а именно, что порок – это презрение к простейшим, как вы метко выразились, – к священным, или, как мне хотелось бы выразиться, к классическим дарам жизни, так сказать, к дарам жизни большого масштаба, и предпочтение им даров более поздних, выдуманных, утонченных, наслаждению которыми «предаются», как выразился один из нас, а ведь великим дарам жизни себя «посвящают», им «воздают хвалу». Но в этом же скрыто и оправдание – извините меня, я, по натуре, имею склонность оправдывать, хотя, если оправдываешь, о каких масштабах может идти речь, я это ясно ощущаю, в этом и состоит оправдание порока и именно постольку, поскольку источником порока является неполноценность, как вы ее назвали. Об ужасах неполноценности вами высказаны мысли таких масштабов, что, прямо говорю, я поражен. Но мне кажется, порочный человек все-таки весьма восприимчив к этим ужасам, он вполне признает их, ибо именно бессилие его чувств в отношении классических даров жизни и толкает его к пороку, и тут нет оскорбления жизни или может не быть, это может предстать, наоборот, как прославление этих даров, поскольку всякая утонченность связана с хмелем и возбуждением, то есть со stimulantia, она служит для повышения силы наших чувств, мы видим, что и тут цель и смысл – все-таки сама жизнь, любовь к чувствам, стремление неполноценного к чувству… я хочу сказать…
Что он нес? Разве не достаточно было той демократической дерзости, которую он позволил себе, сказав «один из нас», ставя на одну доску такую крупную индивидуальность, как Пеперкорн, и себя самого? Или он черпал мужество для этой дерзости из прошлых времен, которые придавали теперешним правам владения нечто довольно сомнительное? Или он уже до того зарвался, что счел нужным пуститься в совершенно неприличный анализ порока? А теперь вот и выкручивайся, ибо ясно, что он вызвал к жизни какие-то грозные силы.
Пока его гость говорил, мингер Пеперкорн продолжал сидеть, откинув плечи и свесив голову на грудь, и вначале казалось, что слова Ганса Касторпа едва ли доходят до его сознания. Но постепенно, по мере того как молодой человек все больше сбивался, голландец начал отделяться от спинки стула, он приподнимался все выше и выше, пока не выпрямился во весь рост, его величественное чело побагровело, лобные арабески сдвинулись вверх и напряглись, бледные глазки расширились, в них вспыхнула угроза. Что в нем назревало? Должно быть, такая вспышка гнева, в сравнении с которой предыдущая казалась лишь выражением легкого неудовольствия. Нижней губой мингер яростно уперся в верхнюю, так что углы рта опустились, а подбородок выпятился, и медленно стал поднимать лежавшую на столе правую руку – сначала до уровня головы, затем выше, сжав эту руку в кулак, царственно замахиваясь для сокрушительного удара, которым он намеревался сразить болтуна-демократишку, а тот – перетрусил, и хоть и был восхищен развертывающимся перед ним зрелищем столь царственного гнева, но с трудом скрывал свой страх и желание удрать. С торопливой предупредительностью Ганс Касторп сказал:
– Ну, разумеется, я неудачно выразился. Все это вопрос масштабов, и только. То, что грандиозно, не назовешь порочным. Порок не может быть грандиозен. Утонченностям большие масштабы не присущи, но человечеству, в его стремлении к чувству, дано искони некое вспомогательное средство, опьяняющее и воодушевляющее, оно само принадлежит к числу классических даров жизни, ему, так сказать, присущи простота и святость, а потому в нем самом и нет тяготения к пороку, это вспомогательное средство больших масштабов – вино, дар богов человечеству, как утверждали еще древние гуманистические народы, филантропическое изобретенье некоего бога, с которым, позвольте мне это отметить, связано даже развитие цивилизации. Ведь мы знаем, что благодаря уменью выращивать и давить виноград люди перестали быть варварами, обрели культурные нравы, и до сих пор народы, в чьих странах растет виноград, считаются или считают себя культурнее, чем те, у кого нет виноделия, например, кимвры[160], что, несомненно, заслуживает внимания. Ибо это показывает, что культура – вовсе не плод рассудка и ясно выраженной трезвости ума, она скорее связана с воодушевлением, с хмелем и услажденностью чувств; разве – разрешите мне дерзкий вопрос – и вы не смотрите на это так же?
Ну и хитрец этот Ганс Касторп, или, как выразился с непринужденностью литератора господин Сеттембрини, – малый себе на уме! Неосторожный и даже дерзкий в общении с крупными индивидуальностями – и вместе с тем умеющий в случае чего ловко выпутаться из беды. Попав в опаснее положение, он, во-первых, сымпровизировал блестящую речь в защиту пьянства, затем, как бы попутно, свернул на культуру, – говоря по правде, в первобытно устрашающей позе мингера Пеперкорна ее ощущалось весьма мало, – и наконец заставил его ослабить напряженность этой позы и понять ее неуместность, задав величественно застывшему голландцу вопрос, на который невозможно было отвечать с занесенным кулаком.
И Пеперкорн действительно смягчился в своем допотопном лютом гневе: он медленно опустил руку на стол, кровь отлила от головы. «Ну, твое счастье!» – как бы говорило его лицо, на котором можно было прочесть точно позабытую на нем и лишь условную разгневанность; гроза миновала, а тут еще вмешалась мадам Шоша, указавшая своему спутнику на то, что общее веселье нарушено и настроение у присутствующих падает.
– Милый Друг, вы забываете о своих гостях, – сказала она по-французски. – Вы занялись только вашим соседом, с которым вам, бесспорно, надо выяснить какие-то важные вопросы. Но тем временем игра почти прекратилась, и, боюсь, гостям стало скучно. Может быть, мы закончим вечер?
Пеперкорн тотчас повернулся к сидевшим за столом. Она была права: деморализация, равнодушие, отупение уже овладевали гостями, и они развлекались всякими шалостями, точно школьники, оставшиеся без надзора. Несколько человек дремали.
– Господа! – воскликнул Пеперкорн и поднял указательный палец – этот палец, острый, словно копье, казался занесенной саблей или боевым знаменем. Это был как бы призыв предводителя «За мной, кто не трус!», которым он останавливает начавшееся бегство. И в самом деле – вмешательство такого человека тотчас оказало свое действие: присутствующие оживились, приободрились. Они взяли себя в руки, раскисшие лица опять словно отвердели, гости, улыбаясь, закивали, глядя в бледные глаза властного хозяина, над которыми высился лоб с прямыми идольскими складками. Он снова точно всех заворожил, заставил опять служить ему, изобразив кружок с помощью указательного и большого пальца и подняв рядом с ним остальные, с острыми копьями ногтей. Точно предостерегая и отстраняя, простер он свою капитанскую руку, и его страдальчески-разорванный рот произнес слова, отрывистость и туманность которых благодаря авторитету его личности оказали на окружающих магическое действие.
– Господа… Хорошо. Плоть, господа, с ней теперь… покончено. Нет – позвольте мне… «слаба», как сказано в писании, то есть склонна, готова подчиниться требованиям… Но я апеллирую к вашему… Словом, господа, я а-пел-лирую. Вы скажете мне: сон. Хорошо, господа, отлично, превосходно. Я люблю и уважаю сон. Я люблю и чту его глубокую, сладостную, целящую отраду. Сон относится к… как вы сказали, молодой человек?.. к классическим дарам жизни первой, первейшей… простите – высочайшей… господа. Однако обратите внимание и вспомните: Гефсимания!..[161] «И взял с собой Петра и обоих сынов Зеведеевых.[162] И говорит им: побудьте здесь и пободрствуйте со мной». Помните? «И приходит к ученикам, находит их спящими и говорит Петру: не могли вы один час пободрствовать со мною?» Сильно, господа. Пронзает. Хватает за сердце. «И, пришедши, находит их спящими; ибо глаза у них отяжелели. И говорит им: вы все еще спите и почиваете? Вот приспел час…» Господа, это… это ранит, это раздирает сердце.
Все были действительно взволнованы до глубины души и пристыжены. Он же сложил руки, примяв узкую бородку, и склонил голову набок. Взгляд его бледных глаз померк, когда разорванный рот произносил слова одинокой и смертельной скорби; фрау Штер всхлипнула, фрау Магнус шумно вздохнула. Прокурор Паравант счел своей обязанностью, как бы от лица всех собравшихся, сказать вполголоса несколько слов глубокочтимому хозяину и заверить его в общей преданности. Это недоразумение. Все бодры и свежи, всем хорошо и приятно, все веселятся от души. Сегодня такой чудесный праздничный, необыкновенный вечер, присутствующие это чувствуют и понимают, ни у кого и в мыслях нет воспользоваться тем жизненным благом, который называется сном. Мингер Пеперкорн может положиться на своих гостей, на каждого из них.
– Отлично! Превосходно! – воскликнул Пеперкорн и выпрямился. Он разомкнул руки, раскинул их, простер к потолку, ладонями внутрь, точно жрец во время языческой молитвы. Его необычайная физиономия, только что выражавшая готическую скорбь, пышно расцвела весельем: даже сибаритская ямочка вдруг появилась на щеке. Настал час – и он потребовал карту вин, нацепил пенсне в роговой оправе с высокой дужкой, доходившей чуть не до середины лба, и заказал шампанское, три бутылки «Мумм и Кo », Cordon rouge, tres sec[163]; к нему птифуры, это были восхитительные маленькие пирожные, в виде конуса, залитые разноцветной сахарной глазурью – нежнейшее бисквитное тесто, с прослойкой из шоколада и фисташкового крема; их подавали в бумажках с кружевной каймой. Фрау Штер, наслаждаясь ими, прямо пальчики облизала. Господин Альбин, с небрежностью завзятого кутилы, снял проволочную преграду с первой бутылки, и грибовидная пробка, щелкнув, как выстрел из детского пистолета, вырвалась из пестрого горлышка бутылки и взлетела к потолку, а он, следуя элегантному обычаю, обернул бутылку салфеткой. Благородная пена увлажнила скатерти на столиках с закуской. Все чокнулись плоскими бокалами, сразу выпили до дна, ледяная ароматная влага словно наэлектризовала их своими щекочущими иголками. Игра прекратилась, но никто не спешил убрать со стола деньги и карты. Гости предавались блаженной праздности, они обменивались бессвязными фразами, казалось – эти фразы были подсказаны самыми высокими чувствами и в своем зачатке обещали нечто поистине прекрасное, но на пути к их выражению превращались в какую-то отрывистую и нечленораздельную, частью нескромную, частью просто малопонятную галиматью, вызвавшую бы у трезвого наблюдателя гнев и стыд; однако сами участники пира относились к этому очень легко, ибо все были в таком же состоянии. Даже у фрау Магнус пылали уши, и она призналась, что у нее прямо огонь бегает по жилам, хотя господину Магнусу это, кажется, не очень понравилось. Гермина Клеефельд, привалившись спиной к плечу господина Альбина, то и дело протягивала ему свой бокал, чтобы он вновь наполнил его. Пеперкорн, который дирижировал этой вакханалией проработанными жестами своих удивительных рук, увенчанных копьями ногтей, не забывал о своевременном подкреплении. После шампанского он приказал подать кофе, Мосса double[164], а к нему опять-таки «хлебное» и ликеры – абрикотин, шартрез, крем-де-ваниль и мараскин – для дам. Потом появилось маринованное рыбное филе, пиво, наконец чай китайский и ромашковый настой для тех, кто больше не хотел пить шампанское и ликеры или возвратиться к солидным винам, как возвратился Пеперкорн, ибо он после полуночи вместе с мадам Шоша и Гансом Касторпом перешел на швейцарское красное, наивное и чистосердечно-шипучее вино, которое Пеперкорн, действительно почувствовавший жажду, глотал стакан за стаканом.
Был уже час ночи, а пир еще продолжался; гостей удерживали и сковывающий тело свинцовый хмель, и редкое удовольствие от сознания, что можно прокутить всю ночь, и влияние самой личности Пеперкорна, а также приведенный им весьма неприятный пример Петра и остальных апостолов, ибо нельзя допустить, чтобы тебя причислили к тем, у кого плоть так слаба! Женская часть компании пострадала от кутежа меньше, чем мужская. Если мужчины, кто багровый, кто смертельно бледный, вытягивали ноги, отдувались, чисто автоматически делали время от времени глоток вина и уже не жаждали выказать свою бескорыстную услужливость, то женщины вели себя гораздо предприимчивее. Поставив обнаженные локти на стол и подперев щеки ладонями, Гермина Клеефельд вызывающе показывала хихикающему Тин-фу эмалевую белизну своих передних зубов, фрау Штер, подобрав подбородок, кокетничала через выставленное вперед плечо с прокурором Паравантом и старалась снова привязать его к жизни. А фрау Магнус дошла до того, что уселась на колени к господину Альбину и принялась дергать его за уши, но господин Магнус, видимо, испытал при этом даже какое-то облегчение. Антона Карловича Ферге упросили рассказать историю насчет его плеврального шока, однако язык у него настолько заплетался, что из рассказа ничего не вышло, он честно заявил о своем банкротстве, и все в полном единодушии воскликнули, что по этому случаю надо выпить. Везаль горько поплакал, вспомнив о безднах своего отчаяния, поведать о котором он тоже был не в силах, ибо язык уже не повиновался и ему; все же с помощью кофе и коньяка его душевно как бы поставили на ноги; но почему-то его стоны, вырывавшиеся из стесненной груди, и его дрожащий, сморщенный подбородок, с которого капали слезы, вызвали необычайный интерес Пеперкорна, и он, воздев указательный палец и подняв тяжелые арабески морщин, привлек общее внимание к плачущему Везалю.
– Это… – начал он, – ведь это же… Нет, позвольте мне: святое! Вытри ему подбородок, дитя мое, вот моя салфетка! Или еще лучше… оставь. Он сам не хочет! Святое во всех смыслах – и христианском и языческом. Прафеномен! феномен первичный… верховный, нет, нет… это…
В том же духе, как все его «это» и «ведь это же», были и те заявления, с помощью которых он руководил сегодняшним пиром: характер их был главным образом указующий и поясняющий; они сопровождались точными и проработанными жестами, в которых под конец появилось даже что-то от фарса. Его манера поднимать над ухом кружок, образованный большим и указательным пальцем, и при этом с шутливой гримасой отворачиваться от него, будила такие же ощущения, какие вызвал бы престарелый жрец неведомого культа, если бы он, подобрав одежды, с причудливой грацией пустился в пляс перед жертвенником. А потом вдруг Пеперкорн, величественно развалившись в кресле и закинув руку на спинку соседнего, предложил ошарашенным гостям живо и подробно представить себе наступающее утро, морозное и хмурое зимнее утро, когда желтоватый свет настольной лампочки отражается в оконном стекле между голых ветвей, застывших в ледяной, словно взъерошенной вороньим карканьем, туманной рани… Своими намеками, как выразительными мазками, он сумел придать этой будничной картине утра такую живость, что все вздрогнули от холода, особенно когда он вспомнил большую губку с ледяной водой, которую обычно в этот ранний час пациенты выжимают себе на спину и которую он назвал священной. Но это было только кратким отступлением, показательным уроком житейской наблюдательности, некиим фантастическим экспромтом, о котором он тут же забыл и со всей своей любезной настойчивостью и живостью чувств вернулся к еще не истекшим, праздничным и вольным ночным часам. Он показал себя влюбленным во всех присутствующих представительниц женского начала, ни одной не выделяя и ни одной не отдавая предпочтения. Он делал карлице такие предложения, что чрезмерно большое старообразное лицо калеки растягивалось широкой ухмылкой, и на нем появлялись глубокие складки, говорил Штерихе любезности такого размаха, что эта мещанка еще сильнее выставляла вперед плечо и жеманничала до исступления, выпросил у Клеефельд поцелуй, и она чмокнула его в крупные разорванные губы, любезничал даже с безутешной фрау Магнус, – все это отнюдь не в ущерб той нежной и неизменной преданности, с какой он относился к своей спутнице, чью руку он то и дело галантно и благоговейно подносил к губам.
– Вино… Женщины… Это… ведь это же… – говорил он. – Разрешите мне… Страшный суд… Гефсимания…
Около двух часов пронеслась весть о том, что «старик», то есть гофрат Беренс, идет сюда форсированным маршем, и среди раскисших было пациентов вспыхнула паника. Полетели наземь опрокинутые стулья, ведерки от шампанского. Госта бежали через читальню. Пеперкорн, увидев, что его «праздник жизни» внезапно оборвался, и охваченный царственным гневом, грохнул кулаком по столу и послал вслед разбегавшимся что-то вроде «трусливых рабов», но потом все же поддался уговорам Ганса Касторпа и мадам Шоша и до известной степени примирился с мыслью, что пиршество как-никак продолжалось около шести часов и все равно должно было когда-нибудь кончиться, внял также напоминаниям о святой усладе сна и разрешил проводить его в спальню.
– Поддержи меня, дитя мое! Поддержите меня с другой стороны, молодой человек, – обратился он к мадам Шоша и Гансу Касторпу. Они помогли ему поднять свое грузное тело со стула, взяли под руки, и, опираясь на обоих, он отправился к себе в комнату, широко расставляя ноги, склонив могучую голову на вздернутое плечо; он покачивался на ходу и потому отпихивал то одного, то другого поводыря. Его вели и поддерживали, что было роскошью королей, Пеперкорн себе разрешил ее, но из чистой прихоти – если бы понадобилось, он, вероятно, вполне мог бы дойти и один, но он не хотел делать это усилие, ибо оно могло быть оправдано только презренным и мелким побуждением стыдливо скрыть свой хмель, тогда как голландец не только его не стыдился, а напротив – ему нравилось, что он напился с таким широким удалым размахом и теперь по-царски забавляется тем, что толкает своих усердных поводырей то вправо, то влево. По пути он заявил:
– Дети… Вздор… Мы, конечно, вовсе не… Если бы в эту минуту… Вы бы увидели… Смешно…
– Смешно, – согласился Ганс Касторп. – Без сомнения! Классическому дару жизни воздают должное, когда разрешают себе откровенно покачиваться в его честь… Я ведь тоже хватил, но, несмотря на так называемое опьянение, отлично сознаю, что удостоен особой чести отвести на ложе сна яркую индивидуальность; значит, даже на меня не может подействовать… а ведь я по масштабам и сравнивать себя не могу…
– Ну, ну, болтунчик, – отозвался Пеперкорн и, покачнувшись, прижал его к перилам лестницы, а мадам Шоша повлек за собой.
Как видно, слух о приближении гофрата был ложной тревогой. Быть может, его пустила уставшая карлица, желая разогнать засидевшихся гостей. Когда это выяснилось, Пеперкорн остановился и хотел повернуть обратно, чтобы продолжать пир; но его с двух сторон принялись ласково отговаривать, и он разрешил вести себя дальше.
Камердинер малаец, человечек в белом галстуке и черных шелковых туфлях, ждал своего повелителя в коридоре, перед дверью в его апартаменты, и принял его с поклоном, приложив руку к груди.
– Поцелуйтесь! – вдруг приказал Пеперкорн. – На прощанье поцелуй в лоб эту прелестную женщину, молодой человек! – обратился он к Гансу Касторпу. – Она ничего не будет иметь против и ответит тем же. Сделай это за мое здоровье и с моего соизволения! – добавил он, однако Ганс Касторп отказался.
– Нет, ваше величество! – заявил он. – Простите, но этого делать не следует.
Пеперкорн, стоявший, опираясь на своего камердинера, удивленно поднял арабески на лбу и потребовал объяснения – почему не следует.
– Оттого, что я не могу обмениваться с вашей спутницей поцелуями в лоб, – ответил Ганс Касторп. – Желаю спокойно почивать! Нет, это было бы со всех сторон нелепо!
А так как и мадам Шоша уже направилась к своей двери, то голландец отпустил непокорного, хотя еще долго, подняв складки на лбу, смотрел ему вслед через свое плечо и плечо малайца, изумленный таким непослушанием, к которому его властная натура, должно быть, не привыкла.
Мингер Пеперкорн
(Продолжение)
Мингер Пеперкорн прожил в «Берггофе» всю эту зиму, вернее ее остаток и даже часть весны, так что напоследок состоялась еще весьма примечательная поездка всей компанией (участвовали также Сеттембрини и Нафта) в Флюэлаталь, к тамошнему водопаду… Напоследок? Значит, он потом там больше не жил? Нет, больше не жил. Он отбыл? И да и нет. И да и нет? Пожалуйста, без всяких секретов! Мы уж как-нибудь справимся с собой. Ведь лейтенант Цимсен тоже умер, уже не говоря о других вполне достойных участниках хоровода мертвецов. Значит, этого загадочного Пеперкорна унесла тропическая лихорадка? Нет, не то, но к чему такое нетерпенье? Ведь не все происходит одновременно, это остается условием и для жизни и для рассказа, так не будем же бунтовать против данных нам господом богом общепринятых форм человеческого познания. Отдадим же дань времени, хотя бы в такой мере, в какой позволяет существо нашего повествования! Много его вообще уже не потребуется, время и так несется – трах-тарарах, а если это выражение слишком шумное – допустим, что оно скользит – шмыг, шмыг. Маленькая стрелка отсчитывает наше время и семенит, словно отмеряет секунды, но всякий раз, когда она хладнокровно и без задержки проходит через свой кульминационный пункт, это имеет бог знает какое значение. Мы здесь наверху уже много лет, сомнений быть не может, это порочный сон без опия и гашиша, и у нас голова идет кругом, цензор нравов осудит нас за него, и все-таки мы сознательно противопоставляем все застилающему злому туману и логическую четкость и зоркость рассудка! Не случайно, этого нельзя не признать, выбрали мы для споров такие умы, как ум господина Нафты и господина Сеттембрини, вместо того чтобы окружить себя непонятными Пеперкорнами, – это невольно наталкивает нас на сравнение, и мы, особенно в том, что касается масштабов, должны высказаться в пользу данного столь поздно появившегося персонажа; к тем же выводам приходил, лежа на своем балкончике, и Ганс Касторп, – он вынужден был признать, что оба его сверхблагоразумных воспитателя, подступавших с двух сторон к его бедной душе, рядом с Питером Пеперкорном превращаются в карликов, даже хочется назвать их так же, как его самого шутливо назвал в своем царственном хмелю Пеперкорн, а именно «болтунчиками»; и как это хорошо и удачно, что герметическая педагогика свела его и с такой ярко выраженной индивидуальностью.
То, что человек этот оказался спутником Клавдии Шоша, а потому тяжелым препятствием к осуществлению его планов, вопрос особый, и Ганс Касторп не давал ему влиять на свои оценки; не давал, повторяем, влиять на свою полную искренней почтительности, хотя порой и несколько задорную симпатию к этому человеку больших масштабов, ибо считал, что если у этого человека общая касса с женщиной, у которой Ганс Касторп в одну карнавальную ночь взял карандаш, то это еще не причина для пристрастных суждений о нем. Такого рода пристрастность чужда людям его склада, причем мы вполне допускаем, что иной или иная из окруженья Ганса Касторпа будут возмущены подобной «бестемпераментностью» и предпочли бы, чтобы он Пеперкорна возненавидел и избегал, обзывал его в душе не иначе как старым ослом и бестолковым пьяницей, вместо того чтобы наведываться к нему, когда голландца трепала перемежающаяся лихорадка, торчать у его постели, болтать с ним – выражение, применимое, конечно, только к участию в разговоре самого Ганса Касторпа, а не великолепного Пеперкорна, – и с любопытством человека, путешествующего в целях самообразования, подвергать себя воздействию этого примечательного характера. Но Ганс Касторп так и делал, и мы рассказываем об этом, не боясь, что кто-нибудь может невольно вспомнить Фердинанда Везаля, таскавшего за Гансом Касторпом пальто. Подобные воспоминания здесь неуместны. Наш герой – не Везаль, «Бездны скорби» его не влекли. Он не был «героем», вот и все, то есть не хотел, чтобы его отношение к мужчине зависело от женщины. Верные нашему намерению показать этого молодого человека не лучше и не хуже, чем он есть на самом деле, мы подчеркиваем, что не нарочно и сознательно, а с наивной непосредственностью противился он тому, чтобы некие романические переживания мешали ему воздавать должное лицам мужского пола и ценить получаемые от них обогащающие познания.
Может быть, это женщинам и не нравится, и вероятно, мадам Шоша испытывала по этому случаю даже невольную досаду, как мы можем заключить из некоторых вырывавшихся у нее язвительных замечаний, – но, видимо, именно отмеченная нами черта и делала Ганса Касторпа особенно подходящим объектом для педагогических споров.
Питер Пеперкорн часто болел, и в том, что он слег на другой же день после вечера с шампанским и картами, не было ничего удивительного.
Почти все участники вечера чувствовали себя весьма неважно, в том числе и Ганс Касторп, у которого отчаянно разболелась голова, но бремя этого недомогания, однако, не помешало ему навестить хозяина вчерашнего пира: встретив в коридоре первого этажа малайца, он попросил доложить о себе Пеперкорну и получил приглашенье зайти.
Он вошел в спальню голландца через гостиную, отделявшую ее от спальни мадам Шоша, и нашел, что комната Пеперкорна с двумя кроватями своими размерами и изысканностью обстановки выгодно отличается от берггофских комнат обычного типа. Здесь стояли обитые шелком кресла и столы с выгнутыми ножками, на полу лежал пушистый ковер, да и кровати были гораздо удобнее, чем гигиенический смертный одр, предоставлявшийся рядовым пациентам, они были даже роскошны – из полированного вишневого дерева с медными украшениями, без занавесей, лишь с маленьким общим балдахином в виде навеса.
На одной из кроватей лежал Пеперкорн, по стеганому одеялу красного шелка были разбросаны письма и газеты: глядя сквозь пенсне с высокой дужкой, он читал «Телеграф». На стуле рядом с кроватью стояла кофейная посуда, на столике недопитая бутылка красного вина – оказалось, та самая вчерашняя наивная шипучка – и пузырьки с лекарствами. Ганс Касторп про себя удивился, что голландец не в белой рубашке, а в шерстяной фуфайке с длинными рукавами, застегнутыми у запястий, с круглым вырезом вокруг шеи; она плотно обтягивала широкие плечи и могучую грудь старика, и человеческое величие этой лежавшей на подушке головы как будто еще подчеркивалось фуфайкой, благодаря ей в нем не осталось уже ничего буржуазного, а появилось что-то простое, от рабочего, и вместе с тем монументальное, от мраморного бюста.
– Безусловно, молодой человек, – сказал он и, взяв пенсне за дужку, снял его. – Прошу, ничуть. Напротив. – Ганс Касторп уселся подле него. Он был удивлен его видом, он жалел старика, чувство справедливости побуждало его даже, быть может, к искреннему восхищению, но он скрыл все это за дружеской оживленной болтовней, а Пеперкорн вторил ему многозначительно – оборванными фразами и впечатляющей игрою жестов. Выглядел он плохо, лицо пожелтело, казалось больным и осунувшимся. Под утро у него был сильный приступ лихорадки, и сейчас он чувствовал особенную слабость в придачу к похмелью после вчерашнего кутежа.
– Крепко мы вчера, – сказал он. – Нет, позвольте, – отчаянно и скверно! Вы еще – хорошо, без последствий… Но в мои годы и когда мне угрожает… Дитя мое, – обратился он с бережной, но непреклонной строгостью к входившей в этот миг мадам Шоша, – все хорошо, но, повторяю, надо было внимательнее… Надо было не давать мне… – При этих словах в игре его лица, в его голосе появились признаки закипающего царственного гнева. Но достаточно было представить себе, какая бы разразилась буря, если бы ему действительно помешали пить сколько он хочет, чтобы понять всю несправедливость и неразумность подобного упрека. Что ж, видно, уж таковы все великие люди. Поэтому его спутница ничего не ответила и поздоровалась с поднявшимся ей навстречу Гансом Касторпом – впрочем, руки ему не подала, а лишь улыбнулась и кивнула, сказав: «Нет-нет, прошу вас, сидите… да-да, прошу вас, продолжайте», – как бы не желая прерывать его tete-a-tete с Пеперкорном… Она что-то переставила в комнате, приказала камердинеру унести кофейный прибор, ненадолго вышла, неслышными шагами вернулась и, стоя, приняла некоторое участие в беседе, или, если передать словами смутное впечатление Ганса Касторпа, слегка понадзирала за этой беседой. Ну, конечно! Она имела право вернуться в «Берггоф» в обществе человека больших масштабов, но если тот, кто так терпеливо ее ждал здесь, отнесся к этому человеку с должным почтением, как мужчина к мужчине, в ее «нет-нет… сидите» и «да-да, продолжайте» чувствовалась некоторая тревога и даже уязвленность. Ганс Касторп усмехнулся, низко наклонившись, чтобы скрыть улыбку, и вместе с тем в душе у него вспыхнула радость.
Пеперкорн налил ему вина из бутылки, стоявшей на столике. После того, что было накануне, заявил голландец, продолжать начатое вчера похвально, а эта шипучка вполне заменяет содовую. Он чокнулся с Гансом Касторпом, и тот, глотая вино, смотрел, как веснушчатая капитанская рука с острыми ногтями, стянутая в кисти манжетой шерстяной фуфайки, тоже подносит к губам стакан, как разорванные крупные губы охватывают его край и как движется при глотках это горло рабочего и мраморного бюста. Они поговорили еще об одном из стоявших подле него лекарств, об этой коричневой жидкости; когда мадам Шоша напомнила ему, что пора ее принимать, и поднесла к его рту полную ложку, он выпил всю. Это было жаропонижающее – в основном хинин; Пеперкорн дал Гансу Касторпу попробовать, чтобы познакомить гостя с горьковато-пряным вкусом препарата, затем очень похвалил хинин, который не только разрушает микробы и оказывает целебное влияние на тепловой центр, но и является отличным тонизирующим средством: он снижает обмен белка, повышает питание организма, – словом, это истинный бальзам, превосходное укрепляющее, подбадривающее и оживляющее средство, – кстати, оно тоже опьяняет; от него легко захмелеть, добавил Пеперкорн, делая, как вчера, величественно-шутливые движенья руками и головой и снова напомнив при этом пляшущего языческого жреца.
Да, великолепная штука – эта хинная корка! Впрочем, не прошло и трех столетий, как фармакология в нашей части света узнала о ней, и нет еще ста лет, как химия открыла алкалоид, от которого, собственно, и зависят ее качества, – открыла и произвела анализ – неполный, – ибо пока еще химия не может утверждать, что до конца разобралась в составе хинной корки и может искусственно изготовлять ее. Наша наука о лекарствах хорошо делает, что не особенно кичится своими достижениями, ведь судьба хинина постигла многие другие средства: нам известно кое-что о динамике, о воздействии данного вещества, но на вопрос о причинах этого воздействия наука слишком часто не знает, что ответить. Пусть молодой человек почитает о ядах – никто не сможет объяснить ему, каковы те элементарные свойства, от которых зависит действие так называемых ядовитых веществ. Возьмем хотя бы змеиные яды – о них известно только то, что эти вещества принадлежат к ряду белковых соединений, состоят из различных белковых веществ и лишь в определенных соединениях – на деле совершенно неопределенных – оказывают катастрофическое действие: будучи введены в кровь, они вызывают такие изменения, которым можно только дивиться, – нам трудно сочетать понятие о белках с понятием о яде. Но с веществами дело обстоит так, продолжал Пеперкорн, подняв на уровень бледноглазой головы, с лепкой арабесок на лбу, кружочек уточнения и копья остальных пальцев, – дело обстоит так, что они таят в себе одновременно и жизнь и смерть: все они одновременно дают и целебные настойки, и яды, наука о лекарствах и токсикология – одно и то же, от ядов люди выздоравливают, а то, что мы считаем носителем жизни, убивает иногда сразу, вызвав спазму сосудов.
Он говорил о лекарствах и ядах очень убедительно, против обыкновения, очень связно, и Ганс Касторп слушал его, склонив голову набок и кивая, не столько занятый содержанием его речи, сколько размышлениями о безмолвном воздействии этой своеобразной индивидуальности, в конце концов столь же необъяснимой, как и действие змеиных ядов. В мире веществ динамика – это все, говорил Пеперкорн, остальное зависит только от нее. Также и хинин – яд исцеляющий и прежде всего большой силы. Четыре грамма этого вещества вызывают глухоту, головокружение, удушье, расстройство зрения, подобно атропину, они опьяняют, как алкоголь: у рабочих на фабриках хинина – воспаленные глаза, опухшие губы и кожа покрыта сыпью. И он принялся рассказывать о хинине и хинном дереве, о девственных лесах Кордильеров: там, на высоте трех тысяч метров, родина этого дерева, оттуда его кора, под названием «иезуитского порошка», наконец проникла в Испанию, хотя туземцам Южной Америки давно уже были известны ее особые свойства; он живописал огромные хинные плантации, которыми владеет на Яве голландское правительство и откуда ежегодно в Амстердам и Лондон вывозятся многие миллионы фунтов этой коры, напоминающей красноватые трубки корицы… В коре вообще, в ткани древесины, начиная от эпидермы до камбия, говорил Пеперкорн, содержится что-то особое, почему она почти всегда обладает динамическими свойствами исключительной силы, как добрыми, так и злыми, и наука о лекарствах у цветных народов стоит неизмеримо выше нашей. На некоторых островах к востоку от Новой Гвинеи юноши изготовляют особое любовное зелье, они толкут кору некоего дерева, вероятно дерево это столь же ядовито, как яванское Antiaris toxicaria, оно, подобно манцинелле, будто бы отравляет вокруг себя воздух своими испарениями, и его дурман убивает людей и животных; так вот, они изготовляют порошок, растирая эту кору с наструганным кокосовым орехом, завертывают смесь в большой лист и поджаривают. А затем обрызгивают соком этой смеси лицо неподатливой девушки во время ее сна, и в ней вспыхивает страсть к тому, кто ее опрыскал. Иногда особыми свойствами обладает и кора корней, как, например, кора одного вьющегося растения Малайского Архипелага, Strychnos Tieute. Прибавляя в него змеиного яду, туземцы изготовляют так называемое упас-раджа; если ввести это снадобье в кровеносную систему, например, с помощью стрелы, то оно вызывает быструю смерть, причем никто не смог бы в точности объяснить Гансу Касторпу, каким образом это происходит. Ясно только одно: в отношении динамики действие упаса, видимо, близко к действию стрихнина. Пеперкорн совсем поднялся и уселся в постели; время от времени своей слегка дрожащей капитанской рукой он подносил к губам стакан с вином и делал большие, жадные глотки; потом стал рассказывать о дереве «вороньи глаза»: это дерево растет на Коромандельском берегу, из его оранжево-желтых ягод добывается особенно динамичный алкалоид, названный стрихнином; вполголоса, почти шепотом, высоко подняв скульптурные складки на лбу, живописал голландец пепельно-серые ветки, необычно блестящую листву и зеленовато-желтые цветы этого дерева, так что в результате перед взором молодого человека возник его образ, печальный и вместе с тем болезненно-пестрый, и ему даже стало жутковато.
Да и мадам Шоша вмешалась – она заявила, что разговаривать так много Пеперкорну вредно, это утомляет его, приступ лихорадки может повториться, и, хотя ей всегда очень жаль разлучать их, она вынуждена просить Ганса Касторпа прервать беседу. Он, конечно, подчинился, но еще не раз в течение ближайших месяцев приходил к этому величественному старику, после того как Пеперкорна трепала квартана, и усаживался у его постели, а мадам Шоша, слегка надзирая за течением беседы, иногда вставляя и свое слово, входила и выходила из комнаты; но и в те дни, когда не бывало приступа, он проводил немало часов с Пеперкорном и его украшенной жемчугами спутницей. Ибо, если голландец не лежал в постели, он редко упускал случай собрать после обеда небольшой кружок пациентов с довольно текучим составом, чтобы поиграть в карты, выпить вина, а также предаться другим удовольствиям, иногда это происходило в гостиной, как в первый раз, или в ресторане, причем Ганс Касторп уже привык сидеть между избалованной женщиной и необыкновенным человеком. Даже на прогулки ходили сообща, в них участвовали также господа Ферге и Везаль, а вскоре примкнули Сеттембрини и Нафта, эти постоянные духовные противники; встреча с ними была неизбежна, Гансу Касторпу пришлось познакомить их с Пеперкорном, а в конце концов и с мадам Шоша; он был прямо-таки счастлив это сделать, совершенно не заботясь о том, желают ли неугомонные спорщики знакомства и общения с голландцем, и втайне полагаясь на то, что педагогический объект им слишком необходим и они скорее предпочтут получить нежеланный придаток в виде этой компании, чем лишиться возможности выкладывать перед Гансом Касторпом свои несогласия.
И он не ошибся, ожидая, что члены столь пестрого кружка его друзей в конце концов привыкнут хотя бы к тому, что не смогут друг к другу привыкнуть. Конечно, в их отношениях чувствовалась порой натянутость и отчужденность и, пожалуй, затаенная враждебность – мы даже удивляемся, каким образом наш неприметный герой удерживал их подле себя, и объясняем это особым хитроватым и веселым дружелюбием его натуры, благодаря которому он мог находить любое высказывание «заслуживающим внимания», эту черту его характера можно было бы даже назвать услужливостью, обязательностью, благодаря ей ему удавалось не только поддерживать свою связь с самыми разными людьми, но и их связь друг с другом.
И какие же это были сложные и запутанные отношения! Нас увлекает мысль хоть на миг раскрыть перед всеми их переплетающиеся нити – в том виде, в каком они во время прогулок представали перед Гансом Касторпом, взиравшим на них своим хитроватым и дружелюбным взглядом. Тут был и унылый Везаль, с его воспаленным влечением к мадам Шоша, пресмыкавшийся перед Пеперкорном и Гансом Касторпом и почитавший одного за то, что он оказался хозяином положения в настоящем, а другой – в прошлом. Тут была и сама Клавдия Шоша, с ее пленительной крадущейся походкой, пациентка и путешественница, верноподданная Пеперкорна, но втайне неизменно встревоженная и обиженная тем, что рыцарь одной давнишней карнавальной ночи находится на столь короткой ноге с ее теперешним повелителем. Не напоминало ли это раздражение до известной степени то чувство, которое некогда определило ее отношение к Сеттембрини? К этому краснобаю и гуманисту, которого она терпеть не могла, утверждая, что он высокомерен и бесчеловечен? К другу-педагогу молодого Ганса Касторпа, у которого ей очень хотелось потребовать объяснения – какие слова на своем средиземноморском диалекте (она не понимала в нем ни звука, так же как и он не понимал ее языка, но она не держалась так самоуверенно и пренебрежительно), – какие именно слова он бросил вслед этому благопристойному молодому немцу, этому хорошенькому маленькому буржуа из уважаемой семьи и с влажным очажком, когда тот собирался подойти к ней поближе?
Ганс Касторп, который был, как говорится, «влюблен по уши», но не в радостном смысле этого слова, ибо это была любовь запретная, неразумная, о ней не споешь мирной равнинной песенки, – Ганс Касторп, который был жестоко влюблен и потому оказался зависимым, покорным, страдающим и подчиненным, все же нашел в себе силы сохранить даже в рабстве известное лукавство и догадался, что пленительно крадущаяся больная с прелестными щелками татарских глаз, вероятно, дорожит и будет дорожить его преданностью: ценность этой преданности, как он добавлял про себя, невзирая на свою страдальческую покорность, ей, видимо, открылась из отношения к ней Сеттембрини, ибо оно лишь подтверждало ее подозрения и было настолько враждебным, насколько это допускала его гуманистическая вежливость. Плохо, или, в глазах Ганса Касторпа, скорее, выгодно, для него самого было то, что ее встречи с Нафтой, на которого она тоже возлагала надежды, обманули ее ожидания. Правда, она не наталкивалась здесь на ту глубокую неприязнь, с какой господин Лодовико относился к ее особе, да и беседовали они в более благоприятных условиях: иногда Клавдии и этому миниатюрному человечку с острыми чертами удавалось поговорить наедине о книгах, о проблемах политической философии, в радикальных оценках которых они сходились. Ганс Касторп с искренним интересом участвовал в их разговорах. Все же она, вероятно, ощущала известную аристократическую сдержанность, с какой к ней подходил этот выскочка, осторожный, как все выскочки; его испанский терроризм по сути дела трудно было сочетать с ее хлопающими дверями и ее скитальческим «слишком человеческим» началом; к этому примешивалась еще какая-то легкая, трудно уловимая враждебность к ней обоих противников, и Сеттембрини и Нафты; своим женским чутьем она не могла не ощущать ее так же, как ее ощущал карнавальный рыцарь Клавдии, а причиной являлось отношение их обоих к нему, Гансу Касторпу: то была обычная неприязнь воспитателя к женщине, как к элементу, который мешает и отвлекает воспитанника, и эта немая исконная вражда объединяла их, а в ней растворялись и их сгущенные в педагогических целях разногласия.
Не примешивалась ли эта же неприязнь и в отношение обоих диалектиков к Пеперкорну? Как будто бы да, может быть так казалось Гансу Касторпу потому, что, злорадствуя, он заранее этого ждал и даже жаждал свести царственного заику с обоими своими «государственными советниками», как он их иногда остроумно называл про себя, и, столкнув, посмотреть, что получится. Под скрытым небом мингер не производил столь внушительного впечатления, как в комнатах. Мягкая фетровая шляпа, которую он низко надвигал на лоб, закрывала и белое пламя волос, и мощные складки на лбу, черты его как бы мельчали, съеживались, и даже багровый нос утрачивал свое величие. Да и ходил Пеперкорн менее торжественно, чем стоял: он делал коротенькие шажки, имел обыкновение переваливаться с боку на бок всем своим грузным телом и даже наклонять голову в сторону той ноги, на которую ступал, от чего в его фигуре появлялось что-то старчески-добродушное, а отнюдь не царственное; и шел он чаще всего не выпрямившись, как обычно стоял, а слегка ссутулившись. Но и так он был на целую голову выше господина Лодовико и тем более недомерка Нафты; и не только поэтому его присутствие с такой силой, с такой исключительной силой, как и представлял себе заранее Ганс Касторп, угнетало обоих политиков.
Это был особый гнет, порожденный сравнением, в результате которого они чувствовали себя униженными и умаленными; все это ощущал и лукавый наблюдатель, и хилые сверхболтуны, и величественный заика. Пеперкорн обращался с Нафтой и Сеттембрини безукоризненно учтиво и с таким вниманием и почтением, которое Ганс Касторп принял бы за иронию, если бы не был глубоко убежден, что понятие иронии несовместимо с представлением о человеке больших масштабов. Царям ирония неведома, даже как откровенный и классический прием ораторского искусства, уже не говоря о более сложных ее формах. Вот почему обращение голландца с друзьями Ганса Касторпа можно было бы скорей назвать тонко и величественно насмешливым, пряталось ли оно за преувеличенной серьезностью или выражалось совершенно открыто.
– Да-да-да, – говорил он, грозя в их сторону пальцем и отворотив голову с шутливо улыбавшимися разорванными губами. – Это… Эти… Господа, обращаю ваше внимание… Cerebrum[165], мозговое, понимаете ли! Нет, нет, превосходно, исключительно, то есть тут ведь все-таки вскрывается…
А они мстили тем, что обменивались взглядами, а потом, якобы в отчаянье, возводили взоры к небу, пытаясь вызвать на это и Ганса Касторпа, однако он уклонялся.
Случилось так, что Сеттембрини уже прямо привлек непокорного ученика к ответу и выдал свои педагогические тревоги.
– Но, бога ради, инженер, ведь это же просто глупый старик! Что вы нашли в нем? Разве он может содействовать вашему развитию? Отказываюсь понимать вас! Все было бы ясно, хотя, может быть, и не похвально, если бы вы мирились с ним и искали его общества только ради его теперешней возлюбленной. Но ведь несомненно, что вы заняты им чуть ли не больше, чем ею. Заклинаю вас, помогите же мне понять…
Ганс Касторп рассмеялся.
– Бесспорно, – сказал он. – Превосходно! Так оно и есть… Позвольте мне… Хорошо! – Он попытался воспроизвести не только речь, но и проработанные жесты Пеперкорна. – Да, да, – продолжал он смеясь. – Вы находите, что это глупо, господин Сеттембрини, и можно подумать, что, в ваших глазах, нет ничего хуже глупости. Ах, глупость! Ведь есть столько различных видов глупости, и разумность – не лучший вид… Ага! Я, кажется, сейчас сострил? Удачно? Вам нравится?
– Весьма. Я с нетерпеньем жду вашего первого сборника афоризмов. Может быть, еще не поздно, и я попрошу вас вспомнить некоторые соображения о человеконенавистнической сущности парадокса, которыми мы с вами как-то обменялись.
– Непременно, господин Сеттембрини. Непременно вспомню, и я этой остротой вовсе не гнался за парадоксами. Я хотел только указать на большие сложности, которые возникают при определении понятий «глупости» и «разумности». Ведь возникают? Верно? Их так трудно отделить одно от другого, они так легко переходят друг в друга… Знаю, вы терпеть не можете мистического guazzabuglio, вы стоите за ценности, за суждение, за оценку, и тут вы совершенно правы. Но где «глупость» и где «разумность» – это иногда совершеннейшая тайна, а ведь разрешается же интересоваться тайнами, при наличии честного стремления по возможности глубже проникнуть в их сущность. Я спрашиваю вас об одном: я спрашиваю – можете вы отрицать, что он всех нас заткнул за пояс? Я выражаюсь грубо, и все-таки, насколько я понимаю, вы не можете этого отрицать. Он заткнул нас за пояс, и что-то дает ему право смеялся над нами. Почему? Как? В каком смысле? Уж конечно не на основании своей разумности. Ведь он скорее путаник, человек чувства, чувство – это как раз его пунктик, простите мне ходячее выражение! Итак, я говорю: не своей разумностью заткнул он нас за пояс, то есть не по причине высокого ума, – вы первый возмутились бы при таком утверждении, и это исключено. Но и не по причинам физического порядка! Не из-за капитанских плеч и сильных мышц, не потому, что он мог бы свалить каждого из нас ударом кулака, – ему и в голову не приходит, что он мог бы это сделать, а если когда-нибудь придет, то достаточно двух-трех вежливых слов, чтобы успокоить его… Следовательно, тут и не физические причины. И все-таки физическая сторона здесь, несомненно, играет роль – не в смысле грубой силы, а в другом, в мистическом смысле, – ведь как только телесное начало начинает играть роль, мы имеем дело с мистикой, – физическое переходит в духовное, и наоборот, их тогда не отличишь, как не отличишь глупость от разумности, но воздействие налицо, это момент динамический, и нас затыкают за пояс. Для обозначения этого у нас есть только одно слово – индивидуальность. Его употребляют очень широко, все мы индивидуальности – в моральном, юридическом и во всяких иных смыслах Но в данном случае надо это слово понимать иначе, – как тайну, которая выше глупости и разумности, и которой мы все же имеем право интересоваться – отчасти, чтобы по возможности глубже проникнуть в ее сущность, и если проникнуть невозможно, то хотя бы на этом поучиться. А если вы за ценности, то индивидуальность тоже положительная ценность, как мне кажется, – более положительная, чем глупость и разумность, – в высшей степени положительная, абсолютно положительная, как сама жизнь, – словом, это одна из жизненных ценностей и вполне заслуживает того, чтобы ею интересоваться Вот что я считал необходимым возразить на ваши слова относительно глупости.
За последнее время Ганс Касторп уже не путался и не сбивался, когда приходилось выкладывать то, что было на душе, не застревал посредине фразы. Он договаривал все до конца, понижал голос, соблюдал точку и продолжал говорить как настоящий мужчина, хотя все-таки краснел и немного боялся того критического молчания, которое последует за его словами, чтобы устыдить его. И господин Сеттембрини предоставил действовать этому молчанию, а потом сказал:
– Вы отрицаете, что охотитесь за парадоксами, а ведь вы отлично знаете, что мне в той же мере претит и ваша охота за тайнами. Делая из индивидуальности нечто таинственное, вы рискуете впасть в идолопоклонство. И тут вы поклоняетесь маске, видите мистику там, где на самом деле лишь мистификация, одна из тех обманчивых и пустых форм, с помощью которых демон физиогномики и телесности иногда надувает нас. Вам не приходилось вращаться в кругу актеров? Вы не видели эти головы мимов, в которых узнаешь черты Юлия Цезаря, Бетховена, Гете, а едва их счастливые обладатели откроют рот, – они оказываются самыми последними простаками…
– Хорошо, пусть это игра природы, – продолжал Ганс Касторп. – Но и не только игра природы, не только надувательство. Ведь если эти люди – актеры, у них же должен быть талант, а талант выше глупости и разумности, он сам – жизненная ценность. У мингера Пеперкорна, что ни говорите, талант есть, поэтому-то он и заткнул нас за пояс. Посадите в один угол господина Нафту, пусть прочтет лекцию о Григории Великом и о граде божьем, это будет очень поучительно, и пусть в другом углу стоит Пеперкорн, со своим необычайным ртом и своими поднятыми складками на лбу, и пусть он говорит только свое «Бесспорно! Разрешите мне – кончено!» – и вы увидите, что люди соберутся вокруг Пеперкорна, а Нафта останется в полном одиночестве со всей своей разумностью и градом божьим, хотя он выражается с такой определенностью, что человека до костей пробирает, как говорит Беренс.
– А вы постыдитесь такого преклонения перед успехом! – укорил его Сеттембрини. – Mundus vult decipi.[166] Я вовсе не требую, чтобы вокруг господина Нафты собирались люди. Он ужаснейший интриган. Но в этой воображаемой сцене, которую вы живописуете с неподобающим сочувствием, я склонен стать на его сторону. Попробуйте презреть ясность, точность, логичность и по-человечески связную речь! Попробуйте презреть ее ради каких-то фокус-покусов, состоящих из намеков и шарлатанской имитации высоких чувств, и вот вы уже попали в лапы к дьяволу.
– Но, уверяю вас, он может говорить вполне связно, когда увлечется, – возразил Ганс Касторп. – Он на днях рассказывал мне о динамических лекарствах и азиатских ядовитых деревьях, и так интересно, что мне даже стало жутко… Интересное всегда вызывает некоторую жуть… Интересно это было не столько само по себе, а главным образом из-за его индивидуальности и ее воздействия: именно она придавала рассказу жуть и интерес.
– Ну, конечно, ваша слабость ко всякой азиатчине известна. И я действительно подобных чудес вам поставлять не могу, – возразил Сеттембрини с такой горечью, что Ганс Касторп поспешно заявил: разумеется, преимущества его бесед и наставлений лежат в совсем иной плоскости, и никому в голову не придет делать какие-то сравнения, это было бы несправедливо по отношению к обеим сторонам.
Сеттембрини продолжал:
– Во всяком случае, разрешите мне, инженер, сказать, что я просто восхищен вашей объективностью и вашим хладнокровием. Согласитесь, они уже приближаются к гротеску. И судя по тому, как сейчас обстоит дело… Ведь этот нефтяной идол отнял у вас вашу Беатриче – я называю вещи своими именами. А что делаете вы? Нет, это неслыханно.
– Вопрос темперамента, господин Сеттембрини. Вопрос особого пыла и воинственности крови. Конечно, вы, как южанин, обратились бы к помощи яда и кинжала, или действовали бы с принятой в свете страстной мужественностью и галантностью. То есть распетушились бы. Это было бы, бесспорно, очень мужественно, по-светски мужественно и галантно. Но у меня все это иначе. Я совсем не мужествен, то есть не вижу во всех мужчинах только самцов-соперников. Может быть, я вообще лишен мужественности, но уж во всяком случае не в том смысле, в каком, сам не знаю почему, назвал такое мужество «светским». И вот я спрашиваю себя, с моей рыбьей кровью, можно ли в чем-нибудь упрекнуть его. Причинил ли он мне зло сознательно? Но ведь обиды должны быть нанесены преднамеренно, иначе это не обиды. Что касается «причиненного зла», тут мне пришлось бы сводить счеты с ней. Но и на это я опять-таки не имею права, не имею вообще, а раз тут замешан Пеперкорн – тем более, ибо он, во-первых, яркая индивидуальность, а для женщины это, само по себе, уже значит немало, во-вторых, он человек не штатский, подобно мне, а скорей военный по складу характера, как мой бедный кузен, то есть: у него есть свой point d'honneur, свой вопрос чести, особый пунктик, и это – чувство, жизнь… Я болтаю всякий вздор, но лучше нести чепуху и при этом высказать хоть отчасти трудновыразимую мысль, чем изрекать лишь безупречные банальности, – может быть, это тоже какая-то военная черта в моем характере, если смею так выразиться…
– Почему бы вам так и не выразиться, – кивнул Сеттембрини. – Это бесспорно черта, заслуживающая похвалы. Мужество познания и высказывания – и есть литература, и есть гуманность…
Они расставались после подобных бесед все же в довольно сносных отношениях; Сеттембрини старался завершить разговор миролюбиво, на это у него были свои причины. Его позиции не отличались такой уж неуязвимостью, чтобы он мог позволить себе чрезмерную строгость. Разговор о ревности оказывался для него несколько скользкой почвой, и, дойдя до известной точки, он вынужден был бы признать, что вследствие своей педагогической жилки его собственное отношение к мужскому началу тоже не совсем светское, петушиное и что великодержавный Пеперкорн также вторгается в его сферу, как Нафта и мадам Шоша; кроме того, он не мог надеяться, что убедит своего ученика не поддаваться воздействию крупной индивидуальности и ее враждебного превосходства, ибо и он и его партнер в области интеллекта сами допускали такое воздействие.
Лучше всего они оба чувствовали себя, когда речь заходила о чисто духовных проблемах и им удавалось привлечь внимание гуляющей с ними компании к этим дебатам, элегантным и страстным, академическим и вместе с тем происходившим в таком тоне, словно это самые жгучие и животрепещущие вопросы дня, причем спор обычно разгорался только между ними двумя, но, пока он велся, присутствовавший при нем представитель «масштабов» бывал до известной степени нейтрализован, ибо мог участвовать в дискуссии только удивленным поднятием складок на лбу и ироническим отрывистым бормотаньем. Но даже в таких случаях он чем-то давил на разговор, который словно обесцвечивался, терял свою суть, затухал; Пеперкорн совершенно бессознательно, или бог весть в какой мере сознательно, противопоставлял ему что-то, что не служило на пользу ни одному из противников, и в результате решающая важность спора как бы тускнела и даже – нам нелегко это признать – спор начинал казаться праздным занятием; иначе говоря, в этой схватке острых умов не на жизнь, а на смерть противники каким-то тайным, незримым и непонятным образом точно все время оглядывались на шагающий «масштаб» и теряли пафос, размагниченные силой его личности, иначе нельзя было объяснить столь неприятный для спорящих и загадочный факт. Можно сказать одно: если бы не было никакого Питера Пеперкорна, каждый почувствовал бы гораздо решительнее свой долг стать на сторону одной из борющихся партий, хотя бы, например, когда Лео Нафта защищал исконную архиреволюционную сущность католический церкви против теорий Сеттембрини, который видел в этой исторической силе лишь защитницу мрачного консерватизма и косности и считал, что всякое стремление во имя светлого будущего перевернуть и обновить жизнь связано с противоположными, возникшими в славную эпоху Возрождения античной культуры принципами просвещения, развития науки и прогресса, и, отстаивая этот свой символ веры, не пожалел прекрасных жестов и слов. В ответ Нафта заявил холодно и резко, что он берется показать – и тут же показал с почти ослепительной очевидностью, что церковь, как воплощение религиозно-аскетической идеи, внутренне очень далека от того, чтобы служить поддержкой и защитой всему, что хочет устоять, то есть светскому образованию и государственному правопорядку, она, напротив, издавна и решительно провозгласила мятеж против этого; и все, что мнит, будто оно достойно сохраниться, все, что пытаются сберечь трусы, пошляки, консерваторы и мещане, а именно – государство, семью, светское искусство и науку, – всегда, сознательно или бессознательно, находилось в противоречии с религиозной идеей, с церковью, исконным стремлением и неизменной целью которой является уничтожение всех земных установлений и перестройка общества по образу идеального коммунистического града божиего.
Потом слово взял Сеттембрини, и уж он сумел им воспользоваться, черт побери! Такой подмен люциферической революционной мысли[167] общим бунтом всех дурных инстинктов достоин сожаления, заявил он. Любовь церкви к обновлению сводилась в течение многих столетий к тому, чтобы допрашивать и пытать животворную мысль, душить ее дымом своих костров, а теперь эта церковь через своих эмиссаров объявляет себя мятежницей на том будто бы основании, что ее цель – заменить свободу, знание и демократию варварством и диктатурой черни. Да, жутковатая форма противоречивой последовательности и последовательной противоречивости!
Такого рода противоречий и непоследовательностей, возразил Нафта, найдется и у противника сколько угодно. Оппонент считает себя демократом, но по его словам незаметно, чтобы он был другом народа и равенства, а напротив, он выказывает недопустимое аристократическое высокомерие, называя чернью мировой пролетариат, которому предназначена диктатура и представительство. Но сам Нафта действительно относится к церкви как демократ, ибо она, это нужно с гордостью признать, является представительницей самой благородной силы в истории человечества – благородной в лучшем и высшем смысле этого слова, а именно – силы духа. Ибо аскетический дух, да разрешат мне это многословие, дух отрицания мира и уничтожения мира – это само благородство, это аристократический принцип в чистом виде; он никогда не сможет стать народным, и по сути дела церковь во все времена была непопулярна. Если господин Сеттембрини потрудится взглянуть на культуру средневековья, на его литературу, он убедится, что это факт, он увидит то решительное отвращение, с каким народ, народ в широчайшем смысле этого слова, относился к церковности; достаточно вспомнить хотя бы образы некоторых монахов, создав которые народная фантазия, уже совсем по-лютеровски, провозгласила в противовес аскетизму вино, любовь и песню. Все инстинкты светского героизма и воинственности, а также придворная поэзия находились в более или менее открытой оппозиции к религиозной идее, а тем самым, и к духовной иерархии. Ибо все это была «земная жизнь» и «чернь» в сравнении с представленным церковью аристократизмом духа.
Сеттембрини поблагодарил за напоминание. В образе монаха Ильзана[168] из «Розового сада» есть немало живительных сил, если сопоставить его с восхваляемым Нафтой гробовым аристократизмом, и пусть он, Сеттембрини, сам не слишком горячий поклонник немецкого реформатора, на которого тут намекали, однако всегда готов горячо защищать все лежащие в основе его учения элементы демократического индивидуализма против любых церковно-феодальных покушений на господство над человеческой личностью.
– Ого! – вдруг воскликнул Нафта. – Вы намерены еще обвинять церковь в отсутствии демократизма и понимания ценности человеческой личности? А гуманистическая непредвзятость канонического права? Ведь в то время как у римлян правоспособность ставилась в зависимость от права гражданства, а у германцев связывалась с принадлежностью к нации и личной свободой, одно лишь каноническое право требовало только принадлежности к церковной общине и к истинной вере, не ставя эту правоспособность в зависимость от каких-либо государственных и общественных факторов и провозглашало право рабов, военнопленных и несвободных завещать и наследовать.
Наверно, в этих решениях, язвительно заметил Сеттембрини, немалую роль играл и «канонический сбор», который взымался в пользу церкви! Потом он заговорил о «демагогии попов», определил ее как особый вид снисходительности, обычно характерной для тех, кто жаждет власти во что бы то ни стало, причем эти люди вводят в действие преисподнюю, когда оказывается, что богам – по вполне понятным причинам – нет никакого дела до нас; церковь, добавил Сеттембрини, видимо, заинтересована главным образом в большем числе верных душ, а не в их качестве, что свидетельствует об ее глубоком духовном неблагородстве.
Как? Церковь лишена духовного благородства? Господину Сеттембрини тут же указали на неумолимый аристократизм, лежащий в основе идеи о наследственном стыде: о перенесении тяжелой вины – говоря с точки зрения демократической – на невинных потомков, как, например, пожизненная запятнанность и бесправие незаконных детей. Однако Сеттембрини попросил Нафту замолчать: во-первых, такие разговоры оскорбляют в нем гуманность, во-вторых, с него хватит уверток, а в апологетических подтасовках противника он снова узнает низкий и дьявольский культ какого-то «Ничто», претендующего на то, чтобы его называли духом, и заставляющего усматривать в аскетическом принципе, чья непопулярность признана самим Нафтой, нечто в высшей степени правомерное и святое.
Ну уж тут, заявил Нафта, можно только расхохотаться. Говорить о нигилизме церкви! О нигилизме самой реалистической системы господства в мировой истории! Значит, господина Сеттембрини никогда даже не коснулось веянье той гуманной иронии, с какой церковь неизменно относится к земной жизни, к плоти, скрывая с мудрой уступчивостью последние выводы из этого принципа плоти, и дает возможность духу оказывать свое регулирующее воздействие, не относясь с чрезмерной строгостью к природе. Значит, он никогда не слышал и о тонком понимании той снисходительности, с какой духовенство относится даже к такому таинству, как брак, которое не дарует положительного блага, подобно остальным таинствам, а служит лишь для защиты от греха, для сдерживания чувственных желаний и неумеренности; благодаря такому подходу церковь все же сохраняет принцип аскетизма и идеал целомудрия, избегая притом политики резких нападок на плоть.
Как тут мог Сеттембрини не возмутиться, не запротестовать против столь недостойного употребления понятия «политики», против столь высокомерной снисходительности и благоразумия, какие дух, вернее то, что здесь называют духом, приписывает себе по сравнению со своей якобы грешной противоположностью, по отношению к которой надо вести особую «политику», хотя плоть на самом деле вовсе не нуждается в его язвительном «снисхождении»; против проклятой двойственности в понимании мира, которая стремится «одьяволить» вселенную и жизнь, а тем самым и их противоположность, то есть дух: ибо если мир – начало зла, то должен быть им и дух как чистое отрицанье мира. И тут он начал ломать копья в защиту безгрешности сладострастия, причем Ганс Касторп невольно вспомнил чердачную комнатку гуманиста, его конторку, соломенные стулья, графин с водой, а Нафта стал утверждать, что никогда сладострастие не может быть безгрешным, природа вынуждена иметь нечистую совесть перед лицом духа; политика церкви и снисходительность духа – это и есть «любовь», заявил он, желая опровергнуть элемент нигилизма в аскетическом принципе, и Ганс Касторп про себя отметил, что слово «любовь» звучит весьма странно в устах тощего остролицего недомерка Нафты…
Спор продолжался, нам эта игра знакома, Гансу Касторпу – тоже. Мы на минуту послушали его, желая узнать, как этот поединок в стиле перипатетиков[169] протекает под сенью шествующей рядом с ними яркой индивидуальности и каким образом одно присутствие этой индивидуальности гасило в противниках всякий пыл – настолько, что тайная необходимость считаться с ее присутствием неотвратимо убивала время от времени проскакивающую между ними искру полемического задора, и невольно рождалось ощущение вялости и безжизненности, какое мы испытываем, когда в электрической проводке не возникает контакта. Что ж! Именно так обстояло дело. Между противоречиями не было потрескивания, не вспыхивала молния, не возникало тока; присутствие этой индивидуальности, нейтрализованное силой их духа, как им хотелось думать, скорее само нейтрализовало дух; Ганс Касторп отметил этот факт с изумлением и интересом.
Революции или сохранение существующего… Спутники Пеперкорна смотрели на него, видели, как он грузно шагает по дороге, пешком – не такой уж он величественный, переваливается с боку на бок, шляпа надвинута на глаза; они видели его широкий словно разорванный рот и слышали, как он говорил, шутливо кивая на спорщиков: «Да-да-да! Cerebrum, мозговое, понимаете ли! Это… Да это же, оказывается…» – и вдруг чувствовали, что контакт исчез. Противники пытались его вернуть, прибегали к более сильным заклинаниям, свернули на «проблему аристократизма», заговорили о том, что такое популярность и благородство. А искры нет как нет. Разговор магнетически приобрел для Ганса Касторпа личную окраску. Он увидел спутника Клавдии лежащим в постели под красным шелковым одеялом, в теплой фуфайке без ворота – это был наполовину старик-рабочий, наполовину бюст короля; бледно вспыхнув, искра снова угасла. Сильнее напряжение тока! Там – отрицанье и культ какого-то ничто. Тут – вечное «Да» и любовная устремленность духа к жизни! Но куда же исчез и пыл, молния, ток, когда люди смотрели на мингера, – а это происходило неизбежно в результате какой-то загадочной силы притяжения? Короче говоря, они как бы исчезали, а это, пользуясь словами Ганса, было поистине тайной. Он мог записать для своего собрания афоризмов, что тайны раскрываются или в самых простых словах или не раскрываются вовсе. Чтобы выразить эту тайну, надо было всего-навсего сказать, но уж напрямик, что Питер Пеперкорн, со своей скульптурной царственной маской и горестно разорванным ртом, воплощает в себе обе крайности, что оба начала близки ему и друг друга в нем упраздняют, – при взгляде на него это становилось ясно: и первое, и второе, и то, и другое – да, в этом глупом старике, в этом самодержавном нуле! Он парализовал самый нерв противоречий, не сбивая спорящих с толку и не запутывая их, как делал Нафта; в нем не чувствовалось ничего двусмысленного, как в Нафте, он был чем-то совсем противоположным, положительным; эта переваливающаяся загадка пребывала не только вне глупости и рассудительности, но и вне многих иных противопоставлений, какие выдвигали Нафта и Сеттембрини, чтобы в педагогических целях создать высокое напряжение спора. Эта индивидуальность, казалось, отнюдь не педагогична, и все же какая удача, если она встретится молодому человеку, путешествующему с образовательной целью! Как странно было наблюдать столь царственную двойственность, когда спорящие дошли до брака и греха, до таинства и снисходительности, до греховности и безгрешности сладострастия! Он склонил голову на грудь и плечо, скорбный рот разомкнулся, вяло и жалобно повисли раскрытые губы, ноздри напряглись и расширились, словно от боли, складки на лбу поднялись, бледные глаза расширились, в них появилось страдальческое выражение, – весь он стал как бы воплощением глубокой скорби. И вдруг в один миг черты мученика преобразились, они расцвели щедрой жизнерадостностью. В склоненном лице блеснуло лукавство, губы, еще раскрытые, улыбнулись нескромной улыбкой, на щеке обозначилась уже не раз отмеченная нами сибаритская ямочка, – это был опять пляшущий языческий жрец, и, кивнув головой в сторону умников, он сказал:
– Что ж, да-да-да – превосходно. Это же они… Это ведь таинство сладострастия, понимаете ли…
И все-таки, как мы уже отметили, разжалованные друзья и воспитатели Ганса Касторпа испытывали наибольшее удовольствие, когда могли ссориться. Они чувствовали себя тогда в своей стихии, а Пеперкорн с его «масштабами» – нет, и можно было хоть придерживаться разных мнений о роли, которую он играл. Но совсем не в их пользу складывалось положение, когда требовались не блеск и игра ума, не красноречие, а дело касалось конкретных вещей, земных и практических, – словом, вопросов и фактов, в которых властные натуры показывают свое преимущество: тогда спорщики скисали, отступали в тень, тускнели, а скипетром завладевал Пеперкорн, решал, распоряжался, призывал, заказывал, приказывал… И разве удивительно, что его тянуло именно к этой роли, что он стремился перейти от словопрений к действиям? Он страдал, пока окружающие предавались этим словопрениям или предавались слишком долго; но не из тщеславия страдал он тогда, – Ганс Касторп был в этом уверен. У тщеславия нет масштабов, и величие не бывает тщеславным. Нет, потребность Пеперкорна в конкретности вызывалась другим: а именно – «страхом», говоря грубо и прямо – тем особым сознанием долга и одержимостью чувством чести, о которых Ганс Касторп не раз пытался говорить с Сеттембрини и которое готов был признать до известной степени военной чертой.
– Господа, – и сейчас остановил их голландец, воздев свою капитанскую руку с копьями ногтей заклинающим и повелительным жестом.
– Хорошо, господа, превосходно, отлично! Аскетизм… снисходительность… Чувственные наслаждения… Мне хотелось это… Безусловно! Чрезвычайно важно! Чрезвычайно важно! Однако разрешите мне… Боюсь, что мы берем на себя тяжелое… Мы уклоняемся, господа, мы уклоняемся самым безответственным образом от самых святых… – Он глубоко перевел дыхание. – Этот воздух, господа, сегодня, этот особый воздух, когда дует фен, с его мягким и расслабляющим весенним ароматом, полным предчувствий и воспоминаний, нам не следовало бы дышать им, чтобы потом, в форме… я настоятельно прошу: не будем этого делать. Это же оскорбление. Нам следовало бы отдавать только ему наше глубокое и цельное… о, наше высшее и полнейшее… Кончено, господа! И только как чистую хвалу его свойствам, должны мы были бы выдыхать его из нашей груди… Я перебью самого себя, господа! Я перебью себя в честь этого…
Он остановился, откинулся назад, заслонив шляпой глаза от солнца, и все последовали его примеру.
– Обращаю ваше внимание, – начал он опять, – ваше внимание на небо, на высокое небо, на ту вон темную, кружащую в нем точку, в необычайно синем, почти черном небе… Это хищная птица, большая хищная птица. Это, если я не… и вы, господа, и вы, дитя мое… это орел. И я решительно обращаю на него ваше… Смотрите! Не сарыч и не коршун… если бы вы были так дальнозорки, как я становлюсь с годами… Да, дитя мое, конечно, года идут… волосы мои побелели, разумеется… то вы увидели бы так же отчетливо, как я, по плавной закругленности крыльев. Это орел, господа. Беркут. Он кружит в синеве прямо над нами, парит без взмахов в величественной высоте к нашему… И, наверно, выслеживает своими мощными зоркими глазами под выступающими надбровьями… Это орел, господа, птица Юпитера, царь птиц, лев воздуха! У него штаны из перьев и железный клюв, круто загнутый спереди, невероятной силы лапы и загнутые когти, задний коготь как железными тисками охватывает передние Видите, вот так! – И он попытался придать своей капитанской руке сходство с орлиной лапой. – Что ты кружишь и ищешь, кум? – сказал он, снова глядя ввысь. – Бросайся вниз! Бей его своим железным клювом в голову и в глаза, вспори живот тому созданью, которое бог тебе… Превосходно! Кончено! Пусть его внутренности обовьют твои когти и с твоего клюва закапает кровь…
Он был полон воодушевления, и интерес всей компании к антиномиям Нафты и Сеттембрини угас. А образ орла еще долго потом как бы жил в планах и решениях, которые осуществлялись по инициативе мингера: зашли в гостиницу, пили и ели в неурочное время, но с аппетитом, разгоревшимся от безмолвных воспоминаний об орле; начался один из кутежей, которые так часто затевал мингер вне «Берггофа», в «курорте» или в деревне, в трактирах Глариса или Клостерса, куда ездили погулять в маленьких поездах; и пациенты, под его властным руководством, вкушали классические дары жизни – кофе со сливками и местным печеньем или сочный сыр на ароматном альпийском масле, удивительно вкусные горячие жареные каштаны – и запивали все это местным красным вином, – пей, сколько угодно; а Пеперкорн сопровождал импровизированный пир великой невнятицей слов или требовал, чтобы говорил Антон Карлович Ферге, этот добродушный страдалец, которому все возвышенное было совершенно чуждо; но он мог очень толково рассказать о выделке русских калош: к резиновой массе прибавляли серы и других веществ, и готовые, покрытые лаком калоши «вулканизировались» при температуре выше ста градусов. И о Полярном круге рассказывал он, так как служебные поездки не раз приводили его и в подобные места; о полуночном солнце и о вечной зиме на мысе Нордкап. Там, говорил он, причем двигались и его узловатое горло, и свисающие усы, пароход казался совсем крошечным в сравнении с гигантскими скалами и бескрайней стальной поверхностью моря. А по небу стлались желтые пласты света, это было северное сияние, и ему, Антону Карловичу, все казалось призрачным, и пейзаж и он сам.
Хорошо было господину Ферге, единственному участнику маленького кружка, стоявшему вне всех этих сложных и запутанных отношений! Что касается отношений, то следует отметить два коротких разговора, две диковинных беседы с глазу на глаз, которые имели место в те дни между нашим негероическим героем и Клавдией Шоша, а также между ним и ее спутником, притом с каждым в отдельности – один происходил в вестибюле, вечером, когда «препятствие» лежало наверху в приступе лихорадки, а второй – днем, у ложа мингера Пеперкорна…
В тот вечер в вестибюле царил полумрак. Обычное совместное пребывание пациентов после ужина было недолгим и каким-то вялым. Общество быстро разошлось по балконам для вечернего лежания, иные запретными для больных путями спустились вниз, в широкий мир, чтобы предаться танцам или игре в карты. Только одна лампочка горела где-то под потолком опустевшего вестибюля, были чуть освещены и прилегающие к нему гостиные. Ганс Касторп знал, что мадам Шоша, ужинавшая без своего повелителя, еще не вернулась на второй этаж, а сидит одна в читальне, почему и он медлил уйти к себе наверх. В глубине вестибюля, в той его части, которая отделялась от остальной комнаты одной плоской ступенькой и несколькими белыми арками с обшитыми панелью столбами, он уселся возле выложенного изразцами камина, в такой же качалке, в какой некогда качалась Маруся, когда Иоахим единственный раз говорил с ней. Ганс Касторп курил папиросу, после ужина это здесь разрешалось.
Она вошла, он услышал ее шаги, шелест ее платья за своей спиной, вот она уже подле него, и, помахивая каким-то письмом, она спрашивает своим Пшибыславовым голосом:
– Консьерж уже ушел. Дайте хоть вы timbre-poste![170]
В этот вечер на ней было темное платье из легкого шелка, с круглым вырезом вокруг шеи и широкими рукавами, стянутыми у кисти манжетами на пуговицах. Ее туалет понравился ему. Кроме того, она надела жемчужное ожерелье, мягко поблескивавшее в полумраке. Он поднял глаза и посмотрел на ее киргизское лицо. И повторил:
– Timbre? У меня нет.
– Как? Ни одной? Тогда tant pis pour vous.[171] Значит, вы не можете оказать даме любезность? – Она надула губы и пожала плечами. – Я разочарована. Ведь вы, мужчины, должны быть хоть точны и исполнительны. А мне почему-то представлялось, что в вашем бумажнике лежат сложенные листы почтовой бумаги, они распределены по сортам.
– А зачем? – отозвался он. – Писем я не пишу. Да и кому писать? Изредка отправишь открытку, и то оплаченную заранее. И кому бы я стал писать письма? У меня никого нет. У меня уже нет никакой связи с равниной, я потерял ее. В нашем сборнике народных песен есть такая песня: «Для мира я потерян». Так дело обстоит и со мной.
– Ну, тогда дайте хоть папиросу, пропащий вы человек! – сказала Клавдия, опускаясь против него на стоящую у камина скамью с полотняной подушкой; она закинула ногу на ногу и протянула руку. – Видно, запас у вас большой. – Она небрежно взяла из протянутого им портсигара папиросу и, не поблагодарив, закурила от зажигалки, которую он поднес к ее склоненному лицу. В этом ленивом «Ну, тогда дайте», в этой манере брать не благодаря сказывалась беззаботность избалованной женщины, но, кроме того, и человеческая, вернее «человеееческая» привычка к товарищеской общности владения, какая-то первобытная и мягкая, сама собой разумеющаяся естественность, с какой она считала нужным брать и давать. Он отметил это с пристрастием влюбленного. Потом сказал:
– Да, большой. Папиросы у меня всегда есть. Их нужно иметь. Да и как обходиться без них? Не правда ли, если так подумать, то это называется страстью? Говоря откровенно, я человек не страстный, но и у меня бывают страсти, флегматические страсти.
– Меня необыкновенно успокаивает, – сказала она, выпуская дым вместе со словами, – ваше заявление, что вы человек не страстный. Да и как бы вы могли быть им? Вы оказались бы выродком, страсть – это значит жить ради самой жизни. А такие, как вы, живут ради переживаний. Страсть – это самозабвение. А ведь вы стремитесь только к самообогащению. C'est ca.[172] И вы даже не подозреваете, что это ужаснейший эгоизм и что вы, мужчины, в один прекрасный день окажетесь в положении врагов человечества!
– Стоп, стоп! Сейчас уж и враги человечества! Почему ты это говоришь, Клавдия, зачем так обобщаешь? Ты имеешь в виду что-то определенное и личное, раз ты настаиваешь на том, что для нас важна не сама жизнь, а наше обогащение? Вы, женщины, ведь не морализируете зря. Ах, знаешь ли… мораль… Право же, это тема для спора между Нафтой и Сеттембрини. Она относится к области предметов чрезвычайно туманных. А живет ли человек ради себя или ради жизни, он сам не знает и никто не может знать точно и наверняка. Я хочу сказать, что границу тут установить трудно. Существует эгоистическая жертвенность и жертвенный эгоизм… Думаю, что дело здесь обстоит так же, как в любви. Я не могу хорошенько вдуматься в то, что ты говоришь о морали, и это, вероятно, аморально, но я прежде всего рад, что мы вот так сидим вместе, как сидели всего один-единственный раз, и потом больше не сидели, с тех пор как ты вернулась. И рад, что я могу сказать, как удивительно идут тебе эти манжеты вокруг кисти и этот тонкий шелк, спадающий с твоих плеч, с твоих плеч, которые я знаю…
– Я ухожу…
– Прошу тебя, не уходи! Я буду считаться и с обстоятельствами и с людьми.
– По крайней мере хоть этого мы вправе ждать от человека без страстей.
– Да, вот именно! Ты бранишь меня и надо мной издеваешься, когда я… И грозишь уйти, когда я…
– Просьба говорить более вразумительно и без пропусков, если вы желаете, чтобы вас поняли.
– Значит, я даже чуточку не могу участвовать в твоем отгадывании этих пропусков? Это же несправедливо, сказал бы я, если бы не понимал, что дело тут не в справедливости…
– О нет. Справедливость – это страсть флегматическая. Она противоположна ревности, которая безусловно делает флегматичных людей смешными.
– Видишь? Смешными. А поэтому предоставь мне мою флегму. Повторяю: как бы я обошелся без нее? Как бы я выдержал без нее, например, ожидание?
– Не понимаю.
– Ожидание тебя.
– Voyons.[173] Я не намерена больше задерживаться на той форме, в какой вы с нелепым упрямством обращаетесь ко мне. Вам самому надоест, да и я в конце концов не чопорна и не возмущаюсь, как мещанка…
– Нет, ведь ты больна. И болезнь дает тебе свободу. Она делает тебя – постой, сейчас мне пришло в голову такое слово, которое я еще никогда не употреблял! Она делает тебя гениальной!
– О гениальности мы поговорим в другой раз. Я не то хотела сказать. Я требую одного: не вздумайте вообразить, будто я дала вам какой-нибудь повод для ожидания, если только вы действительно ждали, что я вас к нему поощряла или хотя бы только разрешила вам ждать. Вы немедленно и категорически заявите мне как раз обратное…
– Охотно, Клавдия, конечно. Ты не предлагала мне ждать, я ждал по собственной воле. И я вполне понимаю, почему ты придаешь такое значение…
– Даже когда вы в чем-нибудь сознаетесь, вы дерзите. И вообще вы человек предерзкий, бог знает почему. Не только в отношениях со мной, но и вообще. Даже в вашем восхищении, в вашей покорности есть что-то дерзкое. Не думайте, будто я не замечаю! Мне вообще не следовало об этом говорить с вами, и прежде всего потому, что вы осмеливаетесь напоминать о вашем ожидании. То, что вы еще здесь, – это полная безответственность. Вам давным-давно пора вернуться к своей работе на вашей chantier[174], или как она там называется…
– А сейчас, Клавдия, ты вовсе не гениальна и повторяешь пошлости. Какой вздор! Ты же не разделяешь взгляды Сеттембрини, это невозможно, и говоришь только так, я не могу отнестись к твоим словам серьезно. И я не позволю себе взять да уехать, как уехал мой бедный двоюродный брат, который, как ты и предсказала, умер, едва только попытался служить в армии на равнине. Но он все-таки предпочел умереть, чем отбывать здесь службу пациента. Ну, на то он и солдат. Но я другой, я человек штатский, и для меня это было бы дезертирством, если бы я поступил, как он, и, невзирая на запрещение Радаманта, вернулся на равнину, и стремился бы partout[175] непременно приносить пользу и служить прогрессу, это было бы величайшей неблагодарностью и изменой по отношению к болезни и гениальности и моей любви к тебе, от которой у меня остались и старые рубцы и новые раны, по отношению к твоим плечам, которые я знаю, хотя готов допустить, что это было только во сне, что я только в гениальном сне узнал их, и для тебя отсюда не вытекает никаких последствий и обязательств, никакого стеснения твоей свободы…
Клавдия, сидевшая против него с папиросой во рту, прислонившись к панели, опираясь руками о скамью и закинув ногу на ногу, так рассмеялась, что татарские глаза ее стали как щелки, а черная лакированная туфелька на приподнятой ноге запрыгала.
– Quelle generosite! Oh la, la, vraiment[176], знаешь, я тебя всегда таким и представляла, un homme de genie[177], бедный мой малыш!
– Довольно, Клавдия. Я, конечно, по природе своей никакой не homme de genie и не человек больших масштабов, клянусь богом, нет. Все же случайно – назовем это случайностью – я был вознесен так высоко, в эти гениальные области… Словом, тебе, вероятно, неизвестно, что существует такая штука, как герметическая педагогика, это особая алхимия пресуществления, претворения, если выразиться точнее – более низкого в нечто более совершенное, в нечто, так сказать, – повышенного типа. Но ведь и сам материал должен быть таким, чтобы в результате воздействия извне и принуждения он мог подняться на более высокую ступень, в нем должны быть соответствующие задатки. А во мне, я это знаю твердо, такими задатками было то, что я издавна дружил с болезнью и смертью, и, будучи еще мальчиком, однажды потеряв голову, я попросил у тебя карандаш, а потом попросил вторично, в карнавальную ночь. Но безрассудная любовь гениальна, ибо смерть, нужно тебе сказать, это гениальный принцип, она res bina, lapis philosophorum, и она же – принцип педагогический, любовь к смерти рождает любовь к жизни, к человечеству; вот в чем суть, эта суть открылась мне, когда я лежал на моем балконе, и я теперь страшно рад, что могу тебе сказать об этом. К жизни ведут два пути: первый – обычный, он прям и честен. Второй – опасен, он ведет дальше смерти, и это путь гениальности!
– А ты – философ-дуралей, – отозвалась она. – Не буду утверждать, что я все понимаю в этих твоих замысловатых немецких рассуждениях, но в твоих словах звучит что-то человеческое, и ты безусловно хороший мальчик И потом, ты действительно вел себя en philosophe[178], в этом тебе не откажешь…
– На твой вкус уж слишком en philosophe, верно, Клавдия?
– Перестань дерзить! Надоело. То, что ты меня ждал, было глупо и недопустимо. Но ты на меня не сердишься, что ждал напрасно?
– Ну, ждать было трудновато, Клавдия, даже для человека с флегматическими страстями, – трудно для меня, а с твоей стороны было жестоко приехать вместе с ним, ведь ты, конечно, знала от Беренса, что я здесь и жду тебя. Но я же тебе сказал, что смотрю на ту нашу ночь, как на сон, и признаю за тобой полную свободу. В конце концов я ждал не напрасно, и вот ты здесь опять, мы сидим вдвоем, как тогда, я слышу снова твой пленительный, чуть хриплый голос, он так давно знаком моему слуху, а под этими широкими шелковыми складками скрыты твои плечи, которые я знаю, – и пусть даже наверху лежит в лихорадке твой спутник, который подарил тебе этот жемчуг…
– И с которым вы, ради своего внутреннего обогащения, так подружились…
– Не сердись, Клавдия! Меня и Сеттембрини уже бранил, а ведь это только светский предрассудок. Такой человек – это же выигрыш, клянусь богом, он же крупная индивидуальность! Правда, он в летах… Ну что ж… Я все равно понял бы, если бы ты, как женщина, безумно полюбила его. Значит, ты очень его любишь?
– Это делает честь твоему философскому складу, немецкий дурачок, – сказала она и погладила его по волосам, – но я не считала бы, что это по-человечески – говорить о моей любви к нему!
– Ах, Клавдия, почему бы и нет? По-моему, человеческое начинается именно там, где, по мнению людей не гениальных, оно кончается! Ты страстно его любишь?
Она наклонилась, чтобы сбоку бросить в камин окурок папиросы, потом снова села, скрестив руки.
– Он любит меня, – сказала она, – и его любовь рождает во мне благодарность, гордость, преданность. Ты должен это понять, иначе ты не достоин того дружеского чувства, с каким он к тебе относится. Его любовь заставила меня последовать за ним и служить ему. Да и как иначе? Посуди сам! Разве по-человечески можно пренебречь его чувством?
– Невозможно! – согласился Ганс Касторп. – Нет, это, конечно, исключено. Способна ли женщина пренебречь его чувством, его страхом за это чувство и, так сказать, бросить его одного в Гефсиманском саду?
– А ты не глуп, – заметила она, и взгляд ее раскосых глаз стал задумчивым и неподвижным. – Ты умен. Страх за чувство.
– Да, ты должна была последовать за ним, чтобы это понять – особого ума не нужно… Хотя, или скорее, еще и потому, что в его любви таится немало пугающего…
– C'est exact…[179] Пугающего. Он доставляет немало забот, знаешь ли, с ним очень нелегко… – Она взяла руку своего собеседника и начала бессознательно перебирать его пальцы, но вдруг нахмурилась и, подняв глаза, сказала: – Постой! А это не подлость, что мы о нем так говорим?
– Конечно, нет, Клавдия. Нисколько. Мы говорим ведь просто, по-человечески! Ты очень любишь это слово и так мечтательно растягиваешь его, я всегда восхищаюсь, когда ты произносишь его. Мой кузен Иоахим не любил этого слова, он не признавал его как солдат. Он считал, что оно означает всеобщую расхлябанность и разболтанность; в этом смысле, как беспредельное guazzabuglio терпимости, оно тоже вызывает во мне сомнения, согласен. Но когда связываешь с ним гениальность и доброту, тогда оно приобретает особую значительность, и мы спокойно можем употреблять его в нашем разговоре о Пеперкорне, о заботах и трудностях, которые он тебе доставляет. Причиной, конечно, является его пунктик, его особое понимание мужской «чести», страх перед бессилием чувства, почему он так и любит классические укрепляющие и услаждающие средства, – мы можем говорить об этом с полным уважением, ибо у него во всем большие масштабы, по-царски грандиозные масштабы, и мы не унижаем ни его, ни себя, если по-человечески беседуем об этом.
– Дело тут не в нас, – сказала она, снова скрестив руки на груди, – но какая женщина ради мужчины, мужчины больших масштабов, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижения?
– Безусловно, Клавдия. Очень хорошо сказано. И в унижении могут быть большие масштабы, и женщина может, с высоты своего унижения, разговаривать пренебрежительно с теми, у кого нет царственных масштабов, как ты перед тем говорила со мной о timbres-poste, особенно когда ты сказала: «Ведь вы, мужчины, должны быть хотя бы точны и исполнительны».
– Ты обиделся? Брось. Пошлем обидчивость к черту – согласен? И я тоже иной раз обижаюсь, если хочешь знать, раз уж мы сегодня вечером так вот сидим и говорим. Меня злит твоя флегматичность и что ты так подружился с ним ради собственного эгоистического удовольствия. И все-таки я рада и благодарна тебе, что ты относишься к нему с таким уважением… В твоем поведении немало честного доброжелательства, хотя и не без скрытой дерзости, но все-таки я ее в конце концов простила тебе.
– Очень любезно с твоей стороны.
Она посмотрела на него.
– Ты, кажется, неисправим. Знаешь, что я тебе скажу? А ведь ты ужасно хитрый. Не знаю, умен ли ты; но хитер ты бесспорно. Впрочем, ничего, с этим можно еще примириться. И дружить можно. Давай будем друзьями, заключим союз за него, как обычно заключают против кого-нибудь. Согласен? Нередко мне бывает страшно… Я иногда боюсь оставаться с ним наедине… внутренне наедине, tu sais…[180] Он пугает меня… Порой мне кажется, что с ним случится беда… Просто ужас берет… И хотелось бы иметь рядом с собой хорошего человека… Enfin[181], если желаешь знать, я, может быть, потому сюда с ним и приехала…
Они сидели, соприкасаясь коленями, он – в качалке, наклонившись вперед, она все так же на скамейке. При последних словах, которые Клавдия проговорила, приблизив к его лицу свое лицо, она сжала ему руку. Он сказал:
– Ко мне? Но это же чудесно, Клавдия, это прямо замечательно! Ты с ним приехала ко мне? И ты все-таки уверяешь, будто ждать тебя было глупо, недопустимо и совершенно бесполезно? Да с моей стороны было бы невероятной душевной толстокожестью, если бы я не оценил такое предложение дружбы, дружбы ради него…
И тут она поцеловала его в губы. Это был особый русский поцелуй, каким в этой широкой и душевной стране люди обмениваются в дни торжественных христианских праздников, поцелуй, словно печать, скрепляющая любовь. Но так как им в данном случае обменялись некий вышеупомянутый молодой хитрец и тоже еще молодая, пленительно крадущаяся женщина, то мы, рассказывая об этом, невольно вспоминаем кое-какие хитроумные, хотя далеко не бесспорные и даже зыбкие утверждения доктора Кроковского относительно любви, так что, слушая их, трудно было разобрать, имеет ли он в виду некое благоговейное чувство или плотскую страсть. Последуем ли и мы, говоря об этом русском поцелуе, его примеру, вернее не мы, а Ганс Касторп и Клавдия Шоша? А как это примет читатель, если мы просто откажемся расследовать вопрос по существу? Хотя, по нашему мнению, такое расследование соответствовало бы требованиям психоанализа. Но проводить в любви совершенно четкую грань между благоговейным чувством и страстным, значило бы, повторяя выражение Ганса Касторпа, выказать толстокожесть и даже враждебность жизни. Да и как понимать эту «четкость»? Что такое в данном случае «четкость»? Что такое зыбкость и двусмысленность? Нам просто становится смешно. Разве это не прекрасно и не возвышенно, что в языке существует одно слово для всего, что под ним разумеют, начиная от высшего молитвенного благоговения и кончая самым яростным желанием плоти? Тут полное единство смысла в двусмысленности, ибо не может любовь быть бесплотной даже при высшем благоговении, и не быть благоговейной – предельно плотская страсть; любовь всегда верна себе, и как лукавая жизнерадостность, и как возвышенный пафос страсти, ибо она – влечение к органическому началу, трогательное и сладострастное обнимание того, что обречено тлению, – charitas присутствует в самом высоком и в самом неистовом чувстве. Зыбкий смысл? Ради бога! Пусть смысл любви будет зыбким! То, что он зыбкий, – естественно и человечно, и тревога в этом случае была бы признаком полного отсутствия всякой тонкости понимания.
Итак, в то время как губы Ганса Касторпа и мадам Шоша встречаются в русском поцелуе, мы погружаем во тьму наш маленький театр, чтобы переменить мизансцену. Ибо сейчас мы перейдем ко второму разговору, о котором обещали поведать, и снова включим свет: это тусклый свет уходящего весеннего дня, когда в горах уже началось таянье снегов. Мы видим нашего героя в ставшей для него привычной жизненной ситуации; он сидит у постели великого Пеперкорна и занят почтительно-дружеской беседой с больным. После четырехчасового чаю, к которому, как и к предшествующим трем трапезам, мадам Шоша явилась одна, а затем тут же отправилась вниз shopping[182] в магазины курорта, Ганс Касторп решил нанести голландцу обычный визит, отчасти – чтобы оказать ему внимание и развлечь, отчасти – чтобы самому насладиться поучительным воздействием этой незаурядной индивидуальности, – словом, по самым жизненным и зыбким мотивам. Пеперкорн отложил газету «Телеграф», снял за дужку роговое пенсне, бросил его на газету и протянул гостю свою капитанскую руку, причем как будто с трудом пошевелил крупными разорванными губами. Кофе и красное вино, как всегда, были у него под рукой: поднос с кофейной посудой и остатками кофе стоял на стуле – мингер только что выпил послеобеденную порцию этого напитка, как обычно крепкого и горячего, с сахаром и сливками, и основательно вспотел. Его лицо, окруженное белым пламенем волос, покраснело, бисеринки испарины выступили на лбу и на верхней губе.
– Я потею, – сказал он. – Добро пожаловать, молодой человек. Напротив. Садитесь! Если, выпив горячего, сейчас же… Это признак слабости… Будьте добры… Очень хорошо. Носовой платок. Покорно благодарю. – Впрочем, румянец скоро исчез и сменился желтоватой бледностью, которая после очередного приступа лихорадки обычно появлялась на лице этого величественного человека. Сегодня приступ квартаны оказался очень сильным, все три его стадии – озноб, жар и пот, и маленькие бледные глазки Пеперкорна под скульптурными идольскими складками на лбу смотрели устало. Он сказал: – Молодой человек… это очень… Хотелось бы сказать – заслуживает безусловно… благодарности… С вашей стороны очень любезно, что вы больного старика…
– Что я вас навестил? – подхватил Ганс Касторп. – Вовсе нет, мингер Пеперкорн. Это я должен быть вам глубоко благодарен за то, что могу немножко посидеть с вами, ведь я получаю от этого несравненно больше, чем вы, и прихожу из чисто эгоистических побуждений. А потом что это за совершенно неверное определение вашей личности – «больной старик»? Никому и в голову не придет, что это относится к вам. Это дает совершенно неправильное представление о…
– Ладно, ладно, – прервал его мингер и на несколько мгновений закрыл глаза; он откинул на подушку величественное чело и так остался лежать, подняв подбородок, соединив свои пальцы с длинными ногтями на царственной груди, круто выступавшей под шерстяной фуфайкой.
– Хорошо, молодой человек, или вернее – у вас хорошие намерения, я в этом убежден. Приятно было вчера под вечер – да, еще вчера под вечер – в том гостеприимном местечке – забыл его название, где мы ели яичницу с превосходной салями и пили здоровое местное вино…
– Да, замечательно! – согласился Ганс Касторп. – Все это было очень вкусно, и мы недопустимо наелись, – здешний шеф-повар имел бы право обидеться, если бы видел. – словом, все мы без исключения так и набросились на эти вкусности. А салями была действительно самая настоящая, господин Сеттембрини даже растрогался, он ел, так сказать, со слезами на глазах. Он же патриот, как вам, вероятно, известно, патриот-демократ. И освятил свое копье гражданина на алтаре человечества, с тем чтобы за салями и впредь взимали пошлину на швейцарской границе.
– Ну, дело не в этом, – отозвался Пеперкорн. – Он рыцарь, приветливый и общительный человек, кавалер, хотя судьбой ему, видно, не дано возможности часто обновлять свою одежду.
– Он ее совсем не обновляет! – сказал Ганс Касторп. – Это ему не дано. Я знаю его не первый день и очень с ним дружен, то есть он самым великодушным образом принял во мне участие, ибо решил, что я «трудное дитя нашей жизни», – это условное выражение, мы употребляем его, когда говорим друг с другом, его, пожалуй, надо объяснить, иначе оно будет непонятно, – и прилагает все силы, чтобы оказывать на меня благотворное влияние, направлять меня. Но я и зимой и летом всегда видел его все в тех же клетчатых брюках и в потрепанном двубортном сюртуке; впрочем, он носит эту старую одежду с удивительным достоинством, очень щегольски. Тут я вполне с вами согласен. То, как он носит ее, – победа над бедностью, и мне его бедность милее, чем элегантность этого недомерка Нафты, она вызывает невольное смущение, точно его элегантность, так сказать, от лукавого, а средства на нее он добывает окольными путями – мне кое-что на этот счет известно.
– Рыцарь и шутник, – повторил Пеперкорн, пропуская мимо ушей замечание о Нафте, – хотя и не – разрешите мне эту оговорку – хотя он и не без предубеждений. Мадам, моя спутница, не слишком высокого мнения о нем, как вы, вероятно, заметили, и отзывается без особой симпатии, – бесспорно потому, что эти предубеждения сказываются в его отношении к ней… Ни слова, молодой человек. Я далек от того» чтобы осудить господина Сеттембрини и ваши дружеские чувства… Отнюдь нет! И я вовсе не намерен утверждать, будто он когда-либо в смысле той учтивости, с какой кавалер обязан относиться к даме… Превосходно, дружок, возразить совершенно нечего! Все же есть какая-то граница, какая-то сдержанность, какая-то у-клон-чивость… И если мадам настроена против него, это по-человечески совершенно…
– Естественно. Понятно, совершенно оправдано. Простите, мингер Пеперкорн, что я заканчиваю вашу фразу самовольно. Я могу рискнуть на это, ибо вполне согласен с вами. Особенно если принять во внимание, насколько женщины – вы, может быть, улыбнетесь, что я, при своей молодости, позволяю себе какие-то обобщения, – насколько они, в своем отношении к мужчине, зависят от отношения мужчин к ним – тогда и удивляться нечему. Женщины, сказал бы я, создания, в которых очень сильны реакции, но они лишены самостоятельной инициативы, ленивы – в том смысле, что они пассивны. Разрешите мне, хоть и довольно неуклюже, развить дальше мою мысль. Женщина, насколько мне удалось заметить, считает себя в любовных делах прежде всего объектом, она предоставляет любви приблизиться к ней, она не выбирает свободно и становится выбирающим субъектом только на основе выбора мужчины; да и тогда, позвольте мне добавить, свобода выбора, – разумеется, если мужчина не слишком уж ничтожен, – не является необходимым условием; на свободу выбора оказывает влияние, женщину подкупает тот факт, что ее избрали. Боже мой, это, конечно, общие места, но когда ты молод, тебе, естественно, все кажется новым, новым и поразительным. Вы спрашиваете женщину: «Ты-то его любишь?» – «Но он так сильно любит меня», – отвечает она вам. И при этом или поднимает взор к небу, или опускает долу. А представьте-ка себе, что такой ответ дали бы мы, мужчины, – извините, что я обобщаю! Может быть, и есть мужчины, которые так бы и ответили, но они же будут просто смешны, эти герои находятся под башмаком любви, скажу я в эпиграмматическом стиле. Интересно знать, о каком самоуважении может идти речь у мужчины, дающего столь женский ответ. И считает ли женщина, что она должна откоситься с безграничной преданностью к мужчине, оттого что он, избрав ее, оказал милость столь низко стоящему созданию, или она видит в любви мужчины к своей особе верный знак его превосходства? В часы размышлений я не раз задавал себе этот вопрос.
– Вы затронули вашими меткими словечками исконные классические факты древности, некую священную данность, – сказал Пеперкорн. – Мужчину опьяняет желание, женщина требует, чтобы его желание опьяняло ее. Отсюда наша обязанность испытывать подлинное чувство, отсюда нестерпимый стыд за бесчувственность, за бессилие пробудить в женщине желание. Выпьете со мной стаканчик красного вина? Я выпью. Очень пить хочется. Сегодня у меня была особенно сильная испарина.
– Большое спасибо, мингер Пеперкорн. Правда, время для меня неурочное, но выпить глоток за ваше здоровье я всегда готов.
– Тогда возьмите бокал. У меня только один. А я обойдусь чайным стаканом. Думаю, что для этой шипучки не будет обидой, если я выпью ее из столь скромного сосуда… – С помощью гостя он налил себе вина чуть дрожащей капитанской рукой и жадно опрокинул весь стакан в свое монументальное горло, словно это была просто вода.
– Услаждает, – заявил он. – Еще не хотите? Тогда я позволю себе повторить… – Снова наполняя стакан, он пролил немного вина. На пододеяльнике выступили багровые пятна. – Повторяю, – продолжал он, подняв копьевидный палец одной руки и держа стакан с вином в другой, слегка дрожащей руке, – повторяю: отсюда наши обязанности, наши религиозные обязанности по отношению к чувству. Наше чувство, понимаете ли, это та мужская сила, которая пробуждает жизнь. Жизнь дремлет, и она хочет, чтобы ее пробудили для хмельного венчания с божественной любовью. Ибо чувство любви, юноша, божественно. И поскольку человек любит, он тоже приобщается к божественному началу. Человек – это любовь божия. Бог создал его, чтобы через него любить. Человек всего лишь орган, через который бог сочетается браком с пробудившейся опьяненной жизнью. Если же человек оказывается неспособным на чувство, это поражение мужской силы божества, это космическая катастрофа, невыразимый ужас… – Он выпил.
– Позвольте мне взять у вас стакан, – сказал Ганс Касторп. – Я слежу с большим интересом за ходом ваших мыслей, они крайне поучительны. Ведь вы развиваете теологическую теорию, в которой приписываете человеку весьма почетную, хотя, может быть, и несколько одностороннюю религиозную функцию. Если осмелюсь заметить, в ваших воззрениях есть известная доля ригоризма и, простите, что-то угнетающее! Ведь всякая религиозная суровость не может не действовать угнетающе на людей скромных масштабов. Я, конечно, не помышляю о том, чтобы вносить в ваши взгляды какие-то поправки, мне хотелось бы только вернуться к тому, что вы сказали о предубежденности, с какой, по вашим наблюдениям, господин Сеттембрини относится к мадам Шоша, вашей спутнице. Я знаю господина Сеттембрини давно, очень давно, не один год. И могу вас заверить, что его предубеждения, поскольку они существуют, лишены всего мелкого и мещанского – даже предположить это смешно. Здесь речь может идти только о предубеждениях, так сказать, большого стиля, а следовательно, внеличного характера, об общих педагогических принципах; применяя их ко мне, господин Сеттембрини, откровенно говоря, охарактеризовал меня как «трудное дитя нашей жизни», – но разговор обо мне завел бы нас слишком далеко. Вопрос этот очень сложный, и я не могу, в двух словах…
– И вы любите мадам? – вдруг спросил мингер и обратил к гостю свое царственное лицо с разорванным страдальческим ртом и бледными глазками под мощными арабесками лба.
Ганс Касторп опешил. Он пробормотал:
– Люблю ли я… То есть… Я, конечно, глубоко почитаю мадам Шоша, прежде всего потому…
– Прошу вас, – прервал его Пеперкорн и вытянул руку проработанным и отстраняющим жестом, – позвольте мне, – продолжал он, словно освободив этим жестом место для того, что хотел сказать, – позвольте мне повторить, что я далек от мысли, будто господин итальянец действительно погрешил против заповедей рыцарства… Я никому не делаю такого упрека, никому. Но меня удивляет… В настоящую минуту меня даже радует – хорошо, молодой человек. Очень хорошо и прекрасно. Я рад, в этом не может быть сомнений: мне действительно очень приятно. Я говорю себе… Я говорю себе, одним словом, ваше знакомство с мадам более давнее, чем наше с ней. Ее прошлое пребывание здесь совпало с вашим. Кроме того, она во всех отношениях прелестнейшая женщина, а я всего-навсего больной старик. Как могло случиться… что она, я ведь нездоров, что она сегодня после обеда отправилась вниз делать покупки одна, без провожатого… Беды тут нет! Никакой! Но, конечно, следовало… Не знаю, приписать ли мне влиянию – повторяю ваши слова – влиянию педагогических принципов синьора Сеттембрини, что вы не последовали рыцарскому побуждению… Прошу понять меня правильно…
– Я понял вас правильно, мингер Пеперкорн. О нет! Ни в какой мере. Я действую совершенно самостоятельно. И господин Сеттембрини, наоборот, меня как-то даже… К сожалению, у вас на простыне, мингер Пеперкорн, винные пятна. Разве не надо… Мы обычно посыпаем их солью, пока они еще свежие…
– Это несущественно, – отозвался Пеперкорн, не сводя глаз со своего гостя.
Ганс Касторп покраснел.
– Дело обстоит тут не совсем обычно, – начал он с натянутой улыбкой. – У нас наверху нет таких условностей, сказал бы я. Все права на стороне больного, будь то женщина или мужчина. И рыцарские предписания отступают на второй план. Сейчас вы занемогли, мистер Пеперкорн, правда, это временное, и ваше недомоганье пройдет. Но ваша спутница сравнительно здорова. И мне кажется, я действую в духе мадам, если в ее отсутствие стараюсь по мере сил заменить ее, поскольку в данном случае можно говорить о замене. Ха-ха! Вместо того чтобы, наоборот, заменить вас при ней, предложив сопровождать ее вниз. Да и как дерзнул бы я навязать вашей спутнице мои рыцарские услуги? На это у меня нет ни прав, ни полномочий. Я очень хорошо разбираюсь в том, кто на что имеет право, смею вас уверить. Словом, я позволяю себе надеяться, что занятая мной позиция вполне корректна, она соответствует реальному положению вещей и, в частности, моей искренней симпатии к вам лично, мингер Пеперкорн. По-моему, я тем самым и на ваш вопрос – ведь вы, видимо, задали мне вопрос – дал вполне удовлетворительный ответ.
– И очень приятный, – отозвался Пеперкорн. – Признаюсь, я с удовольствием слушаю ваши бойкие речи, молодой человек. Вы перескакиваете через все трудности и так округляете их, что не к чему придраться. Но удовлетворение – нет. Ваш ответ не вполне меня удовлетворяет – простите, тут я вынужден вас разочаровать. «Ригоризм», сказали вы, дружок, по поводу некоторых высказанных мною взглядов. Но ведь и ваши суждения не лишены известного «ригоризма», строгости и скованности, которые, по-моему, не соответствуют вашей натуре, хотя мне в некоторых определенных случаях и пришлось наблюдать в вас эту скованность: она появляется в отношении мадам во время наших совместных прогулок и других развлечений, но только в отношении ее одной; объяснить это ваш долг, ваша обязанность, молодой человек. И я не ошибаюсь. Мои наблюдения подтверждались столько раз, что определенные выводы, вполне естественно, напрашивались и у других, с той разницей, что другие-то, вероятно, и даже наверное, знали и разгадку этого явления.
Сегодня речь мингера была необычно точной и связной, несмотря на то что коварный приступ лихорадки очень изнурил его. Отрывочные фразы почти отсутствовали, он сидел в постели, повернувшись торсом с могучими плечами и величественной головой к гостю; веснушчатая капитанская рука лежала на одеяле, ладонь, стянутая шерстяным обшлагом фуфайки, была поднята, и копьевидные ногти трех пальцев торчали над указательным и большим, которые были соединены как обычно, образуя «кольцо уточнения», и слова, которые выговаривались его губами, были настолько метки, выразительны и пластичны, что Сеттембрини мог бы ему только позавидовать; даже букву «р» в словах «вероятно» и «напрашиваются» он произносил с таким же гортанным раскатистым выговором, как и итальянец.
– Вы улыбаетесь, – продолжал Пеперкорн. – Вы моргаете, вертите головой туда и сюда, как будто тщетно что-то обдумываете. И все-таки вы отлично знаете, что именно я имею в виду и о чем идет речь. Я вовсе не говорю, что вы совсем не обращаетесь к мадам или не отвечаете, когда по ходу разговора от вас требуется ответ. Но, повторяю, вы делаете это как будто по принуждению, вернее, словно уклоняетесь от чего-то, чего-то избегаете, а если приглядеться – то станет ясно, что вы избегаете одной определенной формы обращения. Поскольку речь идет о вас, может показаться, будто вы съели с мадам двойной орех и по уговору не имеете права, разговаривая с ней, пользоваться именно этой формой. Вы с удивительной последовательностью избегаете называть ее. И никогда не обращаетесь к ней на «вы».
– Но, мингер Пеперкорн… Какой же двойной орех…
– Я позволю себе обратить ваше внимание, да вы, вероятно, и сами почувствовали, что сейчас ужасно побледнели.
Ганс Касторп сидел, не поднимая глаз. Нагнувшись, он, казалось, внимательно разглядывает багровые пятна на простыне. «Вот он куда гнул! – думал Ганс Касторп. – Вот до чего дошло! И, кажется, я сам виноват, что дело дошло до этого. Я сам приложил руку, мне сейчас это становится ясно. Неужели я действительно так побледнел? Может быть, ведь вопрос действительно поставлен ребром. И неизвестно, что теперь будет? Могу я еще лгать? Да, пожалуй, могу, но я не хочу. Пока что буду рассматривать кровавые пятна, эти винные пятна на простыне».
Человек, высившийся над ним, тоже молчал. Пауза продолжалась две-три минуты, она дала обоим почувствовать, какую продолжительность могут приобретать в таких случаях столь крошечные единицы времени.
Первым возобновил разговор Питер Пеперкорн.
– Это было в тот вечер, когда я имел честь познакомиться с вами, – начал он нараспев и в конце фразы понизил голос, словно приступая к длинному повествованию. – Мы устроили маленькую пирушку, услаждали себя кушаньями и напитками, настроение у нас было приподнятое, по-человечески непринужденное и задорное; уже в весьма поздний час отправился я рука об руку с вами к ложу моего отдохновения. И вот тогда, перед моей дверью, мне пришло в голову посоветовать вам на прощание коснуться губами лба этой женщины, которая представила вас как старого друга из времен ее последнего пребывания здесь, и предложить ей в знак столь торжественной минуты тоже выполнить по отношению к вам этот праздничный и веселый обряд у меня на глазах. Вы решительно отвергли мое предложение, отвергли под тем предлогом, что считаете нелепым обмениваться с моей спутницей поцелуями в лоб. Вы не будете спорить против того, что заявление такого рода само по себе нуждается в объяснении, объяснении, которого вы мне до сих пор не дали. Согласны вы выполнить этот долг сейчас?
«Так, значит, он и это заметил… – пронеслось в голове Ганса Касторпа; он еще усерднее занялся винными пятнами и даже начал скоблить кончиком безымянного пальца одно из них. – В сущности, мне даже хотелось тогда, чтобы он это заметил и отметил, иначе мой ответ был бы иным. А что же будет теперь? Сердце у меня здорово колотится. Вспыхнет ли он первоклассным царственным гневом? Может быть, посмотреть, где его кулак, не занес ли он его уже надо мною? Я оказался в чрезвычайно оригинальном и весьма щекотливом положении…»
Вдруг он почувствовал, что его кисть, кисть правой руки, сжали пальцы Пеперкорна.
«Вот он хватает меня за руку! – пронеслось в голове Ганса Касторпа. – Смешно, чего же я сижу здесь как побитая собака! Разве я в чем-нибудь виноват перед ним? Ничуть. В первую очередь должен жаловаться ее супруг в Дагестане. А потом другие. И уж потом я. А этому, насколько мне известно, пока и жаловаться-то не на что… Почему же у меня так бьется сердце? Давно пора выпрямиться и честно, хотя и почтительно посмотреть прямо в это великодержавное лицо!»
Он так и сделал. Великодержавное лицо было желтым, глаза под нависшими складками лба казались особенно бледными, в разорванных губах таилась горечь. Казалось, оба читают в глазах друг у друга – величественный старик и незначительный молодой человек, причем старик продолжал держать молодого за кисть руки. Наконец Пеперкорн проговорил вполголоса:
– Вы были возлюбленным Клавдии Шоша, когда она в последний раз жила здесь.
Ганс Касторп еще раз опустил голову, но сейчас же снова поднял, перевел дыхание и сказал:
– Мингер Пеперкорн! Мне в высшей степени претит лгать вам, и я ищу способа избежать лжи. А это нелегко. Если я отвечу утвердительно, я буду хвастуном, если отрицательно – я солгу. Ну что ж, именно так обстоит дело. Долго, очень долго прожил я с Клавдией, – простите, с вашей теперешней спутницей, – в этом вот доме, и официально не был с ней даже знаком. Все обычные светские условности были исключены из наших отношений – вернее, из моего отношения к ней, а его истоки скрыты глубоко во мраке. В своих мыслях я не называл Клавдию иначе, как на «ты», да и в действительной жизни тоже. Ибо в тот вечер, когда я сбросил некоторые педагогические путы, – о них мы недавно говорили, – и подошел к ней под предлогом, которым я некогда уже воспользовался – у нас тут был маскарад, карнавальный безответственный вечер, когда всем говорят «ты», – в тот вечер это «ты» бессознательно и безответственно приобрело свой полный смысл. Но это был вместе с тем и канун отъезда Клавдии.
– Свой полный смысл, – повторил Пеперкорн, – все это очень мило… – Он выпустил руку Ганса Касторпа и принялся обеими своими капитанскими руками с копьями ногтей растирать себе глазные впадины, щеки и подбородок. Затем сложил руки на закапанной вином простыне и склонил голову влево, на левое плечо, как бы отвернувшись от гостя.
– Я ответил вам насколько мог правдиво, мингер Пеперкорн, – сказал Ганс Касторп, – и честно старался не сказать ни слишком много, ни слишком мало. Прежде всего я хотел обратить ваше внимание на то, что тот вечер полного осуществленного «Ты» и вместе с тем вечер прощания можно и принимать в расчет и не принимать, ибо это вечер, выпадающий из обычной жизни, и даже, пожалуй, из календаря, – так сказать, вечер hors d'oeuvre[183], экстраординарный, что-то вроде двадцать девятого февраля, вот почему, если бы я отрицал некий факт, это было бы ложью только наполовину.
Пеперкорн не ответил.
– Но я предпочел, – снова начал после небольшой паузы Ганс Касторп, – сказать вам правду, рискуя утратить ваше благоволение, что, признаюсь вам совершенно открыто, было бы для меня чувствительной утратой, прямо-таки ударом, настоящим ударом, вроде того, который я испытал, когда мадам Шоша появилась здесь опять, но не одна, а со спутником. Я рискнул пойти на откровенность, ибо давно желал, чтобы между нами была полная ясность – между вами, кого я так исключительно почитаю, и мной, это казалось мне прекраснее и более по-человечески, – вы знаете, как это слово произносит Клавдия своим волшебным глуховатым голосом, она его так обаятельно растягивает, – чем умалчивание и утаивание. И поэтому у меня прямо камень с души свалился, когда вы констатировали некий факт. И еще одно, мингер Пеперкорн, – продолжал Ганс Касторп. – Еще одно заставило меня сказать вам чистейшую правду: я испытал на личном опыте, какое раздражающее чувство вызывает неуверенность, когда приходится довольствоваться лишь смутными предположениями. Теперь вам известно, с кем Клавдия, до того как появились у вас теперешние права на нее, – не уважать их было бы просто бредом, – теперь вам известно, с кем она пережила, провела, отпраздновала некое двадцать девятое февраля. Что касается меня, то мне так и не удалось добиться ясности, хотя совершенно понятно, что каждый, кому приходится над этим задуматься, вынужден считаться с предшествующими фактами такого рода, вернее – с такими предшественниками, и хотя мне было известно, что гофрат Беренс – он, как вы, может быть, знаете, художник-дилетант, пишет маслом – провел с ней множество сеансов и сделал ее портрет – выдающаяся вещь, притом кожа написана так осязаемо, что невольно призадумаешься, я по этому случаю немало помучился, ломал себе голову, продолжаю ломать и по сей день.
– Вы все еще любите ее? – спросил Пеперкорн, по-прежнему не меняя позы, то есть отвернувшись… Большая комната все больше погружалась в сумрак.
– Простите меня, мингер Пеперкорн, – отозвался Ганс Касторп, – но при моем отношении к вам, при том, как я почитаю вас и преклоняюсь перед вами, я бы не считал возможным говорить о своих чувствах к вашей спутнице.
– А она, – спросил Пеперкорн совсем тихо, – она разделяет и теперь еще эти чувства?
– Я не могу утверждать, – ответил Ганс Касторп, – я не могу утверждать, что она когда-нибудь разделяла их. Это маловероятно. Мы с вами уже касались этого предмета чисто теоретически, когда говорили о том, что женская природа только реагирует на любовь мужчины. Меня, конечно, особенно любить не за что. Какие же у меня масштабы – сами посудите! И если дело могло все-таки дойти до… до двадцать девятого февраля, то это случилось лишь потому, что женщину подкупает, если на нее падает выбор мужчины, причем, должен добавить, я сам себе кажусь пошлым хвастуном, когда называю себя «мужчиной»; но уж Клавдия-то во всяком случае настоящая женщина.
– Она подчинилась чувству, – пробормотал Пеперкорн разорванными губами.
– Вашему чувству она покорилась гораздо охотнее, – вероятно, и прежде покорялась не раз, это должно быть ясно каждому, кто попадает…
– Стойте! – прервал его Пеперкорн, все еще не повертываясь к нему, но предостерегающе подняв руку ладонью к собеседнику. – А это не подлость, что мы так о ней говорим?
– Конечно, нет, мингер Пеперкорн. Нет, в этом смысле я, кажется, могу вас вполне успокоить. Ведь речь идет о вещах очень человеческих, – человеческих в смысле свободы и гениальности, простите за такое, может быть, несколько выспреннее выражение, но я за последнее время стал по необходимости пользоваться им.
– Хорошо, продолжайте! – понизив голос, приказал Пеперкорн.
Теперь заговорил вполголоса и Ганс Касторп – он сидел на краешке стула возле кровати, наклонившись к царственному старику, зажав руки между коленями.
– Ведь она же гениальное создание, – заговорил он опять, – и этот муж в Закавказье, – вы, вероятно, знаете, что у нее есть муж в Закавказье, – так вот, он предоставляет ей быть свободной и гениальной – то ли от глупости, то ли от интеллигентности, – сказать не берусь, я этого типа не знаю. Во всяком случае, правильно делает, что предоставляет, и то и другое ей все равно дает болезнь, гениальный принцип болезни, которому она подвластна, и каждый, кто попал бы в положение ее мужа, правильно сделает, последовав его примеру, и не будет жаловаться и заглядывать в прошлое или в будущее…
– Вы жалуетесь? – спросил Пеперкорн и повернулся к нему лицом… В сумерках оно казалось мертвенным: бледные глаза смотрели устало из-под идольских складок на лбу, крупный разорванный рот был полуоткрыт, словно у трагической маски.
– Я не предполагал, – скромно отозвался Ганс Касторп, – что речь идет обо мне, и все это говорю к тому, чтобы вы, мингер Пеперкорн, не жаловались, и из-за того, что было прежде, не лишали меня своей благосклонности. Сейчас для меня это главное.
– И все-таки я, сам того не зная, должно быть, причинил вам глубокую боль.
– Если вы задаете вопрос мне, – возразил Ганс Касторп, – и если я отвечу утвердительно, то это прежде всего не должно означать, будто я не ценю великого блага быть знакомым с вами, а ведь это преимущество неразрывно связано с огорчением, о котором вы говорите.
– Благодарю вас, молодой человек, благодарю. Весьма ценю учтивость ваших бойких слов. Но, оставив в стороне наше знакомство…
– Наше знакомство трудно оставить в стороне, – возразил Ганс Касторп, – да мне и вовсе незачем оставлять его в стороне, чтобы совершенно чистосердечно ответить на ваш вопрос утвердительно. То, что Клавдия вернулась с человеком ваших масштабов, могло только усилить и осложнить мое огорчение от того, что она вообще вернулась в сопровождении кого-то другого. Это очень меня мучило, мучит и теперь, не отрицаю, и я нарочно опираюсь на положительную сторону всей этой истории, то есть на мое искреннее уважение к вам, мингер Пеперкорн, хотя, сознаюсь, в этом скрыт и некоторый подвох в отношении вашей спутницы; ведь женщинам не очень нравится, если их возлюбленные дружат между собой.
– Вы правы, – отозвался Пеперкорн, незаметно улыбнувшись, и провел ладонью по губам и подбородку, словно боялся, что мадам Шоша может увидеть эту улыбку. Скромно усмехнулся и Ганс Касторп, потом оба кивнули, словно с чем-то втайне соглашаясь.
– Эту маленькую месть, – продолжал Ганс Касторп, – я мог себе в конце концов позволить, ведь если говорить обо мне, то у меня все же есть некоторые основания жаловаться – не на Клавдию, но вообще на свою жизнь, на свою судьбу, а так как я имею честь пользоваться вашим доверием и сейчас такие совершенно необычные минуты сумерек, то я попытаюсь хотя бы приблизительно рассказать о себе.
– Я буду просить вас об этом, – вежливо отозвался Пеперкорн, и Ганс Касторп продолжал:
– Здесь наверху я давным-давно, мингер Пеперкорн, не дни, а годы, точно я не знаю сколько, но многие годы, поэтому-то я и заговорил о «жизни» и «судьбе», и когда будет нужно, я к этому еще вернусь. Я приехал сюда ненадолго, навестить моего кузена, он был военным и полон самых честных и достойных намерений, что, впрочем, ему нисколько не помогло, ибо он успел уже отбыть на тот свет, а я все еще тут живу. Я не военный, у меня была гражданская профессия, как вы, может быть, слышали, почтенная и разумная профессия, говорят, будто она даже способствует сближению между народами, но меня она никогда особенно не увлекала, сознаюсь в этом, о причинах своего равнодушия я могу только сказать, что они скрыты во мраке вместе с корнями моих чувств к вашей спутнице, – я не случайно называю ее так, я хочу этим показать, что у меня и в мыслях не было покуситься на чьи-то установившиеся права или отрицать мои чувства к Клавдии Шоша, и мое обращение к ней на «ты», его я тоже никогда не отрицал, с тех пор как ее глаза впервые взглянули на меня и околдовали меня – околдовали в самом безрассудном смысле этого слова. Ради нее и наперекор господину Сеттембрини я подчинился принципу безрассудства, гениальному принципу болезни, впрочем, я, вероятно, был покорен ему с давних пор, искони, – и вот я остался здесь – уж не знаю точно, сколько времени я нахожусь тут, – я все забыл и со всеми порвал – с моими родными, с моей профессией там, на равнине, со всеми моими надеждами на будущее. И когда Клавдия уехала, я стал ждать ее, ждать, ждать здесь наверху, а теперь совсем отбился от жизни внизу и для тамошних людей все равно, что умер. Вот что я имел в виду, когда говорил о «судьбе» и позволил себе намекнуть на то, что имел бы основания жаловаться на чьи-то установившиеся права. Знаете, я читал одну историю, нет, я видел это на сцене: некий простодушный юноша, – он был, впрочем, военным, как и мой двоюродный брат, связался с пленительной цыганкой – она была пленительна, с цветком за ухом – натура дикая и своевольная, – словом, роковая женщина, и до того околдовала его, что он сбился с пути, всем ради нее пожертвовал, стал дезертиром, ушел вместе с ней к контрабандистам, потерял всякое чувство чести и во всех отношениях опозорил себя. Когда он ей надоел, она сошлась с матадором, неотразимым мужчиной с великолепным баритоном. И кончилось тем, что бедный солдатик, белый как мел и в расстегнутой рубашке, заколол ее ножом перед цирком, впрочем, она сама довела его. Эта история особого отношения к нам не имеет; но почему-то она все-таки вспомнилась мне.
При упоминании о ноже мингер Пеперкорн слегка изменил положение, вдруг отодвинулся и, быстро повернувшись к гостю, испытующе посмотрел ему в глаза. Потом слегка выпрямился, оперся на локоть и начал:
– Молодой человек, я вас выслушал, и теперь мне все ясно. На основе ваших слов разрешите мне честно объясниться с вами! Если бы не мои седины и не коварная лихорадка, сразившая меня, вы нашли бы меня готовым с оружием в руках дать вам как мужчина мужчине удовлетворение за обиду, которую я вам невольно нанес, а также за обиду, нанесенную моей спутницей – ибо за нее я тоже отвечаю. Отлично, сударь, – вы видели, что я готов. Но, при теперешнем положении дела, позвольте мне обратиться к вам с другим предложением, а именно: я вспоминаю некую минуту в самом начале нашего знакомства, когда мы были в особо приподнятом настроении – я очень хорошо ее помню, хотя был основательно выпивши, – минуту, когда под приятным впечатлением некоторых черт вашего характера я чуть не предложил вам перейти на братское «ты», но потом все же понял, что это было бы несколько преждевременно. Так вот, я сейчас напоминаю вам об этой минуте, я возвращаюсь к ней и заявляю, что отсрочка кончилась. Молодой человек, мы братья, заявляю это. Вы говорили о «ты» в полном смысле слова, наше «ты» тоже будет им в полном смысле – в смысле братьев по чувству. То удовлетворение с помощью оружия, которое я не могу дать вам ввиду моего возраста и нездоровья, я предлагаю заменить этой формой, я предлагаю его в форме братского союза, обычно союз заключают против третьих лиц, против людей, – словом, против кого-то, а мы заключим его из чувства любви к кому-то. Берите свой бокал, молодой человек, а я опять возьму свой стакан, он не будет оскорблением для этой шипучки.
И своей слегка дрожащей капитанской рукой он налил вина себе и гостю. Почтительно пораженный, Ганс Касторп помог ему.
– Берите же! – повторил Пеперкорн. – Берите меня под руку, – накрест! И так выпьем! Пейте до дна!.. Отлично, молодой человек. Кончено. Вот вам моя рука. Ты доволен?
– Это, конечно, не то слово, мингер Пеперкорн, – ответил Ганс Касторп, которому было трудновато выпить залпом целый бокал, и вытер носовым платком колено, так как пролил на него немного вина. – Я скорее могу сказать, что очень счастлив, я еще опомниться не могу, как это мне вдруг выпала на долю такая честь… Говоря откровенно, я точно во сне. Ведь это же действительно высокая честь, даже не знаю, чем я заслужил ее, во всяком случае я тут лицо пассивное, да иным и быть не могу, и нет ничего удивительного, если мне на первых порах такое обращение покажется чересчур необычным; прямо не знаю, как я выговорю это «ты», я, пожалуй, споткнусь – особенно в присутствии Клавдии, ведь ей, по ее женской природе, может быть, не очень понравится наше соглашение…
– Уж это предоставь мне, – отозвался Пеперкорн, – остальное – дело привычки и постоянного упражнения. А теперь уходи, молодой человек! Оставь меня, сын мой! Уже стемнело, наступил вечер, наша возлюбленная может с минуты на минуту вернуться, а встреча между вами была бы, пожалуй, именно сейчас не слишком уместна…
– Прощай, мингер Пеперкорн! – сказал Ганс Касторп и поднялся. – Видите, я стараюсь преодолеть свою вполне понятную робость и уже упражняюсь в столь смелом обращении. А ведь верно, совсем темно. Я представляю себе, что сейчас мог бы вдруг войти Сеттембрини и включить свет, чтобы здесь воцарился разум и дух общественности – есть у него такая слабость. До завтра! Я ухожу отсюда с таким чувством радости и гордости, о котором никогда и мечтать не смел! От души желаю скорейшего выздоровления! Теперь у тебя впереди по крайней мере три дня без лихорадки и ты сможешь быть на высоте всех требований жизни. Я рад за тебя, как будто я – это ты. Спокойной ночи!
Мингер Пеперкорн
(Окончание)
Водопад – всегда заманчивая цель для прогулок, и нам даже трудно объяснить, почему Ганс Касторп, который особенно любил падающую воду, еще ни разу не посетил живописный каскад в Флюэлатальском лесу. Во времена его совместной жизни здесь наверху с Иоахимом это еще можно было объяснить строго служебным отношением кузена к пребыванию в санатории, считавшего, что он находится в нем не ради своего удовольствия, и его деловитой и строгой целеустремленностью, в результате которой их кругозор был ограничен ближайшими окрестностями. Но и после его кончины отношение Ганса Касторпа к прогулкам – не считая его походов на лыжах – оставалось неизменным и консервативным, и в этом контрасте с широтой его внутреннего опыта и с обязанностями «правителя» была для молодого человека даже известная прелесть. Все же, когда среди более близких ему людей, в маленьком дружеском кружке, состоявшем из семи человек (считая и его), возник план поездки в экипажах к прославленному водопаду, он поддержал этот план с увлечением.
Уже наступил май, «веселый месяц май», как пелось в простодушных песенках на равнине, – правда, тут наверху он был холодноват и не слишком ласков, – но таковы уж особенности здешнего климата. Однако таянье снегов, видимо, кончилось. Правда, за последние дни не раз начинал валить снег крупными хлопьями, но он сразу же исчезал, оставляя лишь немного воды; огромные зимние сугробы истаяли, испарились, только кое-где лежали белые пятна, все зазеленело, дороги стали проходимыми и как бы звали к далеким прогулкам.
Встречи между членами кружка за последнее время стали редкими из-за болезни его главы, великолепного Питера Пеперкорна, ибо злокачественный дар, полученный им от тропиков, не поддавался ни воздействию столь исключительного климата, ни противоядиям столь выдающегося медика, как гофрат Беренс. Мингер был вынужден проводить долгие часы в постели, и не только в те дни, когда квартана вступала в свои губительные права, у него к тому же были не в порядке печень и селезенка, как намекнул вполголоса гофрат Беренс близким лицам, и с желудком дело обстоит не блестяще; поэтому Беренс не преминул подчеркнуть, что даже для такого могучего организма не исключена опасность хронического истощения.
В эти недели Пеперкорн председательствовал только на вечерних пирушках, были отменены и совместные прогулки, за исключением одной, и то ходили недалеко. Говоря между нами, от того, что близкая к Пеперкорну, привычная компания распалась, Ганс Касторп, в некотором смысле, испытывал даже облегчение, ибо, после того как он выпил со спутником Клавдии Шоша на брудершафт, для молодого человека возникли некоторые трудности; в его разговорах с Пеперкорном, происходивших на людях, появились та скованность, та уклончивость, которые обычно вызываются «дележом двойного ореха», старание избежать чего-то, словом, все то, что бросалось в глаза и при его общении с Клавдией. С помощью всяких ухищрений и описательных форм старался он обойти прямое обращение, – на основании той же, или, вернее, обратной дилеммы, которая чувствовалась в его беседах и с Клавдией при посторонних, а также в присутствии одного только ее повелителя, и которая благодаря данному Пеперкорном удовлетворению тяготила его теперь как беспощадные двойные оковы.
Итак, на очереди встал вопрос о поездке к водопаду, Пеперкорн сам определил место, он, видимо, чувствовал себя достаточно бодрым, чтобы туда добраться. Это было как раз на третий день после очередного приступа квартаны, и мингер оповестил друзей о том, что желает его использовать. Правда, на первые утренние трапезы он не спустился в общую столовую, как повелось за последнее время, – их подали к нему в салон, и он завтракал и обедал вдвоем с мадам Шоша; но уже во время первого завтрака Гансу Касторпу было передано через хромого портье повеление быть через час после обеда готовым к отъезду, кроме того, сообщить это повеление господам Ферге и Везалю, известить Нафту и Сеттембрини, что за ними заедут, и, наконец, позаботиться о том, чтобы к трем часам были поданы два ландо.
В указанный час все эти лица встретились перед главным подъездом санатория – Ганс Касторп, Ферге и Везаль, и стали ожидать там господ из комнат люкс, развлекаясь тем, что поглаживали лошадей и угощали их кусками сахара, а те неловко брали их прямо с ладони черными мокрыми губами. Пеперкорн и его спутница появились на площадке парадной лестницы лишь с небольшим опозданием – он был в длинном потертом пальто, и его царственное лицо казалось осунувшимся; стоя наверху рядом с Клавдией, он приподнял мягкую шляпу с широкими полями, и его губы неслышно произнесли обращенное ко всем приветствие. Затем спустился и пожал руки всем трем мужчинам, которые подошли к самым нижним ступенькам, чтобы встретить его.
– Молодой человек! – обратился он к Гансу Касторпу, положив ему левую руку на плечо, – ну, как дела, сын мой?
– Большое спасибо! Задаю тот же вопрос, – ответил Ганс Касторп…
Солнце сияло, день был отличный, безоблачный, однако все поступили очень благоразумно, надев демисезонные пальто: при езде будет безусловно свежо. Мадам Шоша тоже была в теплом пальто с поясом, из ворсистой материи в крупную клетку и даже в меховой горжетке. Поверх фетровой шляпы она накинула оливковую вуаль, завязав ее под подбородком, благодаря чему края шляпы по бокам слегка загнулись книзу, и она выглядела так прелестно, что у большинства присутствующих даже заныло сердце, – кроме Ферге, единственного мужчины, который не был в нее влюблен; благодаря этому равнодушию, при предварительном распределении мест в экипажах, пока не подсели живущие за пределами санатория, он оказался в первом ландо, на заднем сидении, против мингера и мадам, а Гансу Касторпу пришлось занять вместе с Фердинандом Везалем второе ландо, причем он заметил, что Клавдия по этому поводу насмешливо улыбнулась. Хилый камердинер малаец также оказался участником прогулки. Он вышел из-за спины своих господ, таща огромную корзину, из-под крышки которой торчали горлышки двух винных бутылок, и задвинул ее под заднее сиденье первого ландо; едва он уселся рядом с кучером и скрестил руки, как экипажи тронулись и со включенными тормозами стали спускаться по извилистой подъездной аллее.
Ироническую улыбку мадам Шоша заметил и Везаль; показывая гнилые зубы, он заговорил об этом со своим спутником.
– Вы видели, как она издевалась над вами, – спросил он, – оттого что вам пришлось ехать со мной? Да, да, лежачего всегда бьют. А вам очень неприятно и противно сидеть рядом со мной?
– Возьмите себя в руки, Везаль, и не говорите таких гадостей! – остановил его Ганс Касторп. – Женщины улыбаются по любому случаю, только бы улыбнуться, совершенно незачем всякий раз углубляться в это. И зачем вы всегда так унижаетесь? Как и у каждого, у вас есть свои достоинства и недостатки. Вот вы, например, очень мило играете отрывки из «Сна в летнюю ночь», это может не каждый. Вы бы опять как-нибудь поиграли.
– Да, вот вы утешаете меня, поглядываете сверху вниз и даже не понимаете, какая это наглость так утешать человека. Вы же меня этим еще больше унижаете. Хорошо вам свысока уговаривать да утешать, но ведь если вы сейчас очутились в довольно смешном положении, то все-таки когда-то свое получили и побывали на седьмом небе, господи боже мой, и чувствовали, как ее руки обнимают вас за шею, и все прочее, господи боже мой… у меня, как подумаю об этом, начинает в горле жечь и под ложечкой… И вы, с полным сознанием всего, что было вам даровано судьбою, свысока взираете на меня, нищего, и на мои муки…
– А выражаетесь вы не слишком красиво, Везаль. И даже в высшей степени отвратительно, мне незачем скрывать от вас, – ведь вы же обвиняете меня в наглости, – что ваши слова все-таки мерзки и вы как будто нарочно стараетесь вызвать отвращение и постоянно пресмыкаетесь. Неужели вы и вправду так отчаянно влюблены?
– Ужасно! – отозвался Везаль, покачав головой. – Нельзя описать, как меня терзает моя страсть, мое вожделение к ней, – я хотел бы от этого умереть, а так ведь и не живешь и не умираешь! Когда она уехала, я начал понемногу успокаиваться и постепенно забывать ее. Но с тех пор как она вернулась и я каждый день ее вижу, я иногда дохожу до того, что руки себе кусаю и просто не знаю, куда мне деться, как мне быть. Трудно поверить, что такая одержимость может существовать на свете, но от нее невозможно освободиться, раз такое приключилось – с ним не развяжешься, тогда пришлось бы развязаться с самой жизнью, с которой оно слилось воедино, а этого как раз и не можешь… Умереть? – что дала бы мне смерть? После – пожалуйста. В ее объятиях – с огромной радостью! Но до этого нелепо, ибо жизнь – это желание, а желание – жизнь, и не может она восстать на самое себя, в том-то и состоит проклятая карусель, роковой круг. Я говорю «проклятая» только так, словно это говорит другой, со стороны, сам я этого не сказал бы. На свете существуют всякие пытки, Касторп, и когда человека подвергают пытке, он жаждет избавиться от нее, он жаждет одного – избавиться, это его единственная цель. Но чтобы освободиться от пытки плотского вожделения, есть только один путь, один способ, – это вожделение нужно утолить – иначе не освободишься никакой ценой! Так уж положено, и кто этого не испытывает, тот и не останавливается на таких ощущениях, а уж если человек одержим, как я, он познает все крестные муки и будет проливать горькие слезы. Боже правый, и зачем только на свете так устроено, что плоть нестерпимо вожделеет к другой плоти и лишь потому, что она не его собственная, а принадлежит другой душе – как это странно и вместе с тем насколько плоть все-таки скромна и стыдлива в своем влечении! Можно было бы сказать: если она, кроме этого, больше ничего не жаждет, так, ради бога, пусть себе получает! Ведь чего я хочу, Касторп? Разве я хочу убить ее? Хочу пролить ее кровь? Да я только ласкать ее хочу! Касторп, милый Касторп, простите, что я ною, но могла бы она хоть из милости исполнить мое желание! Ведь в этом есть нечто более возвышенное, я же не скотина, на свой лад я ведь тоже человек! Плотское вожделение стремится то к одной, то к другой, тут нет привязанности, нет избранности, потому-то мы его и называем скотским. Но когда оно обращено к человеческому существу с определенным обликом, тогда уста наши говорят о любви. Ведь я желаю не только ее тело, ее физическую оболочку, если бы в ее внешнем облике даже ничтожная черточка была чуть иной, вероятно, меня и не влекло бы ко всему ее телу, поэтому ясно, что я люблю ее душу и что я люблю ее душой. Ибо любовь к внешнему облику есть любовь душевная.
– Что это с вами, Везаль? Вы вне себя и говорите бог знает как превыспренне…
– В том-то и дело, в том-то и горе, – продолжал бедняга, – что у нее есть душа, что она человек и состоит из души и тела! А душа-то ее знать не желает моей души, значит и тело ее знать не хочет моего тела! О горе, о несчастье! Из-за этого мое желание проклято и обречено стыду, и моему телу суждено вечно извиваться в огненных муках! Почему она и душой и телом знать меня не хочет, Касторп, и почему мое желание рождает в ней отвращение? Разве я не мужчина? Разве даже отталкивающий мужчина не остается им? А я даже очень мужчина, клянусь вам, я превзошел бы всех, кто был у нее до сих пор, если бы только она раскрыла мне свои объятия и все их блаженство… ее руки так прекрасны, ведь они выражают внутреннюю красоту ее души… Со мною, Касторп, она познала бы все сладострастие мира, если бы дело касалось только наших тел, а не наших внутренних обликов, если бы не было ее треклятой души, а душа эта знать меня не хочет, но опять-таки, если не душа, я бы так не жаждал и ее тела, – вот она дьявольская карусель, и я кружусь во всем этом, как белка в колесе!
– Тсс, Везаль! Тише! Ведь кучер понимает. Он нарочно не повертывает головы, но я по спине вижу, что он слушает.
– Понимает и слушает, видите, Касторп! Вот вам опять доказательство того, какое странное, какое особое место занимает в жизни эта сторона. Если бы я говорил об эпохе Возрождения или, ну там о… гидростатике, он бы ничего не понял, ничего не представлял бы себе и не стал бы прислушиваться и интересоваться. Темы непопулярные. Но высший, последний, до жути сокровенный вопрос вместе с тем и самый популярный, каждому он понятен и каждый может издеваться над тем, кто попал в беду, чьи дни полны терзаниями чувственности, а ночи стали целым адом позора! Касторп, милый Касторп, дайте же мне немного поскулить, если бы вы знали, какие ночи я провожу! Каждую ночь я вижу ее во сне, ах, и чего только я не вижу, у меня жжет в глотке и под ложечкой, когда я вспоминаю об этих видениях! И всегда кончается тем, что она бьет меня по щекам, по лицу, а иногда плюет мне в лицо, и когда она плюет, ее душевный облик искажается гримасой отвращения. Тогда я просыпаюсь весь потный от стыда и сладострастия…
– Ну вот, Везаль, а теперь давайте помолчим и решим больше не разговаривать, пока не доедем до бакалеи и кто-нибудь к нам не подсядет. Это мое предложение, и я на нем настаиваю. Не хочу вас оскорблять и допускаю, что вы очень мучитесь, но, знаете, у меня на родине существует сказка об одной особе, которая была наказана тем, что при каждом слове у нее изо рта выскакивала то змея, то жаба[184]. В книжке не упоминалось о том, как она сама относилась к этому, однако я лично всегда считал, что она старалась помалкивать.
– Но ведь у человека есть же потребность, – жалобно возразил Везаль, – есть же потребность, милый Касторп, поговорить и облегчить душу, когда он вот так мучится.
– Не только потребность, это, если хотите, даже его право, Везаль. И все же есть, по моему мнению, права, которыми в известных случаях благоразумнее не пользоваться.
Итак, они по настоянию Ганса Касторпа умолкли, да и экипажи быстро домчали всю компанию до обвитой диким виноградом лавки бакалейщика, где им не пришлось задержаться ни на минуту: Нафта и Сеттембрини уже ожидали на улице, один – в своей поношенной меховой куртке, другой – в желтоватом демисезонном пальто с обильной строчкой, придававшем ему щегольской вид. Пока экипажи заворачивали, они обменивались с приехавшими поклонами и приветствиями, потом тоже сели – Нафта четвертым в первое ландо, рядом с Ферге, а Сеттембрини, который был в отличном настроении и сыпал блестящими остротами, присоединился к Гансу Касторпу и Везалю, причем последний уступил ему свое место в глубине экипажа; Сеттембрини тут же уселся и с изысканной небрежностью принял позу светского франта на Корсо.
Он расхваливал приятности езды в экипаже, когда тело движется вперед, а ты сидишь спокойно и удобно на месте и любуешься все новыми ландшафтами; обращался с отеческой лаской к Гансу Касторпу, даже беднягу Везаля похлопал по щеке, убеждая забыть свое несимпатичное «я» и отдаться восхищению сияющим миром природы, указывая при этом на широкую панораму гор плавными движениями правой руки в облезлой кожаной перчатке.
Ехали очень хорошо. Лошади, все четыре с белыми пятнами на лбу, крепкие, сытые и гладкие, дружно отбивали копытами такт по ровному, еще не пылившему шоссе. Обломки скал, в щелях которых пробивались трава и цветы, подступали порой к самой дороге, телеграфные столбы бежали мимо, горные леса поднимались по склонам, все новые повороты шоссе плавно надвигались и уходили назад, поддерживая интерес едущих, а в солнечной дали, казалось, отовсюду видные, проступали смутные очертания еще покрытых снегом горных хребтов. Знакомые долины отодвинулись, иные пейзажи освежали душу. Вскоре экипажи остановились у лесной опушки: отсюда надо было идти уже пешком до цели, связь с которой, на слух, давно уже установилась, ибо она сначала слабым, а потом все нарастающим шумом, громче и громче возвещала о себе приближавшимся путникам. Как только экипажи остановились, все услышали какой-то далекий, прерывистый шелест, еще с трудом различимое шипенье, плеск и гул. Люди обращали внимание друг друга на этот гул и, стараясь уловить его, застывали на месте.
– Отсюда, – сказал Сеттембрини, который не раз бывал здесь, – мы слышим еще очень робкий шум. Но у самого водопада в это время года грохот ужасный, – будьте готовы, вы собственных слов не расслышите.
Они вошли в лес и зашагали по дороге, усыпанной иглами хвои; впереди шествовал Питер Пеперкорн, опираясь на руку своей спутницы, надвинув на лоб черную фетровую шляпу и переваливаясь с боку на бок; тут же за ними следовал Ганс Касторп, без шляпы, как и все остальные мужчины, засунув руки в карманы, слегка склонив голову набок, тихонько посвистывая и озираясь вокруг; потом Нафта и Сеттембрини, потом Ферге с Везалем, и шествие завершал малаец. Он шел один, и на руке у него висела корзина с провизией.
Они заговорили о лесе. Лес этот был не такой, как обычные леса; он казался очень живописным, даже не лишенным экзотики, но к этому примешивалось и что-то жуткое. Куда ни посмотришь – всюду мшистый лишайник, деревья им опутаны, обмотаны, обвиты с вершины и до корней. Словно зеленовато-бурые, косматые бороды, свисали пряди этого растения-паразита с затянутых им и обросших, словно пухом, ветвей; хвои почти не было заметно – только сплошные волокна моха; вид этих деревьев угнетающе действовал на душу, в нем было что-то искаженное, что-то колдовское и болезненное. Лесу жилось плохо, он был болен от этого похотливого лишайника, который грозил его задушить; таково было общее мнение небольшой кучки людей, шагавших по усыпанной иглами дороге и слушавших шум той цели, к которой они стремились, к громыханию и шипению, постепенно выраставшему, как и предсказал Сеттембрини, в оглушительный грохот.
За поворотом дороги путникам открылось поросшее лесом скалистое ущелье и мост через него, в это ущелье и низвергался водопад; когда он стал виден, достиг своей высшей силы и его шум – какое-то прямо адское клокотанье. Водяные массы валились отвесно сплошным каскадом, с высоты семи-восьми метров, и очень широким потоком в кипенье белой пены мчались дальше по утесам. Воды низвергались с диким шумом, в котором, казалось, слились все возможные звуки и все их диапазоны – гром и шипенье, вопли и свист, треск, дребезг, грохот, рев труб, звон колоколов – действительно, голова шла кругом. По скользкой скалистой тропе путники подошли к самому краю и остановились, созерцая мощные воды, вдыхая их влагу, осыпанные каплями, окутанные туманом брызг, больше ничего не слыша, словно их уши были до отказа набиты звуками; они обменивались взглядами, испуганно улыбались, покачивали головой, не сводя глаз с этого зрелища, с этой, совершавшейся в пене и грохоте, непрерывной катастрофы. Неистовое беснование вод оглушало их, страшило, рождало слуховые галлюцинации. Зрителям чудилось, будто со всех сторон до них доносятся вопли, окрики, угрозы, звуки труб и грубые мужские голоса.
Столпившись за спиной Пеперкорна, остальные пять мужчин и мадам Шоша, так же как и он, смотрели на водопад. Лица мингера они не видели, но видели, что он обнажил белопламенную голову и подставил грудь свежему воздуху. Они объяснялись взглядами и знаками, ибо их голоса, если бы даже они кричали друг другу в самое ухо, были бы заглушены громом водопада. Напрасно их губы произносили слова изумления и восторга, слова эти оставались беззвучными. Ганс Касторп, Сеттембрини и Ферге, молча кивая друг другу, уговорились подняться до верха ущелья, на дне которого находились, и выйти на верхнюю тропинку, чтобы оттуда полюбоваться водопадом. Подъем был не слишком труден: ряд высеченных в скале узких и крутых ступенек вел как бы в верхний этаж леса; они гуськом взобрались по ним, поднялись на мост, дошли до его середины и, как бы паря над упругим выгибом свергавшейся воды и опершись о перила, приветствовали оставшихся внизу. Затем перебрались на другую сторону, с трудом спустились по склону ущелья, и остальные снова увидели их уже по ту сторону водопада, через который внизу, так же как и наверху, был перекинут мост.
Теперь обмен знаками означал, что следовало бы подкрепиться. Несколько человек предложили отойти подальше от зоны грохота и закусывать с освобожденным слухом, а не так, словно они глухонемые. Однако Пеперкорн энергично этому воспротивился, он был совсем другого мнения. Он покачал головой, несколько раз ткнул вниз указательным пальцем, разорванные губы с трудом раздвинулись и беззвучно произнесли «тут»! Что поделаешь? В таких вопросах решал он, ибо был повелителем и хозяином положения. И столь сильно было влияние его необычайной индивидуальности, что если бы даже не он явился, как обычно, инициатором прогулки и ее главой, все равно все подчинились бы его воле. Люди таких масштабов всегда были и будут тиранами и самодержцами. Мингер пожелал ужинать у самого водопада, под грохот вод, таков был его великодержавный каприз, и тем, кто не хотели остаться в стороне, пришлось покориться. Большинство были недовольны. Сеттембрини, убедившись, что человеческий обмен мнениями и демократически четкая беседа или даже диспут сейчас невозможны, привычным жестом отчаяния и покорности поднял руку и взмахнул ею над головой. Малаец поспешил исполнить приказ своего повелителя. Он поставил у скалистой стены два складных кресла, привезенных из «Берггофа» для мингера и мадам. Затем, расстелив у их ног скатерть, выложил на нее содержимое корзины: кофейные чашки, стаканы, термосы, печенье, вино. Все заторопились получить свою порцию. Потом путешественники уселись на валунах, на перилах, тянувшихся вдоль тропинки, и, держа в руках чашку с горячим кофе, а на коленях – тарелку с печеньем, среди шума водопада молча принялись за еду.
Подняв воротник пальто и положив рядом с собою шляпу, Пеперкорн пил портвейн из серебряного кубка с монограммой и наполнял его не раз. Вдруг он начал говорить. Удивительный человек! Невозможно было допустить, чтобы он слышал собственный голос, а уж остальные, конечно, не уловили ни единого слова из того, что он хоть и провозгласил, но не смог предать гласности. Все же он поднял указательный палец правой руки, в которой держал кубок, и вытянул левую, немного вбок, раскрыв ладонь; все видели, как двигалось царственное лицо, как рот выговаривал слова, остававшиеся беззвучными, словно он произносил их в безвоздушном пространстве. Все были уверены, что Пеперкорн тут же прекратит это нелепое занятие, и смущенно улыбались, но он продолжал говорить, бросая беззвучные слова в пучину все поглощающего грохота, сопровождая их проработанными жестами левой руки, которыми, как обычно, требовал внимания и словно приковывал к себе зрителей; его усталые, бледные, неестественно расширенные глазки под тяжелыми скульптурными складками лба переходили с одного на другого, и тот, к кому он в данную минуту обращался, был вынужден кивать головой и, удивленно подняв брови и приоткрыв рот, подносить руку к уху, точно это могло хоть сколько-нибудь помочь в том безнадежном положении, в котором он очутился. Потом голландец даже встал. В перемятом дорожном пальто, с поднятым воротником, без шляпы, в ореоле белых волос, полыхавших словно пламя надо лбом с идольскими складками, и держа в руке кубок, высился он на фоне скалы, черты его лица оживленно двигались, он назидательно поднял пальцы, увенчанные копьями ногтей, соединив большой и указательный, и словно дополняя этим уточняющим жестом свой немой тост. По его лицу и по движению губ можно было отгадать слова, которые присутствующие привыкли слышать от него: «Превосходно», «Кончено». Но этим дело и ограничилось. Все видели его склоненную набок голову, увидели горечь разорванного рта, весь образ человека-страдальца. Потом снова расцвела на щеке выразительная жизнерадостная ямочка, таившая в себе сибаритское лукавство, почудились подобранные для пляски одежды, священное беспутство языческого жреца. Он поднял кубок, описал им полукруг перед лицами гостей и двумя-тремя глотками осушил его весь, запрокинув голову, так что стало видно дно кубка. Затем величественным жестом протянул его малайцу, а тот, прижав руку к груди, почтительно принял сосуд, – и Пеперкорн дал знаком понять, что пора собираться в обратный путь.
Все поклонились, благодаря его, и поспешили исполнить повеление. Те, кто сидел на корточках, вскочили, примостившиеся на перилах слезли. Хилый малаец, в цилиндре и пальто с меховым воротником, торопливо собрал остатки еды и посуду. Той же узкой колонной, какой путешественники шли сюда, вся компания вернулась по сырой, усыпанной иглами тропинке, через оплетенный космами, изуродованный лес на дорогу, где их ждали экипажи.
Теперь Ганс Касторп сел вместе с хозяином и его спутницей, против них, рядом с добряком Ферге, которому было чуждо все возвышенное. На обратном пути в первом ландо царило почти полное молчание. Мингер сидел, положив ладони на плед, которым были закрыты его колени и колени Клавдии; его нижняя челюсть отвалилась. Перед узкоколейкой и водоспуском Сеттембрини и Нафта вылезли из экипажа и попрощались. Везаля доставили по извилистой подъездной аллее до санатория; тут участники прогулки расстались.
Может быть, в ту ночь сон Ганса Касторпа был особенно легким и чутким из-за какой-то неосознанной настороженности, о которой его душа ничего не знала, но было достаточно малейшего отклонения от привычного ночного спокойствия берггофского дома, едва уловимой тревоги, почти неощутимого сотрясения пола, вызванного далекой беготней, чтобы он тут же проснулся и сел в постели. На самом деле он проснулся гораздо раньше, чем в дверь постучали, а это произошло в самом начале третьего. Он тут же отозвался, отнюдь не сонным голосом, а энергично, с полным присутствием духа. Ганс Касторп узнал высокий ломкий голос одной из сестер, которая передала ему просьбу мадам Шоша немедленно сойти во второй этаж. Он с удвоенной решительностью заявил, что сейчас будет, вскочил, мгновенно оделся, рукой откинул волосы со лба и, не спеша и не ускоряя шаг, спустился вниз, – Ганс Касторп догадывался о том, что случилось, не знал только, как это случилось.
Дверь в гостиную Пеперкорна была открыта, а также следующая дверь – в его спальню, там горели все лампы. Он увидел обоих врачей, «старшую» сестру фон Милендонк, мадам Шоша и камердинера малайца. Последний оказался не в своем обычном платье, а в национальной одежде: на нем была куртка в широкую полосу и с широкими рукавами, длинная, как сорочка, и юбка вместо штанов, на голове – островерхая шапка из желтого сукна; на груди висело ожерелье из амулетов. Малаец стоял неподвижно, скрестив руки, слева от изголовья кровати, где Пеперкорн лежал на спине, вытянув руки поверх одеяла. Ганс Касторп, побледнев, окинул взглядом эту сцену. Клавдия Шоша сидела к нему спиной, на низком кресле, в ногах кровати, опираясь локтями на стеганое одеяло, обхватив ладонью подбородок, прижав пальцы к нижней губе, и смотрела в лицо своему спутнику.
– Добрый вечер, мой мальчик, – сказал Беренс, который стоя разговаривал вполголоса с доктором Кроковским и старшей сестрой, и грустно кивнул, вздернув седые усики. Он был в медицинском халате, без воротничка, и в вышитых ночных туфлях. Из грудного кармана торчал стетоскоп. – Ничего не попишешь, – добавил он шепотом. – Чисто сработано. Подойдите. Посмотрите на него взором знатока. Вы должны согласиться, что тут врачебному искусству уже делать нечего.
Ганс Касторп на цыпочках подошел к кровати. Взгляд малайца неотступно следовал за ним, причем он не повертывал головы, так что видны были белки глаз. Покосившись на мадам Шоша, Ганс Касторп констатировал, что она не обращает на него никакого внимания, и встал у кровати в характерной для него позе, опираясь на одну ногу, сложив руки на животе, опустив голову не прямо, а слегка набок, и погрузился в почтительно-задумчивое созерцание. Пеперкорн лежал под красным шелковым одеялом, в шерстяной фуфайке, в которой Ганс Касторп так часто его видел. Руки мингера посинели, местами также и лицо. Это очень искажало его, хотя царственные черты остались те же. Идольские складки на высоком лбу, окруженном белым пламенем волос, – четыре или пять горизонтальных морщин, спускавшихся затем под прямым углом к вискам, глубоко залегли, врезанные привычным напряжением всей жизни, и при опущенных веках резко выделялись даже сейчас, когда наступил покой. Разорванные губы, хранившие выражение горечи, были слегка приоткрыты. Синеватые пятна говорили о внезапном кровоизлиянии, вызванном насильственным заторможением жизненных функций.
Ганс Касторп постоял некоторое время в благоговейном молчании, обдумывая создавшееся положение; он был в нерешительности, ожидая, что «вдова» заговорит с ним. Но так как она этого не сделала, он решил больше не мешать и оглянулся на группу пациентов, стоявших за его спиной. Гофрат, перехватив его взгляд, мотнул головой, приглашая его в гостиную. Ганс Касторп последовал за ним.
– Suicidium?[185] – деловито спросил он вполголоса.
– Ну, еще бы! – ответил Беренс с пренебрежительным жестом и добавил: – В самом чистом виде, Бесспорнее и быть не может. А вот такую игрушку вы видели? – спросил он и вытащил из кармана своего халата неправильной формы футлярчик, вынул из него какой-то небольшой предмет и показал молодому человеку. – Я не видел. А посмотреть стоит. Век живи, век учись. Затейливо и остроумно. Вынул у него из рук. Осторожнее! Если капнет на кожу – пойдут волдыри, как при ожоге.
Ганс Касторп повертел в руках загадочную вещицу. Сталь, слоновая кость, золото, каучук, – и вид престранный. Два изогнутых стальных, блестящих рычажка с необыкновенно острыми зубцами, соединялись со слегка изогнутым основанием из слоновой кости и золота, зубцы были подвижны и могли слегка сближаться, основание заканчивалось баллончиком из тугой черной резины. Размер вещицы не превышал нескольких дюймов.
– Что это такое? – спросил Ганс Касторп.
– Это, – отозвался Беренс, – самый настоящий шприц для инъекций, или, если подойти с другой стороны, – механизированная копия челюстей очковой змеи. Поняли? Нет, видно, не поняли, – продолжал он, так как Ганс Касторп продолжал растерянно смотреть на странный инструмент. – Вот зубы. Они полые, через них проходит волосяной канал, очень узкий, а его выходное отверстие – вот тут, его отчетливо видно, в зубце. Разумеется, канальчики сообщаются, так сказать, и с корнем зуба и с выводным протоком резиновой железы, который проходит через костяное основание. При укусе зубы слегка пружинят внутрь, это ясно, и надавливают на резервуар, содержимое резиновой железы поступает в каналы, и, в ту минуту, когда зубцы впиваются в тело, яд проникает в кровеносную систему. Кажется, проще простого, когда все устройство у вас перед глазами. Надо только догадаться. Вероятно, эта вещь сделана по его собственным указаниям.
– Наверное! – согласился Ганс Касторп.
– Доза едва ли была очень велика, – снова заговорил гофрат. – Но малое количество, видимо, возмещалось…
– Динамикой, – докончил за него Ганс Касторп.
– Ну вот. Какой яд – это мы, конечно, установим. Факт довольно интересный, тут будет чему поучиться. Держу пари, что этот экзотический тип, который сегодня ночью расфрантился, мог бы дать нам совершенно точные сведения. Может быть – комбинация животных и растительных ядов, – и, вероятно, одна из самых эффективных, ведь действие оказалось молниеносным. Все говорит за то, что сразу же остановилось дыхание, произошел паралич дыхательных центров, знаете ли, и мгновенно наступила смерть от удушья, вероятно легко и без мучений.
– Дай бог, чтобы так! – благоговейно сказал Ганс Касторп, вернул гофрату зловещую вещичку и возвратился в спальню Пеперкорна.
Там оказались теперь только малаец и мадам Шоша. Когда молодой человек снова приблизился к кровати, Клавдия на этот раз подняла голову и взглянула на него.
– Вы имели право на то, чтобы я послала за вами, – сказала она.
– Вы были очень добры, – ответил он. – И это справедливо. Мы ведь перешли с ним на «ты». И мне очень больно, что я стыдился называть его так на людях и придумывал всякие обходы. Вы были при нем в его последние минуты?
– Слуга известил меня, когда все уже было кончено.
– Это был человек таких масштабов, – продолжал Ганс Касторп, – что бессилие чувства перед жизнью казалось ему космической катастрофой и посрамлением. Ибо он считал себя, вы должны это знать, как бы орудием бракосочетания божества с миром… Этот вздор был его царственной причудой… – Когда человек потрясен, как был потрясен Ганс Касторп, он имеет мужество употреблять такие выражения, хотя они могут показаться слишком грубыми и кощунственными, но по сути они торжественнее, чем почтительные пошлости.
– C'est une abdication[186], – сказала она. – Он знал о нашем сумасбродстве?
– Я не мог отрицать, Клавдия. Он догадался по моему отказу поцеловать вас в лоб. Его присутствие теперь скорее символично, чем реально, но вы позволите мне исполнить это сейчас?
Она сделала ему навстречу порывистое движение, словно подзывая его, закрыла глаза и подставила свой лоб. Он прижался к нему губами. А малаец наблюдал эту сцену, скосив карие звериные глаза так, что видны были только белки.
Демон тупоумия
Еще раз слышим мы голос гофрата Беренса – прислушаемся же к нему внимательно. Быть может, мы слышим его в последний раз! Когда-нибудь кончится и эта повесть; мы рассказывали ее довольно долго, вернее: время ее содержания пришло в движение и катится вперед так стремительно, что его уже не удержать, быть может, уже и случая не представится подслушать спокойную и образную речь Радаманта. Он говорил, обращаясь к Гансу Касторпу:
– Касторп, старик, вижу я, что вы скучаете… совсем нос повесили, я все время наблюдаю за вами, дурное настроение у вас прямо на лбу написано. Вы пресыщенный тип, Касторп, вы избалованы сенсациями, каждый день вам подавай что-нибудь первоклассное, а не то вы ворчите и брюзжите на застой.
Ганс Касторп молчал, и это показывало, что в душе у него действительно был мрак.
– Я прав, как всегда, – ответил Беренс сам себе. – И прежде чем вы, недовольный гражданин, начнете распространять здесь яд всеимперского брюзжания, я вам докажу, что вовсе вы не покинуты богом и людьми, а, напротив, начальство бдительно надзирает за вами и неутомимо печется о ваших развлечениях. Да и старик Беренс еще тут. Ну, а теперь без шуток, мой мальчик! Мне кое-что пришло в голову в отношении вас, видит бог, я бессонными ночами много о вас думал и придумал. Можно сказать – меня прямо осенило – и я действительно жду многого от своей идеи, то есть не больше, не меньше, как вашего полного обеззараживания и победоносного возвращения домой через нежданно короткий срок.
– Глаза раскрыли? – продолжал он после короткой паузы, хотя Ганс Касторп вовсе не раскрыл глаза от удивления, а, напротив, смотрел на Беренса довольно сонливым и рассеянным взглядом, – но вы даже не представляете, что старик Беренс имеет в виду. А имею я в виду следующее: у вас не все в порядке, Касторп, это, вероятно, не ускользнуло от вашего уважаемого внимания. А непорядок состоит в том, что явления интоксикации уже давно не соответствуют бесспорному местному улучшению – я не со вчерашнего дня размышляю над этим. Вот ваш последний снимок… посмотрите-ка эту чарующую картину на свет, видите, самый завзятый ворчун и пессимист, как выражается наш великий кайзер, едва ли найдет, к чему придраться. Несколько очажков совсем рассосались, «гнездо» сократилось, его контуры обозначились резче, что говорит, как вы при вашей учености, вероятно, знаете, об излечении. При таких данных трудно объяснить неустойчивость ваших температурных показателей, и врач вынужден искать новые причины.
Ганс Касторп легким покачиванием головы вежливо выразил подобающее удивление.
– Теперь вы вообразите, Касторп, что старик Беренс признается, будто лечил неправильно. Но тут вы попали бы пальцем в небо, молодой человек, и совершили бы ошибку, оценивая и положение вещей и старика Беренса. Вас лечили правильно, но, может быть, слишком односторонне. Мне представляется, что ваши симптомы не следовало, с самого начала, приписывать только туберкулезу, я делаю этот вывод на том основании, что ему сейчас их уже никак нельзя приписать. Должен существовать другой источник. По моему мнению, у вас кокки.
– По моему глубочайшему убеждению, – повторил, чтобы усилить свои доводы, гофрат, после того как Ганс Касторп удивленно помотал головой, – у вас стрептококки, хотя вам от этого незачем сразу приходить в ужас.
(Впрочем, об ужасе не могло быть и речи. Лицо Ганса Касторпа скорей выражало не то насмешливое уважение к проницательности Беренса, не то к новому чину, в который его возводила гипотеза гофрата.)
– Никаких оснований для паники! – варьировал тот свои успокоения. – Кокки есть у каждого. Стрептококки имеются у каждого осла. И, пожалуйста, ничего не воображайте. Только совсем недавно стало известно, что у человека могут быть в крови стрептококки и не вызывать никаких особых явлений, свидетельствующих об инфекции. Мы стоим перед фактом, который многим коллегам еще неизвестен, что и туберкулезные палочки могут оказаться в крови и не вызывать никаких особых последствий. И мы очень близки к тому выводу, что туберкулез, в сущности, болезнь крови.
Ганс Касторп заявил, что все это весьма интересно.
– Значит, если я говорю: «стрептококки», – продолжал Беренс, – то вы отнюдь не должны тут же представлять себе картину определенного тяжелого заболевания. Поселились ли в вас эти малютки, может показать только бактериологическое исследование крови. Но вызвано ли ваше лихорадочное состояние их присутствием, если они у вас окажутся, обнаружит только курс лечения стрептовакциной, которому мы вас подвергнем. Вот правильный путь, милый друг, и я жду от него, как уже говорил, самых неожиданных результатов. Насколько туберкулез – дело затяжное, настолько же быстро в наше время излечиваются подобного рода заболевания, и если вы вообще реагируете на инъекции, то через шесть недель вы будете прыгать от здоровья. Что скажете? Старик Беренс не дремлет, а?
– Да ведь это пока только гипотеза, – вяло отозвался Ганс Касторп.
– Но гипотеза вполне доказуемая и в высшей степени плодотворная, – возразил гофрат. – Вы увидите, насколько она плодотворна, когда на наших культурах вырастут кокки. Завтра, во вторую половину дня, мы вас подколем, Касторп, по всем правилам деревенских цирюльников мы отворим вам кровь. Это замечательная штука и сама по себе может оказать благотворнейшее влияние на тело и душу…
Ганс Касторп заявил, что он готов к этой диверсии, и любезно поблагодарил за оказанное ему внимание. Склонив голову на плечо, смотрел он вслед гофрату, который уходил, загребая руками. Шеф высказался в критическую минуту; Радамант довольно верно расшифровал выражение лица и душевное состояние своего пациента; целью нового мероприятия, совершенно определенной целью, гофрат этого и не скрывал, – было сдвинуть пациента с мертвой точки, на которой тот с недавнего времени находился; его мимика порой напоминала мимику покойного Иоахима в те времена, когда в нем созревали некие своевольные и упрямые решения.
Больше того: Гансу Касторпу казалось, что не только он сам дошел до мертвой точки, но и весь мир в целом постигла та же судьба, вернее в этом случае слишком трудно отделить частное от общего. После того как в его отношениях с некоей индивидуальностью наступил столь эксцентричный конец, после многообразных волнений, которые вызвал в санатории этот конец, и с тех пор как Клавдия Шоша недавно выбыла из общины живущих здесь наверху и состоялось прощание с оставшимся в живых названым братом ее повелителя, омраченное трагизмом великого отречения, но проникнутое духом бережной почтительности к памяти покойного, – после всех этих перипетий молодому человеку начало казаться, будто и в жизни и с людьми творится что-то неладное; будто все пошло теперь особенно скверно, идет все хуже, а потому на душе все тревожнее; будто власть забрал какой-то демон, злой и глупый, он уже давно начал оказывать влияние на людей, но сейчас обнаружил свою необузданную власть столь открыто, что это рождало невольный таинственный страх и наводило на мысль о бегстве; имя этому демону было тупоумие.
Читатель решит, что рассказчик сильно и романтически сгущает краски, соединяя тупоумие с началом демоническим и приписывая ему какое-то жуткое и мистическое воздействие. И все-таки мы не сочиняем и точно воспроизводим личные переживания нашего скромного героя, – знать о них нам, правда, дано не поддающимся исследованию способом, но это знание подтверждает, что тупоумие в иных случаях может приобрести неодолимую силу и внушать такие чувства. Ганс Касторп смотрел вокруг себя… Он видел только страшное и злое и понимал, что он видит: это была жизнь без времени, жизнь без забот и без надежд, загнивающее и суетливое распутство, словом, мертвая жизнь.
Все обитатели санатория были очень заняты, предавались самым разнообразным видам деятельности, но время от времени одно из этих занятий вырождалось, становилось модной одержимостью, и все фанатически начинали предаваться ей. Так, например, любительское фотографирование играло далеко не последнюю роль в развлечениях берггофских пациентов, тот, кто прожил здесь наверху достаточно долго, был свидетелем периодического возврата этой эпидемии; и уже дважды на памяти Ганса Касторпа страсть к фотографированию становилась на многие недели и месяцы каким-то всеобщим помешательством, причем не оставалось ни одного человека, который бы с озабоченным видом не опускал голову над камерой, прижатой к грудной клетке, не щелкал бы затвором; а потом пациенты во время трапез без конца передавали друг другу снимки. Вдруг стало считаться делом чести – проявлять негативы собственноручно. Предоставленной в распоряжение пациентов темной комнаты теперь уже не хватало, и обитатели санатория принялись занавешивать окна и балконные двери в своих комнатах темными шторами; любители до тех пор возились при красном свете с химическими растворами, пока не возник пожар, причем студент болгарин, сидевший за «хорошим» русским столом, едва не сгорел дотла, в результате чего начальство санатория запретило заниматься фотографией в комнатах. Обыкновенные негативы считались уже устаревшими; вошли в моду мгновенные снимки и цветная фотография. И все рассматривали карточки, на которых люди, ошарашенные вспышкой магния, с землистыми, сведенными судорогой лицами бессмысленно смотрели перед собой осоловелым взглядом и напоминали трупы, которых посадили на стулья, не закрыв им глаза Ганс Касторп тоже хранил один негатив в картонной рамке; если посмотреть его на свет, то можно было увидеть его самого с медным лицом, среди желтоватых, словно жестяных одуванчиков, один цветок сиял у него в петлице. Ганс Касторп сидел на ядовито-зеленой лесной полянке, между мадам Шоша и Леви, лицо которой напоминало слоновую кость, причем первая была в небесно-голубом, вторая – в кроваво-красном свитере.
Второй манией было собирание почтовых марок – отдельные лица всегда занимались им, но по временам эта мания овладевала всеми. Решительно каждый наклеивал, менялся, ловчился. Выписывались филателистические журналы, велась корреспонденция со специальными торговыми фирмами в Швейцарии и за границей, с обществами специалистов и с отдельными любителями, и на покупку редкостных почтовых знаков тратились несуразные суммы даже теми, кому их ограниченные возможности с трудом позволяли жить в течение долгих месяцев, а то и лет в таком роскошном лечебном заведении, как «Берггоф».
Это увлечение продолжалось до тех пор, пока не начиналась новая мода, например, объявлялось хорошим тоном делать запасы и непрерывно поедать шоколад всевозможных марок и сортов. Решительно все пациенты ходили с коричневыми губами, и самые утонченные произведения берггофской кухни встречали ленивых и критикующих потребителей, ибо желудки были набиты всякими Milka-Nut, Chocolat a la creme d'amandes, Marquis-Napolitains[187], кошачьими языками с золотыми крапинками и, конечно, расстроены.
Рисование с закрытыми глазами всяких свинок, введенное в один давний карнавальный вечер высшей инстанцией санатория и с тех пор получившее широкое распространение, привело к рисованию геометрических фигур, требовавших неистощимого терпения; этим фигурам посвящали свои душевные силы все берггофские пациенты, им жертвовали порой даже своей последней энергией и отдавали последние мысли морибундусы. Целыми неделями санаторий жил под знаком сложной фигуры, состоявшей не больше не меньше как из восьми больших и маленьких окружностей и нескольких вписанных друг в друга треугольников. Задача состояла в том, чтобы сразу, не отрывая карандаш от бумаги, одним махом изобразить этот планиметрический сложный чертеж, но высшим достижением считалось проделать то же самое с плотно завязанными глазами, что в конечном счете, если пренебречь небольшими погрешностями против красоты, удавалось только прокурору Параванту, главному поклоннику этого хитроумного занятия.
Мы знаем, что он увлекался математикой, знаем от самого гофрата, известна нам также и стыдливая причина этой страсти; мы уже слышали похвалы ее целительному действию: занятия математикой якобы охлаждают жар в крови, притупляют жало чувственности, и если бы эти занятия были широко распространены, кое-какие меры, принятые совсем недавно, вероятно, оказались бы излишними. Они состояли главным образом в том, что теперь проходы между перилами балкона и не доходившими до верху стеклянными стенками были перегорожены дверцами, и массажист на ночь запирал их при всеобщих игривых усмешках. Поэтому начался большой спрос на комнаты второго этажа, находившиеся над верандой, ибо, если перелезть через балюстраду, а потом взобраться на стеклянную крышу, то можно было переходить с одного балкона на другой, минуя эти дверцы. Но вводить столь дисциплинарное новшество пришлось не из-за прокурора. Тяжкое искушение, в которое его поверг приезд египетской Фатьмы, было давно побеждено, оно оказалось последним соблазном, терзавшим его земную природу. С тех пор он с удвоенным пылом бросился в объятия ясноглазой богини математики, об успокаивающем воздействии которой гофрат умел говорить в столь высоконравственных выражениях, и погрузился в решение задачи, которой днем и ночью отдавал все свои помыслы, все свое рвение и то чисто спортивное упорство, с каким он некогда перед своим столько раз продлеваемым отпуском, грозившим перейти в отставку, клеймил и обличал бедных преступников; этой проблемой была не больше не меньше как квадратура круга.
Упомянутый чиновник, выбитый из привычной служебной колеи, в процессе занятий математикой проникся убеждением, что те доказательства, с помощью которых наука настаивает на мнимой неразрешимости данной задачи, несостоятельны и что мудрое провидение потому изъяло прокурора из мира живых внизу и поместило сюда наверх, что оно избрало именно его, Параванта, для совлечения этой трансцендентной проблемы с неба на землю, чтобы по-земному точно разрешить ее. Вот как обстояло дело. Когда бы и где бы Паравант ни находился, он не выпускал из рук циркуль, непрерывно что-то высчитывал, покрывая стопы бумаги чертежами, буквами, цифрами, алгебраическими символами, и его загорелое лицо, лицо с виду совершенно здорового человека, хранило отсутствующее и упрямое выражение одержимого маниакальной идеей. С угнетающим однообразием говорил он только о числе, выражающем отношение «пи», об этой проклятой дроби, которую низменный гений простого счетчика Захарии Дазе однажды определил с точностью до двухсотого знака десятичной дроби – и, кстати сказать, все зря, ибо при таких малых величинах возможность приближения к недосягаемо точному числу оказалась настолько незначительной, что ее можно было признать по существу такой же, как и до этого. Все бегали от измученного мыслителя, ибо тот, кого ему удавалось припереть к стене, принужден был выдерживать потоки пылкого прокурорского красноречия, целью которого было пробудить в слушателе гуманную чуткость и стыд за осквернение человеческого духа неисцелимым иррационализмом, внесенным в это мистическое соотношение. Бесплодность постоянного умножения на «пи» диаметра, чтобы определить длину окружности, и радиуса в квадрате, чтобы найти площадь круга, вызывала у прокурора приступы горьких сомнений, не по ошибке ли затруднило для себя человечество со времен Архимеда разгадку этой тайны, ведь, может быть, решение ее детски простое? Как, неужели невозможно выпрямить окружность, а следовательно, и согнуть в круг любую прямую? Порой Параванту казалось, что откровение близко. Его видели частенько по вечерам в опустевшей, едва освещенной столовой, он сидел за своим столом и на голых досках, уже без скатерти, аккуратно укладывал кусок бечевки, придавая ей форму круга, затем внезапным движением, словно желая застать что-то врасплох, вытягивал ее по прямой, но тут же, грузно оперев голову на руки, погружался в унылые думы. Гофрат нередко помогал ему во время унылой возни с бечевкой и вообще поддерживал его чудачества. Да и к Гансу Касторпу обращался этот мученик со своей драгоценной заботой, и не раз, ибо встречал со стороны молодого человека дружеское понимание и сочувствие его попыткам разгадать тайну окружности. Он показал молодому человеку наглядное изображение проклятого «пи», тщательнейший и тончайший чертеж, где с великим старанием и предельно возможным приближением между вписанными и описанными многоугольниками со множеством крошечных сторон была кое-как втиснута окружность. Остаток же, знаменитая кривая, которая, словно некая эфирно-духовная неуловимость, ускользала от определений нашего разума путем исчисляемого охвата, – это, сказал Паравант с дрожащей нижней челюстью, и есть знаменитое «пи». Однако Ганс Касторп, при всей своей восприимчивости, был менее взволнован неподатливостью тайны «пи», чем его собеседник, он назвал эту неподатливость каверзой окружности, посоветовал господину прокурору не так уж расстраиваться из-за игры в пятнашки с ее определениями и заговорил о непротяженных поворотных точках, из которых, собственно, и состоит окружность – от своего несуществующего начала до несуществующего конца, а также о веселой меланхолии замкнутой в себе вечности; говорил он об этом с таким спокойным благоговением, что даже на время утихомирил прокурора.
Впрочем, особенности его характера не раз делали доброго Ганса Касторпа доверенным того или иного обитателя санатория, одержимого навязчивой идеей и страдающего от того, что беспечное большинство не интересуется его излияниями. Один бывший скульптор из австрийской провинции, уже пожилой человек, седоусый, голубоглазый, с орлиным носом изобрел некое мероприятие в области финансовой политики, изложил его план каллиграфическим почерком, отметил важнейшие пункты черточками, сделанными сепией. Мероприятие это состояло в том, чтобы обязать всех подписчиков на газеты сдавать первого числа каждого месяца старую газетную бумагу из расчета по 40 граммов в день, что дало бы в год 14 тысяч граммов, в двадцать лет – 288 кило, и если считать кило по 20 пфеннигов, составило бы сумму в 57 марок 60 пфеннигов. При пяти миллионах подписчиков, сообщалось дальше в меморандуме, газетных ценностей будет сдано за двадцать лет на чудовищную сумму в 288 миллионов марок, две трети этой суммы можно будет отнести в счет уплаты за новую подписку, а остальная треть – около 100 миллионов марок – пойдет на гуманные цели, как, например, на финансирование народных туберкулезных лечебниц, поддержку нуждающимся талантам и так далее. План был тщательно разработан – вплоть до графическою изображения выраженной в сантиметрах таблицы, по которой соответствующее учреждение будет собирать ежемесячно старую бумагу и исчислять ее стоимость, а также особых списков, по которым должна оплачиваться сданная бумага. План был всесторонне обоснован и разработан. Неразумная трата и уничтожение газетной бумаги, которую невежественные люди сжигают и выбрасывают на помойку, является государственной изменой по отношению к нашим лесам, нашей экономике. Беречь бумагу, экономить бумагу, значит беречь целлюлозу, лесонасаждения, человеческий материал, который расходуется при выделке целлюлозы и бумаги, да, да, и человеческий материал, и капиталовложения. А так как ценность старой бумаги чрезвычайно повышается, когда ее превращают в оберточную и в картонажные изделия, то эта бумага оказывается важным экономическим фактором и источником значительных государственных и общинных обложений и тем самым должна облегчить налоги читателей газет. Короче говоря, план был хорош, против него нечего было возразить, и если в нем и чувствовалась какая-то жуткая бесцельность и нелепая мрачность, то причиной был именно тот извращенный фанатизм, с каким бывший художник отстаивал экономическую идею и только за нее и ратовал, причем в глубине души относился к ней, видимо, настолько несерьезно, что даже не делал никакой попытки ее осуществить…
Склонив голову набок и кивая, слушал Ганс Касторп, как скульптор с лихорадочным пафосом пропагандирует перед ним свою спасительную экономическую идею, в то же время пытаясь понять причину того презрения и отталкивания, которые мешают ему поддержать изобретателя в его борьбе с людской беззаботностью.
Некоторые обитатели «Берггофа» изучали эсперанто и хвастливо пытались изъясняться за столом с помощью этой выдуманной тарабарщины. Ганс Касторп хмуро поглядывал на них, хотя в душе считал, что эти еще не самые худшие. С недавних пор в санатории появилась группа англичан, которые ввели некую игру, всего-навсего состоявшую в следующем: один из участников спрашивал: «Did you ever see the devil with a night-cap on?»[188] – на что сидевший рядом отвечал: «No, I never saw the devil with a nightcap on»[189], и задавал тот же вопрос следующему, и так непрерывно по кругу. Это было невыносимо. Но еще хуже становилось на душе у бедного Ганса Касторпа при виде любителей раскладывать пасьянсы, – их можно было наблюдать повсюду, в любом углу и в любое время дня. Ибо страсть к этому занятию разгорелась недавно среди пациентов с такой силой, что весь дом превратился буквально в карточный вертеп, и Ганса Касторпа это ужасало, тем более что временами он сам становился жертвой заразы и, пожалуй, увлекался пасьянсом сильнее всех других. Больше всего ему нравился пасьянс «одиннадцать». Карты, отобранные как при игре в вист, раскладываются в три ряда, по три карты в каждом, и еще две карты, составляющие вместе одиннадцать очков, а также три фигуры, если они лежат открытые, и эти три ряда покрываются вновь и вновь, пока, при удаче, не разойдется вся колода. Казалось невероятным, чтобы в таком простом занятии могло таиться очарование, способное прямо-таки приворожить человека. И все же Ганс Касторп, по примеру многих, испробовал на себе эту возможность забыться, но предавался раскладыванью пасьянсов, угрюмо насупившись, ибо распутство никогда не бывает веселым. Но он невольно покорялся прихотям карточного беса и причудницы-удачи, которая, порой в легком мираже шаткого счастья, с самого начала выбрасывала две карты, составляющие одиннадцать очков, а также три фигуры – валета, даму, короля, так что колода расходилась раньше, чем был завершен третий ряд (мимолетная победа, щекотавшая нервы соблазном новых попыток); а потом опять, до девятой и десятой карты, исчезала всякая возможность выложить новую, и верный шанс на успех в последнюю минуту улетучивался; однако Ганс Касторп раскладывал этот пасьянс везде и в любое время дня, ночью под звездами, утром в одной пижаме, за столом и даже во сне. Ему становилось жутко от своей одержимости, но он продолжал раскладывать. И вот однажды ему помешал своим визитом Сеттембрини, такова уж была издавна его миссия.
– Accidente![190] – воскликнул он. – Вы на себя раскладываете карты, инженер?
– Ну, не совсем, – отозвался Ганс Касторп. – Просто раскладываю, сражаюсь с абстрактной случайностью. Меня интригуют ее ветреные измены и фокусы, ее угодливость и тут же непостижимая враждебность. Сегодня утром, когда я встал, пасьянс вышел три раза подряд, один раз – при двух рядах, а уж это рекорд. Верите ли, я раскладываю тридцать второй раз и ни разу не дошел даже до половины колоды.
Сеттембрини взглянул на него грустными черными глазами, как посматривал частенько за эти годики.
– Во всяком случае, я вижу, что вы очень заняты, – сказал он. – И не утешите меня в моих горестях и заботах, не прольете бальзам на мой душевный разлад, который мучит меня.
– Разлад? – переспросил Ганс Касторп и продолжал раскладывать карты…
– Меня очень тревожит международное положение, – вздохнул масон. – Балканский союз состоится, все полученные мною сведения подтверждают это. Россия развивает лихорадочную деятельность, острие всей этой комбинации направлено против Австро-Венгерской монархии, без ее разгрома нельзя осуществить ни одного пункта русской программы. Теперь вам понятны мои сомнения? Всеми силами души я ненавижу Вену, вы это знаете. Но неужели я должен из-за этого оказывать внутреннюю поддержку Сарматской деспотии[191], которая намерена разжечь пожар войны на нашем благороднейшем континенте? А с другой стороны, хотя бы временное дипломатическое сотрудничество моей страны с Австрией я бы пережил как позор. Это такие вопросы совести, которые…
– Семь и четыре, – пробормотал Ганс Касторп. – Восемь и три, валет, дама, король. Дело идет на лад. Вы приносите мне счастье, господин Сеттембрини.
Итальянец умолк. Ганс Касторп чувствовал на себе взгляд его черных глаз, полный разумной и нравственной силы, он покоился на молодом человеке с глубокой печалью, а тот некоторое время все еще упрямо продолжал раскладывать пасьянс, и только потом, подперев щеку рукой, с видом напускной невинности смущенно поднял глаза на стоявшего перед ним наставника.
– Вы отлично знаете, что с вами происходит, – начал тот, – и ваши глаза напрасно стараются это скрыть.
– Placet expepiri, – дерзко ответил Ганс Касторп, и Сеттембрини покинул его – после чего, однако, оставшись в одиночестве, молодой человек еще долго сидел за столом в своей белой комнате, подперев голову рукой, не касаясь карт; потрясенный до глубины души, он размышлял об угрожающем и двусмысленном положении, в котором, по его мнению, оказался мир, и о той отвратительной ухмылке злого духа и обезьяньего бога, чьей слепой, необузданной власти подпали люди и чье имя было «демон тупоумия»!
Дурное, апокалипсическое имя, прямо предназначенное для того, чтобы порождать тревогу. Ганс Касторп сидел и тер себе ладонью лоб и грудь. Его охватил страх. Ему чудилось, что «все это» добром не кончится, завершится катастрофой, восстанием долготерпеливой природы, громом и молнией, очистительным ураганом, который разрушит сковавшее мир колдовство, сорвет жизнь с «мертвой точки» и уготовит всякому застою и мертвечине Страшный суд.
Как мы уже говорили, ему захотелось бежать, и еще счастье, что начальство следило за ним «недремлющим оком», что оно умело читать в его лице и стремилось отвлечь его новыми, плодотворными гипотезами.
Врачи заявили с профессиональной уверенностью, что наконец открыли причину неустойчивости теплового бюджета Ганса Касторпа, причину, добраться до которой, по их ученому суждению, будет настолько не трудно, что излечение и законный отъезд на равнину может стать фактом ближайшего будущего. Сердце молодого человека, взволнованного самыми противоречивыми чувствами, бурно колотилось, когда он вытянул руку, чтобы у него взяли кровь. Судорожно моргая и слегка побледнев, смотрел он с восхищением на великолепный, дающий ему жизнь рубиновый сок, который быстро наполнял прозрачный сосуд. Эту маленькую, но важную по своему значению операцию совершил сам гофрат, которому ассистировал доктор Кроковский и сестра. Потом прошло несколько дней, в течение которых Ганс Касторп был занят вопросом о том, как поведет себя отданная им кровь уже вдали от него, под надзором науки.
Конечно, еще ничего не могло вырасти, сказал гофрат вначале. К сожалению, все еще ничего не выросло, говорил он позднее. Однако настало утро, когда он подошел к Гансу Касторпу, который к тому времени уже сидел за «хорошим» русским столом, на верхнем конце его, там, где некогда сидел его великий побратим; гофрат с витиеватыми поздравлениями возвестил, что в одной из культур все же бесспорно установлено наличие цепного кокка. Теперь это вопрос, относящийся к теории вероятности – следует ли объяснять интоксикацию организма бесспорно существующим небольшим туберкулезным процессом или стрептококками, которые тоже в небольшом количестве имеются в организме. Он, Беренс, должен попристальнее и подольше изучить этот вопрос. Культура развилась еще недостаточно. Он показал ее Гансу Касторпу в лаборатории: красное кровяное желе, в котором были видны серые точечки. Это и были кокки. (Но кокки, как и туберкулезные палочки, есть у каждого осла, и не появись соответствующие симптомы, этому факту незачем было бы и придавать особое значение.)
И вот, вне его тела, но под надзором науки, вытекшая из него кровь продолжала оправдывать возложенные на нее надежды. Наступило утро, когда гофрат взволнованно и витиевато сообщил: не только на одной культуре, но и на всех остальных все же выросли кокки и большими скоплениями. Трудно сказать – только ли это стрептококки; но теперь более чем вероятно, что от них зависят и явления интоксикации, хотя, конечно, неизвестно, какая доля участия принадлежит имеющемуся налицо туберкулезу, которым он бесспорно болел и не вполне излечился. Какой же из этого следует вывод? Курс стрептовакцины! Прогноз? Исключительно благоприятный – тем более что попытка такого лечения не связана абсолютно ни с каким риском и ни в коем случае не может повредить. Поскольку сыворотка будет изготовлена из крови самого Ганса Касторпа, то при инъекциях в организм не будут вводиться никакие болезнетворные вещества, которых в нем бы уже не содержалось. В худшем случае лечение не принесет пользы, даст нулевой результат – но, поскольку пациент все равно должен оставаться здесь, разве это можно назвать «худшим случаем»?
Конечно нет, упрямиться Касторп не будет. И он согласился пройти курс лечения, хотя считал его смехотворным и унизительным. Эти прививки себя самому себе казались ему каким-то отвратительным и унылым извращением, какой-то кровосмесительной гадостью, сочетанием себя с собой, по существу бесплодным и безнадежным. Так по крайней мере рассуждал этот невежественный ипохондрик; но в том, что касается бесплодности – он в полной мере оказался прав. Лечение продолжалось долгие недели. Порой казалось, что оно даже вредит, это, конечно, было неверно, а порой – что приносит пользу, и это тоже оказывалось потом неверным. Результат свелся к нулю, хотя это не было констатировано и провозглашено во всеуслышание. Новое мероприятие кончилось ничем, и Ганс Касторп продолжал раскладывать пасьянсы – с глазу на глаз с тем демоном, безудержное господство которого предвещало какой-то страшный конец.
Избыток благозвучий
Каково же было то достижение берггофской администрации, та новинка, которая помогла нашему многолетнему другу освободиться от пристрастия к картам и бросило его в объятия другой, по сути не менее своеобразной страсти? Захваченные таинственным очарованием ее предмета, мы готовы приступить к рассказу, мы просто жаждем поведать об этом читателю.
Вопрос шел об увеличении числа развлекательных аппаратов большой гостиной и был рассмотрен и решен в недрах санаторского управления, которое неустанно пеклось о благе больных, причем мы, не считая себя вправе учитывать расходы высшего руководства этого бесспорно заслуживающего рекомендации лечебного учреждения, все же вынуждены признать его бесспорную щедрость. Значит, речь идет о какой-нибудь игрушке вроде стереоскопа, калейдоскопа с подзорной трубой или кинематографического барабана? Разумеется, – и все же нет. Ибо, во-первых, тот аппарат, который пациенты обнаружили однажды вечером в гостиной, – причем одни всплеснули руками над головой, другие, согнувшись, сложили их на коленях, – аппарат этот отнюдь не был оптическим, но акустическим; а во-вторых, по классу, рангу и уровню он стоял неизмеримо выше этих легковесных аттракционов и был с ними несравним. Обитатели санатория увидели не ребячью и однообразную игрушку, которая надоедала так скоро, что, прожив здесь хотя бы три недели, человек уже не прикасался к ней: то был своеобразный рог изобилия, из которого можно было черпать и радостные, и скорбные художественные сокровища. То был музыкальный аппарат. То был граммофон.
Мы серьезно обеспокоены, как бы название это не навело читателя на мысль о чем-то недостойном и отсталом, ибо с ним могут быть связаны представления, вызванные устаревшей формой предстоящего нам в мечтах подлинного достижения, которое в неустанных попытках подчинить технику музам должно в своем развитии достигнуть благороднейшего совершенства. Нет, друзья! Это был не тот убогий ящик с ручкой, диском и иглодержателем, казавшийся как бы привеском к бесформенному рупору, похожему на трубу из латуни, и некогда услаждавший с ресторанной стойки гнусавым ревом неприхотливых посетителей. Скорее высокий, матово-черный ящик мореного дерева, соединенный шелковым шнуром с электрической розеткой в стене и стоявший на особом столике, своим скромным изяществом уже ничем не напоминал былой, допотопный и грубый механизм. Вы поднимали изящно сужающуюся крышку, которую внутренняя латунная подпорка автоматически удерживала в наклонном положении; в плоском углублении лежал обтянутый зеленым сукном вращающийся диск с никелевым краем и никелевым штифтом, на который вы надевали каучуковую пластинку с отверстием посредине. Справа находился регулятор скорости с цифрами, напоминавший часы, слева рычажок, с помощью которого вы запускали диск или останавливали его. Слева же и сзади имелся изогнутый никелированный тонарм с плоским кружком мембраны; он был подвижен, особые винтики на мембране зажимали и несли иглу. Спереди были двустворчатые дверцы, которые открывались, а за ними вы видели конструкцию из черного дерева, напоминающую жалюзи и состоящую из косых планок. Вот и все.
– Новинка, – заявил также вошедший в комнату гофрат. – Последнее достижение, дети мои, н-да, первый сорт, лучше не бывает. – Он произнес это невероятно комично, точно малокультурный продавец, расхваливающий свой товар. – Не аппарат и не машина, – продолжал он и при этом извлек из стоявшей на столике пестрой жестяной коробочки иглу и вставил ее. – Это музыкальный инструмент, Страдивариус, Гварнери, тут все решает тончайший организованный резонанс и колебания звуковых волн. Он называется «Полигимния», как вы можете узнать по надписи на внутренней стороне крышки. Немецкого производства, знаете ли. Мы делаем такие вещи лучше всех. Верность музыкальному началу в современной механизированной форме. Немецкая душа up to date[192]. А вот вам и литература! – закончил он, указывая на стенной шкафчик, в котором стояли рядами толстые альбомы. – Я передаю вам это сокровище, наслаждайтесь сколько угодно, но я оставляю его под защитой публики. Хотите попробуем, пусть прогремит какая-нибудь пластинка.
Пациенты принялись умолять его об этом, и он извлек из шкафчика одну из волшебных книг с их безмолвствующим содержанием, полистал тяжелые страницы, снабженные картонными карманчиками, вытащил из такого карманчика с цветным названием пластинку и поставил. Одним движением он запустил ее, помедлил секунды две, пока она завращалась с нужной скоростью, потом бережно поставил конец стального штифтика на край пластинки. Послышался легкий, словно царапающий шорох. Тогда он опустил крышку, и в то же мгновение в открытую двустворчатую дверцу, сквозь щели жалюзи, нет, как будто из всего корпуса этой музыкальной шкатулки, вырвалась шумная многоголосица инструментов, веселая и настойчивая мелодия, первые задорные такты увертюры к одной из оперетт Оффенбаха.
Все замерли и слушали раскрыв рот, улыбаясь. Рулады деревянных духовых инструментов звучали так чисто и естественно, что люди ушам своим не верили. Скрипка, прелюдировавшая совсем одна, показалась чем-то прямо фантастическим. Слышны были удары смычка, тремоло грифа, сладостно-скользящие переходы из одной позиции в другую. И наконец она словно нашла мелодию вальса «Ах, ее я потерял». Оркестр легко поддерживал своими гармониями вкрадчивый мотив, победительно подхваченный затем ансамблем и повторенный как многозвучное tutti[193]. Конечно, все это звучало не совсем так, как если бы в комнате играл настоящий оркестр. Самый звук, в общем, не был искажен, но ослаблен, дан словно в перспективе; примерно так, как если бы – да будет мне позволено применить к акустике сравнение, взятое из области зрительных впечатлений, – как будто рассматриваешь картину через перевернутый бинокль и видишь ее удаленной и уменьшенной, причем ни четкость рисунка, ни блеск красок от этого ничуть не страдают. Исполнявшееся музыкальное произведение, яркое и живое, представало перед слушателями со всем своим остроумием и изобретательным легкомыслием. Финал, весьма шаловливый, начавшийся с комически нерешительного галопа, постепенно перешел в откровенный канкан. Казалось, ты в театре, и на сцене размахивают цилиндрами, подкидывают колени, задирают юбки; потом танец с нелепой торжественностью как будто кончался и все же никак не мог кончиться. Вращающийся механизм автоматически щелкнул. Пластинка была доиграна. Все зааплодировали от души.
Публика потребовала еще, и ее желание было исполнено: из шкатулки полился человеческий голос, мужской, бархатный и в то же время мощный, это пел под аккомпанемент оркестра прославленный итальянский баритон – и тут уж не могло быть и речи о какой-либо приглушенности и отдаленности: чудесный голос звучал во всей полноте своего естественного объема и убедительной силы; а если выйти в одну из открытых соседних комнат и не видеть аппарата, то создавалось полное впечатление, будто в гостиной стоит сам артист во плоти и, держа в руках ноты, поет. Он исполнял бравурную оперную арию на родном языке: «Eh, il barbiere. Di qualita, di qualita! Figaro qua, Figaro la, Figaro, Figaro, Figaro!»[194] Слушатели умирали со смеху, слушая его фальцетирующее parlando[195] и контрасты этого мощного голоса с языколомной скороговоркой. А знатоки могли следить за его удивительной фразировкой и за техникой дыхания и восхищаться ими. Мастер покорять публику, виртуоз этой чужеземной манеры «da-capo», так тянул предпоследнюю ноту перед заключительной тоникой, видимо, устремившись к рампе и воздев руку, что все невольно разразились долгими криками «браво» еще до того, как он смолк. Это было замечательно.
Но этим дело не кончилось. Валторна с благородной сдержанностью исполнила вариации на тему народной песни. Сопрано, выводя трели и стаккато и заливаясь соловьем, с прелестной свежестью спело арию из «Травиаты». Дух скрипача с мировой славой под аккомпанемент рояля, звучавшего сухо, как спинет, сыграл, словно за пеленой тумана, один из романсов Рубинштейна. Из кипевшей звуками волшебной шкатулки вырывался колокольный звон, глиссандо арф, звон труб и дробь барабанов. В заключение были поставлены пластинки с музыкой для танцев. Среди них оказалось даже несколько образцов новейшего импортного типа, во вкусе экзотики портовых кабачков, а также танго, призванное превратить венский вальс в гросфатер. Две пары, уже овладевшие модными «па», продемонстрировали на ковре свое мастерство. Предупредив, что каждой иглой можно пользоваться только один раз и что с пластинками надо обращаться осторожно, как с «сырыми яйцами», Беренс удалился. Ганс Касторп занялся аппаратом.
Почему именно он? Так вышло. Сдержанно и сухо заявил он тем, кто после ухода гофрата хотел бы забрать в свои руки смену игл и пластинок, включение и выключение тока: «Уж предоставьте это мне!» Затем оттеснил их от аппарата, и они равнодушно уступили, во-первых, потому, что он имел такой вид, будто давно уж умеет обращаться с граммофоном, и во-вторых, слишком мало интересовались тем, кто именно управляет источником их удовольствия, и предпочитали, чтобы им доставляли его без всяких хлопот и обязательств, пока оно не надоест.
Ганс Касторп вел себя иначе. В то время как гофрат демонстрировал новое приобретенье, молодой человек молча стоял в задних рядах, он не смеялся, шумно не выражал свое восхищение, но взволнованно следил за концертом, по привычке пощипывая бровь двумя пальцами. С каким-то беспокойством переходил он с места на место за спиною публики, удалялся в библиотеку, чтобы послушать оттуда, потом, заложив руки за спину, с замкнутым лицом становился рядом с Беренсом, не спуская глаз со шкатулки и следя за его несложными манипуляциями. Какой-то голос словно говорил ему: «Стой! Внимание! Новая эра!» – «И это пришло ко мне!» – подумал он. Его охватило совершенно ясное предчувствие новой страсти, очарования нового любовного бремени. Примерно то же испытывает юноша с равнины, когда с первого взгляда на девушку в его сердце вонзается зубчатая стрела Амура. И тотчас всеми действиями Ганса Касторпа стала руководить ревность. Общественная собственность? Но вялое любопытство не имеет ни права, ни сил чем-либо владеть. «Предоставьте это мне», – процедил он сквозь зубы, и они спокойно согласились. Они еще потанцевали немножко под легкую музыку, потребовали, чтобы он поставил еще пластинку с сольным пеньем, потом оперный дуэт, потом «Баркаролу» из «Сказок Гофмана»[196], вещь очень приятную для слуха, и когда он захлопнул крышку шкатулки, они, слегка возбужденные, разошлись, болтая, чтобы полежать на воздухе и предаться покою. А он только и ждал этой минуты. Они оставили после себя полный беспорядок – открытые коробочки с иглами, альбомы, разбросанные пластинки. Они были верны себе. Он сделал вид, будто уходит вместе с ними, но на лестнице украдкой покинул их, возвратился в гостиную, запер все двери и провел там полночи, забыв обо всем на свете.
Он ознакомился с новым приобретением, без помех просмотрел сокровищницу приложенного к нему репертуара, содержавшегося в тяжелых альбомах. Их было двенадцать, двух размеров, по двенадцать пластинок в каждом, на многих из этих дисков, покрытых частой кругообразной нарезкой, имелась двусторонняя запись, не только потому, что некоторые номера занимали обе стороны, но и потому, что на многих пластинках были записаны два различных произведения. И эти черные диски с таившимися в них прекрасными возможностями, которыми надо было овладеть, вначале казались чем-то трудно обозримым, и он в этом разнообразии даже терялся. Правда, он проиграл свыше двух десятков пьес, и чтобы его не услышали в ночной тишине и никому не мешать, пользовался особыми скользящими иглами, смягчавшими звук; но это была едва восьмая часть того, что манило и звало к прослушиванию. На сегодня приходилось ограничиться чтением названий, и лишь время от времени включать волшебную шкатулку, чтобы, вложив в нее один из образчиков этой немой графики кругов, помочь ей воплотиться в звуки. На первый взгляд, все эти твердые каучуковые диски отличались только пестрой этикеткой в центре и больше ничем. Они имели совершенно одинаковый вид, каждый был покрыт концентрическими кругами, которые, на некоторых, доходили до самой середины, а на других не доходили; и все же в тонком отпечатке линий таилась самая разнообразная музыка, плоды вдохновенного творчества во всех ее областях и притом в изысканном исполнении.
Здесь было несколько увертюр и отдельных пьес из мира возвышенного симфонического искусства, сыгранных знаменитыми оркестрами, под управлением прославленных дирижеров. Затем множество песен, их пели под аккомпанемент рояля артисты больших оперных театров – и не только песни, которые являлись высокохудожественными созданиями индивидуальной творческой мысли отдельных композиторов, но и скромные народные песни, и, наконец, произведения, которые стояли как бы между этими двумя жанрами, ибо, хотя и были созданиями одухотворенного искусства, автор переживал их и творил на основе подлинного благоговейного проникновения в дух и душу народа; мы разумеем, так сказать, искусственные народные песни, причем слово «искусственные» ни в какой мере не должно умалять их задушевности; одна из них была знакома Гансу Касторпу с детства, теперь же она, по какой-то своей загадочной многозначительности, стала особенно близка его сердцу; об этой песне мы скажем в дальнейшем. Что же там было еще, или, вернее, чего там только не было! Опер – сколько угодно. Интернациональный набор известнейших певцов и певиц, сопровождаемых деликатно отступавшим на задний план оркестром, посвящал тщательно обработанный божественный дар своих голосов исполнению всевозможных арий, дуэтов, целых ансамблей из совершенно различных областей и эпох музыкального театра: тут был и юг, с особой красотой его порывов, полных благородства и вместе с тем беспечности, и Германия, с присущим ее национальному духу лукавством и демонизмом, и французская опера, с ее величественностью и комедийностью. И это все? О нет! Дальше следовала серия произведений камерной музыки, квартеты, трио, сольные номера для скрипки, виолончели, флейты, и вокальные с сопровождением скрипки или флейты, клавирные пьесы – все это, не говоря уже о просто увеселительной музыке, о куплетах, о пластинках с записью по случаю каких-либо торжеств или отдельных выступлений маленьких оркестров, для которых нужна была более грубая игла.
Ганс Касторп, уединившись в музыкальной комнате, ознакомился со всем этим богатством, привел его в порядок и доверил небольшую его часть инструменту, чтобы тот пробудил ее к жизни и звучанию.
Он ушел к себе наверх очень взволнованный, примерно в столь же поздний час, как и после первого пира с блаженной, величественно-братской памяти Питером Пеперкорном, и от двух до семи неустанно грезил о волшебной шкатулке. Он видел во сне диск, беззвучно вращавшийся вокруг штифта и притом так быстро, что терялись его очертания; это было не только вихревое вращение, но и своеобразное боковое покачивание; казалось, будто несущий иглу тонарм, под которым пробегал диск, упруго колеблется и дышит, что, вероятно, очень подходило для передачи vibrato и portamento [Vibrato (итал.) – музыкальный термин, указывающий, что музыку следует исполнять с вибрацией.
Portamento (итал.) – музыкальный термин, указывающий, что музыку следует исполнять ритмически выдержанно, динамически ровно и протяжно.] смычковых инструментов и человеческих голосов. Но и во сне, не меньше чем наяву, оставалось непонятным, почему одно лишь скольжение по тонкой, как волосок, бороздке над акустически полым пространством и колеблющаяся пленка мембраны могут возрождать сложные и многообразные сочетания звуковых тел, заполнявших внутренний слух спящего.
Утром Ганс Касторп рано пришел в гостиную, еще до завтрака, и заставил великолепный баритон спеть из шкатулки под аккомпанемент арфы «Окину ль взором благородных круг», а сам уселся в кресло и сложил руки. Арфа звучала совершенно естественно, со всем своим своеобразием, ничуть не искаженно и неослабленно, ее аккорды лились из шкатулки так же свободно и правдоподобно, как и человеческий голос, который отчетливо выговаривал слова, то усиливаясь, то замирая. Это было просто поразительно. Затем Ганс Касторп поставил дуэт из современной итальянской оперы[197], и ему показалось, что не может быть на свете ничего нежнее, чем это, полное скромного и горячего чувства, все нараставшее сближение между тенором, пользовавшимся мировой известностью и столь щедро представленным в альбомах, и прозрачным, как хрусталь, чарующим небольшим сопрано, когда тенор произносил слова: «Da mi il braccio, mia piccina»[198], – а она торопливо отвечала ему простодушной, коротенькой фразой, певучей и сладостной…
Ганс Касторп вздрогнул – позади него открылась дверь. Это был гофрат, заглянувший в гостиную; в своем белом медицинском халате, с торчавшим из кармана стетоскопом, он постоял несколько мгновений на пороге, держась за ручку двери, затем кивнул исследователю пластинок. Тот ответил ему тоже кивком через плечо, после чего синещекое лицо шефа, с неровно вздернутыми усиками, исчезло и дверь задвинулась, а Ганс Касторп вернулся к своей незримо поющей парочке.
В течение всего этого дня, после обеда, после ужина, в гостиной, где хозяйничал Ганс Касторп, сменялась самая разнообразная публика, – если считать его самого не слушателем, а тем, кто доставляет слушателям удовольствие. А он был склонен именно так смотреть на дело, и обитатели санатория поддержали его, молчаливо признав с самого начала хранителем и управляющим этим общественным имуществом – должность, на которую он сам себя назначил. Им такое признание ничего не стоило: ведь когда обожаемый тенор, даря миру счастье, блистал и таял, изливаясь в кантиленах и виртуозно изображая страсть, эти люди, несмотря на свое легковесное восхищение и свой шумно выражаемый восторг, любви к музыке не чувствовали и были готовы уступить заботу о доставляемом им удовольствии кому угодно. Именно Ганс Касторп стал содержать в порядке доверенное ему сокровище пластинок, он записал содержание каждого альбома на его внутренней стороне, так что любая вещь, при первом требовании, оказывалась под рукой, и мудро управлял волшебной шкатулкой, скоро усвоив необходимые для этого ловкие, скупые и нежные движения.
Да и что делали бы другие? Они оскверняли бы пластинки, царапая их использованными иглами, забывали бы их на стульях, издевались бы над аппаратом, заставляя благородное произведение искусства вертеться со скоростью и высотою звука в сто десять оборотов, или ставили бы указатель на ноль, так что слышно было бы только истерическое попискивание или глухое стенание. Ведь он уже знал их. Правда, они были больны, но, кроме того, они были грубы. Поэтому Ганс Касторп вскоре стал носить ключ от шкафчика, где хранились иглы и альбомы, просто в кармане, и, если людям хотелось послушать музыку, приходилось звать его.
Вечером, когда кончалось совместное сидение пациентов в гостиных и все расходились, для молодого человека наступали лучшие часы. Он оставался в музыкальной комнате или тайком возвращался туда и музицировал один до поздней ночи. Вскоре он уже не боялся нарушить покой спящего дома, как это было вначале, ибо оказалось, что эта призрачная музыка слышна лишь на очень недалеком расстоянии. Как ни изумительны были ее звуковые колебания вблизи от их источника, вдали они очень скоро тускнели, становились слабыми и теряли силу реальности, как и все призрачное. Ганс Касторп, в четырех стенах этой комнаты, оставался наедине с чудесами волшебной шкатулки, с шедеврами композиции и исполнительского мастерства, скрытыми в этом усеченном гробике из скрипичного дерева, в этом матово-черном маленьком храме, перед раздвинутой двустворчатой дверцей которого он сидел в кресле, сложив руки, склонив голову на плечо, приоткрыв рот и отдаваясь заливавшему его потоку благозвучий.
Этих певцов и певиц он не видел, ибо их человеческая плоть находилась в Америке, в Милане, в Вене, в Санкт-Петербурге. Ну и пусть себе там находятся, – ведь он получал лучшее, что в них было – их голос; и он ценил эти как бы очищенные, абстрагированные голоса, остававшиеся все же в достаточной мере чувственными, чтобы, поскольку дело касалось хотя бы его соотечественников немцев, дать ему возможность, исключив все невыгоды личной близости, по-настоящему, по-человечески оценить их качества. Он различал выговор певцов, диалект, позволявший точнее определить, из какой они местности, характер голоса, говоривший об эмоциональном уровне каждого из них, а по тому, как они использовали возможности духовного воздействия на слушателей или, наоборот, не использовали, можно было судить о степени их интеллигентности. И Ганс Касторп сердился, когда они пренебрегали этими возможностями. Он страдал от стыда и кусал себе губы, если открывал недостатки в технике исполнения, сидел точно на иголках, когда в особенно популярной песне какая-нибудь нота звучала резко или крикливо, что особенно часто случалось с неустойчивыми женскими голосами. Но он с этим мирился, ибо любви суждено страдать. Иногда он склонялся над вращавшимся и дышавшим механизмом, словно то был куст сирени, опустив голову в облако звуков, или становился перед раскрытой волшебной шкатулкой, разделяя блаженную власть с дирижером, и, подняв руку, в нужный миг подавал знак трубе, что ей пора вступать. В этом собрании музыкальных произведений у него были свои любимцы, и некоторые вокальные и инструментальные номера он готов был слушать без конца. Мы не можем не назвать их.
Небольшая серия пластинок воспроизводила заключительные сцены оперы, пышной, насыщенной гением мелодики; она была написана по заказу некоего восточного государя прославленным соотечественником Сеттембрини, одним из родоначальников драматической музыки юга, во второй половине прошлого века, по столь торжественному случаю, как передача человечеству некоего достижения техники[199], способствующей сближению между народами. Ганс Касторп, будучи человеком образованным, знал сюжет оперы и в общих чертах был знаком с судьбой Радамеса, Амнерис и Аиды, певших ему по-итальянски из шкатулки; поэтому он более или менее понимал, что они поют – этот несравненный тенор, это царственное контральто с роскошными модуляциями в середине диапазона и серебряное сопрано, – понимал, конечно, не каждое слово, а кое-что, то там, то здесь, благодаря своему знанию фабулы, своим симпатиям к данной ситуации и тайному сочувствию героям, которое, чем чаще он ставил эти четыре-пять пластинок, тем все более росло и постепенно превратилось в настоящую влюбленность.
Сначала происходило объяснение между Радамесом и Амнерис: царская дочь приказывала привести к ней закованного в цепи Радамеса, ибо она любила его и горячо жаждала спасти для себя, хотя он, ради рабыни из варварской страны, пожертвовал родиной и честью; впрочем, по его словам, «в глубинах сердца честь осталась незадетой». Однако эта незатронутость самого сокровенного, при всей тяжести его вины, мало помогла ему, преступление его было столь явным, что он подлежал духовному суду, а этому суду все человеческое чуждо, и уж конечно судьи не станут церемониться, если виновный в последнюю минуту не одумается и, отрекшись от рабыни, не бросится в объятия великолепного контральто с роскошными переходами, которое, с точки зрения акустической, вполне этого заслужило. Амнерис прилагала самые пылкие старания, чтобы уговорить изливавшего благозвучия, но трагически ослепленного и разочарованного в жизни тенора, твердившего в ответ ей лишь одно: «Не в силах я» и «Напрасно все», – когда она в отчаянии молила его отказаться от рабыни, ибо для него – это вопрос жизни. «Не в силах я»…
«Молю тебя, послушай, откажись».
«Напрасно все».
Самоубийственное ослепление и жгучее страдание любви сливаются в дуэт, необычайно прекрасный, но не оставляющий никакой надежды. И вот Амнерис сопровождает своими скорбными возгласами зловещие ритуальные формулы духовного суда, они глухо звучат откуда-то из глубины, и злосчастный Радамес оставляет их без ответа.
«Радамес, Радамес», – настойчиво взывает опять верховный жрец и с беспощадной суровостью раскрывает его предательство.
«Оправдайся!» – потребовали хором все жрецы.
И так как их глава сослался на то, что Радамес молчит, все единодушно признали его виновным в измене.
«Радамес, Радамес! – снова начинает председательствующий. – Ты смел оставить лагерь перед боем!»
«Оправдайся!» – воскликнули они снова.
«Смотрите, он молчит», – вторично установил сильно предубежденный против него верховный судья, поэтому все судьи во второй раз присоединили свои голоса к его голосу и закричали: «Измена!»
«Радамес, Радамес, – зазвучал в третий раз голос неумолимого обвинителя. – Отечество, царя и честь ты предал!»
«Оправдайся!» – прогремело снова.
«Измена!» – окончательно решили, содрогаясь, жрецы, после того как их внимание было обращено на полное молчание Радамеса. Поэтому неотвратимое неотвратимо свершилось, и хор, по-прежнему единогласно, вынес приговор преступнику и заявил: его участь решена, он умрет позорной смертью преданного проклятию, живым сойдет он в могилу под храмом разгневанного божества.
Вообразить себе негодование Амнерис по поводу этой поповской жестокости предоставлялось самому Гансу Касторпу, ибо здесь пластинка кончалась. Надо было ее менять, что он и делал тихими, точными движениями и как бы опустив глаза, а когда снова усаживался в кресло, звучала уже последняя сцена мелодрамы: заключительный дуэт Радамеса и Аиды звучал уже из могилы, из глубин подземелья, а над их головами ханжи-священники совершали в храме обряд и, простирая руки, усердно что-то бормотали. «Tu – in questa tomba?!»[200] – гремел невыразимо обаятельный, сладостный и вместе с тем мужественный голос Радамеса. Да, она проникла сюда, эта возлюбленная, ради которой он пожертвовал жизнью и честью, она здесь ждала его, дала себя вместе с ним запереть, чтобы вместе встретить смерть. Они пели, то обращаясь друг к другу, то сливая свои голоса, а по временам их прерывал глухой гул священной церемонии в верхнем этаже; именно эта пара волновала до глубины души одинокого ночного слушателя – и особенности их истории, и ее музыкальное воплощение. В их ариях говорилось о небе, они сами были божественны и божественно исполняли их. Линия мелодии, которую сначала порознь, а потом вместе неутомимо повторяли их голоса, эта простая и блаженная кривая, построенная на тонике и доминате, протяжно восходила от основного тона к октаве, но за полтона от нее, лишь слегка ее коснувшись, переходила в квинту и казалась одинокому любителю самым просветленным, самым восхитительным из всего, что он когда-либо слышал. Все же он не так влюбился бы в эти звуки, если бы не вызвавшая их к жизни ситуация, делавшая его сердце особенно восприимчивым к ее сладостному очарованию. Ведь как это прекрасно, что Аида пришла к обреченному Радамесу и пожелала навеки разделить с ним в могиле его судьбу! Осужденный правильно сделал, что не хотел принять принесенной в жертву цветущей жизни, но в его ответе, полном нежности и отчаяния: «No, no! troppo sei bella!»[201] – все же чувствовался восторг окончательного соединения с той, которой он уже никогда не надеялся увидеть; и чтобы пережить вместе с ним этот восторг и эту благодарность, воображению Ганса Касторпа не нужно было делать особых усилий. Однако, когда он, сложив руки, смотрел на маленькие черные жалюзи между планками, среди которых все это расцветало, сильнее всего он чувствовал и постигал всепобеждающую идеальность музыки, искусства, человеческой души, и его больше всего радовала их высокая и неотразимая красота, которая облагораживала низменные и отвратительные явления действительности. Ведь достаточно было посмотреть трезвым взглядом на то, что здесь совершалось: двум заживо погребенным созданиям предстояло, задыхаясь в духоте могилы, умереть от мук голода вместе или, что еще хуже, одному за другим, а затем над их телами разложение должно было начать свое невыразимое дело, пока под сводами не останутся два скелета, и каждый из них будет совершенно равнодушен и нечувствителен к тому, лежит ли он один, или вдвоем. Такова была реальная, фактическая сторона событий – особая их сторона, особое свойство, но эту сторону идеализм сердца вообще не принимал в расчет, а дух музыки и красоты победоносно отодвигал в тень. Для оперных душ Радамеса и Аиды реально предстоявшей им участи просто не существовало. Их голоса взлетали в унисон к блаженному звучанию октавы, уверяя, что теперь им открылись небеса и их любовное томление озарено светом вечности. Сила этого приукрашиванья действовала на слушателя крайне благотворно, утешала его и способствовала тому, что этот номер его постоянной программы стал ему особенно дорог.
Обычно он отдыхал от его ужасов и просветления, слушая короткую пьесу, тоже насыщенную прелестью и гораздо более мирную по своему содержанию, чем первая; это была идиллия, но идиллия рафинированная, автор построил ее и живописал с помощью скупых и вместе с тем осложненных приемов новейшего искусства, чисто оркестровая вещь, без пения, симфоническая прелюдия, написанная французом[202]; она исполнялась сравнительно небольшим по теперешним понятиям ансамблем, однако была промыта всеми водами современной техники звука и хитроумно построена так, чтобы окутать душу пеленою грез. И воображением Ганса Касторпа, когда он слушал эту вещь, овладевала всегда одна и та же греза: перед ним – заросшая пестрыми астрами, залитая солнцем лесная полянка; он лежит на спине, под головой небольшой холмик, одну ногу он поставил стоймя и слегка согнул в колене, другую перекинул через нее, – однако ноги у него не человечьи, это ноги фавна. Лишь для собственного удовольствия, ибо полянка совершенно пустынна, перебирает он лады деревянной дудочки, которую держит во рту – не то кларнет, не то свирель, извлекая из нее мирные, чуть гнусавые звуки; они свободно льются один за другим, как им вздумается и все же в приятной последовательности, и эта беззаботная, чуть гнусавая песенка уносится в ярко-синее небо, а под ним блестит в лучах солнца и колеблется в легком ветерке узорная листва берез и ясеней.
Но это задумчивое, безответственное, полупевучее дуденье недолго остается единственным голосом одиночества. Жужжанье насекомых над травою, в горячем летнем воздухе, само сиянье солнца, ветерок, покачивание зеленых крон, блеск листьев – весь этот летний, мирный, чуть зыблемый покой вокруг становится пестрым звучанием, он придает напевам простодушной свирели непрерывно меняющийся, всегда удивительно изысканный гармонический смысл. Симфоническое сопровождение то отступит, то смолкнет совсем; но Ганс с ногами фавна продолжает играть, и наивное однозвучие его песенки снова будит утонченнейшие по колориту, волшебные звучания природы; еще одна пауза – и это звучание сладостно и мощно перерастает самое себя, в него быстро, один за другим, вступают все новые, все более высокие инструментальные голоса, и тогда уже, себя не сдерживая, оно разражается всей своей полнотой – пусть лишь на беглый миг, но эта полнота дает блаженство совершенного удовлетворения, ибо оно несет в себе вечность.
Молодой фавн был очень счастлив на своей летней полянке. Здесь не требовали никакого «оправдайся!», не возлагали никакой ответственности, никакой военно-духовный суд не угрожал тому, кто забыл честь и потерял себя. Здесь царило великое забвенье, блаженная неподвижность, невинность безвременности; это была распущенность, но без всяких угрызений совести, полное отрицание западного приказа быть активным, воплощенный в образах, желанный апофеоз этого отрицания, почему исходившее от пластинки успокоение и заставляло ночного музыканта предпочитать ее многим другим.
Имелась еще третья… Собственно говоря, даже несколько, связанных между собой и составлявших одно целое, три или четыре, так как одна ария тенора занимала добрую половину покрытой кругами пластинки. Это была опера, опять-таки произведение французского композитора, Ганс Касторп не раз видел ее в театре, а однажды, в разговоре – притом в решающем разговоре, сослался на нее… Второй акт: сцена в испанском кабачке; перед зрителями – просторная комната с настилом, она в ложномавританском стиле, украшена шалями, это – притон контрабандистов. Звучит теплый, чуть хриплый, но пленяющий своим благородством голос Кармен, она заявляет, что сейчас будет плясать перед сержантом, и уже слышится щелканье ее кастаньет. Но в это же мгновенье издали доносятся звуки труб и clairons[203], повторный военный сигнал; паренек встревожен. «Остановись, Кармен! Хоть на одну минуту», – восклицает он, как боевой конь навострив уши. А так как Кармен спрашивает: «Но зачем?» и «Что случилось?» – он отвечает: «Не слышишь разве ты?» – удивленный, что сигнал не произвел на нее никакого впечатления. Это же звуки труб, они призывают его. «Призыв трубы нам зорю возвещает!» – по-оперному торжественно поет он. Однако цыганке этого не понять, да она и не хочет понимать. Тем лучше, отвечает она глупо и дерзко, не нужно и кастаньет, само небо посылает нам музыку, чтобы танцевать. «Ля-ля-ля-ля!» Он вне себя. Собственная боль и обида отступили на задний план перед необходимостью втолковать ей все значение этого сигнала и того, что никакая влюбленность на свете на может ему противостоять. Сигнал этот – нечто священное, категорическое, как она не может понять?! «Пробили зорю, и должен я в казарму идти на перекличку», – заявляет Хозе в отчаянье от ее легкомыслия, и ему становится вдвое тяжелей. И тут надо было послушать Кармен! Она в ярости, она возмущена до глубины души, в ее голосе звучит обманутая и оскорбленная любовь – или она притворяется? «В казарму? На перекличку?» А ее сердце? Ее доброе нежное сердце? Ведь по слабости своей, да, она сознается, по слабости, она готова была развлечь его пеньем и пляской? «Трата-тата!» Она с яростной иронией подносит к губам руку с согнутыми пальцами и, подражая горну, поет: «Трататата!» Этого достаточно. Дуралей вскочил, он стремится уйти. Ах так, ну и скатертью дорога! Вот его каска, вот его сабля и пояс! Живо, живо, живо, пусть убирается в свою казарму! Он стал молить о пощаде. Но она продолжала яростно насмехаться, изображая, как он, при звуках горнов, теряет свой и без того небольшой умишко. Трата-тата – играют зорю! Боже милостивый, вдруг он опоздает! Скорее прочь, в казарму! И он, конечно, переполошится, как дурак, в ту минуту, когда она, Кармен, хотела сплясать перед ним. Вот, вот, вот какова его любовь к ней!
Мучительное положение! Она не понимает. Женщина, цыганка, не могла и не желала его понять. Главное – не желала, ибо, несомненно, в ее ярости, в ее насмешках ощущалось нечто выходившее за пределы данной минуты, за пределы личного, в них ощущалась ненависть, исконная вражда к принципу, который этими французскими clairons или испанскими рожками призывал к покорности влюбленного солдатика и победа над которым была вопросом ее высшего, врожденного и сверхличного честолюбия. И тогда она пустила в ход очень простое средство: она стала уверять, что если он уйдет – значит он ее не любит, а как раз этого Хозе, певший в шкатулке, не мог вынести. Он заклинал ее, чтобы она дала ему высказаться. Но она не желала его слушать. Тогда он заставил ее – это была дьявольски серьезная минута. В оркестре появилась тема рока, угрюмый, угрожающий мотив; Ганс Касторп знал, что он проходит через всю оперу до катастрофической развязки и служит также вступлением к арии солдатика на новой пластинке, которую следовало поставить.
«Видишь, как свято сохраняю цветок, что ты мне подарила»… – Хозе пел эту арию чудесно; Ганс Касторп нередко слушал ее отдельно, вне привычной связи с другими номерами и всегда внимал ей с благоговейным сочувствием. По содержанию эта ария была не бог весть что, но выраженная в ней трогательная мольба хватала за сердце. Солдат пел о цветке, который ему бросила Кармен в начале их знакомства, и во время сурового заключения в тюрьме, куда он попал из-за нее, этот цветок был для него единственным сокровищем. Глубоко потрясенный, он сознается ей в том, что на миг проклял судьбу, допустившую его увидеть Кармен. Хозе тут же горько раскаялся в своих кощунственных мыслях и на коленях молил бога о новой встрече: «Ты мой восторг и упоенье», – начал он с той же ноты, как и «Кармен увидеть вновь», но теперь в оркестре зазвучала вся та чарующая полнота инструментовки, с какой только можно было изобразить страдание, тоску, беспредельную нежность и сладостное отчаянье бедного солдатика – любимая предстала перед ним во всей своей роковой прелести, и он ясно и отчетливо почувствовал, что она «его восторг», «его мученье» («мученье» он спел с рыдающим форшлагом перед первым слогом) и что он погиб навсегда. «Ты мой восторг, мое мученье», – пел он в отчаянье ту же музыкальную фразу, которую потом самостоятельно повторил оркестр, она восходила от основной ноты на два интервала и потом, с особым теплом, переходила в более низкую квинту. «Моя Кармен, навек я твой», – заклинал он ее еще раз банальным, но полным нежности восклицанием; пользуясь именно этой фигурой, поднимался до шестого интервала; потом его голос опускался на десять тонов, и он, потрясенный, признавался опять: «Навек я твой», – причем конец фразы сначала мучительно замедлялся переменой гармонии, и уже потом это «твой» сливалось с основным аккордом.
– Да, да, – говорил Ганс Касторп с грустью и благодарностью и ставил еще финал этого акта, когда все поздравляют молодого Хозе, ибо после столкновения с офицером пути назад ему отрезаны, и он вынужден стать дезертиром, как того потребовала, к его ужасу, еще раньше Кармен.
Пойдем с нами в дальние горы, Где ветер дик и свободен, —пели контрабандисты хором, обращаясь к нему; можно было легко различить слова:
И что нам всего дороже — Свобода ждет, свобода ждет. Нам мир открыт, отчизна без границ, И нет забот.– Да, да, – повторял он и переходил к четвертому номеру, воплощавшему в себе что-то очень дорогое и хорошее. Это было опять нечто французское, но мы тут не повинны, и также мало повинны, что в этом произведении опять фигурировал воинский дух. Речь идет о вставном номере, о сольной арии, о «молитве» из оперы Гуно «Фауст». Выступал какой-то удивительно симпатичный юноша, его звали Валентин, но Ганс Касторп про себя называл его иначе, именем родным и овеянным печалью, носителя которого он отождествлял с персонажем, певшим из шкатулки, хотя голос у этого персонажа был гораздо красивее. Арию исполнял сильный, бархатный баритон, она делилась на три части и состояла из двух сходных строф, имевших благочестивый характер, выдержанных почти в стиле протестантских хоралов, и средней строфы, рыцарски-задорной и отважной, воинственной и легкомысленной, но все же благочестивой: в этом и состоял французский и военный элемент этого номера. Незримый певец пел:
Я покинуть принужден Мой любимый край родной…По случаю предстоящего отъезда он обращался к господу богу с мольбой, чтобы тот в его отсутствие охранял его милую сестру! Ведь он уходил на войну, и ритм вдруг менялся, становился смелым, к черту печаль и заботы, незримый солдат жаждал, там, где битва будет всего беспощадней, опасность всего грозней, – лихо, благочестиво и чисто по-французски ринуться навстречу врагу! Но если господь призовет его на небо, пел солдат, тогда он, твой защитник, будет оттуда взирать на тебя. Под этим «твой» и «тебя» он разумел сестру; однако все это глубоко трогало Ганса Касторпа, и волнение не покидало его до самого конца, когда честный вояка пел внутри шкатулки под мощные аккорды, подобные аккордам хорала:
Бог Всесильный, бог любви, Я за сестру тебя молю.Эта пластинка больше ничем не была примечательна, однако мы решили упомянуть о ней потому, что Гансу Касторпу она очень нравилась, и еще потому, что, позднее, в связи с одним странным случаем, она тоже сыграла особую роль. Теперь нам остается вспомнить еще последнюю, пятую вещь среди более близких Гансу Касторпу пластинок-фавориток – нечто уже отнюдь не французское, а напротив, произведение явно и подчеркнуто немецкое, и не опера, а песня, одна из тех песен, которые принадлежат народу и вместе с тем являются шедевром большого мастера, благодаря чему мы в них и находим особую одухотворенную и обобщенную картину мира. Но зачем эти намеки? Скажем открыто – это была «Липа» Шуберта, именно всем известная песня «У колодца, у заставы».
Ее пел тенор под аккомпанемент рояля, у парня был, видно, и вкус и такт, ибо он в исполнении этой простодушной и вместе с тем несказанно прекрасной вещи показал тонкий ум, музыкальную чуткость и тщательно проработанную дикцию. Мы отлично знаем, что эта чудесная песня в детском и народном исполнении звучит несколько иначе, чем в ее художественной обработке. В первом случае она поется по большей части упрощенно, строфа за строфой, на ту же мелодию, тогда как в песне Шуберта – народный мотив уже во второй восьмистрочной строфе варьирует в минор, а на пятом стихе, особенно красивом, снова возвращается к мажору, и дальше, где говорится о «степном холодном ветре» и о том, что «с меня сорвал он шляпу», – мелодия драматически разрешается и звучит опять в последних четырех стихах третьей строфы, которые повторяются, чтобы она могла полностью завершиться. Чарующие изменения этой мелодии происходят трижды, два раза в ее модулирующей второй половине, а в третий – при репризе последней полустрофы – «Теперь уж я далеко». Эти волшебные изменения, которые нам не хотелось бы огрублять в погоне за слишком точными Определениями, падают на отдельные части фраз – «немало нежных слов» и «ветви зашумели», «брожу в стране чужой». И этот чистый и теплый, в меру рыдающий тенор, этот певец, столь искусно владеющий дыханьем, исполнял ее с такой интеллигентной чуткостью к ее красоте, что описанный переход каждый раз заново волновал слушателя, причем артист умел еще усилить впечатление, пользуясь особенно задушевными головными звуками в таких строках как «И в радости и в горе я к ней идти готов» и «Ты мог найти покой». А при повторении последнего стиха: «Там ждал тебя покой!» – он пел это «ждал» в первый раз со всей полнотою тоскующей страсти и лишь во второй – нежно, как флажолет.
Вот все относительно этой песни и ее исполнения. Мы льстим себя надеждой, что раньше нам удавалось вызвать в наших читателях известное понимание тех глубоко интимных сопереживаний, которые рождали в Гансе Касторпе излюбленные номера его ночной программы. Но объяснить, что значила для него эта песня, эта старинная песня о липе, – задача весьма деликатная, и, приступая к ее разрешению, необходимо соблюдать величайшую сдержанность в интонации, иначе можно скорее напортить, чем помочь.
Скажем так: духовное, то есть значительное, явление «значительно» именно потому, что оно выходит за свои пределы, служит выражением и символом чего-то духовно более широкого и общего, целого мира чувств и мыслей, которые, с большим или меньшим совершенством, в нем воплотились – этим и определяется степень его значительности. Любовь к такому явлению тоже «значительна». Она говорит нам кое-что и о человеке, испытывающем ее, о его отношении к тому общему, к тому миру, который отражен в данном явлении и который этому человеку, сознательно или бессознательно, тоже дорог.
Может быть, читатель удивится тому, что наш скромный герой после нескольких годиков герметически-педагогической переработки своих внутренних сил настолько углубился в духовную жизнь, что осознал «значительность» своей любви и ее объекта. Но это так, и мы об этом рассказываем. Песня о липе значила для него очень многое, целый мир, и этот мир он не мог не любить, иначе бы так безумно не влюбился в тот образ, который был его подобием. И мы знаем, что говорим, если добавим, – хотя это, может, и покажется несколько туманным, – что его судьба сложилась бы совсем иначе, если бы он не был столь бесконечно восприимчив к очарованию той сферы чувств, того общего духовного строя, которым с такой интимной таинственностью была проникнута эта песня. Однако именно данная судьба привела его к внутреннему росту, к необычным событиям, вызвала минуты самопознания, поставила перед ним проблемы «правления», что, в свою очередь, сделало его зрелым для проникновенной критики этого особого мира и его образа, конечно, достойного беспредельного восхищения, а также своей любви к нему, и побудило все это подвергнуть сомнениям совести.
Однако тот, кто решил бы, что такие сомнения могут умалить любовь, решительно ничего не понимает в любви. Эти сомнения придают ей, наоборот, особую остроту. Они-то и пробуждают жало страсти, почему страсть можно было бы даже определить как «сомневающуюся любовь». В чем же заключались сомнения, тревожившие Ганса Касторпа как «правителя», его совесть и нравственность, и ставившие под вопрос дозволенность его любви к волшебной песне и связанным с нею миром? И что это за мир, который, как подсказывали ему предчувствия совести, должен быть миром запретной любви?
То была смерть.
Но ведь это же явное безумие! Такая великолепная песня! Настоящий шедевр, рожденный из последних и священных глубин народной души; неоценимое сокровище, прообраз душевности, воплощение прелести! Какая недостойная клевета!
Да, да, да, все это чудесно, так сказал бы, вероятно, каждый порядочный человек. И все же за этим прекрасным произведением стояла смерть. Эту связь со смертью можно было любить, но, ощущая себя «правителем», нельзя было не предчувствовать, не отдавать себе отчет в известной недозволенности такой любви. По своей собственной первоначальной сути эта песня могла и не таить в себе симпатии к смерти, а напротив – нечто глубоко народное, полное жизненных сил, но духовная симпатия к ней была симпатией к смерти; чистое благоговение, само простодушие, лежавшее в основе этой песни, – их, конечно, ни в какой мере нельзя было оспаривать; но их результатом, их следствием были явления мрака.
Что он внушает себе? Однако разубедить себя он не мог. Явления мрака. Мрачные явления. Палачество, подхалимство и человеконенавистничество в испанском черном платье с брыжами и похотью вместо любви под личиной лицемерного благочестия!
Разумеется, к литератору Сеттембрини Ганс Касторп не относился с абсолютным доверием, но он помнил некое наставление, которое его ментор, служитель ясного разума, дал ему еще давно, в начале его герметического пути, относительно тяги в прошлое, духовной тяги в прошлое, к некоторым мирам, и он счел полезным осторожно приложить это наставление к соответствующему объекту. Сеттембрини определил тогда эту тягу в прошлое как некую «болезнь». Тот образ мира, та духовная эпоха, к которым тянуло вернуться, должны были представляться его педагогическому уму «болезненными». Как бы не так! Неужели пленительная песня о тоске по родине, душевная область, к которой она относилась, сердечное влечение к этой области – «болезненны»? Ничего подобного! Они – самое душевно здоровое, что только может быть. Однако это такой плод, который, будучи свежим, сочным и здоровым в данную минуту или только что, имел удивительную склонность к распаду и загниванию; и если он в соответствующее мгновение являлся чистейшей усладой сердца, то в следующий, несоответствующий миг начинал распространять среди вкушающего его человечества гниль и гибель. Это был живой плод, но порожденный смертью и несущий в себе смерть. Это было чудо души – может быть, высшее перед лицом красоты, лишенной совести и давшей ему свое благословение; и все же, с точки зрения ответственно правящей любви к жизни и к органическому началу, на это чудо следует смотреть с вполне законным недоверием и в согласии с окончательным приговором совести считать, что в отношении к нему надо преодолеть себя.
Да, преодоление себя, – вероятно, в этом и состояла сущность преодоления этой любви – этого волшебного плена души с мрачными последствиями. Мысли Ганса Касторпа, или, вернее, его полные предчувствий полумысли, взлетали очень высоко, когда он сидел по ночам перед усеченным музыкальным гробом – они поднимались выше тех областей, куда достигал рассудок, это были алхимически пресуществленные мысли. О, как мощно было волшебство этого душевного плена! Все мы чувствовали себя его сынами, все могли совершать великие дела на земле, когда служили ему! Не нужно никакой гениальности, а лишь гораздо больший талант, чем у автора песни о липе, чтобы, будучи магом душевного волшебства, придать этой песне исполинские размеры и покорить ею весь мир. Вероятно, можно было бы создать на ее основе целые царства, земные, слишком земные царства, очень устойчивые и прогрессивные, лишенные всякой тоски по родине, – и где эта песня упала бы до граммофонной пластинки. Но лучшим сыном этого волшебства, вероятно, был бы тот, кто, преодолевая себя, погубил бы свою жизнь и умер бы со словом о новой любви на устах, которое он еще не умел произнести. Разве не стоило умереть за нее, за эту волшебную песню! Но тот, кто умер бы за нее, умер бы уже не за нее и был бы героем лишь потому, что умер бы, в сущности, уже за новое, за жившее в его сердце новое слово любви, за будущее…
Таковы были любимые пластинки Ганса Касторпа.
Очень сомнительное
С годами беседы Эдвина Кроковского приняли довольно неожиданный уклон. В его исследованиях, направленных на расчленение души и подсознательную жизнь человека, всегда было что-то от подземелий и катакомб; но за последнее время он очень мягко и почти незаметно для своей аудитории свернул на путь магии, сугубой секретности; и теперь его лекции, происходившие в столовой раз в две недели, – его лекции, гордость проспекта и главный аттракцион заведения, которые он читал в сюртуке и сандалиях, стоя у покрытого скатертью столика и экзотически растягивая слова, перед неподвижно внимающей ему берггофской публикой, теперь касались уже не скрытой любовной жизни души и обратного превращения болезни в осознанный аффект – в них речь шла теперь о неразгаданных странностях сомнамбулизма и гипнотизма, о телепатии, вещих снах, ясновидении, о чудесах истерии; при обсуждении всего этого философские горизонты настолько расширялись, что перед слушателями вдруг вспыхивали такие загадки, как связь между материей и психикой, и даже загадки относительно сущности самой жизни, приблизиться к решению которых, оказывается, можно было скорее дорогами жути и болезни, чем здоровья…
Мы говорим об этом потому, что считаем своим долгом посрамить легковерные умы, утверждавшие, будто доктор Кроковский обратился к области сокровенного лишь по причинам чисто эмоциональным, то есть чтобы избежать в своих лекциях бесплодного однообразия. Так по крайней мере болтали злые языки, которые всюду найдутся. И действительно, на понедельничных лекциях мужчины прислушивались еще внимательнее, а фрейлейн Леви больше чем когда-либо напоминала восковую фигурку с заводным механизмом в груди.
Но эти реакции были не менее законны, чем путь развития, которым вправе идти ум ученого, тем более если его ведет не только логическая последовательность, а сама необходимость. Он и раньше занимался изучением загадочных, неизведанных областей человеческой души, которые называют подсознанием, хотя, может быть, правильнее было бы назвать его сверхсознанием, ибо именно из этих сфер порою возникает знание, неизмеримо превосходящее то, которое содержится в обычном круге сознания отдельной человеческой личности, почему и напрашивается мысль, что, быть может, между глубинными, погруженными во мрак пластами индивидуальной души и обладающей всеведеньем общей душой должны существовать соотношения и связи. Сфера подсознания, «оккультная» в широком значении этого слова, вскоре оказывается оккультной и в более тесном смысле и служит одним из источников для тех феноменов, которые мы так называем за отсутствием лучшего обозначения. Более того: тот, кто видит в физическом симптоме болезни результат изгнания из сознательной душевной жизни истеризированных аффектов, вынужден признать творческую силу психического начала по отношению к материальному, – силу, в которой нельзя не видеть второй источник магических явлений: идеалист патологии, чтобы не сказать – патологический идеалист, поневоле окажется в исходной точке определенной цепи, звенья которой очень скоро приведут его к проблеме бытия, иными словами – к проблеме взаимоотношений между материей и духом. Материалист, опирающийся лишь на философию ядреного здоровья, непременно будет утверждать, что духовное – всего лишь фосфоресцирующий продукт материального. Идеалист же, исходящий из принципа творческой истеричности, будет склоняться к тому, а вскоре и настаивать на том, что вопрос о примате тела или духа следует решить совсем наоборот. В общем, перед нами опять не больше не меньше, как исконный спор о том, что было раньше – курица или яйцо, причем вопрос особенно осложняется тем, что нельзя представить себе яйцо, которое бы не снесла курица, и нельзя представить себе курицу, предварительно не допустив существование яйца, из которого она вылупилась.
Обсуждением этих вопросов и стал с недавних пор заниматься на своих лекциях доктор Кроковский. Он дошел до них органически, вполне законным, логическим путем, мы это усердно подчеркиваем, и только для полноты картины добавим, что занялся он ими еще задолго до того, как появилась Элли Бранд, и дело перешло в эмпирически-экспериментальную стадию.
Кто же она, эта Элли Бранд? Мы едва не забыли, что наши слушатели ее не знают, хотя нам это имя, конечно, очень знакомо. Кто она? Да на первый взгляд – скорее никто. Миленькая девятнадцатилетняя девица с льняными волосами, зовут Нелли, датчанка, но даже не из Копенгагена, а из Оденсе на острове Фюне, где у ее отца была масляная торговля. Сама она уже познала практическую жизнь, просидела несколько лет на вращающейся табуретке в провинциальном отделении столичного банка, надев на правую руку нарукавник и склонившись над толстыми приходо-расходными книгами, где и нагнала себе температуру. Заболела она слегка, врачи только подозревали туберкулез, хотя Элли была созданием хрупким и, видимо, малокровным, но притом бесспорно симпатичным: так и хотелось положить ей руку на светлые льняные волосы, что гофрат делал регулярно, когда заговаривал с ней в столовой. От нее веяло северной свежестью, какой-то целомудренно-хрустальной, детски-девической чистотой, столь же привлекательной, как и прямой, младенчески-ясный взгляд ее голубых глаз, высокий ломкий и нежный голос и даже слегка неправильная немецкая речь с небольшими типичными ошибками в произношении. В чертах ее не было ничего особенно примечательного, подбородок казался слишком маленьким. Она сидела за одним столом с Клеефельд, которая ее опекала.
И вот в этой Браун, в этой девственной Элли, в этой приветливой велосипедисточке и банковской служащей, гнувшей спину над конторскими книгами, оказалось нечто, о присутствии чего никто и подозревать не мог ни при первом, ни при втором взгляде на ничуть не загадочную датчаночку. Однако после двух-трех недель ее пребывания здесь наверху в ней обнаружились некоторые свойства, раскрытие которых, во всей их необычности, стало главной задачей доктора Кроковского.
Совместные развлечения пациентов, собиравшихся после ужина в гостиных, впервые заставили ученого мужа призадуматься. Обитатели санатория упражнялись в отгадывании всяких загадок; кроме того, они под игру на рояле искали спрятанные предметы, и чем ближе ищущий подходил к этому предмету, тем громче звучала музыка, и, наоборот, затихала, когда он искал не там, где следовало; потом стали выпроваживать кого-нибудь одного из комнаты, и пока он созерцал дверь с обратной стороны, сговаривались о том, чтобы он, вернувшись в комнату, выполнил какие-нибудь сложные действия, например: переменил кольца у двух присутствующих; пригласил тремя поклонами кого-нибудь на танец; взял в библиотеке определенную книжку и вручил ее такому-то и многое еще в подобном же роде. Следует отметить, что подобные игры обычно не входили в состав берггофских развлечений. Кто первый предложил их, позднее так и не удалось установить. Уж конечно не Элли. Однако заниматься ими стали, только когда она уже была здесь.
Иные из участников, почти все наши старые знакомые, – среди них был и Ганс Касторп, – обнаруживали во время этих опытов большие или меньшие способности, а иные оказывались и вовсе бездарными. Однако Элли Бранд обнаружила совершенно необычное дарование, поразительное, неподобающее. Ее уверенность при нахождении спрятанных вещей встречала всеобщее одобрение и веселый смех; но при комбинированных действиях пораженные участники смолкали. Она всегда точно выполняла то, что ей втайне внушали, выполняла, едва войдя в комнату, с мягкой улыбкой, без малейших колебаний и даже без направляющей ее поиски музыки. Так она однажды принесла из столовой щепотку соли и высыпала ее на голову прокурору Параванту, потом взяла его за руку, подвела к роялю и сыграла его указательным пальцем начало песенки «Прилетела птичка». Затем отвела обратно на место, сделала ему книксен, пододвинула скамеечку и в заключение уселась у его ног – именно так, как, долго ломая себе голову, придумали остальные.
Значит, она подслушивала!
Девушка покраснела; а присутствующие, почувствовав истинное облегчение оттого, что ей стало стыдно, хором принялись бранить ее. Но она возразила: да нет же, нет, ничего подобного! Не подслушивала она оттуда, из-за двери, право же, нет!
Не подслушивала из-за двери?
О нет, простите! Она слушает здесь в комнате, когда входит, не может не слушать.
Не может? Слушает в комнате?
Да, ей словно кто-то нашептывает на ухо, говорила Элли. Нашептывает, что надо сделать, – тихо, но вполне ясно и отчетливо.
Это было явное признание. Элли в каком-то смысле чувствовала себя виноватой – она ведь обманывала. Надо было сказать заранее, что она для такой игры не годится, ведь ей все нашептывают. А любое состязание теряет всякий человеческий смысл, если один из конкурентов обладает сверхъестественными преимуществами. Со спортивной точки зрения, Элли вдруг как бы дисквалифицировалась, но так, что у многих, слышавших ее признание, мороз пробежал по спине. Несколько голосов тут же потребовали доктора Кроковского. За ним пошли, и он явился: коренастый, жизнерадостно улыбающийся, сразу смекнувший, в чем дело, он всем своим существом как бы призывал к бодрому доверию. Ему доложили, захлебываясь, что обнаружилось нечто совершенно ненормальное, появилась всеведущая особа, девушка, которая слышит голоса. Ну и ну! Что же дальше? Спокойствие, друзья мои! Посмотрим! Это была сфера, для всех остальных – вязкая и зыбкая, как болото, – он же двигался в ней с уверенностью и сочувствием. Кроковский стал расспрашивать, просил рассказать подробнее. Ну и ну, подумайте-ка! «Значит, вот вы какая, дитя мое?» И он, как это делал охотно каждый, положил девчурке руку на голову. Есть все основания для интереса, и совершенно неотчего приходить в ужас. Ученый муж погрузил пристальный взор своих карих экзотических глаз в ясные, чистые глаза Элли Бранд и мягко стал проводить рукой от ее макушки к плечу и вдоль руки. Она покорно и все покорнее отвечала на его взгляд, смотрела на него все больше снизу вверх, так как голова ее медленно опускалась на грудь и на плечо. Когда она начала заводить в дремоте глаза, он сделал перед ее личиком небрежное движение, как бы приподнимая что-то, потом заявил, что все в порядке, и рекомендовал всему взволнованному обществу предаться вечернему лежанию, за исключением Элли Бранд, с которой хотел, по его словам, еще немного «поболтать».
Поболтать! Нетрудно себе представить, что это будет за болтовня! Всем стало не по себе от излюбленного словечка веселого коллеги Кроковского. Каждому почудилось, что на него повеяло холодом, не исключая и Ганса Касторпа, когда он с опозданием улегся в своем необычайно удобном шезлонге и вспомнил, как во время недостойной деятельности Элли и ее последовавших затем стыдливых объяснений у него прямо пол закачался под ногами и он почувствовал дурноту, какую-то чисто физическую тоску, даже нечто вроде приступа морской болезни. Ему никогда не приходилось переживать землетрясение, но он решил, что с ним, наверное, связано именно такое же чувство тоскливого страха, хотя инфернальные способности Элли Бранд и вызывали в нем любопытство, – любопытство, таившее в себе предощущение своей полной бесплодности, сознание недоступности той духовной области, которую оно искало ощупью, а отсюда и сомнение – только ли оно праздное, или к тому же еще и греховное; впрочем, это не мешало ему оставаться тем, чем оно было, – а именно любопытством. Гансу Касторпу, как и всякому, не раз приходилось слышать в своей жизни о тайной или сверхъестественной стороне явлений, – мы уже упоминали о двоюродной прабабушке-ясновидящей и о том, что до него дошло меланхолическое предание о ней. Но с этим миром, существование которого Ганс Касторп готов был теоретически и совершенно беспристрастно допустить, он еще никогда так близко не сталкивался, никогда практически не познавал его на опыте и теперь противился такому опыту, не принимал его с точки зрения хорошего вкуса, эстетики, человеческой гордости – если будет дозволено выразиться так высокопарно в отношении нашего скромного героя, и это неприятие было почти столь же сильно, как и волновавшее его любопытство. Он предчувствовал заранее, совершенно ясно и определенно, что этот опыт, как бы он ни развертывался, всегда останется чем-то безвкусным, невнятным и унижающим человеческое достоинство. И все же он жаждал его изведать. Он понимал, что «праздное» или «греховное» – уж само по себе дурно, как альтернатива, да никакой альтернативы и не было, понятия эти, в сущности, одно и то же. И что духовная безнадежность – только внеморальная форма выражения для того, что является запретным. Все же знаменитое placet experiri, привитое Гансу Касторпу тем, кто такие попытки осудил бы самым решительным образом, крепко засело в нем; его моралью стало в конце концов любопытство – неудержимое любопытство путешественника, разъезжающего с образовательной целью; и, коснувшись тайны индивидуальности, оно готово было теперь обратиться на открывавшиеся совсем рядом новые области, причем в этом любопытстве было даже что-то военное, ибо оно не отступало перед запретным, если запретное вставало на его пути. Поэтому Ганс Касторп решил быть на своем посту и не отходить в сторону, если с Элли Бранд произойдут еще какие-нибудь приключения.
Доктор Кроковский строго запретил устраивать в дальнейшем любительские эксперименты, связанные с оккультными способностями фрейлейн Бранд. Он как бы конфисковал девушку для научных исследований, проводил с ней сеансы в своем психоаналитическом кабинете, гипнотизировал ее и, как ходили слухи, старался развить дремлющие в ней способности, изучить ее прежнюю душевную жизнь. Впрочем, то же самое делала и Гермина Клеефельд, по-матерински опекавшая ее приятельница и патронесса, она многое выведала у Элли под страшным секретом и под таким же страшным секретом распространяла по всему санаторию, вплоть до комнаты консьержа. Она узнала, например, что тот или то, что во время игры подсказывало девушке придуманное остальными задание, называлось Холгер – это был некий юноша Холгер, хорошо знакомый ей spirit[204], существо, ушедшее в иной эфирный мир, что-то вроде духа-хранителя юной Элли. Значит, это он открыл ей то, что остальные задумали относительно щепотки соли и игры на рояле указательным пальцем Параванта?
Да, он шепнул ей это на ухо, касаясь призрачными губами, так что стало щекотно и захотелось улыбнуться.
Вероятно, ей бывало очень приятно, когда она еще училась в школе, и он подсказывал ей ответ, если она не знала урока? Но Элли промолчала. Должно быть, этого Холгеру не разрешалось делать, ответила она потом. В такие серьезные дела ему запрещено вмешиваться, да он и сам, должно быть, хорошенько не знал школьных ответов.
Затем выяснилось, что у Элли с детства, правда с большими перерывами, бывали видения, зримые и незримые.
Как это понимать – незримые видения?
А вот, например, как это случилось. Однажды, – ей было тогда шестнадцать лет, – она сидела одна в гостиной родителей за круглым столом и занималась рукоделием, было еще совсем светло, а рядом на ковре лежала собака ее отца, сука Фрейя из породы догов. Стол был накрыт вместо скатерти пестрой турецкой шалью, ну такие носят, сложив их треугольником, пожилые женщины. Шаль была постелена наискось, а уголки лежали на столе. И вдруг Эллен увидела, как угол скатерти, лежавший против нее, медленно начал свертываться; беззвучно, аккуратно и равномерно свертывался он и дошел почти до середины стола, так что трубка стала уже довольно длинной; и пока это происходило, Фрейя вдруг рванулась с места, шерсть встала дыбом, она уперлась передними лапами в пол, присела, затем с воем бросилась в соседнюю комнату, забилась под диван, и потом целый год ее нельзя было заставить войти в гостиную.
– Что же, это Холгер свернул турецкую шаль? – осведомилась фрейлейн Клеефельд.
Молодая девушка этого не знала.
А как она себе объяснила такое происшествие?
Поскольку это никак нельзя было объяснить, то Элли и не пыталась.
Сообщила она об этом своим родителям?
Нет.
Странно.
Хотя тут решительно ничего дурного не было, у Элли все же возникло такое чувство, что и в этом случае, и в других ему подобных ей следует молчать и хранить память о них, как строгую стыдливую тайну.
Очень ли это ее угнетало?
Нет, не особенно. Да и что может быть такого уж угнетающего, если без причины свертывается скатерть? Но бывало другое, и оно ее угнетало; вот пример.
Год назад в Оденсе, тоже в доме родителей, она как-то рано утром, поднявшись свежая и бодрая, вышла из своей комнаты в нижнем этаже и хотела подняться по лестнице в столовую, чтобы, как обычно, сварить кофе до того, как встанут родители. Она уже почти дошла до площадки на повороте лестницы и вдруг увидела, что на этой площадке, возле самых ступенек, стоит ее старшая сестра Зофи, уехавшая после замужества в Америку, – сестра, какая она есть, совершенно живая. На ней было белое платье, на голове почему-то венок из водяных лилий, из кувшинок, а руки она держала сложенными на плече; и Зофи кивнула Элли. «Как, Зофи, ты разве здесь?» – спросила с радостью и испугом словно приросшая к месту Элли. Тогда Зофи еще раз ей кивнула и начала таять. Она становилась все прозрачнее, а потом стала едва видна, как текучая струя горячего воздуха, и наконец исчезла совсем, и Элли могла идти дальше. Но через некоторое время выяснилось, что в тот же самый утренний час ее сестра Зофи умерла в Нью-Джерси от болезни сердца.
Что ж, заявил Ганс Касторп, когда Клеефельд все ему выложила, вполне возможно, это бывает. Явление сестры здесь, ее смерть там – тут все-таки можно найти какую-то связь, какое-то объяснение. И он согласился участвовать в некоей спиритической игре со стаканом, которую, в обход ревнивого запрещения Кроковского, пациенты решили устроить с участием Элли Бранд.
На интимный сеанс, состоявшийся в комнате Гермины Клеефельд, были допущены всего несколько лиц: кроме самой хозяйки, Ганса Касторпа и маленькой Бранд, присутствовали только дамы Штер и Леви, господин Альбин, чех Венцель и доктор Тин-фу. Поздно вечером, уже в десять часов, они потихоньку собрались у Клеефельд и, перешептываясь, стали рассматривать то, что Гермина приготовила для сеанса; посреди комнаты на не покрытом скатертью круглом столе был поставлен вверх ножкой винный бокал, а вокруг, по краю стола, на достаточном расстоянии были разложены костяные фишки, попросту игральные марки, и на них нанесены пером и чернилами двадцать пять букв алфавита. Сначала Клеефельд всех угостила чаем, за что гости были очень благодарны, так как дамы Штер и Леви, несмотря на детскую безобидность всей этой затеи, жаловались, что у них руки и ноги леденеют и ужасно бьется сердце. Насладившись горячим чаем, они уселись вокруг столика, освещенные тускло-розовым светом, ибо хозяйка, чтобы создать настроение, выключила плафон и оставила только закутанную розовым лампочку у кровати; затем каждый слегка приложил один палец правой руки к ножке бокала – так делали обычно на сеансах, – и все стали ждать, когда бокал начнет двигаться.
Это могло произойти очень легко, так как поверхность стола была гладкая, край бокала отлично отшлифован, и давление на него, конечно, было неравномерным, в одном месте – скорее в вертикальном направлении, в другом – больше вбок, поэтому самого слабого нажима дрожащих, едва прикасающихся к нему пальцев было достаточно, чтобы бокал сдвинулся с середины стола. На периферии поля его движения он должен был натолкнуться на буквы, и если из сочетания тех, которые он задевал, возникали бы слова, имеющие какой-то смысл, то запутанность этого явления граничила бы с внутренней нечестностью, ибо оно оказалось бы результатом самого пестрого смешения импульсов – совершенно бессознательных и полуосознанных, вольного и невольного желания отдельных участников подтолкнуть бокал, а также согласия темных пластов всеобщей души на какое-то тайное сотрудничество, как будто ради совершенно чуждых ей целей, – сотрудничество, в котором в той или иной мере участвовали бы неведомые глубины каждой отдельной личности, и, вероятно, больше всего глубины прелестной юной Элли.
Все это было им, в сущности, заранее известно, а Ганс Касторп, по своей обычной манере, даже заявил об этом вслух, еще пока они сидели, вытянув дрожащие пальцы, и ждали. Говоря по правде – и то, что у дам леденели конечности и колотилось сердце, и то, что мужчины держались с натянутой шутливостью, объяснялось только тем, что они это знали и объединились в ночи для заведомо нечистой игры со своей природой, для боязливо-любопытствующего заглядывания в неведомые области своего «я», ибо они жаждали тех полупризрачных или полуматериальных явлений, которые называются магическими. Казалось, что они, почти ради одной проформы, ради соблюдения каких-то условностей, допускают, будто при помощи бокала с собравшимися будут говорить духи умерших. Господин Альбин выразил свою готовность выступать от имени остальных и установить общение с интеллектами духов, так как он и раньше иногда участвовал в спиритических сеансах.
Прошло двадцать минут, даже больше. Поводы для перешептывания иссякли, первое напряжение ослабело. Иные уже подпирали левой рукой локоть правой. Чех Венцель начал дремать. Эллен Бранд, слегка приложив пальчик к бокалу, устремила взгляд больших, по-детски ясных глаз поверх ближайших предметов куда-то вдаль, на свет лампочки на ночном столике.
Внезапно бокал покачнулся, стукнул об стол и стал убегать из-под рук сидящих. Их пальцам было все труднее поспевать за ним. Он съехал на самый край стола, скользил несколько мгновений по краю, потом почти по прямой вернулся на середину, стукнул здесь еще раз и остановился.
Всех охватил испуг – в нем была и радость и тревога. Фрау Штер захныкала, что лучше уж она не будет участвовать, но ей решительно заявили: надо было думать раньше, а теперь пусть сидит тихо. Дело шло, видимо, на лад. Присутствующие решили, что для ответов «да» и «нет» бокалу незачем подбегать к соответствующим буквам, а достаточно, если он стукнет один раз и два раза.
– Присутствует ли тут чей-нибудь интеллект? – строго осведомился господин Альбин, обращаясь в пространство над головами сидящих. Ответ последовал не сразу. Бокал качнулся и стукнул утвердительно.
– Как твое имя? – почти резко спросил господин Альбин и энергично тряхнул головой, словно подчеркивая решительность своего вопроса.
Бокал сдвинулся с места. Он уверенно начал скользить зигзагами от одной фишки к другой, но то и дело возвращался на середину стола; он подбежал к буквам «х», «о», «л», затем как будто устал или заблудился, не знал, что делать дальше; потом словно опомнился и отыскал буквы «г», «е» и «р». Все так и думали! Это был сам Холгер, дух Холгера, тот, кто знал о щепотке соли и о прочем, но в школьные вопросы не вмешивался. Он был здесь, реял в воздухе, парил над кружком. Что же с ним делать? Сидевшие несколько опешили. Они начали совещаться шепотом и как бы тайком, что бы такое у него спросить. Наконец господин Альбин решился осведомиться, кем был Холгер при жизни и чем он занимался. Вопрос он задал, как и раньше, нахмурившись и словно допрашивая.
Некоторое время бокал хранил молчание. Затем, покачиваясь и спотыкаясь, двинулся к букве «п», отошел и остановился перед «о». Какое же это слово? Все сгорали от любопытства. Доктор Тин-фу высказал предположение, что это может быть началом слова «покражи». Фрау Штер принялась истерически хохотать, что, однако, не помешало бокалу продолжать работать: звякая и ковыляя, он все же скользнул к «э», коснулся «з», потом, видимо, пропустив одну букву, остановился перед «я». Вышло «поэзя».
Вот так штука! Значит, Холгер был поэтом? В добавление к сказанному и, видимо, только из гордости бокал еще раз покачнулся и стукнул «да».
– Лирическим поэтом? – спросила Клеефельд, слегка пискнув на букве «и», что Ганс Касторп отметил с неудовольствием. Однако Холгер, как видно, не был склонен пускаться в такие уточнения. Он не ответил. Он еще раз сложил то же слово – быстро, уверенно и четко, прибавив пропущенное «и».
Хорошо, хорошо, значит – поэтом. Смущение присутствующих росло. Странное смущение, вызванное этими сигналами из не подчиненных контролю областей их внутреннего мира, причем эти сигналы, вследствие своей притворно-материальной, полувещественной данности, опять-таки были обращены к внешней действительности. Кружок пожелал узнать, хорошо ли себя чувствует Холгер в своем теперешнем состоянии и счастлив ли он. Бокал мечтательно набрал по буквам слово «спокойно». Ах так, спокойно. Ну, конечно, сами они никогда бы до этого не додумались, но раз бокал так ответил, все решили, что это вполне вероятно и метко сказано. А какой срок Холгер находится в этом состоянии спокойствия? И тут опять последовал ответ, который никому бы не пришел в голову, слова, как бы рожденные тем же мечтательным самораскрытием. Холгер ответил, что срок этот – «бегущая неподвижность времени». Отлично! Он мог бы с таким же успехом выстукать – «неподвижность бегущего времени». Ганс Касторп нашел, что этот парадокс из области чревовещательной поэзии, произнесенный как бы извне, превосходен. Бегущая неподвижность времени – вот временная стихия Холгера, и, конечно, ему полагалось отделываться парадоксами, ведь он, вероятно, уже разучился пользоваться земными словами и точными мерами. Так что же еще присутствующие хотели бы спросить у него? Леви призналась, что ей интересно знать, как выглядит Холгер, или, вернее, когда-то выглядел. Он был красивым юношей? Пусть сама спросит, повелел господин Альбин, считавший такой вопрос ниже своего достоинства. И она спросила, обращаясь к духу на «ты», были ли у Холгера белокурые локоны.
– Красивые темные, темные кудри, – ответствовал бокал, причем даже два раза набрал слово «темные». Присутствующие развеселились. Дамы стали открыто выказывать свою влюбленность. Они посылали в угол потолка воздушные поцелуи. Доктор Тин-фу, хихикая, заметил, что мистер Холгер, вероятно, очень тщеславен.
Но тут бокал точно взбесился! Он в исступлении бессмысленно забегал по столу, злобно закачался, опрокинулся и скатился на колени к Штерихе, а та уставилась на него, побелев от ужаса и растопырив руки. С извинениями его бережно водворили на место. А китайца разбранили. Как он мог допустить такую дерзость! А теперь вот что из этого вышло! А вдруг разгневанный Холгер убежит и больше не скажет ни слова? Бокал стали всячески уговаривать. Может быть, он хочет что-нибудь сочинить? Ведь он же был поэтом, когда еще не парил и не действовал в бегущей неподвижности времени. Ах, как они все мечтают услышать его стихи! Это доставило бы им такую радость!
И что же – добрый бокал стукнул «да». И в том, как он стукнул, было в самом деле какое-то примиряющее добродушие. Потом дух Холгера начал сочинять стихи и сочинял обстоятельно, не спеша и не задумываясь, – это тянулось бог знает как долго, казалось, его никогда уже не удастся остановить! Удивительные это были стихи, которые он оглашал точно чревовещатель, а присутствующие восхищенно повторяли за ним – некая магическая импровизация, расплывчатая, как морская даль, и в стихотворении больше всего говорилось о море: морская сырая дымка клубится вдоль берега узкого, в просторных бухтах острова с крутыми откосами дюн. Смотрите, как даль морская, зеленая, безграничная, теряется, в вечности тая, а меж полосами тумана, в сиянии багровом и млечном, вечернее солнце медлит с летнего неба уйти. Но чьи же уста расскажут, как волн серебристый трепет перешел в перламутровый отблеск – в несказанные бледные блики опаловых переливов, и как море, покрывшись мглою, уподобилось лунному камню… Ах! вот волшебство родилось и вот незаметно исчезло. Море заснуло. Но все же следы заката еще кое-где не погасли. До поздней ночи не будет тьмы. Призрачный полусвет стоит в сосновом лесу на дюнах, и бледный песок белеет как снег. Разве это не зимний лес? Хрустнув ветвями, молчанье его нарушит лишь тяжким взмахом крыльев сова. О, будь нам убежищем в поздний час. Как мягки иглы под ногой, как величава ночь и как тепла! И медленно вздыхает море, там, глубоко внизу, протяжно бормоча во сне. Тебе хочется его снова увидеть? Так пойдем же к откосам дюн, похожим на ледники, поднимись по мягкому, покорному песку – прохладной струйкой он потечет к тебе в башмаки. Крут заросший кустами склон над камнями берега, и все еще чуть светлеют на грани тающей дали остатки дня. Сядь же тут наверху на песок! Как он смертельно свеж, рассыпчат, мягок и шелковист. Зажатый в твоей руке, он льется словно тонкий бесцветный луч, и вот уже рядом с тобой вырос крошечный холмик. Узнаешь ли ты это струенье? Так же беззвучно бежит песок сквозь узкое горло песочных часов – строгий и хрупкий прибор, украшающий келью отшельника. Раскрыта книга, череп на столе, а на подставке, в легкой раме, двойной пузырь из дутого стекла, в нем гореть песка, он взят у вечности, и он течет, как и ее пугающее тайной святое существо, когда его вперед торопит время…
Так дух Холгера в своих «лирических» импровизациях, следуя странному полету мыслей, перешел от родного моря к келье отшельника, к измерителю его созерцаний, и еще ко многому человеческому и божественному, что вызывало беспредельное изумление присутствующих, когда они ловили слова духа и едва успевали вставлять восклицания одобрения и восторга, так быстро тот импровизировал, – точно зигзагами, – все вперед от одного образа к другому; поэт никак не мог остановить поток своего творчества, – казалось, конца не будет этому стихотворению, в нем говорилось о материнской скорби и о первом поцелуе влюбленных, о терновом венце страданий и о господней отеческой доброте и строгости, оно углублялось в деятельность живых созданий, терялось в далях веков и стран и в звездных просторах неба, однажды поэт упомянул даже о халдеях и знаках Зодиака и, наверное, продолжал бы творить всю ночь, но вызвавшие его заклинатели в конце концов все же сняли пальцы с бокала и, выразив Холгеру свою глубочайшую благодарность, заявили, что на сегодня достаточно; однако все это было невыразимо прекрасно и бесконечно жаль, что никто не записывал, поэтому сочиненные Холгером стихи, конечно, забудутся, даже и сейчас уже начали ускользать из памяти, ибо они неустойчивы, как и всякое сновидение. В следующий раз участники безусловно позаботятся о записи и посмотрят, как будет выглядеть записанное, черное по белому, в определенной последовательности и связи; теперь же, до того как Холгер вернется к покою своей бегущей неподвижности, будет лучше и очень любезно с его стороны, если он ответит на кое-какие вопросы конкретного характера – мы не предрешаем какие, не будет ли он так добр и не выскажет ли свое принципиальное согласие?
– Да, – последовал ответ. И тут все несколько растерялись – о чем же спросить его? Совсем как в сказке, когда фея или колдун разрешают задать вопрос и боишься упустить самое важнее. В отношении жизни и будущего многое казалось очень интересным и важным, поэтому выбор вопроса налагал большую ответственность. Однако никто не решался, и Ганс Касторп, касаясь пальцем правой руки бокала и подперев щеку кулаком левой, сказал, что хотел бы узнать, сколько же времени он в целом пробудет здесь, вместо трех недель, намеченных вначале.
Ладно, поскольку ничего лучшего пока не придумали, пусть дух из сокровищницы своих познаний почерпнет ответ хотя бы на такой вопрос. Немного помедлив, бокал сдвинулся с места. Он ответил что-то странное, как будто не имевшее к вопросу никакого отношения, и даже невразумительное. Он набрал сначала слово «иди», потом «поперек» – что уж было ни с чем не сообразно, и еще что-то относительно комнаты Ганса Касторпа, так что весь этот лаконичный ответ сводился к тому, чтобы вопрошающий прошел свою комнату поперек. Поперек? Поперек номера 34? Что это значит? Когда все сидели, совещаясь и покачивая головой, вдруг в дверь словно ударили тяжелым кулаком.
Все оцепенели. Что это? Их накрыли? Не стоит ли там за дверью доктор Кроковский, намереваясь прекратить запрещенный сеанс? Больные с виноватым видом ожидали появления обманутого ими врача. Но тут раздался еще удар, словно опять изо всех сил стукнули кулаком – на этот раз прямо по столу, как будто желали показать, что и в первый раз удар был нанесен не снаружи, а в самой комнате.
Очевидно, это недостойная шутка господина Альбина! Но он клятвенно стал отрицать, да все и без этого были почти уверены, что никто из присутствующих не причастен к удару. Значит, виновник Холгер? Сидевшие вокруг стола посмотрели на Элли. Ее неподвижность и безмолвие всех поразили. Руки девушки повисли, и она как будто держалась за край стола только кончиками пальцев. Откинувшись на спинку стула, сидела она, склонив голову на плечо, подняв брови, сжав губки и слегка опустив углы чуть улыбавшегося маленького рта; в этой едва заметной улыбке было что-то затаенное и вместе с тем простодушное, а по-детски голубые, словно незрячие глаза были устремлены куда-то вверх, в угол комнаты. Ее окликнули, но она не отозвалась, ее сознание отсутствовало. В то же мгновение лампочка на ночном столике погасла.
Погасла? Фрау Штер, уже не в силах сдерживаться, завопила не своим голосом, она ведь слышала, как щелкнул выключатель. Свет не сам потух, его выключила рука, которую, мягко выражаясь, пришлось назвать «чужой». Рука Холгера? Но до сих пор он был так кроток, корректен, так поэтичен; а теперь позволил себе озорство и злые проделки? Кто мог ручаться, что эта рука, колотившая кулаком в дверь и по столу и погасившая свет, не схватит кого-нибудь за горло? Одни требовали спичек, другие – карманный фонарь. Отчаянно взвизгнула Леви и заявила, что ее дернули за челку. Фрау Штер в страхе не постыдилась вслух молить бога:
– Господи, смилуйся хоть еще раз над нами! – Она кричала и ныла, прося о милости взамен справедливого наказания за то, что они искушали преисподнюю. Доктора Тин-фу наконец осенила здравая мысль включить плафон, и через мгновение комнату залил яркий свет. Тогда присутствующие убедились, что лампочка на ночном столике действительно погасла не случайно, но была выключена, и что достаточно человеческой руке повторить движение, совершенное втайне, и лампочка загорится. Что касается Ганса Касторпа, то он сам оказался объектом одного поразившего его беззвучного явления, которое можно было принять за особую благосклонность действовавших в этой комнате примитивных таинственностей. На его коленях вдруг оказался некий предмет, тот самый «сувенир», который некогда так испугал его дядю, когда тот взял его с комода племянника: это был стеклянный диапозитив, «внутренний» портрет Клавдии Шоша, и уж, конечно, не он, Ганс Касторп, доставил его сюда.
Он сунул его в карман, не привлекая внимание остальных. Все хлопотали вокруг Элли Бранд, которая сидела все в той же позе с каким-то неуместно кокетливым выражением лица и все так же смотрела перед собой невидящим взором. Господин Альбин подул на нее и, подражая доктору Кроковскому, взмахнул рукой снизу вверх перед ее личиком; тогда она ожила и, неизвестно почему, всплакнула. Ее погладили, утешили, поцеловали в лоб и отправили спать. Леви заявила, что готова просидеть ночь у фрау Штер, ибо эта некультурная особа была в полном ужасе и уверяла, что подумать не может о том, чтобы лечь в постель. Ганс Касторп спрятал полученный предмет в боковой карман и выразил готовность вместе с остальными мужчинами завершить этот необычный вечер в комнате господина Альбина за бутылкой коньяка, ибо находил, что все пережитые им сегодня происшествия, хоть и не влияют ни на ум, ни на сердце, но оказывают определенное воздействие на нервы желудка, даже после того как все кончилось, подобно тому как страдающий морской болезнью, уже находясь на суше, еще долгие часы ощущает тошнотворное покачивание.
Его любопытство было пока удовлетворено; стихи Холгера в ту минуту показались ему не такими уж плохими; но, как и следовало ожидать, внутренняя, безнадежная беспомощность и банальность всего стихотворения в целом были настолько явны и очевидны, что он решил пока удовольствоваться теми немногими вспышками адского пламени, которые обожгли его. Когда Ганс Касторп рассказал Сеттембрини о пережитом и о своем намерении в сеансах больше не участвовать, тот, разумеется, изо всех сил постарался укрепить его в этом намерении. «Только этого не хватало! – воскликнул итальянец. – Позор! Позор!» – и решительно заявил, что маленькая Элли – бессовестная обманщица.
Его воспитанник не сказал ни да, ни нет. Что такое реальность, заметил он, пожав плечами, вполне точно и недвусмысленно еще не выяснено, поэтому нельзя определить и что такое обман. Может быть, разделяющая их граница неустойчива. Может быть, между ними есть переходы, и в природе, не ведающей ни терминов, ни ценностей, существуют различные степени реальности, и они не поддаются такому определению, в котором моральный момент должен играть весьма существенную роль. А как относится господин Сеттембрини к выражениям «иллюзия», «отвод глаз»? Они знаменуют сочетание сновидений и реальности, быть может менее чуждое природе, чем нашему грубому дневному мышлению! Ведь тайна жизни в буквальном смысле слова бездонна, поэтому не удивительно, если оттуда, при случае, на поверхность всплывают разные формы «отвода глаз», которые… и так далее, продолжал наш герой в своей обычной скептической манере, притом готовый любезно соглашаться решительно со всем.
Сеттембрини задал ему основательную головомойку и добился от его совести какой-то, хотя бы временной, стойкости и чего-то вроде обещания больше никогда в таких мерзостях не участвовать.
– Уважайте в себе человека, инженер! – потребовал он. – Доверяйте только ясному человеческому мышлению и бегите от всяких вывихов нашего мозга и засасывающего духовного болота! Отвод глаз? Тайны жизни? Caro mio![205] Если моральное мужество разлагается, пускаясь в определения и разделения таких вещей, как реальность и обман, тогда конец всему – жизни вообще, суждению, ценностям, активному совершенствованию, тогда начинается порожденный скепсисом гнусный процесс морального распада. Человек – мера всех вещей, – добавил он. – Его право составлять себе суждение о добре и зле, реальности и обмане – неотъемлемо, и горе тому, кто осмелится поколебать его веру в это творческое право! Лучше будет, если ему повесят на шею жернов и утопят в глубоком колодце.
Ганс Касторп кивнул, соглашаясь, и действительно держался первое время в стороне от этих экспериментов. До него дошли слухи, что доктор Кроковский устраивает в своем психоаналитическом подземелье сеансы с Эллен Бранд и на них допускаются только избранные. Но он равнодушно отказался от участия в них, хотя, конечно, узнавал кое-что об успешности опытов и от участников, и от самого доктора Кроковского. Бурное и внезапное обнаружение таинственных сил, как-то: удары по столу и в стену, выключение лампочки и многие более значительные явления, происходившие в комнате Клеефельд, после того как коллега Кроковский по всем правилам искусства подвергал гипнозу маленькую Элли и она впадала в состояние транса, – систематически и тщательно проверялось, и делалось все, чтобы обеспечить подлинность этих явлений. Выяснилось, что музыкальное сопровождение облегчает такого рода занятия, поэтому в вечера сеансов граммофон менял свою обычную стоянку и его забирал себе магический кружок. Но так как чех Венцель, ведавший им в таких случаях, был человеком музыкальным и, конечно, не стал бы портить аппарат или обращаться с ним небрежно, то Ганс Касторп мог со спокойной душой доверить ему драгоценную шкатулку. Отобрав из фонда ряд пластинок, он составил для нужд кружка целый альбом, куда входила только легкая музыка – танцы, небольшие увертюры и прочая чепуха, которая вполне отвечала своему назначению, ибо Элли отнюдь не требовала более возвышенной музыки.
И вот, как рассказывали Гансу Касторпу, под эти звуки носовой платок совершенно самостоятельно, или, вернее, следуя движениям скрытого в его складках когтя, поднимался с полу, докторская корзина для бумаг плавно взлетала к потолку, маятник часов «сам собой» то останавливался, то снова начинал раскачиваться, «кто-то» брал со стола звонок и звонил, – словом, происходило еще много подобных пустяков. Ученый руководитель был в счастливом положении, ибо мог обозначать все эти явления греческими терминами, обладавшими вполне научной благопристойностью. В своих лекциях и частных беседах он называл эти явления «телекинетическими», или случаями действия на расстоянии, и относил их к числу феноменов, которые наука назвала «материализацией», – на них-то, в его опытах с Элли, и были устремлены все его мысли и чувства.
Говоря его языком, тут имела место биопсихическая проекция подсознательных комплексов на объективный мир, происходили процессы, источником которых следует считать особую конституцию медиума и его сомнамбулическое состояние; их можно рассматривать как объективированные сновидения, поскольку в них проявляются идеопластические силы природы и присущая мысли способность притягивать к себе материю, запечатлевая в ней некую эфемерную реальность. Эта материя «истекала» из тела медиума и мимоходом принимала формы его биологически-живых конечностей, хватательных органов, рук, они-то и выполняли те ошеломляющие мелкие действия, свидетелями которых были участники сеансов в лаборатории доктора Кроковского. При известных условиях они становились видимы и осязаемы. Эти конечности и их формы можно было сохранить в парафине и гипсе. Но в дальнейшем дело этим не ограничивалось. Головы, индивидуальные человеческие лица, фантомы во весь рост материализовались на глазах производящих опыты и вступали с ними в ограниченное общение… Однако тут теории Кроковского уходили куда-то в сторону, они начинали косить и становились такими же зыбкими и двусмысленными, как, впрочем, и его рассуждения о «любви». Ибо дальше речь шла уже не об отражениях в мире действительности субъективных переживаний медиума и его пассивных помощников; объяснения Кроковского теряли свою четкость и наукообразность, в них начинали фигурировать, хотя бы отчасти, хотя бы только в некоторых случаях, уже не только присутствующие, а какие-то индивидуальности, введенные извне, из потустороннего мира; может быть, Кроковский не хотел признать в полной мере, что на этих сеансах допускалось появление чего-то неживого, каких-то существ, использующих эту сомнительную, но втайне благоприятную минуту, чтобы возвратиться в материю и подать голос тем, кто призывал их, – словом, имелось в виду спиритическое вызывание умерших.
Оказывается, вот каких результатов добивался в конечном счете коллега Кроковский, работая со своим кружком! Коренастый, улыбающийся, призывающий к бодрому доверию, шел он упорно к своей цели, причем чувствовал себя как дома в этой подозрительно-вязкой трясине, в этой подчеловеческой сфере, и был поэтому надежным руководителем даже для тех, кто робел и сомневался. И, судя по доходившим до Ганса Касторпа слухам, благодаря исключительным способностям Эллен Бранд, о развитии и обработке которых он так хлопотал, ему улыбнулся успех. Некоторые участники сеансов чувствовали прикосновение материализованных рук. Прокурору Параванту дали из трансцендентного мира основательную пощечину, он с чисто научной бодростью констатировал это и даже из любознательности подставил другую щеку – хотя в качестве кавалера, юриста и бывшего корпоранта вынужден был бы вести себя совершенно иначе, если бы пощечина исходила от обычного земного существа. А.К.Ферге, этому скромному страдальцу, которому все возвышенное было чуждо, скромному Ферге довелось однажды вечером держать в своей руке этакую призрачную конечность и установить путем осязания естественность и убедительность ее строения, причем трудно описать как, но она вырвалась, хотя его сердечное пожатие оставалось в строгих границах почтительности. Прошло немало времени, пожалуй месяца два с половиной, при двух сеансах в неделю, и еще одна такая рука, такого же происхождения, с задворок потустороннего, озаренная багровым светом настольной лампочки, затененной красной бумагой, по общему признанию рука молодого человека, явилась всем присутствующим, она постучала пальцами по столу и оставила их отпечатки в глиняной миске с мукой. А всего через неделю группа сотрудников доктора Кроковского – господин Альбин, Штериха и чета Магнус – уже около полуночи прибежала на балкон к Гансу Касторпу и с явно карикатурным энтузиазмом и лихорадочным восторгом, перебивая друг друга и захлебываясь, сообщила дремавшему на жгучем морозе молодому человеку, что явился сам Холгер, друг Элли, над плечом сомнамбулы выступила его голова, и у него действительно оказались «темные-претемные кудри», а перед тем как исчезнуть, он улыбнулся с незабвенной мягкостью и меланхолией!
Как связать, подумал Ганс Касторп, эту благородную печаль Холгера с его озорством, с пошлым ребячеством, с неумными мальчишескими проделками и с отнюдь не меланхоличной оплеухой, которую он закатил прокурору? Последовательности и цельности натуры здесь, видимо, ждать нечего. Может быть, мы имеем дело с таким же характером, как у горбатого человека из песенки, который жалобно и ехидно горюет и требует, чтобы за него заступились? На почитатели Холгера, видимо, не ставили себе этих вопросов. Главное для них было уговорить Ганса Касторпа, снова принять участие в деятельности их кружка. Он непременно должен присутствовать на следующем сеансе, ведь сейчас все так великолепно наладилось. Элли в трансе обещала в следующий раз показать любого умершего – кого только пожелают члены кружка.
Любого? Все же Ганс Касторп отказался. Однако то, что вызвать можно любого покойника, настолько его заинтересовало, что за три ближайших дня он принял противоположное решение. Вернее – не в три дня, он изменил свое решение за три минуты. Произошла эта перемена, когда он в часы вечернего одиночества поставил опять ту пластинку, на которой был запечатлен симпатичнейший образ Валентина, и Ганс Касторп, сидя в кресле, снова слушал солдатскую молитву уходящего на войну честного малого. Его влекло на поле чести, и он пел:
А призовет меня господь — Тебя я буду охранять, О Маргарита!И тут опять, как всегда, когда он слышал эту песню, Ганс Касторп почувствовал себя растроганным, а ввиду некоторых возможностей – на этот раз особенно глубоко; волнение вызвало определенное желание, и он сказал себе: «Пусть это занятие праздное и даже греховное, но такая встреча была бы все же удивительным и необычайно радостным событием. Если он имеет к этому отношение, насколько я его знаю, он не рассердится». И Гансу Касторпу вспомнилось спокойное и снисходительное восклицание кузена «пожалуйста, пожалуйста», раздавшееся во мраке рентгеновского кабинета, когда Ганс Касторп попросил разрешить ему некоторую оптическую нескромность по отношению к грудной клетке Иоахима.
На следующее утро он заявил о своем согласии принять участие в сегодняшнем вечернем сеансе и через полчаса после ужина присоединился к членам кружка, которые, считая себя завсегдатаями потусторонних миров, непринужденно болтали, спускаясь в подвальный этаж. Все, с кем он столкнулся на лестнице в подземелье Кроковского, были коренными обитателями санатория, или старожилами, – доктор Тин-фу и богемец Венцель, а также господа Ферге и Везаль, прокурор Паравант и дамы Леви и Клеефельд, уже не говоря о тех, кто сообщил ему о появлении головы Холгера и о роли посредницы Элли Бранд.
Дитя севера уже находилось под присмотром доктора Кроковского, когда Ганс Касторп открыл дверь, украшенную его визитной карточкой. Стоя рядом с Кроковским, облаченным в свой обычный черный халат и чисто по-отечески обхватившим ее плечи, ожидала она гостей возле ступенек, которые вели в квартиру ассистента, лежавшую еще ниже, чем подземелье, и приветствовала их. Приветствия эти были с обеих сторон словно проникнуты одной только беззаботной сердечностью. Как будто все поставили себе целью не допускать никакой стеснительной торжественности.
Громко и шутливо переговариваясь, пришедшие ободряюще подталкивали друг друга и всячески подчеркивали свою непринужденность. Кроковский, как обычно, улыбался каждому широкой и призывающей к доверию улыбкой, и в его бороде мелькали желтые зубы; он то и дело повторял: «Пьветствую вас!» Улыбка эта стала особенно бодрой, когда он здоровался с Гансом Касторпом, который был молчалив и как-то нерешителен. «Смелее, друг мой!» – казалось, говорил хозяин, опуская и поднимая голову и почти грубо пожимая руку молодому человеку. «Незачем вешать нос! Здесь у нас вы не найдете ни лицемерия, ни ханжества, а только веселую мужественность непредвзятого исследования». Однако от этой пантомимы у того, кому она предназначалась, не стало легче на душе. В ту минуту, когда он принимал решение, мы заставили его восстановить в своей памяти эпизод в рентгеновском кабинете, но этой связи совершенно недостаточно, чтобы охарактеризовать состояние его души. Оно живо напоминало ему самому то странное и незабываемое настроение, смесь задорной нервозности, любопытства, презрения и благоговейного ожидания, которые он испытал много лет назад, когда, слегка подвыпив, впервые решил посетить с товарищами публичный дом в Санкт-Паули.
Так как кружок был в полном составе, доктор Кроковский с двумя ассистентками – сегодня в этот сан были возведены фрау Магнус и фрейлейн Леви с лицом цвета слоновой кости – удалился в соседнюю комнату для контрольного осмотра медиума, а Ганс Касторп с девятью остальными участниками сеанса остались в ординаторском кабинете доктора, ожидая, когда кончится эта регулярно повторявшаяся и всегда ни к чему не приводившая процедура, которой требовала наука. Комната была ему хорошо знакома – когда-то он тайком от Иоахима не раз беседовал здесь с психоаналитиком. Это была обычная приемная врача: как и во многих других, в ней стояли письменный стол, кресло для Кроковского и кресло для больного слева в глубине у окна, полки со справочниками по обе стороны двери в соседнюю комнату, в глубине справа – клеенчатая кушетка, которая отделялась от письменного стола и кресел ширмой с несколькими створками, в ближайшем углу стеклянный шкаф с инструментами, в другом – бюст Гиппократа, а справа на стене, над газовым камином, висела гравюра с «Анатомии» Рембрандта[206]. Все же в ее обстановку были внесены кое-какие изменения – видимо, для данного случая: окруженный креслами круглый стол красного дерева, занимавший обычно середину комнаты под электрической люстрой и стоявший на красном ковре, который покрывал почти весь пол, был задвинут в левый передний угол с гипсовым бюстом, и тоже не в центре, а ближе к горящему, излучающему сухой жар камину, появился накрытый легкой скатертью столик поменьше, с обернутой красным настольной лампочкой, над которой с потолка свешивалась вторая, тоже обернутая – не только красной, но и черной прозрачной материей. На столике и рядом с ним оказалось несколько подозрительных предметов: настольный звонок, или, вернее, два звонка различной конструкции – колокольчик и звонок с кнопкой, которую надо было нажимать, затем тарелка с мукой и корзина для бумаг. Около десятка сборных стульев и кресел были расставлены полукругом, который кончался с одной стороны у изножья кушетки, а с другой, довольно точно – посреди комнаты, под люстрой. Здесь же, около последнего стула, на полпути в соседнюю комнату было отведено место и музыкальной шкатулке. Альбом с легкой музыкой лежал рядом на стуле. Так выглядел сегодня кабинет Кроковского. Красные лампы еще не горели. Плафон заливал комнату почти дневным светом. Окно, возле которого стоял боком письменный стол, закрывала темная занавеска, а перед ней висела еще кремовая ажурная, вроде кружевной, так называемая штора.
Минут через десять доктор и три дамы вернулись из соседней комнаты. Наружность маленькой Элли изменилась. Она была не в обычном платье, а в особом костюме для сеансов, в похожем на халат одеянии из белого крепа, стянутом вокруг талии шнурком; худенькие руки ее были обнажены. Ее девичья грудь выступала под ним так свободно и мягко, что казалось, под этой одеждой на ней почти ничего нет.
Все оживленно здоровались. Алло, Элли! Как она прелестна в белом! Прямо фея! Уж постарайся, мой ангел! Она улыбалась в ответ на эти возгласы, на похвалы ее одежде, ибо, вероятно, знала, что этот халат идет ей.
– Предварительный контроль дал отрицательные результаты, – заявил Кроковский. – Итак, живо за работу, друзья! – добавил он, произнеся букву «р» на экзотический лад, то есть быстро прижав язык к небу; и Ганс Касторп, которого покоробило от этого обращения, уже собирался сесть где-нибудь среди других участников, которые, перекликаясь, болтая и похлопывая друг друга по плечу, начали занимать места возле стола, когда доктор Кроковский обратился лично к нему.
– Вам, мой друг (мой дууг, – произнес он), поскольку вы до известной степени у нас гость и новичок, я хотел бы предоставить на сегодняшний вечер особые, почетные права. Я возлагаю на вас контроль медиума. Делается это следующим образом. – И он пригласил молодого человека пройти к тому концу полукруга, который был ближе к кушетке и ширме. Элли уже сидела тут на обыкновенном плетеном стуле, повернув лицо не к середине комнаты, а к двери со ступеньками; Кроковский опустился на такой же стул напротив, взял ее за руки и зажал ее колени между своими. – Сделайте то же самое! – приказал он и заставил Ганса Касторпа занять его место. – Согласитесь, что при таких условиях ей двигаться нельзя! И вы еще получите подкрепление. Фрейлейн Клеефельд, осмелюсь попросить вас сюда! – После столь экзотически-галантного приглашения Гермина Клеефельд присоединилась к ним и сжала обеими руками хрупкие кисти Элли.
Лицо девушки-вундеркинда, которую как бы приковали к нему, было так близко от лица Ганса Касторпа, что он не мог не взглянуть на него. Их взоры встретились, но глаза Элли забегали вверх и вниз от смущения, что было, впрочем, вполне понятно при данных условиях, и она улыбнулась слегка кокетливо, склонив голову набок и чуть вытянув губы, как улыбалась недавно во время сеанса с бокалом. Впрочем, в голове ее надзирателя при виде этого безмолвного кокетства пронеслось еще одно, более далекое воспоминание. Так же, пожалуй, улыбалась Карен Карстед, когда она вместе с ним и Иоахимом стояла перед возможным местом упокоения на кладбище «Деревни»…
Все уселись полукругом. Присутствовало тринадцать человек, не считая богемца Венцеля, который обычно предоставлял свою особу для служения Полигимнии; приготовив музыкальный аппарат, он опустился возле него на табуретку позади участников сеанса, сидевших лицом к середине комнаты. Была при нем и его гитара. У другого конца полкруга, под люстрой, сел Кроковский, после того как он одним коротким движением руки включил обе красных лампочки, а другим – выключил белый свет плафона. Теперь в комнате воцарилась тускло-багряная мгла, дальние углы и стены совсем погрузились в темноту. Говоря точнее – только поверхность столика и ближайшие к нему предметы были чуть озарены красноватым лучом. В первые минуты каждый едва мог рассмотреть своего соседа. Лишь постепенно глаза привыкли к полумраку и стали пользоваться слабым светом, который чуть усиливало пляшущее в камине пламя.
Доктор Кроковский посвятил несколько слов этому освещению, извинившись за его научные несовершенства. Он вовсе не намерен с его помощью мистифицировать собравшихся или создавать какое-то особое настроение, – избави боже! – но усилить свет при всем желании пока невозможно. Уж такова природа тех сил, которые должны здесь действовать и изучаться: при обычном белом свете они не могут ни развиться, ни проявить себя.
Это факт, он является необходимым условием сеанса, и с ним придется пока мириться. Гансу Касторпу это освещение было по душе. Темнота действовала на него благотворно. Она как-то смягчала необычность всего происходившего. Кроме того, для оправдания этого чувства он вспомнил мрак рентгеновского кабинета, свою благоговейную сосредоточенность и слова Беренса о том, как «промывают» этим мраком дневное зренье, прежде чем начать «видеть».
Медиум, продолжал доктор Кроковский свое предисловие, видимо, предназначенное главным образом для Ганса Касторпа, уже не нуждается в том, чтобы его усыплял он, врач. Как, вероятно, заметит контролер, она сама впадет в транс, и тогда через нее начнет говорить ее дух-покровитель, всем известный Холгер, к нему-то, а не к ней, следует обращаться и высказывать свои пожелания. Впрочем, не следует думать – это могло бы привести к неудаче, – что надо насильно сосредоточивать свою волю и свои мысли на задаваемом вопросе. Наоборот, рекомендуется в это время разговаривать и даже быть несколько рассеянным. А Гансу Касторпу следует прежде всего неотступно наблюдать за конечностями медиума.
– Образовать цепь! – потребовал в заключение доктор Кроковский, что все и сделали, смеясь, когда в темноте не сразу находили руку соседа. Доктор Тин-фу, сидевший рядом с Герминой Клеефельд, положил ей правую руку на плечо, а левую протянул Везалю, своему соседу с другой стороны. Рядом с доктором сидели супруги Магнус, а за ними А.К.Ферге, он, насколько мог рассмотреть Ганс Касторп, держал руку своей соседки Леви, дамы с лицом цвета слоновой кости, и так далее.
– Музыку! – скомандовал Кроковский; и чех, за спиной доктора и его соседей, пустил граммофон и насадил иглу. – Разговаривать! – снова скомандовал Кроковский в ту минуту, когда зазвучали первые такты увертюры Миллекера[207]; и все послушно задвигались и завели разговор ни о чем – о снеге, выпавшем этой зимой, о последнем меню, о том, что кто-то уехал, то ли с разрешения, то ли без; беседа заглушалась музыкой, обрывалась, снова завязывалась, ибо ее поддерживали искусственно. Так прошло несколько минут.
Пластинка еще вращалась, когда Элли резко вздрогнула. Трепет пробежал по ее телу, она вздохнула, верхней частью тела склонилась вперед, так что ее лоб коснулся лба Ганса Касторпа, и одновременно ее руки начали вместе с державшими их руками контролеров делать странные движения вперед и назад, словно что-то накачивали.
– Транс! – возвестила тоном специалиста Клеефельд. Музыка смолкла. Беседа прервалась. Среди внезапной тишины раздался мягкий, тягучий баритон Кроковского:
– Холгер здесь?
Элли снова задрожала. Она покачнулась на стуле. Потом Ганс Касторп ощутил, как она обеими руками коротко и крепко пожала ему руки.
– Она пожимает мне руки, – сообщил контролер.
– Он, – поправил его Кроковский. – Это он пожал вам руки. Значит, он присутствует. – Приветствуем тебя, – продолжал он. – От души – добро пожаловать, приятель! Разреши тебе напомнить: когда ты в последний раз был у нас, ты обещал вызвать и показать нашим смертным очам любого умершего – брата или сестру по человечеству, показать того, кого тебе назовут здесь присутствующие. Согласен ли ты и чувствуешь ли ты себя в силах исполнить сегодня свое обещание?
Снова вздрогнула Элли. Вздыхая, она медлила с ответом. Затем поднесла свои руки вместе с руками контролеров ко лбу, на минуту задержала их там и горячо шепнула Гансу Касторпу: «Да!»
Она дохнула ему прямо в ухо, и наш друг почувствовал, как его мороз подрал по коже, явление, которое в народе именуется также «мурашками» и сущность которого ему некогда открыл гофрат. Мы говорим об этой дрожи, чтобы отделить физическую сторону от душевной, ибо ни о каком «страхе», вероятно, не могло быть и речи. А подумал он примерно следующее: «Ну, она, видно, все-таки очень самонадеянна!» Тем не менее он был растроган, даже потрясен; трепет и волнение были вызваны растерянностью, которая охватила его от обманчивого шепота этого юного создания, чьи руки он держал в своих и которое прошептало ему на ухо «да».
– Он сказал «да», – доложил он, и ему стало стыдно.
– Ну, хорошо, Холгер! – ответствовал доктор Кроковский. – Ловим тебя на слове. Мы верим, что все от тебя зависящее ты честно выполнишь. Сейчас тебе назовут имя дорогого покойника, которого мы хотели бы вызвать. Коллеги, – обратился он к собравшимся, – говорите же! У кого есть определившееся желание? Кого должен нам показать наш друг Холгер?
Наступила пауза. Каждый ждал, что заговорит сосед. Правда, за последние дни тот или иной участник спрашивал себя, куда, к кому устремлены его мысли; и все-таки возврат умерших, то есть желательность такого возврата, был и остается делом темным и щекотливым. Ведь, в сущности и говоря по правде, желательность эта весьма сомнительна; она – заблуждение, она, если призадуматься, так же нереальна, как и само возвращение, что мы и обнаружили бы, если бы природа сделала возвращение возможным: а наша скорбь – быть может, не столько боль от того, что нельзя снова увидеть наших покойников живыми, сколько от того, что мы и желать-то этого не можем.
Все смутно ощущали это, и хотя вопрос шел не о настоящем, фактическом возвращении к жизни, а о чисто сентиментальном и театральном зрелище, при котором предстояло лишь увидеть покойного, и это было для жизни безопасно, все же они страшились облика того, о ком думали, и каждый с удовольствием переуступил бы соседу свое право назвать имя ушедшего. Правда, Ганс Касторп все еще слышал прозвучавшее во мраке добродушное и снисходительное «пожалуйста, пожалуйста», но он молчал, как и все, и в последнюю минуту был тоже не прочь уступить свое первенство другому. Все же пауза тянулась слишком долго, поэтому он повернул голову к руководителю сеанса и хрипло проговорил:
– Мне хотелось бы увидеть моего умершего двоюродного брата Иоахима Цимсена.
Все почувствовали огромное облегчение. Среди собравшихся только доктор Тин-фу, чех Венцель и сам медиум не знали Иоахима. Остальные – Ферге, Везаль, господин Альбин, прокурор, супруги Магнус. Штер, Леви, Клеефельд громко и радостно выразили свое одобрение, и сам доктор Кроковский кивнул с довольным видом, хотя всегда относился к Иоахиму холодно, так как тот в вопросе о психоанализе воздействию не поддавался.
– Очень хорошо! – сказал Кроковский. – Ты слышишь, Холгер? В жизни ты не встречал названного сейчас человека. Узнаешь ли ты его в мире потустороннем и готов ли ты привести его к нам?
Все ждали с величайшим напряжением. Спящая Элли покачнулась, вздохнула и вздрогнула. Казалось, она что-то ищет, с чем-то борется и, покачиваясь из стороны в сторону, шептала то на ухо Гансу Касторпу, то фрейлейн Клеефельд какие-то непонятные слова. Наконец Ганс Касторп ощутил пожатие ее рук, означавшее «да». Он доложил об этом и…
– Ну, хорошо! – воскликнул доктор Кроковский. – Так за работу, Холгер! Музыку! – воскликнул он. – Разговаривать! – И опять внушительно повторил, что делу может помочь не судорожная напряженность мысли и не насильственное представление ожидаемого, а только непринужденное и бережное внимание.
Затем последовали самые необычайные часы, когда-либо пережитые нашим молодым героем; и хотя его дальнейшая судьба нам не вполне ясна и мы в определенной точке нашего повествования потеряем его из виду, мы все же склонны утверждать, что эти часы так и остались навсегда самыми необычайными часами в его жизни.
Таковы были эти часы – скажем сразу – два часа с лишним, считая короткий перерыв в «работе» Холгера, вернее юной девицы Элли, работы столь нестерпимо затянувшейся, что в конце концов все готовы были усомниться в достижении каких-либо результатов и, кроме того, чувствовали не раз искушение из одного сострадания прервать ее и от всего отказаться; ибо «работа» эта, видимо, была действительно мучительно тяжелой, и нельзя было не пожалеть хрупкой девочки, на которую ее возложили. Мы, мужчины, если только не уклоняемся от чисто человеческих чувств, хорошо знаем из опыта, что в жизни есть определенные случаи, когда возникает именно такая вот нестерпимая жалость, хотя ее, по каким-то нелепым причинам, никто не признает, да она, вероятно, и неуместна, знаем это возмущенное «прекратите!», готовое сорваться с наших уст, хотя «это» не может прекратиться, да и не должно, и его надо, так или иначе, довести до конца. Читателю уже ясно, что мы имеем в виду наши чувства как отцов и супругов во время акта рождения, а усилия Элли фактически так убедительно, так недвусмысленно напоминали родовые схватки, что об этом не мог не догадаться даже тот, кто еще никогда с ними не сталкивался, как, например, молодой Ганс Касторп; но и он отдал дань жизни и узнал этот акт, полный мистики органической жизни, узнал в данном образе – да еще в каком! И ради какой задачи! В какой обстановке! Невозможно было не назвать скандальными некоторые частности и детали этого полного оживленных людей, погруженного в красный сумрак родильного отделения, а также действия самой роженицы – этой юной девицы, в струящемся халате, с голыми плечиками, и все, что происходило вокруг нее: несмолкающую легкую музыку, непрерывную, искусственно поддерживаемую болтовню, которую, следуя приказу, пытался вести полукруг участников, и веселые подбадривающие восклицания, которыми они неутомимо поддерживали извивавшуюся Элли. «Так, Холгер! Смелей! Дело идет на лад! Не отступай, Холгер! Действуй решительнее! Справимся!» Из всего этого мы не можем исключить и особу «супруга», – если рассматривать Ганса Касторпа как «супруга» – он же согласился на такую роль. Ведь это его колени сжимали колени «матери» и он держал в своих руках ее руки: а ручки у Элли были совершенно мокрые от испарины, как некогда ладони маленькой Лейлы, и ему то и дело приходилось заново схватывать их, оттого что они выскальзывали из его рук.
От камина за спиной сидящих шел сильный жар.
Мистика и благоговение? О нет, в красном сумраке, к которому глаза настолько привыкли, что могли разглядеть эту комнату почти во всех подробностях, стоял шум и царила пошлость. Музыка и громкие возгласы напоминали кликушеские приемы армии спасения, напоминали даже Гансу Касторпу, который никогда не присутствовал на бдении этих неистовствующих фанатиков. Эта сцена не вызывала в душе ничего мистического и таинственного, не будила в зрителе благоговейных чувств, Ганс Касторп не ждал ничего потустороннего; благодаря более интимным и сходным с родами явлениям, о которых мы уже упоминали, все происходившее говорило лишь о природном, об органическом начале. Усилия Элли, как потуги, чередовались с минутами покоя, во время которых она, обессилев, свешивалась со стула то в одну сторону, то в другую, в состоянии полной отрешенности от действительности, – Кроковский называл это «глубоким трансом». Потом она, снова вздрогнув, выпрямлялась, стонала, металась, толкала своих контролеров, боролась с ними, горячо шептала им на ухо какую-то бессмыслицу, резко бросаясь в сторону, словно что-то выталкивала из себя, скрипела зубами и один раз даже вцепилась ими в рукав Ганса Касторпа.
Так продолжалось целый час, а то и дольше. Затем руководитель сеанса счел нужным в интересах всех присутствующих объявить перерыв. Чех Венцель, ради отдыха и смены впечатлений решивший пощадить граммофон и взявшийся за гитару, которая весьма мелодично ныла и звенела под его пальцами, отложил инструмент. Вздохнув с облегчением, присутствующие разомкнули руки. Доктор Кроковский подошел к стене и включил плафон. Ослепительно вспыхнул белый свет, и все, растерявшись, зажмурились, так как их глаза уже привыкли к темноте. Элли дремала, низко склонившись вперед, почти касаясь лицом своих колен. Она предавалась странному занятию, совершенно погрузилась в него; для всех остальных оно, видимо, не было новостью, но Ганс Касторп удивленно и внимательно наблюдал за ней: в течение нескольких минут Элли водила рукою взад и вперед вдоль своего бедра, то отставляя ее, то придвигая черпающим, сгребающим жестом, как будто собирала и притягивала к себе что-то. Потом несколько раз вздрогнув, очнулась и тоже замигала, глядя сонным растерянным взглядом на свет.
Очнувшись, Элли улыбнулась кокетливо и довольно сдержанно. Сострадание к ее тяжелому труду в самом деле казалось необоснованным. Вид у нее был вовсе не такой уж утомленный. Может быть, девушка и не помнила ни о чем. Она пересела в кресло для посетителей, стоявшее у задней стороны письменного стола возле окна, между ним и ширмой, заслонявшей кушетку, предварительно поставив кресло так, чтобы можно было опереться локтем о стол и повернуться лицом к комнате. И вот она сидела там, а остальные скользили по ней растроганным взглядом и порой ободряюще кивали ей, но Элли молчала весь перерыв, то есть целых пятнадцать минут.
Это был настоящий отдохновительный перерыв, – полный непринужденности и кроткого удовлетворения от сознания уже проделанной работы. Мужчины захлопали крышками портсигаров. Курили не торопясь, собирались то там, то здесь небольшими группами и обсуждали особенности этого сеанса. Еще рано отчаиваться и думать, будто ничего не выйдет. Есть целый ряд признаков, показывающих, что малодушничать преждевременно. Сидевшие на том конце полукруга, рядом с доктором, в один голос уверяли, будто несколько раз совершенно ясно чувствовали то холодное дуновение, которое идет от медиума в определенную сторону, перед тем как начинаются феномены. Другие будто бы видели на фоне ширмы световые явления, белые пятна, блуждающие скопления силы. Короче говоря – не отступать! Не предаваться унынию! Холгер дал слово, и никто не имеет права сомневаться в том, что он сдержит его.
Доктор Кроковский подал знак, и сеанс возобновился. Он сам проводил Элли к креслу пыток, причем погладил ее по голове. Остальные тоже вернулись на свои места. Все пошло, как и раньше; правда, Ганс Касторп просил сменить его, пусть другой будет главным контролером, но руководитель отказал ему. Очень важно, заявил он, чтобы тот, кто согласился быть контролером, убедился самым осязаемым образом в том, что никакие манипуляции медиума, которыми он мог бы ввести присутствующих в заблуждение, практически невозможны. И Ганс Касторп сел опять против Элли, заняв прежнее, странное положение. Свет погас, уступив место багровому сумраку.
Снова зазвучала музыка. Через несколько минут Элли опять начала судорожно вздрагивать и делать руками накачивающие движения, и на этот раз уже Ганс Касторп возвестил о том, что наступил «транс». Скандальные роды продолжались.
Как тяжело и мучительно протекали они! Казалось, они никак не могут завершиться, – и разве это было возможно? Какое безумие. Откуда тут взяться материнству? Разрешение от бремени? И как? От какого? «Помогите! Помогите!» – стонала бедняжка, а схватки грозили перейти в ту опасную затяжную судорогу, которую ученые акушеры называют эклампсией. Она то и дело звала Кроковского, чтобы он возложил на нее руки. И он возлагал, бодро успокаивая ее. Гипноз, если это действительно был гипноз, укреплял ее для дальнейшей борьбы.
И вот истек второй час, в течение которого то звенела гитара, то граммофон посылал легкие мелодии в эту комнату, к полумраку которой присутствующие опять кое-как приноровились. Но тут случилось некое происшествие, виновником которого оказался Ганс Касторп. Он высказал пожелание, подал мысль – и это послужило как бы толчком, – в сущности, он лелеял ее с самого начала, и ему, может быть, следовало выступить с ней раньше. Элли была как раз погружена в «глубочайший транс» и сидела опустив лицо на руки, которые держали контролеры, а Везаль собирался переменить пластинку или перевернуть ее, когда наш друг решился и заявил, что у него есть предложение… впрочем, несущественное, но если его примут, оно, может быть, окажется полезным. У него есть… вернее – в собрании пластинок есть одна ария из «Фауста» Гуно, молитва Валентина, исполняет баритон в сопровождении оркестра, очень хорошая вещь. И вот он, лично, предлагает сейчас поставить эту пластинку…
– А собственно, почему ее? – раздался из багрового полумрака голос Кроковского.
– Ну, это вопрос настроения, чувства, – ответил молодой человек. Дух этой арии очень своеобразный, специфический. Почему не попробовать? Он считает, что этот дух, может быть, и сократит тот процесс, который здесь происходит.
– А пластинка здесь? – осведомился доктор.
Нет, пластинки здесь нет. Но Ганс Касторп может сейчас же принести ее.
– Что вы! Разве можно! – Кроковский категорически отклонил предложение. Как? Ганс Касторп воображает, будто можно уйти и вернуться, что-то принести и потом продолжать прерванную работу? В нем говорит просто неопытность. Нет, это совершенно невозможно. Все труды пошли бы насмарку, пришлось бы начинать сначала. Да и научная точность эксперимента не допускает даже мысли о таких уходах и приходах. Дверь заперта. Ключ в кармане у него, у Кроковского. Словом, если пластинки нет под рукой, то придется… Он не успел договорить, так как сидевший у патефона чех прервал его:
– Пластинка здесь.
– Здесь? – удивился Ганс Касторп.
– Да, здесь. «Фауст», молитва Валентина. Вот, прошу.
Она, как исключение, оказалась в альбоме с легкой музыкой, а не в зеленом альбоме с ариями, номер II, где ей согласно установленному порядку надлежало быть. Случайно, по чьей-то небрежности она удивительным образом и очень удачно попала к веселым номерам, и ее остается только поставить.
Что же сказал на это Ганс Касторп? Ничего он не сказал. А Кроковский сказал «тем лучше», и несколько человек повторили эти слова. Игла тихо зашипела, крышка опустилась. И мужественный голос запел арию, похожую на хорал: «Я покинуть принужден…» Никто не произнес ни слова. Все слушали. Как только ария началась, Элли возобновила свои усилия. Она выпрямлялась, вздрагивала, стонала, что-то накачивала и снова подносила ко лбу скользкие от пота руки. Пластинка вращалась. Вот зазвучала средняя часть, там, где Валентин поет о битвах и опасностях, ритм изменился, песня звучала задорно, благоговейно, в чисто французском стиле. Потом эта часть кончилась, последовал финал, оркестр повторил начало, усиливая его голосами всех инструментов: «Бог всесильный, бог любви, ты услышь мою мольбу…»
Ганс Касторп напряженно следил за Элли. Ее тело выгнулось, с трудом вдохнула она воздух сжатым спазмой горлом, затем медленно выдохнула его, поникла и больше не двигалась. Озабоченно склонился он над ней и вдруг услышал пискливый, подвизгивающий голос Штерихи. Она сказала:
– Цим-сен!
Ганс Касторп не поднял головы. Во рту была горечь. Он услышал чей-то другой басовитый голос, который холодно ответил:
– Я уже давно его вижу.
Пластинка кончилась, последний аккорд духовых инструментов отзвучал. Но никто не останавливал граммофон. Бесцельно царапая диск, бегала в наступившей тишине игла посередине круга. Наконец Ганс Касторп поднял голову, и его взгляд без труда сразу нашел верное направление.
В комнате одним присутствующим стало больше. Там, вдали от остальных, в глубине кабинета, где багровый полусвет терялся и переходил почти в ночь, так что глаза с трудом могли что-либо рассмотреть, между длинной стороной письменного стола и ширмой, лицом к комнате, на кресле для посетителей Кроковского, на котором во время перерыва отдыхала Элли, сидел Иоахим. У этого Иоахима были осунувшиеся щеки, темневшие впадинами, и военная борода его последних дней, над которой так гордо изгибались полные губы. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, положив ногу на ногу. На исхудавшем лице, хотя оно и было в тени, падавшей от головного убора, лежала печать страдания и строгости, которые придавали ему столь мужественную красоту. Две вертикальные складки залегли на лбу между запавшими глазами, словно провалившимися в ямы глазниц; но взгляд остался таким же кротким, а глаза – прекрасными, и он безмолвно и ласково вопрошающе смотрел на Ганса Касторпа, только на него. Торчащие уши, всегда причинявшие Иоахиму в его былой жизни некоторое огорчение, выступали и сейчас, несмотря на головной убор – странный убор, трудно было определить, что это такое. Иоахим был не в штатском, его сабля стояла тут же, как бы прислоненная к перекинутой ноге, он держал руки на ее рукоятке, а у пояса висело нечто, напоминавшее кобуру от пистолета. Но одежда не была и настоящим военным мундиром. В ней не замечалось ничего блестящего, цветного. Воротник – как у тужурки, на груди – карманы; довольно низко висел железный крест. Ступни Иоахима почему-то казались огромными, а ноги очень тощими; они были в тугих обмотках – скорее как у спортсмена, чем у военного. Но что же это все-таки за головной убор? Казалось, Иоахим нахлобучил себе на голову походный котелок, который держался, как шлем на ремешке, проходившем под подбородком. Но, как ни странно, этот убор напоминал о старине, о ландскнехтах и почему-то очень шел ему.
Ганс Касторп чувствовал дыхание Элли Бранд на своих руках. Рядом с ним учащенно дышала Клеефельд. И больше – ни звука, кроме скрежета иглы по давно отзвучавшей, но все еще вращающейся пластинке, которую никто не останавливал. Он не смотрел на своих сподвижников, не хотел их видеть и знать. Наклонившись вперед всем корпусом, поверх лежавшей у него на коленях головы Элли, поверх ее рук, смотрел он не отрываясь сквозь багровый сумрак на гостя, сидевшего в кресле, наискось от него, и вдруг почувствовал мгновенный приступ тошноты. Его горло сжала спазма, из груди неудержимо рвались рыдания. «Прости меня!» – шепнул он про себя; потом его взор затопили слезы, он уже ничего не видел.
Ганс Касторп услышал шепот многих голосов: «Заговорите с ним!» – услышал, как баритон доктора Кроковского торжественно и бодро назвал его имя и повторил приглашение. Но он не последовал ему, он вытащил руки из-под головы Элли и встал.
Снова доктор Кроковский назвал его по имени, теперь уже строгим и предостерегающим тоном. Но Ганс Касторп стремительно шагнул к ступенькам, которые вели к выходу, и коротким движением включил белый свет.
Девица Бранд лежала в тяжелом шоке на руках у Клеефельд. А то кресло было пусто.
Кроковский, стоя, выражал ему свое возмущение; Ганс Касторп подошел к нему вплотную, попытался что-то сказать, но не мог произнести ни слова. Тогда он резко и настойчиво мотнул головой и протянул руку. Получив ключ, он несколько раз угрожающе кивнул, глядя доктору прямо в лицо, круто повернулся и вышел из комнаты.
Ссоры и обиды
Так шел годик за годиком, и в санатории «Берггоф» повеяло некиим душком, о происхождении которого от демона, чье зловещее имя мы уже называли, Ганс Касторп догадывался. С безответственным любопытством путешествующего в целях самообразования, он этого демона изучил и даже открыл в себе неблаговидные возможности некоторого соучастия в служении ему, ибо все его ближние теперь ему служили. Стать рабом тех настроений, которые распространялись все шире – хотя их зачатки, так же как и зачатки прежних, всегда существовали то там, то здесь, – он, по своей природе, был неспособен; однако с испугом замечал, что стоит ему немного распуститься, как в его словах, мимике и поведении сказывается та же инфекция, которой не избежал никто из окружающих.
В чем же дело? Что носилось в воздухе? Жажда раздоров, придирчивость и раздражительность, возмутительная нетерпимость. Какая-то общая склонность к ядовитым пререканиям, к вспышкам ярости, даже дракам. Ожесточенные споры, крикливые перебранки вспыхивали каждый день между отдельными людьми и целыми группами, причем характерно было то, что состояние людей, поддавшихся этим приступам, отнюдь не отталкивало лиц, явно незаинтересованных, они не только не выступали в роли посредников, а с азартом вмешивались в перепалку, и их души заражались тем же угаром. Они бледнели и вздрагивали. Они таращили сверкающие глаза, их рты судорожно кривились. Иные завидовали тем, кто активно отстаивал свое право на крик и свои основания для ссор, их терзала жажда подражать крикунам, она мучила их души и тела, и тот, кто не имел сил бежать в одиночество, неминуемо втягивался в этот водоворот. Эти вздорные конфликты, взаимные обвинения, свары, разгоравшиеся в присутствии начальства, которое старалось всех утихомирить, но с пугающей легкостью само переходило к рычанию и грубостям, – эти инциденты все учащались в санатории «Берггоф», и тот, кто покидал его на некоторое время в сравнительно здоровом душевном состоянии, не знал, в каком он вернется. Одна дама, сидевшая за «хорошим» русским столом, очень элегантная провинциалка из Минска, еще молодая и с легким заболеванием – ей предписали пробыть здесь три месяца, не больше – отправилась однажды вниз, в курорт, во французский магазин мод. И так разругалась с продавщицей, что возвратилась домой страшно взволнованная, у нее хлынула горлом кровь, и с тех пор болезнь перешла в стадию неизлечимости. Вызвали мужа и заявили ему, что ей придется остаться здесь навсегда.
Вот пример того, что происходило. С большой неохотой приводим мы и другие случаи. Кое-кто из читателей, наверно, помнит школьника в очках, вернее бывшего школьника, сидевшего за столом фрау Заломон, этого хилого подростка, который имел привычку устраивать на своей тарелке мешанину из всех кушаний, мелко изрезав их, и, облокотясь на стол, поглощать ее, то и дело протирая салфеткой толстые стекла очков. Этот школьник, или бывший школьник, так и сидел из года в год за тем же столом, поглощал пищу и протирал очки, и его особа давала повод лишь к самому беглому вниманию. Но вдруг, в одно прекрасное утро, за первым завтраком, совершенно неожиданно, подобно грому с ясного неба, с ним случился припадок такой неистовой ярости, который поднял на ноги всю столовую и всех ужасно взволновал, В том конце зала, где он сидел, вдруг начался шум; юноша был бледен и кричал, обращаясь к стоявшей перед ним карлице.
– Вы врете! – кричал он срывающимся голосом. – Чай холодный! Чай, который вы мне подали, – холодный как лед, я не желаю его пить, сначала попробуйте сами, а уж потом говорите, это чуть теплые помои, порядочный человек не станет пить такую гадость! Как вы смеете подавать мне ледяной чай, да как вам в голову могло прийти, что я буду пить этакое пойло, как вы могли допустить мысль, что я буду его пить? Не буду я пить! Не желаю! – верещал он и начал колотить кулаками по столу, так что вся посуда зазвенела и запрыгала. – Подать мне горячего чаю! Как кипяток! Это мое право перед богом и людьми! Не желаю я такого чаю, хочу кипяток, я сейчас же умру на месте, если выпью хоть глоток вот этой дряни… Проклятая калека… – завопил он вдруг, словно сбросив последнюю узду и с восторгом прорвавшись на простор безграничного исступления. При этом он занес кулаки над Эмеренцией и в буквальном смысле слова показал ей зубы, покрытые пеной. Потом продолжал колотить кулаками, топать и реветь: «Желаю!», «Не желаю!» – а в зале происходило то, что всегда происходит в таких случаях. Бушующий школьник вызвал какое-то звериное судорожное сочувствие. Одни вскочили и смотрели на него, тоже сжимая кулаки, стиснув зубы и сверкая глазами. Другие сидели, побелев, опустив взгляд, охваченные дрожью. И они все еще дрожали, когда школьник уже в изнеможении сидел перед другой чашкой чая, не прикасаясь к ней.
Что же это было?
К берггофскому обществу присоединился некий больной, бывший коммерсант, лет тридцати; его уже лихорадило, и он уже много лет переходил из одного лечебного заведения в другое. Этот человек был врагом евреев, антисемитом, и принципиально и из спортивного интереса он исповедовал избранные им взгляды с каким-то веселым исступлением, это отрицание являлось гордостью и содержанием его жизни. Когда-то он был коммерсантом, теперь он уже не был им, он был ничем, но ненавистником евреев остался. Человек этот был очень серьезно болен, его то и дело сотрясал хриплый кашель, а иногда он как будто чихал легкими – один раз, визгливо, отрывисто, зловеще. А все-таки он не был евреем – и в этом состояла его единственная гордость. Он носил фамилию Видеман, христианская фамилия, не какая-нибудь нечистая, он выписывал журнал под названием «Арийский светоч» и вел, например, такого рода разговоры:
– Приезжаю я в санаторий Икс в А…, только собираюсь устроиться в галерее для лежания – и кого же я вижу слева от себя на шезлонге? Господина Гирша! А кто справа? Господин Вольф! Само собой разумеется, я сейчас же уехал… – и так далее.
«Так тебе и надо!» – с отвращением подумал Ганс Касторп.
У Видемана был уклончивый подстерегающий взгляд. Возникало буквально такое впечатление, как будто перед самым его носом висит его «пунктик», Видеман злобно на него косится и из-за него ничего не видит. Владеющая им навязчивая идея постепенно довела его до какого-то зудящего недоверия, до маниакальной жажды преследовать, и как только ему казалось, будто подле него таится или прячется под личиной что-то нечистое, он сейчас же выволакивал это на свет и поносил. Где только мог, он язвил, порочил, злопыхательствовал. Словом, единственным содержанием его жизни стало клеймить всех тех, кто не обладал его единственным преимуществом.
Эти внутренние причины, о которых мы только что говорили, чрезвычайно ухудшали его болезнь; и так как он, конечно, и здесь сталкивался с живыми существами, обладавшими тем же недостатком, которого он, Видеман, был лишен, то в результате дело дошло до отвратительной сцены, при которой Ганс Касторп присутствовал и которая послужит и в дальнейшем одним из примеров того, что мы намерены описать.
Ибо здесь находился еще один больной – но разоблачать тут было нечего, все и так было ясно. Он носил фамилию Зонненшейн, и так как трудно было найти фамилию менее удачную, то особа Зонненшейна с первого же дня стала тем пунктиком, который болтался перед носом Видемана; он то и дело злобно покашивался на него и бил по нему рукой, пожалуй не столько чтобы отогнать, но чтобы заставить раскачиваться, так как это еще больше раздражало его.
Зонненшейн, коммерсант, как и Видеман, тоже был очень серьезно болен и не в меру самолюбив. По натуре он оказался человеком приветливым, неглупым и даже склонным пошутить, но Видемана вскоре возненавидел за его колкости и за его пунктик почти до боли, и однажды днем все сбежались в холл, ибо Видеман и Зонненшейн самым самозабвенным и зверским образом вцепились друг другу в волосы.
Зрелище это было жестокое и жалкое. Они колотили друг друга как мальчишки, но с отчаянием взрослых, которые дошли до драки. Они царапали друг другу лицо, нанося удары, хватали друг друга за нос или за горло, обнявшись, со свирепой серьезностью катались по полу, плевались, пинали, толкали, лупили друг друга и кипели бешенством. Сбежавшийся персонал с трудом разнял врагов, вцепившихся один в другого зубами и ногтями. Видеман плевался слюной и кровью, его лицо от ярости казалось одуревшим, и волосы в самом деле стояли дыбом. Ганс Касторп этого еще не видел и не верил, что так бывает. Но волосы Видемана, жесткие и негнущиеся, продолжали стоять дыбом, в таком виде он и бросился прочь, а Зонненшейна, у которого подбитый глаз закрылся, а на плеши, в кольце кудрявых черных волос зияла кровоточащая рана, отвели в контору, где он упал на стул и, закрыв лицо руками, горько расплакался.
Таковы были отношения между Видеманом и Зонненшейном. Все, кто оказались свидетелями их драки, содрогались еще несколько часов спустя. В противовес этой печальной истории даже приятно рассказать про подлинное дело чести, имевшее место в тот же период и до смешного соответствующее этому определению благодаря той торжественной форме, в какой оно велось. Ганс Касторп не присутствовал при его отдельных перипетиях, но знакомился с его запутанным и драматическим развитием лишь по документам, разъяснениям и протоколам, копии которых распространялись не только в санатории «Берггоф», но и по всему кантону, по всей Швейцарии, за границей, даже в Америке, причем их направляли для изучения и таким лицам, относительно которых можно было с уверенностью сказать, что они не могут уделить и не уделят этой истории ни капли внимания.
Дело касалось поляков, конфликт чести возник в недрах польской группы, образовавшейся в «Берггофе» совсем недавно; это была целая небольшая колония, она занимала все места за «хорошим» русским столом (заметим кстати, что Ганс Касторп уже не сидел там, а перекочевал за стол Гермины Клеефельд, потом за стол Заломон и наконец оказался соседом фрейлейн Леви). Компания поляков была до того элегантна и так по-рыцарски вылощена, что можно было только удивляться и ждать чего угодно. Группа эта состояла из супружеской четы, некоей барышни, дружившей с одним из мужчин, остальные – одни кавалеры. Их звали – фон Жутавский, Чишинский, фон Розинский, Михаил Лодыговский, Лео фон Азарапетьян и ряд других. И вот в санаторском ресторане, за шампанским, некий Яполь в присутствии двух кавалеров позволил себе сказать нечто недопустимое по адресу супруги господина Жутавского, а также приятельницы господина Лодыговского, девицы Крыловой. Это и вызвало те шаги, действия и формальности, которые составили содержание ходивших по рукам и рассылаемых документов. Ганс Касторп читал:
«Заявление,
перевод с польского оригинала:
27 марта 19… года г-н Станислав фон Жутавский обратился к гг. доктору Антону Чишинскому и Стефану фон Розинскому с просьбой явиться от его имени к г-ну Казимиру Яполю и согласно установленному кодексу чести потребовать у него удовлетворения за клевету и тяжелое оскорбление, нанесенное его супруге Ядвиге фон Жутавской г-ном Казимиром Яполем в разговоре с гг. Янушем-Теофилем Ленартом и Лео фон Азарапетьяном.
Когда г-н фон Жутавский узнал от третьих лиц о происходившем в конце ноября вышеупомянутом разговоре, г-н фон Жутавский тотчас предпринял необходимые шаги, чтобы получить полную уверенность относительно фактической стороны и сущности нанесенного оскорбления. Вчера, 27 марта 19… года, со слов г-на Лео Азарапетьяна, бывшего прямым свидетелем упомянутого разговора, во время которого были произнесены оскорбительные слова и допущены инсинуации, установлен факт клеветы и оскорбления; это побудило г-на Станислава фон Жутавского безотлагательно обратиться к нижеподписавшимся и уполномочить их потребовать от г-на Казимира Яполя удовлетворения согласно кодексу чести.
Нижеподписавшиеся заявляют следующее:
1) На основании протокола одной из сторон от 9 апреля 19… года, составленного во Львове гг. Здиславом Жигульским и Тадеушем Кодыем по делу г-на Казимира Яполя, а также на основании заключения суда чести от 18 июня 19… г., вынесенного там же, во Львове, по тому же делу, каковые документы в полном соответствии друг с другом устанавливают, что г-н Казимир Яполь вследствие своих неоднократных действий, противных понятию чести, не может считаться джентльменом.
2) Нижеподписавшиеся делают из вышеизложенного соответствующие выводы в их полном объеме и констатируют, что г-н Казимир Яполь ни в какой мере не принадлежит к числу лиц, могущих дать удовлетворение.
3) Они же считают для себя невозможным вести дело чести против лица, стоящего вне понятия чести, а также выступать в нем посредниками.
Ввиду создавшегося положения нижеподписавшиеся обращают внимание г-на Станислава фон Жутавского на то, что бесцельно требовать от г-на Казимира Яполя удовлетворения, предусмотренного кодексом чести, и советуют обратиться в суд, чтобы воспрепятствовать личности, не способной дать удовлетворение, каковой является г-н Яполь, и впредь наносить оскорбления чести. (Следует дата и подписи):
доктор Антон Чишинский,
Стефан фон Розинский».
Ганс Касторп читал дальше:
«Протокол
свидетелей инцидента между г-ном Станиславом Жутавским и г-ном Михаилом Лодыговским, с одной стороны, и гг. Казимиром Яполем и Янушем-Теофилем Ленартом – с другой, имевшего место в баре курзала в Д., 2 апреля 19… между 7.30 и 7.45 вечера.
Так как г-н Станислав фон Жутавский, на основе заявлений его представителей гг. доктора Антона Чишинского и Стефана Розинского относительно инцидента с г-ном Казимиром Яполем, 28 марта 19… года по зрелом размышлении пришел к выводу, что судебное преследование г-на Казимира Яполя за «тяжелое оскорбление» его супруги Жутавской Ядвиги и «клевету» на нее не даст должного удовлетворения, ибо:
1) Существует обоснованное подозрение, что г-н Казимир Яполь в соответствующее время не явится на суд, и его дальнейшее преследование по суду, ввиду того что он австрийский подданный, будет не только затруднительным, но просто невозможным;
2) Судебное наказание г-на Яполя за оскорбление и клевету, с помощью которых г-н Яполь хотел очернить и опозорить доброе имя и супружество г-на Станислава фон Жутавского и его супруги Ядвиги, не может смыть нанесенного им оскорбления —
г-н Станислав фон Жутавский, узнав от третьих лиц, что г-н Казимир Яполь намерен на следующий же день покинуть здешние места, избрал, по его убеждению, самый прямой и соответствующий данным обстоятельствам путь и 2 апреля 19… года между 7.30 и 7.45 вечера в присутствии своей супруги Ядвиги и гг. Михаила Лодыговского и Игнатия фон Меллина дал г-ну Казимиру Яполю, пившему алкогольные напитки в баре здешнего курзала в обществе г-на Януша-Теофиля Ленарта и двух незнакомых девиц, несколько пощечин.
Сейчас же вслед за этим пощечину г-ну Казимиру Яполю дал г-н Михаил Лодыговский, пояснив, что сделал это за нанесенное девице Крыловой и ему тяжелое оскорбление.
Затем г-н Михаил Лодыговский немедленно дал пощечину г-ну Янушу-Теофилю за причиненную г-ну и г-же Жутавским нестерпимую обиду, после чего г-н Станислав Жутавский, не теряя ни минуты, вторично и несколько раз подряд отхлестал по щекам г-на Теофиля Ленарта за то, что тот очернил и оклеветал его супругу, а также девицу Крылову.
Гг. Казимир Яполь и Януш-Теофиль Ленарт вели себя во время указанных действий вполне пассивно. (Следует дата и подписи):
Михаил Лодыговский,
Игн. фон Меллин».
Раньше Ганс Касторп посмеялся бы над этим беглым огнем официальных пощечин, но сейчас внутренние причины помешали ему. Узнав о безупречном соблюдении кодекса чести, с одной стороны, и о позорной и вялой реакции на бесчестие, с другой, – а это становилось совершенно ясным из чтения протоколов, – он был глубоко взволнован хоть и далекой от жизни, но поразительной противоположностью в поведении противников. То же самое испытывали и остальные. Повсюду читались материалы об этом деле чести, и люди страстно и упрямо спорили о нем. Несколько отрезвляюще подействовала контрлистовка Казимира Яполя о том, будто бы фон Жутавскому было известно совершенно точно, что некогда во Львове несколько пресыщенных фатов объявили Яполя неспособным давать удовлетворение, и все незамедлительные и энергичные действия Жутавского – сплошная комедия, так как он знал заранее, что драться на дуэли ему не придется. И в суд Жутавский не подал только потому, что и всем и ему было отлично известно, какой коллекцией рогов его супруга Ядвига украсила голову супруга, чему он, Яполь, мог бы без труда представить неопровержимые доказательства, да и все поведение девицы Крыловой, в случае судебного разбирательства, не украсило бы ее чести. Кроме того, подтвердилась только неспособность его, Яполя, дать удовлетворение, а не его приятеля Ленарта, и фон Жутавский спрятался за первое, лишь бы не подвергать себя опасности дуэли. О роли Азарапетьяна во всей этой истории он не желает говорить. Что касается столкновения в баре, то он, Яполь, хоть и склонен к шуткам и остер на язык, но здоровье у него плохое; друзья Жутавского, а также необычайно сильный Жутавский имели над ним большое физическое преимущество, а обе дамочки, сидевшие с Яполем и Ленартом, – веселые особы, но пугливы, как куры; поэтому он, во избежание безобразной драки и публичного скандала, уговорил Ленарта, который намерен был обороняться, сохранять спокойствие и терпеть во имя божье легкие светские похлопывания господ Жутавского и Лодыговского, не причинившие никакой боли и воспринятые ими как дружеская шутка.
Таковы были оправдания Яполя, который, конечно, оказался в весьма сомнительном положении. Его поправки могли лишь незначительно нарушить столь картинный контраст между честью и бесчестием, возникавший из утверждения противной стороны, тем более что Яполь не располагал той техникой распространения соответствующих документов, как Жутавский и его партия, и смог отпечатать на машинке лишь несколько экземпляров своих возражений. А выше приведенные протоколы, как мы уже отмечали, получили все, даже совершенно посторонние люди. Так, например, они оказались у Нафты и Сеттембрини, – Ганс Касторп сам видел эти документы у них в руках и с изумлением заметил, что и его наставники с ожесточенным и странным волнением изучают их. А он-то ждал от Сеттембрини хотя бы веселой насмешки, на которую сам, по своему душевному состоянию, не был способен. Но и на ясный ум масона, видимо, повлияла наблюдаемая Гансом Касторпом всеобщая зараза, она мешала ему рассмеяться и пробуждала в нем интерес к душевной сенсации, вызванной этой историей с пощечинами; кроме того, Сеттембрини, как человека, живо связанного с действительностью, угнетало сознание, что, несмотря на временно наступавшее обманчивое улучшение его здоровья, ему, в общем, становилось все хуже; он проклинал болезнь, угрюмо стыдился ее и презирал себя, и все же она вынуждала его за последнее время через каждые два-три дня прибегать к постельному режиму.
Не лучше чувствовал себя и Нафта, его сосед и противник. И в его организме прогрессировала болезнь, послужившая физической причиной, или, вернее, поводом, для того, чтобы его карьера, как члена иезуитского ордена, столь преждевременно оборвалась; даже в условиях горного разреженного воздуха, в которых он жил, нельзя было предотвратить развитие недуга. Он тоже проводил нередко целые дни в постели, и когда говорил, его надтреснутый голос все чаще срывался, а говорил он при повышавшейся температуре еще больше, становился все многословнее, резче и язвительнее. Но та борьба против болезни и смерти, которую вел с помощью идей Сеттембрини, и его горе оттого, что презренная природа побеждает, видимо, были чужды недомерку Нафте, и ухудшение его физического состояния вызывало в нем не печаль, а насмешливую воинственность и неудержимую страсть к спорам, жажду все ставить под сомнение, все опровергать и отрицать, сбивая собеседника с толку, а это непрестанно усиливало и без того тяжелую меланхолию итальянца. Со дня на день обострялись их теоретические схватки. Конечно, даже Ганс Касторп мог судить только о тех, которые происходили при нем. Но он был почти уверен, что не пропустил ни одной, ибо его присутствие как педагогического объекта, казалось, было необходимо для столь важных коллоквиумов. И если он не мог не огорчать Сеттембрини, считая речи Нафты достойными того, чтобы их послушать, все же он вынужден был признать, что Нафта уже не знает меры и подчас переходит все границы здравого смысла.
У этого больного не хватало сил или доброй воли подняться над болезнью, для него весь мир стоял под ее знаком, он видел все в ее мрачном свете. К глубокому негодованию Сеттембрини, который охотно выгнал бы своего, жадно внимавшего их спорам воспитанника из комнаты или заткнул бы ему уши, Нафта заявил, что материя – слишком плохой материал, чтобы в нем воплощался дух. Желать этого – чудовищная глупость. Ведь что мы видим в результате? Гримасу! Что дало воплощение в жизнь идей хваленой французской революции? Капиталистическое буржуазное государство – хорош подарок! А исправить это надеются тем, что стараются сделать такую гадость универсальной. Всемирная республика? Вот уж, можно сказать, счастье! Прогресс? Ах, это все тот же знаменитый больной, который то и дело перевертывается с боку на бок, надеясь, что от этого ему станет легче. Результатом же является никем не высказываемое вслух, но тайно живущее во всех желание, чтобы началась война. И она разразится, эта война, и это хорошо, хотя она повлечет за собой совсем не то, о чем мечтают ее зачинщики. Нафта презирал буржуазное государство с его гарантиями безопасности. Он воспользовался случаем и высказался на этот счет однажды осенью, когда пациенты гуляли по главной улице местечка; вдруг начал накрапывать дождь, и все сразу, точно по команде, подняли над головой раскрытые зонты. Нафта усмотрел в этом символ трусости и пошлой изнеженности, порождаемых цивилизацией. Такое событие, как гибель парохода «Титаник», является, конечно, грозным предостережением, и оно в силу нашего атавизма нас страшит, но в нем есть что-то подлинно освежающее, заявил он. А потом поднимают крик о необходимости сделать «пути сообщения» более безопасными. И вообще, как только эта самая «безопасность» оказывается под угрозой, все начинают возмущаться. Все это очень убого, и в своей гуманистической дряблости отлично сочетается с волчьей свирепостью и низостью, царящих на том экономическом поле битвы, каким является буржуазное государство. Война! Он согласен на нее, и всеобщая жажда войны кажется ему, в сравнении с этим, даже достойной уважения.
Но едва Сеттембрини упомянул, возражая ему, слово «справедливость» и рекомендовал этот высокий принцип в виде предохранительного средства против внутренних и внешних политических катастроф, как Нафта, который перед тем утверждал, что дух слишком высок и его земное выражение не может и не должно удаться, Нафта поставил под сомнение само это духовное начало и попытался оклеветать его. Справедливость? Разве это понятие, достойное преклонения? Разве оно божественное? Разве оно высочайшее? Да, бог и природа несправедливы, у них есть свои любимцы, они расточают свои милости только по выбору, одного выделяют опасной отмеченностью, другому даруют легкую, обычную судьбу. А для человека с настойчивой волей справедливость – это, с одной стороны, парализующая его слабость, обессиливающее сомнение, с другой – фанфара, призывающая к решительным действиям. И так как человеку, чтобы не нарушать морали, неизменно приходится подменять «справедливость» в одном смысле «справедливостью» в другом смысле, где же тогда безусловность и радикальность этого понятия? Да ведь и люди бывают обычно «справедливы» в отношении либо одной точки зрения, либо другой. А все прочее – либерализм, и в наши дни никого на эту удочку не поймаешь. Справедливость – это, конечно, только словесная шелуха, обычная для буржуазной риторики, и, чтобы действовать, нужно прежде всего знать, какую справедливость имеешь в виду: ту, которая хочет отдать каждому принадлежащее ему, или ту, которая хочет дать всем одно и то же.
Из бесчисленных споров, когда Нафта старался сбить собеседника с толку, мы привели для примера только один. Но еще хуже обстояло дело, едва он начинал говорить о науке, в которую не верил. Нет, он не верит в нее, заявлял Нафта, ибо человек совершенно свободен верить в нее или не верить. Наука – такая же вера, как и всякая другая, только хуже и глупее всякой другой, и самый термин «наука» – это выражение глупейшего реализма, который не стыдится выдавать более чем сомнительные отражения объектов в человеческом интеллекте за чистую монету и строить на их основе самую унылую, лишенную духа и утешения, самую догматическую систему из всех когда-либо созданных человечеством. Разве понятие самостоятельно существующего чувственного мира не является наиболее смехотворным из всех внутренне противоречивых понятий? Ведь современное догматическое естествознание существует благодаря одной-единственной метафизической предпосылке, будто формы человеческого познания – пространство, время и причинность, в которых протекают чувственные явления нашего мира, – это реальные условия, существующие независимо от нашего познания. Такой монизм – самое бессовестное утверждение, которым когда-либо оскорбляли дух. Пространство, время, причинность на языке монистов заменяются словом развитие, и оно служит основным догматом вольнодумной атеистической лжерелигии, с помощью которой пытаются опровергнуть первую книгу Бытия и противопоставить якобы оглупляющей библейской басне просветительное знание, точно Геккель присутствовал при возникновении земли[208]. Эмпиризм! Разве вопрос о мировом эфире – вопрос решенный? И существование атома – этой изящной математической шутки, этой «крошечной неделимой частицы» доказано? А учение о бесконечности пространства и времени, разумеется, основано на опыте? Если допустить хоть немного логики, то с этим догматом о бесконечности и реальности пространства и времени можно прийти к весьма занятным выводам и открытиям – а именно к открытию пустого «ничто», к выводу, что реализм и есть подлинный нигилизм. Почему? Да по той простой причине, что отношение любой величины к бесконечности равно нулю. В бесконечном не существует величин, а в вечности нет ни продолжительности, ни изменений. В пространственной бесконечности, где любое расстояние математически равно нулю, не может быть двух смежных точек, уже не говоря о телах, а тем более о движении. Он, Нафта, это констатирует в противовес той наглости, с какой материалистическая наука выдает свои астрономические бредни, свою пустую болтовню о «вселенной» за абсолютное знание. Несчастное человечество! Оно достойно сожаления, ибо позволило, чтобы ему с помощью хвастливого перечня бессмысленных цифр внушили ощущение своего ничтожества и лишили патетического сознания своей значительности. Все это еще можно было бы допустить, если бы человеческий разум и познание, оставаясь в пределах земного, считали только в этой сфере свои переживания субъективно-объективного реальностью. Но когда они выходят за эти границы в область вечных загадок и создают так называемые космологии и космогонии, то шуткам конец и самомнение становится просто чудовищным. Какая это, в сущности, кощунственная нелепость – исчислять в триллионах километров или световых лет «расстояние» какой-нибудь звезды от земли и мнить, будто эта цифровая белиберда может открыть человеческому духу доступ к существу бесконечности и вечности, – тогда как бесконечность вообще не имеет ничего общего с величиной, а вечность – с продолжительностью и временными измерениями; они не только не являются понятиями естествознания, а скорее, наоборот, упраздняют то, что мы называем природой. И, право же, наивность ребенка, уверенного, что звезды – это дырки в небесном своде, через которые сияет вечный небесный свет, ему, Нафте, в тысячу раз ближе, чем вся эта пустая, бессмысленная и самоуверенная болтовня о том, что монистическая наука называет «вселенной»!
Сеттембрини осведомился: как? он сам тоже верит в это – насчет звезд? Нафта же ответил, что оставляет за собой полную свободу смиренного скептицизма. Это еще раз показывало, каково его понимание «свободы» и куда такое понимание может привести. Но все бы ничего, если бы только Сеттембрини не боялся, что Гансу Касторпу будет интересно послушать весь этот бред!
Коварный Нафта так и хватался за каждую возможность подстеречь слабые места в истории покорения природы прогрессом и уличить его носителей и пионеров в чисто человеческих возвратах вспять, в сферу иррационального. Авиаторы, летчики, по уверениям Нафты, это все плохие и подозрительные люди, прежде всего – они очень суеверны. Они берут с собой в самолет всякие талисманы, изображенья свинки, ворону, трижды плюют через одно плечо и через другое, надевают перчатки удачливых пилотов. Как примирить столь примитивную нелепость с мировоззрением, лежащим в основе их профессии? Найденное им противоречие радовало его, давало внутреннее удовлетворение, и он долго распространялся на этот счет… Однако мы увлеклись вылавливаньем бесконечных примеров враждебности Нафты, тогда как нам предстоит рассказать кое о чем весьма реальном.
Однажды, в феврале, после обеда наши знакомцы решили отправиться в Монштейн, селение, находившееся в полутора часах санного пути от санатория. Компания состояла из Нафты и Сеттембрини, Ганса Касторпа, Ферге и Везаля. От дома, где жили противники, они отбыли в три часа, тепло одетые, в двух одноконных санях, – Ганс Касторп сидел с гуманистом, Нафта – с Ферге и Везалем, и под приветливый перезвон бубенчиков, разносившийся среди тишины укрытого снегом ландшафта, покатили вдоль правого горного склона, мимо Франценкирха и Глариса к югу. Оттуда быстро надвигалась снежная туча, и вскоре только над Ретийским хребтом еще оставалась полоска бледно-голубого неба. Стоял сильный мороз, горы были задернуты мглой. Дорога, по которой они ехали, проложенная между скалистой стеной и пропастью, была узкая, без ограды, она круто поднималась и вела в чащу елового леса. Лошади шли шагом. Навстречу им то и дело попадались съезжавшие на санках спортсмены, которым приходилось вылезать, чтобы обойти их. Иногда за поворотом нежно и предостерегающе звенели чьи-то чужие бубенчики, мимо наших путешественников проезжали сани, две лошади были запряжены гуськом, и объезжать друг друга нужно было с большой осторожностью. Когда они были уже недалеко от цели своей поездки, открылся чудесный вид на скалистую часть Цюгенштрассе. Добравшись до Монштейна, они остановились перед маленькой гостиницей, именовавшейся «Курзалом», отстегнули полости, вылезли из саней и прошли немного дальше, чтобы взглянуть на «Штульзерграт», высившийся на юго-восточной стороне. Исполинская стена в три тысячи метров была скрыта туманом. Только где-то вдали возносился в небо отдельный зубец, недосягаемо высокий, нездешний, словно Валгалла, недоступно святой. Ганс Касторп очень восхищался им и призывал к этому остальных. Именно он произнес с невольным смирением слово «недоступный» и тем дал повод Сеттембрини подчеркнуть, что, конечно, на ту скалу отличнейшим образом уже не раз поднимались. Да и вообще: едва ли есть сейчас такие недоступные места, куда еще не ступала нога человека. Ну, это, пожалуй, хвастовство и некоторое преувеличение, возразил Нафта. И он назвал Эверест, который до сих пор встречает нескромное любопытство человека ледяным отказом и, видимо, еще долго намерен сохранять свою замкнутость. Гуманист рассердился. Они вернулись к «Курзалу», перед которым рядом с их санями стояли еще чьи-то, распряженные.
Тут можно было остановиться. В верхнем этаже находились номера для приезжающих. Там же была и столовая, имевшая деревенский вид и жарко натопленная. Путешественники заказали любезной хозяйке кофе, мед, белые булки и «грушевый хлеб», которым славилась эта местность. Кучерам послали красного вина. Группа швейцарцев и голландцев, также приехавших сюда, сидела за другими столами.
Нам очень хотелось бы отметить, что за столом пятерых друзей настроение было подогрето горячим и превосходным кофе, и скоро возник разговор на высокие темы. Однако мы выразились бы неточно, ибо это был отнюдь не разговор, а сплошной монолог Нафты; после нескольких слов, сказанных остальными, он настойчиво и не смолкая ораторствовал один, причем форма этого монолога была весьма странная и в обществе не принятая: дело в том, что экс-иезуит с любезной назидательностью обращался исключительно к Гансу Касторпу, притом повернувшись спиной к сидевшему рядом с ним Сеттембрини и не обращая ни малейшего внимания на остальных двух собеседников.
Трудно было бы определить словами тему этой ораторской импровизации, слушая которую Ганс Касторп неуверенно кивал головой. В сущности, она не имела определенной темы, мысль Нафты плавала в сфере духа, касаясь то одного, то другого вопроса: в основном он старался подчеркнуть всю двусмысленность явлений духовной жизни, обманчивость и непригодность для борьбы выведенных из этих явлений возвышенных понятий и указать на то, под каким обманчиво блистающим покровом предстает на земле абсолютное начало.
Во всяком случае, его лекцию скорее всего можно было назвать рассуждением о проблеме свободы, которую он толковал как смешение понятий. Между прочим, коснулся он и романтизма, завораживающей двусмысленности этого течения, возникшего в Европе в начале XIX века: перед ним понятия реакции и революции теряют свой смысл, поскольку они не объединяются во что-то высшее. Конечно же, просто смешно связывать понятие революционности только с прогрессом и с победоносно штурмующим общество просвещением. Европейский романтизм был прежде всего движением освободительным, антиакадемическим, направленным против классицизма, против старофранцузских представлений о хорошем вкусе, против старой школы разума, чьих защитников романтизм высмеивал, как напудренных болванов.
Затем Нафта напал на освободительные войны, на фихтевское «воодушевление»[209], на восстание захмелевшего народа против невыносимой тирании, хотя, увы, хе-хе, она-то и воплощала в себе свободу, то есть идеи революции. Очень смешно! Замахнулись-то, громко распевая, на революционную тиранию, а привело это к реакционному гнету немецких князей, и все это сделали во имя свободы!
Молодой слушатель, конечно, увидит разницу и даже противоречие между внешней и внутренней свободой, а также ответит себе на щекотливый вопрос о том, какое же отсутствие свободы более всего, хе-хе, или менее всего совместимо с честью нации!
Дело в том, что по существу свобода – понятие скорее романтическое, чем просветительное, ибо его сближает с романтизмом неразрешимое противоречие между жаждой человека к расширению вовне и страстным суживающим подчеркиванием своего «я». Индивидуалистическое стремление к свободе породило исторический и романтический культ национализма, а он полон воинственности, и гуманитарный либерализм называет его «мрачным», хотя он тоже учит индивидуализму, но несколько иначе. Индивидуализм, с его верой в бесконечную космическую ценность каждой отдельной личности, – явление романтически-средневековое, из него вытекает учение о бессмертии души, геоцентризм и астрология. С другой стороны – об индивидуализме твердит и гуманизм, заигрывающий с либерализмом, он близок к анархии и во всяком случае жаждет защитить драгоценный индивид, чтобы его не принесли в жертву всеобщему. Это тоже индивидуализм, часто слово обозначает и одно и многое другое.
Однако нельзя не признать, что пафос освобождения создал в борьбе с лишенным благоговения разлагающим прогрессом самых блистательных врагов свободы, самых остроумных защитников прошлого. И Нафта назвал Арндта, проклинавшего индустриализацию и славившего дворянство[210], назвал Герреса[211], написавшего книгу о христианской мистике. И разве мистике чужда свобода? Разве мистика не была против схоластики и догматизма, против священников? Нельзя не видеть освобождающей силы и в иерархизме, ибо именно он поставил пределы безграничной монархии. Мистика же позднего средневековья сохранила свою освободительную сущность, которая была предвестницей Реформации, – Реформации, оказавшейся, хе-хе, неразрешимым сплетением свободы и возврата к средневековью…
Деяние Лютера… Ну что ж, у него то преимущество, что он с самой грубой очевидностью показал сомнительную сущность этого деяния, деяния вообще. А знают ли слушатели Нафты, что такое деяние? Это, например, убийство государственного советника Коцебу студентом-корпорантом Зандом.[212] Что, говоря на языке криминалистов, «вложило оружие в руки» юноши Занда? Порыв к свободе, разумеется. Но если взглянуть повнимательнее, то окажется, что вовсе не этот порыв, а скорее моральный фанатизм и ненависть к антинародной фривольности. А с другой стороны – Коцебу состоял на русской службе, вернее, на службе Священного союза; поэтому Занд действовал все же во имя свободы, что опять-таки является неправдоподобным, ввиду того что в числе его ближайших друзей были иезуиты. Короче говоря, чем бы ни было деяние, оно является плохим способом отстаивать свои взгляды и очищению духовных проблем тоже мало способствует.
– Осмелюсь спросить, скоро ли вы закончите ваши непристойные рассуждения?
Вопрос задал Сеттембрини и притом очень резко. Он сидел и слушал, барабаня пальцами по столу и покручивая ус. Наконец он не выдержал. Его терпение лопнуло. Он выпрямился, даже больше чем выпрямился: очень бледный, он, сидя, как бы приподнялся на носки, лишь слегка касаясь стула, и в такой позе, сверкая черными глазами, встретил врага, который повернулся к нему с лицемерным изумлением.
– Как вы изволили выразиться? – спросил в ответ Нафта.
– Я изволил… – сказал итальянец и судорожно глотнул, – я изволил так выразиться потому, что не позволю вам больше просвещать беззащитную молодежь вашими двусмысленностями!
– Милостивый государь, советую вам осторожнее выбирать ваши выражения!
– В таком совете, милостивый государь, я не нуждаюсь. Я привык выбирать свои слова, и они будут в точном соответствии с фактами, если я скажу, что ваш способ вносить смуту в душу и без того неустойчивой молодежи, совращать ее и обессиливать – это низость, и ее мало карать одними словами…
При слове «низость» Сеттембрини ударил ладонью по столу и окончательно встал, отодвинув стул, что послужило сигналом и для остальных, которые тоже вскочили. Сидевшие за другими столами смотрели на них насторожившись – собственно, сидевшие только за одним столом, так как швейцарцы уже уехали и лишь голландцы с растерянным видом прислушивались к разгоравшейся словесной перепалке.
Итак, все наши друзья стояли, выпрямившись, вокруг своего стола: с одной стороны Ганс Касторп и оба противника, с другой – Ферге и Везаль. Все пятеро были бледны, их глаза широко раскрыты, губы дрожали. Но разве не могли трое остальных попытаться успокоить спорщиков, разрядить шуткой напряженную атмосферу, примиряющим словом все уладить? Однако они не сделали ее, этой попытки. Мешали внутренние причины. Они просто стояли у стола, содрогаясь и невольно сжимая кулаки. Даже А.К.Ферге, которому заведомо было чуждо все возвышенное и который с самого начала не хотел ни вникнуть в этот спор, ни понять все его значение, даже Ферге теперь убедился, что дело дошло до крайности, и хотя остальные тоже были вовлечены в эту схватку, они тоже ничего не смогут сделать, и надо предоставить события их течению. Его верхняя губа с добродушно торчавшими усами то вздергивалась, то опускалась.
Наступила тишина, и все услышали, как Нафта заскрежетал зубами. Этот скрежет был для Ганса Касторпа такой же неожиданностью, как и вставшие дыбом волосы Видемана: он воображал, что так только говорится, а в действительности не бывает. Но теперь Нафта в самом деле заскрежетал зубами среди тишины, – ужасно неприятный, зверский и непривычный звук, все же явившийся результатом какого-то невообразимого самообладания, ибо иезуит не закричал, а проговорил вполголоса, не то задыхаясь, не то смеясь.
– Низость? Покарать? Добродетельные ослы начинают брыкаться? Или мы довели педагогическую полицию цивилизации до того, что она хватается за оружие? Вот это успех, для начала достигнуть его было весьма нетрудно, могу добавить это с презрением, ибо довольно легкого поддразнивания – и стоящая на страже добродетель вышла из себя. Дальнейшее придет. И «кара» тоже. Надеюсь, ваши штатские убеждения не помешают вам понять, чего я вправе от вас потребовать, иначе мне пришлось бы подвергнуть эти убеждения такой проверке, которая…
Сеттембрини сделал резкое движение, и Нафта продолжал:
– О, я вижу, что это не понадобится. Я стою вам поперек дороги, а вы мне, – хорошо, тогда доведем наше небольшое столкновение до конца в соответствующем месте. А сейчас добавлю только одно: ваш ханжеский страх за схоластическое понятие государства, созданного якобинской революцией, заставляет вас видеть в моем желании пробудить в молодежи сомнения, выбросить на свалку все ваши категории и лишить идеи их академической добродетели какое-то педагогическое преступление. Страх этот больше чем оправдан, ибо вашему гуманизму пришел конец, можете быть в этом уверены, с ним покончено без возврата. В наши дни это только пережиток, псевдоклассическая безвкусица, духовное ennul[213], она вызывает зевоту, и новая, наша революция с ней намерена покончить, вот что, милостивый государь! Если мы как воспитатели пробуждаем сомнения более глубокие, чем это когда-либо снилось вашему скромному просветительству, то мы знаем, что делаем. Только из радикального скепсиса, из морального хаоса рождается безусловное, тот священный террор, который необходим нашему времени. Это я говорю себе в оправдание, а вам – в назидание. Дальнейшее – уже другой вопрос. Вы обо мне услышите.
– Я к вашим услугам, милостивый государь! – крикнул ему вслед Сеттембрини, выскочил из-за стола, бросился к вешалке, снял свою шубу. Потом вольный каменщик тяжело опустился на стул и схватился обеими руками за сердце.
– Distruttore! Cane arrabbiato! Bisogna ammazzarlo![214] – восклицал он, задыхаясь.
Остальные все еще стояли возле стола. Усы Ферге продолжали вздрагивать. Везаль скривил нижнюю челюсть. Ганс Касторп, подражая деду, уперся подбородком в воротничок, так как у него тряслась голова. Все думали о том, что, отправляясь на прогулку, никто и не помышлял о таком столкновении. И все, включая и Сеттембрини, искренне обрадовались, сообразив, что они приехали в двух санях, а не в одних. Это, прежде всего, облегчало возвращение домой. А что потом?
– Он вызвал вас на дуэль, – с тревогой сказал Ганс Касторп.
– Безусловно, – отозвался Сеттембрини и взглянул снизу вверх на стоявшего рядом с ним молодого человека, но тут же отвернулся и оперся головой на руку.
– Вы принимаете вызов? – осведомился Везаль.
– И вы спрашиваете? – ответил Сеттембрини, тоже посмотрев на него. – Господа, – продолжал он, вставая и уже вполне овладев собой, – я очень сожалею, что наша прогулка этим кончилась, но в жизни надо быть всегда готовым к таким случаям. В теории я не одобряю дуэли, и прав закон, что он против нее. Но на практике – дело другое, существуют положения, когда… Противоречия, которые… словом, я к услугам этого господина. Хорошо, что я в молодости немного занимался фехтованием. Несколько часов поупражняюсь, и моя кисть опять станет подвижной. О дальнейшем договоримся. Вероятно, этот господин уже приказал запрягать.
По пути домой и даже дома у Ганса Касторпа минутами начинала голова кружиться от чудовищности предстоящего, особенно когда выяснилось, что Нафта и слышать не хочет ни о каких шпагах, а настаивает на пистолетах и что он действительно имеет право выбирать оружие, ибо согласно кодексу чести он – оскорбленный. Минутами, как мы уже сказали, когда Гансу Касторпу удавалось до известной степени вырваться из всех этих сложностей и туманностей и его мысль прояснялась, он говорил себе, что это же безумие и он должен ему помешать.
– Если бы еще было нанесено настоящее оскорбление! – воскликнул он в разговоре с Сеттембрини, Ферге и Везалем, которому Нафта по пути домой уже поручил передать вызов, и тот взялся быть посредником между обеими сторонами. – Если бы одному из вас было нанесено в обществе оскорбление как гражданину. Если бы один замарал честное имя другого, если бы вопрос шел о женщине или о какой-нибудь конкретной житейской коллизии, когда примирение невозможно… Пусть в таких случаях дуэль является единственным выходом, честь получает удовлетворение, все кончается более или менее благополучно, и заявляют: противники разошлись, помирившись; я даже готов допустить, что дуэль – хороший обычай, благотворный и приемлемый в известных сложных случаях. Но что Нафта совершил? Я не собираюсь защищать его, я только спрашиваю – чем он оскорбил вас? Он сказал, что категории пора выбросить на свалку? Отнял, по его выражению, у понятий их академическое достоинство? Вас это оскорбило, допустим…
– «Допустим»? – повторил Сеттембрини и посмотрел на него…
– Согласен, согласен! Пусть он этим оскорбил вас. Но он же вас не опорочил. И тут есть разница, разрешите сказать вам! Ведь речь идет об абстрактных, о духовных проблемах. Можно своими взглядами на эти проблемы оскорбить человека, но не опорочить. Это аксиома, со мной согласился бы любой суд чести, могу вам в этом поклясться. Потому и вашим ответом относительно «низости» и «строгой кары» вы его не порочите, ведь вы и это сказали в духовном, смысле, все это остается с сфере духа и не имеет никакого отношения к области личного, где только и возможно опорочивание. А духовное никогда не может носить личный характер, это поясняет и дополняет приведенную мной аксиому, а потому…
– Вы ошибаетесь, мой друг, – возразил Сеттембрини, закрыв глаза. – Вы ошибаетесь, во-первых, в том, что духовное не может приобрести личный характер, вам не следовало бы придерживаться таких взглядов, – продолжал он с тонкой и страдальческой усмешкой. – Вы прежде всего ошибаетесь в вашей оценке духовной сферы вообще, которую, видимо, считаете слишком слабой и неспособной вызывать конфликты и страсти, не менее жестокие, чем те, которые порождает реальная жизнь и при которых нет иного выхода, как взяться за оружие. All'incontro![215] Ведь абстрактное, очищенное, идеальное и есть абсолютное, то есть строжайшее, и в нем таятся гораздо более глубокие и действенные возможности для ненависти и непримиримой вражды, чем в жизни общественной. И как бы вы ни удивлялись, но оно даже прямее и беспощаднее, чем эта жизнь, ведет к такой ситуации, когда ставится вопрос: либо я, либо ты, к подлинно радикальной ситуации, к ситуации дуэли, физической борьбы. Дуэль, мой друг, не такой «обычай», как все остальные. Дуэль – это последнее средство, возврат к первобытному состоянию, лишь слегка смягченному некоторыми правилами рыцарства, но смягченному очень поверхностно. Основным остается в ней момент первобытного, физическая борьба, и каждый мужчина, как бы он ни был далек от природного начала, если дело дойдет до этого, должен оказаться на высоте. А он может в любой день попасть в такое положение. Тот, кто не способен отстаивать свой идеал силой своей личности, своей рукой, своей кровью, тот недостоин его; главное в том, чтобы при всей одухотворенности оставаться смелым и мужественным.
Итак, Ганс Касторп получил выговор. Что он мог возразить? Он молчал, задумчивый, подавленный. В сказанном Сеттембрини была и сдержанность и логика, и все же эти слова в его устах звучали чуждо и неестественно. Эти мысли не были его мыслями, и идея дуэли не ему пришла в голову, он заимствовал ее у террориста Нафты, у этого фанатичного недомерка; это были результаты того, вызванного внутренними импульсами всеобщего плена, в который попал светлый разум Сеттембрини, став их прислужником и орудием. Как, неужели духовное начало, только потому что оно строго, должно неотвратимо приводить к звериности, к тому, чтобы решать спор путем физической борьбы? Ганс Касторп противился такой точке зрения, или делал попытки противиться ей, но с испугом обнаружил, что и он не в силах это сделать. Они тоже в нем жили, эти внутренние импульсы, и обладали большой силой, и он тоже не мог от них освободиться. Угрозой и безысходностью повеяло на него, когда он вспомнил, как Видеман и Зонненшейн катались по полу в бессмысленной зверской схватке, и он с ужасом понял, что в конце концов остается только физическое начало, когти, зубы. Да, да, видимо, нужно драться на дуэли, так можно благодаря рыцарским правилам борьбы сберечь хоть некоторую смягченность первобытных инстинктов. И Ганс Касторп предложил Сеттембрини быть его секундантом.
Но тот отклонил его предложение. Нет, это не годится, это неудобно, ответили ему сначала Сеттембрини, со своей страдальческой и тонкой усмешкой, затем, после короткого раздумья, Ферге и Везаль; они тоже без особых доказательств утверждали, что неудобно Гансу Касторпу быть в этой дуэли секундантом. Но в качестве лица нейтрального – присутствие такого лица на дуэли тоже предусматривалось рыцарскими правилами, смягчающими звериное начало, – он может находиться на поле боя. Даже Нафта через своего представителя в этом деле чести выразил такое пожелание, и Ганс Касторп удовольствовался этим. Кем бы он ни был – лицом нейтральным или свидетелем, он получил возможность влиять на условия, которые будут установлены для поединка, а это было совершенно необходимо.
Ибо требования Нафты показывали, что он потерял всякую власть над собой. Он настаивал на дистанции в пять шагов и на трех выстрелах, если понадобится. Эти сумасшедшие требования он передал в тот же вечер после ссоры через Везаля, который стал только представителем и защитником его интересов и, отчасти по его поручению, а отчасти, конечно, и по собственной инициативе упорно настаивал именно на этих условиях. Сеттембрини, конечно, не стал возражать, но Ферге в качестве его секунданта и Ганс Касторп, как лицо нейтральное, были возмущены, и молодой человек даже нагрубил убогому. Везалю. Неужели ему не стыдно, спросил Ганс Касторп, выдвигать такие дикие условия, когда дело идет о совершенно абстрактной дуэли, ведь в ее основе не лежит никакого реального оскорбления! Мало им этих отвратительных пистолетов, теперь нужны еще такие смертоубийственные детали! Тут уж ни о каком рыцарстве не может быть и речи, и не проще ли сразу стреляться через носовой платок! Ведь не в него, Везаля, будут стрелять с пяти шагов, поэтому он с такой легкостью и поддерживает эту кровожадность, и так далее. Везаль только плечами пожал, безмолвно давая понять, что ситуация все же создалась весьма критическая, и этим как бы до некоторой степени обезоружил противную сторону, видимо склонную забыть об этом. Все же ему удалось на следующий день путем упорных переговоров свести троекратные выстрелы к одному, а также установить дистанцию между дуэлянтами не в пять шагов, а в пятнадцать. Но и это было достигнуто лишь ценой обещания, что никакие попытки к примирению предприниматься не будут. Впрочем, пистолетов ни у кого не оказалось.
Их достали у господина Альбина. Кроме блестящего маленького револьвера, которым он любил пугать дам, у него нашлась еще пара одинаковых, покоившихся рядом на бархате футляра, офицерских пистолетов бельгийской марки. Это были автоматические браунинги с деревянными рукоятками, где находились обоймы, голубовато-стальные механизмы с блестящими стволами и точно пригнанными прицелами. Ганс Касторп уже видел как-то пистолеты у этого хвастуна и, вопреки своим убеждениям, лишь желая выказать беспристрастие, предложил их взять у него. Господин Альбин даже научил его заряжать и сделал в саду несколько пробных выстрелов из обоих.
На все это понадобилось известное время, и до встречи дуэлянтов прошло два дня и три ночи. Ганс Касторп решил, что для дуэли больше всего подойдет одно из его любимых мест – живописная лужайка, вся покрытая летом синевой цветущего водосбора, где он уединялся для своих переживаний «правителя». Лишь накануне вечером, уже довольно поздно, Ганс Касторп, который очень волновался, наконец сообразил, что ведь на место поединка нужно взять с собой и врача.
Он тут же обсудил это с Ферге, но решить вопрос относительно врача оказалось очень трудно. Правда, Радамант был в свое время корпорантом, но невозможно просить главного врача лечебного заведения присутствовать при столь незаконном деле, тем более что в нем участвовали его же пациенты. Да и вообще – едва ли можно надеяться, что здесь найдется врач, который согласился бы содействовать дуэли на пистолетах двух тяжелобольных. Что касается Кроковского, то у них не было даже уверенности, что этот спиритуалист умеет перевязывать раны.
Везаль, которого они также привлекли, сообщил, что Нафта уже высказался на этот счет – он не желает врача. Он идет туда не для того, чтобы его мазали мазями и бинтовали, он идет сражаться, к тому же весьма серьезно. Что будет потом – ему все равно, как-нибудь обойдутся без врача. Этот ответ прозвучал зловеще, но Ганс Касторп постарался истолковать его иначе: вероятно, Нафта втайне считает, что врач и не понадобится. Разве и Сеттембрини не передал через посланного к нему Ферге, чтобы они не хлопотали, его этот вопрос не интересует? И не так уж неразумно надеяться на то, что противники в душе решили не доводить дело до кровопролития. Вот они уже поспали две ночи после той словесной стычки, поспят еще и третью. А сон, как известно, освежает и проясняет мысли, с бегом часов определенное состояние духа не может не меняться. Завтра рано утром ни один из противников, когда они возьмут в руки оружие, уже не будет таким, каким был в день ссоры. Они будут действовать самое большее машинально, желая соблюсти свою честь, а не так, как они поступили бы сейчас, следуя своей свободной воле, и как они поступали в тот вечер, подчиняясь своим порывам и убеждениям; а ведь от такого отрицания своего сегодняшнего «я» в угоду тому, чем они были два дня назад, их можно будет и уберечь!
В этих своих рассуждениях Ганс Касторп был до известной степени прав, но, к сожалению, в таком смысле, в каком ему не могло и присниться. Он даже был совершенно прав, поскольку дело касалось Сеттембрини. Но если бы только он мог подозревать, в какую сторону еще до решающей минуты изменились намерения Лео Нафты или изменились в ту самую минуту, то даже те внутренние импульсы и причины, из которых все это возникло, не удержали бы его и он не допустил бы того, что произошло.
Было семь часов утра, и солнцу предстояло еще не скоро взойти над своей горой, но сквозь мутную мглу уже пробивался рассвет, когда Ганс Касторп после тревожной ночи вышел из «Берггофа» и направился к месту встречи. Горничные, убиравшие в холле, с удивлением посмотрели на него. Однако главный подъезд уже был отперт, Ферге и Везаль, порознь или вдвоем, как видно, уже ушли, один – чтобы проводить на место дуэли Сеттембрини, другой – Нафту. Он же, Ганс Касторп, направился туда в одиночестве, ибо его положение как лица нейтрального не позволяло ему присоединиться к той или другой стороне.
Он двинулся к месту дуэли как-то автоматически, вынужденный к этому правилами чести, под давлением обстоятельств. Его присутствие на дуэли само собой разумелось и было необходимо. Невозможно было выключиться из событий и, лежа в постели, ожидать их исхода, во-первых, потому… но это «во-первых» он не стал уточнять и тут же перешел к «во-вторых»: во-вторых, нельзя предоставлять события их собственному течению. Пока что, слава богу, еще не случилось ничего плохого, да, нужно надеяться, и не случится, это даже маловероятно. Пришлось встать при электричестве и, не позавтракав, в морозную рань тащиться к месту встречи под открытым небом, как они условились. Но потом благодаря его, Ганса Касторпа, присутствию и воздействию, все, без сомнения, уладится мирно и хорошо, а каким способом – лучше не стараться предугадать, опыт показывает, что даже самые незначительные события протекают иначе, чем их рисуешь себе заранее.
И все-таки, насколько он помнил, это было самое неприятное утро в его жизни. Вялый и невыспавшийся, Ганс Касторп от нервозности чуть не стучал зубами и, даже особенно не углубляясь, испытывал сильное искушение не очень-то доверять своей самоуспокоенности. Время сейчас какое-то странное… Погубившая себя скандалом дама из Минска, буйствующий школьник, Видеман и Зонненшейн, ссора поляков с пощечинами – все это беспорядочно пронеслось в его памяти. Он никак не мог себе представить, что у него на глазах, в его присутствии два человека будут стреляться, может быть до крови изувечат друг друга. Но, вспомнив о том, что произошло все же у него на глазах между Видеманом и Зонненшейном, он стал сомневаться и в себе, и в этом мире и задрожал в своей меховой куртке, хотя сознание необычайности и патетики всей этой истории, а также живительный утренний воздух бодрили его и возбуждали.
Охваченный противоречивыми, сменяющимися чувствами и мыслями, в медленно светлеющих утренних сумерках поднимался он над «деревней» по узкой тропинке, которая вела вверх от конца бобслейного спуска, достиг леса с глубокими сугробами, перешел по деревянному мосту, под которым вился санный путь, и продолжал с трудом пробираться между стволами деревьев по дорожке, проложенной не столько лопатой, сколько людскими следами.
Так как он ускорил шаг, то вскоре нагнал Сеттембрини и Ферге, поддерживавшего рукой ящик с пистолетами, который он нес под плащом. Не задумываясь, Ганс Касторп присоединился к ним, и едва с ними поравнялся, как увидел Нафту и Везаля, слегка опередивших их.
– Какое холодное утро, по крайней мере восемнадцать градусов, – сказал он с самыми лучшими намерениями, но сам испугался столь легкомысленного замечания и тут же добавил: – Господа, я убежден…
Однако его спутники молчали. Добродушные усы Ферге вздрагивали. Через несколько минут Сеттембрини остановился, взял руку Ганса Касторпа одной рукой, накрыл ее ладонью другой и сказал:
– Друг мой, убивать я не буду. Не буду. Я подставлю себя под его пулю – это все, что мне может приказать моя честь. Но убивать я не буду, можете быть в этом уверены!
Он выпустил его руку и двинулся дальше. Ганс Касторп был глубоко взволнован; сделав несколько шагов, он сказал:
– Это замечательное решение, господин Сеттембрини, хотя… Если он, со своей стороны…
Сеттембрини покачал головой. А Ганс Касторп, сообразив, что когда один откажется стрелять, то и другой будет вынужден ответить тем же, пришел к выводу, что все кончится благополучно и его надежды начинают оправдываться. И на душе у него стало легче.
Они прошли по мостику, перекинутому через ущелье, где теперь безмолвствовал оцепеневший водопад, который придавал летом этому месту такую живописность. Нафта и Везаль ходили перед обложенной пухлыми снеговыми подушками скамьей, на которой некогда Ганс Касторп, взволнованный необычайно живыми воспоминаниями, был вынужден ждать, когда у него перестанет идти носом кровь. Нафта курил сигарету, и Ганс Касторп спросил себя, не хочется ли закурить и ему. Однако не обнаружил в себе ни малейшей тяги к табаку и решил, что, наверное, и Нафта это делает, только чтобы притвориться спокойным. С тем удовольствием, которое всегда здесь испытывал, окинул он взглядом место своих отважно-интимных переживаний: в ледяной неподвижности оно было не менее прекрасно, чем в дни синего цветения. На стволах и ветках перечеркнувшей пейзаж косой сосны тяжело лежал снег.
– Доброе утро! – сказал он бодрым голосом, надеясь своим пожеланием сразу внести в эту встречу естественность и рассеять злые помыслы, однако потерпел неудачу, так как никто ему не ответил. Взаимные приветствия свелись к безмолвным поклонам, натянутость которых была искусно скрыта. Однако это не изменило его решимости все то, с чем он пришел сюда – сердечность взволнованного дыхания, тепло, вызванное в это зимнее утро быстрой ходьбой, – немедленно использовать ради благой цели; и он начал опять:
– Господа, я убежден…
– Расскажете о своих убеждениях в другой раз, – холодно оборвал его Нафта. – Разрешите попросить у вас пистолеты, – добавил он с той же надменностью.
И растерявшемуся Гансу Касторпу пришлось быть свидетелем того, как Ферге извлек из-под плаща роковой футляр, вручил подошедшему Везалю один из пистолетов, а тот передал его Нафте. Сеттембрини взял у Ферге второй. Затем он вынужден был отойти, Ферге вполголоса попросил его посторониться и начал измерять шагами дистанцию и отмечать внешнюю границу, проводя каблуками в снегу короткие линии, а внутренние барьеры обозначив двумя тросточками – собственной и принадлежавшей Сеттембрини.
И этим занимался добродушный страдалец Ферге! Ганс Касторп просто глазам своим не верил. У Ферге были длинные ноги, да он еще шагал широко, так что пятнадцать шагов все же превратились в довольно значительное расстояние, хотя дело портили проклятые барьеры, которые находились действительно недалеко один от другого. Конечно, Ферге хотел быть честным. И все-таки – под влиянием какого душевного затемнения действовал он, принимая все эти меры, смысл которых был так чудовищен? Нафта сбросил шубу на снег, норковым мехом наружу, встал, держа в руке пистолет, на одну из внешних линий, едва Ферге провел ее каблуком и перешел к другим отметкам. Когда он изготовился, занял свою позицию и Сеттембрини, расстегнув потертую меховую куртку. Ганс Касторп стряхнул с себя сковывающее его оцепенение и поспешно еще раз выступил вперед.
– Господа, – сказал он с тоской, – не надо действовать опрометчиво. Несмотря на все, я считаю своим долгом…
– Замолчите! – резко прикрикнул на него Нафта. – Пусть подают знак!
Но никто не подал знака. На этот счет как-то не договорились. Вероятно, надо было возвестить «сходитесь!». Однако о том, что это грозное приглашение должно прозвучать из уст лица нейтрального, не вспомнили или во всяком случае не упомянули. Ганс Касторп молчал, и никто не намерен был его заменить.
– Начинаем! – заявил Нафта. – Вперед, милостивый государь, стреляйте! – крикнул он своему противнику и сам пошел на него, держа пистолет в вытянутой руке и целясь в грудь Сеттембрини, – зрелище совершенно неправдоподобное. То же сделал и Сеттембрини. При третьем шаге Нафта, все еще не стреляя, был уже у барьера; Сеттембрини поднял пистолет очень высоко и спустил курок. Резкий выстрел разбудил многократное эхо. Горы перебрасывались звуками и отзвуками, вся долина наполнилась ими, и Ганс Касторп решил, что вот-вот сбегутся люди.
– Вы стреляли в воздух, – с полным самообладанием сказал Нафта и опустил пистолет.
– Я стреляю куда мне угодно.
– Вы будете стрелять еще раз!
– И не подумаю. Теперь ваша очередь.
И Сеттембрини, подняв голову и глядя в небо, стал не совсем прямо перед противником, а немного боком к нему, и это было даже трогательно. Он, видимо, слышал от кого-то, что не следует подставлять противнику свое тело во всю его ширину, и действовал в соответствии с этим указанием.
– Трус! – крикнул Нафта, этим слишком человеческим возгласом как бы признаваясь, что, когда стреляешь сам, для этого нужно больше мужества, чем когда предоставляешь стрелять в себя другому, и, подняв пистолет так, как его не поднимают при поединке, выстрелил себе в голову.
Горестное, незабываемое зрелище!
И пока горы играли в мяч резкими отзвуками его злодеяния, Нафта, не то шатаясь, не то падая, попятился, сделал несколько шагов, высоко поднимая ноги, круто повернулся всем телом направо и, описав дугу, рухнул лицом в снег.
Все на миг оцепенели. Сеттембрини, отшвырнув пистолет, первый бросился к нему.
– Infelice![216] – воскликнул он. – Che cosa fai per l'amor di Dio![217]
Ганс Касторп помог ему перевернуть тело. Все увидели багрово-черное отверстие у виска. Они взглянули на это лицо, но лучше всего было как можно скорее закрыть его платком, кончик которого торчал из грудного кармана Нафты.
Удар грома
Семь лет провел Ганс Касторп у живших здесь наверху – для сторонников десятичной системы это не достаточно круглое число и все же хорошее, по-своему удобное число, можно сказать – некое мифически-живописное временное тело, более приятное для души, чем, например, сухая шестерка. За всеми семью столами посидел он в столовой, за каждым около года. Под конец он оказался за «плохим» русским столом, вместе с двумя армянами, двумя финнами, одним бухарцем и одним курдом. Он сидел там, уже обросший небольшой бородкой, которую за это время отпустил, она была соломенного цвета и довольно неопределенной формы, в чем мы вынуждены видеть некоторое философское равнодушие к своей наружности. И мы должны пойти дальше и признать, что эта склонность пренебрегать собой была связана с подобной же тенденцией внешнего мира пренебрегать им. Начальство перестало изобретать для него лечебные диверсии. Помимо утреннего вопроса «хорошо» ли он спал, скорее риторического и задаваемого всем, гофрат теперь лишь изредка заговаривал с ним, да и Адриатика Милендонк (в ту пору, о которой мы говорим, у нее на глазу сидел вполне созревший ячмень) обращалась к нему далеко не каждый день. А если присмотреться повнимательнее – то даже очень редко, вернее – никогда. Его оставляли в покое – вроде того как оставляют в покое ученика, который пользуется своего рода приятным преимуществом: его уже незачем спрашивать, ему уже ничего не надо делать, так как он остается на второй год, это вопрос решенный; он идет не в счет и наслаждается некоей оргиастической формой свободы, добавим мы, причем возникает вопрос, может ли свобода быть иной и иметь иную форму. Во всяком случае, начальству уже незачем было следить за ним бдительным оком – все убедились, что он не будет вынашивать в душе какие-то своевольные и упрямые решения, это пациент надежный и окончательный, он уже давно не представляет себе, где же можно жить еще, кроме «Берггофа», ему чужда самая мысль о возможном возвращении на родину… И не признаком ли известной беззаботности в отношении его особы было то, что его посадили за «плохой» русский стол? Мы этим вовсе не хотим сказать решительно ничего унизительного про «плохой» русский стол! Ни у одного из всех семи столов не было никаких явных преимуществ или недостатков. Смело выражаясь, в санаторской столовой царила демократия почетных столов. Сидящим за ним, как и за остальными, подавались такие же сверхобильные трапезы, сам Радамант в порядке очереди садился за него, складывая перед тарелкой свои ручищи; а представленные здесь народности были заслуживающими всякого уважения сочленами человечества, хоть они и не знали латыни и не жеманничали за едой.
Время – не такое, как на вокзальных часах, где большая стрелка рывком отмечает сразу протекшие пять минут, а скорее такое, как на крошечных часиках, когда движение стрелки остается неуловимым, или такое, когда незримо для глаз растет трава, хотя втайне она все же вырастает, и в один прекрасный день это становится совершенно очевидным; время, эта линия, состоящая сплошь из непротяженных точек (неправедно окончивший жизнь Нафта, вероятно, спросил бы, как могут сплошные непротяженности образовать линию), – итак, время продолжало, крадучись и незримо, сокровенно и все же деятельно вынашивать перемены. Так, для примера, мальчик Тедди в один прекрасный день, – но, конечно, не «в один день», а неизвестно, с какого именно дня, перестал быть мальчиком. Дамам уже было неудобно сажать его на колени, когда он временами вставал с постели, вместо пижамы надевал спортивный костюм и спускался вниз. Незаметно дело приняло другой оборот, и он сам в таких случаях сажал их на колени, что доставляло обеим сторонам такое же удовольствие, а может быть и большее. Он стал юношей, не скажем – он расцвел, но вытянулся: Ганс Касторп долго не замечал этого, а потом вдруг заметил. Впрочем, ни время, ни быстрый рост не пошли на пользу юноше Тедди, он не был для этого предназначен. Время не благословило его – на двадцать первом году он умер от болезни, к которой оказался слишком восприимчивым, и в его комнате, как обычно, произвели уборку. Мы рассказываем об этом таким спокойным тоном оттого, что между его прежним и новым состоянием не было особой разницы.
Но бывали и более серьезные смертные случаи, происходившие внизу на равнине. Они ближе затрагивали нашего героя, вернее затронули бы раньше. Мы имеем в виду только что наступившую кончину старика консула Тинапеля, померкшей памяти двоюродного деда и воспитателя Ганса. Консул тщательно избегал вредного для него атмосферного давления и предоставил осрамиться дяде Джемсу, когда тот попал в горы; но в конце концов дед все же не избежал удара, и краткая телеграмма, составленная, однако, бережно и деликатно, скорее из внимания к усопшему, чем к адресату, однажды пришла наверх и была вручена внуку, когда он лежал в своем превосходном шезлонге; после чего Ганс Касторп купил почтовую бумагу с черной каймой и написал своим двоюродным дядям, что он, сирота, потерявший отца и мать, теперь осиротел в третий раз и огорчен тем, что ему запрещено и отказано в возможности прервать свое пребывание здесь и проводить двоюродного деда к месту последнего упокоения.
Говорить о скорби было бы украшательством, все же в глазах Ганса Касторпа появилось в те дни более задумчивое выражение. Смерть деда и раньше не вызвала бы в нем особенно сильных чувств, а после нескольких, весьма фантастических годиков, проведенных вдали от родины, возможность подобных чувств почти совсем иссякла; и все же эта смерть порвала еще одну нить, еще одну связь с областью живущих внизу и придала тому, что Ганс Касторп справедливо называл свободой, завершающую полноту. Действительно, за последнее время, которое мы описываем, общение молодого человека с равниной совершенно прекратилось. Он не писал туда, и ему не писали. Он не получал оттуда даже «Марии Манчини», ибо нашел здесь наверху другую марку, которая ему понравилась, и он стал ей так же верен, как и своей прежней подруге: этот сорт помог бы даже полярникам во льдах перенести самые суровые испытания, и, сделав запас таких сигар, человек словно ложился на берег моря и мог многое выдержать; это была особенно тщательно изготовленная сигара, названная «Клятва на Рютли»[218], – немного плотнее, чем «Мария», мышиного цвета, с голубоватым кольцом; по своему характеру – очень мягкая и податливая, она так равномерно сгорала, превращаясь в устойчивый белоснежный пепел, причем сохранялись даже жилки верхнего листа, что могла заменить Гансу Касторпу песочные часы, да нередко и заменяла – карманных часов он уже не носил. Часы эти не шли, они упали с ночного столика, и он не потрудился их исправить и снова пустить в измеряющий время бег по кругу; в этом сказались те же причины, по каким он давно перестал обзаводиться календарями, ибо не стремился ни отрывать ежедневно календарный листок, ни заглядывать вперед, чтобы узнать, когда будет такой-то день или праздник, и делалась это ради «свободы», во имя «прогулок по берегу моря», в честь всегда и вечно пребывающего, к которому удалившийся от мира Ганс Касторп оказался столь восприимчив, что постижение скрытого в нем герметического волшебства стало главным событием его душевной жизни, и в этой сфере совершались все алхимические превращения скромных душевных сил нашего героя.
И вот он лежал опять на своем балконе, и снова, в разгаре лета, как и тогда, когда он приехал, смыкался год.
Тут грянул…
Но стыд и тревога удерживают нас от многословных описаний того, что грянуло и произошло. Здесь уж недопустимо никакое хвастовство, никакие охотничьи рассказы! Сообщим, сдерживая голос, что грянул тот гром, который мы все предчувствовали, что раздалась оглушительная детонация давно накоплявшегося губительного тупоумия и вражды – исторический удар грома, который, если говорить об этом с весьма умеренным уважением, потряс земные основы; а для нас этот удар грома взорвал Волшебную гору и весьма грубо выбросил нашего сонливца за ворота «Берггофа». Ошеломленный сидит он на траве и протирает себе глаза, ибо, несмотря на все увещания, не удосужился вовремя почитать газеты.
Его средиземный друг и наставник неизменно старался хоть как-то помочь ему и держать это трудновоспитуемое дитя в курсе событий, происходивших внизу, сообщая о них хотя бы в самых общих чертах; но ученик слушал его неохотно, ибо, хотя он, «управляя», и грезил о некиих духовных тенях предметов, но на сами предметы не обращал внимания, – из высокомерной склонности принимать тени за предметы, а в предметах видеть только тени – за что его особенно и винить нельзя, ибо их взаимоотношения до сих пор не выяснены окончательно.
Все уже происходило не так, как раньше, когда Сеттембрини, сидя у постели принявшего горизонтальное положение Ганса Касторпа и установив, что он болен, старался воздействовать на него в решении вопросов о жизни и смерти и исправлять его. Наоборот, зажав руки между коленями, теперь Ганс Касторп сидел у постели гуманиста, в его спаленке, или возле его дневного ложа, в укромной и уютной студии – мансарде, с карбонарскими стульями и графином, развлекал его и вежливо выслушивал его рассуждения по поводу международных событий: уже редко бывал господин Лодовико на ногах. Ужасная смерть Нафты, террористический акт впавшего в отчаянье спорщика явились тяжелым ударом для его чувствительной натуры, он никак не мог от него оправиться и с тех пор ощущал все большую слабость и вялость. Его работа над «Социологией страданий» приостановилась, словарь всех художественных произведений, в которых изображалось человеческое страдание, не двигался, и некая «Лига» тщетно ждала соответствующего тома своей энциклопедии; Сеттембрини был вынужден сильно ограничить свое сотрудничество в организации прогресса и свести его к устным высказываниям, а дружеские посещения Ганса Касторпа давали ему эту возможность, иначе он был бы лишен и ее.
Он говорил слабым голосом, но много, красиво и горячо о самосовершенствовании человека на путях общественной жизни. Речь его, казалось, шла «голубиной поступью», но когда он касался объединения всех освобожденных народов ради всеобщего счастья, то к ней – хотя он, вероятно, не чувствовал и не хотел этого – примешивалось нечто подобное шуму орлиных крыльев; и это бесспорно делала его страсть к политике – наследию деда, которая, в сочетании с гуманистическим наследием отца, породила в нем любовь к изящной словесности, совершенно так же, как гуманизм и политика соединились в высокой и торжественной, как тост, идее цивилизации, полной голубиной кротости и орлиной смелости, ожидавшей своего дня, утра народов, когда принцип косности будет разбит и возникнет священный альянс всей буржуазной демократии… Впрочем, тут чувствовалась некоторая неувязка. Сеттембрини был гуманистом, но вместе с тем и именно потому, – хоть он и не охотно сознавался в этом, – чувствовал в себе воинственность. Во время дуэли с яростным Нафтой он вел себя в полном смысле слова как человек; но если человечность вдохновенно сочеталась с политикой, с идеей победы и господства цивилизации и копье гражданина освящалось на алтаре человечества, – становилось сомнительным, удержит ли он свою руку от пролития крови; а внутренние причины и импульсы все больше содействовали тому, что в возвышенных умонастроениях Сеттембрини элементы орлиной смелости все решительнее оттесняли голубиную кротость.
Его отношение к международным группировкам бывало нередко двойственным, оно затуманивалось сомнениями и неуверенностью. Еще недавно, годика полтора или два тому назад, он высказывал в разговоре с Гансом Касторпом беспокойство по поводу дипломатических совместных действий его отечества и Австрии; они, с одной стороны, воодушевляли его, так как были направлены против некультурной полуазиатской страны, против кнута и Шлиссельбурга, а с другой – мучили, ибо это был недостойный союз с исконным врагом, с принципом косности и порабощения народов. Большие займы, которые прошлой осенью Франция предоставила России для постройки железнодорожной сети в Польше, вызвали в нем столь же противоречивые чувства. Ибо Сеттембрини принадлежал к франкофильской партии в своей стране, и тут нечему удивляться, ведь недаром его дед приравнял дни июльской революции к дням сотворения мира; но соглашение этой просвещенной республики с византийскими скифами морально смущало его, – однако при мысли о стратегическом значении этой железнодорожной сети тягостная тревога сменялась облегчающей сердце надеждой и радостью. Затем произошло убийство эрцгерцога, оно послужило для всех, кроме немецких сонливцев, сигналом тревоги, указанием для понимающих, к которым мы с полным правом можем причислить и Сеттембрини. Ганс Касторп видел, что он как человек содрогается от такого злодейства, но видел также его радостное волнение при мысли о том, что это – деяние народное и освободительное, направленное против ненавистной ему цитадели зла[219], хотя нельзя было забывать, что акт этот – результат московских усилий. Сеттембрини очень тревожился, что не помешало ему спустя три недели назвать ультимативные требования, предъявленные некоей монархией к Сербии[220], оскорблением человечества и чудовищным преступлением, – с точки зрения его последствий, в характер которых он был посвящен; но как раз их масон, задыхаясь, приветствовал…
Словом, переживания Сеттембрини были весьма сложными, как и то роковое событие, за быстрым назреванием которого он наблюдал, пытаясь намеками открыть на него глаза своему воспитаннику; однако национальная вежливость и жалость мешали ему высказаться по этому поводу без всяких обиняков. В первые дни мобилизации, в дни первого объявления войны, он взял привычку протягивать гостю обе руки и пожимать ему руки, что глубоко трогало нашего дуралея, но смысл такого отношения к нему не очень доходил до его сознания.
– Друг мой! – восклицал итальянец. – Порох, печатный станок – конечно, именно вы когда-то изобрели их! Но если вы полагаете, что мы выступим против революции… Саго…
В дни тоскливого, мучительного, как пытка, ожидания, когда нервы всей Европы были напряжены до отказа, Ганс Касторп не виделся с Сеттембрини. Беснующиеся газеты проникали теперь из глубин равнины прямо к нему на балкон, пронизывали дрожью весь дом, наполняли удушливым смрадом пороха столовую и даже комнаты тяжелобольных и морибундусов. Это были секунды, когда сонливец, очутившись неведомо как на траве лужайки, еще не понимая, что случилось, медленно приподнялся, потом сел и протер глаза… Но дорисуем эту картину, чтобы верно воспроизвести движения его души. Подобрав ноги, он встал и посмотрел вокруг. Он понял, что расколдован, спасен, освобожден, но не себе обязан этим, как вынужден был со стыдом признаться, а выброшен из прежней жизни внешними силами, для которых его освобождение было делом весьма второстепенным и, так сказать, побочным. Хотя его скромная судьба и исчезала на фоне всеобщих судеб человечества, не выражалась ли и в ней какая-то предназначенная лично ему, а следовательно, божественная доброта и справедливость? Не допустила ли опять к себе жизнь свое грешное и трудное дитя, но без посулов дешевого благополучия, а только так вот – строго и серьезно, через испытание, которое, может быть, означало совсем не жизнь, а три почетных залпа в честь его, грешника? И вот он встал на колени, подняв глаза и руки к небу, – хоть и сернисто-серое, оно уже не было пещерным сводом над Греховной горой[221].
В этой позе его и застал Сеттембрини, – выражаясь, конечно, образно, ибо в действительности чопорность нашего героя не допустила бы столь театрального зрелища. В чопорной действительности ментор застал его за укладыванием чемоданов, ибо Ганс Касторп с минуты своего пробуждения оказался втянутым в суету и водоворот торопливых отъездов, вызванных все взорвавшим громовым ударом, прогремевшим на низменности. «Отечество» напоминало развороченный муравейник. Колония живших здесь наверху очертя голову ринулась вниз, на глубину пяти тысяч футов, в долину испытаний, повисая на подножках игрушечного поезда, побросав багаж, который лежал штабелями на перроне вокзала, кишевшего людьми, вокзала, до которого как будто уже доносилась удушливая гарь сражений; и Ганс Касторп ринулся вместе со всеми. Среди этой сумятицы его обнял Лодовико, в буквальном смысле слова, и как южанин (или как русский) расцеловал в обе щеки, что очень смутило самовольно уезжавшего ученика. Но он чуть совсем не потерял самообладание, когда Сеттембрини в последнюю минуту назвал его просто по имени, то есть «Джованни», и, пренебрегая принятой на цивилизованном Западе формой обращения, назвал его на «ты»!
– Е cosi in giu, – сказал он, – in giu finalmente! Addio, Giovanni mio.[222] Я желал для тебя другого отъезда, ну что ж, боги решили так, а не иначе. Я надеялся, что ты уедешь работать, а теперь тебе предстоит сражаться среди своих. Боже мой, оказалось, что это суждено именно тебе, а не нашему лейтенанту. Как нами играет жизнь… Сражайся храбро там, где близкие тебе по крови! Большего сейчас никто не может сделать. А меня прости, если я остаток своих сил отдам на то, чтобы и мою страну вовлечь в борьбу на той стороне, которую ей укажет ее дух и ее священные интересы! Addio!
Ганс Касторп просунул голову среди десятка других голов, занявших все окошко, и закивал поверх них. Сеттембрини тоже помахал ему правой рукой, а безымянным пальцем левой слегка коснулся уголка глаза.
Где мы? Что это? Куда забросило нас сновиденье? Сумерки, дождь и грязь, багровое зарево на хмуром небе, а небо беспрерывно грохочет тяжким громом, им наполнен сырой воздух, разрываемый ноющим свистом, яростным, дьявольски нарастающим воем, который, взметнув осколки, брызги, треск и пламя, завершается стонами, воплями, оглушительным звоном труб и барабанным боем, подгоняющим людей вперед все быстрее, быстрее… Вон лес, из него льются бесцветные толпы солдат, они бегут, падают, прыгают. Вот цепь холмов на фоне далекого пожарища, его багрянец порой словно сгущается, и из него взлетает пламя. Вокруг нас волнистая пашня, изрытая, истерзанная. По краю леса тянется грязное, покрытое ветками шоссе; от него, изгибаясь дугой, ведет к холмам непроходимый проселок, весь в кочках и рытвинах. В лесу – голые, без ветвей обрубки деревьев!.. Вот дорожный указатель, но бесполезно обращаться к нему, густой сумрак не дал бы нам прочесть надпись на доске, если бы даже она не была выщерблена снарядом. Восток или Запад? Это равнина, это война. А мы, испуганные призрачные тени на дороге, постыдно ищущие призрачной безопасности и отнюдь не склонные к хвастовству и охотничьим рассказам, но приведенные сюда духом нашего повествования, чтобы среди серых, бегущих, падающих и подгоняемых вперед барабаном солдат, которые высыпают из леса, отыскать нашего спутника стольких лет, нашего добродушного грешника, чей голос мы так часто слышали, и еще раз заглянуть в его бесхитростное лицо, перед тем как окончательно потерять его из виду.
Солдат этих доставили сюда, чтобы оказать решительное влияние на исход сражения, продолжавшегося уже целый день и имевшего целью снова овладеть позицией на холмах и расположенными позади них пылающими деревнями, которые два дня назад были захвачены противником. Это полк, состоящий из добровольцев, все молодежь, в большинстве – студенты, они на фронте недавно. Их подняли по тревоге среди ночи, везли до утра поездом, потом они шли полдня пешком под дождем, по ужасным дорогам, – и даже не по дорогам, которые были забиты, а шагать пришлось по болотам и пашням, семь часов подряд, в намокших шинелях, в полном снаряжении, это была отнюдь не увеселительная прогулка; чтобы не потерять сапоги, приходилось чуть не на каждом шагу наклоняться и, засунув палец в ушко, вытаскивать ногу из жидкой грязи. Поэтому им понадобился целый час, чтобы пересечь небольшую луговину. И вот они здесь, их молодость все преодолела, их взволнованные и уже измученные тела, чье напряжение поддерживается глубочайшими резервами жизненных сил, не жаждут отнятого у них сна и не требуют пищи. Их мокрые, забрызганные грязью, обрамленные ремешками лица под обтянутыми серыми, сдвинутыми назад шлемами горят. Они горят от усталости и от потерь, понесенных ими при прохождении через болотистый лес. Ибо враг, узнав о их приближении, с помощью шрапнелей и крупнокалиберных гранат открыл перед ними заградительный огонь; он еще в лесу обрушился на их группы, выбивая людей из строя, и с ревом, брызгами и пламенем хлещет теперь по широкому перелогу.
Они должны пройти перелог, эти три тысячи лихорадочно возбужденных мальчиков, они в качестве пополнения должны решить исход атаки на окопы, вырытые перед холмами и позади них, атаки на горящие деревни и продвинуться до определенного пункта, обозначенного в приказе, который лежит в кармане у командира. Их три тысячи, чтобы могло остаться хоть две, когда они дойдут до холмов и деревень; в этом – смысл их численности. Они – единое тело, рассчитанное на то, чтобы даже при больших потерях оно еще было в силах действовать и побеждать, все еще приветствовать победу тысячеголосым «ура», невзирая на то, что многие отстали, выбыли из строя. Не один выбыл еще во время форсированного марша, для которого они оказались слишком молодыми и хрупкими. Побледнеет, покачнется такой юноша, с ожесточением потребует от себя мужества и все-таки в конце концов отстанет. Плетется некоторое время подле маршевой колонны, рота за ротой обгоняет его, и вот он уже свалился где попало. Начался расщепленный лес. Но из него выходит еще много солдат; три тысячи могут выдержать сильное кровопусканье, они и тогда еще – кишащая людьми воинская часть. Вот они уже наводняют исхлестанную непрерывными дождями местность, шоссе, проселок, поля с непролазной грязищей. Мы, зрячие тени, скоро оказываемся посреди них. На опушке они заученными точными движениями примыкают штык, далеким громом гремит барабанная дробь, и они бросаются вперед, кричат срывающимися голосами, с трудом, как в кошмаре, передвигая ноги, ибо комья земли прилипают свинцовой тяжестью к их неуклюжим сапогам.
Они бросаются наземь, когда на них с воем летит снаряд, снова вскакивают и спешат дальше с по-юношески срывающимися криками, радуясь, что в них не попало. Но потом снаряд попадает, и они валятся, взмахивая руками, раненные в лоб, в сердце, в живот. И вот они уже лежат, уткнувшись лицом в грязь, они неподвижны. Лежат, горбатясь ранцами, зарывшись затылком в землю, и судорожно цепляются руками за воздух. А лес высылает новых, и те тоже бросаются наземь, и вскакивают, и с криком или молча, спотыкаясь, спешат вперед между выбывшими из строя.
Молодежь, с ее ранцами и примкнутыми штыками, в облепленных грязью сапогах и шинелях! Можно было бы с гуманистическим прекраснодушием рисовать себе и совсем другие картины. Можно было бы представить себе следующее: вот эти юноши объезжают лошадей и купают их в морской бухте, вот они прогуливаются с возлюбленными по берегу моря, и один из них что-то шепчет на ухо покорной невесте, вот они с радостным дружелюбием обучают друг друга стрельбе из лука, А вместо этого они лежат, уткнувшись носом в грязь и пепел. Они идут на все это с радостной готовностью, хоть и с беспредельным страхом и невыразимой тоской по родному дому; это возвышенно, и, глядя на них, становится стыдно, но это не должно было бы служить оправданием для того, чтобы ставить их в такое положение.
А вот и наш знакомый, вот Ганс Касторп! Мы уже издали узнали его по бородке, которую он отпустил, сидя за «плохим» русским столом. Он, как и все, пылает, как и все, промок. Он бежит, его ноги отяжелели от черноземной грязи, рука сжимает на весу винтовку с примкнутым штыком. Смотрите, выбывшему из строя товарищу он наступил на руку подбитым гвоздями сапогом, он глубоко затаптывает эту руку в покрытую обломками ветвей вязкую землю. И все-таки это он. Что? Он поет? Так поют иногда, ничего не замечая вокруг, так пел вполголоса и он, оцепенев, в волнении, без мыслей, пользуясь своим отрывистым дыханием:
В кору ее я врезал Немало нежных слов…[223]Он падает. Нет, он бросается плашмя на землю, оттого что ему навстречу несется адский вой, это крупный бризантный снаряд, мерзкая сахарная головка из преисподней. Он лежит, прижавшись лицом к прохладной грязи, раскинув ноги, вывернув ступни и упираясь каблуками в землю. Тяжелый снаряд, продукт одичавшей науки, начиненный всем, что есть худшего на свете, в тридцати шагах от него, словно сам дьявол, глубоко вонзается в землю, в ней разрывается с гнусной чудовищной силой и выбрасывает высокий, как дом, фонтан земли, огня, железа, свинца и растерзанных на куски людей. Ибо там лежали двое – они были друзьями и легли рядом в минуту опасности; теперь их останки смешались и исчезли.
О, какой позор – эта наша безопасность теней! Прочь! Этого мы рассказывать не будем! Попал ли осколок и в нашего знакомого? На миг ему показалось, что да. Огромный ком земли ударил его по голени, правда, было больно, но это вздор. Он поднимается, хромая бредет дальше отяжелевшими от земли ногами, продолжая напевать:
И ве-е-тви зашуме-е-ли, При-зы-вно шелестя… Так, в толчее, под дождем, в сумерках, мы теряем его из виду.Прощай, Ганс Касторп, простодушное, но трудное дитя нашей жизни! Повесть о тебе окончена. Мы досказали ее; время в ней и не летело и не тянулось, ибо это была повесть герметическая. Мы рассказали ее ради нее самой, не ради тебя, ибо ты был простецом. Но в конце концов это все же повесть о тебе; и так как рассказанное в ней приключилось именно с тобой, вероятно в тебе все же было что-то, и мы не отрицаем той педагогической привязанности к тебе, которая в нас возникла по мере того как развивалось повествование и которая могла бы заставить нас слегка коснуться уголка глаза, при мысли о том, что в дальнейшем мы тебя больше не увидим и не услышим.
Счастливого пути – останешься ли ты жив, или нет! Надежды на жизнь у тебя небольшие: злая свистопляска, в которую ты вовлечен, продлится еще не один грешный годик, и мы не можем биться об заклад, что ты уцелеешь. Говоря по правде, мы с некоторой беззаботностью оставляем этот вопрос открытым. Приключения твоей плоти и духа, углубившие твою простоту, дали тебе возможность пережить в духе то, что тебе едва ли придется пережить в теле. Бывали минуты, когда из смерти и телесного распутства перед тобою, как «правителем», полная предчувствий будущего, возникала греза любви. А из этого всемирного пира смерти, из грозного пожарища войны, родится ли из них когда-нибудь любовь?
1
Гафки Георг (1850—1918) – известный немецкий микробиолог и эпидемиолог, открывший бациллу брюшного тифа.
(обратно)2
«Хорошенький буржуа с влажным очажком» (франц.)
(обратно)3
…пришелся вам по вкусу гранат? – Намек на античный миф о похищении Персефоны, которая вкусила в подземном царстве Аида гранатовое яблоко – символ брака и была навеки обречена проводить там одну треть года.
(обратно)4
Лейтенант (итал.)
(обратно)5
Суше (итал.)
(обратно)6
Надменность, высокомерие (греч.)
(обратно)7
«Я – царь Вавилонский!» – цитата из библии, книга пророка Даниила, гл. 4.
(обратно)8
Конечно (итал.)
(обратно)9
Например (итал.)
(обратно)10
Да или нет? (итал.)
(обратно)11
…и вы не страшитесь… вихря, бушующего во втором круге ада… – намек на пятую песнь поэмы Данте «Ад», где грешников уносит жестокий вихрь – символическая кара, напоминающая о вихре обуревавших их при жизни страстей.
(обратно)12
Великий боже (итал.)
(обратно)13
Бесстыдный (лат.)
(обратно)14
Водолей (лат.)
(обратно)15
…Уран ведь открыли… совсем недавно… – Планета Уран была открыта в 1781 г. английским астрономом Вильямом Гершелем (1738—1822).
(обратно)16
«Princeps scholasticorum» (лат. «князь схоластов») – прозвище Фомы Аквинского (1225—1274), одного из столпов средневековой схоластики, создавшего философско-энциклопедическую систему своего времени, в которой он пытался сочетать философию Аристотеля с ортодоксальным учением римско-католической церкви. Канонизирован в 1323 г.
(обратно)17
Аретино Пьетро (1492—1557) – итальянский поэт, драматург, сатирик и публицист эпохи Возрождения, прозванный «бичом государей» за язвительные памфлеты против папского двора и владетельных князей.
(обратно)18
Катарина (Екатерина) Сиенская (1347—1380) – святая римско-католической церкви, известная своей фанатической деятельностью, направленной на примирение итальянских городов с папой Урбаном VI и его возвращение из Авиньона в Рим, реформу церкви и возобновление крестовых походов.
(обратно)19
Аристотелю свойственно искать боя (лат.)
(обратно)20
Бонавентура Иоанн Фиденца (1221—1274) – итальянский ученый-богослов и схоластик, монах-францисканец, впоследствии генерал францисканского ордена, папский легат и кардинал. Канонизирован и причислен к пяти великим учителям церкви.
(обратно)21
Бернар Клервоский (около 1091—1153) – французский церковный деятель и духовный писатель-мистик, Монах цистерианского ордена, настоятель основанного им монастыря в Клерво (Бургундия). Вдохновитель и организатор второго крестового похода в 1146 г. Канонизирован в 1174 г.
(обратно)22
Полно, полно! (итал.)
(обратно)23
Лаоцзы (Ли Эр, конец VI – начало V в. до н.э.) – древнекитайский философ, которому приписывается книга «Лаоцзы», или «Дао дэ цзин», где опровергается существование бога и резко обличаются религиозные и социально-политические традиции того времени. Философия Лаоцзы (даосизм) проповедует недеяние как идеал, к которому должен стремиться человек, ибо, согласно взглядам Лаоцзы, люди способны лишь понять окружающий их мир, но не в силах изменить его.
(обратно)24
Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мотт (1651—1715) – французский писатель, педагог и богослов, член Парижской Академии наук, архиепископ в Камбре.
(обратно)25
Молинос Мигель (1640—1696) – испанский мистик и богослов, основатель религиозно-философской системы квиетизма.
(обратно)26
Ну (итал.)
(обратно)27
Человека божьего (лат.)
(обратно)28
…видите в прогнившей державе… мумию Священной Римской империи германской нации! – Речь идет о настроениях, господствовавших в то время в иезуитских кругах, которые усматривали в Австрии Габсбургов наследницу исторических традиций средневековой «Священной Римской империи германской нации», основанной в 962 г. германским королем, позднее императором, Оттоном I и формально продолжавшей существовать вплоть до 1806 г.
(обратно)29
Гофбург – императорский дворец в Вене.
(обратно)30
Бреннер – перевал в Ретийских Альпах между Инсбруком и Штерцингом.
(обратно)31
Оперятся, как орлы… (лат.)
(обратно)32
Град божий – идеал всемирной христианской теократии, провозглашенный Августином Блаженным (см. прим. к стр.79) в его книге «О граде божьем» («De civitate Dei»).
(обратно)33
Божественного права (лат.)
(обратно)34
…наш мастер ложи… – Мастер ложи – высшая Степень масонства до второй половины XVIII в. Здесь в смысле – масон.
(обратно)35
«Лишь на горах живет свобода» – слова хора из драмы Ф.Шиллера «Мессинская невеста» (ночная сцена в «Колонном зале»).
(обратно)36
Потерять себя и даже погибнуть (франц.)
(обратно)37
Здесь: всюду и везде (франц.)
(обратно)38
«Пиета» (итал. сострадание, скорбь) – название картин и скульптур, изображающих богоматерь с телом снятого с креста Иисуса Христа.
(обратно)39
Господин (франц.)
(обратно)40
Симптом омертвения (лат.)
(обратно)41
Иннокентий III (1198—1216) – папа римский, ярый поборник идеи всемирной теократии римско-католической церкви, впервые выдвинул положение о примате церковной власти над светской и сделал многих западногерманских государей своими вассалами Выступал проповедником крестовых походов, заложил основы инквизиции.
(обратно)42
«О жалком человеческом уделе» (лат.)
(обратно)43
Черт возьми! (итал.)
(обратно)44
Вот так случай! (итал.)
(обратно)45
…с Вольтером, который во имя разума протестовал против… лиссабонского землетрясения? – Имеется в виду поэма Вольтера «О бедствии Лиссабона», посвященная лиссабонскому землетрясению 1 ноября 1755 г.
(обратно)46
Конрад Марбургский (вторая половина XII в. – 1233) – немецкий инквизитор, проповедник крестовых походов, отличавшийся исключительным фанатизмом и жестокостью.
(обратно)47
…машина, с помощью которой Конвент очищал мир от плохих граждан – Имеется в виду орудие казни – гильотина.
(обратно)48
Августин Аврелий, прозванный Блаженным (354—430) – епископ из Гиппиона (Северная Африка), один из первых отцов церкви, виднейший представитель патристики – раннехристианской теологии, провозгласившей примат веры над разумом и греховность материи и человеческой природы.
(обратно)49
Что и требовалось доказать (лат.)
(обратно)50
Профессор (итал.)
(обратно)51
Лактанций Люций Целий Фирмиан (III в.) – писатель, ритор и стихотворец, прозванный «христианским Цицероном». Был наставником при старшем сыне Константина I Великого (274—337) – римского императора, сделавшего христианство государственной религией греко-римского мира и тем способствовавшего окончательной победе христианства над язычеством.
(обратно)52
Превосходно! (итал.)
(обратно)53
Григорий Великий – папа римский Григорий VII (Гильдебранд, около 1020—1085) – один из крупнейших церковных деятелей XI в., развивший программу всемирной теократии Ватикана.
(обратно)54
…Григорий сказал: «Да будет проклят убоявшийся обагрить кровью меч свой!» – Речь идет о «праве меча» (jus gladii), то есть праве римско-католической церкви убивать и предавать смертной казни за чисто церковные преступления (например, за ересь).
(обратно)55
…с вашим манчестерским либерализмом… – Имеется в виду манчестерская школа либеральных английских экономистов первой половины XIX в. – Кобдена, Брайта и других, защищавших в своей политической деятельности и теоретических работах принципы свободной торговли и подвергавших резкой критике попытки английского правительства усилить и закрепить законодательными актами монополистические тенденции развития английского капитализма. Они выступали против введения пошлин на хлеб, против закона об ограничении рабочего дня и т.д.
(обратно)56
«Roma locuta» – начальные слова латинского изречения «Roma locuta – causa finita» («Рим высказался, дело кончено»), означающего, что после авторитетного решения папы спор прекращается.
(обратно)57
Прощайте, падре! (итал.)
(обратно)58
Хорошенький иезуит с влажным очажком (франц.)
(обратно)59
…исторические даты всегда были ее «поликратовым перстнем»… – Невежественная фрау Штер, очевидно, хочет сказать: «ахиллесовой пятой», то есть уязвимым местом.
(обратно)60
Очень может быть, что он умрет (франц.)
(обратно)61
Джентльмены (англ.)
(обратно)62
Похоть, сладострастие (лат.)
(обратно)63
Геркулесовы столпы – древнее название Гибралтара.
(обратно)64
Не какой-нибудь синьор Аморозо… – намек на театральный термин primo amoroso – первый любовник.
(обратно)65
Хорошо (франц.)
(обратно)66
Племянника (франц.)
(обратно)67
Духовные упражнения (лат.)
(обратно)68
Что-то в нем было… от пророка, баал-шема или цадика… – Баал-шем (древнеевр. букв. «знающий имя») – чудотворец; цадик – праведник, святой. Баал-шемом звали также Израиля Бешта (около 1700—1760), основателя и главу еврейской религиозно-мистической секты хасидов, возникшей в первой половине XVIII в. на Волыни, в Подолии и Галиции как оппозиция беднейших слоев еврейства против официального иудаизма.
(обратно)69
Форарльберг – горная местность в Альпах, по соседству с Тиролем.
(обратно)70
Рейхсрат – государственный совет в бывшей Австро-Венгрии.
(обратно)71
…Гегеля в качестве прусского государственного философа… – Имеется в виду деятельность крупнейшего представителя немецкой классической философии, основоположника диалектического метода Георга-Вильгельма-Фридриха Гегеля (1770—1831) в «берлинский период», когда Гегель по приглашению правительства Пруссии занял кафедру философии в Берлинском университете. В этот период им были написаны «Философия права» (1821), обосновывавшая права Пруссии на гегемонию в германском мире, и «Философия истории» (вышедшая посмертно, в 1837 г.), где провозглашалось право Германии на мировое владычество.
(обратно)72
…пиетистская… сфера протестантизма. – Пиетизм (от лат. pietas – благочестие) – направление в лютеранской церкви, основанное в XVII в. священником Филиппом Якобом Шпенером (1635—1705), резко враждебное науке и просветительской философии.
(обратно)73
«Утренней звезды» (лат.)
(обратно)74
…сменил приволье пансиона на жизнь в доме для испытуемых… – Желающие быть допущенными в члены иезуитского ордена в течение двадцати дней живут в «домах испытаний» (domus probationis), где подвергаются строгому искусу, наблюдениям и расспросам со стороны «испытующего». После этого они принимаются в «испытуемые» и в течение двух лет проходят суровую школу орденской дисциплины.
(обратно)75
Что ты на это скажешь? (лат.)
(обратно)76
Провинциал – в иезуитском ордене – глава особого района, «провинции», на которые орден разделил весь мир.
(обратно)77
…принесший «простые» обеты… – Имеются в виду обычные монашеские обеты, обязательные и для членов иезуитского ордена – целомудрие, бедность, послушание.
(обратно)78
…ордене Нафты, возникшем… в Испании… – Идея основать орден, по преданию, возникла у Лойолы в 1522—1523 гг., когда он находился в небольшом каталонском городке Манрезе.
(обратно)79
…принятое в обществе Иисуса расписание духовных упражнений… – Речь идет о книге Игнатия Лойолы «Духовные упражнения» («Exercitia spiritualia»), которая положила начало иезуитской педагогической системе и которой в 1548 г. папа Павел III особой буллой придал каноническое значение.
(обратно)80
Главнокомандующий (исп.)
(обратно)81
Всегда нападайте (франц.)
(обратно)82
Рыцари-храмовники. – Храмовники, или тамплиеры (от франц. temple – храм), – духовно-рыцарский орден, основанный в 1119 г. в Иерусалимском королевстве для обороны государств крестоносцев от мусульман.
(обратно)83
«Вечный покой (даруй ей, господи)» (лат.) – начальные слова католической заупокойной мессы.
(обратно)84
…увидит там в углу покойного своего папашу… – Намек на явление отца Гамлету («Гамлет, принц Датский», акт I, сцены 4 и 5).
(обратно)85
Одержимых (итал.)
(обратно)86
Рыцарь солнца, наместник Соломона – титулы масонских высших степеней. Здесь в смысле – масон.
(обратно)87
Святая Елизавета (1207—1231) – ландграфиня Тюрингенская, дочь венгерского короля Андрея II и жена ландграфа Тюрингенского Людвига IV. После смерти мужа-крестоносца удалилась в изгнание и предалась религиозно-аскетическому подвижничеству.
(обратно)88
…формула «повиноваться, как падло»… – Имеется в виду Правило 36 «Правил, необходимых для согласия с церковью» (приложение к книге Игнатия Лойолы «Духовные упражнения»), которое гласит: «Пусть каждый убедит себя, что те, которые живут в послушании, должны вверять себя руководству и управлению божественного Провидения, через посредство Начальников, как если бы были мертвым телом, которое можно повернуть в любом направлении, или же палкой старика, которая служит тому, кто ее держит в руке, в любом месте и для любого употребления».
(обратно)89
Свинство (итал.)
(обратно)90
Еще чего! (итал.)
(обратно)91
Иллюминат – член тайного общества иллюминатов, основанного в 1776 г. в Баварии Адамом Вейсгауптом (1748—1830) и стремившегося к замене монархии республикой, а христианства – деизмом.
(обратно)92
Хорошенький иезуит с влажным очажком (франц.)
(обратно)93
Поистине он преступен! (итал.)
(обратно)94
Разве искусство управления государством и воспитание не представляли излюбленного поля деятельности ордена, к которому принадлежал Нафта? – Иезуиты постоянно имели своих агентов при дворах и правящих кругах в качестве духовников и ближайших советников государей.
(обратно)95
Дипломированный авиатор и лейтенант германского флота (франц.)
(обратно)96
Лейтенанта (франц.)
(обратно)97
Эй, инженер, немножко благоразумия, знаете ли! (итал.)
(обратно)98
Проходит образ мира сего (лат.)
(обратно)99
Его, знаешь ли, надо вывинчивать (франц.)
(обратно)100
Разумом (итал.)
(обратно)101
Мешаниной, путаницей (итал.)
(обратно)102
Человеку понимающему – достаточно (лат.)
(обратно)103
Знамя (исп.)
(обратно)104
Бунт плоти (лат.)
(обратно)105
Святой Атоний – Антоний Фиванский (около 251—356) – пустынник-аскет, прозванный «отцом монашества». Страницы жития Антония Фиванского, особенно искушение его бесами, послужили темой для многих произведений искусства и литературы.
(обратно)106
…организации, которой через несколько лет предстояло справить свой двухсотлетний юбилей. – Первая масонская ложа в Европе, Великая Английская ложа, была основана в Лондоне в 1717 г.
(обратно)107
Неужто и он… вкладывает особый смысл в свое рукопожатие? – Имеются в виду знак, прикосновение и слово, по которым масоны во всем мире узнают друг друга. Знак: правой рукой провести горизонтально у шеи. Прикосновение: ноготь большого пальца левой руки прижать к первому суставу пальца на правой руке у «брата». Слово, произносимое «братьями» раздельно и по очереди, – «Якин», изредка также «Боаз».
(обратно)108
«Черная Храмина» – зал со стенами, обтянутыми черной материей, с окнами, занавешенными черными шторами, с черным столом, на котором лежали библия и человеческий череп; в углу стоял скелет, приводившийся в движение механизмом.
(обратно)109
…водили с завязанными глазами… направляя острия мечей в его обнаженную грудь. – Кандидата в члены ложи водили с повязкой на глазах, как символ того, чтобы он держал непосвященных во мраке неведения относительно тайн масонства. Лезвия мечей, которые ему приставляли к обнаженной груди в момент, когда повязка снималась, должны были напомнить ему о терзаниях совести, если он осмелится выдать тайну.
(обратно)110
…обет молчания он тем не менее дал. – Кандидат в члены ложи давал присягу хранить и ни под каким видом не выдавать тайных мистерий вольных каменщиков.
(обратно)111
Ваш волшебный жезл дрогнул и застучал. – Имеется в виду волшебный посох кладоискателей в немецких народных легендах, который безошибочно указывал местонахождение клада. Нафта хочет сказать, что Ганс Касторп обладает безошибочным чутьем.
(обратно)112
…была проведена реформа… масонских лож в смысле «строгого наблюдения»… – В Германии в 40-х гг. XVIII в. возникла система масонских лож «строгого наблюдения», введенная бароном фон Гундом и по существу явившаяся восстановлением средневекового духовно-рыцарского ордена тамплиеров.
(обратно)113
…ему обязаны своим существованием высокие степени… – Система «высоких степеней» («градусов»), или «шотландского масонства», была введена в 40-х гг. XVIII в. воспитателем английского короля Якова III шотландцем Рамзаем (1686—1743), связавшим историю масонства с крестовыми походами и мальтийским духовно-рыцарским орденом.
(обратно)114
Доктор ангелический (лат.)
(обратно)115
Мистическая физика (греч.) – одно из названий алхимии.
(обратно)116
Золотой напиток (лат.), жизненный эликсир.
(обратно)117
Философский камень (лат.)
(обратно)118
Двойственная вещь (лат.)
(обратно)119
Первичная материя (лат.)
(обратно)120
Гроб, могила всегда были символом посвящения в члены ордена. – В некоторых французских и швейцарских ложах существовал обряд, согласно которому «брат», посвящаемый в степень мастера, должен был лечь в гроб, где до него покоился один из членов ложи.
(обратно)121
…когда объясняют возникновение масонских лож из почтенного цеха каменщиков… – Согласно преданию, масонские ложи возникли из строительных товариществ, образовавшихся в Германии и Англии в XII-XIII вв. Само слово «ложа» (англ. lodge, нем. Bauhutte) первоначально означало барак, где хранились инструменты.
(обратно)122
…в празднестве роз; намеком на них являются три голубые розетки на масонском запоне… – Масонские праздники роз были связаны с символикой розенкрейцеров: роза и крест, радость и страдание едины. Запон – белый кожаный передник, напоминающий о фартуке каменщика, который дарился каждому новому члену ложи и являлся неотъемлемой принадлежностью масонского ритуала.
(обратно)123
Рыцарь наугольника. – Важную роль в масонском ритуале играли «три великих светильника масонства»: библия – чтобы научить вере членов ложи, наугольник – чтобы сделать прямыми их поступки, и циркуль – чтобы объединять их со всеми людьми и особенно с «братьями» масонами.
(обратно)124
«Журнал итальянских масонов» (итал.)
(обратно)125
…связанный теми террористическими обетами… – Здесь имеется в виду ритуальная формула присяги для кандидата в члены ложи: «Пусть мне будет перерезана шея, язык вырван с корнем и зарыт в морском песке, при низкой воде, за кабельтов расстояния от берега, где прилив и отлив проходят дважды в двадцать четыре часа…»
(обратно)126
…а из живых – короля Англии… – Имеется в виду Эдуард VII (1841—1910).
(обратно)127
…множество лиц, державших в руках судьбы европейских государств… – Масонами были многие коронованные особы и лица королевской крови.
(обратно)128
Что мы? Строители и подручные рабочие на постройке здания. – В масонстве имела широкое распространение символика, заимствованная из ремесленно-цехового уклада. Члены ложи называли себя «хозяевами постройки» и «строителями», свои нравственно-религиозные упражнения – «работой», а обстановку ложи – «украшениями, или клейнодами». Отсюда и название бога у масонов – «Великий Архитектор, или Зодчий вселенной».
(обратно)129
Новый Иерусалим – название «града божьего» в одноименной книге Августина Блаженного В истории масонства «Новым Иерусалимом», или «Новым Израилем», называлось мистическое общество, возникшее в Авиньоне в 80-х гг. XVIII в. во главе с польским авантюристом Грабянкой и имевшее последователей среди русских масонов.
(обратно)130
…искусство вольного каменщика – это искусство управления… – У масонов-иллюминатов существовала степень «правителя». Уже в последние годы XVII в., после вступления Вильгельма Оранского в одну из лондонских строительных лож, ремесло каменщика стало именоваться «королевским ремеслом», или «искусством царствования».
(обратно)131
Что за вопрос! (итал.)
(обратно)132
…существует в библии такой рассказ. – Имеется в виду разговор Христа с фарисеями (Евангелие от Марка, гл. 12).
(обратно)133
Верят масоны в бога? – Атеизм, исповедовавшийся многими масонскими ложами, послужил поводом для гонений на масонов со стороны церковных и светских властей во многих странах.
(обратно)134
Раздавите гадину (франц.)
(обратно)135
…«Великий Восток» Франции… подал пример, вычеркнув из всех своих документов имя божие… – «Великий Восток» Франции (Верховный совет объединенных французских лож) в 1877 г. постановил исключить из Устава слова, говорившие о существовании бога и бессмертии души.
(обратно)136
Дорогой друг! (итал.)
(обратно)137
Средневековья (итал.)
(обратно)138
…Данте… отвел ему в своей поэме столь почетную роль… – Намек на слова, с которыми Данте обращается к Вергилию, своему проводнику по чистилищу и аду: «Ты – мой вожатый, вождь и господин!» («Ад», песнь вторая, ст. 140).
(обратно)139
…этот придворный лауреат и блюдолиз рода Юлиев… – Римский поэт Публий Вергилий Марон (70—19 гг. до н.э.) написал свою мифологическую поэму «Энеида» с целью защиты династических интересов Августа и дома Юлиев.
(обратно)140
…француз эпохи Августа… – Здесь сравнивается Рим в правление первого императора и основоположника римской монархии, Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа (63—14 гг. до н.э.) с Францией XVIII в., а римский поэт Вергилий – с французскими придворными поэтами той эпохи.
(обратно)141
…простодушие былых эпох… его творческая сила сказалась даже в демонизации того, что оно преодолело. – Католическая церковь объявила демонами всех римски-эллинских богов языческой древности.
(обратно)142
Мысленными оговорками (лат.)
(обратно)143
Маринист – последователь итальянского поэта Джамбаттисты Марино (1569—1625), создателя вычурного стиля маринизма в итальянской поэзии XVII в., во вкусе аристократических кругов того времени.
(обратно)144
Культивированного стиля (итал.)
(обратно)145
Вольфрам фон Эшенбах (около 1170—1220) – крупнейший немецкий миннезингер, автор песен и рыцарских романов («Парцифаль», «Виллегельм» и «Титурель»).
(обратно)146
Палестра (греч.) – школа гимнастической борьбы.
(обратно)147
И так далее (лат.)
(обратно)148
Гортань (греч.)
(обратно)149
Туберкулез гортани (греч.)
(обратно)150
Место наименьшего сопротивления (лат.)
(обратно)151
…«Эротику» Бетховена. – Госпожа Штер искажает название Третьей симфонии Бетховена «Eroica» («Героическая»).
(обратно)152
Такой симпатичный, такой достойный юноша! (итал.)
(обратно)153
Очень хорошо! (англ.)
(обратно)154
Двадцать одно (франц.)
(обратно)155
Какой вздор! (франц.)
(обратно)156
Это намек? (франц.)
(обратно)157
Прямо дикарь какой-то! (франц.)
(обратно)158
Это прелестно (франц.)
(обратно)159
С нашим болтливым другом с берегов Средиземного моря, с нашим великим краснобаем (франц.)
(обратно)160
Кимвры – германское племя, обитавшее в Ютландии и в конце II в. вместе с другими варварскими племенами принявшее участие в нашествии на Рим.
(обратно)161
Гефсимания – сад у подножия горы Елеонской, в окрестностях Иерусалима, где Христос молился после тайной вечери и был схвачен стражей.
(обратно)162
«И взял с собой Петра и обоих сынов Зеведеевых…» и т.д. – цитаты из Евангелия от Матфея, гл. 26, ст. 37—38, 40, 43, 45.
(обратно)163
Красная ленточка, очень сухое (франц.)
(обратно)164
Мокко двойной крепости (франц.)
(обратно)165
Мозг (лат.)
(обратно)166
Мир хочет быть обманутым (лат.)
(обратно)167
…люциферической революционной мысли… – Люцифер (от лат. Lucifer – светоносец) – одно из имен сатаны; по библейскому преданию, так звали ангела, восставшего против бога и низвергнутого в преисподнюю. В произведениях западноевропейских поэтов-романтиков XIX в. Люцифер становится символом мятежного Разума, восставшего против владычества церковной догмы.
(обратно)168
Ильзан – комический персонаж из немецких героических саг, брат лангобардского короля Гильдебранда, монах-старец, сражающийся с героем этих саг, Дитрихом Бернским (песня о Розовом саде и о Рабенской битве).
(обратно)169
Перипатетики (от греч. peripateticos – прогуливающийся) – философская школа в Афинах, основанная Аристотелем в 335 г. до н.э. Названа в связи с обыкновением Аристотеля вести занятия с учениками во время прогулок около храма Аполлона Ликейского.
(обратно)170
Почтовую марку! (франц.)
(обратно)171
Тем хуже для вас (франц.)
(обратно)172
Вот именно (франц.)
(обратно)173
Здесь – послушайте (франц.)
(обратно)174
Верфь (франц.)
(обратно)175
Везде (франц.)
(обратно)176
Какое великодушие! Ну и ну, в самом деле (франц.)
(обратно)177
Гений (франц.)
(обратно)178
Как философ (франц.)
(обратно)179
Вот именно (франц.)
(обратно)180
Понимаешь ли (франц.)
(обратно)181
Словом (франц.)
(обратно)182
Делать покупки (англ.)
(обратно)183
Закуска (франц.)
(обратно)184
…сказка об одной особе… при каждом слове у нее изо рта выскакивала то змея, то жаба… – Речь идет о немецкой народной сказке в обработке братьев Гримм «Три маленьких лесовика».
(обратно)185
Самоубийство (лат.)
(обратно)186
Это отречение (франц.)
(обратно)187
Названия различных сортов шоколада.
(обратно)188
Вы когда-нибудь видели черта в ночном колпаке? (англ.)
(обратно)189
Нет, я никогда не видел черта в ночном колпаке (англ.)
(обратно)190
Тьфу! (итал.)
(обратно)191
…Сарматской деспотии… – Имеется в виду Российская империя, противопоставляемая Западной Европе.
(обратно)192
На сегодняшний день (англ.)
(обратно)193
Tutti (итал. – все) – итальянский музыкальный термин, означающий оркестр в целом, а также выступление оркестра во время паузы солиста.
(обратно)194
Вот он цирюльник. Дела знаток. Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро, Фигаро, Фигаро! (итал.)
(обратно)195
Речитатив (итал.)
(обратно)196
…«Баркаролу» из «Сказок Гофмана»… – Акт третий лирико-фантастической оперы известного французского композитора, одного из основоположников классической оперетты, Жака Оффенбаха (1819—1880), написанной по мотивам новелл немецкого романтика Т.А.Гофмана.
(обратно)197
…дуэт из современной итальянской оперы… – Дуэт Рудольфа и Мими из оперы «Богема» (1896) известного итальянского композитора Джакомо Пуччини (1858—1924).
(обратно)198
Дай руку мне, моя малютка (итал.)
(обратно)199
…она была написана… по столь торжественному случаю, как передача человечеству некоего достижения техники… – Опера «Аида» была заказана Верди египетским хедивом Измаил-пашой по поводу торжественного открытия Суэцкого канала.
(обратно)200
Ты – в этой могиле?! (итал.)
(обратно)201
Нет, нет, ты слишком прекрасна! (итал.)
(обратно)202
…симфоническая прелюдия, написанная французом… – Имеется в виду «Послеполуденный отдых фавна» (1892), прелюдия французского композитора Клода Ашиля Дебюсси (1862—1918), одного из основоположников импрессионизма в западноевропейской музыке.
(обратно)203
Горнов (франц.)
(обратно)204
Дух (англ.)
(обратно)205
Дорогой мой! (итал.)
(обратно)206
«Анатомия» Рембрандта. – Имеется в виду один из двух групповых портретов великого голландского художника Харменса ван Рейна Рембрандта (1606—1669): «Урок анатомии доктора Тулпа» (так называемая «Первая анатомия», 1632), либо «Урок анатомии доктора Деймана» («Вторая анатомия», 1656).
(обратно)207
Миллекер Карл (1842—1899) – австрийский композитор, один из мастеров венской классической оперетты.
(обратно)208
…точно Геккель присутствовал при возникновении земли. – Имеется в виду «Естественная история мироздания» (1868) известного немецкого ученого-дарвиниста Эрнста Геккеля (1834—1919), популяризатора и пропагандиста естественноисторического материализма.
(обратно)209
…фихтевское «воодушевление»… – Выдающийся немецкий философ-идеалист, педагог и общественный деятель Иоганн-Готлиб Фихте (1762—1814) во время наполеоновского владычества сделался одним из трибунов немецкого освободительного движения, выступая с лозунгами национальной независимости и борьбы против интервентов.
(обратно)210
…Арндта, проклинавшего индустриализацию и славившего дворянство… – Речь идет о книге «Дух времени» Эрнста-Морица Арндта (1769—1860), консервативного немецкого писателя-публициста, поэта, автора патриотических песен, принимавшего участие в национально-освободительном движении против Наполеона.
(обратно)211
Геррес Якоб-Иозеф (1776—1848) – немецкий ученый, публицист и общественный деятель. Здесь имеется в виду тот период его творчества, когда он разочаровался в идеях французской буржуазной революции 1789—1793 гг. и обратился к католицизму.
(обратно)212
…убийство государственного советника Коцебу студентом-корпорантом Зандом. – Коцебу Август Фридрих Фердинанд (1761—1819) – реакционный немецкий писатель. Своей деятельностью – защитой Священного союза – вызвал ненависть немецких прогрессивных кругов и был убит студентом Карлом Зандом 23 марта 1819 г.
(обратно)213
Докука (франц.)
(обратно)214
Разрушитель! Бешеная собака! Смерть ему! (итал.)
(обратно)215
Совсем наоборот! (итал.)
(обратно)216
Несчастный!
(обратно)217
Что ты делаешь, господи боже мой! (итал.)
(обратно)218
«Клятва на Рютли». – Рютли – горная поляна в Швейцарии, где, по преданию, представители трех кантонов во главе с Теллем поклялись освободить родину от чужеземного ига.
(обратно)219
…деяние народное и освободительное, направленное против… цитадели зла… – Наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд (1863—1914) стоял во главе военно-аннексионистской партии и выступал с планами захвата Сербии и ее присоединения к габсбургской монархии, за что был убит членами сербской националистической организации в Сараеве 28 июня 1914 г.
(обратно)220
…ультимативные требования, предъявленные некоей монархией к Сербии… – Стремясь использовать сараевское убийство как повод для разгрома Сербии и развязывания войны, Австро-Венгрия предъявила сербскому правительству заведомо неприемлемый ультиматум и, несмотря на то, что последнее, по совету России, согласилось почти на все его условия, тем не менее объявила Сербии войну.
(обратно)221
…оно уже не было пещерным сводом над Греховной горой. – Намек на легенду о немецком миннезингере XIII в. Тангейзере. Греховная, или Волшебная, гора – Герзельберг, где, по преданию, Тангейзер провел семь лет в плену у языческой богини Венеры и куда он вернулся вновь, уже навсегда, после того как папа отказал ему в отпущении грехов.
(обратно)222
Итак, на равнину, – сказал он, – наконец-то на равнину! Прощай, мой Джованни! (итал.)
(обратно)223
В кору ее я врезал немало нежных слов… – начало строфы из песни выдающегося австрийского композитора-романтика Франца Шуберта (1797—1828) «Липа» из вокального цикла «Зимний путь» на текст поэта Вильгельма Мюллера.
(обратно)

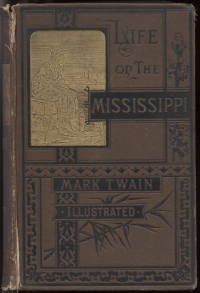
Комментарии к книге «Волшебная гора. Часть II», Томас Манн
Всего 0 комментариев