Ги де Мопассан Монт-Ориоль
Часть первая
ГЛАВА I
Первые посетители водолечебницы, ранние пташки, уже успели принять ванну и медленно прогуливались парами или в одиночку под высокими деревьями по берегу ручья, бежавшего из Анвальского ущелья. Другие только еще пришли из села и торопливо, с озабоченным видом входили в ванное заведение. Оно помещалось в просторном здании, нижний этаж которого предназначался для лечения теплыми водами, а в верхнем расположились казино, кофейная и бильярдная.
Несколько лет тому назад доктор Бонфиль открыл в глуши Анваля большой источник, окрестив его своим именем – источник Бонфиля, и тогда местные землевладельцы, робкие коммерсанты, соблазнились барышами и построили в этой красивейшей долине, дикой и все же веселой, среди ореховых и каштановых рощ большой дом, предназначив его для двоякой цели – для лечения и для развлечения больных: внизу торговали минеральной водой, душами и ваннами, а наверху – пивом, крепкими напитками и музыкой.
Огородив часть долины по берегам ручья, превратили ее в парк, необходимую принадлежность каждого курорта; проложили в этом парке три аллеи – одну почти прямую, а две с поворотами и извивами; отвели воду из основного источника, и она забурлила в конце главной аллеи в большом цементном водоеме под сенью соломенной кровли и под надзором флегматичной женщины, которую все запросто называли Марией. Спокойная, невозмутимая овернка, в белоснежном чепчике и в широком, всегда опрятном фартуке, почти совсем закрывавшем ее форменное платье, неторопливо поднималась, заметив приближающегося больного. Разглядев, кто идет, она отыскивала в стеклянном шкафчике-вертушке нужный стакан и осторожно наполняла его, зачерпнув воды цинковым ковшиком, насаженным на палку.
Уныло улыбнувшись ей, больной выпивал воду и, возвращая стакан, говорил: «Спасибо, Мария»; затем поворачивался и уходил. Мария снова садилась на соломенный стул и поджидала следующего.
Впрочем, народу на Анвальском курорте было немного. Он открылся для больных только шесть лет тому назад, но и на седьмом году своего существования насчитывал их не больше, чем в начале первого года. Приезжало сюда человек пятьдесят, да и тех главным образом привлекала красивая местность, очаровательное селенье, приютившееся под огромными деревьями с кривыми стволами в три обхвата, и прославленные ущелья в начале этой необычайной долины, которая выходит на широкую равнину Оверни, а другим концом упирается в горный кряж, вздымающий бугры потухших вулканов, и превращается там в дикую, великолепную расселину, где громоздятся обвалившиеся гранитные глыбы, а другие угрожающе нависают, где бежит быстрый ручей, низвергаясь с исполинских камней и разливаясь маленьким круглым озерком перед каждой из этих преград.
Свою деятельность курорт начал, как и всякий курорт, брошюрой, в которой автор ее, доктор Бонфиль, всячески прославлял свой источник. Во вступительной части он воспевал в пышном и чувствительном стиле альпийские красоты Анваля, употребляя только высокопарные, трескучие и пустые эпитеты. Все окрестности именовались живописными, изобиловали грандиозно-величественными видами или очаровательно-мирными пейзажами. Все ближайшие места прогулок носили на себе печать изумительного своеобразия, могли поразить воображение художников и туристов. И вдруг, без всякого перехода, начиналось восхваление целительных свойств источника Бонфиля, насыщенного углекислым газом, содержащего двууглекислую соду, смешанные соли, литиевые и железистые соединения, и так далее и так далее, способного излечивать всевозможные болезни. И доктор Бонфиль тут же перечислял их под рубрикой: «Хронические и острые заболевания, специально излечиваемые в Анвале»; длиннейший список этих недугов, врачуемых в Анвале, отличался удивительным разнообразием и был утешителен для больных всех категорий. Брошюра заканчивалась полезными сведениями об условиях жизни в Анвале: о ценах на квартиры, на съестные припасы и на номера в гостиницах. В Анвале уже было три гостиницы, появившиеся одновременно с увеселительно-лечебным заведением: новенький «Сплендид-отель», построенный на склоне долины, повыше здания ванн, гостиница «Горячие ключи» – бывший постоялый двор, заново оштукатуренный и побеленный, и гостиница «Видайе», устроенная очень просто: содержатель ее купил три смежных домика и, пробив в них стены, соединил в одно целое.
А затем вдруг в один прекрасный день в Анвале оказались два новых врача, неизвестно откуда взявшихся, как будто выскочивших из источника, наподобие пузырьков газа, – как обычно и появляются врачи на курортах; это были доктор Онора, коренной овернец, и парижанин доктор Латон. Между доктором Латоном и доктором Бонфилем сразу же возгорелась лютая вражда, а доктор Онора, толстый, опрятный, гладко выбритый человек, всегда улыбающийся и покладистый, протягивал одному своему коллеге правую руку, другому левую и жил с обоими в добром согласии. Однако хозяином положения был доктор Бонфиль, носивший звание инспектора источников и главного врача курорта «Анвальские теплые воды».
Это звание было его силой, а ванное заведение – его вотчиной. Он проводил там целые дни и, по слухам, даже ночи. По утрам он раз сто бегал из своего дома, находившегося на ближнем краю села, в свой врачебный кабинет, устроенный в лечебнице справа от входа, в самом начале коридора. Засев там, как паук в паутине, он подстерегал всех входящих и уходящих, надзирая за своими больными строгим взором, а за чужими – свирепым. Он всех окликал и допрашивал властным тоном капитана в океанских широтах и на новичков нагонял страх или же вызывал у них усмешку.
И вот однажды утром, когда он, по обыкновению, мчался в лечебницу так стремительно, что длинные полы его потертого сюртука развевались, как два крыла, его внезапно остановил чей-то голос:
– Доктор!
Бонфиль обернулся. Его испитое лицо, изрытое неприятными морщинами, такими глубокими, что они казались черными, окаймленное запущенной бородой с проседью, дрогнуло, силясь изобразить улыбку; он торопливо снял шелковый цилиндр, потрепанный, засаленный цилиндр, весь в пятнах, прикрывающий длинные косицы черных седоватых волос – грязноватых волос, как ехидничал доктор Латон, – и, сделав шаг, пробормотал с низким поклоном:
– Доброе утро, маркиз. Как вы себя чувствуете сегодня?
Выхоленный пожилой господин небольшого роста, маркиз де Равенель, протянул врачу руку и ответил:
– Очень хорошо, доктор, хорошо или, во всяком случае, неплохо. Поясница еще ноет, но мне уже лучше, гораздо лучше, а я ведь принял пока только десять ванн. В прошлом году действие лечения сказалось лишь после шестнадцатой ванны. Вы помните?
– Как же, как же!
– Но я не об этом хотел с вами поговорить. Сегодня утром приехала моя дочь, и я решил сразу же посоветоваться с вами, потому что моему зятю, господину Андермату… Вильям Андермат – банкир, слышали?
– Да, конечно.
– Так вот, моему зятю дали рекомендательное письмо к доктору Латону. Но я доверяю только вам одному и прошу вас оказать мне любезность зайти в отель, пока еще… Ну, вы понимаете? По-моему, лучше сказать все откровенно… Вы сейчас свободны?
Доктор Бонфиль, взволнованный, встревоженный, надел цилиндр и ответил:
– Да, я свободен. Вам угодно, чтоб я сейчас пошел с вами?
– Разумеется.
И, повернув вспять от лечебницы, они быстрым шагом пошли по закругленной аллее к «Сплендид-отелю», построенному на горе для привлечения приезжих широким видом, открывавшимся оттуда.
Поднявшись на второй этаж, они вошли в гостиную, смежную с комнатами двух семейств – Равенелей и Андерматов; маркиз оставил там врача одного и отправился за дочерью.
Вскоре он вернулся вместе с нею. Это была совсем еще молоденькая белокурая женщина, миниатюрная, бледная и очень хорошенькая; в чертах ее лица было что-то детское, но голубые глаза смотрели на людей открыто и смело, и этот твердый, решительный взгляд придавал необыкновенную привлекательность и своеобразие всему ее изящному, хрупкому облику. Ничего серьезного у нее не было: неопределенное недомогание, приступы тоски, иногда беспричинные слезы, беспричинная раздражительность – словом, малокровие.
А главное, ей хотелось иметь ребенка, но ребенка не было, хотя она уже третий год была замужем.
Доктор Бонфиль заверил, что анвальские воды обладают всемогущими свойствами, и тотчас принялся строчить предписание.
Все рецепты доктора Бонфиля имели грозный вид обвинительного акта. Перечень лекарств, разбитый на многочисленные параграфы, по две, по три строчки в каждом, выстраивался на большом листе линованной бумаги, исписанной его торопливым почерком, чернея рядами колючих, как пики, остроконечных букв.
Микстуры, пилюли, порошки, которые предписывалось принимать утром натощак, в полдень или вечером, следовали друг за другом свирепыми отрядами.
Казалось, они возглашали: «Ввиду того, что г-н Имярек страдает хронической, неизлечимой, смертельной болезнью, он обязан принимать:
1) Сернокислый хинин, от которого он оглохнет и потеряет память.
2) Бромистый калий, от которого у него испортится желудок, ослабеют умственные способности, по лицу пойдут прыщи, а дыхание станет зловонным.
3) Йодистый калий, который иссушит все железы внутренней секреции, необходимые как для деятельности мозга, так и для прочих функций организма, и очень быстро превратит больного в слабоумного импотента.
4) Салициловый натрий, целительное действие которого еще не доказано, зато он, по-видимому, обеспечивает больному скоропостижную кончину.
А помимо сего, прописывается ему:
Хлорал, приводящий к сумасшествию, белладонна, вызывающая слепоту, всякого рода растительные настои, всякого рода минеральные смеси, кои портят кровь, подтачивают все органы, разъедают кости и убивают тех, кого пощадила болезнь».
Он строчил долго, исписал одну сторону листа, потом другую и наконец поставил свою подпись, как судья, вынесший смертный приговор.
Молодая женщина, сидя напротив доктора Бонфиля, смотрела на него, и губы ее морщились от еле сдерживаемого смеха.
Как только он вышел, отвесив низкий поклон, она схватила измаранный чернилами лист, скомкала, бросила в камин и дала наконец волю веселому смеху:
– Ах, папа, где ты нашел это ископаемое? Какое чучело, настоящее огородное пугало! Нет, это только ты можешь… Разыскал где-то лекаря прошлого века. Ох, до чего ж он уморительный!.. А грязный какой, грязный!.. Право, страшно будет взять ручку, которой он писал! Наверно, он ее испачкал…
Вдруг отворилась дверь, раздался голос Андермата:
– Пожалуйте, доктор, – и появился доктор Латон. Высокий, сухощавый, подтянутый, неопределенного возраста, одетый по моде, с высоким шелковым цилиндром в руке – отличительным признаком врачей на овернских курортах, – этот парижский доктор с гладко выбритым лицом напоминал актера, приехавшего на дачу.
Растерявшийся маркиз де Равенель не знал, что делать, что сказать, а дочь его, прикрыв рот платком, внезапно закашлялась, чтобы не расхохотаться в лицо этому второму доктору. Латон непринужденно поклонился и сел по безмолвному приглашению молодой хозяйки. Андермат, который вошел вслед за ним, пространно описал состояние здоровья своей жены, все ее недомогания со всеми симптомами, изложил мнение парижских врачей и свое собственное, подкрепляя его особыми соображениями и с легкостью жонглируя медицинскими терминами.
Это был совсем еще молодой человек, еврей, крупный делец. Дела он вел всякого рода и во всем проявлял поразительную ловкость, сообразительность и верность суждений. Низенький, уже толстый не по росту, лысеющий, с пухлыми, розовыми, как у младенца, щеками, с жирными ручками, короткими ножками, он цвел какой-то нездоровой свежестью, а говорил с ошеломляющей быстротой.
На дочери маркиза де Равенеля он женился по расчету, чтобы найти в высшем свете, для него недоступном, поддержку своим спекуляциям. Правда, у маркиза было около тридцати тысяч годового дохода и только двое детей, но Андермат ко времени женитьбы нажил уже пять-шесть миллионов, хотя ему не было еще и тридцати лет, и успел подготовить почву для будущего урожая в десять-двенадцать миллионов. Де Равенель, человек нерешительный, бесхарактерный, слабовольный и непостоянный, сначала с негодованием отверг его предложение, переданное через третьих лиц, не допускал и мысли, чтобы его дочь могла стать женой какого-то иудея, полгода сопротивлялся, а потом уступил под давлением груды золота и лишь поставил условием, чтобы его внуки воспитывались в католической вере.
Но внуков все не было и как будто не предвиделось. Тогда маркиз, который два года подряд приезжал на анвальские воды и был от них в восторге, вспомнил, что брошюра доктора Бонфиля в числе прочих чудес обещала исцеление от бесплодия.
Маркиз вызвал дочь, и зять сам привез ее в Анваль, чтобы устроить жену как должно и, по совету своего парижского врача, поручить заботам доктора Латона. Приехав, он немедленно побежал за рекомендованным ему врачом и теперь подробно описывал симптомы недомоганий, наблюдавшихся у его супруги. В заключение он сказал, как огорчительно для него обмануться в своих надеждах стать отцом.
Доктор слушал, не прерывая, а когда Андермат кончил, обратился к молодой женщине с вопросом:
– Не желаете ли вы, сударыня, добавить что-нибудь?
Она ответила, приняв серьезный вид:
– Нет, ровно ничего.
– В таком случае будьте любезны переодеться: снимите дорожное платье, корсет и наденьте простой белый пеньюар, но только совершенно белый.
Госпожа Андермат удивилась; доктор с живостью принялся разъяснять свою систему:
– Боже мой, сударыня, это очень просто. Раньше существовало убеждение, что все болезни вызывает или испорченная кровь, или какой-нибудь органический порок, а теперь мы пришли к весьма простому предположению, что во многих случаях, а в особенности таком, как ваш, те неопределенные недомогания, которым вы подвержены, да и не только они, а даже серьезные расстройства, весьма серьезные, смертельные, могут проистекать лишь оттого, что какой-нибудь орган под воздействием легко устанавливаемых причин ненормально увеличивается в ущерб соседним органам и разрушает всю гармонию, все равновесие в строении человеческого тела, изменяет или приостанавливает его функции, тормозит деятельность всего организма.
Достаточно вздутия желудка, чтобы появились симптомы болезни сердца, ибо сердце в этом случае, будучи приподнято и стеснено в движениях, работает неправильно, иной раз даже с перебоями. Увеличение печени или некоторых желез может вызвать угрожающие последствия, которые малонаблюдательный врач припишет совершенно иным причинам.
Итак, нам прежде всего необходимо установить, имеют ли органы больного нормальный объем и не смещены ли они. Зачастую какой-нибудь пустяк может совершенно подорвать здоровье человека. И поэтому я, сударыня, с вашего позволения, самым тщательным образом исследую вас и набросаю на вашем пеньюаре линии, обозначающие границы, размеры и положение ваших органов.
Он положил цилиндр на стул и говорил с жаром. Большой рот его открывался и закрывался, на бритых щеках западали две глубокие складки, и это придавало ему вид проповедника.
Андермат пришел в восторг:
– Вот это я понимаю! Поразительно! Как умно! Очень ново, очень современно!
«Очень современно» было высшей похвалой в его устах.
Молодую женщину все это страшно забавляло; она покорно поднялась, пошла к себе в спальню и через несколько минут вернулась, переодетая в белый пеньюар.
Доктор Латон уложил ее на кушетку, вынул из кармана карандаш с тремя графитами – черным, красным и синим – и принялся выстукивать и выслушивать свою новую пациентку, отмечая каждое свое наблюдение мелкими пестрыми штрихами на белом пеньюаре. Через четверть часа такой обработки пеньюар стал похож на географическую карту, где обозначены материки, моря, мысы, реки, государства, города со всеми их наименованиями, так как над каждой пограничной линией доктор надписывал два-три латинских слова, понятных ему одному.
Старательно исследовав г-жу Андермат, выслушав все внутренние шумы, все глухие или ясные тоны, получающиеся при выстукивании полостей тела, он вытащил из кармана записную книжку-алфавит в красном кожаном переплете с золотым тиснением, заглянул в таблицу и, раскрыв книжку, написал: «Наблюдение 6347. Г-жа А. 21 год».
Затем он перенес на соответствующую страничку все свои наблюдения, окидывая взглядом пациентку с головы до ног и читая разноцветные отметки на ее пеньюаре, как египтолог расшифровывает иероглифы.
Закончив запись, он объявил:
– Ничего тревожного, все в норме, есть только одно незначительное, совершенно незначительное отклонение, от которого вас легко излечат углекислые ванны, не больше тридцати ванн. А кроме того, вам надо пить каждое утро до полудня три раза по полстакана минеральной воды. И больше ничего. Дней через пять я вас навещу.
Затем он встал, поклонился и вышел так стремительно, что поверг всех в изумление. Этот внезапный уход был театральным приемом собственного его изобретения, особым шиком, признаком оригинальности. Доктор Латон считал, что это манера очень хорошего тона и производит большое впечатление на пациентов.
Госпожа Андермат подбежала к зеркалу и, поглядевшись в него, вся затряслась от веселого детского хохота.
– Ох, до чего они смешные, просто уморительные! Неужели их только два? Наверно, есть еще третий. Покажите мне его скорее! Виль, сходи за ним, приведи, я хочу на него посмотреть.
Муж спросил удивленно:
– Как так «третий»? Почему «третий»?
Маркизу пришлось объясниться и извиниться: он немного побаивался своего зятя. Он сказал, что доктор Бонфиль был у него сегодня с визитом и он, воспользовавшись этим, привел его к Христиане, желая узнать мнение такого опытного врача, которому он вполне доверяет, к тому же коренного жителя Анваля, человека, открывшего источник.
Андермат, пожав плечами, заявил, что его жену будет лечить только доктор Латон; и озадаченный маркиз стал обдумывать, как бы уладить дело, чтобы не обиделся его сердитый врач.
Христиана спросила о своем брате:
– Гонтран здесь?
Отец ответил:
– Да, приехал четыре дня тому назад со своим другом, Полем Бретиньи, о котором, помнишь, он часто нам говорил. Они вместе путешествуют по Оверни. Побывали уже в Мон-Доре и в Бурбуле, а в конце будущей недели поедут отсюда в Канталь.
Затем он спросил у дочери, не хочет ли она отдохнуть до завтрака после ночи, проведенной в поезде, но она ответила, что прекрасно выспалась в спальном вагоне и только просит дать ей часок на то, чтобы помыться и переодеться, а после этого ей хочется посмотреть село и ванное заведение. В ожидании, когда она будет готова, отец и муж ушли в свои комнаты.
Вскоре она позвала их, и все трое вышли из гостиницы на прогулку. Г-жу Андермат сразу же восхитило селение, спрятавшееся в лесу, в глубине долины, и, казалось, со всех сторон замкнутое каштановыми деревьями высотою с гору. Эти вековые великаны волею случая разбросаны были повсюду – росли у ворот, во дворах, на улицах; кроме того, повсюду били родники, на каждом шагу высились черные камни, а оттуда, из просверленного маленького отверстия, вырывалась светлая струя воды и, изгибаясь в воздухе дугой, падала в каменную колоду. Под сводами ветвей разливался свежий запах листвы и хлева; овернки важной поступью медленно двигались по улицам или же стояли у порога и пряли черную шерсть, проворными пальцами ссучивая кудель с прялки, заткнутой за пояс. На них были короткие юбки, не закрывавшие худых лодыжек, обтянутых синими чулками, корсажи с помочами и холщовые рубашки с рукавами, из которых высовывались жилистые и сухие, костлявые руки.
Вдруг откуда-то донеслась музыка – странные, скачущие, прерывистые и хриплые звуки, как будто заиграла старая, разбитая шарманка.
– Что это такое? – воскликнула Христиана.
Отец засмеялся:
– Оркестр курортного казино. Всего четыре музыканта, а шуму сколько!
И он подвел дочь к стене деревенского дома, где наклеена была ярко-красная афиша. Жирными черными буквами на ней значилось:
АНВАЛЬСКОЕ КАЗИНО
Директор г-н Петрюс Мартель из Одеона
Суббота 6 июля
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
Играет оркестр под управлением маэстро Сен-Ландри, лауреата консерватории, удостоенного второй премии. Партию рояля исполнит г-н Жавель, удостоенный первой премии консерватории. Флейта – г-н Нуаро, лауреат консерватории. Контрабас – г-н Никорди, лауреат Брюссельской королевской академии.
После концерта большое представление
ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ
Комедия в одном действии г-на Пуантиле.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Пьер де Лапуант – г-н Петрюс Мартель из Одеона.
Оскар Левейе – г-н Птинивель из Водевиля.
Жан – г-н Лапальм из Большого театра в Бордо.
Филиппина – мадмуазель Одлен из Одеона.
Во время спектакля играет оркестр под управлением маэстро Сен-Ландри.
Христиана читала вслух, хохотала и удивлялась. Отец сказал ей:
– Погоди, они еще не так тебя позабавят. Пойдем посмотрим на них.
Они двинулись дальше и, повернув направо, вошли в парк. Больные степенно, чинно прогуливались по трем аллеям, подходили к источнику, выпивали предписанный им стакан воды и опять начинали шагать. Некоторые сидели на скамейках, чертили по песку тросточкой или кончиком зонта. Они не разговаривали и как будто ни о чем не думали, все были какие-то полумертвые, зачарованные сонной одурью и курортной скукой. Только странные звуки музыки, неведомо откуда долетавшие, неведомо кем порожденные, сотрясали теплый, застывший воздух, проносились под деревьями, и, казалось, лишь они и приводили в движение уныло бродившие фигуры.
Кто-то крикнул:
– Христиана!
Она обернулась и увидела брата. Он подбежал, поцеловался с ней, пожал руку Андермату, потом взял сестру под руку и быстро повел ее по аллее, опередив отца и зятя.
Между братом и сестрой начался веселый разговор. Гонтран, высокий и элегантный молодой человек, был так же смешлив, как сестра, так же подвижен, как отец, и равнодушен ко всему на свете, но вечно поглощен одной заботой – где бы достать тысячу франков.
– Я думал, ты спишь, – говорил он, – а то бы уж давно прибежал поцеловать тебя. Да еще этот Поль утащил меня сегодня утром на прогулку – посмотреть на замок Турноэль.
– Кто это – Поль? Ах да, твой друг.
– Поль Бретиньи. Да, ты ведь с ним незнакома. Он сейчас принимает ванну.
– Он болен?
– Нет, но все-таки лечится. Недавно был адски влюблен.
– И поэтому принимает углекислые ванны! Так они, кажется, называются – углекислые? Хочет таким способом излечиться от любви.
– Да. Он делает все, что я ему велю. У него рана, понимаешь, глубокая сердечная рана! Такой уж он бешеный, неистовый. Чуть не умер. И ее хотел убить. Она актриса, известная актриса. Он ее любил безумно! Ну, а она, разумеется, изменила ему. Была ужасная драма. Вот я и увез его сюда. Сейчас он немного оправился, но все еще думает о ней.
Сестра перестала улыбаться и сказала уже серьезным тоном:
– Интересно будет на него посмотреть.
Впрочем, слово «любовь» для нее почти не имело смысла. Иногда она думала о любви так же, как бедная женщина, живя в скудости, думает о жемчужном ожерелье, о бриллиантовой диадеме и на минуту загорается желанием иметь эти драгоценности, для нее такие далекие, но кому-то другому вполне доступные. Представление о любви она почерпнула из немногих романов, прочитанных от нечего делать, но не придавала ей большого значения. Она не отличалась мечтательностью и от природы была наделена душой жизнерадостной, уравновешенной и всем довольной. Замужество – а она уже была замужем два с половиной года – не нарушило той дремоты, в которой живут наивные девушки, дремоты сердца, мыслей и чувств, – для иных женщин этот сон длится до самой смерти. Жизнь казалась ей простой и приятной, никаких сложностей она не видела в ней, не доискивалась ее смысла и цели. Она жила безмятежно, спокойно спала, одевалась со вкусом, смеялась, была довольна. Чего еще могла она желать?
Когда ей представили Андермата в качестве искателя ее руки, она сначала отказала ему с ребяческим негодованием. Что?! Выйти замуж за еврея! Отец и брат, разделявшие ее отвращение, ответили так же, как и она, решительным отказом. Андермат исчез с горизонта, притаился. Но спустя три месяца он дал взаймы Гонтрану свыше двадцати тысяч франков, да и у маркиза, по другим причинам, стало изменяться мнение. Он по самому существу своему не мог сопротивляться упорному натиску и всегда уступал из эгоистической любви к покою. Дочь говорила о нем: «Ах, папа, папа! Какая у него путаница в мыслях!» Это было верно. У него не было ни твердых взглядов, ни верований, а только восторженные, постоянно менявшиеся увлечения. То он проникался минутным поэтическим преклонением перед старыми родовыми традициями и желал короля, но короля разумного, просвещенного, идущего в ногу с веком; то, прочитав книгу Мишле[1] или какого-нибудь другого мыслителя-демократа, с жаром говорил о равенстве людей, о современных идеях, о требованиях бедняков, угнетенных и обездоленных. Он мог уверовать во что угодно, смотря по настроению, и когда старая его приятельница г-жа Икардон, имевшая связи в еврейских кругах, пожелала посодействовать браку Христианы с Андерматом, она знала, как подойти к маркизу и какими доводами его убедить.
Она утверждала, что для евреев, угнетенных так же, как был угнетен французский народ до революции, настал час мщения и теперь они будут угнетать других могуществом золота. Маркиз де Равенель, человек совсем не религиозный, был, однако, убежден, что идея бога очень полезна как законополагающая идея, что она крепче может держать в узде боязливых глупцов и невежд, нежели неприкрашенная идея справедливости, и поэтому с одинаково равнодушной почтительностью относился ко всем религиозным догмам, питал одинаково искреннее уважение к Конфуцию, Магомету и Иисусу Христу. Распятие Иисуса на кресте он отнюдь не считал наследственным грехом евреев, а только грубой политической ошибкой. Поэтому г-же Икардон достаточно было нескольких недель, чтоб внушить ему восторг перед непрестанной скрытой деятельностью евреев, повсюду преследуемых и всемогущих. И вдруг он стал другими глазами смотреть на их торжество, считая его справедливой наградой за долгое унижение. Он видел теперь в евреях властителей, которые повелевают королями – повелителями народов, поддерживают или низвергают троны, могут разорить и довести до банкротства целую нацию, точно какого-нибудь виноторговца, гордо посматривают на приниженных государей и швыряют свое нечистое золото в приоткрытые шкатулки самых правоверных католических монархов, а получают от них за это грамоты на дворянство и железнодорожные концессии.
И он дал согласие на брак своей дочери Христианы де Равенель с банкиром Вильямом Андерматом.
Христиана поддалась осторожному воздействию со стороны г-жи Икардон, подруги маркизы де Равенель и ближайшей своей советницы после смерти матери; к этому прибавилось воздействие отца, корыстное равнодушие брата, и она согласилась выйти за этого толстяка-банкира, который был очень богат, молод и не безобразен, но совсем не нравился ей, – так же согласилась бы она провести лето в какой-нибудь скучной местности.
А теперь она находила, что он добродушный, внимательный, неглупый человек, приятный в близком общении, но частенько смеялась над ним, болтая с Гонтраном, проявлявшим черную неблагодарность к зятю.
Гонтран сказал ей:
– Муж у тебя стал совсем лысый и розовый. Он похож на больной, разбухший цветок или на молочного поросенка… Откуда у него такие краски берутся?
– Я тут ни при чем, уверяю тебя! Знаешь, мне иногда хочется наклеить его на коробку с конфетами.
Они уже подходили к ванному заведению.
У стены, по обе стороны двери, сидели на соломенных табуретках два человека, покуривая трубки.
– Посмотри-ка на них, – сказал Гонтран. – Забавные типы! Сначала погляди на того, который справа, на горбуна в греческой шапочке. Это дядюшка Прентан, бывший надзиратель в риомской тюрьме, а теперь смотритель и почти директор анвальского водолечебного заведения. Для него ничего не изменилось: он командует больными, как арестантами. Каждый приходящий в лечебницу – это заключенный, поступающий в тюрьму; кабинки – одиночные камеры; зал врачебных душей – карцер, а закоулок, где доктор Бонфиль производит своим пациентам промывание желудка при помощи зонда Барадюка, – таинственный застенок. Мужчинам он не кланяется в силу того принципа, что все осужденные – презренные существа. С женщинами он обращается более уважительно, но смотрит на них с некоторым удивлением: в риомской тюрьме содержались только мужчины. Это почтенное убежище предназначалось для преступников мужского пола, и с дамами он еще не привык разговаривать. А второй, слева, – это кассир. Попробуй попроси его записать твою фамилию – увидишь, что получится.
И, обратившись к человеку, сидевшему слева, Гонтран медленно, раздельно произнес:
– Господин Семинуа! Вот моя сестра, госпожа Андермат; она хочет записаться на двенадцать ванн.
Кассир, длинный, как жердь, тощий и одетый по-нищенски, поднялся, вошел в свою будку, устроенную напротив кабинета главного врача, открыл реестр и спросил:
– Как фамилия?
– Андермат.
– Как вы сказали?
– Андермат.
– По слогам-то как будет?
– Ан-дер-мат.
– Так, так, понял.
Он медленно стал выводить буквы. Когда он кончил писать, Гонтран попросил:
– Будьте добры, прочтите, как вы записали фамилию моей сестры.
– Пожалуйста. Госпожа Антерпат.
Христиана, смеясь до слез, заплатила за абонемент, потом спросила:
– Что это за шум там, наверху?
Гонтран взял ее под руку.
– Пойдем посмотрим.
Они поднялись по лестнице; навстречу им неслись сердитые голоса. Гонтран отворил дверь, они увидели большую комнату с бильярдом посредине. Двое мужчин без пиджаков стояли друг против друга с длинными киями в руках и вели яростный спор через зеленое поле бильярда:
– Восемнадцать!
– Нет, семнадцать!
– А я вам говорю, у меня восемнадцать!
– Неправда, только семнадцать!
Это директор казино Петрюс Мартель из Одеона, как обычно, сражался на бильярде с комиком Лапальмом из Большого театра в Бордо.
Петрюс Мартель, тучный мужчина с необъятным животом, который колыхался под рубашкой и нависал над поясом брюк, державшихся на честном слове, лицедействовал во многих местах, потом обосновался в Анвале и, получив в управление казино, проводил все дни своей жизни в истреблении напитков, предназначенных для курортных гостей. Он носил огромные офицерские усы и с утра до вечера увлажнял их пивной пеной или сладкими, липкими ликерами, пылал неумеренной страстью к бильярду и, заразив ею старого комика своей труппы, завербовал его себе в партнеры.
С утра, не успев протереть глаза, они уже принимались сражаться на бильярде, переругивались, грозили друг другу, стирали записи, начинали следующую партию, едва решались урвать время для завтрака и никого не подпускали к зеленому полю.
Они распугали всех посетителей, но нисколько этим не смущались и были довольны жизнью, хотя Петрюса Мартеля в конце сезона ждало банкротство.
Удрученная кассирша с утра до вечера созерцала их бесконечную партию, с утра до вечера слушала их нескончаемые споры и с утра до вечера подавала двум неутомимым игрокам кружки пива и рюмочки спиртного.
Гонтран увел сестру.
– Пойдем в парк. Там прохладнее.
Обогнув здание водолечебницы, они увидели китайскую беседку и игравший в ней оркестр.
Белокурый молодой человек исполнял роль скрипача и дирижера и, отбивая такт для трех диковинного вида музыкантов, сидевших напротив него, неистово дергал смычком, мотал головой, встряхивал длинной шевелюрой, сгибался, выпрямлялся, раскачивался направо и налево, превратив собственную свою особу в дирижерскую палочку. Это был маэстро Сен-Ландри.
Маэстро и его помощники: пианист, для которого ежедневно инструмент выкатывали на колесиках из вестибюля ванного заведения в беседку, огромный флейтист, который, словно спичку, сосал свою флейту, перебирая клапаны толстыми, пухлыми пальцами, и чахоточный контрабасист – все они в поте лица своего превосходно воспроизводили звуки испорченной шарманки, поразившие Христиану, когда она еще проходила по селу.
В то время как она остановилась посмотреть на них, какой-то господин поздоровался с ее братом:
– Доброе утро, дорогой граф!
– Здравствуйте, доктор.
И Гонтран познакомил с ним сестру:
– Моя сестра. Доктор Онора.
Христиана едва удерживалась от смеха: значит, нашелся и третий доктор.
– Надеюсь, вы не больны, сударыня? – с поклоном спросил ее доктор Онора.
– Немножко нездорова.
Он не стал расспрашивать и заговорил о другом:
– Знаете, дорогой граф, сегодня вам предстоит увидеть интереснейшее зрелище.
– Какое же, доктор?
– Старик Ориоль взорвет свой знаменитый «Чертов камень» в конце долины. Ах, вам это ничего не говорит, но для нас это – целое событие!
И он пояснил. Старик Ориоль – первый богач во всей округе (известно, что у него дохода больше пятидесяти тысяч в год), владеет всеми виноградниками, расположенными в том месте, где начинается равнина. Но лучшие его виноградники насажены по склонам небольшой горы, вернее, высокого холма, поднимающегося у самого села, в наиболее широком месте лощины. И посреди одного из этих виноградников, напротив дороги и в двух шагах от ручья, торчит исполинский камень, скорее, утес, который мешает возделывать почву и затеняет значительную часть этого клочка земли.
Уже лет десять дядюшка Ориоль каждую неделю все грозился, что взорвет свой Чертов камень, но никак не мог решиться на это.
Всякому парню, отправлявшемуся отбывать военную службу, он говорил:
– Как придешь на побывку, принеси малость пороха для моего Чертова камня.
И каждый молодой солдат приносил в своем ранце горсточку-другую краденого пороха для Чертова камня дядюшки Ориоля. Он набил целый сундучок этим порохом, а камень все стоял на своем месте.
Но вот уже целую неделю люди видели, как он долбит утес вместе со своим сыном, долговязым Жаком, по прозвищу Великан. А нынче утром они насыпали пороху в пустое теперь нутро огромной глыбы, потом замазали отверстие, пропустив в него фитиль-трут, который продается для курильщиков в табачной лавке. Подожгут его в два часа. Взрыв произойдет минут через пять, через десять после этого, потому что фитиль очень длинный.
Христиана слушала рассказ с интересом, и ей захотелось посмотреть, как будут взрывать утес. Это напомнило ей какую-то детскую игру и показалось очень занятным ее наивному воображению.
Они дошли до конца парка.
– А куда дальше ведет лощина? – спросила Христиана.
– На «Край света», сударыня, – так называется прославленное у нас в Оверни ущелье. Это одно из любопытнейших чудес природы в наших краях.
Но в это время зазвонил колокол. Гонтран удивился:
– Смотрите, уже завтрак!
И они повернули обратно. Навстречу им по аллее шел какой-то высокий молодой человек. Гонтран сказал:
– Ну, милая сестренка, позволь представить тебе господина Поля Бретиньи.
Потом повернулся к своему другу.
– Это моя сестра, дорогой.
Христиана нашла, что приятель брата очень некрасив. У него были черные, коротко остриженные невьющиеся волосы, слишком круглые глаза с почти суровым выражением, и голова тоже была совершенно круглая и большая; такие головы напоминают почему-то пушечное ядро, да при этом еще у него были плечи Геркулеса и во всем облике что-то тяжеловесное и грубое, дикое. Но от его пиджака, от его сорочки и, может быть, от самой кожи исходил тонкий, нежный аромат духов, незнакомых Христиане, и она подумала: «Что это за духи?»
– Вы приехали только сегодня, сударыня? – спросил Бретиньи. Голос у него был несколько глухой.
– Да, сегодня, – ответила Христиана.
Гонтран заметил вдали маркиза и Андермата, которые знаками торопили их идти завтракать.
Доктор Онора простился с ними и спросил, действительно ли они намереваются посмотреть на взрыв утеса.
Христиана ответила, что пойдет непременно, и, потянув брата за руку, торопливо направилась к отелю.
– Я голодна, как волк, – тихонько сказала она, наклоняясь к Гонтрану. – Мне неловко будет есть при твоем друге.
ГЛАВА II
Завтрак тянулся бесконечно, как это водится за общим столом в гостиницах. Для Христианы все лица были незнакомы, и она разговаривала только с отцом и с братом, а после завтрака поднялась в свою комнату отдохнуть до прогулки к месту взрыва.
Она была готова задолго до назначенного часа и торопила всех, боясь пропустить любопытное зрелище.
За селом, в конце долины, поднимался высокий холм, скорее, даже небольшая гора; под знойным солнцем взобрались на него по узкой тропинке, змеившейся меж виноградниками, и, как только очутились на вершине, Христиана вскрикнула от восторга – такой широкий кругозор внезапно открылся перед ней. Во все стороны раскинулась равнина, беспредельная, бескрайняя, словно океан. Она простиралась ровная, гладкая, вся затянутая голубой, мягкой туманной дымкой, и где-то далеко-далеко, километров за пятьдесят-шестьдесят, чуть виднелись горы. Сквозь тонкую, прозрачную пелену, реявшую над этими просторами, глаз различал города, села, леса, большие желтые прямоугольники созревшей пшеницы, зеленые прямоугольники лугов, фабрики с высокими красными трубами и черные островерхие колокольни, выстроенные из лавы угасших вулканов.
– Обернись, – сказал ей брат.
Она обернулась и увидела горный кряж, усеянный вулканическими буграми. Ближе пролегала Анвальская лощина – широкая волна зелени, где смутно чернели узкие входы глубоких ущелий. Буйная лесная поросль карабкалась по уступам крутого склона до первого гребня, заслонявшего верхние отроги. Холм стоял как раз на границе равнинной и горной местности, и с него видно было, как горы цепью тянутся влево, к Клермон-Феррану, и как, удаляясь, вырисовываются в небе их странные усеченные вершины, похожие на чудовищные волдыри; это были вулканы, потухшие, мертвые вулканы. И в самом конце их гряды, между двумя горами, виднелась третья, еще дальше и выше их, округлая, величественная, увенчанная причудливыми зубцами каких-то руин.
Это был Пюи-де-Дом, король овернских гор, грузный и мощный великан, еще сохранивший на своей вершине развалины римского храма, словно венец, возложенный на его главу величайшим из народов.
Христиана воскликнула:
– О, как мне тут будет хорошо!
И в самом деле, ей уже было хорошо, тело и душу ее охватило то блаженное чувство, когда дышишь так вольно, когда движешься так легко и свободно, когда всего тебя пронизывает радость жизни оттого, что ты вдруг очутился в милом, как будто созданном для тебя краю и он ласкает, очаровывает, пленяет твой взгляд.
Кто-то крикнул:
– Госпожа Андермат! Госпожа Андермат!
Христиана увидела вдали доктора Онора, приметного по высокому цилиндру. Он подбежал и повел все семейство на другой склон, поросший травой, к опушке молодой рощицы, где уже собралось человек тридцать крестьян и приезжих господ.
Оттуда крутой откос спускался к риомской дороге, обсаженной тенистыми ивами, укрывавшими узкую речку; на берегу этой речки, посреди виноградников, возвышался остроконечный утес, а перед ним стояли на коленях, точно молились ему, двое мужчин. Это и был Чертов камень дядюшки Ориоля.
Ориоли, отец и сын, укрепляли фитиль. На дороге сгрудилась толпа любопытных, впереди выстроилась низенькая беспокойная шеренга мальчишек.
Доктор Онора выбрал для Христианы удобное место, она села, и сердце у нее так билось, как будто через минуту вместе с утесом должны были взлететь на воздух и все люди, теснившиеся внизу. Маркиз, Андермат и Поль Бретиньи легли на траву возле нее, а Гонтран смотрел стоя. Он заметил насмешливо:
– Доктор! Очевидно, вы меньше заняты, чем ваши почтенные коллеги; они не решились потерять хотя бы часок даже ради такого праздника.
Онора благодушно ответил:
– Я занят не меньше, только вот больные меня занимают меньше, чем их… По-моему, лучше развлекать пациентов, а не пичкать их лекарствами.
Он сказал это с лукавым видом, который очень нравился Гонтрану.
На холм карабкались и другие зрители, их соседи по табльдоту: две вдовы Пайль – мать и дочь, г-н Монекю с дочерью и г-н Обри-Пастер, низенький толстяк, который пыхтел, как надтреснутый паровой котел; в прошлом он был горным инженером и нажил себе состояние в России.
Маркиз уже успел подружиться с ним. Обри-Пастер с величайшим трудом уселся на землю, старательно проделав столько обдуманных подготовительных движений, что Христиане стало смешно. Гонтран отошел поглядеть на других любопытных, взобравшихся на холм.
Поль Бретиньи показывал и называл Христиане видневшиеся вдали города и села. Ближе всех был Риом, выделявшийся на равнине красной полосой черепичных крыш, за ним – Эннеза, Маренг, Лезу и множество еле заметных деревень, черными пятнышками испещривших зеленую гладь. А далеко, очень далеко, у подножия Форезских гор, Бретиньи видел Тьер и все старался, чтобы и Христиана его разглядела.
Бретиньи говорил, оживившись:
– Да вот он, вот он! Смотрите вон туда, прямо по направлению моей руки. Я-то его хорошо вижу.
Христиана ничего не видела, но не удивлялась, что он видит, – его круглые глаза смотрели пристальным, неподвижным взглядом хищной птицы, и, казалось, он все различал вдали, как в морской бинокль.
Он сказал:
– А посреди равнины перед нами течет Алье, но ее не увидишь, уж очень это далеко – километров тридцать.
Но Христиана и не пыталась разглядеть то, что он показывал: взгляд ее и все мысли притягивал к себе утес. Она думала о том, что вот сейчас этот утес исчезнет, разлетится прахом и больше его не будет на свете, и в ней шевелилось смутное чувство жалости, – так маленькой девочке жалко бывает сломанную игрушку. Утес стоял тут так долго, был такой красивый, так был у места в этой долине! А оба Ориоля уже поднялись на ноги и стали сбрасывать в кучу у его подножия мелкие камни, проворно и по-крестьянски ловко подхватывая их лопатами.
На дороге толпа все разрасталась и теперь придвинулась ближе, чтобы лучше было видно. Мальчишки облепили обоих крестьян, возившихся возле утеса, бегали и прыгали вокруг, словно разыгравшиеся щенки, а с вершины холма, где сидела Христиана, все эти люди казались совсем маленькими, какими-то букашками, суетливыми муравьями. Шум толпы долетал до нее еле слышным гулом, а то вдруг поднимался смутной разноголосицей криков, глухим топотом, дробился, таял и рассеивался в воздухе какой-то пылью звуков. Вверху толпа также прибывала, люди все шли и шли из деревни и уже заняли весь склон напротив обреченной скалы.
Зрители перекликались, подзывали друг друга, собирались кучками – по случайному соседству в гостиницах, по общественным рангам, по кастам. Самой шумной была кучка актеров и музыкантов, которой предводительствовал и командовал антрепренер Петрюс Мартель из Одеона, оторвавшийся ради такого события от азартной партии в бильярд.
Усатый актер стоял, надвинув на лоб панаму, в легком пиджаке из черного альпага, и между полами горбом выпирало его обширное чрево, обтянутое белой рубашкой, так как он считал излишним носить жилет в деревенском захолустье; приняв повелительную осанку, он указывал, объяснял и комментировал каждое движение Ориолей. Директора окружали и слушали подчиненные: комик Лапальм, первый любовник Птинивель и музыканты – маэстро Сен-Ландри, пианист Жавель, слоноподобный флейтист Нуаро и чахлый Никорди, игравший на контрабасе. Впереди сидели на траве три женщины, раскрыв над головами зонты – белый, красный и синий, сверкавшие яркими красками в ослепительных лучах солнца, как своеобразный французский флаг Под этими зонтами расположились молодая актриса мадемуазель Одлен, ее мамаша – мамаша напрокат, как острил Гонтран, – и кассирша кофейни, их неизменная спутница. Подобрать зонтики по цветам национального флага придумал Петрюс Мартель: заметив в начале сезона, что у мамаши Одлен синий зонтик, а у дочки белый, он преподнес кассирше красный.
Неподалеку собралась другая кучка, не менее привлекавшая внимание и взгляды, – восемь поваров и поварят из гостиниц, все облаченные в белые полотняные одеяния: по причине конкуренции, чтобы произвести впечатление на придирчивых приезжих, содержатели ресторанов нарядили так всю кухонную прислугу, даже судомоек. Солнце играло на накрахмаленных колпаках, и эта группа походила не то на диковинный штаб белых улан, не то на делегацию кулинаров.
Маркиз спросил у доктора Онора:
– Откуда набралось столько народу? Вот уж не думал, что Анваль населен так густо.
– Отовсюду сбежались – из Шатель-Гюйона, Турноэля, из Рош-Прадьера, из Сент-Ипполита. По всем окрестностям давно шли разговоры об этом событии. К тому же дядюшка Ориоль – наша местная знаменитость, особа влиятельная, богач и настоящий овернец: он все еще крестьянствует, сам работает в поле, бережет каждый грош, все копит, копит, набивает кубышку золотом и раскидывает умом, как ему получше устроить детей.
Торопливо подошел Гонтран и, весело блестя глазами, вполголоса позвал:
– Поль, Поль! Идем скорее. Я тебе покажу двух прехорошеньких девочек. Ну до того милы, до того милы, просто чудо!
Бретиньи лениво поднял голову.
– Нет, дорогой мой, мне и здесь хорошо. Никуда я не двинусь.
– Напрасно, ей-богу. Такие красотки!
И Гонтран добавил уже громче:
– Да вот доктор нам сейчас скажет, кто они такие. Доктор, слушайте: две юные особы, лет восемнадцати-девятнадцати, две брюнеточки, должно быть, деревенские аристократки; одеты очень забавно: обе в черных шелковых платьях, с узкими рукавами в обтяжку, как у монашенок…
Доктор Онора прервал его:
– Все ясно! Это дочери дядюшки Ориоля. В самом деле, обе они прелестные девочки и, знаете ли, воспитывались в Клермонском пансионе у «черных монахинь»… Наверняка обе сделают хорошую партию… Характером они не похожи друг на друга, но обе типичные представительницы славной овернской породы. Я ведь коренной овернец, маркиз. А этих девушек я вам непременно покажу…
Гонтран перебил его ядовитым вопросом:
– Вы, доктор, вероятно, домашний врач семейства Ориоль?
Онора понял насмешку и с веселой хитрецой ответил:
– А как же!
– Чем же вы завоевали доверие этого богатого пациента?
– Прописывал ему побольше пить хорошего вина.
И он рассказал забавные подробности домашнего быта Ориолей, давнишних своих знакомцев и даже дальних родственников. Старик отец – большой чудак и страшно гордится своим вином. У него отведен особый виноградник на потребу семьи и гостей. Обычно удается без особого труда опорожнить бочки с вином от этих заветных лоз, но в иные урожайные годы бывает нелегко с ним справиться.
И вот в мае или в июне старик, убедившись, что вина остается еще много, начинает подгонять своего долговязого сына Великана: «А ну-ка, сынок, приналяжем!» Тогда оба принимаются за работу: с утра до вечера дуют литрами красное вино. За каждой едой отец раз двадцать подливает из кувшина в стакан своему Великану и приговаривает: «Приналяжем!» Винные пары горячат кровь, по ночам ему не спится; он встает, надевает штаны, зажигает фонарь, будит Великана, и оба спускаются в подвал, захватив из шкафа по горбушке хлеба; в подвале наливают в стаканы прямо из бочки, пьют и закусывают хлебом. Выпив как следует, так что вино булькает у него в животе, старик постукивает по гулкой пузатой бочке и по звуку определяет, насколько понизился в ней уровень вина.
Маркиз спросил:
– Это они копошатся около утеса?
– Да, да. Совершенно верно.
Как раз в эту минуту оба Ориоля отскочили от утеса, начиненного порохом, и быстро зашагали прочь. Толпа, окружавшая их, бросилась врассыпную, словно разбитая армия: кто в сторону Риома, кто к Анвалю. Утес остался в одиночестве, угрюмо возвышаясь на каменистом бугре, покрытом дерном, перерезая пополам виноградник, как ненужная помеха, не дававшая возделать землю вокруг нее.
Наверху вторая толпа, теперь не менее густая, чем нижняя, всколыхнулась в радостном нетерпении, и зычный голос Петрюса Мартеля возвестил:
– Внимание! Фитиль подожгли!
Христиана вздрогнула и замерла в ожидании. Но позади нее доктор пробормотал:
– Ну, если они пустили в дело весь фитиль, который покупали при мне, нам еще минут десять придется ждать.
Все смотрели на утес, как вдруг откуда-то выскочила собака, маленькая черная собачонка, деревенская шавка. Она обежала вокруг камня, обнюхала его, очевидно, учуяла подозрительный запах и – шерсть дыбом, хвост трубой – принялась лаять изо всей мочи, упираясь в землю лапами и навострив уши.
В толпе пробежал смех, жестокий смех: там надеялись, что собака не успеет убежать вовремя. Потом раздались крики, ее пытались отогнать, мужчины свистели, швыряли камнями, но камни, не долетая до нее, падали на полпути. А собачонка стояла как вкопанная и, глядя на скалу, заливалась яростным лаем.
Христиану стала бить дрожь от страха, что собаку разорвет в клочья, все удовольствие пропало, ей хотелось уйти, убежать, и она нервно лепетала:
– Ах, боже мой! Ах, боже мой! Ее убьет! Не хочу этого видеть! Не хочу! Не хочу! Уйдемте…
Вдруг ее сосед, Поль Бретиньи, поднялся и, не сказав ни слова, бросился вниз по склону, делая своими длинными ногами огромные прыжки.
У всех вырвался крик ужаса; поднялся переполох. А собака, увидев подбегающего к ней высокого человека, отскочила за скалу. Поль Бретиньи побежал за ней вдогонку; собака вынырнула с другой стороны, и минуты две человек и собака бегали вокруг камня, поворачивая то вправо, то влево, исчезая и вновь появляясь, как будто играли в прятки.
Убедившись наконец, что ему не удастся поймать собаку, Бретиньи стал подниматься на холм, а собака снова залилась неистовым лаем.
Возвращение запыхавшегося смельчака было встречено сердитыми возгласами: люди не прощают тому, кто до смерти перепугал их. Христиана еле дышала от волнения, сердце у нее колотилось, она прижимала руки к груди. Совсем потеряв голову, она испуганно спросила у Бретиньи:
– Боже мой, вы не ранены?
А Гонтран, разозлившись, кричал:
– Вот сумасшедший! Скотина этакая! Всегда какие-нибудь глупости выкидывает. В жизни еще не видел подобного идиота!..
Но вдруг земля дрогнула, приподнялась. Оглушительный взрыв потряс всю окрестность, ухнуло в горах эхо и долго грохотало, словно пушечные залпы.
Христиана увидела, как взметнулись камни, градом падая во все стороны, и взлетел столб черной пыли, медленно оседая на землю.
И тотчас толпа с торжествующим воплем хлынула вниз. Батальон поварят кубарем скатился по склону, обогнав отряд актеров с Петрюсом Мартелем во главе.
Сине-красно-белую троицу зонтов чуть было не унесло несущейся лавиной.
Мчались все: мужчины и женщины, крестьяне и приезжие буржуа. Люди падали, поднимались и снова бежали вприпрыжку, а на дороге две человеческие волны, в страхе отхлынувшие в разные стороны, неслись теперь навстречу друг другу и, столкнувшись, смешались на месте взрыва.
– Подождем немного, пока уляжется любопытство, – сказал маркиз, – а потом тоже пойдем посмотрим.
Инженер Обри-Пастер поднялся с величайшим трудом и запыхтел:
– А я пойду тропинками в деревню. Мне тут больше делать нечего.
Он пожал всем руки, откланялся и ушел.
Доктор Онора исчез. Оставшиеся заговорили о нем. Маркиз пожурил сына:
– Ты с ним знаком всего-навсего три дня, а постоянно отпускаешь шуточки, все время подтруниваешь над ним. Он в конце концов обидится.
Гонтран пожал плечами:
– Не беспокойся. Он мудрец, добродушный скептик. Когда мы с ним разговариваем с глазу на глаз, он сам высмеивает всех и всё, начиная со своих пациентов и здешних вод. Обещаю наградить тебя почетным билетом на пользование анвальскими ваннами, если ты хоть раз заметишь, что он рассердился на мои шутки.
Тем временем на месте исчезнувшего камня поднялось невообразимое волнение. Огромная толпа колыхалась, толкалась, кричала. Очевидно, там произошло что-то неожиданное. Суетливый и любопытный Андермат твердил:
– Что такое? Да что же там такое?
Гонтран сказал, что пойдет посмотреть, и стал спускаться с косогора. А Христиану все это уже не интересовало, и она думала о том, что окажись фитиль немного короче, и этот высокий человек, ее сумасбродный сосед, наверно бы, погиб, его раздавило бы осколками утеса, а все только потому, что она испугалась за жизнь какой-то собачонки. Должно быть, он и в самом деле безумец, человек необузданных страстей, если мог броситься навстречу смертельной опасности в угоду едва знакомой женщине.
А внизу, на дороге, люди побежали к деревне.
Теперь и маркиз спрашивал: «Что случилось?» Андермат не выдержал и побежал вниз. Гонтран знаками звал их.
Поль Бретиньи сказал Христиане:
– Позвольте предложить вам руку.
Христиана оперлась на его руку и почувствовала, что эта рука точно железная. Спускаться по опаленной солнцем низкой траве было скользко, но, ощущая такую крепкую опору, она шла уверенно.
Гонтран, торопливо шагая им навстречу, крикнул издали:
– Источник! От взрыва забил источник!
Они стали пробираться сквозь толпу. Поль и Гонтран шли впереди и, раздвигая, расталкивая тесные ряды любопытных, не обращая внимания на их ропот, прокладывали дорогу Христиане и маркизу де Равенель.
Вокруг грудами валялись осколки камня с острыми, рваными краями, почерневшими от пороха. Через этот хаос они прошли к яме, где бурлила грязная вода и, переливаясь через край, стекала к речке под ногами любопытных. Андермат уже стоял у источника, протиснувшись сквозь толпу со свойственной ему способностью «всюду втираться», по выражению Гонтрана, и с глубоким вниманием смотрел, как бил из земли и разливался родник.
Напротив него, по другую сторону ямы, стоял доктор Опора и тоже смотрел в нее с удивленным и скучающим видом. Андермат сказал ему:
– Надо бы попробовать воду на вкус. Может быть, она минеральная.
Доктор ответил:
– Ну, конечно, минеральная. Тут вся вода минеральная. Скоро уж источников будет больше, чем больных.
Андермат настаивал:
– Совершенно необходимо попробовать на вкус.
Доктору Онора это совсем не улыбалось.
– Да хоть подождите, пока грязь осядет.
А вокруг каждому хотелось посмотреть. Задние ряды напирали на передние, толкали их прямо в грязь. Какой-то мальчишка шлепнулся в лужу; все захохотали.
Оба Ориоля, отец и сын, с важным видом рассматривали нежданно забивший родник, еще не зная, как к этому отнестись. Отец был очень высокий тощий старик с костлявым бритым лицом, степенным лицом крестьянина. Сын был такой же худой, но еще выше ростом – настоящий великан, носил длинные усы и походил не то на солдата, не то на виноградаря.
Вода прибывала, все больше бурлила и уже начинала светлеть.
Вдруг толпа зашевелилась, раздалась, и появился доктор Латон со стаканом в руке. Он примчался весь в поту, тяжело дыша, и остолбенел от ужаса, увидев, что его коллега, доктор Онора, стоит возле нового источника, поставив ногу на край ямы, словно полководец, первым ворвавшийся в неприятельскую крепость.
И доктор Латон спросил, задыхаясь:
– Вы пробовали воду?
– Нет, жду, когда очистится.
Латон мгновенно зачерпнул воды и с глубокомысленным видом отпил из стакана глоток, словно дегустатор, пробующий вино. Потом сказал:
– Превосходная вода! – что ни к чему его не обязывало, и протянул стакан своему сопернику: – Не угодно ли?
Но доктор Онора, очевидно, совсем не любил минеральных вод; он ответил, улыбаясь:
– Спасибо, увольте. Достаточно того, что вы ее оценили. Я знаю вкус этих вод.
Он знал вкус всех анвальских вод и тоже оценивал их, но по-своему. Повернувшись к Ориолю, он сказал:
– Ваше красное винцо куда приятнее.
Старик был польщен.
Христиане уже надоело глядеть, ей захотелось домой. Брат и Поль Бретиньи опять проложили ей дорогу в толпе. Она шла вслед за ними под руку с отцом. Вдруг она поскользнулась и чуть не упала; поглядев под ноги, она увидела, что наступила на окровавленный и запачканный липкой грязью кусок мяса, обросший черной шерстью, – это был клочок тела маленькой собачонки, растерзанной взрывом и затоптанной толпою.
Христиана так взволновалась, что не могла сдержать слезы. Утирая глаза платком, она шептала:
– Бедная собачка! Бедная!
Ей хотелось теперь не видеть, не слышать ничего, хотелось убежать отсюда, остаться одной, запереться от всех. День начался так хорошо, и вот чем все кончилось. Что это? Неужели дурное предзнаменование? И сердце ее щемила тоска.
Они шли теперь одни, и вдруг на дороге перед ними замаячили высокий цилиндр и развевавшиеся, словно черные крылья, длинные полы сюртука. Доктор Бонфиль, узнав новость последним, опрометью бежал им навстречу со стаканом в руке, как и доктор Латон.
Увидев маркиза, он остановился:
– Что там такое, маркиз? Мне сказали… источник… минеральный источник…
– Да, представьте себе.
– Обильный?
– Да, да.
– А скажите… они уже там?
Гонтран ответил серьезным тоном:
– Ну, конечно, оба там, и доктор Латон уже успел сделать анализ…
И доктор Бонфиль во всю прыть побежал дальше. Встреча эта отвлекла Христиану от грустных мыслей и немного развеселила ее.
– Я передумала, не стоит возвращаться в гостиницу, – сказала она, – пойдемте посидим в парке.
Андермат остался у источника смотреть, как бежит вода.
ГЛАВА III
В тот вечер за обедом в «Сплендид-отеле» против обыкновения было шумно и оживленно. Разговоры шли о взрыве утеса и новом источнике. За столом обедало немного народу – человек двадцать, не больше, и все люди обычно молчаливые, тихие – больные, тщетно лечившиеся на многих водах и пытавшие счастья на всех новых курортах. Ближайшими соседями семейства Равенель и Андермат были седой щуплый старичок г-н Монекю с дочерью, высокой зеленовато-бледной девицей, которая иногда вставала из-за стола и торопливо уходила, оставив на тарелке почти нетронутое кушанье. Тут же сидели Обри-Пастер, бывший инженер, и супруги Шофур, всегда одетые в черное, весь день бродившие по аллеям парка вслед за колясочкой, в которой няня возила маленького уродца, их ребенка; затем вдовствующая г-жа Пайль со своей дочерью, тоже вдовой, обе рослые, пышногрудые, широкобедрые. «Вот видите, – говорил Гонтран, – они съели своих мужей, и бог наказал их несварением желудка».
Вдовицы действительно лечились от желудочной болезни.
Рядом с ними сидел г-н Рикье, человек с кирпично-красным лицом, тоже страдавший расстройством пищеварения, а дальше расположились бесцветные, незаметные фигуры из тех курортных обитателей, что входят в столовую гостиницы неслышными шагами – жена впереди, муж позади, – делают у двери общий поклон и с робким, скромным видом садятся на свои места.
Другой конец стола пустовал, хотя там были расставлены тарелки и приборы, ожидающие будущих гостей.
Андермат говорил с большим одушевлением. До обеда он несколько часов провел с Латоном, и доктор в потоке слов изливал перед ним свои замыслы, сулившие Анвалю блестящее будущее.
С пламенной убежденностью он воспевал поразительные целебные свойства анвальских вод, с которыми не могли сравниться источники Шатель-Гюйона, хотя этот курорт окончательно утвердил свою репутацию за последние два года.
Итак, справа от Анваля находился Руайя, когда-то захолустная дыра, а теперь процветающий курорт; слева – такая же дыра Шатель-Гюйон, с недавних пор завоевавший известность. А какие чудеса можно сотворить в Анвале, если умеючи взяться за дело!
И, обращаясь к инженеру, Андермат говорил:
– Да, сударь, надо только умеючи браться за дело. В этом вся суть. Ловкость, такт, гибкость и смелость решают все. Чтобы создать курорт, нужно ввести его в моду, а чтобы ввести его в моду, надо заинтересовать в деле парижских светил медицинского мира. В своих предприятиях, сударь, я не знаю неудачи, потому что всегда ищу и нахожу практическое средство, гарантирующее полный успех, особое в каждом отдельном случае, а пока я не найду этого средства, я ничего не предпринимаю – я жду. Открыть воду – этого еще мало, надо найти для нее потребителей, а чтобы найти их, еще недостаточно поднять шум в газетах и самим кричать повсюду: «Наша вода бесподобна, она не имеет себе равной!» Надо, чтобы об этом сказали спокойно и веско люди, имеющие бесспорный авторитет в глазах этих самых потребителей, в глазах больных, публики на редкость доверчивой, которая нужна нам, которая хорошо платит за лекарства, – словом, надо, чтобы похвалы исходили от врачей. Не вздумайте сами выступать в суде, предоставьте говорить адвокатам, ибо судьи только их одних слушают и понимают, – так и с больными говорите только через докторов, иначе вас и слушать не станут.
Маркиз, всегда восхищавшийся практической сметкой и безошибочным чутьем своего зятя, воскликнул:
– Ах, как это верно! Как умно! Впрочем, у вас, друг мой, во всем удивительно правильный прицел.
Андермата подстегнул этот комплимент.
– А что ж! Здесь можно нажить большое состояние. Местность чудесная, климат превосходный. Только одно меня беспокоит: будет ли у нас достаточно воды? Дело надо поставить широко: если станешь жаться, всегда провалишься. Нам нужно создать большой курорт, очень большой, а следовательно, нужно иметь столько воды, чтоб действовало двести ванн одновременно и чтобы вода поступала в них быстро и бесперебойно. А новый источник вместе со старым может дать воды только для пятидесяти ванн, что бы там ни говорил доктор Латон…
Обри-Пастер перебил его:
– О, насчет воды не беспокойтесь. Воды я вам предоставлю сколько угодно.
Андермат опешил:
– Вы?
– Да, я. Это вас удивляет? Сейчас объясню. В прошлом году, как раз в это время, я был здесь на курорте: я нахожу, что анвальские воды мне очень помогают. Однажды утром, когда я отдыхал в своей комнате, ко мне явился какой-то полный господин. Оказалось, председатель правления курорта. Он был в большой тревоге и вот отчего: источник Бонфиля оскудел настолько, что даже возникло опасение, как бы он не иссяк совсем. Зная, что я горный инженер, председатель пришел спросить, не могу ли я найти какой-нибудь способ спасти их лавочку от разорения.
Тогда я стал изучать геологическую структуру этой местности. Вам, конечно, известно, что древние катаклизмы повлекли за собой всевозможные пертурбации и различное расположение подпочвенных пород в разных уголках этого края.
Мне нужно было установить, откуда, по каким трещинам идет минеральная вода, определить направление, происхождение и особенности этих трещин.
Прежде всего я тщательно осмотрел водолечебницу, и, найдя в одном углу старую, уже негодную трубу для подводки воды в ванну, я обнаружил, что почти вся она забита известковыми отложениями. Значит, растворенные в воде соли оседали на стенки трубы и в короткий срок закупорили ее. Несомненно, то же самое происходило и в естественных трубах – в трещинах подпочвенных гранитов, – здесь везде гранитные породы. Итак, источник Бонфиля закупорили осадки. Вот и все.
Надо было поискать, где это произошло. Всякий стал бы, конечно, искать выше того места, где источник выходит на поверхность земли. А я после целого месяца обследований, наблюдений и размышлений стал искать и нашел для него новый выход на пятьдесят метров ниже. И вот почему.
Я уже вам сказал, что первой моей задачей было определить происхождение, особенности и направление трещин в граните, по которым течет вода. Мне нетрудно было установить, что трещины направлены от равнины к горе, а не от горы к равнине и идут наклонно, как скаты крыши, – вероятно, тут произошло оседание, равнина опустилась и увлекла за собой нижние отроги гор.
Итак, вода, вместо того чтобы стекать вниз, поднимается вверх по всем пустотам между пластами гранита. Я открыл и причину этого удивительного явления.
В далекие времена наша Лимань, эта огромнейшая равнина, образованная глинистыми и песчаными отложениями, лежала на уровне первого горного плато, но вследствие геологической структуры нижних слоев она опустилась, увлекая за собой, как я уже указывал, и ближайшие предгорья. А это грандиозное оседание вызвало как раз на границе между рыхлыми и каменными породами образование на огромной глубине гигантской и непроницаемой для воды плотины из уплотнившихся глинистых пластов.
И вот происходит следующее.
Минеральные источники берут свое начало в очагах потухших вулканов. Если они бегут издалека, то в пути охлаждаются и выходят на поверхность земли ледяными родниками, как обычные ключи; а если вода течет из ближних вулканических очагов, то из земли она бьет еще теплой или горячей струей – температура ее зависит от отдаленности очага. Но какими путями она проходит в земле? Она спускается вниз, на неизвестную глубину, пока не натолкнется на плотину из глинистых пород Лимани. Пробиться сквозь эту преграду она не может и, находясь под большим давлением, ищет выхода. Встретив наклонные щели в граните, она врывается туда и начинает подниматься, пока не выйдет на поверхность земли. А тогда она возвращается к естественному, первоначальному своему направлению, то есть течет вниз, пролагая себе русло, как и всякий ручей. Добавлю еще, что мы видим лишь сотую часть минеральных источников этих долин. Мы открываем лишь те воды, которые пробились на поверхность земли. А сколько их теряется, дойдя до конца своего гранитного канала, – их поглощает толстый слой насыщенной перегноем и возделанной почвы!..
Из всего этого можно сделать следующий вывод:
Во-первых, для того чтобы получить минеральную воду, ее нужно искать, следуя наклону и направлению гранитных пород, лежащих многоярусными пластами.
Во-вторых, для того чтобы не иссякали источники, достаточно лишь не допускать закупорки трещин отложениями солей, а для этого надлежит бурить и держать в порядке скважины – маленькие колодцы.
В-третьих, для того чтобы украсть у соседа источник, надо перехватить его ниже выхода на поверхность посредством буровой скважины, доведенной до трещины в граните, производя, конечно, бурение выше глиняной плотины, принуждающей воду подниматься вверх.
С этой точки зрения открытый сегодня источник расположен великолепно – всего лишь в нескольких метрах от естественной плотины. Если вы желаете основать новую водолечебницу, ее надо строить именно здесь.
Когда он кончил, слушатели не сказали ни слова.
Один лишь Андермат восторженно воскликнул:
– Замечательно! Стоит заглянуть за кулисы – и вся таинственность исчезнет. Господин Обри-Пастер, вы драгоценный человек!
Только Андермат, маркиз и Поль Бретиньи поняли разъяснения, и только Гонтран не слушал их. Остальные слушали, развесив уши, уставясь в рот инженеру и остолбенев от изумления. Особенно поражены были две вдовы Пайль и, как особы глубоко благочестивые, задавались вопросом, нет ли кощунства в таких попытках объяснить явление, совершающееся по воле и таинственным предначертаниям Господа Бога? Мать даже сочла нужным высказать свое мнение:
– Пути господни неисповедимы.
Дамы, сидевшие в середине стола, одобрительно закивали головами: их тоже встревожили мудреные, непонятные речи инженера.
Рикье, человек с кирпично-красным лицом, заявил:
– Пусть они текут, откуда угодно, эти ваши анвальские воды, – хоть из вулканов, хоть с луны, мне все равно… Я уже десять дней их пью, а толку никакого!
Супруги Шофур запротестовали, указав на то, что их ребенок уже начал шевелить правой ножкой, а этого еще не случалось за все шесть лет, что они лечат его.
Рикье возразил:
– Ну, и что же это доказывает? Только то, что у нас с ним не одинаковая болезнь. Это отнюдь не доказательство, что анвальские воды излечивают желудочные болезни.
И по его лицу было видно, как он негодует, как он возмущен новой неудачей своих попыток.
Но и Монекю заступился за анвальские воды, сообщив, что уже неделю желудок его дочери переваривает пищу и теперь она не выбегает из-за стола посреди обеда.
Тощая, длинная девица вся вспыхнула и уткнулась носом в тарелку.
Оказалось, что и две вдовы Пайль тоже чувствовали себя лучше.
Рикье рассвирепел и, повернувшись к ним, спросил:
– У вас, сударыни, болезнь желудка?
– Да, да, – в один голос ответили обе дамы. – Мы совершенно не перевариваем никакой пищи.
Рикье дернулся так, что чуть не упал со стула, и завопил:
– Это вы-то? Вы-то не перевариваете? Да стоит только посмотреть на вас… Это у вас-то больной желудок? Попросту говоря, вы слишком много едите.
Госпожа Пайль-старшая смерила его разъяренным взглядом:
– Зато относительно вас, сударь, можно не сомневаться. По вашему характеру сразу видно, что у вас неизлечимо больной желудок. Не напрасно сложилась пословица: «Съешь, переваришь – добрым бываешь!»
Старая и очень худая дама, фамилии которой никто не знал, авторитетным тоном сказала:
– Я думаю, что анвальские воды всем помогали бы, если бы повар в гостинице хоть немного помнил, что он готовит не для здоровых, а для больных. Ну разве можно переварить кушанья, которыми нас тут угощают?
И сразу же все пришли к согласию: всех объединило негодование против содержателя гостиницы, который подавал к столу лангусту, колбасы, угря по-татарски, капусту – да, да, капусту и сосиски, – словом, самые неудобоваримые блюда, и кому же? Людям, которым три доктора – Бонфиль, Латон и Онора – предписали есть только легкие кушанья: нежное, нежирное белое мясо, свежие овощи и молочные продукты.
Рикье весь дрожал от гнева:
– А разве на водах врачи не обязаны наблюдать за питанием больных! Как они смеют оставлять этот важнейший вопрос на усмотрение какой-нибудь тупой скотины? Вот, например, нам каждый день подают в качестве закуски крутые яйца, анчоусы и ветчину…
– Нет, простите, – перебил его Монекю, – у моей дочери желудок переваривает только ветчину, и позвольте вам сказать, что Ма-Руссель и Ремюзо специально предписали ей ветчину.
Рикье завопил:
– Ветчина! Ветчина! Да ведь это отрава!
И сразу стол разделился на два лагеря: одни переваривали, другие не переваривали ветчину.
Пошел бесконечный, ежедневно возобновлявшийся спор о пользе и вреде тех или иных продуктов.
Даже молоко вызвало ожесточенные прения. Рикье заявлял, что стоит ему выпить хоть маленький, лафитный стаканчик молока, как у него начинается ужаснейшее несварение.
Обри-Пастер, рассердившись, что порочат его любимые молочные продукты, воскликнул раздраженным тоном:
– Черт возьми, послушайте, сударь, если у вас диспепсия, а у меня гастрит, то для нас с вами нужен совершенно различный пищевой режим, так же как различны должны быть стекла очков, прописываемые близоруким и дальнозорким, хотя у тех и других зрение испорчено. – И добавил: – А я вот нахожу, что самое вредное на свете – это вино. Стоит мне выпить стакан столового красного вина, и я уже задыхаюсь. Кто не пьет вина, проживет до ста лет, а мы…
Гонтран, смеясь, прервал его:
– Пощадите! Ей-богу, без вина и без… брака жизнь была бы скучна.
Обе вдовицы Пайль потупили глаза. Они в изобилии употребляли бордоское вино лучшей марки и пили его без малейшей примеси воды, а их раннее вдовство вызывало мысль, что и в браке они применяли ту же систему – дочери было двадцать два года, а матери не больше сорока.
Андермат, обычно весьма говорливый, сидел молча, погрузившись в задумчивость. Вдруг он спросил у Гонтрана:
– Вы знаете, где живут Ориоли?
– Знаю. Мне сегодня показывали их дом.
– Можете проводить меня к ним после обеда?
– Ну, конечно, и даже с удовольствием. Я не прочь взглянуть еще разок на обеих дочек.
Как только кончился обед, они отправились в деревню, а Христиана, чувствовавшая себя утомленной, маркиз и Поль Бретиньи поднялись в гостиную, чтобы скоротать там вечер.
Было еще совсем светло: на курортах обедают рано.
Андермат взял шурина под руку.
– Ну-с, дорогой мой. Если мне удастся столковаться с этим стариком и если результаты анализа оправдают надежды доктора Латона, я, вероятно, затею здесь большое дело – создам курорт. Прекраснейший курорт.
Он остановился посреди улицы и, ухватив своего спутника за лацканы пиджака, заговорил в каком-то вдохновении:
– Эх, вам всем не понять, как это увлекательно – ворочать делами, не какими-нибудь торгашескими, купеческими делами, а настоящими, крупными, предпринимательскими – словом, теми делами, какими занимаюсь я! Да, дорогой мой, когда понимаешь в этом толк, в них находишь как бы сгусток всех видов деятельности, которые во все времена захватывали и влекли людей, тут и политика, и война, и дипломатия. Все, все! И дремать тут нельзя: надо всегда, всегда искать, находить, изобретать, угадывать, предвидеть, комбинировать и дерзать! Великие битвы нашего времени – это битвы, в которых сражаются деньгами. И вот я вижу перед собой свои войска: монеты по сто су – это рядовые в красных штанах, золотые по двадцать франков – блестящие молодые лейтенанты, стофранковые кредитки – капитаны, а тысячные билеты – генералы. И я сражаюсь. Да еще как, черт возьми! Каждый день, с утра до вечера, дерусь со всеми и против всех! Вот это, по-моему, жизнь! Широкий размах, не хуже чем у властелинов давних веков. А что ж – мы и есть властелины нового времени! Подлинные, единственные властелины. Вот поглядите на эту деревню, на эту убогую деревушку. Я превращу ее в город. Да, да, именно я. Здесь будет город, великолепный город с белыми домами, здесь вырастут шикарные, переполненные приезжими отели, с лифтами, с целой армией лакеев, с экипажами; толпу богачей будет обслуживать толпа бедняков – и все это только потому, что в один тихий летний вечер мне захотелось сразиться с Руайя, что находится справа отсюда, с Шатель-Гюйоном, который прячется слева, с Мон-Дором, Бурбулем, Шатонефом, Сен-Нектером, расположенным позади, и с Виши, который стоит прямо перед нами! И я одержу победу, потому что у меня в руках средство к успеху, единственное верное средство. Я сразу его увидел, как великий полководец видит слабую сторону неприятеля. Ведь и в нашем деле надо уметь командовать людьми, увлекать их за собою, покорять своей воле. Ах, как весело жить, когда можешь ворочать такими делами! Мне теперь на три года будет потехи с этим городом! И скажите, пожалуйста, какая удача: попался мне этот инженер! Интереснейшие вещи он рассказывал. Интереснейшие! Его рассуждения ясны, как день. Благодаря ему я разорю старое акционерное общество, мне даже не понадобится покупать их заведение.
Они двинулись дальше и стали не спеша подниматься по дороге, поворачивавшей влево, к Шатель-Гюйону.
Гонтран не раз говорил: «Когда я иду рядом со своим зятем, я слышу, ну, право же, ясно слышу, как в голове его звякают золотые монеты, точно в Монте-Карло: так вот и кажется – бросают их, подбирают, рассыпают, сгребают, выигрывают, проигрывают!»
Андермат и в самом деле производил странное впечатление человека-автомата, предназначенного для подсчетов, расчетов и всяких денежных манипуляций. Но сам он весьма гордился своей житейской практичностью и любил похвастать, что с первого взгляда может определить точную цену любой вещи. Где бы он ни был, он поминутно брал в руки то один, то другой предмет, внимательно его рассматривал, поворачивал во все стороны и заявлял: «Стоит столько-то». Его жену и шурина забавляла эта привычка, они для потехи подсовывали ему какую-нибудь диковинную вещицу и просили оценить ее, а когда их невероятные находки ставили его в тупик, оба хохотали как сумасшедшие. Иной раз Гонтран останавливал его на какой-нибудь парижской улице перед витриной первого попавшегося магазина и просил определить общую сумму стоимости всех выставленных в ней товаров, а то предлагал оценить проезжающий мимо потрепанный извозчичий фиакр с хромоногой клячей или же огромный фургон вместе с нагруженной в него мебелью.
Однажды на званом обеде у Андерматов он попросил зятя сказать, сколько приблизительно стоит Обелиск,[2] и когда банкир назвал какую-то сумму, Гонтран осведомился о стоимости моста Сольферино и Триумфальной арки на площади Звезды; в заключение он сказал с самым серьезным видом:
– Вы могли бы внести весьма ценный вклад в науку, произведя оценку главнейших монументов земного шара.
Андермат никогда не сердился на эти шутки и выслушивал их как человек, знающий себе цену, уверенный в своем превосходстве.
Как-то раз Гонтран спросил:
– А я сколько стою?
Вильям Андермат уклонился от ответа, но шурин пристал к нему:
– Ну скажите! Допустим, что меня поймали разбойники и держат в плену, какой бы выкуп вы дали за меня?
Андермат ответил:
– Ну что ж… Я бы выдал вексель, дорогой мой.
И его улыбка была так красноречива, что Гонтран обиделся и больше не настаивал.
Впрочем, Андермат любил и художественные безделушки – тут он отличался тонким вкусом, был большим знатоком и, коллекционируя их, проявлял чутье ищейки, как и в своих коммерческих операциях.
Они подошли к дому солидной постройки, похожему на городской. Гонтран остановил зятя и сказал:
– Вот и пришли.
У тяжелой дубовой двери висел чугунный молоток. Они постучались; им открыла тощая служанка.
Банкир спросил:
– Господин Ориоль дома?
Служанка ответила:
– Входите.
Они вошли в кухню, просторную, как всюду на фермах; в очаге под котлом еще тлел слабый огонь; из кухни их провели в комнату, где собралась вся семья Ориоль. Отец спал, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги на другом стуле. Сын, навалившись локтями на стол, читал Пти журналь, шевеля губами и, видимо, напрягая весь свой скудный ум, чтобы уловить смысл напечатанных слов, а обе дочери сидели в нише окна за вышиванием, начатым с двух концов.
Девушки встали первыми, обе разом, и изумленно глядели на нежданных гостей, потом поднял голову долговязый Жак, весь красный от напряжения, утомившего его мозг; наконец проснулся старик Ориоль и подобрал сначала одну свою длинную ногу, потом другую.
Стены в комнате были голые, выбеленные известкой, пол выложен плитками, все убранство состояло из стола, стульев с плетенными из соломы сиденьями, комода красного дерева, четырех лубочных картин под стеклом и широких белых занавесок на окнах.
Хозяева смотрели на гостей, гости – на хозяев, а служанка в подоткнутой до колен юбке, сгорая от любопытства, смотрела с порога на них на всех.
Андермат представился, назвал себя и своего шурина, графа де Равенеля, и отвесил глубокий поклон девушкам, склонившись в самой изящной светской манере; потом преспокойно уселся и сказал:
– Господин Ориоль! Я пришел к вам с деловым предложением. Не стану говорить обиняками, а объяснюсь откровенно. Вот в чем дело. Вы у себя на винограднике открыли источник. Через несколько дней будут известны результаты анализа. Если эта вода ничего не стоит, я, разумеется, отступлюсь, но если анализ оправдает мои ожидания, я предлагаю следующее: продайте мне этот клочок земли и прилегающие к нему участки.
Имейте в виду, что, кроме меня, никто не сделает вам такого предложения, никто! Старое акционерное общество не сегодня-завтра вылетит в трубу, где уж ему помышлять о новых затеях, а его банкротство отобьет и у других предпринимателей всякую охоту к новым попыткам.
Не давайте мне сегодня ответа, подумайте, посоветуйтесь со своей семьей. Когда результаты анализа будут известны, вы назначите цену. Если она подойдет мне, я скажу «да», не подойдет, скажу «нет» и распрощусь с вами. Я никогда не торгуюсь.
Дядюшка Ориоль, человек на свой лад деловой, а хитростью способный заткнуть за пояс кого угодно, учтиво ответил, что он подумает, посмотрит, что ему все это очень лестно, и предложил выпить по стаканчику вина.
Андермат согласился, и так как уже смеркалось, старик Ориоль сказал дочерям, которые снова принялись за вышивание и не отрывали от него глаз:
– Засветите-ка огоньку, дочки.
Они встали обе разом, вышли в соседнюю комнату и вскоре вернулись: одна принесла две зажженные свечи в подсвечниках, а другая – четыре стакана, грубые деревенские стаканы из толстого стекла. Свечи были разубраны розовыми бумажными розетками и зажжены, несомненно, в первый раз – должно быть, они стояли в виде украшения на камине в комнате девушек.
Ориоль-младший поднялся со стула: в подвал, где хранилось вино, всегда ходили только мужчины.
Андермата осенила удачная мысль:
– Я бы с удовольствием взглянул на ваш винный погреб. Вероятно, он у вас превосходный: ведь вы лучший винодел во всем крае.
Банкир задел самую чувствительную струнку старика Ориоля, тот засуетился и сам повел парижан, захватив одну из свечей. Прошли через кухню, спустились по ступенькам крылечка на широкий двор, где в сгущавшихся сумерках смутно виднелись поставленные стоймя пустые винные бочки; огромные гранитные жернова, которые откатили в угол, напоминавшие колеса какой-то исполинской античной колесницы; разобранный пресс для винограда с деревянными винтами, с темно-коричневой станиной, залоснившейся от долгого употребления, заигравшей вдруг бликами света; мотыги, плуги, у которых лемеха, отшлифованные землей, засверкали от огонька свечи, как сталь оружия. Все это одно за другим выступало из темноты, когда старик проходил мимо, держа свечу в одной руке и заслоняя ее другой рукою.
Уже и во дворе пахло виноградным вином, виноградными выжимками, сушеным виноградом. Подошли к двери, запертой на два замка. Ориоль отпер ее и, войдя, поднял свечу над головой; огонек слабо осветил длинные ряды пузатых бочек и стоявшие на них бочонки размером поменьше. Сначала Ориоль обратил внимание Андермата на то, что подвал глубоко уходит в гору, потом рассказал, какие вина налиты в бочках, сколько лет они выдержаны, из каких сортов винограда сделаны, каковы их качества, и наконец подвел к семейной бочке и, похлопав ее ладонью по широкому боку, словно любимую лошадь, горделиво сказал:
– Ну-ка, отведайте этого винца. Никакое вино бутылочного разлива с ним не сравнится, никакое! Хоть бордо возьмите, хоть любое другое.
Как и все крестьяне-виноделы, он считал, что разлив по бутылкам – только порча вина и баловство.
Великан, следовавший за ним с кувшином в руке, наклонился, отвернул кран у бочки; отец старательно светил ему, как будто сын выполнял сложную и деликатную работу.
Свеча ярко освещала их лица, и старик был похож на прокурора давних времен, а сын не то на солдата, не то на землепашца.
Андермат шепнул на ухо Гонтрану:
– Посмотрите, великолепный Тенирс![3]
Молодой парижанин ответил:
– Дочки мне больше по вкусу.
Потом все вернулись в дом. Пришлось пить вино, пить много, в угоду Ориолям.
Обе девушки сели поближе к столу, но не отрывались от вышивания, как будто в комнате никого посторонних не было. Гонтран поминутно на них поглядывал, сравнивал и думал: «Не близнецы ли они, уж очень похожи друг на друга». Впрочем, одна была немного полнее и меньше ростом, другая более изящна. Волосы у обеих были не черные, как ему сперва показалось, а темно-каштановые, густые, гладко причесанные на прямой пробор, и отливали шелком при каждом движении головы. Подбородок у обеих был тяжеловат, лоб слишком крутой, как у большинства жителей Оверни, скулы слегка выдавались, но рот был очаровательный, глаза дивные, тонкие брови на редкость красивого рисунка и восхитительно свежий цвет лица. Глядя на них, сразу чувствовалось, что они воспитывались не в деревенском доме, а в каком-нибудь монастырском пансионе для девиц, куда овернские богачи и знать посылают своих дочерей, и что там они приобрели сдержанные манеры благовоспитанных барышень.
Однако Гонтрану противно было красное вино, стоявшее перед ним в стакане, он толкал ногой Андермата, торопя его уйти поскорее. Тот наконец поднялся, и они энергично пожали руки обоим крестьянам, потом снова отвесили церемонный поклон девушкам, а те в ответ, не вставая, грациозно склонили головки.
На улице Андермат сказал:
– Что, дорогой, любопытная семейка, а? Как здесь ясно ощущается переход от народа к образованному обществу! Сын был нужен в крестьянском хозяйстве, и его оставили дома обрабатывать виноградники, чтобы сберечь деньги и не нанимать лишнего батрака, дурацкая экономия! Но, как бы то ни было, он остался крестьянином, а дочери почти уже светские барышни. А там, глядишь, они сделают хорошие партии и будут нисколько не хуже наших дам, даже лучше большинства из них. Одно удовольствие видеть таких людей: для меня это не менее приятная находка, чем для геолога какое-нибудь ископаемое животное третичного периода!
Гонтран спросил:
– Вам которая больше понравилась?
– Как это «которая»? Вы про кого говорите?…
– Про дочек.
– Ах, вот что. Право, не могу сказать! Я не приглядывался к ним, не сравнивал. Да вам-то не все ли равно? Надеюсь, вы не собираетесь похитить одну из них?
Гонтран засмеялся:
– О нет! Я просто любуюсь, я в восторге: хоть раз в жизни встретил такую юную девическую свежесть, настоящую, неподдельную свежесть, у наших светских барышень такой не бывает. Мне всегда приятно смотреть на прелестное женское личико, так же как вам – на какое-нибудь полотно Тенирса. Ах, хорошенькие девушки! К какому бы классу они ни принадлежали, где бы я их ни встретил, для меня всегда удовольствие смотреть на них. Это мои безделушки. Я не коллекционирую их, но любуюсь ими, любуюсь с страстным восторгом, как художник, – да, друг мой, как художник, убежденно и бескорыстно. Что поделаешь, люблю их! Кстати, не можете ли вы одолжить мне пять тысяч франков?
Андермат резко остановился и буркнул:
– Опять без денег?
Гонтран ответил спокойно:
– Всегда.
И они пошли дальше.
Банкир спросил:
– И куда вы, черт подери, деньги деваете?
– Трачу.
– Конечно, тратите. Но уж вы никакой меры не знаете.
– Дорогой мой! Я так же люблю тратить деньги, как вы любите наживать их. Понимаете?
– Допустим. Но вы совсем не умеете наживать.
– Верно, не умею. Нельзя все уметь. Вы вот, например, умеете наживать деньги, а тратить совсем не умеете. Что для вас деньги? Только средство наживать еще и еще. А я вот наживать не умею, зато отлично умею тратить. Деньги доставляют мне множество удовольствий, о которых вы знаете лишь понаслышке. Мы с вами дополняем друг друга, мы были созданы для того, чтобы породниться.
Андермат заворчал:
– Вот ветрогон! Нет, пяти тысяч вы не получите, а полторы тысячи так и быть дам… потому что… ну, потому что вы мне, пожалуй, понадобитесь на днях.
Гонтран спокойно произнес:
– Прекрасно. Тогда будем считать эти полторы тысячи задатком.
Андермат молча похлопал его по плечу.
Они вошли в парк, иллюминованный фонариками, развешанными на деревьях. Оркестр играл медлительную классическую арию, и она как будто спотыкалась и все куда-то проваливалась – столько в ней было пауз, и так ее исполняли все те же четыре музыканта, которым, должно быть, тошно было играть с утра до вечера в безлюдном парке для листвы и ручья, стараться производить шум за двадцать оркестровых инструментов и думать о том, что денег нет, а в конце месяца почти ничего не придется получить, так как Петрюс Мартель выдает им в счет жалованья корзинки вина и бутылки ликеров за отсутствием потребителей крепких напитков в пустующем казино.
А сквозь звуки музыки из бильярдной долетало щелканье костяных шаров и громкие выкрики: «Двадцать, двадцать один, двадцать два!»
Андермат и Гонтран поднялись в казино. Там сидели за столиком, неподалеку от музыкантов, только Обри-Пастер и доктор Онора; оба пили кофе. Петрюс Мартель и Лапальм по обыкновению яростно сражались на бильярде, кассирша дремала и, проснувшись, спросила:
– Что прикажете подать, господа?
ГЛАВА IV
Отец и сын Ориоли еще долго разговаривали, когда девушки легли спать. Взволнованные, возбужденные предложением Андермата, они старались придумать какой-нибудь способ, не нанося ущерба своим интересам, еще больше разжечь желание этого парижанина купить их землю.
С крестьянским здравомыслием, практичностью и расчетливостью они взвешивали все шансы, прекрасно понимая, что в их краю минеральные источники бьют на каждом шагу и, если запросить слишком дорого, отпугнешь нежданного покупателя, а другого такого, пожалуй, не сыщешь. И вместе с тем им не хотелось отдать источник в полную его собственность, ибо оттуда в один прекрасный день могут волной хлынуть деньги, чему примером служили Руайя и Шатель-Гюйон.
И вот они ломали себе головы, как и чем раззадорить банкира, измышляли всякие комбинации, фиктивные акционерные общества, якобы предлагающие более заманчивые условия, придумали целый ряд неуклюжих хитростей, сами чувствовали, что все шито белыми нитками, но ничего более искусного изобрести не могли. Спали они оба плохо, а утром отец, проснувшись первым, вдруг перепугался, не пропал ли за ночь источник. Ведь это возможно: появился и опять ушел под землю – попробуй найди его там! Старик встал, терзаясь муками скупца, растолкал сына и рассказал о своих опасениях. Великан откинул простыню из небеленого холста, спустил ноги, оделся и пошел с отцом посмотреть, цел ли источник.
Во всяком случае, не мешало сходить туда, все почистить, прибрать камни, навести красоту, чтобы и поле и источник имели приманчивый вид, как скотина, которую хочешь продать.
Захватив с собой кирки и заступы, они двинулись в путь, бок о бок, широко шагая враскачку.
Они шли, ни на что не глядя, поглощенные мыслями о своих делах, рассеянно отвечая «Здорово!» на приветствия встречавшихся соседей и друзей. Выйдя на риомскую дорогу, они заволновались, жадно вглядываясь в даль, не блеснет ли под утренним солнцем бурлящая в источнике вода. Пустынная дорога, припорошенная известковой пылью, тянулась белой лентой по самому берегу речки, бежавшей в тени старых ив. Под одной ивой Ориоли заметили две вытянутые ноги, а сделав еще несколько шагов, увидели, что там сидит на травке у обочины дороги старик Кловис, положив рядом с собой костыли.
Этого старого калеку, похожего на нищего с гравюры Калло,[4] знали во всей округе – он уже лет десять бродил там, с трудом передвигаясь на «дубовых лапах», как он называл свои костыли. Когда-то он браконьерствовал в лесах и на речках, не раз попадался и сидел в тюрьме, нажил жесточайший ревматизм на охоте, лежа по ночам в засаде на сырой траве, простуживаясь на рыбной ловле, бредя по пояс в холодной воде, и теперь стонал, охал и еле-еле ползал, как краб с оторванными клешнями. Переставляя костыли, он тащился по дорогам, волоча по земле правую ногу, висевшую, как тряпка, и держа на весу скрюченную, согнутую в колене левую ногу. Но деревенские парни, гонявшиеся в сумерках за девушками или за зайцами, утверждали, что и в кустах и на полянках им встречался старик Кловис, быстроногий, как олень, увертливый, как уж, а своим ревматизмом он просто-напросто морочит голову стражникам. Особенно упорно поддерживал эту молву долговязый Жак Ориоль: он прямо заявлял, что раз пятьдесят, не меньше, видел, как Кловис расставляет силки, преспокойно держа свои костыли под мышкой.
Поравнявшись со старым бродягой, дядюшка Ориоль остановился: в мозгу у него забрезжила пока еще смутная идея – в головах тяжелодумов-овернцев мысли ворочаются медленно.
Он поздоровался с Кловисом, тот ему ответил. Они поговорили о погоде, о цветении виноградников, о том о сем, но, видя, что Великан далеко ушел вперед, отец широким шагом пустился догонять его.
Источник никуда не пропал, но был теперь уже чистым, прозрачным, а дно в яме покрылось темно-красным налетом красивого пурпурового оттенка – несомненно, в осадках было много железистых солей.
Ориоли поглядели друг на друга с улыбкой и принялись расчищать поле, подбирать камни и складывать их в кучу. Найдя последние останки растерзанной взрывом собаки, они, перекидываясь шутками, зарыли ее. И вдруг старик Ориоль выронил из рук заступ. В уголках его тонкогубого рта и хитрых глаз заиграли морщины, все лицо светилось выражением торжества, и он сказал сыну:
– Пойдем-ка попытаем.
Сын покорно последовал за ним. Они снова вышли на дорогу и повернули назад, к деревне. Старик Кловис все еще грел на солнышке ноги и костыли.
Ориоль остановился напротив него и спросил:
– Хочешь заработать сотенную?
Бродяга из осторожности промолчал.
Ориоль повторил:
– Ну? Сотенную, говорю. Сто франков.
Бродяга набрался духу и пробормотал:
– Ишь ты! Чего спрашивать-то!
– Ладно. Слушай, вот что надо сделать.
И дядюшка Ориоль долго, пространно, обиняками, с лукавыми недомолвками и бесконечными повторениями втолковывал бродяге, что если он согласится сидеть ежедневно по часу, с десяти до одиннадцати утра, в воде их источника, в яме, которую он, Ориоль, и его сын Великан выроют около источника, а через месяц выздоровеет от всех своих недугов, то ему дадут за это сто франков звонкой монетой.
Паралитик слушал с тупым видом, а потом сказал:
– Никакие зелья меня не вылечили, так где уж вашей воде вылечить.
Великан вдруг разозлился:
– Брось ты, старый жулик! Нечего сказки рассказывать! Я-то знаю, какой ты больной. Расскажи-ка лучше, что ты делал в прошлый понедельник в Комберомбском лесу в одиннадцать часов ночи?
– Неправда! – сердито сказал старик.
Великан разгорячился:
– Ах, неправда? Черррт ты этакий! А кто ж, как не ты, перепрыгнул через канаву с огорода Жана Манеза и побежал Жеребячьей лощиной?
Бродяга энергично мотал головой:
– Неправда это!
– Неправда? А помнишь, я тебе крикнул: «Эй, Кловис, стражники!» – и ты разом махнул в сторону, на тропинку, что идет в Мулине.
– Неправда!
Долговязый Жак рассвирепел и стал кричать, почти угрожающе:
– Ах, неправда? Ну погоди, трехногий бородач, я тебе покажу! Как увижу тебя ночью в лесу или на речке – раз, раз и поймаю! Не убежишь, у меня ноги-то подлинней твоих. Сцапаю тебя и привяжу к дереву. А утром мы придем всей деревней и отведем тебя куда следует!
Ориоль остановил сына и сказал вкрадчиво:
– Слушай, Кловис, попробовать-то все-таки можно. Мы с Великаном выроем для тебя ванну. Ты будешь приходить каждый день – один месяц. И дам я тебе за это не сто, а двести франков. А как месяц пройдет и ты выздоровеешь, получай еще пятьсот франков. Слышишь? Пятьсот франков чистоганом да еще те двести! Всего, значит, семьсот. Понял? Двести франков за то, чтобы один месяц по часу сидеть в ванне, да особо пятьсот за то, что выздоровеешь. И еще вот что не забудь: ревматизм-то, бывает, отпустит да опять схватит. Если осенью тебе снова станет худо, мы уж тут ни при чем будем, вода-то все-таки свое дело сделала.
Старик спокойно ответил:
– Ну что ж. Коли так, я согласен. А не пойдет на лад, тогда посмотрим.
И три хитреца ударили по рукам, чтобы скрепить заключенную сделку. Потом Ориоли вернулись к источнику и принялись рыть ванну для Кловиса.
Поработав минут пятнадцать, они услышали на дороге голоса.
К источнику шли Андермат и доктор Латон. Крестьяне подмигнули друг другу и бросили копать.
Банкир подошел, пожал им руки, и все четверо молча уставились в воду. Она как будто кипела ключом на жарком огне, вся в пузырьках газа, и стекала к речке по узенькому мелкому ложу, которое уже успела себе проложить. Ориоль с горделивой улыбкой сказал:
– Железа-то в ней сколько! Железа!
В самом деле, уже все дно в яме стало красным, и даже мелкие камешки, которые вода омывала на пути к речке, казалось, были покрыты как бы налетом пурпурной плесени.
Доктор Латон заметил:
– Железо – это еще не все: важны другие свойства. Надо установить, есть ли они.
Крестьянин забеспокоился:
– Как не быть! Мы вчера вечером с Великаном выпили для почину по стаканчику, и уж оно сегодня заметно… Так по всему телу и пошла бодрость этакая. Верно, сынок?
Долговязый Жак ответил убежденно:
– Ну, понятно. Бодрость этакая по всему телу пошла.
Андермат стоял, не шевелясь, у края ямы. Он обернулся и сказал доктору:
– Для того, что я задумал, воды надо в шесть раз больше, чем дает этот источник, не так ли?
– Да, приблизительно.
– А как вы думаете, найдем мы новые источники?
– Ну, этого я не знаю.
– Вот в том-то и дело. Значит, с купчей на землю не следует спешить, подождем, что покажет бурение. Пока что, когда будет известен результат анализа, надо составить у нотариуса запродажную запись и указать в ней, что окончательная сделка состоится лишь в случае благоприятных результатов разведки.
Дядюшка Ориоль встревожился, он не понимал, о чем идет речь. Андермат объяснил ему, что одного источника для задуманного предприятия мало и, пока не найдены новые источники, покупать землю нет расчета. Но искать новые источники он может только после составления запродажной записи.
Оба Ориоля с самым искренним видом принялись уверять, что на их земле источников, поди, не меньше, чем виноградных лоз. Чего там! Копнешь – и готово. Вот увидите, увидите.
Андермат сухо ответил:
– Увидим.
Дядюшка Ориоль поспешно окунул руку в воду источника и заявил:
– А горяча-то как! Можно яйцо сварить! Куда горячее, чем в Бонфильском источнике.
Латон тоже обмакнул палец в воду и сказал, что, пожалуй, это верно.
Крестьянин опять заговорил:
– Да она и на вкус лучше, куда приятнее. И запаху скверного нет. Как хотите, а я за эту воду могу поручиться. Хорошая вода. Мне ли не знать здешних вод? Пятьдесят лет на моих глазах текут. Но уж такой хорошей никогда и не было. Никогда, никогда!
Помолчав немного, он снова принялся убеждать:
– Я зря говорить не буду. Разве я товар какой продаю? Вот, если угодно, так ее испытать можно, по-настоящему испытать на ваших глазах, а не по-докторски, не по-аптечному. На каком-нибудь больном человеке ее можно испробовать. Готов побиться об заклад, что моя вода и параличного вылечит, – такая она горячая и хорошая на вкус! Готов об заклад побиться!
Он умолк и, казалось, что-то припоминал, потом не спеша окинул взглядом ближние вершины гор, как будто искал, не появится ли там нужный для опыта паралитик. Не обнаружив его в поднебесных высотах, он опустил взгляд долу, на дорогу.
В двухстах метрах от источника, на краю дороги, виднелись недвижимые ноги бродяги Кловиса, а туловище его было скрыто стволом ивы.
Ориоль приложил руку ко лбу щитком и, вглядываясь, спросил у сына:
– Кто это там? Неужто Кловис? Гляди-ка, еще не ушел!
Долговязый Жак, засмеявшись, ответил:
– Он самый и есть. Сидит старый, в ногах-то заячьей прыти нету.
Ориоль шагнул к Андермату и степенно, веско произнес:
– Вот послушайте-ка меня, сударь, что я вам скажу. Видите, вон там сидит параличный? Доктор его хорошо знает. Ноги у него уже лет десять как отнялись, не может шагу ступить. Верно я говорю, доктор?
Латон подтвердил:
– Да, да. Ну уж если вам удастся вылечить такого калеку вашей водой, я согласен платить за нее по франку за стакан. – И, обращаясь к Андермату, пояснил: – Это ревматик и подагрик. Левую ногу у него свело в колене – судорожная контрактура мышц, а правая совершенно парализована. Случай, по-моему, неизлечимый.
Ориоль выждал, пока он выскажется, и неторопливо продолжал:
– Ну что ж, господин доктор, испытайте на нем мою воду – хотя бы один месяц. Я не говорю, что удастся вылечить, я ничего не говорю, а только прошу: испробуйте на нем. Вот мы тут с Великаном начали копать яму для камней. Ну что ж, пусть она будет для деда Кловиса. Пусть сидит там в воде по часу каждый день. И тогда посмотрим, посмотрим.
Доктор пробормотал:
– Ну, пожалуйста, пробуйте, если угодно. Ручаюсь, что ничего не выйдет.
Но Андермат, соблазнившись возможностью почти чудесного исцеления, с радостью ухватился за мысль, подсказанную крестьянином, и все четверо направились к бродяге, который сидел все так же неподвижно, греясь на солнышке.
Разгадав хитрость, старый браконьер стал притворно отказываться, долго упрямился, но наконец согласился с тем условием, что за каждый час, который он проведет в воде, Андермат будет платить ему по два франка.
Сделка была тотчас заключена. Решили даже, что первую свою ванну Кловис примет в этот же день, как только будет вырыта яма. Андермат обязался предоставить ему одежду, чтобы он мог «перемениться», выбравшись из воды, а дядюшка Ориоль и Великан обещали притащить стоявшую у них во дворе переносную пастушескую сторожку, чтобы калеке было где переодеться.
Затем банкир и доктор пошли обратно к деревне. У въезда в нее они расстались. Один направился в свой врачебный кабинет принимать больных, а другой в парк, чтобы подождать жену, собиравшуюся пойти на ванну в половине десятого.
Вскоре появилась Христиана. Вся в розовом с головы до ног, в розовой шляпе, под розовым зонтиком, с розовым личиком, она была словно утренняя заря. Для сокращения пути она спустилась из гостиницы по крутому косогору, легкая, быстрая, как птичка, когда та, сложив крылышки, перепрыгивает с камня на камень. Завидев мужа, она еще издали крикнула ему:
– Какие здесь чудесные места! Мне тут ужасно нравится!
Немногие больные, уныло бродившие по маленькому тихому парку, оборачивались, когда она проходила, а Петрюс Мартель, который стоял без куртки, с трубкой в зубах, у открытого окна казино, подозвал своего приятеля Лапальма, сидевшего в уголке за стаканом белого вина, и, причмокнув, воскликнул:
– Эх, черт! Хороша куколка!
Христиана вошла в водолечебницу, приветливо улыбнулась кассиру, сидевшему слева от входа, весело сказала: «Здравствуйте» – бывшему тюремному надзирателю, сидевшему справа, отдала билетик на ванну служительнице, одетой, как и та, что сидела в парке у источника, и пошла вслед за нею по коридору, куда выходили двери кабинок.
Одну из этих дверей отворили для нее, и она переступила порог довольно просторной комнаты с голыми стенами, где вся обстановка состояла из стула, зеркала и скамеечки для ног, а в желтом цементном полу было устроено овальное углубление, выложенное таким же цементом и служившее ванной.
Женщина, которая привела ее, отвернула кран, похожий на краны водоразборных колонок на улицах, и из маленького решетчатого отверстия на дне ванны забила вода, быстро наполнила ее, но не переливалась через край, а вытекала в трубку, проложенную в стене.
Христиана оставила свою горничную в отеле, а от услуг овернки отказалась и отослала ее, сказав, что разденется сама и позвонит, когда нужно будет подать простыню или что-нибудь понадобится.
Оставшись одна, она не спеша разделась, глядя, как в светлом бассейне еле заметно кружится понизу и волнуется вода. Раздевшись, она кончиком ноги попробовала воду, и тотчас приятное ощущение тепла побежало по всему телу; тогда она опустила в воду всю ногу, потом вторую и осторожно села, погрузившись в мягкую, ласковую теплоту прозрачной воды источника, который наполнял этот водоем, струился по ней самой и вокруг нее, покрывая маленькими пузырьками газа все ее тело – и ноги, и руки, и грудь. Она с удивлением смотрела, как эти бесчисленные воздушные пузырьки всю ее одевают панцирем из крошечных жемчужинок. А жемчужинки непрестанно отрываются от ее белой кожи, взлетают на поверхность воды и исчезают в воздухе, выталкиваемые другими, которые возникают на ней. Они возникали мгновенно, словно легкие, неуловимые и прелестные мелкие ягодки, плоды ее стройного, юного и розового тела, обладающего волшебной силой обращать капельки воды в жемчужины.
Христиане было так хорошо, так мягко касались, так ласково обнимали, обтекали ее струйки воды, трепещущие, живые, переливчатые струйки источника, бурлившего в водоеме у ее ног и убегавшего сквозь маленькое отверстие у края ванны, что ей хотелось навсегда остаться тут, не двигаться, не шевелиться, ни о чем не думать. Теплота, какая-то особая, восхитительная теплота согревала ее, на душе было покойно, безмятежно, и всю ее наполняло блаженное ощущение здоровья, мирной радости и тихой веселости. Журчание воды, вытекавшей из ванны, убаюкивало, и в дремотной неге она лениво думала то о том, то о другом: что будет делать сейчас и что будет делать завтра, на какие прогулки здесь можно ходить, думала об отце, о муже, о брате и о том высоком молодом человеке, который бросился спасать собаку, – после этого ей как-то было неловко с ним, она не любила порывистых людей.
Да, в этой теплой воде было хорошо, спокойно, и никакие желания не тревожили ее сердца, разве только смутная надежда иметь ребенка; в душе не возникало ни тени стремления изведать какую-то иную жизнь, волнение или страсть. Ей ничего не надо было, она чувствовала себя счастливой и довольной.
Вдруг она испугалась: кто-то открыл дверь; но оказалось, это овернка принесла простыню и халат. Двадцать минут уже истекли, пора было одеваться. Пробуждение было грустным, почти горестным; хотелось попросить, чтоб ей позволили побыть в ванне еще несколько минут, но потом она подумала, что впереди еще много дней, много таких же приятных минут; она с сожалением вышла из воды и закуталась в халат, нагретый так сильно, что он даже обжигал ее немножко.
Когда она уходила, доктор Бонфиль отворил дверь своего кабинета и, церемонно кланяясь, попросил ее войти. Он справился, как она себя чувствует, пощупал ей пульс, велел высунуть язык, осведомился о ее аппетите и пищеварении, спросил, хорошо ли она спит, затем проводил до самого выхода и все время повторял:
– Что ж, ничего, ничего, все благополучно, благополучно. Будьте так любезны передать вашему батюшке мой нижайший поклон. Он один из самых почтенных людей, какие мне встречались на моем поприще.
Наконец она избавилась от его назойливых забот, немного испортивших ей настроение, вышла и у дверей водолечебницы увидела отца в обществе Андермата, Гонтрана и Поля Бретиньи.
Ее муж, у которого всякая новая мысль все жужжала, жужжала в голове, словно муха, залетевшая в бутылку, рассказывал о паралитике и предлагал пойти посмотреть, принимает ли бродяга свою первую ванну.
Чтобы доставить ему удовольствие, все пошли к источнику.
Но Христиана тихонько удержала брата и, когда они отстали от других, сказала:
– Знаешь что, я хотела поговорить с тобой о твоем друге; он мне что-то не очень нравится. Расскажи мне о нем. Какой он?
И Гонтран, близко знакомый с Полем уже несколько лет, описал ей эту натуру, страстную, необузданную, искреннюю и способную на добрые порывы.
Поль Бретиньи, говорил Гонтран, – умный человек, но какой-то неистовый и все переживает слишком бурно. Он поддается каждому своему желанию, не умеет ни владеть, ни управлять собою, подавлять чувство рассудком, руководствоваться в жизни методически обдуманным планом и повинуется всем своим увлечениям, прекрасным или постыдным, едва только какая-нибудь мысль, какое-нибудь желание или страстное волнение потрясет его экзальтированную душу.
Он уже семь раз дрался на дуэли и так же способен в запальчивости оскорбить человека, как и стать после этого его другом, он влюблялся бешено, пылко в женщин всех классов и одинаково их обожал, начиная от модистки, встреченной у порога магазина, и кончая актрисой, которую он похитил, – да, буквально похитил в вечер первого представления, когда она вышла из театра и уже ступила ногой на подножку экипажа, чтобы ехать домой, – схватил ее на глазах остолбеневших прохожих, унес на руках, бросил в карету и умчал, пустив лошадей таким галопом, что похитителя не могли догнать.
И Гонтран сказал в заключение:
– Вот он какой! Славный малый и, кстати сказать, очень богат, но сущий безумец. Когда потеряет голову, на все, положительно на все способен.
Христиана сказала:
– У него какие-то необыкновенные духи. Дивный запах! Что это такое?
– Не знаю. Он не хочет говорить. Кажется, из России привезены. Подарок его актрисы, той самой, от которой я его теперь лечу. А запах в самом деле чудесный.
Вдали виднелась куча крестьян и больных – на курорте вошло в обычай гулять до завтрака по риомской дороге.
Христиана и Гонтран догнали маркиза, Андермата и Поля, и вскоре на том месте, где накануне высился утес, перед ними предстало странное зрелище: из земли торчала человеческая голова в изодранной войлочной серой шляпе и всклокоченная седая борода – голова, как будто отрубленная или выросшая тут, словно какой-то кочан. Вокруг стояли люди; крестьяне смотрели изумленно и молча (овернцы совсем не зубоскалы), а три толстых господина, по виду постояльцы второразрядной гостиницы, отпускали плоские шуточки.
Оба Ориоля стояли около ямы и сосредоточенно смотрели на бродягу, сидевшего там на камешке по горло в воде. Картина напоминала средневековую казнь преступника, обвиненного в колдовстве и чародействе; старик не выпускал из рук костылей, и они мокли в воде рядом с ним.
Андермат пришел в восторг:
– Браво, браво! Вот пример, которому должны последовать все местные жители, страдающие ревматизмом!
И, наклонившись к Кловису, он громко крикнул, словно тот был глухой:
– Ну как? Хорошо вам?
Старый бродяга, видимо, совсем одуревший от горячей ванны, ответил:
– Черррт бы ее взял, эту воду! До чего ж горяча! Того и гляди сваришься.
Но дядюшка Ориоль заявил:
– Чем горячей, тем для тебя пользительней.
Позади маркиза кто-то спросил:
– Что это тут происходит?
И Обри-Пастер, возвращавшийся с ежедневной своей прогулки, пыхтя и отдуваясь, подошел к яме.
Андермат объяснил ему свой план исцеления паралитика.
Но старик все твердил:
– До чего ж горяча пррроклятая!
Он пожелал вылезти из воды, жалобно охал, просил вытащить его.
Банкир с трудом успокоил его, пообещав надбавить по франку за каждую ванну.
Зрители кольцом обступили яму, где плавали в воде бурые лохмотья, облекавшие тело старика.
Кто-то сказал:
– Ну и похлебка! Неаппетитный навар!
А другой подхватил:
– Да и говядина-то не лучше!
Маркиз заметил, что в этом новом источнике гораздо больше пузырьков углекислоты, чем в ванных водолечебницы, а сами пузырьки крупнее и подвижнее.
Действительно, все рубище бродяги было покрыто пузырьками, и они взлетали на поверхность в таком изобилии, что казалось, в воде мелькают бесчисленные цепочки, бесконечные четки из крошечных круглых прозрачных алмазов, сверкавших на солнце ослепительным блеском.
Обри-Пастер засмеялся.
– Ну еще бы! – сказал он. – Вы послушайте, что вытворяют в здешнем ванном заведении. Известно, что минеральный источник надо поймать в силок, как птицу, или, вернее, засадить его под колокол. Это называется каптаж. Однако с источником, который подводят к ваннам в Анвале, произошла такая история. Углекислота легче воды и, выделяясь из нее, собиралась под верхушкой колокола, а когда ее накапливалось там слишком много, она устремлялась в трубы, проникала через них в ванны, насыщала воздух, и больные чувствовали удушье. За два месяца было три довольно тяжелых случая. Тогда опять обратились ко мне, и я изобрел очень простое приспособление: две трубы подводят из-под колокола воду и углекислый газ порознь и вновь соединяют их под ваннами, восстанавливая тем самым нормальный состав источника и не допуская опасного избытка углекислоты. Однако надо было потратить тысячу франков, чтоб сконструировать мое приспособление! И знаете, что сделал бывший тюремный надзиратель? Ни за что не угадаете. Проделал дыру в колоколе, чтобы отделаться от газа, и он, разумеется, стал улетучиваться. Таким образом, вам продают углекислые ванны без углекислоты или же с таким ничтожным ее количеством, что пользы от этих ванн немного. Зато здесь, посмотрите-ка!
Все пришли в негодование. Никто уже больше не смеялся, на нищего паралитика смотрели теперь с завистью. Каждый готов был схватить лопату и вырыть для себя ванну в земле рядом с ямой бродяги.
Андермат взял инженера под руку, и они пошли по дороге, о чем-то беседуя. Время от времени Обри-Пастер останавливался и чертил тростью в воздухе, как будто намечая направление чего-то, указывал узловые точки, а банкир делал пометки в записной книжке.
Христиана и Поль Бретиньи разговорились. Он рассказывал ей о своем путешествии по Оверни, описывал свои впечатления и чувства. Он любил природу безотчетной, пылкой любовью, в которой сквозило нечто звериное. Природа доставляла ему сладострастное наслаждение, от которого трепетали его нервы, все его тело.
Он говорил Христиане:
– Знаете, мне кажется, что я словно раскрываюсь, вбираю в себя все, и каждое впечатление пронизывает меня с такой силой, что я плачу, скриплю зубами. Ну вот, смотрите, перед нами зеленая круча, широкий кряж, и по нему карабкаются в гору полчища деревьев; мои глаза вбирают этот лес, он проникает в меня, заполоняет, бежит по моим жилам, и мне даже кажется, что я его ем, глотаю, сам становлюсь лесом.
Он говорил все это смеясь и устремлял круглые широко открытые глаза то на лес, то на Христиану, а она слушала, удивленная, смущенная, но понимала его впечатлительной душой, и ей казалось, что этот жадный взгляд расширенных зрачков пожирает и ее вместе с лесом.
Поль продолжал:
– А если б вы знали, какие радости приносит мне обоняние! Вот этот воздух, которым мы с вами дышим сейчас, я пью, опьяняюсь им и слышу все запахи, разлитые в нем, все, решительно все. Ну вот послушайте. Во-первых, самое главное. Когда вы приехали сюда, заметили вы, какой здесь аромат? Нежный, ни с чем не сравнимый аромат, такой тонкий, такой легкий, что он кажется… ну, как бы это сказать… почти невещественным. Он везде, везде, и никак не можешь разгадать, что же это такое, уловить, откуда он исходит. А между тем никогда ни один аромат на свете не давал мне такого наслаждения. И что ж – это запах цветущих виноградников! Ах, я только на пятый день открыл его! Какая прелесть! И разве не восхитительно думать, что виноград, дарящий нам вино – вино, которым по-настоящему, как знатоки, могут наслаждаться лишь избранные, дарит нам и нежнейшее, волнующее благоухание, различимое лишь для самых изощренных чувственных натур. А улавливаете ли вы в этом воздухе струю мощного запаха каштанов, приторно-сладкое благоухание акаций, аромат горных лугов и аромат травы – она пахнет так хорошо, так хорошо, и ведь никто этого и не замечает.
Она слушала его с изумлением – не потому, что слова его были каким-то поразительным открытием, но они совсем не походили на то будничное, обыденное, что всегда говорилось вокруг нее, и потому захватывали ее, волновали, вносили смятение в привычный строй ее мыслей.
А он все говорил голосом несколько глухим, но теплого тембра:
– И потом, скажите, заметили ли вы, что над дорогами, когда бывает жарко, в воздухе есть легкий привкус ванили? Замечали, да? И знаете, что это такое? Нет, я не решаюсь сказать…
Он расхохотался и вдруг, протянув руку вперед, сказал:
– Посмотрите.
По дороге тянулись вереницей возы с сеном, и каждый тащила пара коров. Медлительные, широколобые, они грузно переступали ногами, склонив под ярмом голову с крутыми рогами, привязанными к деревянной перекладине, и видно было, как под кожей движутся у них мослаки. Впереди каждого воза шел человек в сборчатой рубашке и безрукавке, в черной шляпе и прутом подгонял свою упряжку. Время от времени он оборачивался, но не бил корову, а только касался прутом ее плеча или лба, и она, мигая большими и глупыми глазами с поволокой, покорно повиновалась его жесту.
Христиана и Поль посторонились, чтобы дать им дорогу.
Бретиньи спросил:
– Вы чувствуете запах?
Она удивилась:
– Какой? Сейчас пахнет хлевом.
– Ну да, хлевом. Все эти коровы (лошадей совсем нет в здешних местах) рассеивают по дорогам запах коровника, и в сочетании с мельчайшей пылью он придает ветру привкус ванили.
Христиана брезгливо сказала:
– Фу!
Он возразил:
– Позвольте, я же делаю химический анализ, и только. Это отнюдь не мешает мне утверждать, что мы с вами, сударыня, находимся в дивном уголке Франции, пленяющем мягкой, успокаивающей красотой. Нигде я не видел такой природы. Мы перенеслись в золотой век. А Лимань! Ах эта Лимань! Нет, не буду о ней рассказывать, я хочу показать ее вам. Вы должны ее посмотреть!
Их догнали маркиз и Гонтран. Взяв дочь под руку, маркиз шутливо повернул ее и повел обратно, к деревне, напомнив, что пора идти завтракать.
Дорогой он сказал:
– Слушайте, детки, это касается вас, всех троих. Вильям совершенно сходит с ума, когда какая-нибудь мысль засядет ему в голову, и теперь он ни о чем думать не может, кроме своего будущего курорта. Он бредит им и для своих целей вознамерился пленить семейство Ориоль. Он хочет, чтобы Христиана познакомилась с девочками и посмотрела, приемлемы ли они в хорошем обществе. Но знакомство должно состояться так, чтобы отец и не подозревал о наших хитростях. И вот меня осенила идея: устроим благотворительный праздник. Ты, милочка, навестишь здешнего священника, и вы с ним выберете двух его прихожанок, которые будут собирать вместе с тобой пожертвования во время службы. Конечно, ты сумеешь подсказать ему, кого следует выбрать, и он их пригласит якобы по своему почину. А на вас, молодые люди, возлагается обязанность устроить в казино лотерею при содействии Петрюса Мартеля, его труппы и его оркестра. Если девицы Ориоль милы и благовоспитанны – говорят, их хорошо вышколили в монастырском пансионе, – Христиана несомненно покорит их.
ГЛАВА V
Целую неделю Христиана с увлечением занималась приготовлениями к празднику. Священник действительно нашел, что из всех его прихожанок только сестры Ориоль достойны чести собирать пожертвования вместе с дочерью маркиза де Равенеля, и, обрадовавшись возможности сыграть роль, стал хлопотать, все уладил, все устроил и пригласил обеих девушек, как будто ему первому пришла эта мысль.
Весь приход был взбудоражен; даже угрюмые обитатели курорта отвлеклись от разговоров о своих болезнях и обменивались за табльдотом различными соображениями по поводу возможной суммы сборов с двух празднеств, церковного и мирского.
День начался удачно. Стояла прекрасная летняя погода, жаркая и ясная; солнце заливало равнину, а в тени под деревьями веяло прохладой.
Служба была назначена в девять часов утра, краткая, но с органом. Христиана, придя до начала обедни, чтобы взглянуть, как убрана церковь цветочными гирляндами, заказанными в Руайя и в Клермон-Ферране, услышала шаги за своей спиной, – вслед за ней явился аббат Литр с сестрами Ориоль; аббат представил их Христиане, и она тотчас пригласила обеих девушек к завтраку. Они, краснея, с почтительными реверансами, приняли приглашение.
Начали собираться верующие.
Христиана и сестры Ориоль заняли почетные места – на стульях, поставленных для них впереди, а напротив них сели три принарядившихся молодых человека: сын мэра, сын его помощника и сын муниципального советника – их избрали для сопровождения сборщиц, чтобы польстить местным властям.
Все сошло очень хорошо.
Служба кончилась быстро. Сбор дал сто десять франков, к этому присоединили пятьсот франков, пожертвованных Андерматом, пятьдесят – маркизом де Равенелем, сто франков от Поля Бретиньи, и в итоге получилось семьсот шестьдесят франков – сумма небывалая в анвальском приходе.
После обедни сестер Ориоль повели завтракать в отель. Обе казались несколько смущенными, но держали себя очень мило, и, хотя почти не принимали участия в разговоре, видно было, что это не робость, а скорее скромность. Они завтракали за табльдотом и понравились всем мужчинам, всем без исключения.
Старшая была степеннее, младшая – живее; старшая – благовоспитаннее в обыденном смысле этого слова, младшая – милее, приветливее; и вместе с тем они были похожи друг на друга, как могут только быть похожи сестры.
После завтрака все отправились в казино, где в два часа был назначен розыгрыш лотереи.
Парк уже заполнила пестрая толпа крестьян и больных, и он напоминал ярмарку.
В китайской беседке музыканты играли сельскую симфонию – произведение самого Сен-Ландри. Поль, который шел с Христианой, вдруг остановился.
– Ого! – воскликнул он. – Недурно! Право, недурно! Маэстро Сен-Ландри несомненно талантлив. Если б это играл настоящий оркестр, впечатление было бы большое.
И он спросил Христиану:
– Вы любите музыку?
– Очень.
– А меня она мучает. Когда я слушаю любимую вещь, то первые же звуки как будто срывают с меня кожу, вся она тает, растворяется, словно и нет ее на моем теле; все мои мышцы, все нервы обнажены и беззащитны перед натиском музыки.
Право же, оркестр играет на моих обнаженных нервах, и они вздрагивают, трепещут, отзываясь на каждую ноту. Я воспринимаю музыку не только слухом, я ощущаю ее всем телом, и оно вибрирует с ног до головы. Музыка! Сколько она дает мне наслаждения, вернее – счастья! Ничто с ним не может сравниться.
Христиана улыбнулась:
– Какие у вас бурные чувства!
– Ах, боже мой, да стоит ли жить, если нет этих бурных чувств! Не завидую тем людям, у которых сердце обросло кожей бегемота или покрыто щитом черепахи. Счастлив только тот, у кого ощущения так остры, что причиняют боль, кто воспринимает их как потрясения и наслаждается ими, как изысканным лакомством. Ведь надо осознавать все переживания, и радостные и горькие, наполнять ими душу до краев и, упиваясь ими, испытывать самое острое блаженство или самые мучительные страдания.
Она подняла на него глаза, удивленная его речами, как и всем, что слышала от него за неделю их знакомства.
И правда, этот новый друг – он сразу же стал ее другом, несмотря на первое неприятное впечатление, – уже целую неделю непрестанно смущал покой ее души, поднимая в ней волнение, как будто бросал камни в чистое, прозрачное озеро. И немало больших камней он кидал в эту мирную глубину.
Отец Христианы, как это свойственно отцам, все еще смотрел на нее как на маленькую девочку, с которой незачем говорить о серьезных вещах; брат умел ее посмешить, но не способен был натолкнуть на какие-то размышления; мужу даже и в голову не приходило, что с женой можно разговаривать о чем-либо, выходящем за пределы житейских интересов совместной жизни, и до сих пор Христиана жила в какой-то безмятежной сладкой дремоте.
И вот пришел человек, который ударами мысли, подобными ударам топора, пробил стену, замыкавшую ее узкий кругозор. Да еще человек этот принадлежал к тому типу мужчин, которые нравятся женщинам, всем женщинам, самим своим складом, силой и остротой переживаний. Он умел говорить с женщинами, все передать, все заставить понять. Богато одаренный, но неспособный к длительным усилиям, всегда одержимый страстной любовью или ненавистью, обо всем говоривший с неподдельной искренностью и яростной убежденностью переменчивой и восторженной натуры, он в избытке обладал женскими чертами – впечатлительностью, обаянием, душевной гибкостью, сочетавшимися с более широким, деятельным и проницательным мужским умом.
К ним быстрым шагом подошел Гонтран.
– Обернитесь, – сказал он. – Взгляните на любопытную супружескую пару.
Они обернулись и увидели доктора Онора под руку с толстой старой женщиной в голубом платье и в шляпе, похожей на клумбу из ботанического сада, – столько на ней было насажено разнообразнейших цветов и растений.
Христиана удивленно спросила:
– Неужели это его жена? Да ведь она старше его лет на пятнадцать?
– Угадала, ей шестьдесят пять лет. Бывшая повивальная бабка. Подцепила себе доктора в мужья на каких-нибудь родах. Впрочем, их супружеская жизнь проходит в постоянных стычках.
Услышав громкие возгласы и гул толпы, они повернули обратно, к казино. Перед входом на больших столах были разложены выигрыши лотереи, а Петрюс Мартель при содействии мадемуазель Одлен из Одеона, миниатюрной темноволосой особы, вытаскивал и громогласно объявлял номера, потешая при этом столпившуюся публику балаганными шутками. Подошел маркиз вместе с Андерматом и сестрами Ориоль.
– Ну как? – спросил он. – Останемся или уйдем? Уж очень тут шумно.
Решили прогуляться в горы по дороге в Ла-Рош-Прадьер.
На дорогу поднялись гуськом, через виноградники, по узкой тропинке. Впереди всех быстрым, упругим шагом шла Христиана. С первых же дней приезда в Анваль она чувствовала, что живет как-то по-новому: самые обычные удовольствия приобрели неожиданную яркость, и никогда еще она не испытывала такой радости жизни. Быть может, причина была в том, что от ванн ее здоровье укрепилось, организм избавился от недомоганий, которые всегда угнетают человека и вызывают как будто беспричинное уныние; теперь она свободнее могла воспринимать впечатления и наслаждаться природой. А может быть, она была так радостно возбуждена просто оттого, что теперь рядом с нею постоянно был загадочный для нее человек, открывавший ей в своих пылких речах столько нового.
Она шла, вдыхая воздух полной грудью, и вспоминала, что он говорил ей об ароматах, которые несет с собою ветер. «А ведь правда, – думала она, – он научил меня различать их в воздухе». Теперь она и сама различала все эти ароматы, особенно благоухание цветущих виноградников, такое легкое, тонкое, ускользающее.
Наконец все выбрались на дорогу и пошли по ней парами. Андермат и Луиза, старшая из сестер Ориоль, ушли вперед, беседуя о доходности овернских земель. Юная овернка, истая дочь своего отца, унаследовавшая его практичность, знала до мелочей, как ведется в Оверни сельское хозяйство; она рассказывала о нем ровным, спокойным голоском, серьезно и скромно, с интонациями благовоспитанной барышни, усвоенными в пансионе.
Андермат слушал, поглядывал на нее сбоку и находил очаровательной эту девицу, такую молоденькую и такую положительную, уже прекрасно знакомую с деловой стороной жизни. Иногда он выражал некоторое удивление:
– Как! В Лимани, вы говорите, цены на землю доходят до тридцати тысяч за гектар?
– Да, если она засажена хорошо привитыми яблонями, которые дают лучшие десертные сорта яблок. Ведь почти все фрукты, которые съедает Париж, поставляют наши края.
Тут Андермат обернулся и с уважением посмотрел на равнину Лимани – с горной дороги был виден ее бескрайний простор, как всегда затянутый мглистой голубоватой дымкой.
Христиана и Поль тоже остановились, залюбовавшись этими нежно затуманенными далями, и не могли наглядеться на них.
Дорогу теперь осеняли огромные ореховые деревья, и в их густой тени стояла приятная прохлада. Подъем уже кончился, дорога извивалась по склону, покрытому виноградниками, а ближе к вершине – низкой травой; все было зелено до самого гребня горного кряжа, не очень высокого в этом месте.
Поль тихо сказал:
– Какая красота! Скажите, ведь правда красиво? Почему так захватывает этот пейзаж, почему он так мил сердцу? Какое-то удивительное, глубокое очарование исходит от него, а главное, что за ширь! Глядишь отсюда на равнину, и кажется, что мысль расправляет крылья и взмывает ввысь, парит, кружит в поднебесье, а потом пронесется над этой гладью и летит далеко-далеко, в волшебную страну наших мечтаний, которую мы не увидим никогда. Да, это прекрасно, потому что больше походит на сказку, на грезу, а не на осязаемую, зримую действительность.
Христиана слушала молча, исполненная смутных ожиданий, какой-то надежды, непонятного волнения, и жадно ловила каждое его слово. Ей и в самом деле чудились вдали иные, неведомые края, лазурные, розовые, чудесные, сказочные края, недостижимые, но всегда манящие, прекраснее всех стран земных.
Он сказал еще:
– Да, это прекрасно, потому что прекрасно. Много есть пейзажей, более поражающих взгляд, но нет в них такой гармонии. Ах, красота, гармоническая красота! Это – самое важное в мире! Вне красоты ничего, ровно ничего не существует. Но лишь немногие понимают ее. Линии человеческого тела или статуи, очертания горы, колорит картины или вот этой шири, нечто неуловимое в улыбке Джоконды, слово, пронизывающее душу волнением, маленькая черточка, которая художника обращает в творца, равного Богу, – кто же, кто из людей замечает это?
Нет, я должен прочесть вам две строфы Бодлера:
Ты вестница небес иль ада – все равно, О красота, фантом, прелестный и ужасный! Твой взор, твой лик, твой шаг откроют мне окно В любимый мною мир, безвестный, но прекрасный. Ты ангел или зверь, ты бог иль сатана — Не все ли мне равно, волшебное виденье! С тобой, о свет и ритм, о ветер и волна, Не так уродлив мир и тяжелы мгновенья.[5][6]Христиана смотрела на него с недоумением, удивляясь его восторженности, и глаза ее спрашивали: «Что ж необыкновенного находишь ты в этих стихах?»
Он угадал ее мысли и, рассердившись на себя за то, что не сумел приобщить ее к своим восторгам, – а ведь он так хорошо прочитал эти стихи, – сказал с легким оттенком презрения:
– Какой я, право, глупец! Вздумал читать женщине стихи самого утонченного поэта! Но, я надеюсь, настанет день, когда вы все это почувствуете, поймете, как и я. Женщины все воспринимают больше чувством, чем сознанием, они постигают сокровенную тайну искусства лишь в ту пору своей жизни, когда голос его находит сочувственный отклик в их душе.
И, поклонившись, он добавил:
– Я постараюсь вызвать в вас этот сочувственный отклик.
Слова его не показались ей дерзкими, а только странными.
Да она уж и не пыталась больше понять его – ее поразило открытие, которое она сделала только сейчас: она обнаружила, что он очень изящен и одет с тонким, изысканным вкусом, но это в нем не сразу заметно, потому что он слишком высок ростом, широкоплеч, облик у него слишком мужественный.
Да и в чертах лица у него было что-то грубое, незавершенное, усиливавшее на первый взгляд впечатление тяжеловесности. Но вот теперь, когда черты эти стали для нее привычными, она увидела, что в нем есть обаяние властной силы, а минутами у него в ласковых интонациях всегда глуховатого голоса сквозит мягкость.
Впервые заметив, как тщательно он одет с головы до ног, Христиана подумала: «Удивительные бывают люди – все, что в них есть привлекательного, открывается лишь постепенно, одно за другим. Вот и он такой».
Вдруг они услышали, что их догоняет Гонтран. Он весело кричал:
– Христиана! Стой, погоди!
И, догнав их, он, смеясь, заговорил:
– Ах, идите скорей, послушайте младшую сестрицу! До чего она забавная, остроумная! Прелесть! Папа в конце концов ее приручил, и она нам рассказывает преуморительные истории. Подождем их.
И они остановились, дожидаясь маркиза, который шел с Шарлоттой Ориоль.
Она с детским увлечением и лукавством рассказывала смешные деревенские истории, рисующие и простодушие и хитрость овернцев. Она подражала их жестам, повадкам, медлительной речи, их выговору и черрртыханью, уснащающему их споры, комически изображала их мимику, от которой ее хорошенькое личико становилось еще милее. Живые глаза ее блестели, рот, довольно большой, красиво приоткрывался, сверкали белые ровные зубы, немного вздернутый носик придавал ей задорный вид, и вся она была такая очаровательная, дышала такой свежестью едва распустившегося цветка, что хотелось ее расцеловать.
Маркиз почти всю жизнь прожил в своем поместье, Христиана и Гонтран выросли в родовой усадьбе, хорошо знали дородных и важных нормандских фермеров, которых, по старинному обычаю, иногда приглашали в господский дом к столу; вместе с их детьми они ходили к первому причастию, играли вместе и обращались с ними запросто, и теперь им нетрудно было найти нужный тон с этой крестьяночкой, почти уже барышней, говорить с ней по-дружески просто, с ласковой непринужденностью, и она расцвела доверчивостью и весельем.
Андермат и Луиза дошли до села и, повернув обратно, присоединились к остальным.
Все сели на траву под высоким деревом на откосе дороги и пробыли тут долго, тихо беседуя обо всем и ни о чем, в ленивой неге блаженного спокойствия. Иногда по дороге медленно тянулась телега, с двумя коровами в упряжке, сгибавшими голову под ярмом; как всегда, впереди шел сухопарый крестьянин в широкополой черной шляпе и, помахивая прутом, словно дирижерской палочкой, управлял своей упряжкой.
Крестьянин снимал шляпу, здоровался с сестрами Ориоль, и звонкие девичьи голоса приветливо отвечали ему: «Добрый вечер!»
Домой вернулись уже в сумерках.
Когда подходили к парку, Шарлотта воскликнула:
– Ах, бурре! Танцуют бурре!
В самом деле, в парке танцевали бурре под звуки старинной овернской мелодии.
Крестьяне и крестьянки то выступали плавным шагом, то подпрыгивали, кружились и жеманно кланялись друг другу, при этом женщины подхватывали юбку на боках двумя пальчиками, а мужчины опускали руки, как плети, или подбоченивались.
Однообразная, но приятная мелодия тоже как будто кружилась в прохладном вечернем воздухе; скрипка без конца пела одну и ту же музыкальную фразу, выводила ее тоненьким, пронзительным голоском, а прочие инструменты скандировали ритм, придавая мелодии плясовую игривость. Простая крестьянская музыка, веселая и безыскусственная, очень подходила к этому незатейливому деревенскому менуэту.
Приезжие городские господа тоже пытались танцевать бурре. Петрюс Мартель скакал перед миниатюрной мадемуазель Одлен, а она манерничала, как фигурантка в балете; комик Лапальм выписывал ногами кренделя и вертелся волчком вокруг кассирши казино, явно взволнованный воспоминаниями о балах в зале Бюлье.
Вдруг Гонтран заметил доктора Онора, который отплясывал от души, не жалея ног, и, как чистокровный овернец, танцевал настоящее, классическое бурре.
Оркестр смолк. Все остановились. Доктор, тяжело дыша и отирая лоб платком, подошел поздороваться с маркизом.
– Хорошо иногда вспомнить молодость, тряхнуть стариной, – сказал он.
Гонтран положил ему руку на плечо и сказал с ехидной улыбкой:
– А вы мне и не говорили, что вы женаты!
Доктор перестал утираться и ответил угрюмо:
– Да, женат, и неудачно.
Гонтран переспросил:
– Что вы сказали?
– Неудачно, говорю, женат. Никогда не делайте такой глупости, молодой человек. Не женитесь.
– Почему?
– Да вот почему… Я, знаете ли, уже двадцать лет женат и все никак не могу к этому привыкнуть. Придешь домой вечером и всегда думаешь: «Как! Эта старуха все еще тут? Что ж, она так никогда и не уйдет?»
Все засмеялись – с таким серьезным, убежденным видом он это сказал.
В отеле зазвонил колокол – сзывали к обеду.
Праздник кончился. Луизу и Шарлотту Ориоль проводили всей компанией до родительского дома и, когда распрощались с девушками, стали говорить о них. Все находили, что они обе очаровательны. Но Андермату все же больше понравилась старшая. Маркиз сказал:
– Сколько гибкости в женской натуре! Одного лишь соседства с отцовским золотом, которым эти девочки еще и пользоваться-то не умеют, оказалось достаточно, чтобы из крестьянок они стали барышнями.
Христиана спросила у Поля Бретиньи:
– А вам которая больше нравится?
– Мне? Да я даже и не смотрел на них. Мне нравится другая.
Он сказал это очень тихо; Христиана ничего не ответила.
ГЛАВА VI
Для Христианы Андермат настали счастливые дни. На душе у нее всегда было теперь легко и радостно. Каждое утро начиналось восхитительным удовольствием – ванной, в которой нежилось тело; полчаса, проведенные в теплой струящейся воде источника, словно подготовляли Христиану к ощущению счастья, длившемуся ведь день, до самого вечера. Да, она была счастлива, все стало радужным – и мысли и желания. Чья-то нежность, облаком окутывавшая ее, упоение жизнью, молодость, трепетавшая в каждой жилке, а также новая обстановка, этот чудесный край, словно созданный для покоя и грез, широкие просторы, благоуханный воздух, ласка природы – все будило в ней неведомые прежде чувства. Все, что ее окружало, все, с чем она соприкасалась, поддерживало это ощущение счастья, которое давала утренняя ванна; широкая и теплая волна счастья омывала ее, и вся она, душой и телом, погружалась в нее.
Андермат, решивший проводить в Анвале только две недели в месяц, уже уехал в Париж, поручив жене последить за тем, чтобы паралитик не прекращал лечения.
И каждое утро перед завтраком Христиана с отцом, братом и Полем Бретиньи ходила смотреть, как «варится суп из бродяги», по выражению Гонтрана. Приходили и другие больные и, обступив яму, где сидел Кловис, разговаривали с ним.
Старик утверждал, что «ходить-то он еще не ходит», но чувствует, как у него бегают мурашки по ногам. И он рассказывал, как они бегают, эти мурашки. Вот бегут, бегут по ногам выше колена, потом побежали вниз, спускаются до пальцев. Даже и ночью бегают, щекочут, кусают и не дают ему спать.
Приезжие господа и крестьяне, разделившись на два лагеря – маловеров и верующих, с одинаковым интересом следили за этим новым курсом лечения.
После завтрака Христиана обычно заходила за сестрами Ориоль, и они вместе отправлялись на прогулку. Из всего женского общества на курорте только с этими девочками ей было приятно поболтать и провести время, только к ним она чувствовала дружеское доверие и от них одних могла ждать теплой женской привязанности. Старшая сестра сразу понравилась ей своим положительным умом, рассудительностью и спокойным благодушием, а еще больше понравилась младшая, остроумная, по-детски шаловливая, и теперь Христиана искала сближения с ними не столько в угоду мужу, сколько для собственного удовольствия.
Прогулки совершали то пешком, то в ландо, в старом шестиместном дорожном ландо, нанятом в Риоме на извозном дворе.
Самым любопытным местом прогулки была дикая лощинка близ Шатель-Гюйона, которая вела в уединенный грот Сан-Суси.
Шли туда узкой дорожкой, извивавшейся по берегу речки под высокими елями, шли парами и разговаривали. Дорожку то и дело пересекал ручей, приходилось перебираться через него; тогда Поль и Гонтран, встав на камни в быстрой воде, протягивали руку дамам, и те одним прыжком перескакивали на другой берег. После каждой переправы порядок, в котором шли, менялся.
Христиана оказывалась то в одной паре, то в другой, но всегда находила предлог побыть наедине с Полем Бретиньи, уйдя вперед или отстав от остальных.
Теперь он держал себя с ней иначе, чем в первые дни, меньше смеялся и шутил, исчезла его резкость, товарищеская непринужденность, появилась почтительная заботливость.
Разговоры их приняли оттенок интимности, и в них большое место занимали сердечные дела. Поль говорил о них как человек многоопытный, изведавший женскую любовь, которая дала ему много счастья, но не меньше принесла и страданий.
Христиана слушала с некоторым смущением, но со жгучим любопытством и сама искусно вызывала его на откровенность. Все, что она знала о нем, пробудило в ней горячее желание узнать еще больше, проникнуть мыслью в загадочную, лишь смутно знакомую по романам мужскую жизнь, полную бурь и любовных тайн.
И он охотно шел навстречу этому любопытству, каждый день рассказывал что-нибудь новое о своей жизни, о своих романах и горестях любви; пробуждавшиеся в нем воспоминания вносили в слова пламенную страстность, а желание понравиться – затаенное коварство.
Он открывал перед глазами Христианы неведомый ей мир, он так красноречиво умел передать все переходы чувства, томление ожидания, растущую волну надежды, благоговейное созерцание бережно хранимых мелочей – засохшего цветка, обрывка ленты, – боль внезапных сомнений, горечь тревожных догадок, муки ревности и неизъяснимое, безумное блаженство первого поцелуя.
Но он рассказывал обо всем этом с большим тактом, не нарушая приличий, накидывая на все прозрачный покров, рассказывал поэтически и увлекательно. Как всякий мужчина, обуреваемый неотвязной мыслью о женщине, он, весь еще трепеща от любовной лихорадки, но с деликатными умолчаниями говорил о тех, кого любил. Он вспоминал множество обаятельных черточек, волнующих сердце, множество трогательных минут, от которых слезы навертываются на глаза, и все те милые мелочи, которые украшают ухаживание и для людей изысканных чувств и тонкого ума придают столько прелести любовным отношениям.
Эти волнующие откровенные беседы велись каждый день, с каждым днем все дольше и западали в сердце Христианы, как семена, брошенные в землю. И красота необъятных далей, ароматы, разлитые в воздухе, голубая Лимань, ее просторы, от которых как будто ширилась душа, угасшие вулканы на горном кряже – былые очаги земли, теперь согревающие лишь воду для больных, прохлада под тенистыми деревьями, журчание ручьев, бегущих по камням, – все это тоже проникало в молодую душу и тело, словно тихий теплый дождь, размягчающий девственную почву, летний теплый дождь, после которого вырастают цветы из посеянных в нее семян.
Христиана чувствовала, что этот человек немного ухаживает за ней, считает ее хорошенькой и даже больше чем хорошенькой, ей приятно было, что она нравится, возникало желание пленить и покорить его, подсказывавшее ей уйму хитрых и вместе с тем простодушных уловок.
Если его глаза выдавали волнение, она внезапно уходила от него; если чувствовала, что вот-вот начнутся признания в любви, она останавливала его на полуслове, бросив на него быстрый и глубокий взгляд, один из тех женских взглядов, которые огнем палят сердце мужчины.
Как тонко, немногими словами или совсем без слов, легким кивком, мнимо небрежным жестом или же грустным видом, который быстро сменялся улыбкой, она умела показать, что его усилия не пропадают даром!
Но чего же она хотела? Ничего. Чего ждала от этой игры? Ничего. Она тешилась этой игрой просто потому, что была женщина, что совсем не сознавала опасности, ничего не предчувствовала и только хотела посмотреть, что же он будет делать.
В ней вдруг вспыхнул огонек врожденного кокетства, тлеющий в крови всех женщин. Вчера еще наивная девочка, погруженная в дремоту, вдруг пробудилась и стала гибким и зорким противником в поединке с этим мужчиной, постоянно говорившим ей о любви. Она угадывала все возраставшее его смятение, когда он был возле нее, видела зарождавшуюся страсть в его взгляде, понимала все интонации его голоса с той особой чуткостью, которая развивается у женщины, когда она чувствует, что мужчина ищет ее любви.
За ней не раз ухаживали в светских гостиных, но ничего не могли добиться от нее, кроме насмешек шаловливой школьницы. Пошлые комплименты поклонников забавляли ее, унылые мины отвергнутых воздыхателей казались уморительными, на все проявления нежных чувств она отвечала задорными шутками.
Но теперь она вдруг почувствовала, что перед ней опасный, обольстительный противник, и превратилась в искусную кокетку, вооруженную природной прозорливостью, смелостью, хладнокровием; в соблазнительницу, которая, пока в ней не заговорило сердце, подстерегает, захватывает врасплох и накидывает невидимые сети любви.
В первое время она казалась ему глупенькой. Привыкнув к женщинам-хищницам, искушенным в любовных делах, как старый вояка искушен в боевых маневрах, женщинам, опытным во всех приемах кокетства и тонкостях страстей, он счел слишком пресной эту сердечную простоту и даже относился к Христиане с легким презрением.
Но мало-помалу сама эта нетронутость, эта чистота заинтересовали его, потом пленили, и, следуя своей увлекающейся натуре, он начал окружать молодую женщину нежным вниманием.
Он знал, что лучшее средство взволновать чистую душу – это беспрестанно говорить ей о любви, делая вид, что думаешь при этом о других женщинах; и, ловко пользуясь ее разгоревшимся любопытством, которое сам же и пробудил в ней, он под предлогом доверчивых излияний души принялся читать ей в тени лесов настоящий курс любовной страсти.
Для него, так же как и для нее, это была увлекательная забава; всевозможными маленькими знаками внимания, которые мужчины умеют изобретать, он показывал, что она все больше нравится ему, и разыгрывал роль влюбленного, еще не подозревая, что скоро влюбится не на шутку.
Для них обоих вести эту игру во время долгих, медлительных прогулок было так же естественно, как естественно для человека, оказавшегося в знойный день на берегу реки, искупаться в прохладной воде.
Но с того дня, когда в Христиане пробудилось настоящее кокетство, когда ей вдруг открылись все женские хитрости обольщения и вздумалось повергнуть к своим стопам этого человека бурных страстей, как захотелось бы выиграть партию в крокет, наивный искуситель попался в сети этой простушки и полюбил ее.
И тогда он стал неловким, беспокойным, нервным; она же играла с ним, как кошка с мышью.
С другой он не подумал бы стесняться, дал бы волю смелым признаниям, покорил бы ее захватывающей пылкостью своего темперамента; с нею он не решался на это: она была так не похожа на других женщин, которых он знал раньше.
Всех этих женщин уже обожгла жизнь, им можно было все сказать, с ними он мог осмелиться на самые дерзкие призывы страсти, дрожа, шептать, склоняясь к их губам, слова, от которых огонь бежит в крови. Он знал себя, знал, что бывает неотразимым, когда может открыться свободно в томящем его бурном желании и взволновать душу, сердце, чувственность той, которую любит.
Но возле Христианы он робел, словно она была девушка, – такую неопытность он угадывал в ней, и это сковывало все его искусство обольстителя. Да и любил он ее по-новому, как ребенка и как невесту. Он желал ее и боялся коснуться, чтобы не загрязнить, не осквернить ее чистоты. У него не возникало желания до боли сжать ее в своих объятиях, как других женщин, ему хотелось стать перед ней на колени, коснуться губами края ее платья, с тихой, бесконечной нежностью целовать завитки волос на ее висках, уголки губ и глаза, закрывшиеся в неге голубые глаза, чувствовать под сомкнутыми веками трепетный взгляд. Ему хотелось взять ее под свою защиту, оберегать от всех и от всего на свете, не допускать, чтоб она соприкасалась с грубыми, пошлыми людьми, видела уродливые лица, проходила близ неопрятных людей. Ему хотелось убрать всю грязь с улиц, по которым она проходит, все камешки с дорог, все колючки в лесу, сделать так, чтобы вокруг нее все было красивым и радостным, носить ее на руках, чтобы ножки ее никогда не ступали по земле. Его возмущало, что ей надо разговаривать с соседями в отеле, есть дрянную стряпню за табльдотом, переносить всякие неприятные и неизбежные житейские мелочи.
Близ нее он не находил слов, – так он был полон мыслями о ней; и оттого, что он был бессилен излить свое сердце, не мог осуществить ни одного своего желания и хоть чем-нибудь выразить сжигавшую его властную потребность всего себя отдать ей, он смотрел на нее взглядом дикого зверя, скованного цепями, и вместе с тем ему почему-то хотелось плакать, рыдать.
Она все это видела, хотя и не совсем понимала, и потешалась над ним со злорадством кокетки.
Если они оказывались одни, отстав от других, и она чувствовала, что вот-вот в нем прорвется что-то опасное для нее, она вдруг пускалась бегом догонять отца и, подбежав к нему, весело кричала:
– Давайте сыграем в четыре угла!
Впрочем, все их путешествия обычно заканчивались игрой в четыре угла. Отыскивали полянку или широкую полосу дороги и играли, как школьники на загородной прогулке.
Обеим сестрам Ориоль и даже Гонтрану большое удовольствие доставляла эта забава, удовлетворявшая желанию побегать, свойственному всем молодым существам. Только Поль Бретиньи хмурился и ворчал, одержимый совсем иными мыслями, но мало-помалу и его увлекала игра, он принимался догонять и ловить с еще большим пылом, чем другие, стремясь поймать Христиану, коснуться ее, внезапно положить ей руку на плечо, дотронуться до ее стана.
Маркиз, человек беспечный и равнодушный по природе, покладистый во всем, лишь бы не нарушали его безмятежного душевного покоя, усаживался под деревом и смотрел, «как резвится его пансион». Он находил, что эта мирная сельская жизнь очень приятна и все на свете превосходно.
Однако поведение Поля вскоре стало внушать Христиане страх. Однажды она даже по-настоящему испугалась его.
Как-то утром они пошли вместе с Гонтраном на «Край света» – так называли живописное ущелье, из которого вытекала анвальская речка.
Это извилистое ущелье, все более сужаясь, глубоко врезается в горный кряж. Надо пробираться между огромными глыбами, переправляться через ручей по крупным булыжникам, а когда обогнешь скалистый выступ горы высотою больше пятидесяти метров, перегородивший всю теснину, вдруг попадаешь в какой-то каменный ров с исполинскими стенами, лишь вверху поросшими кустарником и деревьями.
Ручей разливается здесь маленьким, совершенно круглым озерком; и какой же это дикий, глухой уголок, странный, фантастический, неожиданный; такой чаще встретишь в книжных описаниях, чем в природе.
И вот в то утро Поль, разглядывая высокий уступ скалы, который всем преграждал путь на прогулке, заметил на гранитном барьере следы, доказывавшие, что кто-то карабкался на него.
Он сказал:
– А ведь можно пройти и дальше!
И, не без труда взобравшись на отвесную стену, крикнул:
– О-о! Вот прелесть! Рощица в воде! Взбирайтесь!
Он лег ничком на верхушке глыбы, протянул руки и стал подтягивать Христиану, а Гонтран, поднимаясь вслед за ней, поддерживал ее и ставил ее ноги на каждый едва заметный выступ.
Позади этой преграды на каменную площадку упала когда-то земля, обвалившаяся с вершины горы, и там разросся дикий ветвистый садик, где бежал между стволами деревьев ручей.
Немного подальше гранитный коридор был перегорожен вторым уступом; они перелезли и через него, потом через третий и очутились у подножия непреодолимой кручи, откуда с высоты двадцати метров ручей падал отвесным водопадом в вырытый им глубокий водоем, укрытый сплетениями лиан и ветвей.
Расщелина стала такой узкой, что два человека, взявшись за руки, могли бы достать до обеих ее стенок. Вверху, высоко, виднелась полоска неба, в теснине слышался шум водопада; они оказались в одном из тех сказочных тайников природы, которые латинские поэты населяли нимфами из античных мифов. Христиане казалось, что они дерзостно ворвались во владения какой-нибудь феи.
Поль Бретиньи молчал. Гонтран воскликнул:
– Ах, как было бы красиво, если б в этом водоеме купалась белокурая женщина с нежно-розовым телом!
Они пошли обратно. С первых двух уступов спускаться было довольно легко, но третий напугал Христиану – такой он был высокий и отвесный: казалось, некуда поставить ногу.
Бретиньи соскользнул по гранитной стене, протянул руки и крикнул:
– Прыгайте!
Христиана не решалась – не оттого, что боялась упасть, – ее страшил он сам, особенно его глаза.
Он смотрел на нее жадным взглядом голодного зверя, и в этом взгляде была какая-то злобная страсть; руки, протянутые к ней, звали ее так властно, что ее охватил безумный страх, ей хотелось с пронзительным воплем кинуться прочь, вскарабкаться на отвесную скалу, только бы спастись от этого непреодолимого призыва.
Брат, стоявший позади нее, крикнул: «Да ну же, прыгай!» – и подтолкнул ее; Христиана в ужасе закрыла глаза и полетела куда-то в пропасть, но вдруг нежные и крепкие объятия подхватили ее, и, ничего не сознавая, ничего не видя, она скользнула вдоль большого сильного тела, ощутив на своем лице жаркое прерывистое дыхание. Но вот уже ноги ее коснулись земли, страх прошел, она открыла глаза и, улыбаясь, стала смотреть, как спускается Гонтран.
Однако пережитое волнение сделало ее благоразумной, несколько дней она остерегалась оставаться наедине с Полем Бретиньи, а он, казалось, бродил теперь вокруг нее, как волк из басни бродит вокруг овечки.
Но как-то раз задумали совершить дальнюю прогулку. Решили взять с собою провизию и поехать в шестиместном ландо вместе с сестрами Ориоль на Тазенатское озеро, которое местные жители называли «Тазенатский чан», пообедать там на траве и вернуться домой ночью, при лунном свете.
Выехали в знойный день после полудня, когда солнце жгло нещадно и накалило гранитные утесы, как стенки жарко натопленной печки.
Тройка мокрых от пота лошадей, тяжело поводя боками, медленно тащила в гору старую коляску; кучер клевал носом на козлах; по краям дороги между камней шныряли зеленые ящерицы. Горячий воздух, казалось, был насыщен тяжелой огненной пылью; порой он как будто застывал плотной неподвижной пеленой, которую нужно было прорывать, а иногда чуть колыхался, обдавая лицо дыханием пожара и густым запахом нагретой солнцем смолы, разливавшимся из длинных сосновых перелесков по обеим сторонам дороги.
В ландо все молчали. Три дамы, помещавшиеся на заднем сиденье, прикрывались зонтиками и жмурились в розовой их тени, спасаясь от жгучих лучей, слепивших глаза; маркиз и Гонтран спали, закрыв лицо носовым платком; Поль смотрел на Христиану, и она тоже следила за ним взглядом из-под опущенных ресниц.
Оставляя за собой столб белой пыли, коляска все ехала и ехала по бесконечному подъему.
Но вот выбрались на плоскогорье. Кучер встрепенулся, выпрямился, лошади взяли рысью, и коляска покатилась по гладкой дороге, пролегавшей среди широкой, волнистой, распаханной равнины, где были разбросаны рощи, деревни и одинокие дома. Вдалеке, слева, виднелись высокие усеченные конусы вулканов. Тазенатское озеро – цель прогулки – образовалось в кратере самого дальнего вулкана, на краю овернской горной гряды.
Они ехали уже три часа. Вдруг Поль сказал:
– Смотрите, лава!
У края дороги землю прорезали причудливо изогнутые коричневые глыбы и застывшие каменные потоки. Справа выросла какая-то странная, приплюснутая гора с плоской верхушкой, казалось, пустой внутри. Свернули на узкую дорогу, как будто врезавшуюся треугольником в эту гору. Христиана приподнялась, и вдруг перед ее глазами в большом и глубоком кратере заблестело озеро, чистое, совершенно круглое, сверкавшее на солнце, как новенькая серебряная монета. Склоны кратера, справа лесистые, слева голые, окружали его высокой ровной оградой. В спокойной воде, отливавшей металлическим блеском, справа отражались деревья, слева – бесплодный гранитный склон; отражались так четко, так ярко, что берега нельзя было отличить от их отражений, и только в середине этой огромной воронки виднелся голубой зеркальный круг, в который гляделось небо, и он казался сияющей бездной, провалом, доходившим сквозь землю до другого небосвода.
Дальше в экипаже нельзя было проехать. Все вылезли и пошли лесистым берегом по дороге, огибавшей озеро на середине склона. Дорога эта, по которой ходили только дровосеки, вся заросла травой, на ней было зелено, как на лугу, а сквозь ветви деревьев виднелся другой берег и вода, искрившаяся в этой горной чаше.
Через поляну вышли на самый берег и устроились под тенистым дубом на откосе, поросшем травой. Все вытянулись на мягкой, густой траве с каким-то чувственным наслаждением. Мужчины катались по ней, зарывались в нее руками. Женщины, спокойно лежа, прижимались к ней щекою, как будто искали ласки свежих, сочных ее стеблей.
После палящей жары в дороге все испытывали такое приятное, такое отрадное ощущение прохлады и покоя, что оно казалось почти счастьем.
Маркиз снова заснул, а вскоре и Гонтран последовал его примеру. Поль тихо разговаривал с Христианой и девушками. О чем? О всяких пустяках. Время от времени кто-нибудь произносил какую-то фразу. Другой, помолчав, отвечал; лень было думать, лень говорить, и мысли и слова, казалось, замирали в дремоте.
Кучер принес корзину с провизией. Сестры Ориоль, с детства приученные к домашним заботам и еще сохранившие привычку хлопотать по хозяйству, тотчас принялись немного поодаль распаковывать корзину и приготовлять все для обеда.
Поль остался один с Христианой; она задумалась о чем-то и вдруг услышала еле внятный шепот, такой тихий, как будто ветер прошелестел в ветвях слова, которые прошептал Поль: «В моей жизни не было лучшего мгновения».
Почему эти туманные слова взволновали ей всю душу? Почему они так глубоко растрогали ее?
Она по-прежнему смотрела в сторону и сквозь деревья увидела маленький домик-хижину охотников или рыболовов – совсем маленький, наверно, в нем была только одна комната. Поль заметил, куда она смотрит, и спросил:
– Случалось ли вам когда-нибудь думать о том, как хорошо было бы жить в такой вот хижине двум любящим, безумно любящим людям? Одни, совсем одни в целом мире – только он и она!.. И если возможно такое блаженство, разве не стоит ради него все бросить, от всего отказаться?… Счастье… Ведь оно приходит так редко, и такое оно неуловимое, краткое. А разве наши будни – это жизнь? Какая тоска! Вставать утром, не ведая пламенной надежды, смиренно тянуть лямку все одних и тех же занятий и дел, пить, есть, соблюдать во всем умеренность и осторожность да спать по ночам крепким сном с невозмутимым спокойствием чурбана.
Христиана все смотрела на домик, и к горлу у нее подступили слезы: она вдруг поняла, что есть в жизни опьяняющее счастье, о существовании которого она никогда и не подозревала.
Теперь и она тоже думала, что в этом домике, приютившемся под деревьями, хорошо было бы укрыться вдвоем и жить вот тут, на берегу чудесного, игрушечного озера, сверкающего, как драгоценность, настоящего зеркала любви. Вокруг была бы такая тишина – ни звука чужих голосов, ни малейшего шума жизни. Только любимый человек возле нее. Они вместе часами смотрели бы на голубое озеро, а он бы еще смотрел в ее глаза, говорил бы ласковые, нежные слова, целуя ей кончики пальцев.
Они жили бы здесь в лесной тиши, и этот кратер стал бы хранителем их страсти, как хранит он в своей чаше глубокое прозрачное озеро, замкнув его высокой ровной оградой своих берегов; пределом для взгляда были бы эти берега, пределом мыслей – счастье любви, пределом желаний – тихие бессчетные поцелуи.
Выпадает кому-нибудь в мире на долю такое счастье? Наверно. Почему же не быть ему на свете? И как же это она раньше даже и не думала, что могут быть такие радости?
Сестры Ориоль объявили, что обед готов. Было уже шесть часов. Разбудили маркиза и Гонтрана, и все уселись по-турецки перед тарелками, скользившими по траве. Сестры Ориоль по-прежнему исполняли обязанности горничных, и мужчины преспокойно принимали их услуги. Ели медленно, бросая в воду куриные кости и кожуру фруктов. Принесли шампанское, и, когда хлопнула пробка первой бутылки, все поморщились – таким здесь казался неуместным этот звук.
День угасал; в воздухе посвежело; с вечерним сумраком на озеро, дремавшее в глубине кратера, спустилась смутная печаль.
Солнце закатывалось, небо на западе запылало, и озеро стало огненной чашей; потом солнце скрылось за горой, по небу протянулась темно-красная полоса, багряная, как потухающий костер, и озеро стало кровавой чашей. И вдруг над гребнем горы показался почти полный диск луны, совсем еще бледный на светлом небе. А потом по земле поползла тьма, луна же все поднималась и засияла над кратером, такая же круглая, как он. Казалось, она вот-вот упадет в него. И когда луна встала над серединой озера, оно превратилось в чашу расплавленного серебра, а его спокойная, недвижная гладь вдруг подернулась рябью, то пробегавшей стремительной змейкой, то медленно расплывавшейся кругами. Как будто горные духи реяли над озером, задевая воду своими невидимыми покрывалами.
Это выплыли из глубины озера большие рыбы – столетние карпы, прожорливые щуки – и принялись играть при лунном свете.
Сестры Ориоль уложили в корзину всю посуду и бутылки; кучер унес ее. Пора было отправляться домой.
Пошли по лесной дорожке, где сквозь листву дождем падали на траву пятнышки лунного света; Христиана шла предпоследней, впереди Поля, и вдруг услышала почти у самого своего уха прерывистый тихий голос:
– Люблю вас!.. Люблю!.. Люблю!..
Сердце у нее так заколотилось, что она чуть не упала. Ноги подкашивались, но она все-таки шла, совсем обезумев; ей хотелось обернуться, протянуть к нему руки, броситься в его объятия, принять его поцелуй. А он схватил край косынки, прикрывавшей ее плечи, и целовал его с каким-то неистовством. Она шла, почти теряя сознание, земля ускользала у нее из-под ног.
Внезапно темный свод ветвей кончился, все вокруг было залито светом, и Христиана сразу овладела собой. Но прежде чем сесть в коляску, прежде чем скрылось из виду озеро, она обернулась и, прижав к губам обе руки, послала ему воздушный поцелуй; и тот, кто шел вслед за нею, все понял.
Всю дорогу Христиана сидела не шевелясь, не в силах ни двигаться, ни говорить, ошеломленная, разбитая, словно она упала и ушиблась. Как только подъехали к отелю, она быстро поднялась по лестнице и заперлась в своей комнате. Она заперла дверь и на задвижку и на ключ – таким неотвязным было это ощущение преследующего ее, стремящегося к ней страстного мужского желания. Вся замирая, стояла она посреди полутемной пустой комнаты. На столе горела свеча, и по стенам протянулись дрожащие тени мебели и занавесок. Христиана бросилась в кресло. Мысли ее путались, ускользали, разбегались, она не могла связать их. А в груди накипали слезы – так ей почему-то стало горько, тоскливо, такой одинокой, заброшенной чувствовала она себя в этой пустой комнате, и так страшно было, что в жизни она заблудилась, точно в лесу.
Куда же она идет? Что делать?
Ей было трудно дышать. Она встала, отворила окно, толкнула ставни и оперлась на подоконник. Потянуло прохладой. Одинокая луна, затерявшаяся в высоком и тоже пустом небе, далекая и печальная, поднималась теперь к самому зениту синеватого небесного свода и лила на листву и на горы холодный, жесткий свет.
Весь край спал. В глубокой тишине долины порой разносились только слабые звуки скрипки: Сен-Ландри всегда до позднего часа разучивал свои арии; Христиана почти не слышала их. Дрожащая, скорбная жалоба трепещущих струн то смолкала, то вновь звучала в воздухе.
И эта луна, затерявшаяся в пустынном небе, и эта еле слышная песня скрипки, терявшаяся в безмолвии ночи, пронизывали душу такой болью одиночества, что Христиана разрыдалась. Она вся содрогалась от рыданий, ее бил озноб, мучительно щемило сердце, как это бывает, когда к человеку подкрадывается опасная болезнь, и она вдруг поняла, что она совсем одинока в жизни.
До сих пор она этого не сознавала, а теперь тоска одиночества так овладела ею, что ей казалось, будто она сходит с ума.
Но ведь у нее были отец, брат, муж! Она же все-таки их любила, и они любили ее! А вот вдруг она сразу отошла от них, они стали чужими, как будто она едва была знакома с ними. Спокойная привязанность отца, приятельская близость брата, холодная нежность мужа теперь казались ей пустыми, ничтожными. Муж! Да неужели этот румяный болтливый человек, равнодушно бросавший: «Ну как, дорогая, вы хорошо себя чувствуете сегодня?» – ее муж? И она принадлежит этому человеку? Ее тело и душа стали его собственностью в силу брачного контракта? Да как же это возможно? Она чувствовала себя совсем одинокой, загубленной. Она крепко зажмурила глаза, чтобы заглянуть внутрь себя, чтобы лучше сосредоточиться.
И тогда все они, те, кто жил возле нее, прошли перед ее внутренним взором: отец – беспечный себялюбец, довольный жизнью, когда не нарушали его покой; брат – насмешливый скептик; шумливый муж – человек-автомат, выщелкивающий цифры, с торжеством говоривший ей: «Какой я сегодня куш сорвал!» – когда он мог бы сказать: «Люблю тебя!»
Не он – другой прошептал ей эти слова, все еще звучавшие в ее ушах, в ее сердце. Он, этот другой, тоже встал перед ее глазами, она чувствовала на себе его пристальный, пожирающий взгляд. И если бы он очутился в эту минуту возле нее, она бросилась бы в его объятия!
ГЛАВА VII
Христиана легла очень поздно, но лишь только в незатворенное окно потоком красного света хлынуло солнце, она проснулась.
Она поглядела на часы – пять часов – и снова вытянулась на спине, нежась в тепле постели. На душе у нее было так весело и радостно, как будто ночью к ней пришло счастье, какое-то большое, огромное счастье. Какое же? И она старалась разобраться, понять, что же это такое – то новое и радостное, что всю ее пронизывает счастьем. Тоска, томившая ее вчера, исчезла, растаяла во сне.
Так, значит, Поль Бретиньи любит ее! Он казался ей совсем другим, чем в первые дни. Сколько ни старалась она вспомнить, каким видела его в первый раз, ей это не удавалось. Теперь он стал для нее совсем иным человеком, ни в чем не похожим на того, с кем ее познакомил брат. Ничего в нем не осталось от прежнего Поля Бретиньи, ничего: лицо, манера держаться и все, все стало совсем другим, потому что образ, воспринятый вначале, постепенно, день за днем, подвергался переменам, как это бывает, когда человек из случайно встреченного становится для нас хорошо знакомым, потом близким, потом любимым. Сами того не подозревая, мы овладеваем им час за часом, овладеваем его чертами, движениями, его внешним и внутренним обликом. Он у нас в глазах и в сердце, он проникает в нас своим голосом, своими жестами, словами и мыслями. Его впитываешь в себя, поглощаешь, все понимаешь в нем, разгадываешь все оттенки его улыбки, скрытый смысл его слов; и наконец кажется, что весь он, целиком принадлежит тебе, настолько любишь пока еще безотчетной любовью все в нем и все, что исходит от него.
И тогда уж очень трудно припомнить, каким он показался нам при первой встрече, когда мы смотрели на него равнодушным взглядом.
Так, значит, Поль Бретиньи любит ее! От этой мысли у Христианы не было ни страха, ни тревоги, а только глубокая благодарная нежность и совсем для нее новая, огромная и чудесная радость – быть любимой и знать это.
Только одно беспокоило ее: как же теперь держать себя с ним, как он будет держаться? Этот щекотливый вопрос смущал ее совесть, и она отстраняла подобные мысли, полагаясь на свое чутье, свой такт, решив, что сумеет управлять событиями. Она вышла из отеля в обычный час и увидела Поля – он курил у подъезда папиросу. Он почтительно поклонился.
– Доброе утро, сударыня! Как вы себя чувствуете сегодня?
– Благодарю вас, – ответила она с улыбкой, – очень хорошо. Я спала прекрасно.
И она протянула ему руку, опасаясь, что он задержит ее руку в своей. Но он лишь слегка пожал ее, и они стали дружески беседовать, как будто оба все уже позабыли.
За весь день он ни словом, ни взглядом не напомнил ей о страстном признании у Тазенатского озера. Прошло еще несколько дней, он был все таким же спокойным, сдержанным, и у нее вернулось доверие к нему. «Конечно, он угадал, что оскорбит меня, если станет дерзким», – думала она. И надеялась, твердо верила, что их отношения навсегда остановятся на том светлом периоде нежности, когда можно любить и смело смотреть друг другу в глаза, не мучась укорами совести, ничем ее не запятнав.
Все же она старалась не удаляться с ним от других.
Но вот в субботу вечером, на той же неделе, когда они ездили к Тазенатскому озеру, маркиз, Христиана и Поль возвращались в десятом часу в отель, оставив Гонтрана доигрывать партию в экарте с Обри-Пастером, Рикье и доктором Онора в большом зале казино, и Бретиньи, заметив луну, засеребрившуюся сквозь ветви деревьев воскликнул:
– А хорошо было бы пойти в такую ночь посмотреть на развалины Турноэля!
И Христиану тотчас увлекла эта мысль – лунный свет, развалины имели для нее то же обаяние, как и почти для всех женщин.
Она сжала руку отца:
– Папа, папочка! Пойдем туда!
Он колебался, ему очень хотелось спать. Христиана упрашивала:
– Ты только подумай: Турноэль и днем необыкновенно красив, – ты ведь сам говорил, что никогда еще не видел таких живописных развалин. Этот замок и эта высокая башня… А ты представь себе, как же они должны быть прекрасны в лунную ночь!
Маркиз наконец согласился:
– Ну хорошо, пойдемте. Только с одним условием: полюбуемся пять минут и сейчас же обратно. В одиннадцать часов мне полагается уже лежать в постели.
– Да, да. Мы сейчас же вернемся. Туда и идти-то всего двадцать минут.
И они направились втроем к Турноэлю. Христиана шла под руку с отцом, а Поль рядом с нею.
Он рассказывал о своих путешествиях по Швейцарии, по Италии и Сицилии, описывал свои впечатления, восторг, охвативший его на гребне Монте-Роза, когда солнце взошло над грядой покрытых вечными снегами исполинов, бросило на льдистые вершины ослепительно яркий белый свет и они зажглись, словно бледные маяки в царстве мертвых. Он говорил о том волнении, которое испытал, стоя на краю чудовищного кратера Этны, почувствовав себя ничтожной букашкой на этой высоте в три тысячи метров, среди облаков, видя вокруг лишь море и небо – голубое море внизу, голубое небо вверху, и когда, наклонившись над кратером, над этой страшной пастью земли, он чуть не задохнулся от дыхания бездны.
Он рисовал то, что видел, широкими мазками, сгущая краски, чтобы взволновать свою молодую спутницу, а она жадно слушала его и, следуя мыслью за ним, как будто сама видела все эти величественные картины.
Но вот на повороте дороги перед ними вырос Турноэль. Древний замок на островерхой скале и высокая тонкая его башня, вся сквозная от расселин, пробоин, ото всех разрушений, причиненных временем и давними войнами, вырисовывались в призрачном небе волшебным видением.
Все трое в изумлении остановились. Наконец маркиз сказал:
– В самом деле, очень недурно. Словно воплощенный фантастический замысел Гюстава Доре. Посидим тут пять минут.
И он сел на дерновый откос дороги.
Но Христиана, не помня себя от восторга, воскликнула:
– Ах, папа, подойдем к нему поближе! Ведь это так красиво, так красиво! Умоляю тебя!
На этот раз маркиз отказался наотрез:
– Ну уж нет, дорогая. Я сегодня нагулялся, больше не могу. Если хочешь посмотреть поближе, ступай с господином Бретиньи, а я вас здесь подожду.
Поль спросил:
– Хотите, сударыня?
Она колебалась, не зная, как быть, – боялась остаться с ним наедине и боялась оскорбить этим недоверием порядочного человека.
– Ступайте, ступайте! – повторил маркиз. – Я вас здесь подожду.
Тогда она подумала, что отцу ведь будут слышны их голоса, и сказала решительно:
– Идемте.
И они пошли вдвоем по дороге.
Но уже через несколько минут ее охватило мучительное волнение, смутный, непонятный страх – страх перед черными развалинами, страх перед ночью, перед этим человеком. Ноги вдруг перестали слушаться ее, как в тот вечер у Тазенатского озера, они как будто вязли в болотной топи, каждый шаг давался с трудом.
У дороги, на краю луга, рос высокий каштан. Христиана, задыхаясь, как будто она долго бежала, бросилась на землю и прислонилась спиной к стволу дерева.
– Я не пойду дальше… Отсюда хорошо видно, – невнятно сказала она.
Поль сел рядом с нею. Она слышала, как бьется ее сердце быстрыми, резкими толчками. С минуту они молчали. Потом Поль спросил:
– Вам не кажется, что мы уже жили когда-то прежде?
Ничего не понимая от волнения и страха, она прошептала:
– Не знаю. Я никогда об этом не думала.
– А я думаю иногда… вернее, чувствую это… Ведь человек состоит из души и тела, они как будто отличны друг от друга, но природа их одна и та же, и, несомненно, они могут возродиться, если элементы, составившие их в свое время, соединятся в том же сочетании. И новый человек будет не таким же точно, но очень схожим с тем, кто существовал когда-то, если тело, подобное прежнему, оживит душа, подобная прежней. Сегодня вечером я чувствую, я уверен, что я жил когда-то в этом замке. Я узнаю свое гнездо, я владел им, сражался в нем, оборонял его. Это несомненно. И я уверен также, что любил тогда женщину, очень похожую на вас, ее даже и звали так же, как вас, Христианой! Я настолько в этом уверен, что, мне кажется, я вновь вижу вас вон там, на этой башне, вы зовете меня оттуда. Ну, вспомните, постарайтесь вспомнить! Позади замка спускается в глубокую долину лес. Мы с вами часто бродили там. В теплые летние вечера на вас были легкие одежды, а на мне тяжелые доспехи, звеневшие под сводами листвы.
Неужели вы не помните, Христиана? Подумайте, постарайтесь вспомнить! Ведь ваше имя мне так знакомо, как будто я слышал его с детских лет. А если внимательно осмотреть все камни этой крепости, на одном из них прочтешь его – оно вырезано моей рукой! Да, да, уверяю вас, я узнаю мое гнездо и мой край, так же как я узнал вас при первой же встрече, с первого взгляда!
Он говорил со страстной убежденностью, вдохновленный близостью этой женщины, красотой этой лунной ночи и развалин.
Внезапно он стал на колени перед Христианой и прерывающимся голосом сказал:
– Позвольте же мне поклоняться вам! Я так долго искал вас и наконец нашел!
Она хотела подняться, уйти, вернуться к отцу, но не было сил, не хватало мужества; ее удерживало, сковывало ее волю жгучее желание слушать его, впивать сердцем слова, восхищавшие ее. Она как будто перенеслась в волшебный мир всегда манящих мечтаний, поэтических грез, в мир лунного света и баллад.
Он схватил ее руки и, целуя ей кончики пальцев, шептал:
– Христиана!.. Христиана! Возьмите меня!.. Убейте меня!.. Люблю вас… Христиана…
Она чувствовала, как он дрожит, трепещет у ее ног. Он целовал ей колени, и из груди у него вырывались глухие рыдания. Ей стало страшно, не сошел ли он с ума, и она торопливо поднялась, хотела бежать. Но он вскочил быстрее, чем она, и, схватив ее в объятия, впился в ее губы поцелуем.
И тогда без крика, без возмущения, без сопротивления она упала на траву, как будто от этого поцелуя у нее подкосились ноги, сломилась воля. И он овладел ею так же легко, как срывают созревший плод.
Но едва он разжал объятия, она поднялась и бросилась бежать, обезумев, вся дрожа, вся похолодев, как будто упала в ледяную воду. Он догнал ее в несколько прыжков и, схватив за плечо, прошептал:
– Христиана, Христиана!.. Осторожнее – там ваш отец!
Она пошла медленнее, не отвечая, не оборачиваясь, машинально передвигая ноги, неровной походкой, спотыкаясь. Он шел следом молча, не смея заговорить с ней.
Завидев их, маркиз поднялся.
– Идемте скорее, – сказал он. – Мне уж холодно стало. Все это очень живописно, но для здоровья вредно.
Христиана прижималась к отцу, как будто искала у него защиты, искала приюта в его нежности.
Вернувшись в свою комнату, она мгновенно разделась, бросилась в постель, накрылась одеялом с головой и заплакала. Уткнувшись лицом в подушку, она плакала долго-долго, уничтоженная, обессиленная. Не было у нее ни мыслей, ни страданий, ни сожаления. Она не думала, не размышляла и сама не знала, почему плачет. Она плакала безотчетно, как случается, поют, когда на душе радостно. Измучившись, изнемогая от долгих слез и рыданий, разбитая усталостью, она наконец уснула.
Ее разбудил тихий стук в дверь, выходившую в гостиную. Было уже совсем светло, часы показывали девять. Она крикнула: «Войдите!» – и на пороге показался ее муж, веселый, оживленный, в дорожной фуражке, с неизменной дорожной сумкой через плечо, в которой он держал деньги.
Он крикнул:
– Как, ты еще спишь, дорогая! Я разбудил тебя? Нагрянул без предупреждения. Надеюсь, ты здорова? В Париже прекрасная погода.
И, сняв фуражку, он подошел, чтобы поцеловать ее.
Она съежилась и прижалась к стене в безумном нервном страхе перед этим румяным самодовольным человеком, вытянувшим губы для поцелуя. Потом вдруг закрыла глаза и подставила ему лоб. Муж спокойно приложился к нему и сказал:
– Ты позволишь мне помыться в твоей туалетной? Меня не ждали сегодня, и в моей комнате ничего не приготовлено.
Она ответила торопливо:
– Ну, конечно, пожалуйста.
Он исчез за дверью позади кровати.
Христиана слышала, как он там возится, плещется, насвистывает. Потом он крикнул:
– Что у вас новенького? У меня очень большие новости. Результат анализа превзошел все ожидания. Мы можем излечивать на три болезни больше, чем курорт Руайя. Великолепно!
Она села в постели, едва дыша, совсем потеряв голову от неожиданного возвращения мужа, как от болезненного удара, пробудившего в ней угрызения совести. Он вышел из туалетной довольный, сияющий, распространяя вокруг себя крепкий запах вербены. Потом уселся в ногах постели и спросил:
– А что наш паралитик? Как он чувствует себя? Начал уже ходить? Невозможно, чтоб он не выздоровел: в воде обнаружено столько целебных свойств!
Христиана совсем забыла о паралитике и уже несколько дней не ходила к источнику. Она пробормотала:
– Ну да… конечно… Кажется, ему уже лучше… Впрочем, я на этой неделе не ходила туда… Мне нездоровится…
Он посмотрел на нее внимательней и заметил:
– А правда, ты что-то бледненькая… Хотя это тебе очень идет… Очень! Как ты сейчас мила! Необыкновенно мила!..
Он пододвинулся и, наклонившись, хотел просунуть руку ей под спину, чтобы ее обнять.
Но она отпрянула с таким ужасом, что он остолбенел, застыл с протянутой к ней рукой и оттопыренными для поцелуя губами. Затем он спросил:
– Что с тобой? До тебя дотронуться нельзя! Я ведь не сделаю тебе больно!..
И он опять потянулся к ней, глядя на нее загоревшимися глазами.
Она заговорила, запинаясь:
– Нет… Оставь меня… оставь меня… Потому что… потому что… Мне кажется… кажется, я беременна…
Она сказала это, обезумев от страха, наобум, думая только, как бы избежать его прикосновения, – так же могла бы она сказать, что у нее проказа или чума.
Он тоже побледнел – от глубокого, но радостного волнения – и только прошептал: «Уже?!» Теперь ему хотелось целовать ее долгими, нежными поцелуями счастливого и признательного отца семейства. Потом он забеспокоился:
– Да возможно ли это?… Как же это?… Ты уверена?… Так скоро?…
Она ответила:
– Да… возможно…
Он закружился по комнате и закричал, потирая руки:
– Вот так штука, вот так штука! Какой счастливый день!
В дверь опять постучали. Андермат открыл ее, и горничная доложила:
– Пришел доктор Латон, хотел бы поговорить с вами по важному делу.
– Хорошо. Попросите в гостиную. Я сейчас приму его.
И Андермат вышел в смежную гостиную. Тотчас появился доктор. Вид у него был торжественный, натянутый и холодный. Он поклонился, едва пожав протянутую руку банкира, с удивлением смотревшего на него, сел и приступил к объяснению тоном секунданта, обсуждающего условия дуэли:
– Многоуважаемый господин Андермат! Я попал в очень неприятную историю и должен изложить ее, для того чтобы вы поняли мое поведение. Когда вы оказали мне честь, пригласив меня к вашей супруге, я немедленно явился, но, оказывается, за несколько минут до моего прихода к ней был приглашен маркизом де Равенелем мой коллега, инспектор водолечебницы, который, очевидно, пользуется большим доверием госпожи Андермат, нежели я. И получилось так, что я, придя вторым, как будто бы хитростью отнял у доктора Бонфиля пациентку, хотя он по праву уже мог считать себя ее врачом, и, следовательно, я как будто совершил поступок некрасивый, неблаговидный, недопустимый между коллегами. А нам, многоуважаемый господин Андермат, при исполнении наших обязанностей необходимы большой такт, большая корректность и сугубая осторожность, во избежание всяческих трений, которые могут привести к серьезным последствиям. Доктор Бонфиль, осведомленный о моем врачебном визите к вам, счел меня виновным в неблаговидном поступке – действительно, обстоятельства говорили против меня – и отозвался об этом в таких выражениях, что, если бы не его почтенный возраст, я бы вынужден был потребовать у него удовлетворения. Для того чтобы оправдать себя в его глазах и в глазах всей местной медицинской корпорации, у меня остается только один выход: как мне это ни прискорбно, я должен прекратить лечение вашей супруги, рассказать всю правду об этом деле, а вас просить принять мои извинения.
Андермат ответил в большом замешательстве:
– Я прекрасно понимаю, доктор, в каком затруднительном положении вы оказались. Но ни я, ни моя жена тут не виноваты, всему виной мой тесть – это он позвал доктора Бонфиля, не предупредив нас. Может быть, мне следует пойти к вашему коллеге и объяснить ему, что…
Доктор Латон перебил его:
– Это бесполезно, господин Андермат. Тут вопрос стоит о требованиях врачебной этики и чести, которые для меня непререкаемы, и несмотря на глубочайшее мое сожаление…
Андермат, в свою очередь, перебил его. Как человек богатый, как человек, который хорошо платит, которому ничего не стоит заплатить за врачебный совет пять, десять, двадцать или сорок франков, купить его, как покупают коробок спичек за три су; человек, уверенный, что все должно принадлежать ему по праву золотого мешка, знающий рыночную стоимость всего на свете, каждой вещи и каждого человеческого существа, признающий только эту стоимость и умеющий точно определить ее в денежном выражении, – он был возмущен дерзостью какого-то торговца рецептами и заявил резким тоном:
– Хорошо, доктор. На этом и покончим. Однако желаю вам, чтоб этот шаг не имел плачевных последствий для вашей карьеры. Еще посмотрим, кто больше пострадает от такого решения – вы или я.
Разобиженный доктор встал и, поклонившись с церемонной вежливостью, заявил:
– Конечно, я, милостивый государь! Нисколько в этом не сомневаюсь. Этот шаг будет мне стоить очень дорого во всех отношениях. Но если приходится выбирать между выгодой и совестью, я колебаться не привык!
И он вышел. В дверях он столкнулся с маркизом, который направлялся в гостиную, держа в руке какое-то письмо. Как только де Равенель остался с зятем один на один, он воскликнул:
– Послушайте, дорогой! Какая со мной произошла досадная неприятность, и притом по вашей вине! Доктор Бонфиль обиделся, что вы пригласили к Христиане его коллегу, и послал мне счет с весьма сухой запиской, предупреждая, чтобы я больше не рассчитывал на его услуги.
Тут Андермат совсем рассердился. Он забегал по комнате, кричал, жестикулировал, сыпал словами, взвинчивая себя все больше, в том безобидном и напускном негодовании, которого никто всерьез не принимает. Он выкрикивал свои доводы: кто во всем виноват? Кто? Только его тесть. С какой стати ему вздумалось пригласить Бонфиля, этого болвана, дурака набитого, даже не предупредив его, Андермата, тогда как он прекрасно был осведомлен через своего парижского врача о сравнительных достоинствах всех трех анвальских шарлатанов!
Да и какое право имел маркиз устраивать эту врачебную консультацию за спиной мужа? Ведь только муж может быть тут судьей, только он отвечает за здоровье своей жены! Словом, каждый день одно и то же! Вокруг него все делают глупости, одни только глупости! Он всегда, всегда об этом твердит. Но все его предупреждения – глас вопиющего в пустыне! Никто его не понимает, никто не верит его опытности и убеждаются в его правоте, когда уже все пропало.
Он выкрикивал «мой доктор», «моя опытность» тоном собственника-монополиста. Притяжательные местоимения звякали в его тирадах, как монеты. А когда он восклицал: «Моя жена!» – чувствовалась полнейшая его убежденность, что маркиз потерял все права на свою дочь, поскольку он, Андермат, на ней женился, то есть купил ее, – для него это были равнозначащие понятия.
В самый разгар спора в комнату вошел Гонтран и, усевшись в кресло, стал с веселой усмешкой слушать. Он ничего не говорил, он только слушал и потешался.
Когда наконец банкир умолк, чтоб перевести дух, шурин его поднял руку и сказал:
– Прошу слова! Вы оба остались без докторов? Верно? Не беда! У меня есть кандидатура. Предлагаю доктора Онора, единственного, который имеет свое собственное мнение об анвальских водах, точное и непоколебимое. Он предписывает больным их пить, но сам их пить не станет ни за какие блага! Хотите, я приведу его? Переговоры беру на себя.
Другого выхода не было. Гонтрана попросили немедленно привести доктора Онора – маркиза беспокоила мысль о перемене режима и лечения, и он желал сейчас же узнать мнение нового врача; Андермату не терпелось посоветоваться с ним относительно Христианы.
А Христиана слышала через тонкую стенку их разговоры, но не слушала, не понимала, о чем они говорят Как только муж вышел из ее комнаты, она соскочила с постели, отбежала от нее, точно от какого-то опасного места, и торопливо оделась без помощи горничной. После того, что произошло с ней вчера, в голове у нее все перемешалось.
Все теперь стало для нее совсем другим, все изменилось – и жизнь и люди. Снова послышался голос Андермата:
– А-а! Бретиньи! Здравствуйте, дорогой! Как поживаете?
Он уже не называл его «господином Бретиньи».
Второй голос ответил:
– Благодарю вас, очень хорошо, дорогой Андермат. Вы, что же, сегодня утром приехали?
У Христианы перехватило дыхание, когда она услышала голос Поля; она причесывалась в эту минуту и так и застыла с поднятыми руками. Она как будто видела через стену, как ее муж и Поль Бретиньи пожимают друг другу руки. От волнения ноги не держали ее, она села; волосы рассыпались у нее по плечам.
Теперь говорил Поль, и она вздрагивала всем телом при каждом его слове. Она не улавливала, не понимала смысла этих слов, но все они ударяли в сердце, как будто молотом били по нему.
И вдруг она произнесла почти громко: «Но ведь я люблю его… Я его люблю!» – как будто сделала вдруг неожиданное, поразительное открытие, нашла то, что могло ее утешить, спасти, оправдать перед собственной совестью. И она сразу же воспрянула духом, мгновенно приняла решение. Она снова стала причесываться и все повторяла шепотом: «У меня любовник, вот и все. У меня любовник». И, чтобы успокоить себя еще больше, избавиться от смятения и страха, она с пламенной убежденностью дала себе слово любить его всегда, беззаветной любовью, отдать ему свою жизнь, свое счастье, пожертвовать для него всем; следуя морали экзальтированных и побежденных сердец, в которых не заглох голос совести, она верила, что самоотверженная, преданная любовь все очищает.
И через стену, которая их разделяла, она посылала ему поцелуи. Все кончено, она отдает ему всю свою жизнь, как другие посвящают себя богу. Девочка, уже кокетливая, лукавая, но еще робкая и боязливая, вдруг умерла в ней – родилась женщина, созревшая для страстной любви, полная решимости и упорства, о которых до сих пор лишь смутно говорил твердый взгляд голубых глаз, придававший смелое и почти дерзкое выражение тонким чертам ее лица.
Скрипнула дверь, и Христиана, не обернувшись, не взглянув, каким-то особым, внезапно проснувшимся в ней чутьем угадала, что вошел муж.
Он спросил:
– Ты скоро оденешься? Мы хотим пойти навестить паралитика, посмотреть, действительно ли ему лучше.
Христиана ответила спокойно:
– Сейчас, дорогой Виль, через пять минут.
Из гостиной Андермата позвал Гонтран, уже успевший вернуться.
– Представьте, – рассказывал он, – встретил сейчас в парке доктора Онора, и этот болван тоже отказался лечить вас – из страха перед другими. Нес какую-то околесицу: установившиеся правила, обычаи, приличия, что скажут, что подумают… Словом, идиот, не лучше своих коллег. Вот уж, право, не думал, что он такая обезьяна!
Маркиз был потрясен. Мысль, что ему придется пользоваться водами без указаний врача, чего доброго, просидеть в ванне пять минут лишних, выпить одним стаканом меньше, чем полагается, приводила его в содрогание – он верил, что все дозы, часы, стадии лечения основаны на незыблемых законах природы, которая позаботилась о больных, создав минеральные источники, и открыла их загадочные тайны только врачам, вдохновенным и умудренным жрецам науки.
Он закричал:
– Да что ж это! Тут и умереть недолго!.. Подохнешь, как собака, и ни один из этих господ не побеспокоится!
Он кипел гневом, яростным гневом эгоиста, испугавшегося за свое драгоценное здоровье.
– Да какое они имеют право так поступать? Ведь они берут патент на врачебную практику, как лавочники-бакалейщики на свою торговлю! Мерзавцы! Надо их заставить! Они обязаны лечить всех, кто им платит; ведь обязан же кондуктор посадить в вагон всех пассажиров с билетами. Я напишу в газеты, я предам гласности это безобразие.
В волнении он шагал по комнате и вдруг остановился перед Гонтраном:
– Послушай, надо вызвать врача из Руайя или из Клермона! Что же, нам без докторов остаться?…
Гонтран засмеялся:
– Господам целителям из Руайя и Клермона не могут быть досконально известны свойства анвальской влаги – она воздействует на органы пищеварения и кровообращения несколько иначе, чем их местные воды. А кроме того, будь уверен, они тоже откажутся, чтобы не подумали, что они хотят урвать клочок сенца из кормушки своих собратьев.
Маркиз в ужасе забормотал:
– Как же теперь? Что с нами будет?
Андермат схватился за шляпу.
– Не волнуйтесь. Предоставьте все это мне, и ручаюсь, что нынче же вечером, – слышите, нынче же вечером! – все трое – да, да, все трое – будут юлить перед нами. А теперь пойдемте к паралитику.
Он крикнул:
– Христиана, ты готова?
Она показалась в дверях, очень бледная, напряженная. Поцеловавшись с отцом и братом, она повернулась к Полю и протянула ему руку; он взял ее, опустив глаза и дрожа от мучительной тревоги. Маркиз, Андермат и Гонтран вышли, оживленно разговаривая, не обращая на них внимания; Христиана устремила на Поля нежный, полный решимости взгляд и сказала твердо:
– Я принадлежу вам душой и телом. Теперь я вся в вашей власти.
И она вышла, не дав ему времени ответить.
Подходя к источнику Ориолей, они увидели широкополую шляпу старика Кловиса, как огромный гриб, торчавшую из ямы, где он дремал на солнышке в теплой воде. Он уже привык к своей горячей ванне, просиживал в ней теперь все утро и уверял, что от этого у него кровь играет, как у молоденького.
Андермат разбудил его:
– Ну что, дружок, идет дело?
Узнав своего хозяина, старик осклабился:
– Идет, идет, как по маслу!
– И вы уже ходить начинаете?
– Прыгаю, как кролик, хозяин, как кролик! Вот кончится месяц – в воскресенье пойду плясать бурре со своей милочкой.
У Андермата забилось сердце, он повторил:
– В самом деле? Уже ходите?
Старик перестал шутить:
– Ну, еще не очень, не шибко еще хожу. А все-таки полегчало.
Банкиру захотелось сейчас же посмотреть, как ходит старый калека, и он засуетился, забегал вокруг ямы, в волнении командовал, как будто собирался поднять со дна моря затонувший корабль:
– Гонтран, возьмите его за правую руку! Бретиньи, берите за левую! Я буду поддерживать сзади. Ну, взяли! Раз, два, три! Дорогой тесть, тяните за ногу. Да нет, не за эту, а за ту, которая в воде. Ох, скорей, пожалуйста! Больше не могу! Ну, дружно! Раз, два, три – готово! Ух!
Старика вытащили и посадили на землю, а он смотрел на господ с насмешливым видом и нисколько не помогал их усилиям.
Потом его опять подняли, поставили на ноги, подали костыли, которыми он теперь пользовался для опоры, как палками, и он зашагал, согнувшись под прямым углом, волоча ноги и страдальчески охая. Он тащился по дороге, как улитка, оставляя за собою длинную мокрую полосу на белой пыли.
Андермат от восторга захлопал в ладоши и закричал, как кричат в театре, вызывая актеров:
– Браво! Браво! Великолепно! Браво!!!
Но старик как будто уже совсем изнемог, и Андермат бросился поддержать его, обхватил обеими руками, хотя с лохмотьев Кловиса стекала вода, и взволнованно заговорил:
– Довольно, довольно, не утомляйтесь! Мы сейчас опять посадим вас в ванну.
Четыре господина взяли бродягу за руки и за ноги, понесли бережно, как драгоценный, хрупкий предмет, и снова погрузили в воду.
Тогда паралитик возгласил из ямы убежденным тоном:
– Что ни говори, хорошая вода! Этакой воды нигде не сыскать. Не вода, а сущий клад.
Андермат вдруг повернулся к тестю:
– Не ждите меня к завтраку. Я пойду сейчас к Ориолям и не знаю, когда освобожусь. Такие дела затягивать нельзя!
И он пошел торопливым шагом, почти побежал, весело помахивая тросточкой.
Остальные уселись напротив ямы старика Кловиса, под ивами, окаймлявшими дорогу. Христиана сидела рядом с Полем и смотрела на высокий холм, откуда она не так давно видела взрыв утеса. Тогда она сидела вон там, на этой порыжевшей траве. Недавно, месяц тому назад. Только месяц! Ей вспомнилось все до мелочей: и трехцветные зонтики, и поварята, и кто что говорил – каждое слово. И собака, бедная собачонка, растерзанная взрывом. И тот почти незнакомый высокий человек, который по одному ее слову бросился спасать собаку. А теперь он ее любовник! Ее любовник! А она его любовница, любовница! И она все повторяла про себя: «Любовница, любовница!» Какое странное слово! Вот этот человек, что сидит рядом с ней и обрывает былинки, стараясь прикоснуться к ее платью, этот человек теперь связан с нею близостью телесной и душевной, таинственными узами, о которых нельзя, стыдно говорить, теми узами, которыми природа соединяет мужчину и женщину.
И мысленно, тем немым, внутренним голосом, который кажется душе таким громким в безмолвном ее смятении, она без конца повторяла: «Я его любовница! Его любовница! Как все это странно, неожиданно».
«А люблю ли я его?» Она бросила на него быстрый взгляд. Глаза их встретились, и она почувствовала в его взгляде такую страстную, такую теплую ласку, что вся затрепетала. И вдруг у нее явилось желание дотронуться до его руки, игравшей травинками, неодолимое желание крепко сжать ему руку и все, все передать этим пожатием. Ее рука тихонько соскользнула с платья на траву и замерла, разжав пальцы. И тогда она увидела, как его рука осторожно приближается к ней, словно влюбленный зверек к своей подруге. Рука продвигалась все ближе и мизинцем дотронулась до ее мизинца. Кончики пальцев коснулись друг друга, чуть-чуть, едва заметно, отодвинулись, снова сблизились, словно губы в робком поцелуе. Но эта никому не видная ласка, эти легкие прикосновения врывались в нее такой бурной волной, что она изнемогала, как будто он снова сжимал ее в объятиях.
И она вдруг поняла, что значит «принадлежать» любимому человеку, ибо любовь все отдала во власть ему, и он завладел всем твоим телом, душой, мыслями, волей, всей кровью в жилах, всеми нервами – всем, всем, словно ширококрылый ястреб, схвативший в свои когти пичужку.
Маркиз и Гонтран с увлечением разговаривали о будущем курорта, заразившись энтузиазмом Вильяма Андермата. И оба восхищались банкиром: какой точный ум, какая деловая сметка, безошибочность в спекуляциях, смелость действий и удивительно ровный характер! Тесть и шурин, уверенные в успехе нового предприятия, в один голос воспевали Андермата и радовались такому родству.
Христиана и Поль Бретиньи, поглощенные друг другом, как будто и не слышали их.
Маркиз сказал дочери:
– А знаешь, детка, ты, пожалуй, в один прекрасный день будешь одной из самых богатых женщин во всей Франции, твоя фамилия будет известна, как фамилия Ротшильдов. Виль – в самом деле замечательный, выдающийся человек, человек большого ума!
Странное, ревнивое чувство вдруг шевельнулось в душе Поля.
– Ах, оставьте, – сказал он. – Знаю я, что за ум у всех этих дельцов. У них только одно в голове – деньги! Все мысли, которые мы отдаем прекрасному, всю энергию, которую мы растрачиваем на прихоти, все часы, которые мы теряем на развлечения, все силы, которые мы расточаем на удовольствия, весь страстный, могучий жар души, который поглощает у нас любовь, дивное чувство любви, они употребляют на погоню за золотом и думают только о золоте, загребают золото! Человек тонкого ума живет бескорыстными, высокими интересами, его радости – это искусство, любовь, наука, путешествия, книги, а если он добивается и денег, то лишь потому, что они облегчают возможность духовных наслаждений и даже сердечного счастья. А эти люди? Что у них в сердце и в уме? Ничего, кроме гнусной страсти к наживе! Эти стяжатели так же похожи на «выдающихся людей», как барышник, промышляющий картинами, похож на художника, как делец-издатель похож на писателя, а директор театра – на драматурга.
Но вдруг он оборвал свою тираду, поняв, что в увлечении позабыл о приличиях, и сказал уже спокойным тоном:
– Я это не про Андермата говорю, его я считаю весьма приятным человеком, во сто раз лучше других деловых людей. Он мне очень нравится…
Христиана убрала руку. Поль опять умолк.
Гонтран захохотал и ехидным, издевательским тоном, которым он в минуту откровенности мог выпалить что угодно, сказал:
– Как бы там ни было, милый мой, а у этих господ есть редкое достоинство, большое достоинство: они женятся на наших сестрах и производят на свет богатых дочерей, на которых женимся мы.
Маркиз поднялся в негодовании:
– Ах, Гонтран! Ты иной раз бываешь просто невыносимым!
А Поль, повернувшись к Христиане, прошептал:
– Способны ли эти люди умереть за женщину или хотя бы отдать ей все свое состояние… все, ничего не оставив себе?
Слова эти так ясно говорили: «Все, что у меня есть, даже моя жизнь, принадлежит вам», – что Христиана была растрогана и ловко нашла предлог, чтобы взять его за руки.
– Встаньте и помогите мне подняться. У меня затекли ноги, пошевелиться не могу.
Он вскочил и, потянув ее за руки, поставил у края дороги, почти вплотную к себе. Она видела, как губы его шепчут: «Люблю вас», – и быстро отвернулась, чтобы не повторить в ответ те же слова, которые неудержимо рвались из ее груди в порыве нежности, повлекшей ее к нему.
Потом все вернулись в отель.
На ванны уже было поздно идти. Стали дожидаться завтрака. Зазвенел колокол, созывая к столу, но Андермат все не возвращался. Прогулялись по парку и решили сесть за стол без него. Завтрак, как всегда, тянулся очень долго, но и к концу его банкир не появился. Все опять спустились в парк посидеть под деревьями. Проходил час за часом, солнце скользило по листве, склоняясь к горам, день уже был на исходе, а Вильям Андермат все не возвращался.
Вдруг он показался на дорожке. Он шел быстрым шагом, держа в одной руке шляпу, а другой вытирая лоб носовым платком; галстук у него съехал набок, жилет расстегнулся, и весь вид был, точно он вернулся после долгого пути, рукопашной схватки, какого-то длительного и тяжкого напряжения сил.
Увидев тестя, он закричал:
– Победа! Скрутил старика! Но что это был за день, друзья мои, что за день! Помаяла меня эта старая лисица!
И он принялся рассказывать о своем сражении и подвигах.
Ориоль-отец сперва предъявил такие непомерные требования, что он, Андермат, прервал переговоры и ушел. Тогда его вернули. Продавать землю Ориоль не соглашался, а хотел передать ее в пользование акционерному обществу с правом получить обратно в случае неудачи. В случае же успеха давайте ему половину прибылей!
Банкиру пришлось подсчитывать на бумаге, набрасывать план земельных участков, доказывать, что все вместе они стоят не больше восьмидесяти тысяч франков, меж тем как акционерное общество с самого начала должно затратить миллион.
Старый овернец возразил, что он стоимость своих участков исчисляет иначе, цена им будет огромная, когда на них построят лечебницу и гостиницы, и он свою выгоду знает; считать надо не по теперешней стоимости, а по той, которую участки приобретут в дальнейшем.
Тогда Андермат сказал, что возможная большая прибыль бывает пропорциональна большому риску, и припугнул его опасностью убытков.
В конце концов пришли к такому соглашению: Ориоль-отец передает акционерному обществу в качестве своего пая все участки по берегам ручья, то есть как раз те, где есть надежда найти минеральные источники, а кроме того, вершину холма, где предполагается построить казино и отель, и еще несколько виноградников по склону холма, которые надо будет разбить на мелкие участки и преподнести виднейшим парижским врачам.
За этот пай, оцененный в двести пятьдесят тысяч франков, то есть почти в четыре раза дороже его действительной стоимости в настоящее время, крестьянину будут выплачивать четвертую часть всех прибылей общества. А так как земли у него еще остались в десять раз больше и вся она расположена вокруг будущего ванного заведения, то в случае успеха курорта хитрый овернец, несомненно, наживет целое состояние, продавая клочками эту землю, которую он, по его словам, предназначил в приданое своим дочерям.
Как только договорились на таких условиях, Вильяму Андермату пришлось потащить отца и сына к нотариусу – составить запродажную с оговоркой, что сделка аннулируется, если минеральная вода не будет найдена в достаточном количестве.
Составление запродажной, придирчивое обсуждение каждого пункта, бесконечные повторения, пережевывание одних и тех же доводов – словом, нудная канитель тянулась до вечера.
Но теперь все было кончено. Банкир мог строить курорт. Однако он досадовал:
– Придется ограничиться водой, а земельные операции ухнули! Поймал меня этот хитрец.
Но тут же сообразил:
– Погодите! А старое общество? Вот на чем можно отыграться… Но это потом, а сегодня вечером надо ехать в Париж.
Маркиз удивленно воскликнул:
– Как! Сегодня же вечером?
– Ну конечно, мой дорогой. Надо ведь подготовить все документы для окончательной сделки, пока Обри-Пастер будет вести здесь разведывательное бурение. Да еще надо устроить так, чтобы через две недели, не позже, можно было приступить к работам. Нельзя терять ни одного часа. Кстати, предупреждаю: вы член правления моего общества, мне надо иметь подавляющее большинство. Даю вам десять акций. И вам, Гонтран, десять акций.
Гонтран засмеялся:
– Покорнейше благодарю. Позвольте продать их вам обратно. За вами, значит, пять тысяч.
Но Андермат нахмурился – что за шутки в важных делах? – и сухо сказал:
– Бросьте дурачиться. Если не хотите, я к другим обращусь.
Гонтран присмирел:
– Ну что вы, дорогой! Вы же знаете, я всецело в вашем распоряжении.
Банкир повернулся к Полю:
– Дорогой господин Бретиньи, не согласитесь ли оказать мне дружескую услугу? Прошу и вас принять десяток акций и тоже войти в правление.
Поль, поклонившись, ответил:
– Разрешите отказаться от вашего лестного предложения и по-настоящему вступить в дело. Я считаю ваше начинание блестящим и охотно вложу в него сто тысяч франков. Это будет любезность не с моей, а с вашей стороны.
Вильям Андермат в бурном восторге пожимал ему руки: такое доверие совсем покорило его сердце. Впрочем, он всегда готов был кинуться на шею каждому, кто вносил деньги в его предприятия.
Но Христиана вся вспыхнула, покраснела до корней волос, так ей было неприятно. Ей показалось, что сейчас состоялась сделка купли-продажи: один купил ее, другой продал. Разве Поль предложил бы ее мужу сто тысяч франков, если бы не любил ее? Нет, конечно! И хоть бы он сделал это не при ней…
Позвонили к обеду. Все направились к гостинице. Как только сели за стол, г-жа Пайль-старшая сказала Андермату:
– Так вы основываете новый курорт?
Новость уже разнеслась по всему Анвалю, стала предметом всех разговоров, взбудоражила всех больных.
Вильям Андермат ответил:
– Боже мой, ну разумеется! Существующий курорт из рук вон плох.
И, повернувшись к Обри-Пастеру, сказал:
– Извините, пожалуйста, многоуважаемый господин Обри-Пастер, что я за столом буду говорить с вами о делах, но время не терпит: я сегодня вечером уезжаю в Париж, а у меня есть к вам предложение. Не согласитесь ли вы руководить разведывательными работами, чтобы найти максимальное количество минеральной воды?
Польщенный инженер согласился, и среди всеобщего молчания они в несколько минут договорились, в каких местах и как производить разведку, которая должна была начаться немедленно. Все было обсуждено и решено с той четкостью и точностью, какие Андермат всегда вносил в свои дела. Потом заговорили о паралитике. Днем многие видели, как он проходил через парк, опираясь только на одну палку, тогда как утром еще пользовался двумя. Банкир восклицал:
– Да это чудо! Настоящее чудо! Излечение пошло гигантскими шагами!
Поль в угоду мужу Христианы подхватил:
– Нет, это сам папаша Кловис пошел гигантскими шагами.
За столом пробежал одобрительный смешок. Все глаза были устремлены на Андермата, из всех уст неслись льстивые возгласы. Официанты теперь подносили кушанье ему первому, с раболепной почтительностью в лице и в движениях, мгновенно исчезавшей, когда они подавали блюдо его соседям.
Один из официантов принес ему на тарелке визитную карточку. Андермат взял ее и прочел вполголоса: «Доктор Латон из Парижа был бы счастлив побеседовать несколько минут с господином Андерматом до его отъезда».
– Передайте, что у меня сейчас нет времени, но через неделю или дней через десять я вернусь.
И тут же Христиане принесли огромный букет цветов от доктора Онора.
Гонтран смеялся:
– Двое готовы. Только старикашка Бонфиль еще не сдается.
Обед подходил к концу. Андермату доложили, что его ждет ландо. Он поднялся к себе за дорожной сумкой, а когда вышел из гостиницы, увидел, что у крыльца собралась половина села. Петрюс Мартель подскочил пожать Андермату руку и с актерской фамильярностью зашептал ему на ухо:
– У меня есть замечательное, потрясающее предложение, очень выгодное для вашего дела.
Вдруг появился доктор Бонфиль, как всегда спешивший куда-то. Он прошел мимо Андермата, отвесив ему низкий поклон, каким до сих пор удостаивал только маркиза, и сказал:
– Счастливого пути, барон!
– Проняло! – пробормотал Гонтран.
Андермат, торжествуя, пыжился от радости и гордости, пожимал направо и налево руки, восклицал: «До свидания! До свидания!» – и чуть было не позабыл проститься с женой, настолько все его мысли были заняты делами. От этого равнодушия Христиане стало легче на душе, и, когда она увидела, как пара лошадей подхватила коляску и понесла ее крупной рысью по дороге, в сумеречную даль, ей показалось, что теперь уж до конца жизни никого не надо будет бояться.
Весь вечер она провела на скамейке перед гостиницей, сидя между отцом и Полем Бретиньи; Гонтран, по своему обыкновению, отправился в казино.
Христиане не хотелось ни двигаться, ни говорить; она сидела, не шевелясь, сложив руки на коленях, и глядела в темноту, томная и слабая, немного настороженная и все же счастливая; она почти ни о чем не думала, даже не мечтала, и, когда минутами ее тревожили смутные укоры совести, она отгоняла их все одним и тем же заклинанием: «Я люблю его! Люблю его! Люблю!»
Она рано ушла к себе, чтобы побыть одной и помечтать. Закутавшись в широкий пеньюар, она села в кресло у открытого окна и стала смотреть на звезды, а в раме окна перед ее внутренним взором поминутно вставал образ того, кто завладел ею. Она так ясно видела его, доброго, нежного и необузданного, такого сильного и такого покорного перед нею. Да, этот человек завладел ею навсегда, на всю жизнь – она чувствовала это. Теперь она уже не одинока, их двое – два сердца, слившиеся воедино, две слившиеся воедино души. Где он был сейчас, она не знала, но хорошо знала, что и он думает, мечтает о ней. Она как будто слышала, как на каждое биение ее сердца где-то отвечает другое сердце. Она чувствовала, как вокруг нее, словно птица, задевая ее крылом, реет желание, страстное желание, она чувствовала, как проникает в окно это пламенное желание, исходящее от него, ищет ее, молит в ночной тишине. Как хорошо, как сладко, как ново было для нее чувствовать, что она любима! Как радостно было думать о ком-то с такой глубокой нежностью, что слезы навертывались на глаза, и плакать от умиленного счастья! Ей хотелось открыть объятия тому, кого не было перед нею, послать ему призыв, открыть объятия навстречу его образу, возникавшему перед глазами, навстречу поцелуям, которые он непрестанно слал ей где-то вдали или вблизи, сгорая в лихорадке ожидания.
И она протянула руки в откинувшихся белых рукавах пеньюара ввысь, к звездам. Вдруг она вскрикнула. Большая черная тень, перешагнув через перила балкона, внезапно появилась в окне.
Она вскочила, замирая от страха. Это был он! И, даже не подумав о том, что их могут увидеть, она бросилась к нему на грудь.
ГЛАВА VIII
Отсутствие Андермата затянулось. Обри-Пастер вел изыскания. Он нашел еще четыре источника, которые могли дать новому акционерному обществу вдвое больше воды, чем требовалось. Весь округ был в волнении от этих разведок, от этих открытий, от важных новостей, мгновенно перелетавших из уст в уста, от нежданных блестящих перспектив; все суетились, восторгались, только и говорили что о будущем курорте, только о нем и думали. Даже маркиз и Гонтран проводили целые дни около рабочих, буривших гранитные породы, и со все возраставшим любопытством слушали объяснения инженера и его поучительные рассказы о геологическом строении Оверни. Теперь Поль и Христиана могли совершенно свободно, спокойно любить друг друга: никто ими не интересовался, никто ничего не подозревал, никому и в голову не приходило шпионить за ними, – все любопытство, все внимание людей, все их чувства поглощены были будущим курортом.
С Христианой происходило то же, что бывает с юношей, впервые опьяневшим от вина. Первый глоток – первый поцелуй – обжег, одурманил ее. Второй бокал она выпила залпом и нашла, что он лучше, а теперь она пила жадными большими глотками и была пьяна любовью.
С того вечера, когда Поль проник в ее комнату, она жила, как в угаре, не сознавая того, что происходит вокруг. Время, вещи, люди теперь не существовали для нее. На земле и в небе был только один-единственный человек – тот, кого она любила. Глаза ее видели только его, все мысли были только о нем, все надежды устремлялись только к нему. Она жила, двигалась, ела, одевалась, как будто слушала, что ей говорят, отвечала, но ничего не понимала, не сознавала, что делает. И ничто теперь ее не страшило: никакое несчастье не могло ее сразить – она ко всему стала нечувствительна! Никакая телесная боль не могла затронуть тело, подвластное только трепету любви. Никакие душевные страдания не могли коснуться завороженной души.
А он любил ее с той восторженностью, какую вносил во все свои страстные увлечения, и доводил ее чуть не до безумия. Часто в конце дня, зная, что маркиз и Гонтран пошли к источнику, он говорил:
– Пойдемте навестим наш небесный уголок.
Он называл их «небесным уголком» еловую рощицу, зеленевшую на горном склоне, над самым ущельем. Они поднимались туда через молодой лес по крутой тропинке и шли так быстро, что Христиана задыхалась, но им надо было спешить, так как времени было мало. Чтобы ей легче было идти, он поддерживал ее за талию, подхватывал, приподнимал; и, положив ему руку на плечо, она опиралась на него, а иногда, обняв за шею, приникала поцелуем к его губам. Они всходили все выше, выше, воздух свежел, ветер овевал им лица, и, когда они достигали елей, их обдавало запахом смолы, живительным, как дыхание моря.
Они садились под темными деревьями – она на мшистом бугорке, он ниже, у ее ног. Ветер пел в ветвях. Стволы звенели под ветром тихою песней, всегда чем-то похожей на кроткую жалобу, а бескрайний простор Лимани, уходивший в невидимые дали, затянутые легкой дымкой тумана, действительно создавал впечатление океана. Да, конечно, там внизу простиралось море, никакого сомнения быть не могло, – они чувствовали его дуновение на своем лице!
Поль ласкался к ней и по-детски шаловливо говорил:
– Дайте-ка мне ваши пальчики. Я их съем, это мои любимые конфеты.
Он брал в рот один ее палец за другим и делал вид, что ест их, млея от наслаждения, как жадный лакомка.
– Ах, какие вкусные! В особенности мизинчик. Ничего на свете не может быть вкуснее.
Потом он становился на колени и, опираясь локтями о ее колени, шептал:
– Лиана, посмотрите на меня.
Он звал ее Лианой, потому что она обвивала его руками, как лиана обвивает ствол дерева.
– Посмотрите на меня. Я хочу заглянуть вам в душу.
Они смотрели друг на друга неподвижным, пристальным взглядом, и в нем как будто сливались воедино. Он говорил:
– Настоящая любовь – это когда вот так принадлежишь друг другу, все остальное – только игра в любовь.
Сблизив лица так, что дыхание их смешивалось, они искали друг друга в прозрачной глубине глаз.
Он шептал:
– Я вижу вас, Лиана. Любимая, я вижу ваше сердце!
Она отвечала:
– И я вас вижу, Поль, я тоже вижу ваше сердце!
И они действительно видели друг друга, проникали в самую глубину души и сердца, потому что у обоих в душе и сердце была только любовь, исступленный порыв любви друг к другу.
Он говорил:
– Лиана, у вас глаза, как небо! Такие же голубые, ясные, чистые, и столько в них света! Мне кажется, я вижу, как в них проносятся ласточки! Это, наверно, ваши мысли, Лиана. Да?
Они долго-долго смотрели друг на друга, а потом придвигались еще ближе, обменивались тихими поцелуями и после каждого поцелуя снова смотрели друг на друга. Иногда он брал ее на руки и бежал по берегу ручья, стекавшего к Анвальскому ущелью и водопадом низвергавшегося в него. В этой узкой долине чередовались луга и перелески. Поль бежал по траве и, поднимая на вытянутых сильных руках свою ношу, кричал:
– Лиана, улетим!
Восторженная, страстная любовь рождала в них это упорное, непрестанное, мучительное желание улететь прочь от земли. И все вокруг обостряло в них это стремление души: и прозрачный легкий воздух – крылатый воздух, как говорил Поль, и голубоватые широкие дали, куда им хотелось унестись вдвоем, держась за руки, и исчезнуть в высоте над этой беспредельной равниной, когда ее покроет ночная тьма. Улететь бы вдвоем в мглистое вечернее небо и никогда, никогда не возвращаться! Куда улететь? Они не знали. Но как их манила эта мечта!
Он бежал, держа ее на руках, пока хватало дыхания, потом опускал на выступ утеса и становился перед нею на колени. Он целовал ей ноги, он поклонялся ей, шептал детские, нежные слова.
Если б они любили друг друга в городе, страсть их была бы, вероятно, иной – более осторожной, более чувственной, не такой воздушной и романтической. Но здесь, в этом зеленом краю, среди просторов, где душа ширилась и рвалась куда-то, одни, вдали от всего, что могло бы отвлечь их от захватившего их безрассудного чувства, они очертя голову ринулись в это поэтическое безумие страсти. И вся природа вокруг них, теплый ветер, леса, ароматный вольный воздух днем и ночью пели им песню любви, и мелодия эта сводила их с ума, как звуки бубна и пронзительный визг флейты приводят в исступление дервиша, который неистово кружится во власти навязчивой мысли.
Однажды вечером, когда они вернулись в отель к ужину, маркиз вдруг сказал им:
– Через четыре дня возвращается Андермат. Он уже уладил все дела. А после этого, на следующий день, мы уедем. Мы что-то зажились здесь. Не полагается чересчур затягивать курортный сезон.
Они были ошеломлены этими словами, как будто им возвестили, что завтра настанет конец света. За столом оба молчали, в растерянности думая, что же теперь будет. Значит, через несколько дней надо расстаться и уж больше нельзя будет встречаться свободно. Это казалось им таким невероятным, таким нелепым, что они не могли себе представить, как же это возможно.
Действительно, Андермат приехал в конце недели. Он телеграфировал, чтобы к первому утреннему поезду выслали два экипажа. Христиана не спала всю ночь, взволнованная каким-то странным, новым для нее чувством – страхом перед мужем и вместе с тем гневом, необъяснимым презрением к нему и желанием бросить ему вызов. Она поднялась с постели на рассвете, оделась и стала его ждать. Он подъехал в первой коляске, в ней сидело еще трое – какие-то весьма приличные, хорошо одетые господа, державшиеся, однако, очень смиренно. Во второй коляске приехало еще четверо, по виду рангом пониже. Маркиз и Гонтран удивились. Гонтран спросил:
– Что это за люди?
Андермат ответил:
– Мои акционеры. Мы сегодня учредим акционерное общество и тут же выберем правление.
Он поцеловал жену, не сказав ей ни слова, едва взглянув на нее, так он был озабочен, и, повернувшись к семерым приезжим, стоявшим у крыльца в почтительном молчании, скомандовал:
– Велите подать себе завтрак, а потом прогуляйтесь. Встретимся здесь в полдень.
Все семеро двинулись разом, без слов, как солдаты по команде офицера, поднялись парами по ступенькам крыльца и исчезли в дверях гостиницы.
Гонтран, следивший за их шествием, спросил с серьезным видом:
– Где вы откопали этих статистов?
Банкир улыбнулся:
– Вполне приличные люди. Биржевики, капиталисты.
И, помолчав, добавил, улыбаясь уже во весь рот:
– Занимаются моими делами.
Затем он поспешил к нотариусу, чтобы еще раз проглядеть документы и акты, хотя заранее прислал их совершенно готовыми.
В нотариальной конторе он встретился с доктором Латоном, с которым за время своего отсутствия успел обменяться несколькими письмами, и они долго шептались в углу, пока писцы царапали перьями по бумаге, как будто по ней бегали и шуршали какие-то проворные насекомые.
Учредительное собрание акционеров было назначено в два часа.
В кабинете нотариуса сделали приготовления, словно для концерта. Напротив стола, где должен был восседать нотариус Ален вместе со старшим письмоводителем, были выстроены в два ряда стулья для акционеров. Ввиду важности события Ален нарядился во фрак, уморительно облегавший его круглую, как шарик, фигурку. Этот низенький, шамкающий старичок похож был на фрикадельку из белого куриного мяса.
Как только пробило два часа, в кабинет вошел Андермат в сопровождении своего тестя, шурина, Поля Бретиньи и свиты из семерых приезжих, которых Гонтран назвал статистами. У Андермата был вид полководца. Вскоре после этого прибыл старик Ориоль со своим Великаном – у обоих вид был встревоженный, недоверчивый, как и у всех крестьян, когда им надо подписывать бумаги. Последним явился доктор Латон. Он помирился с Андерматом, принеся ему в искусно закругленных фразах почтительные извинения, за которыми последовали изъявление полной, безоговорочной, беспрекословной покорности и предложение услуг.
В ответ банкир, чувствуя, что держит его в руках, пообещал ему завидную должность главного врача на новом курорте.
Когда все собрались, наступило глубокое молчание. Наконец нотариус сказал:
– Прошу садиться, господа.
Он прошамкал еще несколько слов, которых никто не расслышал в шуме передвигаемых стульев.
Андермат вытащил для себя из шеренги один стул и устроился напротив своего отряда, чтобы можно было следить за ним, а когда все уселись, взял слово.
– Господа! Нет необходимости подробно излагать вам цель настоящего собрания. Прежде всего нам нужно учредить новое акционерное общество, в которое вы пожелали вступить пайщиками. Следует, однако, упомянуть о некоторых затруднениях, доставивших нам немало хлопот. Прежде чем предпринимать что-либо, я должен был иметь уверенность, что мы добьемся необходимого разрешения для основания нового общественно полезного учреждения. Эта уверенность у меня теперь есть. Все, что еще остается сделать в этом смысле, я беру на себя. Я уже заручился обещанием министра. Но меня останавливает другая трудность. Нам, господа, придется вести борьбу со старым акционерным обществом Анвальских минеральных вод. Я не сомневаюсь, что борьба эта принесет нам победу – победу и богатство. Но как в битвах прежних времен воинам нужен был боевой клич, так и нам в современном сражении нужен свой клич – название нашего курорта, название звучное, заманчивое, удобное для рекламы, действующее на слух, как звук фанфары, и на глаз, как блеск молнии. Однако мы, господа, находимся в Анвале и не можем произвольно окрестить по-новому этот край. Нам остается только один выход: дать новое наименование курорту, только курорту.
И вот что я предлагаю.
Наша лечебница будет построена у подножия холма, который является собственностью господина Ориоля, присутствующего здесь; наше будущее казино мы воздвигнем на вершине того же самого холма. Итак, с полным правом можно сказать, что этот холм, вернее эта гора, – ибо это настоящая, хоть и небольшая гора, – представляет собою основу нашего предприятия, ведь мы владеем ее подножием и ее гребнем. А посему я считаю вполне естественным, чтобы мы назвали наше предприятие «Источники Монт-Ориоля», и таким образом название нашего курорта, который станет одним из знаменитейших курортов мира, будет связано с именем первого его владельца. Воздадим кесарево кесарю.
И заметьте, господа, что это наименование звучит великолепно. Будут говорить: «Монт-Ориоль», так же как говорят: «Мон-Дор».[7] Начертание его радует глаз, звучание ласкает слух, его видишь, его слышишь, оно врезается в память: Монт-Ориоль! Монт-Ориоль! Источники Монт-Ориоля!..
И Андермат то произносил это название нараспев, то бросал его скороговоркой, как мячик, напряженно вслушиваясь, как оно звучит. Он даже разыгрывал диалоги в лицах:
«– Вы едете на воды в Монт-Ориоль?
– Да, сударыня. Говорят, воды Монт-Ориоля бесподобны!
– О да, в самом деле превосходные воды! И к тому же Монт-Ориоль – дивная местность».
Он улыбался, менял интонации, изображая дамский разговор, помахивал пухлой рукой, изображая приветственный жест мужчины. Потом сказал уже естественным голосом:
– Есть у кого-нибудь возражения?
Акционеры хором ответили:
– Нет, нет! Никаких возражений!
Трое из статистов даже зааплодировали.
Старик Ориоль, взволнованный, покоренный, польщенный в своей тайной гордости разбогатевшего крестьянина, смущенно вертел в руках шляпу, улыбался и невольно кивал головой, словно говорил: «Да, да!» – выдавая свою радость, и Андермат, как будто и не смотревший на него, прекрасно это подметил.
Великан сидел с виду равнодушный, бесстрастный, но доволен был не меньше отца.
Андермат сказал нотариусу:
– Огласите, пожалуйста, устав, мэтр Ален.
Нотариус повернулся к письмоводителю:
– Начинайте, Марине.
Марине, чахоточный заморыш, кашлянул и с интонациями проповедника, с декламаторскими потугами начал читать пункты и параграфы устава акционерного общества «Водолечебное заведение Монт-Ориоль» в Анвале с учредительным капиталом в два миллиона.
Старик Ориоль перебил его:
– Погоди, погоди малость!
И вытащил из кармана засаленную тетрадку, за одну неделю побывавшую в руках всех нотариусов, всех ходатаев по делам, всех поверенных департамента. Это была копия устава, которую сам Ориоль и его сын почти уже затвердили наизусть.
Старик не спеша нацепил на нос очки, откинул голову, отодвинул от глаз тетрадку, отыскивая расстояние, с которого буквы лучше видны, и сказал:
– Валяй, Марине.
Великан пододвинул стул и стал следить по тетрадке вместе с отцом.
Марине опять начал читать сначала. Старик Ориоль, которого сбивала с толку необходимость и читать и слушать одновременно, терзаясь страхом, как бы не подменили какое-нибудь слово другим, пытаясь следить, не делает ли Андермат каких-нибудь знаков нотариусу, на каждой строчке по десять раз останавливал письмоводителя и срывал все его ораторские эффекты.
Он поминутно говорил:
– Ты что сказал? Как ты сказал? Я не расслышал. Помедленней читай.
И, слегка обернувшись к сыну, спрашивал:
– Так он, что ль, читает. Великан? Правильно?
Великан, лучше владевший собой, успокаивал его:
– Так, так, отец. Оставь. Все правильно!
Однако старик овернец не мог успокоиться. Он водил по строчкам крючковатым пальцем, бормотал себе под нос, но внимание его не могло раздваиваться: если он слушал, то не в состоянии был читать, если читал, то не слышал, что говорит письмоводитель. Он пыхтел, как будто поднимался в гору, и обливался потом, как будто мотыжил виноградник в палящую жару; время от времени он требовал остановки, чтобы вытереть мокрый лоб и перевести дух, словно борец в рукопашной схватке.
Андермат нетерпеливо постукивал ногой об пол. Гонтран, заметив на столе нотариуса номер Вестника Пюи-де-Дом, взял его и рассеянно пробегал глазами. А Поль, сидя верхом на стуле, опустив голову, с болью в сердце думал о том, что вот этот румяный человечек с круглым брюшком, сидящий напротив него, завтра увезет женщину, которую он, Поль Бретиньи, любит всей душой, – Христиану, его Христиану, его белокурую Христиану, хотя она принадлежит ему, Полю Бретиньи, всецело принадлежит ему, только ему. И он задавался вопросом, не похитить ли ее сегодня же вечером?
Семеро статистов сидели смирно, с серьезным и важным видом.
Через час чтение кончилось. Устав подписали.
Нотариус составил акт капиталовложений, затем обратился с вопросом к казначею Аврааму Леви, и тот подтвердил, что получил все вклады. Затем акционерное общество объявлено было законно существующим, и тут же открылось общее собрание акционеров-учредителей для выбора правления и председателя.
Председателем единодушно был избран Андермат – всеми голосами против двух. Двое отколовшихся – старик овернец и его сын – предлагали выбрать в председатели Ориоля-отца. Бретиньи был выбран ревизором.
Затем правление, составленное из Андермата, маркиза де Равенеля, графа Гонтрана де Равенеля, Поля Бретиньи, обоих Ориолей, доктора Латона, Авраама Леви и Симона Зидлера, попросило остальных акционеров, а также нотариуса и письмоводителя удалиться, и началось обсуждение наиболее важных, неотложных мероприятий.
Андермат вновь поднялся:
– Господа! Теперь мы вплотную подошли к самому животрепещущему вопросу: каким путем добиться успеха, который мы с вами должны завоевать во что бы то ни стало? Минеральные воды – такой же товар, как и прочие. Хотите найти на них потребителей – надо, чтобы о них говорили, говорили везде и очень веско.
Господа! Реклама – важнейшая проблема нашего времени. Реклама – это бог современной торговли и промышленности. Вне рекламы нет спасения. Однако реклама – это искусство весьма нелегкое, сложное, требующее большого такта. Пионеры этого двигателя деловой жизни применяли очень грубые приемы, привлекали внимание публики, так сказать, барабанным боем и пушечной пальбой. Но ведь знаменитый Манжен был только зачинателем. А в наши дни шумиха кажется подозрительной. Кричащие афиши вызывают теперь усмешку, имена, о которых трубят на всех перекрестках, скорее пробудят недоверие, чем любопытство. А между тем нам так или иначе надо привлечь внимание публики – сначала поразить ее, потом убедить. Искусство рекламы как раз в том и состоит, чтобы найти единственно верный для этого способ, различный для каждого вида товара. Мы с вами, господа, собираемся торговать минеральной водой. Следовательно, мы можем покорить, завоевать больных только через докторов.
Врачи, даже самые знаменитые, – такие же люди, как и мы, грешные, с такими же слабостями. Я не хочу сказать, что их можно купить. Репутация знаменитостей медицинского мира, которые нам нужны, безупречна, никто не посмеет их заподозрить в продажности. Но существует ли на свете такой человек, которого нельзя было бы прельстить, – конечно, если взяться за дело умеючи. Ведь попадаются женщины, которых невозможно купить, – ну что ж, их можно обольстить!
Вот, господа, какое я вношу предложение, тщательно обсудив его с доктором Латоном.
Прежде всего мы разбили на три основные группы болезни, подлежащие излечению на нашем курорте. Первая группа – все виды ревматизма, лишаи, артриты, подагра и так далее. Вторая группа – болезни желудка, кишечного тракта и печени. Третья группа – все недомогания, вызванные неправильным кровообращением, так как совершенно бесспорно, что наши углекислые ванны оказывают самое благотворное действие на кровообращение.
Заметьте, господа, что чудесное исцеление старика Кловиса обещает нам чудеса.
Итак, определив болезни, излечиваемые нашими водами, мы обратимся к крупнейшим врачам, специалистам по этим болезням, со следующим предложением: «Господа, – скажем мы им, – приезжайте, убедитесь сами, убедитесь воочию, приезжайте с вашими пациентами, понаблюдайте за действием наших вод. Мы предлагаем вам погостить у нас. Местность у нас красивейшая, вам надо отдохнуть после тяжких трудов, утомивших вас в зимние месяцы. Приезжайте, милости просим. И знайте, господа профессора, вы приедете, собственно говоря, не к нам, а к себе домой, на свои дачи. Стоит вам пожелать, и вы приобретете их в полную собственность на самых сходных условиях».
Андермат остановился, перевел дух и продолжал свою речь уже более спокойным, деловым тоном:
– Вот как я думаю осуществить этот план. Мы выбрали шесть участков, каждый по тысяче квадратных метров. Бернское акционерное общество сборных швейцарских домиков обязуется построить на всех этих участках однотипные дачи. Мы бесплатно предоставим эти уютные и красивые жилища в распоряжение приглашенных нами врачей. Если им понравится там, они купят при желании эти дома у Бернского акционерного общества – только дома, а землю мы безвозмездно преподнесем им в собственность… Они нам заплатят за это… больными. Мероприятие, господа, выгодное во всех отношениях: на территории курорта вырастут нарядные виллы, которые ничего нам не будут стоить, мы привлечем к себе светил медицинского мира и полчища их пациентов, а главное, убедим крупных врачей в целительном действии наших вод, и эти знаменитости в самом скором времени станут здесь дачевладельцами. Переговоры, которые должны привести нас к таким результатам, я берусь осуществить не как делец-спекулянт, а как светский человек.
Старик Ориоль перебил Андермата. Вся его овернская скаредность восстала против даровой раздачи земли.
Андермат вознесся на вершины красноречия, он противопоставил разумного землепашца, который щедрой рукой бросает семена в плодородную почву, хозяину-скопидому, который считает каждое зернышко и поэтому всегда собирает лишь самый скудный урожай.
Разобиженный крестьянин заупрямился, тогда Андермат поставил вопрос на голосование, и результаты его заткнули рот Ориолю. Шесть голосов против двух.
Затем Андермат извлек из большого сафьянового портфеля планы новой водолечебницы, отеля и казино, сметы и контракты с подрядчиками, заготовленные для утверждения и подписи на настоящем заседании. Работы должны были начаться уже на следующей неделе.
Только отец и сын Ориоли потребовали рассмотрения и обсуждения всех этих документов. Андермат раздраженно воскликнул:
– Разве я прошу у вас денег? Ведь нет? Ну так оставьте меня в покое! А если вы недовольны, давайте голосовать.
Ориолям пришлось подписаться вместе с остальными членами правления, и заседание было закрыто.
Все население Анваля столпилось на улице у дверей конторы, взволнованно ожидая выхода новых предпринимателей. Все им почтительно кланялись. Когда Ориоли собрались уже повернуть к себе домой, Андермат сказал им:
– Не забудьте, мы сегодня обедаем все вместе в отеле. И обязательно приведите с собой своих девчурок. Я привез им из Парижа маленькие подарки.
Решено было встретиться в семь часов вечера в гостиной «Сплендид-отеля».
Банкир устроил парадный обед, на который были приглашены самые именитые из курортных гостей и местные власти. Христиана сидела на почетном месте, по правую руку от нее посадили приходского священника, по левую – мэра.
Говорили за обедом только о новом курорте и блестящем будущем Анваля. Сестры Ориоль нашли у себя под салфетками по футляру с браслетом, осыпанным жемчугом и изумрудами; обе были в восторге от подарков, оживились и превесело болтали с Гонтраном, которого посадили между ними; даже старшая сестра от души смеялась его шуткам; молодой парижанин, воодушевившись, всячески развлекал их, а про себя производил им оценку, вынося о них то дерзкое тайное суждение, которое чувство и чувственность подсказывают мужчине близ каждой привлекательной женщины.
Поль ничего не ел, ничего не говорил… Ему казалось, что этот вечер – конец его жизни. И вдруг ему вспомнилось, как ровно месяц тому назад они ездили на Тазенатское озеро. Сердце его щемила тоска, скорее от предчувствия, чем от совершившегося несчастья, – тоска, знакомая только влюбленным, когда на душе так тяжело, нервы так напряжены, что вздрагиваешь от малейшего шума, когда одолевают горькие мысли и каждое слово, которое слышишь, как будто полно зловещего значения, связано с этими неотвязными мыслями.
Лишь только встали из-за стола, он подошел в гостиной к Христиане.
– Нам надо встретиться сегодня вечером, сейчас же, – сказал он. – Бог знает, когда еще удастся нам побыть вдвоем. Знаете, ведь сегодня ровно месяц, как…
Она ответила:
– Знаю.
– Слушайте. Я буду ждать вас на дороге в Ла-Рош-Прадьер, не доходя деревни, возле каштанов. Сейчас никто не заметит, что вас нет. Приходите на минутку, проститься, ведь завтра мы расстаемся.
Она прошептала:
– Через четверть часа.
И он ушел: ему нестерпимо было оставаться среди всех этих людей.
Он прошел через виноградники той самой тропинкой, по которой они поднимались, когда впервые ходили полюбоваться равниной Лимани. Вскоре он вышел на большую дорогу. Он был один, чувствовал себя одиноким, совсем одиноким на свете. Огромная, невидимая во мраке равнина еще усиливала это чувство одиночества. Он остановился на том месте, где читал ей стихи Бодлера о красоте. Как уже далек этот день! И час за часом Поль вспомнил все, что случилось с того дня. Никогда еще он не был так счастлив, никогда! Никогда не любил с такой безумной страстью и вместе с тем такой чистой, благоговейной любовью! И в памяти его встал вечер на Тазенатском озере – ровно месяц прошел с тех пор; ему вспомнилось все: лесная прохлада, поляна, залитая мягким лунным светом, серебряный круг озера и большие рыбы, тревожившие рябью его поверхность; вспомнилось возвращение: он видел, как она идет впереди него то в голубоватом сиянии, то в темноте, и капельки лунного света дождем падают сквозь листву на ее волосы, плечи, руки. Какие это были прекрасные минуты, самые прекрасные в его жизни!
Он обернулся посмотреть, не идет ли она, но не увидел ее. На горизонте поднималась луна; та самая луна, которая поднималась в небе в час первого признания, светила теперь – в час первой разлуки.
Озноб пробежал у него по всему телу. Близилась осень – предвестница зимы. До сих пор он не замечал ее первых ледяных прикосновений, а теперь холод пронизал его насквозь, как мрачная угроза.
Пыльная белая дорога извивалась перед ним, словно река. На повороте вдруг выросла человеческая фигура. Он сразу узнал ее, но не двигался, ждал, весь трепеща от блаженного сознания, что она приближается, идет к нему, идет ради него.
Она шла мелкими шажками, не смея его окликнуть и беспокоясь оттого, что все еще не видит его, – он стоял под деревом; шла, взволнованная глубокой тишиной, светлой пустыней земли и неба, и перед нею двигалась ее тень, непомерно большая тень, которая вытянулась далеко впереди, как будто торопилась скорее принести ему какую-то частицу ее существа.
Христиана остановилась, и тень ее неподвижно легла на дороге.
Поль быстро сделал несколько шагов до того места, где на дороге вырисовывалась тень головы. И, словно боясь потерять хоть что-нибудь, исходящее от нее, он стал на колени и, нагнувшись, прильнул губами к краю темного силуэта. Как собака, томясь жаждой, подползает на животе к берегу ручья и пьет из него воду, так жадно целовал он в пыли очертания любимой тени. Он передвигался на коленях и на руках и все целовал, целовал контуры тени, как будто впивал в себя смутный дорогой ему образ, простертый на земле.
Удивленная, немного испуганная, она ждала, не решаясь заговорить с ним, и, только когда он подполз к ее ногам и, обхватив ее обеими руками, поднял к ней голову, она спросила:
– Что с тобой сегодня?
Он ответил:
– Лиана, я теряю тебя!
Она перебирала пальцами густые волосы своего друга и, запрокинув ему голову, поцеловала его в глаза.
– Почему теряешь? – спросила она, доверчиво улыбаясь ему.
– Завтра мы расстанемся.
– Расстанемся? Ненадолго, милый, совсем ненадолго.
– Кто знает! Не вернутся дни, прожитые здесь.
– Будут другие дни, такие же прекрасные.
Она подняла его, увлекла под дерево, где он ждал ее, усадила рядом с собой, чуть пониже, чтобы гладить и перебирать его волосы, и стала говорить серьезно и спокойно, как женщина рассудительная, твердая и пламенно любящая, которая все уже предусмотрела, чутьем угадала, что надо делать, и решилась на все:
– Слушай меня, милый. В Париже я чувствую себя совершенно свободно. Вильям не обращает на меня никакого внимания. Ему важны только его дела, а меня он и не замечает. Ты не женат, значит, я могу приходить к тебе. Я буду приходить каждый день, каждый день в разное время: то утром, то днем, то вечером – ведь прислуга начнет сплетничать, если я буду уходить из дому в одни и те же часы. Мы можем встречаться так же часто, как здесь, и даже чаще, – не надо будет бояться любопытных.
Но он повторял, крепко обнимая ее за талию и положив голову ей на колени:
– Лиана! Лиана! Я потеряю тебя! Я чувствую, что потеряю тебя!
Она немножко рассердилась на него за эту неразумную, детскую печаль, не вязавшуюся с его мощным телом; рядом с ним она, такая хрупкая, была полна уверенности в себе, уверенности, что никто и ничто не может их разлучить.
Он зашептал:
– Лиана, согласись, бежим вместе, уедем далеко-далеко, в прекрасную страну, полную цветов, и будем там любить друг друга. Скажи только слово, и мы сегодня же вечером уедем. Ты согласна?
Но она досадливо пожала плечами, недовольная, что он не слушает ее. Разве можно в такую минуту предаваться мечтаниям и ребяческим нежностям? Сейчас надо проявить волю и благоразумие, придумать средство, чтоб можно было всегда любить друг друга и не вызывать подозрений.
Она сказала:
– Послушай меня, милый. Нам надо все обдумать и договориться, чтобы не допустить какой-нибудь неосторожности или ошибки. Во-первых, скажи: ты уверен в своих слугах? Больше всего надо бояться доноса, анонимного письма моему мужу. Сам он ни за что не догадается. Я хорошо знаю Вильяма…
Но это имя, которое она произнесла уже два раза, вдруг болезненно задело Поля. Он сказал с раздражением:
– Ах, не говори о нем сегодня!
Она удивилась:
– Почему? Ведь надо же… О, уверяю тебя, он совсем не дорожит мною!
Она угадала его мысли. Смутная, еще безотчетная ревность проснулась в нем. И вдруг, став на колени, он сказал, сжимая ее руки:
– Слушай, Лиана!..
И умолк, не решаясь высказать свое беспокойство, возникшее вдруг постыдное подозрение, не находя слов, как выразить его.
– Слушай, Лиана… Как у тебя с ним?…
Она не поняла:
– Что «как»?… Очень хорошо…
– Да, да… Я знаю… Но послушай… пойми меня хорошенько… Ведь он твой муж… словом… Ах, если б ты знала, сколько я думал об этом последние дни! Как это меня мучает!.. Как это терзает меня!.. Ты поняла?. Да?
Она на миг задумалась и вдруг, поняв его вопрос, вскрикнула с искренним негодованием:
– Ах, как ты можешь?… Милый, как ты мог подумать?… Зачем ты так!.. Я же вся твоя, слышишь?… Только твоя… Ведь я люблю тебя, Поль…
Он снова уронил голову ей на колени и тихо сказал:
– Лиана, маленькая моя!.. Но ведь он твой муж… Муж… Как же ты будешь? Ты подумала об этом?… Скажи… Как будет сегодня вечером или завтра? Ты же не можешь… всегда, всегда говорить ему «нет»…
Она прошептала еле слышно:
– Я его уверила, что я беременна… и он успокоился. Ему это не очень важно… право… Не будем говорить об этом, милый, не надо. Если бы ты знал, как мне это обидно, как горько! Верь мне, ведь я люблю тебя…
Он больше не двигался, молча целовал ее платье, вдыхая аромат ее духов, а она тихо гладила его лицо своими легкими, нежными пальцами.
Вдруг она сказала:
– Пора. Надо идти, а то могут заметить, что нас обоих нет.
Они простились, крепко, до боли сжав друг друга в долгом объятии, и она ушла первая, почти побежала, чтобы вернуться поскорее. Он смотрел ей вслед, пока она не исчезла, смотрел с такой печалью, как будто все его счастье, все надежды исчезли вместе с нею.
Часть вторая
ГЛАВА I
Через год, к первому июля, Анвальский курорт стал неузнаваем.
На вершине холма, поднимавшегося посреди долины, меж двух ее выходов, выросло строение в мавританском стиле, и на фронтоне его блестело золотыми буквами слово «Казино».
Молодой лес по склону, обращенному к Лимани, превратился в небольшой парк. Перед казино, возвышаясь над широкой Овернской равниной, протянулась терраса с каменной балюстрадой, которую из конца в конец украшали большие вазы поддельного мрамора.
Пониже, в виноградниках, мелькали крытые лаком фасады шести разбросанных в них швейцарских домиков.
На южном склоне сверкал белизной громадный «Гранд-отель Монт-Ориоля», привлекая взоры путешественников еще издали, как только они выезжали из Риома. А внизу, у подошвы того же самого холма, стояло теперь квадратное здание без всяких вычур в архитектуре, но просторное, окруженное садом, где пробегал ручей, вытекавший из ущелья, – это была водолечебница, и там больных ожидали чудеса исцеления, которые сулила им брошюра, написанная доктором Латоном. Надпись на фасаде гласила: «Лечебные ванны Монт-Ориоля», на правом крыле буквами помельче сообщалось: «Гидротерапия. Промывание желудка. Бассейны с проточной водой»; на левом крыле: «Институт механизированной врачебной гимнастики».
Все было новенькое, ослепительно белое. Повсюду еще работали маляры, кровельщики, водопроводчики, землекопы, хотя ванное заведение уже месяц было открыто для больных.
С первых же дней успех превзошел все ожидания основателей. Три виднейших парижских врача, три знаменитости, профессора Ма-Руссель, Клош и Ремюзо, взяли новый курорт под свое покровительство и согласились пожить некоторое время в виллах, построенных Бернским обществом сборных домов и предоставленных в их распоряжение дирекцией курорта.
Доверяясь авторитету парижских светил, больные хлынули в Монт-Ориоль. «Гранд-отель» был переполнен.
Хотя водолечебница начала действовать в первых числах июня, официальное открытие курорта отложили до первого июля, чтобы привлечь побольше народу. Праздник решено было начать в три часа дня освящением источников. А вечером предполагалось большое представление, фейерверк и бал, который должен был объединить всех больных Монт-Ориоля и соседних курортов, а также именитых особ из населения Клермон-Феррана и Риома.
Казино на вершине горы уже расцветилось флагами, со всех сторон реяли голубые, красные, белые, желтые полотнища, окружавшие все здание пестрым трепещущим облаком, а в парке вдоль аллей водрузили гигантские мачты с длиннейшими вымпелами, извивавшимися, как змеи, в голубом небе.
Петрюс Мартель, получивший звание директора нового казино, воображал себя под сенью этих бесчисленных флагов всемогущим капитаном какого-то фантастического корабля; он выкрикивал приказания слугам в белых фартуках грозным, громовым голосом, словно адмирал в разгар морского боя, и ветер доносил раскаты его баса до самого села.
На террасе появился Андермат, уже запыхавшийся от суеты. Петрюс Мартель выбежал ему навстречу, приветствуя его широким и величавым жестом.
– Ну как? Все хорошо? – спросил банкир.
– Превосходно, господин председатель.
– Если я понадоблюсь, найдете меня в кабинете главного врача. У нас сейчас заседание.
И он спустился с холма. У дверей водолечебницы встречать хозяина бросились смотритель и кассир, которых, как и директора казино, переманили от старого акционерного общества, жалкого, бессильного соперника, обреченного на гибель. Бывший тюремный надзиратель отдал банкиру честь по-военному, кассир согнулся в низком поклоне, как нищий, который просит милостыню.
Андермат спросил:
– Главный врач здесь?
Смотритель отрапортовал:
– Так точно, господин председатель. Господа члены правления все прибыли.
Банкир прошел через вестибюль, мимо почтительно кланявшихся служителей и горничных, повернул направо, отворил дверь и очутился в просторной комнате, обставленной очень строго, с книжными шкафами, с бюстами деятелей науки; тут собрались все находившиеся в Анвале члены правления: тесть Андермата маркиз де Равенель, шурин Гонтран де Равенель, Поль Бретиньи, доктор Латон и оба Ориоля – отец и сын, постаравшиеся одеться, как господа, но такие длинные, сухопарые, в таких долгополых черных сюртуках, что оба напоминали факельщиков с рекламы бюро похоронных процессий.
Обменявшись торопливыми рукопожатиями, все сели, и Андермат произнес речь:
– Нам остается решить весьма важный вопрос: как назвать источники? Тут я совершенно не согласен с главным врачом, господином Латоном. Он предлагает дать трем нашим основным источникам имена трех светил медицины, являющихся нашими гостями. Разумеется, этот лестный знак внимания тронул бы их и еще больше привлек к нам. Но будьте уверены, господа, что это навсегда оттолкнуло бы от нас их знаменитых собратьев, еще не откликнувшихся на наше приглашение, а между тем мы должны ценой любых усилий, любых жертв убедить их в замечательном действии наших вод. Да, господа, человеческая природа всюду одна, надо ее знать и уметь ею пользоваться. Никогда профессора Плантюро, де Ларенар и Паскалис – укажу хотя бы только на этих трех специалистов по заболеваниям желудка и кишечника – не пошлют к нам своих пациентов, цвет своей клиентуры, украшенной именами принцев и эрцгерцогов, светских львов и львиц, которым они обязаны своим состоянием и своей славой, никогда они не пошлют таких больных лечиться водами источника Ма-Русселя, источника Клоша или источника Ремюзо. Ведь тогда у этих пациентов, у всей публики будут некоторые основания думать, что именно профессора Ремюзо, Клош и Ма-Руссель открыли наши источники и все целебные их свойства. Несомненно, господа, что имя Гюблера, которым окрестили первый источник Шатель-Гюйона, надолго восстановило против этого курорта многих видных врачей, тогда как они могли взять его под свою опеку с самого начала, и он скорее достиг бы нынешнего своего процветания.
Поэтому я предлагаю просто-напросто дать источнику, открытому первым, имя моей жены, а двум другим – имена дочерей господина Ориоля. Таким образом, у нас будут источники Христианы, Луизы и Шарлотты. Это звучит очень мило, очень поэтично. Что вы на это скажете?
Все согласились с его мнением, даже доктор Латон, который только добавил:
– В таком случае следовало бы попросить профессоров Ма-Русселя, Клоша и Ремюзо быть крестными отцами и в процессии вести под руку крестных матерей.
– Отлично! Отлично! – воскликнул Андермат. – Бегу к ним. Они согласятся, ручаюсь! До свидания! Встретимся в три часа в церкви, шествие двинется оттуда.
И он выбежал из кабинета.
Вслед за ним ушли маркиз и Гонтран. Затем Ориоли, надев на головы цилиндры, важно зашагали рядышком: две черные, мрачные фигуры на белой дороге; а Полю Бретиньи, приехавшему только накануне, к торжеству открытия курорта, доктор Латон сказал:
– Нет, нет, я вас не пущу, господин Бретиньи. Я хочу показать вам мое детище, от которого я жду настоящих чудес. Пойдемте посмотрим Институт механизированной врачебной гимнастики.
Он подхватил Поля Бретиньи под руку и потащил его с собой. Но когда они вышли в вестибюль, служитель остановил доктора:
– Господин Рикье ждет промывания.
В прошлом году доктор Латон злословил по поводу промываний желудка, апостолом коих был доктор Бонфиль, щедро применявший их в водолечебнице старого курорта, где он состоял главным врачом. Но времена меняются, а с ними изменилось и мнение доктора Латона – зонд Барадюка стал теперь важнейшим орудием пытки в руках главного врача нового курорта, и он с детской радостью засовывал его в пищеводы всех больных.
Он спросил у Поля Бретиньи:
– Вы когда-нибудь присутствовали при этой небольшой операции?
– Нет, никогда, – ответил Бретиньи.
– Так пойдемте, дорогой. Вы посмотрите – это весьма любопытно.
Они вошли в залу врачебных душей, где в ожидании доктора уже сидел в деревянном кресле Рикье, человек с кирпично-красным лицом, искавший в этом году исцеления у новых источников Монт-Ориоля, ибо он каждое лето пробовал действие вод в каком-нибудь вновь открытом курорте.
Словно преступник в застенке Средневековья, он был крепко связан, стянут неким подобием смирительной рубашки из клеенки, чтобы предохранить его платье от брызг и пятен Вид у него был жалкий, испуганный и страдальческий, как у больного, приготовленного к опасной хирургической операции.
Как только доктор вошел, служитель схватил длинную резиновую кишку с двумя ответвлениями посередине, похожую на тонкую двухвостую змею. Конец одного отвода служитель насадил на отверстие крана, сообщавшегося с источником, конец второго опустил в стеклянную банку, куда должна была стекать жидкость, извергаемая желудком больного, а главный врач взял бестрепетной рукой среднюю, основную, трубку этого приспособления, с любезной улыбкой протянул ее к широко открытому рту Рикье и, грациозно направляя кишку большим и указательным пальцами, ловко засунул ее в горло больному, вводя все глубже, глубже и благодушно приговаривая:
– Так, так, так, великолепно! Идет, идет, идет. Превосходно!
У несчастного Рикье лицо стало лиловым, глаза выкатились, на губах пузырилась пена, он задыхался, всхлипывал, икал и, уцепившись руками за локотники кресла, делал мучительные и тщетные попытки извергнуть из своего желудка заползавшую в него резиновую змею.
Когда он проглотил с полметра трубки, доктор сказал:
– Ну, довольно! Пускайте воду.
Служитель повернул кран, и вскоре живот у больного начал заметно вздуваться, наполняясь теплой водой источника.
– Покашляйте, – сказал врач, – покашляйте, чтобы начал действовать сифон.
Но у бедняги вместо кашля вырывался только хрип, он судорожно дергался, и казалось, глаза у него вот-вот выскочат из орбит. Вдруг на полу рядом с креслом что-то забулькало, зажурчало – сифон двухвостой трубки начал наконец выкачивать жидкость из желудка в стеклянную банку, а доктор внимательно рассматривал ее, отыскивая в ней признаки катара и приметные следы несварения.
– Никогда больше не ешьте зеленого горошка! – восклицал он. – И салата тоже! Ох, этот салат! Вы совсем его не перевариваете! И земляники не ешьте! Я вам десять раз говорил: забудьте о землянике!
Рикье, видимо, рассвирепел; он ерзал в кресле, не в силах произнести ни слова, так как трубка заткнула ему горло. Но лишь только промывание кончилось и доктор осторожно вытащил зонд из его утробы, он завопил:
– А разве я виноват, что меня каждый день пичкают всякой дрянью, губят мое здоровье?! Чье это дело – следить, чем кормят в здешней проклятой харчевне? Это ваша обязанность! Я перебрался в новую гостиницу, потому что в старой меня отравляли мерзкой стряпней, но на этом огромном постоялом дворе, именуемом «Гррранд-отель Монт-Ориоля», меня совсем доконали. Честное слово!
Доктору пришлось его успокаивать и повторить несколько раз подряд, что он возьмет под свое наблюдение питание больных в отеле.
Затем он опять подхватил Поля Бретиньи под руку и увел его, разъясняя по дороге:
– Я изложу вам вкратце весьма разумные основы созданного мною специального лечения механизированной гимнастикой, которую я вам сейчас продемонстрирую. Вы слышали, конечно, о моей системе органометрической терапии? Не так ли? Я утверждаю, что большинство болезней, которыми мы страдаем, вызывается исключительно непомерным развитием какого-либо органа за счет других. Этот орган теснит своих соседей, мешает их функциям и вскоре разрушает общую гармонию всего организма, из чего проистекают весьма плачевные последствия.
Однако физические упражнения в сочетании с душами и теплыми минеральными ваннами самым действенным образом помогают восстановить нарушенное равновесие и сократить до нормальных размеров органы, захватившие чужое место.
Но как заставить больного заниматься физическими упражнениями? Ходьба, верховая езда, плавание или гребля требуют, помимо значительного физического усилия, еще и волевого усилия, а это особенно важно. Воля – вот что увлекает, вынуждает тело к действию и поддерживает его силы. Недаром же люди энергичные всегда отличаются подвижностью. Но источник энергии – душа, а не мышцы. Тело повинуется сильной воле.
Нечего и думать, дорогой мой, труса наделить смелостью, а слабодушного человека решимостью. Но мы можем достигнуть другого, можем сделать нечто большее – мы можем исключить храбрость, умственную энергию, волевые усилия, оставив лишь усилия телесные. Волевые усилия я с успехом заменяю чисто механическим внешним воздействием. Понятно вам? Не очень? Ну вот, посмотрите.
Доктор Латон отворил дверь, и они вошли в просторный зал, где выстроились рядами какие-то странные приспособления: большие кресла на высоких деревянных подставках, топорно сделанные из ели подобия лошадей, сооружения из планок, скрепленных шарнирами, подвижные брусья, укрепленные перед стульями, привинченными к полу. Все эти предметы были снабжены сложной системой шестеренок и зубчатых колес, которые приводились в движение при помощи рукояток.
Доктор продолжал разъяснения:
– Вот взгляните. Существуют четыре главных вида физических упражнений, которые я называю естественными упражнениями: ходьба, верховая езда, плавание и гребля. Каждое из этих упражнений развивает особую группу наших органов, оказывает специфическое воздействие на человеческое тело. И вот здесь мы искусственным способом воспроизводим все эти четыре вида. Самому больному ничего не надо делать, ни о чем не надо думать – он может целый час бегать или ездить верхом, плавать или грести, и ум его не будет принимать ни малейшего участия в этой чисто мышечной работе.
Как раз при этих словах вошел Обри-Пастер в сопровождении служителя с засученными рукавами, из-под которых выступали мощные бицепсы. Инженера еще больше разнесло с прошлого года. Он шел, задыхаясь, широко расставляя тучные ноги, растопырив руки.
Доктор сказал Полю Бретиньи:
– Вот вы сейчас во всем убедитесь de visi.[8] – И обратился к своему пациенту: – Ну что, дорогой, чем мы сегодня займемся? Ходьбой или поскачем на коне?
Обри-Пастер, пожимая руки Полю Бретиньи, ответил:
– Дайте-ка мне сегодня немножко сидячей ходьбы. Она меня меньше утомляет.
Доктор Латон пояснил:
– У нас, видите ли, имеется ходьба сидячая и ходьба стоячая. Стоячая ходьба действует сильнее, но это довольно трудное упражнение. Оно производится при помощи педалей: больной встает на них, педали приводят его ноги в движение, и он удерживает равновесие, держась за кольца, вделанные в стену. А вот тут у нас сидячая ходьба.
Инженер рухнул в кресло-качалку и опустил ноги на две деревянные суставчатые подставки, прикрепленные к этому креслу. Ляжки, икры и щиколотки ему стянули ремнями так, что он не мог сделать ни одного произвольного движения; затем служитель с засученными рукавами ухватился за рукоятку и стал вертеть ее изо всей силы. Кресло сначала закачалось, как гамак, а потом ноги инженера вдруг пришли в движение, они вытягивались, сгибались, поднимались, опускались с необыкновенной быстротой.
– Видите, бежит, – пояснил доктор и приказал: – Тише, пустите шагом!
Служитель стал вертеть рукоятку медленнее, пуская толстые ноги инженера более умеренным аллюром, отчего движения стали комически расслабленными.
В зале появились двое других больных – две огромные туши, за которыми следовали двое служителей с обнаженными руками.
Толстяков взгромоздили на деревянных коней, завертели рукоятки, и тотчас «лошади» заскакали на одном месте, встряхивая своих всадников самым безжалостным образом.
– Галопом! – крикнул доктор.
Деревянные лошади запрыгали, закачались, как лодки по волнам бурного моря, и до того измучили обоих пациентов, что они, задыхаясь, жалобно закричали в один голос:
– Довольно! Довольно! Сил больше нет! Довольно!
Доктор скомандовал:
– Стоп! – и добавил: – Передохните немного. Через пять минут продолжите.
Поль Бретиньи, едва удерживаясь от хохота, сказал доктору, что всадникам, кажется, совсем не жарко, зато вертельщики все в поту.
– Не поменяться ли им ролями? – спросил он. – Пожалуй, так будет лучше.
Доктор важным тоном ответил:
– Ну что вы, дорогой! Нельзя же смешивать упражнения и утомительную работу. Вращать рукоятку колеса вредно для здоровья, а упражнять мышцы ходьбой или верховой ездой чрезвычайно полезно.
Поль заметил дамское седло.
– Да, да, – сказал доктор, – вечерние часы отведены для дам. Мужчины после полудня сюда не допускаются. Пойдемте теперь посмотрим «сухое» плавание.
Сложная система подвижных дощечек, скрепленных винтами в середине и по краям, вытягивавшихся ромбами, сдвигавшихся квадратами, как детская игрушка с марширующими деревянными солдатиками, позволяла привязать и распластать на них одновременно трех «пловцов».
Доктор пояснил:
– Мне нет необходимости указывать на преимущества «сухого» плавания – они и так ясны: тело при этом увлажняется только от испарины, и, следовательно, при таком воображаемом купании пациентам не грозит опасность ревматических заболеваний.
Но тут явился служитель и подал доктору визитную карточку.
– Извините, дорогой, прибыл герцог де Рамас. Я удаляюсь, – сказал доктор.
Оставшись один, Поль огляделся вокруг. Два всадника снова скакали; Обри-Пастер все еще упражнялся в сидячей ходьбе, а трое овернцев, у которых ломило руки, ныли спины от усталости, все вертели и вертели рукоятки, встряхивая своих клиентов. Казалось, они мололи кофе.
Выйдя из лечебницы, Бретиньи увидел доктора Онора с женой, которые смотрели на приготовления к празднику. Они поговорили немного, глядя на вершину холма, осененную ореолом флагов.
– Откуда двинется шествие? – спросила докторша.
– Из церкви.
– В три часа?
– В три часа.
– А профессора тоже пойдут?
– Да, они сопровождают крестных матерей.
Затем его остановили две вдовы Пайль, потом Монекю с дочерью. А потом Поль начал медленно подниматься на холм, так как уговорился со своим другом Гонтраном позавтракать в кофейне курортного казино, – он приехал накануне, еще не успел побеседовать с глазу на глаз со своим приятелем, с которым не виделся месяц, и теперь хотел пересказать ему множество бульварных новостей о кокотках и всяких злачных местах.
Они болтали до половины третьего, пока Петрюс Мартель не явился предупредить их, что все уже идут к церкви.
– Зайдем за Христианой, – сказал Гонтран.
– Зайдем, – согласился Поль.
Они встретили ее на крыльце нового отеля. Теперь у Христианы были впалые щеки, темные пятна на лице, как у многих беременных женщин; большой живот выдавал, что она по меньшей мере на седьмом месяце.
– Я поджидаю вас, – сказала она. – Вильям уже ушел, у него сегодня много хлопот.
И, подняв на Поля Бретиньи взгляд, полный нежности, она взяла его под руку.
Они тихо двинулись по дороге, обходя камни. Христиана повторяла:
– Какая я стала тяжелая! Ужасно тяжелая! Совсем разучилась ходить. Все боюсь упасть!
Поль осторожно вел ее, не отвечая ни слова, избегая встречаться с нею взглядом, а она беспрестанно поднимала глаза, чтобы посмотреть на него.
Перед церковью уже собралась густая толпа.
Андермат крикнул:
– Наконец-то, наконец-то! Идите скорей! Порядок шествия такой: впереди двое служек, двое певчих в стихарях, крест, святая вода, священник. Потом Христиана в паре с профессором Клошем, мадмуазель Луиза под руку с профессором Ремюзо и мадмуазель Шарлотта с профессором Ма-Русселем. Далее идут члены правления, медицинский персонал, а за ним публика. Поняли? Становитесь.
Из церкви вышел священник со своим клиром, и они заняли место во главе процессии. Затем высокий господин с длинными седыми волосами, откинутыми назад – классический тип ученого академического образца, – подошел к г-же Андермат и отвесил глубокий поклон.
Выпрямившись, он пошел рядом с ней, не надевая цилиндра, чтобы щегольнуть своей прекрасной шевелюрой ученого мужа; прижимая к бедру головной убор, он выступал так величаво, как будто учился у актеров Французской комедии этой поступи и умению выставить для обозрения публики орденскую розетку Почетного легиона, слишком большую для скромного человека.
Он заговорил с Христианой:
– Ваш супруг, сударыня, только что беседовал со мной о вас и о вашем положении, которое внушает ему некоторое беспокойство как заботливому мужу. Он рассказал мне о ваших сомнениях и неуверенности в сроке разрешения от бремени.
Христиана вся залилась краской и тихо сказала:
– Да, мне преждевременно показалось, что… я стану матерью… А теперь я уж не знаю, когда… право, не знаю…
От смущения она не знала, что говорить.
Позади них раздался голос.
– У этого курорта большое будущее. Я уже наблюдаю на своих пациентах поразительные результаты.
Так профессор Ремюзо занимал свою спутницу Луизу Ориоль. Это второе светило отличалось малым ростом, растрепанной рыжей гривой, дурно сшитым сюртуком и неопрятным видом, являя собою другой тип – ученого-замарашки.
Профессор Ма-Руссель, который шел под руку с Шарлоттой Ориоль, был благообразен, выхолен и дороден, не носил ни бороды, ни усов, гладко причесывал свои седеющие волосы, а в его бритом приветливом лице не было ничего поповского и актерского, как у доктора Латона.
За этой парой следовала группа членов правления во главе с Андерматом, и над ней покачивались высоченные цилиндры обоих Ориолей.
Позади шел еще один отряд цилиндроносцев – медицинская корпорация Анваля, где недоставало только доктора Бонфиля; впрочем, его отсутствие восполнили два новых врача: доктор Блек, низенький старик, почти карлик, поразивший всех с первого дня приезда своей набожностью, и стройный, щеголеватый красавец, единственный из всех врачей носивший мягкую шляпу, – доктор Мадзелли, итальянец, состоявший при особе герцога де Рамас или, как утверждали некоторые, при особе герцогини де Рамас.
Далее шла публика, целый поток больных, крестьян и жителей соседних городов.
С обрядом освящения источников покончили очень быстро. Аббат Литр поочередно окропил их святой водой, и доктор Онора сострил, что теперь они получили новые свойства благодаря примеси хлористого натра. Затем все приглашенные направились в просторный читальный зал, где было подано угощение. Поль сказал Гонтрану:
– Как похорошели сестрицы Ориоль!
– Да, дорогой, они просто очаровательны.
– Вы не видели господина председателя? – спросил молодых парижан бывший тюремный надзиратель.
– Вон он, в углу.
– А то, знаете, старик Кловис мутит народ у самых дверей.
Когда процессия направлялась к источникам, она прошла мимо старого калеки, в прошлом году излечившегося, а теперь совсем лишившегося ног; он останавливал на дороге приезжих, преимущественно только что прибывших, и рассказывал свою историю:
– Никуда их вода не годится, как есть никуда. Вроде как вылечит поначалу, а потом болезнь сызнова заберет, да еще пуще, хоть ложись и помирай. У меня раньше только ноги не ходили, а теперь и руки отнялись – вот до чего долечили! А ноги у меня теперь, как кувалды чугунные, ничуть не гнутся.
Андермат в отчаянии уже пытался засадить его в тюрьму, подавал на него в суд за клевету, наносящую ущерб акционерному обществу минеральных вод Монт-Ориоля, и за попытку шантажа, но ничего не добился и никак не мог заткнуть рот этому нищему бродяге.
Лишь только ему сообщили, что старик болтает у дверей водолечебницы, он бросился унимать его.
На краю большой дороги собралась толпа, и из середины ее раздавались разъяренные голоса. Любопытные останавливались, теснились, чтобы послушать и посмотреть. Дамы спрашивали: «Что там такое?» Мужчины отвечали: «Да вот больного доконали здешние воды». Некоторые уверяли, что на дороге раздавили ребенка. А другие говорили, что с какой-то несчастной женщиной случился припадок падучей.
Андермат протискался сквозь толпу с обычной своей ловкостью, раздвигая круглым, как шар, брюшком ряды чужих животов. «Он доказывает, – говорил Гонтран, – преимущество шарообразных тел над остроконечными».
Старик Кловис сидел у придорожной канавы и плакался на свою горькую участь, рассказывал о своих страданиях, хныкал, а перед ним, загораживая его от публики, стояли возмущенные Ориоли, грозили ему, ругались и кричали во всю глотку.
– Врет он все, – вопил Великан, – врет! Кто он такой! Обманщик, лодырь, браконьер! Всякую ночь по лесам бегает.
Но старик, нисколько не смущаясь, причитал пронзительным фальцетом, так что его хорошо было слышно, несмотря на зычную ругань Ориолей.
– Убили они меня, добрые люди, убили своей водой. Прошлый год они меня силком в ней купали. И вот до чего довели. Куда я теперь гожусь, куда?
Андермат велел всем замолчать и, наклонившись к калеке, сказал, пристально глядя ему в глаза:
– Если вам стало хуже, это ваша вина. Понятно? Но если вы будете меня слушаться, я ручаюсь, что вылечу вас – двумя десятками ванн, самое большее. Приходите через час в лечебницу, когда все уйдут, и мы все уладим, дядюшка Кловис. А пока что помолчите.
Старик сразу понял. Он умолк и, сделав паузу, ответил:
– Я, что ж, я не против. Можно еще попробовать. Поглядим.
Андермат подхватил под руки Ориолей и живо увел их, а старик Кловис, щурясь от солнца, остался сидеть на траве у обочины дороги между своими костылями.
Вокруг него теснилась заинтересованная толпа зрителей. Хорошо одетые господа расспрашивали его, но он не отвечал, как будто не слышал или не понимал их, а в конце концов, когда ему надоело это бесполезное теперь любопытство, во все горло запел пронзительным и фальшивым голосом бесконечную песню на своем непонятном наречии.
Толпа мало-помалу начала расходиться. Лишь несколько ребятишек еще долго стояли перед Кловисом и, ковыряя в носу, глазели на него.
Христиана очень устала и вернулась в отель отдохнуть. Поль и Гонтран прогуливались в новом парке среди гостей. Вдруг они заметили компанию актеров, которые тоже изменили старому казино, связав свою карьеру с нарождающейся славой нового курорта.
Мадемуазель Одлен, теперь очень нарядная, прохаживалась под руку с раздобревшей, важной мамашей. Птинивель из Водевиля увивался около них, а позади дам шел Лапальм из Большого театра в Бордо, споря о чем-то с музыкантами – с неизменным маэстро Сен-Ландри, пианистом Жавелем, флейтистом Нуаро и контрабасистом Никорди.
Завидев Поля и Гонтрана, Сен-Ландри бросился к ним.
Зимой он написал крошечную музыкальную комедию в одном акте, поставленную в маленьком второстепенном театре, но газеты отозвались о ней довольно благосклонно, и теперь маэстро свысока говорил о Массне, Рейере[9] и Гуно.
Он по-приятельски протянул обе руки Полю и Гонтрану и тотчас принялся пересказывать свой спор с музыкантами оркестра, которым дирижировал:
– Да, дорогой мой, со всеми песенниками старой школы покончено. Крышка им, крышка! Мелодисты отжили свой век. Вот чего они не желают понять. Музыка – новое искусство. А мелодия – ее младенческий лепет. Неразвитому, невежественному слуху приятны были ритурнели. Они доставляли ему детское удовольствие, как ребенку, как дикарю. Добавлю еще, что простонародью, людям неискушенным, примитивным, всегда будут нравиться песенки, арии. Мещанские вкусы, вкусы завсегдатаев кафешантанов!
Я прибегну к сравнению, чтобы вы лучше меня поняли. Глаз деревенщины привлекают резкие краски, аляповатые картины; глаз образованного горожанина, лишенного, однако, художественного вкуса, радуют наивные, слащавые цвета и трогательные сюжеты; но художник с изощренным глазом любит, понимает и различает неуловимые нюансы, тончайшие переходы одного и того же тона, таинственные модуляции, аккорды оттенков, которых непосвященные не видят.
То же самое происходит и в литературе: швейцары любят приключенческие романы, буржуа – романы умилительные, а утонченные люди любят только такие книги, которые недоступны пониманию толпы.
Когда буржуа говорит со мной о музыке, мне хочется его убить. И если он заговаривает о музыке в Опере, я его спрашиваю: «Способны вы сказать мне, сфальшивила или нет третья скрипка в увертюре к третьему акту? Нет? Ну так молчите. У вас нет слуха… Раз человек не может одновременно слушать весь оркестр в целом и каждый инструмент в отдельности, у него нет слуха, он не музыкант. Вот что! До свидания!»
Он повернулся на каблуках и опять заговорил:
– Для артиста вся музыка в аккорде. Ах, дорогой, иные аккорды сводят меня с ума, врываются в самое мое нутро потоком неизъяснимого блаженства. Теперь у меня слух настолько изощрен, настолько выработан, настолько искушен, что мне уж стали нравиться даже некоторые фальшивые аккорды: ведь у знатоков утонченность вкуса иной раз доходит до извращенности. Я уже становлюсь распутником, ищу возбуждающих слуховых ощущений. Да, друзья мои. Иные фальшивые ноты – какое это наслаждение! Наслаждение извращенное и глубокое! Как они волнуют, какая это встряска нервам, как это царапает слух!.. Ах, как царапает, как царапает!..
Потирая в восторге руки, он запел:
– Вот услышите мою оперу, мою оперу, мою оперу! Вот услышите мою оперу!
Гонтран спросил:
– Вы пишете оперу?
– Да, уже заканчиваю.
Но тут раздался повелительный голос Петрюса Мартеля:
– Все поняли, да? Значит, решено: желтая ракета – и вы начинаете!
Он отдавал распоряжения относительно фейерверка. Гонтран и Поль подошли к нему. Он принялся разъяснять диспозицию и, вытягивая руку, как будто грозя вражескому флоту, указывал на белые деревянные шесты, расставленные по склону горы, над ущельями, по ту сторону долины.
– Вот оттуда будут пускать. Я приказал своему пиротехнику быть на месте к половине девятого. Как только спектакль кончится, я подам из парка сигнал желтой ракетой и тогда он зажжет первую фигуру.
Появился маркиз.
– Пойду к источнику выпить стакан воды, – сказал он.
Поль и Гонтран проводили его и спустились с холма. Подходя к лечебнице, они увидели, как в нее вползает старик Кловис, которого поддерживали отец и сын Ориоли, а за ними следуют Андермат и доктор Латон; паралитик еле волочил ноги и при каждом шаге страдальчески охал и корчился.
– Пойдем посмотрим, – сказал Гонтран. – Забавно будет.
Калеку усадили в кресло, потом Андермат сказал ему:
– Вот мое предложение, старый плут: предлагаю вам немедленно выздороветь, принимая по две ванны в день. Как только начнете ходить, получите двести франков…
Паралитик заохал:
– Да ноги-то у меня, как чугунные, господин хороший.
Андермат прикрикнул на него и продолжал:
– Слушайте хорошенько… Каждый год до самой вашей смерти – слышите? – до самой смерти вы будете получать по двести франков, если согласитесь продолжать пользоваться целебным действием наших вод.
Старик был озадачен. Выздоровление на длительный срок шло вразрез с его планами.
Он спросил неуверенным голосом:
– А зимой… когда ваша лавочка закроется… вдруг меня опять схватит?… Я-то что же могу поделать… раз у вас закрыто… ванны-то где брать?
Доктор Латон перебил его и сказал, обращаясь к Андермату:
– Превосходно!.. Превосходно!.. Мы его будем подлечивать каждое лето… Так даже лучше будет: наглядное доказательство необходимости ежегодно повторять курс лечения во избежание рецидива. Превосходно!.. Вопрос решен.
Но старик опять затянул:
– Да где уж там… теперь ничего не выйдет, господа хорошие… Ноги-то у меня стали, как чугунные, как чугунные кувалды…
Доктора Латона осенила новая идея:
– А что, если я назначу ему несколько сеансов сидячей ходьбы? Это усилит действие минеральных вод, ускорит эффект. Надо испробовать.
– Превосходная мысль! – одобрил Андермат и добавил: А теперь ступайте домой, папаша, и помните наше с вами условие.
Старик потащился по дороге со стонами и охами; вся администрация Монт-Ориоля отправилась обедать, так как уже вечерело, а в половине восьмого назначено было театральное представление.
Спектакль устроили в большом зале нового казино, рассчитанном на тысячу человек.
Зрители, не имевшие нумерованных мест, начали собираться с семи часов.
К половине восьмого зал был переполнен. Подняли занавес, и начался водевиль в двух актах; за ним должна была последовать оперетта Сен-Ландри в исполнении певцов, приглашенных для такого торжества из Виши.
Христиана сидела в первом ряду между отцом и мужем. Она очень страдала от духоты и поминутно жаловалась:
– Не могу больше, право, не могу!
После водевиля, когда уже началась оперетта, ей чуть не стало дурно, и она сказала мужу:
– Виль, дорогой! Я уйду. Не могу больше. Я совсем задыхаюсь!
Банкир был в отчаянии. Ему так хотелось, чтобы праздник с начала до конца прошел блестяще, без малейшей заминки. Он ответил Христиане:
– Ну как-нибудь потерпи. Умоляю тебя! Если ты уйдешь, все будет испорчено. Тебе ведь надо пройти через весь зал.
Гонтран, сидевший рядом с Полем, позади их кресел, услышал этот разговор. Он наклонился к сестре.
– Тебе жарко? – спросил он.
– Да, я задыхаюсь.
– Хорошо. Подожди чуточку. Сейчас мы с тобой посмеемся.
Неподалеку было окно. Гонтран пробрался к нему, влез на стул и выпрыгнул. Почти никто этого не заметил.
Потом он вошел в совершенно пустую кофейню, сунул руку под конторку, куда на его глазах Петрюс Мартель спрятал сигнальную ракету, вытащил ее, побежал в парк, спрятался в кустах и зажег ракету.
Описав дугу, в небо взлетела желтая комета, дождем рассыпая огненные брызги. Тотчас же на соседней горе раздался оглушительный треск и в ночном мраке засверкал целый сноп ярких звезд.
В зрительном зале, где трепетали аккорды творения Сен-Ландри, кто-то крикнул:
– Фейерверк пускают!
В рядах, ближайших к двери, зрители вскочили и, стараясь не шуметь, отправились взглянуть, верно ли это. Остальные повернулись к окнам, но ничего не увидели, так как окна выходили на равнину Лимани.
Загудели голоса:
– Правда это? Правда?
Толпа, всегда падкая на нехитрые развлечения, волновалась. Из дверей кто-то крикнул:
– Правда! Пускают!
В одно мгновение поднялся весь зал. Все бросились к выходу, толкались, кричали тем, кто застрял в дверях:
– Да скорее вы, скорее! Дайте пройти!
Все высыпали в парк. Маэстро Сен-Ландри в отчаянии продолжал отбивать такт перед рассеянным оркестром. А на горе трещали взрывы, вертелось одно огненное солнце за другим, взвивались римские свечи.
И вдруг громовой голос трижды огласил воздух неистовым криком:
– Прекратить, черт подери! Прекратить! Прекратить!
В это мгновение заполыхало зарево бенгальского огня, озарив огромные утесы и деревья фантастическим светом, направо багряным, налево голубым, и все увидели Петрюса Мартеля, который взобрался на одну из ваз поддельного мрамора, украшавших террасу казино, и, стоя на ней с непокрытой головой, в отчаянии простирал к небесам руки, жестикулировал и орал.
И вдруг зарево угасло, в небе замерцали только настоящие звезды. Но тотчас же зажглось новое огненное колесо, а Петрюс Мартель спрыгнул на землю, восклицая:
– Какое несчастье! Какое несчастье! Боже мой, какое несчастье!
С широкими трагическими жестами он прошел сквозь толпу, грозно потрясая кулаками, гневно топая ногой, и все выкрикивал:
– Какое несчастье! Боже мой, какое несчастье!
Христиана, взяв под руку Поля, вышла посидеть на свежем воздухе и с восторгом смотрела на ракеты, взлетавшие в небо.
Вдруг к ней подбежал Гонтран.
– Ну что, удачно вышло? Правда, забавно, а?
Она шепнула:
– Как! Это ты подстроил?
– Конечно, я. Здорово вышло, верно?
Она расхохоталась, находя, что вышло в самом деле забавно. Но тут подошел удрученный, подавленный Андермат. Он не мог догадаться, кто нанес ему такой удар. Кто мог украсть из-под конторки ракету и подать условленный сигнал? Подобную гнусность мог совершить только шпион, подосланный старым акционерным обществом, агент доктора Бонфиля!
И он твердил:
– Какая досада! Это просто возмутительно! Ухлопали на фейерверк две тысячи триста франков, и все пропало зря. Совершенно зря!
Гонтран сказал:
– Нет, дорогой мой, подсчитайте хорошенько, – убытки не превышают четвертой, ну, самое большее третьей части стоимости фейерверка, то есть семисот шестидесяти шести. Значит, ваши гости насладились ракетами на тысячу пятьсот тридцать четыре франка. Это не так уж плохо, право.
Гнев банкира обратился на шурина. Он схватил его за плечо:
– Вот что, я должен с вами поговорить самым серьезным образом. Раз вы уж мне попались, пойдемте-ка походим по аллеям. Впрочем, минут через пять я вас отпущу.
И, обернувшись к Христиане, он сказал:
– А вас, дорогая, я поручаю нашему другу, господину Бретиньи. Только долго не оставайтесь тут, берегите свое здоровье: не дай бог вы простудитесь. Вам надо быть осторожной, очень осторожной!
Христиана тихо ответила:
– Ничего, друг мой, не бойтесь.
И Андермат увел с собой Гонтрана.
Как только они немного удалились от толпы, банкир остановился.
– Я хотел поговорить с вами о ваших финансовых делах.
– О моих финансовых делах?
– Да! Вы знаете, каковы они у вас?
– Нет. Зато вы, конечно, знаете – ведь вы ссужаете меня деньгами.
– Совершенно верно, я-то знаю! Вот почему я и решил поговорить с вами.
– Ну, мне кажется, момент для этого выбран неудачно… в самый разгар фейерверка!..
– Напротив, момент выбран очень удачно. Не в разгар фейерверка, а перед балом…
– Перед балом?… Что это значит? Не понимаю.
– Ничего, сейчас поймете. Вот каково ваше положение: у вас одни долги и никогда ничего не будет, кроме долгов…
Гонтран сказал резким тоном:
– Вы что-то уж слишком откровенны.
– Ничего не поделаешь, так надо. Слушайте внимательно! Вы промотали наследство, доставшееся вам после матери. Не будем о нем говорить.
– Не будем.
– У вашего отца тридцать тысяч годового дохода, то есть около восьмисот тысяч капитала. Позднее ваша доля в наследстве составит четыреста тысяч франков. А сколько у вас долгов? Только мне вы должны сто девяносто тысяч. Да еще ростовщикам…
Гонтран бросил высокомерным тоном:
– Скажите лучше-евреям.
– Хорошо, евреям, если отнести к этим самым евреям церковного старосту собора Святого Сульпиция, у которого посредником был некий священник… но к подобным пустякам я придираться не стану. Итак, вы должны различным ростовщикам, иудеям и католикам, почти столько же, сколько мне.
Ну, скинем немного, будем считать сто пятьдесят тысяч. Итого, долгов у вас на триста сорок тысяч; с этой суммы вы платите проценты, для чего опять занимаете деньги, – за исключением вашего долга мне, по которому вы ничего не платите.
– Правильно, – подтвердил Гонтран.
– Итак, у вас ничего нет.
– Верно, ничего… Кроме зятя.
– Кроме зятя, которому уже надоело давать вам взаймы.
– Что из этого следует?
– Из этого следует, дорогой мой, что любой крестьянин, живущий в одном из этих вот домишек, богаче вас.
– Прекрасно… а дальше что?
– А дальше… дальше… Если ваш отец завтра умрет, у вас не будет куска хлеба, понимаете вы это? Вам останется только одно: поступить на какое-нибудь место в мою контору, да и это будет лишь замаскированным пособием, которое мне придется платить вам.
Гонтран заметил раздраженным тоном:
– Дорогой Вильям! Мне надоел наш разговор Я все это знаю не хуже вас и повторяю: вы неудачно выбрали момент, чтобы напомнить мне о моем положении так… так… недипломатично.
– Нет, уж позвольте мне докончить. Для вас одно спасение – выгодная женитьба. Однако вы неважная партия: имя у вас хоть и звучное, но не прославленное. Оно не из тех имен, за которое богатая наследница, даже иудейского вероисповедания, согласится заплатить своим состоянием. Итак, вам надо найти невесту, приемлемую для общества и богатую, а это нелегко…
Гонтран перебил:
– Говорите уж сразу, кто она. Так лучше будет.
– Хорошо. Одна из дочерей старика Ориоля. Любая – на выбор. Вот почему я и решил поговорить с вами перед балом.
– А теперь объяснитесь подробнее, – холодным тоном сказал Гонтран.
– Все очень просто. Видите, какого успеха я сразу же добился с этим курортом. Однако, если бы у меня в руках – вернее, у нас в руках – была вся та земля, которую оставил за собой хитрый мужик Ориоль, я бы золотые горы тут нажил. За одни только виноградники, расположенные между лечебницей и отелем и между отелем и казино, я бы завтра же, ни слова не говоря, выложил миллион – так они мне нужны.
А все эти виноградники и еще другие участки вокруг холма пойдут в приданое за девочками. Старик сам мне это заявлял, а недавно еще раз повторил, может быть, с определенным намерением. Ну, что скажете?… Если бы захотели, мы с вами могли бы завернуть тут большое дело.
Гонтран протянул задумчиво:
– Что ж, пожалуй. Я подумаю.
– Подумайте, подумайте, дорогой. Только не забудьте: я на ветер слов не бросаю, и уж если сделал какое-нибудь предложение, значит, все обдумал, все взвесил, знаю все его возможные последствия и верную выгоду.
Но Гонтран вдруг поднял руку и воскликнул, как будто вмиг позабыв все, что сказал ему зять:
– Посмотрите! Какая красота!
В небе вдруг запылал фейерверк, изображавший ослепительно сверкающий замок, над ним горело знамя, на котором огненно-красными буквами начертано было «Монт-Ориоль», и в это мгновение над долиной выплыла такая же красная луна, как будто и ей захотелось полюбоваться красивым зрелищем. Замок горел в небе несколько минут, потом внезапно вспыхнул, взлетел вверх пылающими обломками, как взорвавшийся корабль, раскидывая по всему небу фантастические звезды; они тоже рассыпались градом огней, и все угасло, только луна, спокойная, круглая, одиноко сияла на горизонте.
Публика бешено аплодировала, кричала:
– Ура! Браво! Браво!
Андермат сказал:
– Ну, пойдемте, дорогой. Откроем бал. Угодно вам танцевать первую кадриль напротив меня?
– Разумеется, с удовольствием, дорогой Вильям.
– Кого вы думаете пригласить? Я уже получил согласие от герцогини де Рамас.
Гонтран ответил равнодушным тоном:
– Я приглашу Шарлотту Ориоль.
Они пошли вверх, к казино. Проходя мимо того места, где Христиана осталась с Полем Бретиньи, и увидев, что их уж нет там, Андермат пробормотал:
– Вот и хорошо, послушалась моего совета, пошла спать. Она очень утомилась сегодня.
И он торопливо направился в зал, который во время фейерверка служители казино уже успели приготовить для бала.
Но Христиана не ушла к себе в комнату, как думал ее муж.
Лишь только ее оставили одну с Полем Бретиньи, она сжала его руку и сказала еле слышно:
– Наконец-то ты приехал! Я заждалась тебя. Целый месяц каждое утро думала: «Может быть, сегодня увижу его…» А вечером успокаивала себя: «Значит, приедет завтра…» Что ты так долго не приезжал, любимый мой?
Он ответил смущенно:
– Да, знаешь, занят был. Дела всякие.
Прильнув к нему, она шепнула:
– Нехорошо, право, нехорошо! Оставил меня одну с ними, когда я в таком положении.
Он немного отодвинул свой стул:
– Осторожнее. Нас могут увидеть. Ракеты очень ярко освещают все кругом.
Христиана совсем не беспокоилась об этом; она сказала ему:
– Я так люблю тебя! – И, радостно встрепенувшись, прошептала: – Ах, какое счастье, какое счастье, что мы снова здесь вместе! Подумай только, Поль, как чудесно! Опять мы будем тут любить друг друга.
Тихо, тихо, точно дуновение ветерка, послышался ее шепот:
– Как мне хочется поцеловать тебя! Безумно… безумно хочется поцеловать тебя. Мы так давно не видались!
И вдруг с властной настойчивостью страстно любящей женщины, считающей, что все должно перед ней склониться, она сказала:
– Послушай, пойдем… сейчас же пойдем… на то место, где мы простились в прошлом году! Помнишь его? На дороге в Ла-Рош-Прадьер.
Он ответил изумленно:
– Что ты? Какая нелепость! Тебе не дойти. Ты ведь целый день была на ногах. Это безумие! Я не позволю тебе.
Но она уже поднялась и повторила упрямо:
– Я так хочу. Если ты не пойдешь со мной, я одна пойду.
И, указывая на поднимавшуюся луну, сказала:
– Смотри. Совсем такой же вечер был тогда! Помнишь, как ты целовал мою тень?
Он удерживал ее:
– Христиана, не надо… это смешно… Христиана!..
Она, не отвечая, шла к спуску, который вел к виноградникам. Он хорошо знал ее спокойную и непреклонную волю, какое-то кроткое упрямство, светившееся во взгляде голубых глаз, крепко сидевшее в ее изящной белокурой головке, не признававшей никаких препятствий; и он взял ее под руку, чтобы она не оступилась.
– Христиана, что, если нас увидят?
– Ты так не говорил в прошлом году. Да и не увидит никто. Все на празднике. Мы быстро вернемся, никто не заметит.
Вскоре начался подъем в гору по каменистой тропинке. Христиана тяжело дышала и всей тяжестью опиралась на руку Поля; на каждом шагу она говорила:
– Ничего. Так хорошо, хорошо, хорошо помучиться из-за этого!
Он остановился, хотел вести ее обратно, но она и слушать ничего не желала:
– Нет, нет. Я счастлива… Ты не понимаешь этого. Послушай… Я чувствую, как шевелится наш ребенок… твой ребенок… Какое это счастье!.. Погоди, дай руку… чувствуешь?…
Она не понимала, что этот человек был из породы любовников, но совсем не из породы отцов. Лишь только он узнал, что она беременна, он стал отдаляться от нее, чувствуя к ней невольную брезгливость. Когда-то он не раз говорил, что женщина, хотя бы однажды выполнившая назначение воспроизводительницы рода, уже недостойна любви. В любви он искал восторгов какой-то крылатой страсти, уносящей два сердца к недостижимому идеалу, бесплотного слияния двух душ – словом, того надуманного, неосуществимого чувства, какое создают мечты поэтов. В живой, реальной женщине он обожал Венеру, священное лоно которой всегда должно сохранять чистые линии бесплодной красоты. Мысль о том маленьком существе, которое зачала от него эта женщина, о том человеческом зародыше, что шевелится в ее теле, оскверняет его и уже обезобразил его, вызывала у Поля Бретиньи непреодолимое отвращение. Для него материнство превратило эту женщину в животное. Она была теперь уже не редкостным, обожаемым созданием, волшебной грезой, а самкой, производительницей. И к этому эстетическому отвращению примешивалась даже чисто физическая брезгливость.
Но разве могла она почувствовать, угадать все это, она, которую каждое движение желанного ребенка все сильнее привязывало к любовнику? Тот, кого она обожала, кого с мгновения первого поцелуя любила все больше, не только жил в ее сердце, он зародил в ее теле новую жизнь, и то существо, которое она вынашивала в себе, толчки которого отдавались в ее ладонях, прижатых к животу, то существо, которое как будто уже рвалось на свободу, – ведь это тоже был он. Да, это был он сам, ее добрый, родной, ее ласковый, единственный ее друг, возродившийся в ней таинством природы. И теперь она любила его вдвойне – того большого Поля, который принадлежал ей, и того крошечного, еще неведомого, который тоже принадлежал ей; любила того, которого она видела, слышала, касалась, обнимала, и того, кого лишь чувствовала в себе, когда он шевелился у нее под сердцем.
Она остановилась на дороге.
– Вот здесь ты ждал меня в тот вечер, – сказала она.
И потянулась к нему, ожидая поцелуя. Он, не отвечая ни слова, холодно поцеловал ее.
А она спросила:
– Помнишь, как ты целовал мою тень? Я вот там тогда стояла.
И в надежде, что та минута повторится, она побежала по дороге, остановилась и ждала, тяжело дыша от бега. Но в лунном свете на дороге широко распластался неуклюжий силуэт беременной женщины. Поль смотрел на эту безобразную тень, протянувшуюся к его ногам, и стоял неподвижно, оскорбленный в своей поэтической чувствительности, негодуя на то, что она не сознает этого, не угадывает его мыслей, что ей недостает кокетства, такта, женского чутья, чтобы понять все оттенки поведения, которого требуют от нее изменившиеся обстоятельства, и он сказал с нескрываемым раздражением:
– Перестань, Христиана. Что за ребячество! Это смешно.
Она подошла к нему, взволнованная, опечаленная, протягивая к нему руки. И припала к его груди.
– Ты теперь меньше меня любишь. Я чувствую это! Уверена в этом!
Ему стало жаль ее. Он взял обеими руками ее голову и долгим поцелуем поцеловал ее в глаза.
И они молча двинулись в обратный путь. Поль не знал, о чем теперь говорить с ней, а оттого, что она, изнемогая от усталости, опиралась на него, он ускорял шаг, – ему неприятно было чувствовать прикосновение ее отяжелевшего стана.
Возле отеля они расстались, и она поднялась к себе в спальню.
Из казино неслась танцевальная музыка, и Поль зашел туда посмотреть на бал. Оркестр играл вальс, все вальсировали: доктор Латон с г-жой Пайль-младшей, Андермат с Луизой Ориоль, красавец доктор Мадзелли с герцогиней де Рамас, а Гонтран с Шарлоттой Ориоль. Он что-то нашептывал девушке с тем нежным видом, который свидетельствует о начавшемся ухаживании. А она, прикрываясь веером, улыбалась, краснела и, казалось, была в восторге.
Поль услышал за своей спиной:
– Вот тебе на! Господин де Равенель волочится за моей пациенткой!
Это сказал доктор Онора, стоявший у дверей и с удовольствием наблюдавший за танцорами.
– Да, да, – добавил он, – вот уже полчаса, как ведется атака. Все заметили. И девчурке как будто это нравится.
И, помолчав, он сказал:
– А какая она милая – просто сокровище! Добрая, веселая, простая, заботливая, искренняя. Вот уж, право, славная девушка. Во сто раз лучше старшей сестры. Я их обеих с малых лет знаю… Но, представьте, отец больше любит старшую, потому что… потому что она вся в него… та же мужицкая складка. Нет той прямоты, как в младшей, она расчетливее… хитрее и завистливее… Конечно, я ничего дурного не хочу о ней сказать… она тоже хорошая девушка, а все-таки невольно сравниваешь, а как сравнишь… так и оценишь их по-разному.
Вальс уже заканчивался. Гонтран подошел к своему другу и, заметив доктора Онора, сказал:
– Доктор, поздравляю! Медицинская корпорация Анваля, кажется, приобрела весьма ценных новых членов. У нас появился доктор Мадзелли, который бесподобно танцует вальс, и старичок Блек – тот, по-видимому, в большой дружбе с небесами.
Но доктор Онора ответил очень сдержанно. Он не любил высказывать суждения о своих коллегах.
ГЛАВА II
Вопрос о докторах был теперь самым животрепещущим в Анвале. Доктора вдруг завладели всем краем, всем вниманием и всеми страстями его обитателей. Когда-то источники текли под строгим надзором одного только доктора Бонфиля, среди безобидной вражды между ним, шумливым доктором Латоном и благодушным доктором Онора.
Теперь все пошло по-другому.
Как только ясно обозначился успех, подготовленный зимою Андерматом и получивший могучую поддержку профессоров Клоша, Ма-Русселя и Ремюзо, причем каждый из них привлек на воды Монт-Ориоля не меньше чем по двести-триста больных, доктор Латон, главный врач нового курорта, стал важной особой, тем более что пользовался высоким покровительством профессора Ма-Русселя, учеником которого он был и которому подражал в осанке и в манерах.
О докторе Бонфиле уже и речи не было. Исполненный ярости и отчаяния, понося Монт-Ориоль на чем свет стоит, старый врач не высовывал носа из старой водолечебницы, где осталось лишь несколько старых пациентов. По мнению этих немногих, только он один знал по-настоящему все свойства источников и, так сказать, владел их тайной, поскольку официально ведал ими со дня основания курорта.
У доктора Онора остались теперь только местные пациенты, коренные овернцы. Он довольствовался своей скромною долей и жил в добром согласии со всеми, находя утешение в картах и белом вине, ибо предпочитал их медицине.
Однако благодушие его не доходило до братской любви к коллегам.
Доктор Латон так и остался бы верховным жрецом Монт-Ориоля, если бы в один прекрасный день там не появился крошечный человечек, почти карлик, с большущей головой, ушедшей в плечи, с круглыми глазами навыкате, короткими толстыми ручками – словом, существо, на вид весьма странное и смешное. Этот новый доктор, г-н Блек, привезенный в Анваль профессором Ремюзо, сразу же привлек к себе всеобщее внимание своей чрезмерной набожностью. Почти каждое утро между врачебными визитами он забегал помолиться в церковь и почти каждое воскресенье причащался. Вскоре приходский священник доставил ему несколько пациентов – старых дев, бедняков, которых он лечил бесплатно, а также благочестивых дам, советовавшихся со своим духовным руководителем, прежде чем позвать к себе служителя науки, и наводивших тщательные справки о его воззрениях, такте и профессиональной скромности.
Затем стало известно, что в отель «Монт-Ориоль» прибыла престарелая немецкая принцесса Мальдебургская, ревностная католичка, и в первый же вечер пригласила к себе доктора Блека, рекомендованного ей римским кардиналом.
После этого доктор Блек сразу же вошел в моду. Лечиться у него считалось хорошим тоном, хорошим вкусом, большим шиком. О нем говорили, что среди докторов это единственный вполне приличный человек, единственный врач, которому может довериться женщина.
И теперь этот карлик с головой бульдога, всегда говоривший шепотом, бегал с утра до вечера из отеля в отель и шушукался там со всеми по углам. Казалось, ему постоянно надо было сообщить или выслушать какие-то важные тайны, его то и дело встречали в коридорах, занятого секретными беседами с содержателями гостиниц, с горничными его пациентов, со всеми, кто имел касательство к его больным.
Как только он замечал на улице кого-нибудь из своих знакомых, он сразу направлялся к нему мелкими, быстрыми шажками и тотчас начинал давать пространные советы, указания и, излагая их, бормотал себе под нос, как священник на исповеди.
Старые дамы его просто обожали. Он терпеливо выслушивал длинные истории их недугов, записывал в книжечку все их наблюдения, все вопросы, все пожелания.
Каждый день он то увеличивал, то уменьшал дозы минеральной воды, которые назначал своим больным, и это внушало им уверенность, что он неусыпно печется об их здоровье.
– На чем мы вчера остановились? Два и три четверти стакана, не так ли? – говорил он. – Прекрасно! Сегодня мы выпьем только два с половиной стакана, а завтра три… Не забудьте: завтра три стакана!.. Это очень, очень важно!
И все больные проникались убеждением, что это действительно очень, очень важно.
Чтобы не запутаться во всех этих целых числах и дробях, ни разу не ошибиться, он записывал их в книжечку. Пациент ни за что не простит ошибки на полстакана.
С такой же тщательностью он устанавливал или изменял длительность ежедневной ванны, основываясь на соображениях, известных ему одному.
Доктор Латон, завидуя и негодуя, с презрением пожимал плечами и восклицал:
– Вот шарлатан!
Ненависть к доктору Блеку доводила его до того, что иной раз он порочил даже свои минеральные воды:
– Поскольку мы еще сами-то плохо знаем, какое действие они оказывают, это ежедневное изменение дозировки – совершеннейшая нелепость, его нельзя обосновать никакими законами терапии. Такие недостойные приемы роняют авторитет медицины.
Доктор Онора только улыбался. Он всегда старался через пять минут после врачебной консультации выкинуть из головы, сколько стаканов воды предписал пить своему пациенту.
– Двумя стаканами больше, двумя меньше, – говорил он Гонтрану в веселую минуту, – это только источник заметит, да и ему-то все равно.
Он позволил себе лишь одну ехидную шутку относительно своего благочестивого коллеги, сказав, что тот врачует с благословения папского седалища.[10] Зависть у него была осторожная, ядовитая и спокойная.
Иногда он добавлял:
– О, это молодец! Он знает больных, как свои пять пальцев… а для нашего брата это важнее, чем знать их болезни.
Но вот как-то утром в отель «Монт-Ориоль» прибыла чета высокородных испанцев – герцог и герцогиня де Рамас-Альдаварра, которые привезли с собою своего домашнего врача, доктора Мадзелли из Милана.
Это был молодой человек лет тридцати, высокий, стройный, весьма приятной наружности, без бороды, но с пышными усами.
С первого же дня он покорил всех обедавших за общим столом; герцог, особа унылая, страдавший чудовищным ожирением, не выносил одиночества и пожелал обедать вместе со всеми. Доктор Мадзелли уже знал по фамилии почти всех завсегдатаев табльдота, сумел сказать комплимент каждой даме, любезность каждому мужчине, улыбался каждому лакею.
За столом он сидел по правую руку от герцогини, эффектной дамы лет тридцати пяти – сорока, с матовой бледностью лица, с черными глазами, с густыми волосами цвета воронова крыла, и перед каждым блюдом говорил ей: «Чуть-чуть», или «Нет, этого нельзя», или: «Да, да, кушайте». Он сам наполнял ее бокал, чрезвычайно заботливо соразмеряя пропорцию вина и воды.
Он наблюдал и за питанием герцога, но с явной небрежностью. Впрочем, пациент не принимал в расчет его указаний, ел с животной прожорливостью, выпивал за едой по два графина красного вина, не разбавляя его водой, а затем выходил отдышаться на свежий воздух и, рухнув на стул у дверей отеля, принимался страдальчески охать и жаловаться на плохое пищеварение.
После первого же обеда доктор Мадзелли, успев с одного взгляда произвести всем оценку, подошел на террасе казино к Гонтрану, курившему сигару, представился и повел с ним разговор.
Через час они уже были приятелями. На следующее утро Мадзелли попросил представить его Христиане, когда она выходила из дверей водолечебницы, завоевал в десятиминутном разговоре ее симпатию и вечером познакомил с ней герцогиню, которая, как и герцог, не любила одиночества.
Он ведал решительно всем в доме этого испанского семейства, давал превосходные кулинарные рецепты повару, делал ценные указания горничной, как ей ухаживать за волосами хозяйки, чтобы они сохранили свой великолепный цвет, блеск и пышность, кучеру сообщал полезные сведения по ветеринарии, помогал герцогской чете приятно скоротать вечерние часы, придумывал всевозможные развлечения и умел подобрать из случайных знакомых в отелях приличное общество.
Герцогиня говорила о нем Христиане:
– Ах, дорогая, он настоящий чародей, все знает, все умеет! Я обязана ему своей фигурой.
– Как так «фигурой»?
– Ну да. Я начала полнеть, а он спас меня режимом и ликерами.
Мадзелли умел сделать интересной даже медицину, говорил о ней непринужденно, весело и с поверхностным скептицизмом, тем самым показывая слушателям свое превосходство.
– Все это весьма просто, – заявлял он, – я не очень верю в лекарства, вернее, совсем не верю. В старину медицина исходила из того принципа, что на всякую болезнь есть лекарство. Люди верили, что бог в неизреченном своем милосердии сотворил целебные снадобья от всякого недуга и лишь предоставил смертным, может быть, не без умысла, заботу самим их открыть. И врачеватели открыли бесчисленное множество снадобий, но так и не узнали, от каких именно болезней они помогают. В действительности лекарств нет, а есть болезни. Когда болезнь определится, надо, по мнению одних, тем или иным способом прервать ее, а по мнению других – ускорить ее течение! Сколько в медицине школ, столько и методов лечения. В одном и том же случае применяются совершенно противоположные средства: одни назначают лед, другие – горячие припарки, одни предписывают строжайшую диету, другие – усиленное питание. Я уж не говорю о бесчисленных ядовитых лекарствах, которыми одарила нас химия, извлекая их из растений и минералов. Конечно, все это оказывает действие, но какое – неизвестно: иногда спасает, иногда убивает.
И он смело заявлял, что до тех пор, пока медицина не пойдет по новому пути, взяв исходной точкой химию органическую, химию биологическую, с уверенностью полагаться на нее невозможно, ибо она лишена научной основы. Он рассказывал анекдоты о чудовищных промахах крупнейших врачей в доказательство того, что вся их хваленая наука – сущий вздор и надувательство.
– Поддерживайте вместо всего этого энергичную деятельность тела, – говорил он, – кожи, мышц, всех органов, а главное, желудка, ибо он наш отец-кормилец, питающий весь организм, его регулятор, средоточие жизненных сил.
Он утверждал, что по своему желанию, одним только режимом может сделать людей веселыми или печальными, способными к физическому или к умственному труду – в зависимости от назначаемого питания. Может даже воздействовать на самый интеллект – на память, на воображение, на всю работу мозга. И в заключение он шутливо заявлял:
– Я все недуги лечу массажем и кюрасо.
О массаже он говорил с благоговением и называл голландца Амстранга волшебником, чудотворцем, богом. Показывая свои белые тонкие руки, он восклицал:
– Вот чем можно воскрешать мертвых!
И герцогиня подтверждала:
– В самом деле, он массирует дивно!
Он считал также превосходным средством, возбуждающим действие желудка, употребление спиртных напитков небольшими дозами и сам составлял мудреные смеси, которые герцогиня должна была пить в определенные часы – одни перед едой, другие после еды.
Каждое утро, в половине десятого, он приходил в кофейню казино и требовал свои бутылки; ему приносили эти бутылки, запертые серебряными замочками, – ключ от них он держал при себе. Он наливал понемногу из каждой в очень красивый голубой бокал, который почтительно держал перед ним на подносе вышколенный лакей, а затем отдавал приказание:
– Ну вот, отнесите это герцогине в ванную комнату, пусть выпьет, как только выйдет из воды, еще не одеваясь.
Любопытные спрашивали:
– А что вы туда наболтали?
Он отвечал:
– Ничего особенного – крепкая анисовая, чистейший кюрасо и превосходная горькая.
Через несколько дней красавец доктор стал центром внимания всех больных, и они пускались на всяческие уловки, чтобы добиться от него советов.
В часы прогулок, когда он прохаживался по аллеям парка, со всех стульев, где сидели красивые молодые дамы, отдыхая меж двумя предписанными стаканами воды из источника Христианы, раздавались возгласы: «Доктор!» Он останавливался с любезной улыбкой, и его увлекали ненадолго на узенькую дорожку, проложенную по берегу речки.
Сначала с ним беседовали о том о сем, потом деликатно, ловко и кокетливо переходили к вопросам здоровья, но говорили таким безразличным тоном, словно речь шла о ком-то постороннем.
Ведь он не был достоянием публики, ему нельзя было заплатить, пригласить его к себе: он принадлежал герцогине, только герцогине. Но как раз это исключительное его положение и подстегивало дам, усиливало их старания. А так как все шепотком говорили, что герцогиня ревнива, страшно ревнива, между дамами началось отчаянное соперничество – каждой хотелось добиться врачебного совета от прекрасного итальянца.
Впрочем, он давал советы без особых упрашиваний.
И тогда между женщинами, которых он осчастливил своими указаниями, началась другая игра: они обменивались откровенными признаниями, желая доказать его особую заботливость.
– Ах, душечка, какие вопросы он мне задавал!
– Нескромные? Да?
– Ах, что там нескромные. Ужасные! Я не знала, что и отвечать… Он осведомлялся о таких вещах… о таких.
– Представьте, со мной было то же самое. Он все расспрашивал меня о моем муже…
– Да, да, и меня тоже… И с такими интимными подробностями… Право, я чуть не сгорела со стыда. Отвечать на такие вопросы… Хотя и понимаешь, что они необходимы.
– О, совершенно необходимы! От этих мелочей зависит здоровье. Знаете, он обещал массировать меня зимой в Париже. Мне это очень нужно, чтобы дополнить лечение водами.
– А скажите, милочка, как вы думаете отблагодарить его? Ведь ему нельзя заплатить.
– Бог мой, конечно, нельзя. Я думаю подарить ему булавку для галстука. Он, должно быть, любит булавки: я у него заметила уже две или три, и очень красивые…
– Ах, что же мне делать! Какая вы, душечка, нехорошая! Перехватили мою мысль. Ну ничего, я подарю ему кольцо.
Дамы составляли заговоры, придумывали сюрпризы, чтобы ему угодить, изящные подарки, чтобы его растрогать, всяческие милые знаки внимания, чтобы его пленить.
Он стал «гвоздем сезона», главной темой разговоров, единственным предметом всеобщего любопытства: но вдруг распространился слух, что граф Гонтран де Равенель ухаживает за Шарлоттой Ориоль и собирается на ней жениться. Весь Анваль загудел шумными пересудами.
С того вечера, как Гонтран открыл с Шарлоттой бал на празднестве в казино, он ходил за нею, как пришитый; у всех на глазах он был необыкновенно внимателен к ней, как всякий мужчина, стремящийся понравиться девушке и не скрывающий своих намерений; отношения их приняли характер веселого и откровенного флирта, который постепенно и так естественно приводит к более глубокому чувству.
Они виделись почти ежедневно, потому что обе девочки влюбились в Христиану и очень дорожили ее дружбой, в чем немалую роль играло, конечно, польщенное тщеславие. Гонтран же стал вдруг неразлучен с сестрой. По утрам он устраивал прогулки, по вечерам игры, к великому удивлению Христианы и Поля. Потом они заметили, что он как будто увлекается Шарлоттой. Он весело поддразнивал ее, но в шутках его сквозили тонкие комплименты, выказывал ей множество изящных, едва заметных знаков внимания, связывающих нежной близостью два молодых существа. Привыкнув к непринужденно-фамильярным манерам этого великосветского шалопая-парижанина, девушка вначале ничего не замечала и по природной доверчивости простодушно смеялась и дурачилась с ним, как с братом.
Но однажды, когда сестры возвращались домой, проведя весь вечер в отеле за всяческими играми, в которых Гонтран несколько раз пытался поцеловать Шарлотту под предлогом выкупа «фанта», Луиза, за последние дни чем-то недовольная и угрюмая, вдруг сказала резким тоном:
– Не мешало бы тебе подумать о своем поведении. Господин Гонтран держит себя с тобой неприлично.
– Неприлично? А что он такого сказал?
– Ты прекрасно понимаешь! Нечего притворяться дурочкой. Много ли надо, чтобы скомпрометировать девушку? Раз ты не умеешь вести себя, я поневоле обязана напомнить тебе о приличиях.
Шарлотта, смущенная и пристыженная, растерянно лепетала:
– Да что же было?… Уверяю тебя… Я ничего не заметила…
Сестра строго сказала:
– Послушай, так дольше продолжаться не может! Если он хочет на тебе жениться, пусть поговорит с папой; тут уж будет решать папа. А если он хочет только позабавиться, надо это немедленно прекратить.
Шарлотта вдруг рассердилась, сама не зная, на что и почему. Ей показалось ужасно обидным, что сестра взяла на себя роль наставницы и делает ей выговоры; дрожащим голосом, со слезами на глазах она потребовала, чтобы Луиза не вмешивалась в чужие дела, которые нисколько ее не касаются. Она разгорячилась и говорила, заикаясь. Смутный, но верный инстинкт подсказывал ей, что в самолюбивой душе Луизы проснулась зависть.
Они отправились спать, не поцеловавшись на прощанье, и Шарлотта долго плакала в постели, размышляя о многом таком, что раньше ей и в голову не приходило.
Потом она перестала плакать и задумалась.
Ведь и в самом деле Гонтран держит себя с нею совсем иначе, чем прежде. Она это сама чувствовала, но только не понимала. А теперь вот поняла. Он то и дело говорит ей что-нибудь милое, приятное. Один раз даже поцеловал ей руку. Чего ж он добивается? Она нравится ему, но очень ли нравится? А что, если он хочет на ней жениться? И тотчас ей послышалось, что в ночной тишине, где уже реяли над нею сны, чей-то голос крикнул: «Графиня де Равенель!»
От волнения она села в постели, потом нащупала ночные туфли под стулом, на который бросила платье, встала и, подойдя к окну, бессознательно распахнула его, словно мечтам ее тесно было в четырех стенах.
Из окна нижней комнаты слышался гул разговора, потом раздался громкий голос Великана:
– Оставь, оставь! Успеется! Посмотрим, что будет. Отец все уладит. Дурного-то пока ничего нет. Отец знает, что к чему.
На стене противоположного дома светлым прямоугольником вырисовывалось окно, отворенное под ее окном. И Шарлотта подумала: «Кто это там? О чем они говорят?» По освещенной стене промелькнула тень. Это была ее сестра. Как, значит, она еще не ложилась! Почему? Но свет погас, и Шарлотта вернулась к мыслям, смутившим ее сердце.
Теперь уж ей ни за что не уснуть. Неужели он ее любит? Ах нет, нет, пока еще не любит! Но может полюбить, раз она ему нравится. А если он полюбит ее, сильно, безумно, страстно, как любят в светском обществе, он, конечно, женится на ней.
Дочка крестьянина-винодела, хоть и получила воспитание в Клермонском монастырском пансионе, сохранила, однако, смиренную приниженность крестьянки. Она думала, что может выйти замуж за нотариуса или за адвоката, за врача, но никогда у нее и желания не возникало стать знатной дамой, носить фамилию с дворянским титулом. Лишь изредка, закрыв прочитанный роман, она несколько минут предавалась такого рода туманным мечтаниям, но грезы тотчас же улетали, как фантастические химеры, едва коснувшись ее души. И вдруг от слов сестры все это несбыточное, немыслимое стало как будто возможным, приблизилось, словно парус корабля, гонимого ветром.
И, глубоко вздыхая, она беззвучно шептала: «Графиня де Равенель».
Она лежала с закрытыми глазами, и в темноте перед ней проплывали видения: залитые светом красивые гостиные, красивые дамы, улыбающиеся ей, красивая карета, ожидающая ее у подъезда старинного замка, рослые лакеи в шитых золотом ливреях, сгибающие спину в поклоне, когда она проходит мимо.
Ей стало жарко в постели, сердце у нее колотилось. Она еще раз встала, выпила стакан воды и несколько минут постояла босая на холодном каменном полу.
Потом она мало-помалу успокоилась и заснула. Но на рассвете она уже открыла глаза: мысли, взволновавшие ее, не давали ей покоя.
Она оглядела свою комнатку, и ей стало стыдно, что все тут такое убогое: и стены, выбеленные известкой, – работа бродячего маляра-стекольщика, и дешевенькие ситцевые занавески на окнах, и два стула с соломенными сиденьями, никогда не покидавшие назначенного для них места по сторонам комода.
Среди этой деревенской обстановки, так ясно говорившей о ее происхождении, она чувствовала себя простой крестьянкой, полна была смирения, казалась себе недостойной этого красивого белокурого насмешника-парижанина, а меж тем его улыбающееся лицо неотступным видением вставало перед ней, стушевывалось, снова выступало и мало-помалу покоряло ее, запечатлевалось в сердце.
Шарлотта соскочила с постели и побежала к комоду за своим зеркалом, круглым туалетным зеркальцем величиной с донышко тарелки; потом снова легла и, держа в руках зеркало, стала рассматривать свое собственное личико, выделявшееся на белой подушке в рамке рассыпавшихся темных волос.
Порой она откладывала этот кусочек стекла, отражавший ее лицо, и задумывалась, – расстояние между графом де Равенелем и ею представлялось ей огромным, а брак этот – немыслимым. И сердце у нее сжималось. Но тотчас же она снова смотрелась в зеркало, улыбалась, чтобы понравиться себе, находила, что она хорошенькая, и все препятствия рассеивались, как дым.
Когда она сошла вниз к завтраку, сестра с раздраженным видом спросила:
– Ты что сегодня думаешь делать?
Шарлотта без колебаний сказала:
– Мы же едем сегодня в Руайя с госпожой Андермат. Ты разве забыла?
Луиза ответила:
– Можешь ехать одна, если хочешь… Но лучше бы ты вспомнила, что я тебе говорила вчера!..
Младшая сестра отрезала:
– Я у тебя не спрашиваю советов, не вмешивайся… Это тебя не касается.
И они уж больше не разговаривали друг с другом.
Пришли отец и брат и сели за стол. Старик тотчас спросил:
– Ну, дочки, что нынче делать будете?
Шарлотта, не дожидаясь ответа сестры, заявила:
– Я поеду в Руайя с госпожой Андермат.
Отец и сын хитро переглянулись, у главы семейства промелькнула благодушная улыбка, всегда появлявшаяся на его лице, когда речь заходила о выгодном дельце.
– Ладно, ладно, поезжай, – сказал он.
Скрытое удовольствие, сквозившее во всех повадках отца и брата, удивило Шарлотту еще больше, чем откровенное раздражение Луизы, и она с некоторым смущением подумала: «Может быть, они уже говорили об этом между собой?»
Как только завтрак кончился, она поднялась к себе в комнату, надела шляпку, взяла зонтик, перекинула на руку легкую мантильку и пошла в отель, потому что выехать решено было в половине второго.
Христиана удивилась, что не пришла Луиза.
Шарлотта, краснея, ответила:
– Ей нездоровится, голова болит.
Все сели в ландо, в большое шестиместное ландо, в котором всегда совершали дальние прогулки. Маркиз с дочерью сидели на заднем сиденье, а Шарлотте оставили место на передней скамейке между Полем Бретиньи и Гонтраном.
Проехали Турноэль, потом свернули на живописную дорогу, извивавшуюся под горой, обсаженную ореховыми и каштановыми деревьями. Шарлотта несколько раз замечала, что Гонтран прижимается к ней, но он делал это так осторожно, что она не могла оскорбиться. Он сидел справа от нее и, когда разговаривал с ней, едва не касался лицом ее щеки; отвечая ему, она не смела повернуться, боясь его дыхания, которое она уже чувствовала на своих губах, боясь его глаз, взгляд которых смущал ее.
Он говорил ей всякий милый ребяческий вздор, забавные глупости, шутливые комплименты.
Христиана почти не принимала участия в разговоре, ощущая недомогание во всем своем отяжелевшем теле. Поль казался грустным, озабоченным. Один лишь маркиз поддерживал беседу, болтая невозмутимо и беззаботно, с обычной своей живой непринужденностью избалованного старого дворянина.
В Руайя вышли из коляски послушать в парке музыку; Гонтран, подхватив под руку Шарлотту, убежал вперед. В открытой беседке играл оркестр, дирижер помахивал палочкой, подбадривая то скрипки, то медные инструменты, а вокруг расселось на стульях целое полчище курортных обитателей, разглядывая гуляющих. Дамы демонстрировали свои туалеты, свои ножки, вытягивая их на перекладину переднего стула, свои воздушные летние шляпки, придававшие им еще больше очарования.
Шарлотта и Гонтран, бродя на кругу, отыскивали среди сидящей публики смешные физиономии и потешались над ними.
За их спиной то и дело раздавались возгласы:
– Смотрите, какая хорошенькая!
Гонтран был польщен, ему хотелось знать, за кого принимают Шарлотту: за его сестру, жену или за любовницу?
Христиана сидела между отцом и Полем Бретиньи, следила глазами за этой парочкой и, находя, что они слишком «расшалились», подозвала их, чтобы унять. Но они, не вняв ее наставлениям, опять отправились бродить в толпе гуляющих и забавлялись от души.
Христиана тихонько сказала Полю Бретиньи:
– Кончится тем, что он ее скомпрометирует. Когда вернемся домой, надо поговорить с ним.
Поль ответил:
– Я тоже подумал об этом. Вы совершенно правы.
Обедать поехали в Клермон-Ферран, так как, по мнению маркиза, любителя хорошо поесть, рестораны в Руайя никуда не годились; в обратный путь отправились уже в темноте.
Шарлотта вдруг стала серьезной, – когда вставали из-за стола, Гонтран, передавая ей перчатки, крепко сжал ее руку. Девичья совесть забила тревогу. Ведь это было признание в любви! Намеренное! В нарушение приличий! Что теперь делать? Поговорить с ним? Но что же ему сказать? Рассердиться было бы смешно. В таких обстоятельствах нужен большой такт! А если ничего не сделать, ничего не сказать, ему покажется, что она принимает его заигрывания, готова стать его сообщницей, отвечает «да» на это пожатие руки.
И, взвешивая все, она корила себя за то, что чересчур разошлась, была в Руайя чересчур развязна, теперь ей уже казалось, что сестра была права, что она скомпрометировала, погубила себя! Коляска катилась по дороге, Поль и Гонтран молча курили, маркиз дремал, Христиана смотрела на звезды, а Шарлотта с трудом сдерживала слезы – в довершение всего она выпила за обедом три бокала шампанского.
Когда приехали в Анваль, Христиана сказала отцу:
– Какая темень! Папа, ты проводишь Шарлотту?
Маркиз предложил девушке руку, и они тотчас скрылись из глаз.
Поль схватил Гонтрана за плечи и шепнул ему:
– Зайдем-ка на пять минут к твоей сестре. У нее, да и у меня тоже, есть к тебе серьезное дело.
И все трое поднялись в маленькую гостиную, смежную с комнатами Андермата и его жены. Как только они уселись, Христиана сказала:
– Вот что, Гонтран, мы с господином Бретиньи хотим сделать тебе внушение.
– Внушение? А в чем я грешен? Я веду себя паинькой за отсутствием соблазнов.
– Не шути, пожалуйста. Неужели ты не видишь, что поступаешь очень неосторожно и просто некрасиво? Ты компрометируешь эту девочку.
Гонтран сделал удивленное лицо:
– Какую девочку?… Шарлотту?
– Да, Шарлотту.
– Я компрометирую Шарлотту?…
– Да, компрометируешь. Здесь все об этом говорят. А сегодня вечером в парке Руайя вы вели себя очень… очень… легкомысленно. Правда, Бретиньи?
Поль ответил:
– Да, да. Я вполне с вами согласен.
Гонтран повернул стул, сел на него верхом, достал новую сигару, закурил и расхохотался:
– Ах, вот как! Я, оказывается, компрометирую Шарлотту Ориоль!
Он сделал паузу, чтобы усилить эффект своих слов, и отчеканил:
– А почему вы думаете, что я не хочу жениться на ней?
Христиана вздрогнула от изумления:
– Жениться на ней?… Что ты!.. Ты с ума сошел!
– А отчего бы и не жениться?
– На ней?… На этой крестьяночке?…
– Та-та-та!.. Предрассудки!.. Откуда ты их набралась? От своего супруга?
Христиана ничего не ответила на этот недвусмысленный намек, и тогда он произнес целую речь, задавая вопросы и сам отвечая на них:
– Хорошенькая она? – Да. – Благовоспитанная? – Да. И к тому же чистосердечная, милая, искренняя, естественная – не то, что светские барышни. Образование же у нее не хуже, чем у них: говорит по-английски и по-овернски, а это уже целых два иностранных языка. Состояние у нее будет не меньше, чем у любой дворянской наследницы из бывшего Сен-Жерменского предместья, которое следовало бы окрестить «Пустокарманным предместьем».[11] Она дочь мужика? Ну что ж, значит, у нее здоровая кровь, и она народит мне прекрасных ребятишек. Вот вам!..
Так как он излагал все эти доводы по-прежнему шутливым, насмешливым тоном, Христиана спросила нерешительно:
– Послушай, ты серьезно говоришь?
– Да еще как серьезно! Девчурка – само очарование. Сердце доброе, личико прелестное, характер веселый, настроение всегда прекрасное, щечки розовые, глаза ясные, зубки белые, губки алые, косы длинные и густые, блестящие, шелковистые. Пускай ее папаша – мужик, зато он будет богат, как Крез, благодаря твоему супругу, дорогая сестрица! Дочь мужика! Подумаешь? Да неужели дочь мужика хуже, чем дочери всяких грабителей-дельцов, которые так дорого платят за сомнительные герцогские гербы, или дочери титулованных кокоток, которыми наградила нас Империя, или же дочери двух отцов, каких мы так часто встречаем в обществе? Да если я женюсь на Шарлотте, это будет первый разумный поступок в моей жизни!..
Христиана молчала, погрузившись в размышления: потом, покоренная, убежденная этими доводами, радостно воскликнула:
– А ведь он верно говорит! Все, все верно! Он совершенно прав!.. Так ты женишься на ней, миленький мой Гонтран?…
Тогда он принялся охлаждать ее восторг:
– Ну, не спеши, не спеши!.. Дай мне поразмыслить. Я только высказываю несомненную истину: если я женюсь на Шарлотте, это будет первый разумный, рассудительный поступок в моей жизни. Но это еще не значит, что я женюсь на ней. Я подумываю об этом, приглядываюсь, немножко ухаживаю за ней, чтоб посмотреть, понравится ли она мне по-настоящему. Словом, я не говорю ни «да», ни «нет», но скорее готов сказать «да», чем «нет».
Христиана спросила:
– А что вы об этом думаете, господин Бретиньи? – Она звала Поля то господин Бретиньи, то просто Бретиньи.
Поля всегда пленяли поступки, в которых он усматривал душевное благородство, неравные браки, если он предполагал в них какие-нибудь рыцарские побуждения, всякий пышный покров, украшающий человеческие чувства. Он ответил:
– Я также считаю теперь, что он совершенно прав. Если она ему по душе, пусть женится. Лучшей невесты ему не найти…
Но тут явились маркиз и Андермат – пришлось заговорить о другом. Поль и Гонтран отправились в казино посмотреть, открыт ли еще игорный зал.
С того дня Христиана и Поль начали явно покровительствовать открытому ухаживанию Гонтрана за Шарлоттой.
Девушку чаще стали приглашать, оставляли обедать, обращались с нею так, словно она уже была членом семьи.
Шарлотта все это прекрасно видела, понимала и была без ума от радости. Головка у нее кружилась, она строила воздушные замки. Правда, Гонтран ничего еще не сказал ей, но все его обращение, все его слова, тон, которым он говорил с нею, более почтительный оттенок ухаживания, ласковый взгляд ежедневно, казалось, говорил ей: «Вы моя избранница. Вы будете моей женой».
А у нее во всем сказывалось теперь нежное доверие к нему, кроткая покорность, целомудренная сдержанность, как будто говорившие: «Я все знаю, и, когда вы попросите моей руки, я отвечу „да“.
В семье у нее шушукались. Луиза говорила с ней только для того, чтобы рассердить ее обидными намеками, ехидными колкостями. Но старик Ориоль и Жак, видимо, были довольны.
Однако Шарлотта ни разу не спросила себя, любит ли она этого красивого поклонника, чьей женой она, несомненно, будет. Он ей нравился, она непрестанно думала о нем, находила, что он очень мил, остроумен, изящен, но больше всего думала о том, что она будет делать, когда выйдет за него замуж.
В Анвале все позабыли о злобном соперничестве докторов и владельцев источников, о предполагаемом романе герцогини де Рамас с ее домашним врачом, о всех сплетнях, которых на курортах не меньше, чем воды в источниках, и заняты были только одной сенсационной новостью: граф Гонтран де Равенель женится на младшей дочке Ориоля.
Тогда Гонтран решил, что пора действовать, и однажды утром, когда встали из-за стола, взял Андермата под руку и сказал ему:
– Дорогой мой! Вспомним пословицу: «Куй железо, пока горячо». Дело обстоит так. Девочка ждет моего предложения, хотя я еще ничем не связал себя, и, будьте уверены, она не отвергнет меня. Однако надо прощупать намерения ее папаши, чтобы ни вы, ни я не остались внакладе.
Андермат ответил:
– Не беспокойтесь. Я возьмусь за это. Сегодня же отправлюсь на разведку и, ничем вас не компрометируя, не называя вашего имени, все узнаю. А как только положение станет совершенно ясным, сосватаю вас.
– Великолепно.
Помолчав немного, Гонтран добавил:
– Послушайте, может быть, это последний день моей холостяцкой жизни. Я поеду сейчас в Руайя – там я в прошлый раз видел кое-кого из знакомых. Я вернусь ночью и постучусь к вам, спрошу о результатах.
Он велел оседлать лошадь и поехал верхом горной дорогой, с наслаждением вдыхая чистый, живительный воздух, иногда поднимая лошадь в галоп, чтобы почувствовать, как быстрые, ласковые дуновения ветра приятно холодят лицо и щекочут его, забираясь в усы.
Вечер в Руайя прошел весело. Гонтран встретил приятелей, приехавших в сопровождении кокоток. Ужинали долго, и он вернулся очень поздно. В «Гранд-отеле Монт-Ориоля» все давно уже спали, когда Гонтран принялся стучать в дверь Андермата.
Сначала никто не отзывался, но, когда он забарабанил изо всей силы, из комнаты послышался сонный, сиплый голос, сердито спросивший:
– Кто там?
– Это я, Гонтран.
– Подождите, сейчас отопру.
И на пороге появился Андермат в ночной сорочке, с заспанным лицом, с всклоченной бородкой, с шелковым платком на голове. Потом он снова забрался в постель, сел и вытянул руки на одеяле.
– Ну, милый мой, не клеится дело! Я прощупал намерения этого старого хитреца Ориоля, не упоминая вашего имени, – сказал, что одному из моих друзей (можно было подумать, что Полю Бретиньи) подошла бы та или другая его дочка, и спросил, какое он дает за ними приданое. А он в ответ спросил: «Какое состояние у жениха?» Я сказал: «Триста тысяч франков да еще надежды на наследство».
– Но у меня же ничего нет, – пробормотал Гонтран.
– Я вам дам взаймы, дорогой. Если мы с вами обделаем это дельце, ваши участки принесут мне достаточно, чтобы возместить такую сумму.
Гонтран усмехнулся:
– Великолепно! Мне – жену, вам – деньги.
Но Андермат рассердился:
– Ах, так! За мои хлопоты да меня же оскорбляете! Довольно! Кончим на этом…
Гонтран извинился:
– Не гневайтесь, дорогой, простите меня. Я знаю, что вы вполне порядочный человек, безупречно честный в делах. Будь я вашим кучером, я бы не попросил у вас на водку, но будь я миллионером, я доверил бы вам свое состояние…
Вильям Андермат успокоился и продолжал:
– Мы еще поговорим об этом, а теперь давайте покончим с главным вопросом. Старик ловко вывернулся, он ответил: «Приданое… Это смотря, о ком речь. Если о старшей, о Луизе, так вот какое у ней приданое…» И он перечислил все участки вокруг наших построек – те самые, что соединяют водолечебницу с отелем и отель с казино, – словом, все те, которые нам необходимы, которым для меня цены нет. А за младшей он что ж дает? Другой склон горы. Позднее и та земля, конечно, тоже будет дорого стоить, да мне-то она не нужна. Уж я на все хитрости пускался, чтобы он поделил по-иному и дал за младшей то, что задумал дать старшей. Но куда там! Не убедишь этого упрямого осла… Уперся на своем. Поразмыслите-ка и скажите, что вы об этом думаете.
Гонтран, до крайности смущенный и озадаченный, ответил:
– А вы сами-то что думаете? Как вам кажется, он меня имел в виду, принимая такое решение?
– Несомненно. Хитрый мужик сообразил: «Раз девчонка ему нравится, побережем добро». Он надеется выдать за вас свою дочку, но лучшие земли не выпускать из рук… А может быть, он хлопочет о старшей дочери. Кто его знает!.. Она его любимица… Больше на него походит… куда хитрее, пронырливее, практичнее младшей… По-моему, она девица с головой. Я бы на вашем месте взял другой прицел…
Гонтран растерянно бормотал:
– Как же это! Ах, черт, ах, черт! А те земли, которые за Шарлоттой дают… Вам они совсем не подходят?
Андермат воскликнул:
– Мне?… Нет! Ни в какой мере! Мне нужны участки, соединяющие мою водолечебницу, мой отель и мое казино. Это же проще простого. Другие участки можно будет продавать клочками дачникам, но значительно позднее, а сейчас я за них ни гроша не дам…
Гонтран все твердил:
– Ах, черт!.. Ах, черт!.. Чепуха какая получается!.. Так вы, значит, советуете мне…
– Я ничего вам не советую. Я только говорю: подумайте хорошенько и тогда уж выбирайте между двумя сестрами.
– Да, да, правильно!.. Я подумаю… А сейчас пойду спать… Утро вечера мудренее…
Он поднялся. Андермат удержал его:
– Простите, дорогой, еще два слова – о другом. Я хоть и делаю вид, что не понимаю, но на самом деле прекрасно понимаю ваши непрестанные колкие намеки и больше их выслушивать не намерен. Вы корите меня за то, что я еврей, то есть умею наживать деньги, за то, что я скуп, что спекуляции мои, по-вашему, близки к мошенничеству. Однако, милый мой, я только и делаю, что ссужаю вас этими самыми деньгами, даю их вам взаймы без отдачи, а они достаются мне не так уж легко. Ну хорошо, это все неважно. Но есть одно обвинение, которое я решительно отметаю, решительно! Скупым меня назвать нельзя. Кто делает вашей сестре подарки по двадцать тысяч франков? – Андермат. Кто купил за десять тысяч картину Теодора Руссо[12] и преподнес ее вашему отцу, потому что ему хотелось ее иметь? – Андермат. А кто подарил вам здесь, в Анвале, лошадь, на которой вы сегодня ездили в Руайя? – Все тот же Андермат. Так в чем же проявляется моя скупость? В том, что я не позволяю себя обкрадывать? Ну что ж, это чисто еврейская черта, и вы правы, милостивый государь. Я сейчас выскажусь по этому поводу раз и навсегда. Нас считают скупцами потому, что мы всему знаем цену. Для вас рояль – это рояль, стул – это стул, брюки – это брюки. И для нас, конечно, тоже, но вместе с тем для нас – это товар, имеющий определенную рыночную стоимость, и практический человек должен уметь с одного взгляда точно ее установить – не из скупости, а чтобы не потакать жульничеству.
Что бы вы сказали, если б в табачной лавке с вас запросили четыре су за коробок восковых спичек или за марку в три су? Вы вознегодовали бы, вы побежали бы за полицейским, милостивый государь, – из-за одного су, из-за одного су! И все только потому, что вы случайно знаете цену этих двух предметов. А вот я знаю цену любых предметов, которые можно продать и купить. Вы преисполнитесь возмущения, если с вас потребуют четыре су за марку в три су, а я возмущаюсь, когда с меня запрашивают двадцать франков за дождевой зонт, стоящий пятнадцать франков. Понятно? Я протестую против гнусного воровства, укоренившегося в обычаях торговцев, слуг, кучеров. Я протестую против коммерческой непорядочности вашей нации, которая нас презирает. Я даю на чай в соответствии с оказанной мне услугой, а не так, как вы, ибо у вас во всем фантазия, и вы швыряете то пять франков, то пять су, смотря по настроению. Понятно вам?
Гонтран поднялся и с тонкой иронической усмешкой, так подходившей к его лицу, ответил:
– Понятно, все понятно, дорогой. Вы правы, вы совершенно правы, тем более что мой дед, старый маркиз де Равенель, почти ничего не оставил моему бедненькому папе, потому что имел дурную привычку не брать сдачи у купцов, если платил им за что-нибудь. Он считал это недостойным дворянина и всегда давал круглую сумму и полновесной монетой.
И Гонтран вышел с очень довольным видом.
ГЛАВА III
На следующий день, в обеденный час, когда все уже собрались перейти из гостиной в отдельную столовую, отведенную для семейства Андермат и Равенель, Гонтран распахнул дверь и с порога возвестил:
– Сестры Ориоль!
Они вошли, стесняясь, краснея, а Гонтран, шутливо подталкивая их, объяснял:
– Вот и они! Похитил обеих среди бела дня, на глазах у возмущенных прохожих. Привел их силой, потому что желаю объясниться с мадемуазель Луизой и, конечно, не могу это сделать при посторонней публике.
Он отобрал у девушек шляпки, зонтики – они возвращались с прогулки, – усадил их, поцеловал сестру, пожал руки отцу, зятю и Полю Бретиньи, затем снова подошел к Луизе.
– Ну-с, мадемуазель, извольте сказать, что вы имеете против нас с некоторых пор?
У Луизы был испуганный вид, словно у птицы, пойманной в сети и попавшей в руки птицелова.
– Ничего, сударь! Право же, ничего! Кто вам это сказал?
– Я сам вижу – по всему вижу! Вы к нам теперь не заглядываете, не катаетесь с нами в Ноевом ковчеге (так он окрестил дряхлое ландо). При встрече со мною, при моих робких попытках заговорить с вами вы смотрите на меня суровым взглядом.
– Да нет же, вы ошибаетесь, сударь! Уверяю вас!
– Нет, не ошибаюсь. Я утверждаю истину. Однако дольше я это терпеть не намерен и желаю сегодня же заключить мир. Прошу мне не перечить! Я дьявольски упрям. Сколько вы ни хмурьтесь, а я сумею отучить вас от таких повадок, и вы будете с нами приветливы, как ваша сестрица, сей ангел доброты!
Доложили, что обед подан, все направились в столовую. Гонтран повел к столу Луизу. Он расточал знаки внимания обеим сестрам, с удивительным тактом распределяя между ними свои любезности. Младшей он говорил:
– Вы наш старый товарищ, а поэтому я несколько дней буду менее внимателен к вам. С друзьями не церемонятся, как вам известно.
А старшей он говорил:
– Мадемуазель! Я решил вас пленить и, как честный противник, предупреждаю вас о своем намерении заранее. Я даже буду усиленно ухаживать за вами. Ах, вы краснеете? Хороший признак. Вы увидите, как я бываю неотразим, когда захочу. Не правда ли, мадемуазель Шарлотта?
Обе девушки краснели, а Луиза смущенно и степенно говорила:
– Ах, сударь!.. Какой вы ветреник!
Он восклицал:
– Полноте! То ли вы еще услышите в обществе, когда станете замужней дамой, что, несомненно, случится очень скоро. Боже! Сколько вам будут говорить комплиментов!
Христиана и Поль втайне одобряли его за то, что он привел Луизу; маркиз улыбался, забавляясь его вычурными любезностями; Андермат думал: «Молодчик-то, оказывается, неглуп!» А Гонтран злился, что ему приходится из корысти изображать вздыхателя старшей сестры, тогда как его влечет к младшей, и, улыбаясь Луизе, мысленно грозил ей, стискивая зубы: «Ну, погоди! Твой папаша, старый мошенник, вздумал надуть меня, так ты у меня попляшешь, ты у меня, деточка, будешь как шелковая!»
Он переводил взгляд с одной сестры на другую и сравнивал их. Конечно, младшая гораздо милее – ему все нравилось в ней: задорная живость, чуть вздернутый носик, блестящие глаза и узкий лоб, прекрасные, несколько крупные зубы и алый, довольно большой рот.
Однако и старшая тоже очень недурна, хотя она холоднее, не такая веселая. Никогда она не позабавит остроумием, не очарует в интимной жизни, но если у дверей бальной залы лакей возвестит: «Графиня де Равенель» – не стыдно будет войти с ней под руку, она, пожалуй, лучше, чем младшая сестра, сумеет поставить себя в свете, особенно когда попривыкнет и приглядится. И все-таки он был взбешен, он затаил злобу против них обеих, против их отца, против брата и давал себе слово отплатить им всем за свою неудачу – позднее, когда будет хозяином положения.
После обеда он подсел в гостиной к Луизе и попросил ее погадать ему на картах – она слыла хорошей гадалкой. Маркиз, Андермат и Шарлотта внимательно слушали, поддаваясь невольному влечению к неведомому, к невероятному, которое вдруг да станет возможным, той неискоренимой вере в чудесное, которая так крепко сидит в человеке, что иной раз даже самый трезвый ум смущают глупейшие измышления шарлатанов.
Поль и Христиана разговаривали в нише отворенного окна.
С некоторых пор Христиана была сама не своя, чувствуя, что Поль уже не любит ее так, как раньше. И разлад с каждым днем углублялся по вине их обоих. В первый раз она догадалась о своем несчастье в вечер празднества, когда повела Поля на дорогу в Ла-Рош-Прадьер. Она видела, что уже нет прежней нежности в его взглядах, прежней ласки в голосе, исчезло страстное внимание к ней, но не могла угадать причину такой перемены.
А началось это уже давно, с того часа, когда она, придя на ежедневное свидание, сияющая, счастливая, сказала ему: «А знаешь, я, кажется, в самом деле беременна». У него от этих слов холод побежал по спине – такое неприятное чувство они вызвали.
И с тех пор она при каждой встрече говорила с ним о своей беременности, переполнявшей радостью ее сердце, но постоянные разговоры о том, что Поль считал досадным, противным и каким-то неопрятным, коробили его, мешали его восторженному преклонению перед обожаемым кумиром.
Позднее, замечая, как она изменилась, похудела, осунулась, какие у нее некрасивые желтые пятна на лице, он стал думать, что ей следовало бы избавить его от такого зрелища, исчезнуть на несколько месяцев, а потом предстать перед ним, блистая свежестью и новой красотой, предав забвению неприятное происшествие или же умело сочетая с обольстительной прелестью любовницы иное обаяние – тонкое обаяние умной, неназойливой молодой матери, показывающей своего ребенка лишь издали в ворохе розовых лент.
И ведь у нее был на редкость удобный случай проявить тактичность, которой он ждал от нее: она могла уехать на лето в Монт-Ориоль, а его оставить в Париже, чтоб он не видел ее поблекшего лица и обезображенной фигуры. Он очень надеялся, что она сама это поймет.
Но лишь только Христиана приехала в Овернь, она стала звать его в бесчисленных письмах, звала так настойчиво, с таким отчаянием, что он поддался слабости, жалости и приехал к ней. И теперь его тяготила неуклюжая, слезливая нежность этой женщины, ему безумно хотелось бросить ее, никогда больше не видеть, не слышать ее раздражающего, неуместного любовного воркования. Ему хотелось выложить все, что накипело на сердце, объяснить, как неловко и глупо она ведет себя, но сделать это было нельзя, а уехать тоже было неудобно, и нетерпеливая досада невольно прорывалась у него в желчных, обидных словах.
Она страдала от этого, страдала тем сильнее, что постоянно чувствовала теперь недомогание, тяжесть, что ее мучили все страхи беременных женщин, и она так нуждалась в утешении, в ласке, в нежной привязанности. Ведь она любила его всем своим существом, каждой жилкой, каждым движением души, любила беззаветной, беспредельной, жертвенной любовью. Теперь она уже считала себя не любовницей его, а его женой, подругой жизни, преданной, верной, покорной его рабой, его вещью. Теперь уж для нее речи быть не могло о каких-то ухаживаниях, ухищрениях женского кокетства, о непрестанных стараниях нравиться и прельщать – ведь она вся, вся принадлежала ему, они были связаны такими сладостными и могучими узами – у них скоро должен был родиться ребенок.
Как только они уединились в нишу окна, Христиана принялась за обычные свои нежные сетования:
– Поль, милый мой, родной мой, скажи, ты по-прежнему любишь меня?
– Да, да. Послушай, нельзя же так: каждый день одно и то же! Это в конце концов становится утомительным.
– Прости, но мне теперь уже не верится, мне так нужно, чтоб ты успокоил меня, так хочется услышать от тебя дорогое слово. А ты ведь не часто говоришь его теперь, вот и приходится выпрашивать его, выклянчивать, как милостыню.
– Ну хорошо, я тебя люблю! Но, ради бога, поговорим о чем-нибудь другом. Умоляю!
– Какой ты жестокий!
– Нет, неправда. Я совсем не жестокий. Только… только… Как ты не можешь понять, что…
– Ах, я все понимаю… прекрасно понимаю, что ты разлюбил меня. Если бы ты знал, как мне больно!
– Перестань, Христиана, прошу тебя, пощади мои нервы! Если б ты знала, до чего неумно ты себя ведешь!
– Боже мой! Если бы ты любил меня, ты никогда бы этого не сказал.
– Да черт возьми, если бы я тебя разлюбил, так ни за что бы сюда не приехал!
– Ну, не сердись. Ведь ты мой, такой мне близкий, и я тоже вся принадлежу тебе. Наш ребеночек связывает нас нерасторжимыми узами. А все-таки… если когда-нибудь… если придет такой день, что ты разлюбишь меня, ты скажешь мне это? Обещаешь?
– Обещаю.
– Поклянись.
– Клянусь.
– Но даже и тогда мы останемся друзьями. Ведь правда?
– Разумеется, останемся друзьями.
– В тот день, когда ты почувствуешь, что уже не любишь меня настоящей любовью, ты придешь ко мне и скажешь: «Милая моя Христиана, я очень тебя люблю, но это уже не то, что прежде. Будем друзьями, только друзьями».
– Ну конечно, обещаю тебе.
– Даешь слово?
– Даю.
– И все же мне будет очень, очень горько! Как ты любил меня в прошлом году!
У дверей раздался голос лакея:
– Герцогиня де Рамас-Альдаварра!
Она пришла запросто, по-соседски; Христиана каждый вечер принимала у себя курортную знать, как владетельные особы принимают заезжих гостей в своем королевстве.
За прекрасной испанкой следовал с покорной улыбкой доктор Мадзелли. Хозяйка и гостья пожали друг другу руки, сели и завели разговор.
Андермат позвал Поля:
– Дорогой друг, идите к нам! Мадемуазель Ориоль замечательно гадает на картах. Она столько мне тут предсказала!
И, взяв его под руку, Андермат добавил:
– Удивительный вы человек! В Париже мы вас видели раз в месяц, и того реже, несмотря на усердные приглашения моей жены. Чтобы вытащить вас сюда, нам пришлось бомбардировать вас письмами. А с тех пор, как вы приехали, у вас такой унылый вид, словно вы ежедневно теряете по миллиону. Что с вами? Вас беспокоит какая-нибудь неприятность? Скажите, не скрывайте! Может быть, удастся помочь вам.
– Ну что вы, дорогой, никаких неприятностей у меня нет. Если я не часто бывал у вас в Париже… так ведь это Париж… сами понимаете!
– Еще бы! Конечно, понимаю… Ну хоть здесь-то встряхнитесь, будьте повеселее. Я тут затеваю два-три праздника. Надеюсь, они пройдут удачно.
Лакей доложил:
– Госпожа Барр и профессор Клош.
Клош пришел со своей дочерью, молодой и вызывающе кокетливой рыжеволосой вдовушкой. И тотчас же лакей выкрикнул:
– Профессор Ма-Руссель.
Со вторым профессором явилась его жена, бледная перезрелая дама с гладкими начесами на висках.
Профессор Ремюзо накануне уехал, купив дачу, в которой он жил, и, как говорили, на очень выгодных условиях. Двум его коллегам очень хотелось узнать, что это за условия, но Андермат ответил только:
– О, мы очень легко договорились к обоюдной выгоде! Если вы пожелаете последовать его примеру, – пожалуйста, можно будет столковаться… Когда надумаете, сообщите мне, и мы побеседуем.
Затем явился доктор Латон, а за ним доктор Онора без супруги – он никогда не показывался с ней в обществе.
В гостиной раздавался теперь разноголосый гул разговоров. Гонтран не отходил от Луизы, тихо говорил ей что-то, наклоняясь к ее плечу, и время от времени, смеясь, пояснял тем, кто проходил мимо них:
– Стараюсь покорить своего врага!
Мадзелли подсел к дочери профессора Клоша, он уже несколько дней ходил за ней по пятам, и бойкая вдовушка кокетничала с новым поклонником напропалую.
Герцогиня искоса следила за ними, раздувая ноздри, еле скрывая раздражение. Вдруг она встала, прошла через всю гостиную и, прервав уединенную беседу своего врача с рыжеволосой красоткой, властно заявила:
– Мадзелли, не пора ли нам домой?… Мне что-то нездоровится.
Лишь только они ушли, Христиана, подойдя к Полю, сказала:
– Бедняжка! Как она, должно быть, страдает!
Он опрометчиво спросил:
– Кто страдает?
– Герцогиня! Разве вы не заметили, что она ревнует?
Поль резко ответил:
– Ну, если вы приметесь оплакивать всех назойливых любовниц, у вас и слез не хватит.
Христиана отошла от него, готовая в самом деле заплакать, – такими жестокими были для нее эти слова, и, сев подле Шарлотты Ориоль, оставшейся в одиночестве, удивленно и растерянно смотревшей на Гонтрана, она высказала горькую, непонятную для этой девочки мысль:
– Бывают дни, когда хочется умереть.
Андермат в кружке медиков рассказывал о необыкновенном исцелении старика Кловиса, у которого парализованные ноги уже начали оживать. Он говорил с таким жаром, что никто не мог бы усомниться в его искренности.
С тех пор, как он разгадал уловку двух Ориолей и мнимого паралитика, и понял, что в прошлом году его обвели вокруг пальца, воспользовавшись его страстным желанием уверовать в целительное действие источника, и особенно с тех пор, как ему пришлось откупиться деньгами от коварных причитаний старика, он превратил папашу Кловиса в могущественное средство рекламы и теперь сам великолепно разыгрывал комедию.
Вернулся Мадзелли, освободившись от своей пациентки, которую он проводил домой.
Гонтран подхватил его под руку:
– Доктор-обольститель, прошу совета! Которая из двух девочек Ориолей лучше, а? Вы бы которую выбрали?
Красавец врач шепнул ему на ухо:
– В любовницы – младшую, в жены – старшую.
Гонтран рассмеялся:
– Смотрите-ка! Мы сошлись во мнении. Очень рад!
Затем он подошел к сестре, разговаривавшей с Шарлоттой.
– Знаешь что? Я придумал хорошую прогулку. Поедемте в четверг на Пюи-де-ла-Нюжер. Это самый красивый вулкан во всей цепи. Все согласны. Поедем?
Христиана сказала равнодушным тоном:
– Мне все равно. Как вы хотите.
Но тут подошли проститься профессор Клош со своей дочерью, и Мадзелли, предложив проводить их, вышел вслед за вдовушкой.
Через несколько минут разошлись и остальные гости, так как Христиана ложилась спать в одиннадцать часов.
Маркиз, Поль и Гонтран пошли проводить сестер Ориоль. Гонтран и Луиза шли впереди, а Бретиньи в нескольких шагах от них вел под руку Шарлотту и чувствовал, что рука ее слегка дрожит.
Прощаясь с девушками, им напомнили:
– Не забудьте, в четверг к одиннадцати часам! Завтракать будем все вместе в отеле.
На обратном пути встретили Андермата, которого профессор Ма-Руссель задержал в уголке сада.
– Так, значит, решено, – говорил врач. – Если не помешаю вам, я зайду завтра утром побеседовать относительно дачки.
Вильям Андермат отправился домой вместе с молодыми людьми и, поднявшись на цыпочки, чтобы дотянуться до уха своего шурина, шепнул ему:
– Поздравляю, голубчик! Вы, оказывается, молодец!
Гонтрана уже два года терзало безденежье, отравлявшее ему существование. Пока он проматывал состояние матери, ничто его не беспокоило, ничто не омрачало его врожденной беспечности, унаследованной от отца, его беспечальной жизни в среде золотой молодежи, богатых, пресыщенных и распутных хлыщей, чьи имена каждое утро упоминаются газетами в хронике светской жизни, ибо эти повесы принадлежат к большому свету, хотя и бывают в нем нечасто, предпочитая ему общество продажных женщин, у которых они перенимают и нравы и весь душевный склад.
Компания его состояла из дюжины таких же фатов; каждую ночь, между полуночью и тремя часами утра, их можно было встретить на бульварах, в одной и той же кофейне. Элегантные, всегда во фраке и в белом жилете, с великолепными запонками ценою в двадцать луидоров, которые покупались у лучших ювелиров и сменялись каждый месяц, эти молодые люди не ведали в жизни иных забот, кроме непрестанной погони за удовольствиями, любовными утехами, за дешевой известностью и деньгами, добывая их всяческими средствами.
Ничто их не занимало, кроме свеженьких скандальных историй, сплетен об альковных делах и о конюшнях ипподрома, дуэлей и подвигов в игорных домах, – весь их умственный кругозор замыкался этими интересами. Они обладали всеми женщинами, высоко котировавшимися на рынке продажной любви, передавали, уступали, одалживали их друг другу и беседовали между собой об их любовных качествах, словно о статьях скаковой лошади. Бывали они также и в том шумном кругу титулованных особ, о котором много говорят и где почти у всех женщин есть любовные связи, ни для кого не составляющие тайны, проходящие на глазах у мужей, равнодушных, снисходительных или же близоруких до слепоты; о таких светских дамах эти молодые люди судили точно так же, как о кокотках, и в своей оценке делали лишь легкое различие из-за их происхождения и социального ранга.
Им столько приходилось изворачиваться, чтобы раздобывать деньги на свою веселую жизнь, обманывать кредиторов, занимать направо и налево, выпроваживать поставщиков, с наглым смехом встречать портных, предъявляющих каждые полгода счет, всякий раз возрастающий на три тысячи франков, выслушивать от кокоток, этих пожирательниц состояний, столько историй об их ловких проделках, столько подмечать шулерских плутней в клубах, знать и чувствовать, что и самих-то их надувают и обкрадывают на каждом шагу – слуги, торговцы, содержатели шикарных ресторанов, все, кому не лень, – проникать опытным взором в некоторые биржевые махинации и подозрительные делишки и даже прикладывать к ним руку, чтобы получить несколько луидоров, что их нравственное чувство в конце концов притупилось, стерлось, и единственным правилом чести было для них драться на дуэли при малейшем подозрении, что они способны на те мерзости, которые они совершали или могли совершить.
Все они, или почти все, через несколько лет должны были кончить такое существование или выгодным браком, или громким скандалом, или самоубийством, или же загадочным исчезновением, полным исчезновением, подобным смерти.
Но все они, конечно, рассчитывали на богатую невесту. Одни надеялись, что ее подыщут для них заботливые родственники, другие сами искали втихомолку и составляли списки наследниц, как составляют списки домов, назначенных к продаже. Особенно охотились они на иностранок – на заморских невест из Северной и Южной Америки – и ослепляли их своим ореолом блестящих прожигателей жизни, очаровывали шумной славой своих успехов, изяществом своей особы. Кредиторы тоже рассчитывали на их выгодную женитьбу.
Но эта охота за богатой невестой могла затянуться. И, во всяком случае, она требовала поисков, утомительных трудов по обольщению, скучных визитов – словом, слишком большой затраты энергии, на что Гонтран по своему беспечному характеру совсем не был способен.
А безденежье с каждым днем донимало его все больше, и он уже давно говорил себе: «Надо бы все-таки придумать какой-нибудь фортель». Но никакого фортеля придумать не мог.
Ему уже приходилось прибегать к весьма сомнительным уловкам, пускаться во все тяжкие, чтобы раздобыть хоть самые мелкие суммы, – в такой крайности он очутился; а теперь он вынужден был подолгу жить в своей семье, и вдруг Андермат подсказал ему мысль жениться на одной из сестер Ориоль.
Сначала он из осторожности промолчал, хотя на первый взгляд ему показалось, что эти девушки настолько ниже его, что он не может согласиться на такой неравный брак. Но, поразмыслив немного, он сразу изменил свое мнение и тотчас решил приступить к ухаживанию, вполне допустимому на водах, шутливому ухаживанию, которое его решительно ничем не свяжет и позволит, если понадобится, отступить.
Прекрасно зная своего зятя, он понимал, что Андермат все обдумал, взвесил, подготовил почву и, уж если сделал такое предложение, значит, случай действительно заманчивый и другой такой вряд ли представится.
Да и трудов никаких не надо: протяни руку и подхвати прехорошенькую девушку, – младшая сестра очень ему нравилась, и он не раз думал, что позднее, когда она выйдет замуж, весьма приятно было бы с ней встретиться.
Итак, он выбрал Шарлотту Ориоль и в короткий срок довел ухаживание до того момента, когда уже можно было сделать официальное предложение.
И что же! Вдруг оказалось, что надо или совсем отказаться от женитьбы, или же выбрать старшую сестру, потому что землю, на которую зарился Андермат, отец дает в приданое за ней.
В первый момент Гонтран до того разозлился, что решил было послать зятя ко всем чертям и остаться холостяком до другого подходящего случая.
Однако он в это время крепко сидел на мели, ему даже не с чем было заглянуть в казино, и пришлось попросить у Поля взаймы двадцать пять луидоров, а он уж немало перебрал у своего друга золотых монет, никогда их не возвращая. И кроме того, как хлопотно было бы искать новую невесту, а подыскав, прельщать ее. Может быть, еще надо будет бороться против ее враждебной родни. А тут невеста под рукой, стоит только поухаживать, полюбезничать несколько дней, и он покорит старшую сестру так же легко, как покорил младшую. Женившись на ней, он в лице своего зятя обеспечит себе покладистого банкира, касса которого всегда будет для него открыта, потому что он возложит на Андермата всю ответственность за этот брак и вечно будет осыпать его упреками.
А жена? Ну что ж, он увезет ее в Париж, представит в обществе как дочь компаньона Андермата. Кстати, она носит имя этого курорта, и уж сюда-то он никогда, никогда с нею не вернется в силу того непреложного закона, что реки не текут вспять, к своим истокам! У нее миленькое личико, стройная фигура, достаточно изящества, чтобы стать вполне изысканной дамой, достаточно ума, чтобы усвоить правила света, уметь в нем держаться, занять видное место и даже сделать честь своему мужу. Все будут говорить: «Проказник женился на прелестной девушке и, кажется, преспокойно ее надувает». И, разумеется, он будет ее надувать, в карманах у него опять появятся деньги, и он заживет на стороне холостяцкой жизнью.
Итак, он предпочел ухаживать за Луизой. И, пользуясь, сам того не ведая, ревностью, закравшейся в ее завистливое сердце, пробудил в ней еще дремавшее кокетство и смутное желание отбить у сестры красивого поклонника, носившего графский титул.
Она себе в этом не признавалась, даже не думала об этом, не лелеяла коварных замыслов – встреча с Гонтраном и «похищение» были для нее полной неожиданностью. Но, видя, как он с ней любезен и ласков, угадала по его манерам, по его взглядам, по всему его поведению, что он вовсе не влюблен в Шарлотту, и, не заглядывая далеко, была в тот вечер счастлива, радостно возбуждена, а отходя ко сну, чувствовала себя почти победительницей.
В четверг утро было пасмурное и душное, серое небо грозило дождем, и вопрос о поездке на Пюи-де-ла-Нюжер обсуждали очень долго. Но Гонтран так горячо настаивал, что увлек всех колебавшихся.
Завтрак прошел скучно. Поль и Христиана накануне поссорились, казалось, без всякой причины; Андермат опасался, как бы не сорвалась женитьба Гонтрана, потому что в то утро старик Ориоль отзывался о нем очень двусмысленно. Гонтран, узнав об этом от зятя, пришел в ярость и решил добиться своего. Шарлотта, ничего не понимая в поведении Гонтрана, но предчувствуя торжество сестры, хотела было остаться дома, ее с трудом уговорили поехать.
Ноев ковчег повез своих обычных седоков, оказавшихся в полном сборе, к высокому плоскогорью, поднимающемуся над Вольвиком.
Луиза Ориоль вдруг стала очень говорлива и всю дорогу развлекала своих спутников. Она объясняла, что из черного вольвикского камня, который представляет собою не что иное, как застывшую лаву окрестных вулканов, построены все церкви и все дома в этих краях, и поэтому овернские города кажутся такими мрачными и как будто обгорелыми. Она показывала выемки в горе, где обтесывали этот камень, и массивы лавы, служившие каменоломнями, откуда его добывали; приглашала всех полюбоваться огромной черной Богоматерью, покровительницей Вольвика, стоявшей на вершине горы и как будто вознесшейся над городом.
С нижнего плоскогорья поднялись к верхнему, где высились бугры былых вулканов. Лошади плелись шагом по длинному трудному подъему. По обеим сторонам дороги зеленели леса. В коляске все умолкли.
Христиана вспоминала о поездке на Тазенатское озеро. Та же коляска и теперь, и те же в ней люди, но сердца уже не те!.. Все как будто похоже, а совсем, совсем не то… Но что же изменилось? Почти ничто!.. Она любит немного больше… он немного меньше!.. Не изменилось почти ничего. Только та и разница, что тогда желание зарождалось, а теперь угасает!.. Почти ничто… Невидимая трещина. Любовь наскучила – вот и все… Ничто, почти ничто!.. Но вот уже и взгляд любимых глаз изменился Глаза те же самые, но уже по-иному видят то же самое лицо. А что такое взгляд?… Почти ничего!
Кучер остановил лошадей и сказал:
– Приехали. Сверните направо и ступайте лесом по тропинке. Идите все прямо, прямо и дойдете.
Все вылезли из коляски, кроме маркиза: ему не хотелось двигаться в такую жару. Луиза и Гонтран ушли вперед, а Шарлотта осталась с Полем и Христианой, которая шла с трудом. Лесная дорожка, показавшаяся им длинной-длинной, вывела на гребень, поросший высокой травой, и они стали подниматься к кратеру потухшего вулкана.
Луиза и Гонтран уже взобрались на самую верхнюю точку, остановились там, и оба, высокие, стройные, как будто парили в облаках. Когда все поднялись туда, впечатлительную душу Поля Бретиньи охватил лирический восторг.
Вокруг них – позади, справа, слева – высились какие-то странные усеченные конусы – одни устремленные вверх, другие приземистые, но все они сохраняли угрюмый облик мертвых вулканов. Эти грузные горы-обрубки с плоской, срезанной вершиной тянулись с юга на запад по огромному унылому плоскогорью, которое поднималось на тысячу метров над Лиманью, нависало над нею карнизом с востока и севера и уходило к невидимому горизонту, всегда затуманенному голубоватой дымкой.
Справа поднимался Пюи-де-Дом, выше всех своих братьев, семидесяти или восьмидесяти вулканов, давно уже спящих непробудным сном; подальше виднелись Гравнуар, Круэль, Педж, Со, Ношан и Ваш; ближе всех вырисовывались вершина Париу, Ком, Жюм, Трессу, Лушадьер. Огромное кладбище вулканов.
Всех поразила эта картина. А внизу зеленела травяным своим покровом большая и глубокая воронка – кратер Нюжера, на дне которого еще сохранились три исполинские темно-коричневые глыбы – лава, извергнутая последним вздохом чудовища, упавшая обратно в мертвую его пасть и навсегда застывшая в ней много веков назад.
Гонтран крикнул:
– Я спущусь на дно кратера! Хочу посмотреть, как эти зверюги умирали. Ну, кто со мной? Побежим под горку!
И, схватив за руку Луизу, он помчался, увлекая ее за собой. Шарлотта побежала было за ними, потом вдруг остановилась, посмотрела, как они несутся вприпрыжку, держась за руки, и, резко повернувшись, поднялась на верхушку ската, где сели на траву Поль и Христиана. Дойдя до них, она упала на колени и, зарывшись лицом в складки платья Христианы, разрыдалась.
Христиана все поняла: в последнее время чужое горе причиняло ей такую же боль, как свое собственное, и, обняв девушку за плечи, она тоже заплакала и тихонько шептала:
– Бедная моя девочка! Бедная моя девочка!
Шарлотта все плакала, уронив голову ей на колени, а руками бессознательно вырывала из земли пучочки травы.
Бретиньи отошел в сторону, делая вид, что ничего не заметил, но это детское горе, это простодушное отчаяние вдруг возбудило в нем гнев против Гонтрана. Он, кого глубокие страдания Христианы только раздражали, был искренне растроган первым разочарованием этой девочки.
Он вернулся и, опустившись на колени возле Шарлотты, сказал:
– Ну не надо, не плачьте, умоляю вас! Они сейчас вернутся. Успокойтесь, не нужно плакать при них.
Она вскочила, испугавшись мысли, что сестра застанет ее в слезах. Но рыдания все подступали к горлу, и оттого, что она их сдерживала и глотала слезы, на сердце у нее было еще тяжелее. Она лепетала, всхлипывая:
– Да… да… не надо… Я больше не буду плакать. Все уже прошло… Ничего… Все прошло… Посмотрите, ничего уже не заметно. Правда?… Ведь не заметно?
Христиана вытерла ее мокрые от слез щеки, потом провела платком по своему лицу и сказала Полю:
– Пойдите посмотрите, что они там делают. Куда они девались? Их совсем не видно за этими глыбами. А я побуду с девочкой и постараюсь утешить ее.
Бретиньи поднялся и дрожащим от негодования голосом ответил:
– Хорошо… Я пойду… Я их приведу. Но ваш братец будет иметь дело со мной… Сегодня же. Пусть объяснит свое поведение… Это просто гнусно, после того что он нам недавно сказал!
И он начал бегом спускаться на дно кратера.
Гонтран стремглав бежал по крутому скату и тянул за собой Луизу, чтобы ее подхватывать, поддерживать, ошеломить, испугать, чтобы у нее занялось дыхание. Он увлекал ее насильно, она пыталась остановиться, растерянно вскрикивала:
– Ах, тише! Тише, ради бога!.. Я упаду!.. Да вы с ума сошли!.. Я упаду!
Наконец они добежали до темных глыб и остановились, еле переводя дыхание. Потом обошли вокруг них, заглянули в широкую расселину, похожую на сквозную пещеру.
Когда вулкан, в котором уже иссякала жизнь, извергнул последнюю струю лавы, у него не хватило сил метнуть ее в небо, как прежде, он только чуть подбросил ее своим угасающим дыханием, загустевшую, почти холодную, и она окаменела на его мертвых устах.
– Посмотрим, что там делается, – сказал Гонтран.
И, подталкивая впереди себя Луизу, он вошел под темный свод. Как только они очутились в пещере, Гонтран воскликнул:
– Ну вот, мадемуазель, минута самая подходящая! Сейчас вам придется выслушать признание.
Она изумилась:
– Признание?… Мне?…
– Именно вам. И всего в двух словах: вы очаровательны!
– Скажите это моей сестре.
– Ах, вы прекрасно знаете, что вашей сестре я этого не стал бы говорить!
– Неужели?
– Послушайте: значит, вы не настоящая женщина, если не поняли, что я ухаживал за вашей сестрой только для того, чтобы посмотреть, какое впечатление это произведет на вас, какими глазами вы будете смотреть на меня… А глазки ваши стали ужасно сердитыми! Ах, как я был доволен! Тогда я постарался дать вам понять, со всею должною почтительностью, что я на самом деле думаю о вас!..
С Луизой никогда еще никто так не говорил. Она была преисполнена радостного смущения, восторга и гордости.
Гонтран продолжал:
– Я знаю, что очень дурно поступил с вашей сестрицей. Но что поделаешь! Впрочем, она нисколько не обманывалась в моих чувствах. Право, право! Вы же видите: она осталась с Христианой, не захотела пойти с нами. О, она все поняла, прекрасно поняла!..
Он схватил руку Луизы и, тихонько, деликатно целуя ей кончики пальцев, шептал:
– Какая вы прелестная! Какая прелестная!
Луиза стояла, прижавшись к каменной стене, и слушала его молча, с замиранием сердца. Одна-единственная мысль всплывала в ее затуманенной голове: она победила сестру, восторжествовала над ней.
Вдруг у входа выросла большая тень. На них смотрел Поль Бретиньи. Гонтран непринужденно отпустил маленькую девичью ручку, которую держал у своих губ, и сказал:
– Ах, это ты!.. Ты один?
– Да. Дамы удивляются, что вы исчезли.
– Мы сейчас вернемся, дорогой. Мы осматривали этот грот. Довольно любопытный, не правда ли?
Луиза, красная от смущения, вышла первой и стала подниматься в гору, а Поль и Гонтран шли вслед за нею, разговаривая между собою вполголоса.
Христиана и Шарлотта, держась за руки, смотрели на них сверху.
Потом все направились к коляске, где их поджидал маркиз, и Ноев ковчег покатил обратно, в Анваль.
И вдруг, когда въехали в сосновый лесок, лошади остановились, а кучер принялся ругаться: дорогу перегородил труп старого осла.
Все вышли из коляски, чтобы посмотреть. Осел лежал в темной, почти черной пыли, сам такой же темный и такой худой, что, казалось, его кости, обтянутые истертой шкурой, прорвали бы ее, если бы он не успел издохнуть; все ребра четко вырисовывались под облезлой шерстью, а голова казалась огромной, но у этой жалкой головы с закрытыми глазами было какое-то умиротворенное, довольное выражение, – она тихо, спокойно лежала на ложе из битого щебня и как будто удивлялась новому для нее, блаженному отдыху. Длинные, вялые теперь уши повисли, как тряпки. На коленках алели две свежие раны, говорившие о том, что он не однажды падал в тот день, пока не рухнул в последний раз. Еще одна рана была в боку – в том месте, куда хозяин долгие годы колол его железным острием, насаженным на палку, подгоняя его отяжелевший шаг.
Ухватив мертвое животное за задние ноги, кучер потащил его в придорожную канаву; длинная шея осла вытянулась, словно он хотел в последний раз испустить свой жалобный крик. Сбросив его в высокую траву, кучер сердито заворчал:
– Вот скоты! Оставили падаль посреди дороги!
Никто не отозвался на эти слова; все снова сели в коляску.
Христиана, удрученная, расстроенная, представила себе всю жалкую жизнь несчастного осла, закончившуюся на краю дороги. Веселый, большеголовый и глазастый ослик, смешной и славный ослик с жесткой шерсткой и торчащими ушами, прыгал на воле, бежал около матери, путаясь у нее под ногами; потом первая упряжка, первая телега, первый подъем в гору, первые побои! А потом… потом… непрестанные мучительные переходы по бесконечным дорогам. И побои, побои! Непосильный груз, палящее солнце, вся пища – клочок соломы или сена, иногда несколько веточек, сорванных с куста, а кругом, по обеим сторонам каменистой дороги, манящие зеленые луга!
А потом пришла старость; гибкий прут заменили палкой с острым железным наконечником, началась жестокая пытка изнуренного животного; надрываясь, осел тащил в гору тяжелую поклажу, чувствуя мучительную боль в каждой косточке, во всем своем старом теле, изношенном, как рубище нищего. А потом смерть, благодетельная смерть в трех шагах от зеленой, сочной травы, в которую, ругаясь, сбросил его проезжий человек, чтобы освободить дорогу.
И в первый раз Христиана поняла страдания живых существ, обреченных рабству, поняла, что смерть порой бывает блаженным избавлением.
Но вот они проехали мимо тележки, которую, выбиваясь из сил, тащили полуголый мужчина, женщина в отрепьях и тощая собака.
Видно было, что люди эти обливаются потом, что им трудно дышать. Облезлая, шелудивая собака была привязана между оглоблями и плелась, высунув язык. В тележке навалены были дрова, подобранные повсюду, вероятно, и краденые, – пеньки, сучья, хворост, сломанные ветки, – и казалось, что под ними что-то спрятано; на ветках было разостлано какое-то тряпье, а на нем сидел малыш – виднелась только его головенка, выступавшая из бурых лохмотьев: маленький шарик с глазами, носом и ртом.
Это была семья, человеческая семья! Замученный осел пал на дороге, и человек без жалости к своему мертвому слуге оставил его там, не потрудившись хотя бы сбросить в канаву, чтобы он не мешал проезжающим экипажам. А сам он и жена его впряглись в оглобли и потащили телегу, как тащил ее прежде осел. Куда они шли? Куда? Зачем? Было ли у них хоть несколько медяков? А эта тяжелая тележка?… Неужели они всегда будут ее тащить, потому что им не на что купить другого осла? Чем они будут жить? Где остановятся? Умрут, верно, на краю дороги, как умер их осел.
Кто они, эти нищие, – муж и жена или только «сожители»? И ребенок их, этот бесформенный зверек, закутанный в грязные тряпки, верно, будет жить такой же жизнью, как они.
Христиана с грустью думала обо всем этом, и потрясенная душа подсказывала ей совсем новые мысли. Она смутно угадывала теперь страшную участь бедняков.
Гонтран вдруг сказал:
– Не знаю почему, мне вспомнилось сейчас Английское кафе. Хорошо было бы пообедать там сегодня всем вместе! С удовольствием бы взглянул на бульвар!
Маркиз пробурчал:
– Ну и здесь очень недурно. Новый отель гораздо лучше старого…
Проехали мимо Турноэля. Христиана узнала свой каштан, и сердце у нее забилось от воспоминаний. Она поглядела на Поля, но он сидел с закрытыми глазами и не увидел ее смиренного призыва.
Вскоре впереди коляски показались два крестьянина, возвращавшиеся с виноградников; наработавшись за день, они шли усталым шагом, держа на плече мотыгу.
Сестры Ориоль покраснели до корней волос, узнав отца и брата; оба они, как и прежде, работали на виноградниках, поливая своим потом обогатившую их землю, с утра до вечера перекапывали ее, подставляя спины жгучим лучам солнца, меж тем как их прекрасные сюртуки, тщательно сложенные, покоились в комоде, а высокие цилиндры спрятаны были в шкафу. Оба они поклонились, с дружелюбной улыбкой сняли шляпы, а из коляски все в ответ замахали им руками.
Когда подъехали к отелю, Гонтран выскочил из Ноева ковчега и отправился в казино; Бретиньи пошел вместе с ним и, едва они сделали несколько шагов, остановил приятеля.
– Послушай, милый мой. Ты поступаешь нехорошо, и я обещал твоей сестре поговорить с тобою.
– О чем поговорить?
– О том, как ты ведешь себя за последние дни.
Гонтран спросил высокомерно:
– Как я себя веду? По отношению к кому?
– По отношению к этой девочке, которую ты бросил. Это подло.
– Ты так думаешь?
– Да, думаю… и имею для этого основания.
– Скажите, пожалуйста! Давно ли ты стал жалеть брошенных женщин?
– Ну, знаешь!.. Ты ведь имеешь дело не с кокоткой, а с молоденькой девушкой.
– Я это прекрасно понимаю. Я и не соблазнил ее. Разница большая.
Они зашагали дальше. Тон Гонтрана возмущал Поля, и он сказал:
– Если б ты не был мне другом, я бы сказал тебе пару теплых слов.
– А я не позволил бы тебе их сказать.
– Ах, оставь! Слушай. Мне жаль эту девочку. Она плакала сегодня.
– Вот как! Плакала? Очень лестно для меня!
– Перестань шутить. Скажи: что ты намерен делать?
– Я? Ничего.
– Как это «ничего»? Ты зашел так далеко, что скомпрометировал ее. А ведь ты же сам на днях говорил своей сестре и мне, что думаешь жениться на ней…
Гонтран остановился и насмешливым тоном, в котором сквозила угроза, сказал:
– Лучше бы вам с моей сестрой не вмешиваться в чужие любовные дела. Я сказал тогда, что эта девочка мне нравится, и если б я женился на ней, то впервые в жизни поступил бы разумно и рассудительно. Вот и все. А теперь вот мне больше нравится старшая сестра! Чувство мое изменилось. Это со всяким случается. – И, глядя Полю прямо в глаза, добавил: – Скажи, а ты что делаешь, когда женщина перестает тебе нравиться? Ты щадишь ее?
Поль растерянно смотрел на него, стараясь проникнуть в затаенный смысл его слов. Кровь бросилась ему в голову, и он резко сказал:
– Я тебе еще раз повторяю: ты имеешь дело не с какой-нибудь продажной тварью и не с замужней женщиной, а с невинной девушкой, и ты обманул ее если не обещаниями, то, по крайней мере, всем своим поведением. Слышишь? Порядочный человек, честный человек так не поступает!..
Гонтран побледнел и срывающимся голосом ответил:
– Замолчи!.. Ты и так уж слишком много наговорил… Довольно! Я тебе тоже скажу: не будь ты мне другом, я бы тебе показал, как меня оскорблять! Еще одно слово, и между нами все будет кончено. Навсегда!
И затем, отчеканивая каждое слово, он бросил Полю в лицо:
– Не тебе требовать от меня объяснений… Скорее я имею право потребовать их от тебя… Есть такого рода неделикатность, которая действительно недостойна порядочного человека… честного человека… Она проявляется в разных… в разных формах… Дружба должна бы предостеречь от нее, и любовь не может служить ей оправданием… – Но вдруг, переменив тон, весело, почти проказливо добавил: – А если эта девчурка так уж тебя растрогала и нравится тебе, возьми ее себе, женись на ней. Женитьба иной раз бывает лучшим способом распутать узел. Это одновременно удобный выход и крепость, в которой можно забаррикадироваться от навязчивости. Девочка очень мила и богата!.. Ведь все равно придется тебе когда-нибудь проститься со своей свободой. Забавно было бы, если б мы оба с тобой повенчались здесь в один и тот же день, – я ведь женюсь на старшей. Только никому не говори, это пока секрет… И смотри не забывай, что ты меньше, чем кто-либо, имеешь право говорить о честности и щепетильности в любовных историях. А теперь довольно. Ступай по своим делам, а я пойду по своим. Всего лучшего!
И, круто повернувшись, он стал спускаться на дорогу, ведущую в деревню. Поль Бретиньи, в полном смятении ума и сердца, медленным шагом направился к отелю «Монт-Ориоль».
Он старался припомнить каждое слово, сказанное Гонтраном, чтобы понять хорошенько его намеки, разгадать их смысл, и удивлялся, как ловко некоторые люди прячут от всех постыдную изнанку своей души.
Христиана спросила его:
– Что вам ответил Гонтран?
Поль, запинаясь, сказал:
– Бог мой!.. Ему… ему теперь больше нравится старшая сестра… Думаю даже, что он собирается жениться на ней… Я несколько резко упрекнул его., но он заткнул мне рот… он позволил себе намеки… неприятные для нас с вами.
Христиана тяжело опустилась на стул и прошептала:
– Боже мой!.. Боже мой!..
Но в эту минуту вошел Гонтран, возвратившийся к обеду, поцеловал сестру в лоб и весело спросил:
– Ну как, сестренка? Как ты себя чувствуешь? Не очень устала?
Затем он пожал руку Полю и, повернувшись к Андермату, который вошел в комнату вслед за ним, воскликнул:
– О зять мой! Лучший из всех зятьев, мужей и друзей, можете ли вы сказать мне точную цену старого осла, издохшего на дороге?
ГЛАВА IV
Андермат и доктор Латон прогуливались перед казино по террасе, украшенной большими вазами поддельного мрамора.
– Он мне уж и не кланяется теперь, – жаловался доктор на своего собрата Бонфиля. – Засел в своем логове, как дикий кабан! Если б он мог, то, наверное, отравил бы наши источники.
Андермат шагал, заложив руки за спину и сдвинув на затылок серый фетровый котелок, обнаживший его лоб с залысинами. Он молчал, сосредоточенно размышляя о чем-то, наконец оказал:
– Пустяки! Через три месяца старое общество запросит пощады. Они торгуются из-за десяти тысяч. Дурак Бонфиль их подзуживает, уверяет, что я соглашусь. Ошибается.
Главный врач подхватил:
– Вы знаете, они вчера закрыли свое казино. Никто туда не ходил.
– Знаю. Да и у нас народу не густо. Все сидят по своим гостиницам. А в гостиницах скучно, дорогой мой. Надо забавлять, развлекать больных, устроить им такую приятную жизнь, чтобы сезон показался слишком коротким. А вы посмотрите, кто тут бывает по вечерам – только те, кто живет в отеле «Монт-Ориоль», потому что он рядом. Остальным не хочется выползать из гостиниц. А какая тому причина? Дороги. Весь вопрос в дорогах. Вообще успех всегда зависит от незаметных, как будто ничтожных причин. Только надо найти их. Дороги к месту приятного времяпрепровождения сами должны быть приятными, быть, так сказать, вступлением к ожидающим тебя удовольствиям.
А что за дороги ведут к нашему казино? Отвратительные дороги! Камни, бугры, ямы! Это до того утомительно. Ведь если у человека мелькнет мысль: «Пойду туда-то», и дорога к этому месту ровная, широкая, днем тенистая, вечером не беспокоит крутизной, – на нее невольно потянет и в другой раз. Если б вы знали, как крепко хранит тело воспоминания о множестве ощущений, которые ум не считает нужным запечатлеть! Мне думается, именно так создается память у животных! Идете вы, например, в знойный день по дороге, не укрытой деревьями, натрудили себе ноги, шагая по плохо утрамбованному щебню, поднимаясь по крутому откосу, – и у вас возникает непреодолимое, чисто физическое отвращение к такому пути, хотя вы шли по нему, думая совсем о другом. Вы весело болтали с приятелем, не огорчались мелкими неудобствами дороги, ни на что не смотрели, ничего не отмечали в памяти, но ваши ноги, мышцы, легкие, все ваше тело не забыло этих тягостных ощущений, и когда ум пожелает направить вас по той же дорожке, тело сразу скажет ему: «Нет, не пойду, мне там было очень неприятно». И голова без рассуждений подчинится протесту своих сотоварищей, которые несут ее.
Итак, нам нужны хорошие дороги, и, стало быть, нам нужны участки этого упрямого осла, дядюшки Ориоля. Но погодите… Да, кстати, Ма-Руссель купил дачу на тех же условиях, что и Ремюзо. Пришлось пойти на эту маленькую жертву, зато она окупится сторицей. Постарайтесь узнать намерения Клоша.
– Клош от своих коллег не отстанет, – заметил Латон. – А вот меня другое беспокоит Я уже несколько дней об этом думаю. Мы забыли о важнейшем деле – о метеорологическом бюллетене!
– Что, что? О каком бюллетене?
– О бюллетене в парижских газетах! Необходимейшая вещь! Надо показать, что Монт-Ориоль превосходит все соседние курорты, что температура в нем ровная, жара умеренная, нет резких перемен погоды. Абонируйте для метеорологического бюллетеня местечко в самых ходовых органах прессы, руководительницы общественного мнения, и я каждый вечер буду посылать по телеграфу данные об атмосферном давлении и прочем. Я их так препарирую, эти данные, что в конце года, когда печатают средние цифры, Монт-Ориоль забьет своими «средними» все окрестные курорты. Что прежде всего бросается в глаза, когда разворачиваешь большие газеты? Температура в Виши, температура в Руайя, в Мон-Доре, в Шатель-Гюйоне и так далее и так далее. Это в летний сезон, а в зимний – температура в Канне, в Ментоне, в Ницце, в Сен-Рафаэле. На знаменитых курортах, дорогой директор, всегда должно быть тепло, всегда должна быть великолепная погода, – пусть парижане читают и думают: «Черт побери! Какие счастливцы те, кто ездит туда!» Андермат воскликнул:
– Так, так, так! Вы правы! Как же я-то до сих пор об этом не подумал! Сегодня же займусь этим. Да, кстати, вы писали профессорам Ларенару и Паскалису? Как мне хочется залучить их обоих сюда!
– Неприступны, дорогой председатель, неприступны!.. Если только… если только сами на многочисленных опытах не убедятся, что наши воды действительно хороши Но средствами… предварительного убеждения их не возьмешь… Нечего и думать.
Они поравнялись со столиком, за которым Поль и Гонтран пили после завтрака кофе; на террасе собрались уже и другие обитатели курорта, главным образом мужчины, так как женщины, выйдя из-за стола, обычно проводят час-другой в своих комнатах. Петрюс Мартель надзирал за лакеями и командовал: «Кюммелю! Рюмку коньяку! Графинчик анисовой!» – на тех же басистых, раскатистых нотах, которые каждодневно звучали в его голосе часом позднее, когда он выкрикивал указания на репетиции и давал тон примадонне.
Андермат остановился на минутку около столика молодых людей, перекинулся с ними несколькими словами и пошел дальше рядом с главным врачом. Гонтран развалился на стуле, запрокинул голову на спинку, вытянул ноги, скрестил на груди руки и, погрузившись в полное блаженство, смотрел в небо, держа в зубах дымившуюся сигару.
Вдруг он спросил:
– Хочешь, пойдем сейчас прогуляться в долину Сан-Суси? Сестрички тоже пойдут.
Поль замялся было, но, подумав, согласился:
– С удовольствием. – Затем добавил: – А как твои дела?… Успешны?
– Еще как! Поймал, держу крепко! Теперь уж не сорвется.
Гонтран взял своего приятеля в наперсники и день за днем рассказывал ему о своих успехах и завоеваниях. Он даже обратил его в пособника и брал с собой на свидания с Луизой, которые устраивал очень ловко.
После поездки к кратеру Нюжера Христиана прекратила всякие прогулки, почти не выходила из комнаты, и Гонтрану было трудно видеться с Луизой.
Сначала затворничество сестры привело его в замешательство, но он нашел выход из положения.
Воспитанный в нравах Парижа, где мужчины его типа обычно смотрят на женщин, как охотники на дичь, и знают, что такая охота бывает сопряжена с трудностями, он был искушен в хитроумных способах сближаться с приглянувшимися ему дамами. Он мог бы научить любого, как пользоваться для этой цели простодушным посредничеством или же корыстными услугами, и с одного взгляда угадывал, кто из мужчин и женщин пригодится ему для его замыслов.
Лишившись бессознательной помощи Христианы, он для замены ее принялся искать среди окружающих необходимую ему союзницу – «сердобольную натуру», как он выражался, – и очень скоро остановил свой выбор на супруге доктора Онора. Для этого было много оснований. Во-первых, ее муж дружил с Ориолями, так как лечил все семейство лет двадцать; младшие дети родились и выросли на его глазах; каждое воскресенье он обедал у них в доме и сам приглашал их к себе по вторникам. Толстую докторшу, полуобразованную, вульгарную особу с большими претензиями, легко было приманить, пользуясь ее тщеславием, – она, конечно, из кожи будет лезть, чтобы всячески угодить графу де Равенелю, шурину самого владельца Монт-Ориоля.
Вдобавок Гонтран, не раз имевший дело с парижскими своднями, сразу распознал в ней женщину, весьма пригодную для этой роли; как-то раз, встретив ее на улице, он решил: «По виду она настоящая сводня, а значит, и душа у нее такая же».
И вот однажды он проводил доктора до дома и заглянул к ним. Он уселся, принялся болтать, наговорил толстухе всяких любезностей, а когда в отеле зазвонили к обеду, сказал, вставая:
– Как у вас вкусно пахнет! В вашем доме готовят, несомненно, куда лучше, чем в гостинице.
Госпожа Онора, раздувшись от гордости, залепетала:
– Ах, боже мой!.. Если бы я посмела… если бы посмела, граф…
– Что посмели, сударыня?
– Пригласить вас к нашему скромному столу.
– А что ж… я бы не отказался.
Доктор встревоженно бормотал:
– Да у нас ничего нет, совершенно ничего… Суп, говядина, курица – вот и все.
Гонтран хохотал:
– Ну и вполне достаточно! Принимаю приглашение!
И он остался обедать у супругов Онора. Толстая хозяйка, вскакивая со стула, выхватывала блюдо из рук горничной, чтоб та не пролила соус на скатерть, и, к явной досаде мужа, сама прислуживала за столом.
Граф расхвалил ее стряпню, ее уютный домик, ее радушие, и она преисполнилась пылким восхищением.
Он повторил свой гастрономический визит, опять напросился на обед и стал после этого постоянным гостем в доме г-жи Онора, куда то и дело забегали сестры Ориоль по долголетней привычке, по соседству и давней дружбе.
Гонтран проводил в обществе трех дам целые часы, был очень любезен с обеими сестрами, но с каждым днем оказывал все больше предпочтения Луизе.
Ревность, разъединившая сестер, когда Гонтран начал было ухаживать за Шарлоттой, приняла у старшей сестры характер воинственной ненависти, а у младшей – спокойного презрения. В скромных манерах Луизы, в ее недомолвках, в сдержанном обращении с Гонтраном сквозило больше умелого кокетства и заигрывания, чем в беспечной и шаловливой непосредственности младшей сестры. Шарлотта, скрывая из гордости свою сердечную рану, как будто ничего не замечала и с удивительной выдержкой, с полным, казалось бы, равнодушием присутствовала при частых встречах у г-жи Опора. Она не хотела оставаться дома, чтобы не подумали, что она страдает и плачет, что она покорно уступила место старшей сестре.
Гонтран так гордился своей хитростью, что не мог удержаться и все рассказал Полю. А Поль нашел этот маневр забавным и весело расхохотался. К тому же он дал себе слово больше не вмешиваться в интриги своего приятеля, помня его двусмысленные намеки, и не раз думал с тревогой: «Известно ему что-нибудь обо мне и Христиане?»
Прекрасно зная Гонтрана, он считал его вполне способным закрыть глаза на любовную связь сестры. Но почему же он раньше ничем решительно не показывал, что догадывается или знает об этой связи? А все дело было в том, что Гонтран принадлежал к числу тех шалопаев, по мнению которых светской женщине даже полагается иметь одного или нескольких любовников, так как семья, по их глубокому убеждению, не что иное, как общество взаимопомощи в житейских делах, нравственность – покров, накинутый на тайные влечения, вложенные в человека природой, а светские приличия – фасад, за которым следует скрывать приятные пороки. Он толкнул Христиану на брак с Андерматом если не с определенными намерениями, то, во всяком случае, со смутной мыслью, что этот еврей будет поживой для всего семейства, и, пожалуй, презирал бы сестру, если бы она хранила верность мужу, как презирал бы самого себя, если бы не черпал денег из кошелька своего зятя.
Поль думал обо всем этом, и все это смущало его душу, душу современного Дон Кихота, склонного, однако, к сделкам с совестью. Теперь он стал очень осторожным в отношениях со своим загадочным приятелем.
Итак, когда Гонтран рассказал ему, для каких целей он пользуется знакомством с г-жой Онора, Поль расхохотался, а немного погодя согласился сопровождать его и очень охотно болтал с Шарлоттой.
Докторша с величайшей готовностью выполняла роль, для которой ее избрали, принимала гостей весьма радушно и в пять часов, в подражание парижским дамам, угощала их чаем и сдобными булочками собственного приготовления.
В первый же раз, как Поль появился в ее доме, она встретила его, словно старого друга, усадила, чуть не силой отобрала у него шляпу и положила ее на полку камина, рядом с часами. Потом засуетилась, захлопотала, перебегала от одного к другому, огромная, с выпяченным животом, и все спрашивала:
– Не угодно ли закусить?
Гонтран говорил всякие забавные глупости, шутил, смеялся, держал себя весьма непринужденно. Потом он уединился с Луизой в глубокой нише окна, а Шарлотта с волнением смотрела на них.
Госпожа Онора, развлекавшая разговором Поля, сказала ему материнским тоном:
– Милые детки! Они приходят ко мне побеседовать несколько минут. Ведь это вполне невинно, не правда ли, господин Бретиньи?
– О, вполне невинно, сударыня!
Во второе посещение Бретиньи она уже запросто называла его «господин Поль» и держалась с ним запанибрата.
С тех пор Гонтран с обычным своим веселым ехидством сообщал приятелю о всех услугах, которые угодливо оказывала ему эта дама. Накануне он сказал ей:
– Отчего вы никогда не ходите с барышнями Ориоль на прогулку по дороге в Сан-Суси?
– Мы пойдем, граф, непременно пойдем!
– Вот пошли бы, например, завтра в три часа.
– Пойдем завтра в три часа. Обязательно!
– Как вы любезны, многоуважаемая госпожа Онора!
– Всегда рада услужить вам, граф!
И Гонтран объяснил Полю:
– Ты же понимаешь, у нее в гостиной мне неудобно приударить за Луизой как следует, на глазах младшей сестры. А в лесу мы можем уйти с ней вперед или отстать немножко. Ну как, пойдешь?
– С удовольствием.
– Пойдем.
Они поднялись и не спеша пошли по большой дороге, потом за деревней Ла-Рош-Прадьер свернули влево и, продираясь сквозь густые заросли кустов, спустились в лесистую долину. Перебравшись через узенькую речку, они сели на краю тропинки и стали ждать.
Вскоре показались все три дамы, они шли гуськом: Луиза впереди, г-жа Онора замыкала шествие.
Обе стороны выразили удивление: какая неожиданная встреча!
Гонтран воскликнул:
– Какая хорошая мысль пришла вам прогуляться в эту долину!
Докторша ответила:
– Это я придумала!
Дальше отправились уже вместе.
Луиза и Гонтран, постепенно ускоряя шаг, ушли далеко вперед и порой исчезали из виду за поворотами узкой дорожки.
Докторша шумно отдувалась и бормотала, провожая их снисходительным взором:
– Ах, молодость, молодость! Вот быстроногие! Где уж мне за ними угнаться!
Шарлотта воскликнула:
– Погодите, я сейчас их позову!
И она бросилась бежать по дорожке. Докторша окликнула ее:
– Не мешай им, детка! Пусть поболтают на свободе, если им хочется. Зачем расстраивать разговор? Они и сами вернутся.
Обмахиваясь платком, она села на траву в тени большой сосны. Шарлотта бросила на Поля жалобный взгляд, полный мольбы и отчаяния.
Он понял и сказал:
– Ну что ж, мадмуазель Шарлотта, пусть госпожа Онора посидит, отдохнет, а мы с вами догоним вашу сестру.
Она радостно воскликнула:
– Да, да, пойдемте!
Госпожа Онора ничего не имела против этого.
– Идите, детки, идите. Я вас здесь подожду. Только не очень долго гуляйте.
И они отправились. Сначала шли очень быстро, надеясь догнать Луизу и Гонтрана, но через несколько минут, не видя их на дорожке, решили, что они свернули в лес, направо или налево, и Шарлотта негромко позвала их дрожащим голосом. Никто не откликнулся.
Она сказала тихо:
– Господи! Где же они?
Поля снова охватило то чувство глубокой жалости к ней и грустного умиления, которое он уже испытал у кратера Нюжера.
Он не знал, что сказать этой огорченной девочке. Хотелось отечески обнять ее, поцеловать, найти какие-нибудь ласковые, утешительные для нее слова. Но какие? А она тревожно озиралась, вглядывалась в зеленую чащу безумными глазами и, прислушиваясь к малейшему шороху, говорила:
– Наверно, они вон туда пошли… Нет, наверно, сюда… Вы ничего не слышите?…
– Нет, ничего не слышу. Лучше всего нам здесь подождать их.
– Ах, боже мой!.. Нет… Надо их найти…
Он помолчал немного, потом нерешительно спросил:
– Так вам это очень больно?
Она подняла голову, взглянула на него с отчаянием, а глаза ее уже подернулись прозрачной влагой, и на темных длинных ресницах задрожали слезинки. Она хотела что-то сказать и не могла, не решалась, а между тем стесненному сердцу, переполненному горем, долго таившему его, так нужно было открыться.
Поль сказал:
– Значит, вы очень любите его?… Не стоит он вашей любви, право!
Она больше не в силах была сдерживаться и, закрыв лицо руками, чтобы не видны были слезы, заговорила:
– Нет… нет… Я не люблю его… Он так гадко поступил со мной!.. Он играл мною… это очень гадко… это низко… и все-таки мне тяжело… очень тяжело… потому что обидно… очень обидно… А больше всего тяжело из-за сестры… сестра тоже меня не любит теперь… Она еще хуже со мной поступает… Я чувствую, что она теперь не любит меня… совсем не любит… ненавидит… а у меня только она одна и была… теперь у меня никого нет… За что? Что я ей сделала?…
Ему видны были только маленькое ее ухо и полоска гибкой шеи, уходившая под воротник платья из легкой ткани к более округлым линиям девичьего стана. Он был глубоко взволнован жалостью, нежностью, охвачен бурным желанием взять ее под свою защиту, как это всегда с ним бывало, когда женщина затрагивала его душу. И его быстро загоравшаяся душа прониклась восторженным умилением перед этой детской скорбью, такой наивной и полной такого мучительного очарования.
Он протянул руку и безотчетно, не размышляя, как успокаивают плачущего ребенка, обнял ее за плечи. И вдруг рука его ощутила, что ее сердце бьется быстро-быстро, словно у пойманной птички.
Непрестанные торопливые толчки передавались по руке его собственному сердцу, и оно тоже забилось быстрее. Он чувствовал, как стучит ее сердце, и этот быстрый стук отзывался во всем его теле, в мышцах, в нервах, как будто два сердца слились воедино, страдали одним и тем же страданием, трепетали в едином биении и жили одной жизнью, словно часы, соединенные стальною нитью, так что их ход совпадает секунда за секундой.
Вдруг она отвела руки от покрасневшего, но по-прежнему милого личика и, быстро отирая слезы, сказала:
– Ах, зачем это я?! Вот глупая! Не надо было говорить об этом. Пойдемте скорее обратно, к госпоже Онора. А про это забудьте, пожалуйста… Обещаете?
– Обещаю.
Она протянула ему руку.
– Вам-то я верю. Мне кажется, вы очень честный человек!
Они пошли обратно. Он подхватил ее на руки и перенес через ручей, как нес Христиану год тому назад. Сколько раз он приходил сюда с Христианой этой же самой тропинкой в прежние дни, когда боготворил ее! И он подумал, удивляясь перемене в себе: «Как коротка была эта страстная любовь!»
Шарлотта потянула его за рукав и прошептала:
– Госпожа Онора уснула, сядем возле нее тихонько.
Толстуха действительно спала, прислонившись к стволу сосны, прикрыв лицо носовым платком, и мирно похрапывала, сложив руки на животе. Они опустились на траву в нескольких шагах от нее и сидели молча, чтоб не разбудить ее.
И тогда глубокая лесная тишина, царившая вокруг, стала для них тягостной, томительной. Слышалось только, как быстро журчит по камешкам вода, чуть-чуть шуршат в траве насекомые, гудит в воздухе рой мошкары и большие черные жуки шелестят сухими листьями.
Где же Луиза и Гонтран? Что они делают? Вдруг вдалеке зазвучали их голоса: они возвращались. Г-жа Онора проснулась и удивленно посмотрела вокруг.
– Ах, вы уже вернулись? А я и не слышала, как вы подошли!.. А где же остальные? Нашли вы их?
Поль ответил:
– Вот они. Идут.
Донесся смех Гонтрана. И от этого веселого смеха с души Шарлотты как будто свалился камень. Она не могла бы сказать, почему ей стало легче.
Вскоре они показались на дорожке. Гонтран шел быстро, почти бежал и тянул за руку Луизу, красную, как пион. Ему не терпелось рассказать забавное приключение, и он еще издали закричал:
– Послушайте-ка! На кого мы сейчас наткнулись!.. Ни за что не угадаете!.. Застали на месте преступления обольстителя Мадзелли и рыжеволосую красотку-вдовушку, дочку профессора Клоша, знаменитого профессора Клоша, как сказал бы Виль. О, ужас!.. Мадзелли, мошенник этакий, целовал ее, да еще как!.. Как целовал!..
Госпожа Онора с видом оскорбленной добродетели прервала его игривый рассказ:
– Ах, граф!.. Подумайте, что вы говорите… При девушках!..
Гонтран склонился в глубоком поклоне.
– Вы совершенно правы, многоуважаемая госпожа Онора. Благодарю вас, что вы напомнили мне о приличиях. Все ваши побуждения всегда возвышенны.
Затем все двинулись в обратный путь, но, чтоб не возвращаться вместе, молодые люди простились с дамами и пошли лесом.
– Ну как? – спросил Поль.
– Объяснился. Сказал, что обожаю и буду счастлив назвать ее своей супругой.
– А что она сказала?
– Сказала очень мило и пристойно: «Поговорите с моим отцом. Я отвечу через него».
– И что же теперь? – спросил Поль.
– Немедленно уполномочу Андермата передать официальное предложение. А если старый мужлан Ориоль заартачится, скомпрометирую его дочку какой-нибудь выходкой.
Андермат все еще разговаривал с доктором Латоном на террасе казино. Гонтран отвел зятя в сторону и изложил ему положение дел.
Поль пошел по риомской дороге. Ему хотелось побыть одному, разобраться в хаосе взволнованных мыслей и чувств, в том смятении, которое охватывает нас на пороге любви.
Уже давно он бессознательно поддавался пленительному и чистому очарованию этой покинутой девочки. Он угадывал в ней милое, доброе существо, простое, искреннее, прямодушное, и сначала чувствовал к ней жалость, ту теплую, ласковую жалость, которую вызывает в нас женское горе. Но участились встречи, и как-то незаметно в сердце дало ростки зернышко нежности – ведь женщина может заронить его в нас так легко, а ростки его поднимаются так буйно. И теперь, особенно за последний час, он чувствовал, что его заполонило и преследует ощущение ее близости, хотя ее нет с ним, – первый признак любви.
Он шел по дороге, переполненный неотступными воспоминаниями о ее взгляде, о звуке ее голоса, о складочке в уголках губ, расцветающих улыбкой или скорбно опущенных в слезах, о ее походке, даже о цвете и шелесте ее платья.
И он думал: «Кажется, попался! Я знаю себя. Вот досада! Лучше бы мне вернуться в Париж. Ах, черт! Ведь это молоденькая девушка. Не могу же я сделать ее своей любовницей!»
Потом он стал мечтать о ней, как мечтал в прошлом году о Христиане. Да, эта девушка тоже совсем не похожа на женщин, какие встречались на его пути, женщин, родившихся и выросших в городах; не похожа она и на девушек, с детства впитавших в себя кокетство, перенявших его уловки и от матерей и от своих знакомых. В ней не было ничего деланого, никаких ужимок, предназначенных для обольщения, ничего заученного в словах, ничего искусственного в движениях, ничего лживого во взгляде.
И она была не только нетронутым и чистым существом, но происходила из среды почти первобытной, была истой дочерью земли и только еще вступила в период превращения в городскую даму.
Он взвинчивал себя, стараясь подавить смутное сопротивление, минутами поднимавшееся в нем. В памяти его возникали поэтические образы, созданные Вальтером Скоттом, Диккенсом и Жорж Санд, и они еще более воспламеняли его воображение, вечно подстегиваемое женщиной.
Гонтран говорил о нем: «Поль? О, это норовистый конь, который мчит на своем хребте любовь; лишь только сбросит одну, на него вскочит другая».
Бретиньи шел долго; наконец, заметив, что уже темнеет, он повернул обратно.
Проходя мимо нового ванного заведения, он увидел, что неподалеку бродят по виноградникам и обмеряют землю Андермат и оба Ориоля. По их жестам он понял, что у них идет горячий спор.
Час спустя Вильям Андермат вошел в гостиную, где собралась вся семья, и сказал маркизу:
– Дорогой тесть! Довожу до вашего сведения, что ваш сын Гонтран через полтора-два месяца женится на девице Луизе Ориоль.
Маркиз де Равенель был ошеломлен.
– Гонтран?! Что вы говорите!!
– Говорю, что, с вашего согласия, Гонтран через полтора-два месяца женится на девице Ориоль. Она будет очень богата.
Тогда маркиз сказал самым естественным тоном:
– Ах, боже мой, пусть женится, если ему так уж хочется. Я не возражаю…
И банкир рассказал, как он сосватал Гонтрану дочку старика-крестьянина.
Узнав от графа, что девушка готова дать согласие, он решил, не теряя ни минуты, вырвать согласие и у ее отца, чтобы хитрый винодел не успел придумать еще какую-нибудь ловушку.
Банкир побежал к Ориолям и застал старика за подведением счетов: с большим трудом он выводил цифры на засаленном клочке бумаги и складывал их с помощью Великана, который считал по пальцам.
Андермат присел к столу и сказал:
– С удовольствием бы выпил стаканчик вашего винца.
Как только Ориоль-младший принес стаканы и полный жбан красного вина, банкир осведомился, дома ли Луиза, попросил позвать ее и, едва она подошла к нему, поднялся, отвесил глубокий поклон и произнес:
– Мадемуазель Луиза! Надеюсь, вы считаете меня своим другом, которому все можно сказать? Не правда ли? Так вот, я взял на себя очень деликатное поручение, которое касается вас. Мой шурин, граф Рауль-Оливье-Гонтран де Равенель, полюбил вас – выбор его я вполне одобряю, – и он поручил мне спросить у вас в присутствии ваших родных, согласны ли вы стать его женой.
Луиза, захваченная врасплох, вскинула смущенный взгляд на отца; старик Ориоль испуганно смотрел на Великана, всегдашнего своего советчика. Великан на Андермата, а тот снова заговорил с некоторой надменностью:
– Примите во внимание, мадемуазель, что, взяв на себя это поручение, я пообещал моему шурину принести ответ немедленно. Он прекрасно понимает, что, возможно, не имел счастья понравиться вам, а в таком случае он завтра же уедет и больше никогда не вернется в эти края. Я полагаю, вы уже достаточно хорошо его знаете и можете смело сказать мне, ведь я только посредник: «Да, я согласна» или «Нет, я не согласна».
Она склонила голову, вся покраснела, но твердым тоном сказала:
– Да, я согласна.
И, повернувшись, выбежала из комнаты так стремительно, что ударилась о косяк двери.
Андермат снова сел и, без церемоний налив себе стакан вина, сказал:
– Ну а теперь поговорим о делах.
И, как будто даже не допуская возможности малейших колебаний со стороны отца, он заговорил о приданом, опираясь на то, что старик Ориоль сообщил ему три недели тому назад. Состояние Гонтрана он определил в триста тысяч франков плюс будущее наследство и дал понять, что если такой жених, как граф де Равенель, просит руки девицы Ориоль, особы, впрочем, очаровательной, то уж семья ее, бесспорно, должна в знак признательности за такую честь пойти на некоторые материальные жертвы.
Крестьянин, расстроенный, но польщенный, почти обезоруженный, все же попытался защитить свое добро. Торг шел очень долго. Впрочем, Андермат с самого начала сделал заявление, облегчавшее сделку:
– Мы не требуем денег ни наличными, ни в ценных бумагах, а только землю – те самые участки, которые вы, как уже было сказано вами, предназначили в приданое мадмуазель Луизе, и еще кое-какие, на которые я укажу.
Возможность не выкладывать из мошны денег, драгоценных денег, накопленных за долгие годы, входивших в дом франк за франком, су за су, не отдавать серебряных или золотых кружочков, стершихся в руках, в кошельках, в карманах, на трактирных столах, в глубоких ящиках старых шкафов, не отдавать этой звонкой летописи стольких забот, огорчений, усталости, трудов; монеток, таких милых сердцу, глазам и мужицким пальцам; денег, которые дороже, чем корова, чем виноградник, поле, дом, которыми иной раз труднее пожертвовать, чем собственной своей жизнью, – возможность не расставаться с ними, расставаясь с родной дочерью, сразу внесла в душу Ориоля, как и его сына, великое успокоение, наполнила примирительными чувствами и тайной, сдерживаемой радостью.
Однако оба они упорно торговались, чтобы выгадать несколько клочков земли. На столе разложили подробный межевой план холма Монт-Ориоль и крестиками отметили участки, назначавшиеся в приданое Луизе. Андермату понадобился целый час, чтобы отбить последние два квадратика. Затем, во избежание всяких подвохов с той и с другой стороны, отправились на место, захватив с собою план. Тщательно проверили в натуре все участки, отмеченные крестиками, и еще раз их переметили.
Андермат все же тревожился, подозревая, что Ориоли вполне способны при следующем свидании отречься от сделанных уступок и отхватить в свою пользу полоски виноградников, необходимые ему для его замыслов, и он старался придумать какое-нибудь практическое и надежное средство, чтобы закрепить достигнутое соглашение.
И вдруг банкиру пришла мысль, сначала показавшаяся ему забавной, а затем, при всей ее смехотворности, превосходной.
– Если желаете, – сказал он, – мы все это запишем, чтоб потом чего-нибудь не забыть.
На обратном пути, проходя через село, он купил в табачной лавке два листа гербовой бумаги. Он знал, что опись земель, составленная на гербовой бумаге, примет в глазах обоих крестьян характер чего-то незыблемого, потому что гербовые листы представляют закон – вездесущий, невидимый, но грозный закон, охраняемый стражниками, штрафами и тюрьмой.
И вот он на одном листе написал, а на другом переписал в копии следующее обязательство:
«Ввиду обещания вступить в брак, коим обменялись между собою граф Гонтран де Равенель и девица Луиза Ориоль, г-н Ориоль, отец невесты, дает за нею в приданое нижеследующие владения…»
И он подробно обозначил все участки, указав их номер в реестре поземельной переписи анвальской коммуны.
Потом, поставив дату и подписавшись, он заставил подписаться и старика Ориоля, который, в свою очередь, потребовал, чтобы в обязательство вписано было и состояние жениха; и, наконец, Андермат отправился к себе в отель с этой бумагой в кармане.
Все смеялись, слушая его рассказ; Гонтран хохотал веселее всех.
Потом маркиз сказал сыну с большим достоинством:
– Вечером мы с тобой нанесем визит этому семейству, и я сам повторю предложение, сделанное предварительно моим зятем. Чтоб все было, как полагается.
ГЛАВА V
Гонтран оказался примерным женихом, любезным и внимательным. Он сделал всем подарки (на деньги Андермата) и поминутно бегал повидаться с невестой то у нее в доме, то у г-жи Онора. Почти всегда его теперь сопровождал Поль, чтобы встретиться с Шарлоттой, хотя после каждой встречи давал себе слово больше не видеться с ней.
Шарлотта мужественно примирилась с предстоящим браком сестры, говорила о нем просто, непринужденно и, казалось, не затаила в душе никакой обиды. Только характер у нее как будто немного изменился: она стала более сдержанной, не такой непосредственной, как прежде. Пока Гонтран вполголоса вел в уголке нежные разговоры с Луизой, Поль беседовал с Шарлоттой спокойно и серьезно, постепенно погружаясь в эту новую любовь, поднимавшуюся в его сердце, как морской прилив. Он это понимал, но не боролся с ней, успокаивая себя мыслью: «Пустяки, в критическую минуту спасусь бегством, вот и все» А расставшись с Шарлоттой, он шел к Христиане, которая теперь целые дни лежала на кушетке. Уже у дверей в нем накипало нервное раздражение, появлялась воинственная готовность к мелким ссорам, порождавшимся усталостью и скукой. Его заранее сердило все, что она говорила, все, что она думала; ее страдальческий вид, ее покорное смирение, ее молящий и укоризненный взгляд вызывали в нем только злобу, и лишь как человек воспитанный, он сдерживал желание наговорить ей обидных слов; близ Христианы его не оставляла мысль о другой; перед глазами всегда стоял образ девушки, с которой он только что расстался.
Христиана мучилась оттого, что теперь почти не видела его, и донимала его расспросами, что он делал, где был; в ответ он сочинял всякие басни, а она внимательно слушала, пытаясь угадать, не влечет ли его к какой-нибудь другой женщине. Она чувствовала свое бессилие, знала, что не может удержать его, не может вызвать в нем хоть каплю той любви, которой терзалась сама, понимала, что она физически бессильна пленить его, вновь завоевать его хотя бы страстью, ласками, если уж не может вернуть его нежность, и страшилась всего, не зная еще, где таится опасность.
Но она уже ощущала, что какая-то страшная, неведомая беда нависла над ней, и ревновала его беспочвенной ревностью ко всему и ко всем, даже к женщинам, случайно проходившим мимо ее окна, – все они казались ей очаровательными и опасными, хотя она и не знала, говорил ли с ними хоть раз Поль Бретиньи.
– Вы заметили очень хорошенькую, довольно высокую брюнетку? Проходила мимо моего окна. Я ее раньше не видела, должно быть, она только на днях приехала.
А когда он отвечал: «Нет, не заметил», – она подозревала, что он лжет, и, бледнея, говорила:
– Ну как это возможно! Как вы могли ее не заметить? Такая хорошенькая, ну просто красавица!
Он удивлялся ее настойчивости.
– Уверяю вас, что я ее ни разу не встречал. Постараюсь встретить.
И Христиана думала: «Это она, наверно, она». А иногда ей приходило в голову, что у него есть тайная связь, что он вызвал сюда какую-нибудь любовницу, может быть, свою актрису. И она начинала выпытывать у отца, у брата, у мужа, какие появились в Анвале молодые и привлекательные женщины.
Если бы ей хоть можно было ходить, самой посмотреть, последить за ним, она бы немного успокоилась, но почти полная неподвижность, которую ей предписали, делала ее мучение нестерпимой пыткой. И когда она говорила с Полем, уже в самом звуке ее голоса сквозило страдание, и это только раздражало охладевшего к ней любовника.
Спокойно он мог говорить с ней только об одном – о близкой женитьбе Гонтрана, потому что тогда он мог произносить имя Шарлотты и вслух думать о ней. И ему даже доставляло какое-то смутное, загадочное, необъяснимое удовольствие слышать, как Христиана произносит ее имя, расхваливает миловидность и душевные качества этой девушки, жалеет ее, бранит брата за то, что он пренебрег ею, и выражает пожелание, чтоб нашелся хороший человек, который оценил бы ее, полюбил и женился на ней.
Он подтверждал:
– Да, да. Гонтран сделал ужасную глупость. Такая чудесная девушка!
И Христиана без малейшего подозрения повторяла за ним:
– Действительно чудесная! Просто сокровище, само совершенство!
Ни на одно мгновение не возникала у нее мысль, что такой человек, как Поль, может полюбить такую девушку и жениться на ней. Она боялась только его любовниц.
И такова удивительная особенность мужского сердца: похвалы Шарлотте в устах Христианы приобретали для Поля какую-то особую значимость, воспламеняли его любовь и влечение к этой девушке, придавали ей неотразимую прелесть.
Но вот однажды, когда Поль с Гонтраном пришли к г-же Онора, чтобы встретиться там с сестрами Ориоль, они застали в гостиной доктора Мадзелли, расположившегося, как у себя дома.
Мадзелли протянул им обе руки, просияв чисто итальянской улыбкой, от которой казалось, что в каждое слово, в каждый жест он вкладывает все свое сердце.
С Гонтраном его связывали фамильярные и поверхностные приятельские отношения, основанные скорее на сродстве натур, на скрытом сходстве наклонностей, на своего рода сообщничестве, чем на истинной дружеской симпатии и доверии.
Граф спросил:
– Ну как ваша прелестная блондинка, с которой вы прогуливались в роще Сан-Суси?
Итальянец улыбнулся:
– О! Мы охладели друг к другу! Она из тех женщин, которые только манят и ничего не дарят.
И они принялись болтать. Красавец врач расточал любезности обеим девушкам, но особенно Шарлотте. Когда он говорил с женщинами, то непрестанно выражал голосом, жестами, взглядом преклонение перед ними. Вся его фигура, каждая поза как будто говорили: «Обожаю вас», и так красноречиво, что он неизменно покорял сердца.
У него была грация актрисы, порхающая походка балерины, гибкие движения фокусника, врожденный дар и выработанные тонкие приемы обольщения, которыми он пользовался непрестанно.
Возвращаясь с Гонтраном в отель, Поль угрюмо ворчал:
– Зачем втерся сюда этот шарлатан!
Граф ответил равнодушно:
– Разве узнаешь, что на уме у таких авантюристов? Эти молодцы всюду пролезут. А нашему красавцу, должно быть, надоели и бродячая жизнь, и капризы его испанки, при которой он состоит скорее в роли лакея, чем домашнего врача, а может быть, и в какой-нибудь другой роли. Он ищет. Думал, верно, поймать дочку профессора Клоша, да промахнулся, судя по его словам. Младшая девица Ориоль для него была бы добычей не менее ценной. Вот он и пробует нащупать почву, вынюхивает, закидывает удочку. Чем плохо? Он стал бы совладельцем курорта, постарался бы спихнуть этого дурака Латона и уж, во всяком случае, каждое лето приобретал бы себе здесь выгодных пациентов на зиму… Ей-богу, к этому он и гнет!.. Можно не сомневаться.
В сердце Поля Бретиньи зашевелился глухой гнев, ревнивая враждебность.
Чей-то голос крикнул:
– Эй, погодите!
Их догонял Мадзелли.
Бретиньи спросил с злобной иронией:
– Куда вы так быстро бежите, доктор? Гонитесь за фортуной?
Итальянец улыбнулся и, не останавливаясь, только повернувшись к ним лицом, сделал несколько прыжков, грациозным жестом арлекина засунул руки в карманы, вывернул их, вытянул двумя пальцами, чтобы показать, что в них пусто, и крикнул, смеясь:
– Увы! Еще не поймал ее!
И, сделав изящный пируэт, помчался дальше, как будто ему было очень некогда.
После этого приятели еще несколько раз встречали его в доме доктора Онора; он сумел угодить всем трем дамам и оказывал им множество мелких приятных услуг, проявляя ту же ловкость и изобретательность, которыми, вероятно, угождал и герцогине. Он все умел делать в совершенстве – и говорить комплименты, и готовить макароны, да и не только макароны: он вообще был прекрасный повар и, повязав в защиту от пятен синий фартук кухарки, смастерив себе из бумаги поварской колпак, охотно занимался стряпней, распевая на итальянском языке неаполитанские песенки, все делал изящно, ни в чем не был смешным, всех забавлял и пленял, вплоть до придурковатой служанки, которая говорила про него:
– Ну чисто ангелок!
Вскоре его замыслы стали совершенно явными, и Поль уже не сомневался, что красавец Мадзелли старается влюбить в себя Шарлотту.
И казалось, это ему удается. Он так ловко умел польстить, был так услужлив, обладал таким искусством нравиться, что, когда он появлялся, у девушки лицо озарялось улыбкой удовольствия.
А Поль, не давая себе в этом отчета, занял позицию влюбленного соперника. Как только Мадзелли начинал увиваться около Шарлотты, Поль подходил к ней и совсем по-иному, прямее и откровеннее, старался завоевать ее расположения. Он выказывал ей грубоватую братскую нежность, преданность, говорил ей: «Право, я очень вас люблю», – но так открыто, с такой простотой и искренностью, что никто не мог бы счесть это признанием в любви.
Удивившись неожиданному соперничеству, Мадзелли пустил в ход все свое умение, и когда Бретиньи, уязвленный ревностью, той инстинктивной ревностью, которая жалит мужчину, даже если он еще не любит женщину, а она ему только нравится, когда Бретиньи по своей природной пылкости нападал, становился резким и надменным, противник, более изворотливый и никогда не терявший самообладания, отвечал ему остротами, колкостями и хитрыми, насмешливыми любезностями.
Борьба возобновлялась каждый день, соперники вели ее с ожесточенным упорством, хотя ни у того, ни у другого, может быть, и не было вполне определенной цели. Ни тот, ни другой не желал отступать, как два пса, ухвативших одну и ту же добычу.
К Шарлотте вернулась прежняя ее веселость, но теперь в ней сквозило какое-то новое, более проницательное лукавство, появилось что-то необъяснимое, затаенное в улыбке и во взгляде. Казалось, измена Гонтрана многому ее научила, подготовила к возможности других разочарований, сделала ее более гибкой, вооружила опытом. Она непринужденно лавировала между двумя воздыхателями, каждому говорила то, что следовало сказать, чтобы не вызвать столкновения между ними, никогда не оказывала одному предпочтения перед другим, с каждым в отдельности подтрунивала над его соперником, предоставляла обоим вести борьбу на равных условиях, но как будто ни того, ни другого даже и не принимала всерьез. И во всем этом совсем не было кокетства, а только шаловливый, мальчишеский задор, который иногда придает молоденьким девушкам необыкновенное очарование.
Но вот Мадзелли как будто добился предпочтения. Казалось, между ним и Шарлоттой установилась какая-то близость, какое-то тайное согласие. Разговаривая с нею, он играл ее зонтиком или концом широкой ленты, перехватывавшей ее талию, а Поль, видя в этом своего рода моральное обладание, приходил в ярость и готов был дать итальянцу пощечину.
Однажды, когда все они собрались в доме Ориолей и Бретиньи разговаривал с Луизой и Гонтраном, искоса поглядывая на Мадзелли, который вполголоса рассказывал Шарлотте что-то вызывавшее у нее улыбку, он вдруг заметил, что она вся вспыхнула и страшно смутилась; сомнения не было: соперник объяснился в любви. Она потупила глаза, перестала улыбаться, но слушала, слушала внимательно, и тогда Поль, чувствуя, что не в силах сдержать себя, сказал Гонтрану:
– Послушай, дорогой! Выйдем на минуту, прошу тебя.
Граф извинился перед невестой и последовал за своим другом.
Как только они вышли на улицу, Поль взволнованно сказал:
– Милый мой, надо во что бы то ни стало помешать этому итальянцу соблазнить бедную девочку. Она совсем беззащитна перед таким мерзавцем.
– А что, по-твоему, я должен сделать?
– Предупреди ее, что он авантюрист.
– Э, милый мой, это меня не касается.
– Как! Она ведь будет твоей родственницей!
– Да, да, конечно. Но какие у нас основания думать, что у Мадзелли преступные виды на нее? Он совершенно так же любезничает со всеми женщинами и еще никогда не сделал и не сказал ничего неприличного.
– Хорошо! Если ты не желаешь взять эту обязанность на себя, я сам разделаюсь с ним, хотя меня это, несомненно, касается гораздо меньше, чем тебя.
– Ты что ж, влюблен в Шарлотту?
– Я?… Нет… Но я прекрасно вижу, что за игру ведет этот негодяй.
– Знаешь, дорогой, ты собираешься вмешаться в очень деликатное дело… и если только ты не влюблен в Шарлотту, то…
– Да не влюблен я… Но прохвостов надо гнать…
– И что ж ты намерен сделать?
– Дать мерзавцу пощечину…
– Вот умно! Лучшее средство, чтобы она влюбилась в него. Вам придется драться, и ты ли будешь ранен или Мадзелли – все равно в ее глазах он станет героем.
– А что, например, сделал бы ты?
– На твоем месте?
– Да, на моем.
– Я поговорил бы с девчуркой как друг. Она очень тебе доверяет. Так вот, я бы ей без обиняков рассказал, что собой представляют эти проходимцы. У тебя такое обличение здорово получилось бы. Ты умеешь говорить с жаром. И я бы дал ей понять: во-первых, почему он прилип к испанке, во-вторых, почему он повел атаку на дочку профессора Клоша, в-третьих, почему он, потерпев поражение, обхаживает теперь девицу Шарлотту Ориоль.
– Но отчего ж ты сам не хочешь это сделать? Подумай, ты ведь скоро будешь ее близким родственником.
– Да видишь ли… видишь ли… После того, что было между нами… Мне неудобно… Понимаешь?
– Верно, тебе неудобно. Я сам с ней поговорю.
– Хочешь, я сейчас же устрою тебе разговор с ней наедине?
– Ну, разумеется, хочу.
– Прекрасно. Пойди погуляй минут десять, а я тем временем уведу Луизу и Мадзелли, и, когда ты вернешься, Шарлотта будет одна.
Поль Бретиньи пошел в сторону Анвальского ущелья, обдумывая, как начать этот щекотливый разговор.
Он действительно застал Шарлотту одну в холодной гостиной отцовского дома, выбеленной известкой, и, сев около нее, сказал:
– Это я, мадмуазель, попросил Гонтрана устроить мне встречу с вами наедине.
Она посмотрела на него своим ясным взглядом.
– А для чего?
– О, конечно, не для того, чтобы угощать вас пошлыми любезностями на итальянский лад, а чтобы поговорить с вами как искренний, преданный друг, дать вам совет.
– Говорите.
Он начал издалека, сослался на свой жизненный опыт, указал на ее неопытность, а затем в осторожных, но ясных словах рассказал ей об авантюристах, которые повсюду ищут себе поживы, с профессиональной ловкостью обирают добрых и простодушных людей, и мужчин и женщин, завладевают их кошельками и сердцами.
Шарлотта немного побледнела и слушала его настороженно и внимательно.
– Я и понимаю, и не совсем понимаю. Вы, должно быть, имеете в виду какого-то определенного человека. Кого именно?
– Доктора Мадзелли.
Она потупилась и, помолчав немного, сказала тихим, неуверенным голосом:
– Вы так со мной откровенны, что и я должна отплатить вам тем же… Я вам признаюсь, что со времени… со времени помолвки моей сестры я уж не такая глупая, как раньше… поумнела немножко! Ну, так вот… Я и сама догадывалась о том, что вы мне сейчас сказали, и посмеивалась втихомолку… Я видела, к чему он клонит.
Она подняла голову, и в улыбке, озарившей ее личико, в хитром взгляде и во вздернутом носике, во влажном блеске зубов, сверкнувших между приоткрытыми губами, было столько свежей, юной прелести, веселого задора, милой шаловливости, что Бретиньи охватил бурный порыв такого же страстного влечения, который бросил его год тому назад к ногам покинутой им теперь женщины. А сердце его было полно ликующей радости: значит, она вовсе не оказала предпочтения Мадзелли. Победа досталась ему!
Он спросил:
– Так вы его не любите?
– Кого? Мадзелли?
– Да.
Она ничего не ответила, только посмотрела на него таким грустным взглядом, что у него вся душа перевернулась, и он с мольбой спросил:
– И никого… никого не любите?
Она потупилась:
– Не знаю… Люблю тех, кто меня любит.
Он схватил обе ее руки и принялся целовать то одну, то другую в каком-то исступлении, в том сладком безумии, когда в голове человека туман и слова, срывающиеся с уст, подсказывает ему не разум, куда-то вдруг исчезнувший, а взбудораженные чувства. И между поцелуями он лепетал:
– Шарлотта… маленькая моя!.. Так ведь это я… я люблю вас!
Она вырвала одну руку и, закрывая ему рот, испуганно зашептала:
– Молчите… Не надо… Молчите… Прошу вас. Мне будет так больно, если и это ложь.
Она встала, встал и он и, сжав ее в объятиях, крепко поцеловал в губы.
Внезапно раздался какой-то шум, они отпрянули друг от друга, – в комнату вошел старик Ориоль и с ужасом уставился на них. Вдруг он закричал:
– Ах, пррроклятый!.. пррроклятый!.. Черррт пррроклятый!
Шарлотта убежала. Мужчины остались одни, лицом к лицу. Прошло несколько секунд тяжелого молчания, потом Поль попытался объясниться:
– Ах, боже мой… Я, конечно, виноват… Я повел себя, как…
Но старик его не слушал. Распалившись гневом, он двинулся на Поля и, сжимая кулаки, рычал:
– Ах, пррроклятый!.. Черррт, прроклятый!..
И, подойдя к Полю вплотную, схватил его за шиворот жилистыми мужицкими руками. Но Поль, такой же рослый и превосходивший овернца силой и ловкостью спортсмена, отбросил его плечом и, прижав к стене, сказал:
– Послушайте, дядюшка Ориоль. Не стоит нам драться. Лучше давайте договоримся. Ну, я поцеловал вашу дочь. Это правда… Даю честное слово, в первый раз поцеловал… И даю честное слово, что хочу на ней жениться.
Жажда физической расправы стихла в старике от увесистого толчка противника, но гнев его не остыл, и он, заикаясь, бормотал:
– Ага, вот оно как! Приманил девку, да еще деньги ему подавай. Жулик пррроклятый!..
И все, что накипело у него на сердце, вырвалось в потоке многословных горьких жалоб. Он не мог утешиться, что обещал дать за старшей дочерью виноградники, что они попадут в руки парижан. Он уже догадывался теперь, что Гонтран нищий, что Андермат надул его, и, забывая о нежданном богатстве, которое принес ему банкир, изливал теперь свою желчь и затаенную ненависть к этим злодеям, из-за которых он теперь все ночи глаз не смыкает.
Можно было подумать, что Андермат со всей своей родней, со всеми друзьями-приятелями каждую ночь приходят грабить его, крадут его виноградники, его минеральные источники, его дочерей.
Он бросал в лицо Поля Бретиньи злобные упреки, обвинял этого парижанина в коварных намерениях завладеть его добром, обзывал его мошенником, кричал, что он хочет жениться на Шарлотте только затем, чтобы заполучить ее землю.
Бретиньи, потеряв наконец терпение, закричал:
– Ах ты, старый осел! Да я богаче тебя. Я еще тебе самому могу дать денег!..
Старик умолк, выслушав это недоверчиво, но внимательно, потом опять, но уже не с прежней яростью, принялся обвинять и жаловаться.
Поль теперь возражал ему, объяснял, доказывал и, считая себя связанным нежданным происшествием, в котором он один был виноват, заявлял, что женится на Шарлотте без всякого приданого.
Старик Ориоль мотал головой, притворялся глухим, переспрашивал, не верил, ничего не мог понять. Он все еще считал Поля нищим проходимцем.
Бретиньи в отчаянии закричал во весь голос:
– Да ведь у меня доходу больше ста двадцати тысяч франков в год, старый болван! Слышишь ты?… У меня капиталу три миллиона!
Старик вдруг спросил:
– А бумагу выправите? Напишете, сколько у вас?
– Напишу.
– И подпишетесь?
– Подпишусь.
– На гербовой бумаге?
– На гербовой!
Тогда дядюшка Ориоль вылез из угла, отпер шкаф, извлек оттуда два листа гербовой бумаги, вытащил обязательство, которое Андермат потребовал от него несколько дней назад, и по этому образцу сам составил диковинное брачное обещание с гарантированной женихом наличностью в три миллиона франков и заставил Бретиньи подписаться под ним.
Когда Поль вышел на улицу, ему показалось, что вся земля перевернулась. Итак, он жених, помимо своей воли, помимо ее воли, просто случайно, только оттого, что коварное стечение обстоятельств не оставило ему иного выхода.
Он пробормотал:
– Вот безумие!
А затем подумал: «Да нет! Лучше Шарлотты мне, пожалуй, во всем мире не найти». И в глубине души порадовался ловушке, которую поставила ему судьба.
ГЛАВА VI
На следующий день с самого утра на Андермата посыпались несчастья. Придя в ванное заведение, он узнал, что ночью в «Сплендид-отеле» умер от апоплексического удара Обри-Пастер. Помимо того, что инженер приносил большую пользу своими знаниями, бескорыстным рвением и любовью к Монт-Ориолю, который он считал почти своим детищем, было очень неприятно, что больной, приехав на воды лечиться от полнокровия, грозившего апоплексией, умер именно от удара в середине курса лечения, да еще в разгар сезона и на заре нарождающейся славы курорта.
Банкир нервно ходил по кабинету отсутствующего главного врача и старался измыслить иную причину этой злополучной смерти – какой-нибудь несчастный случай, падение с горы, неосторожность или хотя бы разрыв сердца. Он с нетерпением поджидал доктора Латона, чтобы научить его, как поумнее составить медицинский акт, не вызывая ни малейших подозрений об истинной причине смерти.
Латон влетел в кабинет бледный, взбудораженный и, едва переступив порог, спросил:
– Слышали печальную новость?
– Слышал. Умер Обри-Пастер.
– Да нет, не то! Доктор Мадзелли бежал с дочерью профессора Клоша!
У Андермата мурашки побежали по спине.
– Что?… Что вы говорите!..
– Ах, дорогой директор, какое несчастье! Какое ужасное несчастье! Просто катастрофа!..
Он сел и, вытирая мокрый лоб, принялся рассказывать подробности события, которые узнал от Петрюса Мартеля, а тот выведал их от профессорского камердинера.
Мадзелли усиленно волочился за рыжеволосой красоткой-вдовой, отчаянной кокеткой, недавно похоронившей мужа, который умер от чахотки, – говорят, в результате слишком нежного супружества. Однако г-н Клош догадался о планах итальянца и, не желая иметь зятем этого авантюриста, весьма решительно выгнал его, застав его однажды на коленях перед своей дочерью.
Господина Мадзелли выставили за дверь, а он пролез в окно по шелковой лестнице влюбленных. О том, как это случилось, ходили разные слухи. По одной версии, он влюбил в себя профессорскую дочь до безумия, возбудив в ней ревность, а по другой – втайне продолжал с нею встречаться, хотя для отвода глаз оказывал внимание другой женщине; но, узнав от любовницы, что профессор неумолим, увез ее нынче ночью, и теперь уж, после такого скандала, брак неизбежен.
Доктор Латон вскочил, прислонился к камину и, глядя на ошеломленного Андермата, шагавшего по комнате, воскликнул:
– Подумайте только! Ведь он врач, член медицинской корпорации!.. Какая распущенность!..
Удрученный Андермат взвешивал последствия события, распределял их по рубрикам, как будто подводил итог убытков:
1. Весьма неприятные слухи. Распространятся по соседним курортам, дойдут и до Парижа. Впрочем, если взяться за дело с умом, романтическое похищение может даже послужить рекламой. Тиснуть десятка полтора хлестких хроникерских заметок в газетах с большим тиражом – и к Монт-Ориолю будет привлечено внимание широкой публики.
2. Отъезд профессора Клоша – огромный убыток.
3. Отъезд герцога и герцогини де Рамас-Альдаварра – второй неизбежный и совершенно невозместимый убыток.
В итоге катастрофа. Доктор Латон прав.
И, повернувшись к Латону, банкир заторопил его:
– Идите сейчас же в «Сплендид-отель». Надо составить акт о смерти Обри-Пастера. Поосторожнее составьте, чтоб и намека не было на апоплексию.
Латон взялся за шляпу и уже у дверей сказал:
– Ах да, еще одна новость! Говорят, ваш друг Бретиньи женится на Шарлотте Ориоль. Правда это?
Андермат даже вздрогнул от удивления.
– Бретиньи?! Полноте!.. Кто это вам сказал?
– Да все тот же Петрюс Мартель, а он узнал от самого дядюшки Ориоля.
– От Ориоля?
– Да, да. Старик хвастался, что у его будущего зятя трехмиллионное состояние.
Андермат не знал, что и думать. Он пробормотал:
– А впрочем, что ж… Возможно… За последнее время он явно ухаживал за ней. Но в таком случае… Послушайте… ведь в таком случае весь холм в наших руках. Ого! Надо мне поскорее самому разузнать.
И он торопливо вышел вслед за доктором, чтобы поговорить до завтрака с Полем Бретиньи.
Как только Андермат вошел в гостиницу, ему сообщили, что жена уже несколько раз спрашивала его. Он застал Христиану еще в постели; она разговаривала с отцом и братом, который рассеянно пробегал газеты.
Она чувствовала себя плохо, очень плохо и тревожно. Она чего-то боялась, сама не зная чего. И потом уже несколько дней ее преследовало, не давало ей покоя одно желание, прихоть беременной женщины. Ей хотелось посоветоваться с доктором Блеком. Окружающие так часто вышучивали доктора Латона, что она потеряла к нему всякое доверие и хотела услышать мнение другого врача, мнение доктора Блека, который все больше входил в славу. А ее с утра до вечера мучили черные мысли, обычные у женщин к концу беременности. Прошлой ночью ей приснился страшный сон, и она вообразила, что у ребенка неправильное положение, что она сама не разрешится и надо будет прибегнуть к кесареву сечению. И она все думала об этом, мысленно представляя себе, как ей будут делать операцию. Ей рисовалось, как она лежит на спине, живот у нее разрезан, кровать вся залита кровью и из комнаты уносят что-то красное, недвижимое, немое – мертвое. Она даже нарочно закрывала глаза, чтоб сосредоточиться и яснее вообразить себе ужасную, мучительную пытку. И вот она решила, что один только доктор Блек скажет ей правду, и стала требовать, чтобы его позвали сейчас же, немедленно, сию же минуту: пусть он ее осмотрит.
Андермат рассеянно слушал, не зная, что ответить.
– Видишь ли, милая детка… Это очень сложно, из-за моих отношений с Латоном… вернее… просто невозможно. Погоди, погоди, я придумал другое. Я лучше приглашу профессора Ма-Русселя, он во сто раз больше знает, чем Блек. Он не откажется и придет к тебе, если я попрошу.
Но Христиана ничего не хотела слышать. Блек, только Блек, другого ей никого не надо! Она чувствовала непреодолимую потребность увидеть его вот тут, подле себя, увидеть его большую бульдожью голову. В этом упорном желании было что-то болезненное и суеверное. Ей нужен был Блек, только он.
Банкир попытался отвлечь ее от этой мысли.
– А знаешь, какая у нас новость? Интриган Мадзелли нынче ночью увез дочку профессора Клоша. Удрали вдвоем. Куда – неизвестно. Вот история!
Христиана приподнялась на подушках; глаза у нее расширились от горестного удивления, и она воскликнула:
– А что будет с герцогиней?… Бедная! Как мне ее жаль!
Она уже давно понимала сердцем муки этой страстной, уязвленной души! Ведь она сама испытывала те же страдания и плакала теми же слезами.
Но она тотчас вернулась к своей мысли:
– Виль, пожалуйста, прошу тебя, сходи за Блеком. Если он не придет, я умру. У меня предчувствие!
Андермат схватил ее руку и поцеловал с нежностью.
– Ну что ты, Христиана! Успокойся, дорогая. Будь умницей… пойми…
Увидев, что у нее глаза полны слез, он повернулся к маркизу:
– Знаете что, дорогой тесть, придется вам самому позвать его. Я не могу: мне неудобно. Блек пользует принцессу Мальдебургскую и ежедневно приходит в отель в первом часу. Остановите его в вестибюле и приведите сюда. Христиана! Ты ведь можешь подождать часок, правда?
Она согласилась подождать час, но отказалась встать с постели к завтраку, и мужчины одни вышли в столовую.
Поль Бретиньи уже ждал их. Завидя его, Андермат крикнул:
– Ага, вот и он! Послушайте, что это мне сегодня рассказывали? Вы будто бы женитесь на Шарлотте Ориоль? Выдумки, конечно, да?
Бретиньи тревожно взглянул на запертую дверь спальни и ответил вполголоса:
– Боже мой, почему выдумки? Женюсь.
Никто из его друзей еще не знал этого, и все трое изумленно смотрели на него.
– Что это вам взбрело в голову? – воскликнул Андермат. – Зачем? При вашем-то состоянии! Привязать себя женитьбой к одной женщине, когда они все в вашем распоряжении! Да и семейство-то незавидное, манеры там далеко не светские. Для Гонтрана это еще куда ни шло, ведь у него нет ни гроша в кармане!
Бретиньи рассмеялся:
– Мой отец разбогател, торгуя мукой, – у него были большие мельницы. И вы, безусловно, нашли бы, что у него тоже не светские манеры. А что касается Шарлотты…
Андермат перебил его:
– О, она-то прелестна!.. Очаровательна!.. Прелесть как мила… и, знаете, она будет богата… пожалуй, богаче вас. Ручаюсь в том… ручаюсь!..
Гонтран процедил сквозь зубы:
– Да, женитьба – удобный выход… Ничему не мешает и прикрывает отступление. Только напрасно ты нас не предупредил. Как же это дело сделалось, черт побери?
Тогда Поль Бретиньи рассказал историю своего сватовства, несколько изменив ее. Сгущая краски, он говорил о своих колебаниях, о решении, возникшем мгновенно, когда девушка обронила слово, которое позволило ему думать, что она любит его. Особенно красочно он описал неожиданное появление дядюшки Ориоля, свою ссору с ним, сомнения жадного крестьянина, не поверившего в капиталы жениха, и рассказал про гербовую бумагу, извлеченную из шкафа.
Андермат хохотал до слез, от восторга стучал кулаком по столу.
– Ха-ха-ха! Гербовая бумага! К моему приему прибегнул! Ведь это мое изобретение.
Поль слегка покраснел и, запинаясь, сказал:
– Прошу вас пока ничего не говорить вашей жене. Мы с ней друзья, она может обидеться, если не я сам сообщу ей эту новость…
Гонтран смотрел на своего приятеля с какой-то странной и веселой улыбкой, казалось, говорившей: «Отлично! Право, отлично. Вот как надо кончать: без шуму, без скандалов, без драм».
Он предложил:
– Если хочешь, дружище, мы пойдем к ней вместе после завтрака, когда она встанет, и ты ей сообщишь о своем решении.
Они посмотрели друг другу в глаза пристальным, непроницаемым взглядом и тотчас отвернулись.
Поль ответил равнодушным тоном:
– Хорошо, с удовольствием. Мы еще поговорим об этом.
Вошел коридорный доложить, что доктор Блек уже поднимается к принцессе, и маркиз поспешно вышел из комнаты, чтобы перехватить его по дороге.
Он сообщил доктору о состоянии своей дочери, разъяснив затруднительное положение зятя, сказал о желании Христианы, и Блек без всяких отговорок пошел к ней.
Как только большеголовый карлик переступил порог спальни, Христиана сказала:
– Папа, оставь нас.
Маркиз удалился. Тогда Христиана перечислила все, чего она боялась, рассказала о своих страшных снах, мучительных мыслях. Она говорила тихим, кротким голосом, как на исповеди, а доктор слушал ее, точно духовник; иногда он окидывал ее пристальным взглядом своих круглых рачьих глаз, легкими кивками показывая, что слушает внимательно, бормотал: «Так, так», – будто хотел сказать: «Да знаю я все это, знаю прекрасно и без труда вылечу вас, если захочу».
Когда она кончила, он, в свою очередь, чрезвычайно подробно стал расспрашивать о ее образе жизни, о привычках, о режиме, который ей предписан, о лекарствах. Выслушивая ответы, он, казалось, то одобрял, помахивая рукой, то протяжно восклицал: «О-о!» – с какой-то сдержанной укоризной. Когда она решилась наконец сказать, как ей страшно, что у ребенка, возможно, неправильное положение, он поднялся и с целомудрием духовного пастыря, деликатно, осторожно исследовал ее сквозь простыню и решительным тоном сказал:
– Нет, все хорошо.
Ей хотелось расцеловать его. Ах, какой он славный человек, этот доктор!
Он взял со стола листок бумаги, принялся писать рецепт, подробные указания и писал долго-долго. Потом он опять сел у постели и завел со своей пациенткой разговор, но говорил уже совсем другим тоном, словно желая показать, что свою священную врачебную миссию он уже выполнил.
Голос у этого коренастого карлика был густой и басистый, и в каждой, даже в самой обычной фразе сквозило желание что-нибудь выведать. Говорил он обо всем. По-видимому, его очень интересовала женитьба Гонтрана. Потолковав об этом, он вдруг заметил с гадкой улыбкой злого уродца:
– О женитьбе господина Бретиньи я считаю пока еще неудобным беседовать с вами, хотя это уже ни для кого не тайна: дядюшка Ориоль рассказывает об этом всякому встречному и поперечному.
Христиана вдруг вся похолодела, холод леденящей струей побежал от кончиков пальцев по рукам, к плечу, по груди, по животу, по икрам ног. Она еще не понимала всего смысла этих слов, но ужас охватил ее, что Блек не договорит, а значит, она ничего не узнает, и она нашла в себе силы схитрить:
– Ах, вот как! Дядюшка Ориоль рассказывает об этом всякому встречному и поперечному?
– Да, да. Он и мне рассказывал. Мы только что с ним расстались. Кажется, господин Бретиньи очень богат и любит эту юную Шарлотту уже давно. Впрочем, обе свадьбы устроила супруга доктора Онора. Она любезно предоставляла влюбленным парочкам и свою помощь, и свой дом для свиданий…
Глаза у Христианы закатились, она потеряла сознание.
Доктор стал звать на помощь, прибежала горничная, за нею маркиз, Андермат и Гонтран, и все бросились доставать уксус, эфир, лед и всякие другие ненужные тут средства.
Вдруг Христиана дернулась, открыла глаза и, вытягивая над головой руки, извиваясь всем телом, закричала диким голосом. Она пыталась говорить, но бросала только бессвязные слова:
– Ох, больно!.. Боже мой, как больно!.. Поясница… Все разрывает… Ох! Боже мой!..
И она опять принялась кричать. Вскоре стало ясно, что начались роды.
Андермат помчался к доктору Латону и застал его за завтраком.
– Скорей… идите скорей… С женой плохо… Скорей!..
По дороге он придумал уловку, сказал Латону, что, когда начались первые схватки, в гостинице находился доктор Блек и пришлось его позвать.
Доктор Блек поддержал перед коллегой эту выдумку:
– Я уже вошел в комнаты принцессы, как вдруг меня вызвали к госпоже Андермат, сказали, что ей дурно. Я прибежал и, слава богу, подоспел вовремя.
У Вильяма колотилось сердце, он себя не помнил от волнения и, вдруг усомнившись в обоих докторах, побежал с непокрытой головой к Ма-Русселю и стал умолять его прийти. Профессор тотчас же согласился, машинальным жестом врача, отправляющегося по визитам, застегнул сюртук и двинулся в путь твердым, быстрым шагом, широким, уверенным шагом знаменитости, одно появление которой может спасти человеческую жизнь.
Лишь только он вошел, оба доктора, почтительно поздоровавшись, принялись докладывать ему, спрашивать советов.
– Вот как это началось, дорогой профессор… Не считаете ли вы нужным, дорогой профессор? Не следует ли нам, дорогой профессор?…
Андермат совсем потерял голову от душераздирающих воплей жены и, засыпая Ма-Русселя вопросами, тоже повторял ежеминутно: «Дорогой профессор».
Христиана лежала почти голая перед всеми этими мужчинами и ничего не видела, ничего не замечала, ничего не понимала: ее терзали такие мучительные боли, что в голове не было ни единой мысли. Ей казалось, что живот, поясницу и таз ей перепиливают тупой пилой, медленно водят ею, дергают рывками, останавливаются на мгновение и снова раздирают стальными зубьями кости и мышцы.
Иногда пытка, разрывавшая на части ее тело, стихала, но тогда пробуждалась мысль, и начиналась другая пытка, еще более жестокая, терзавшая душу; эта боль была страшнее, чем физические муки: он любит другую, он женится на другой.
И, чтобы заглушить страшную мысль, сверлившую мозг, она старалась снова вызвать невыносимые муки тела, выгибалась, напрягала мышцы, опять начинались схватки, и тогда она хоть ни о чем не думала.
Роды длились пятнадцать часов, и Христиана была так измучена, разбита, истерзана физическими и душевными страданиями, что хотела только одного – умереть, умереть поскорее, лишь бы кончились нестерпимые муки. И вдруг, когда она вся содрогалась от долгой, не отпускавшей ни на секунду боли, еще более страшной, чем прежде, ей показалось, что все внутренности вырвались из ее тела! И все кончилось… Боли стихли, как успокаиваются волны. И это прекращение пытки было таким блаженством, что даже горе ее ненадолго замерло. С ней говорили, она отвечала усталым, слабым голосом.
К ее лицу склонилось лицо Андермата, и он сказал:
– Родилась девочка. Она жива… И почти доношена…
– Боже мой!..
И больше она ничего не могла сказать. Ребенок! У нее ребенок!.. Он жив, будет жить, будет расти. Ребенок Поля! И ей хотелось кричать, выть от новой боли, терзавшей сердце. У нее ребенок… Девочка. Нет, не надо!.. Никогда ее не видеть!.. Никогда не притрагиваться к ней!..
Ее заботливо уложили, укутали, гладили, целовали! Кто? Наверно, отец и муж – она никого не замечала. Где он? Что делает? Как она была бы счастлива сейчас, если б он любил ее!
Время шло, часы сменялись часами, она их не различала, не знала, ночь это или день, ее огнем жгла неотвязная мысль: он любит другую.
И вдруг забрезжила надежда: «А может быть, это неправда?… Как же я ничего не знала, пока этот доктор не сказал мне?»
Но тут же заговорил рассудок: от нее нарочно все скрыли. Поль старался, чтоб она ничего не узнала.
Она открыла глаза, посмотрела, есть ли кто в комнате. Около постели сидела в кресле какая-то незнакомая женщина. Должно быть, сиделка. Христиана не посмела расспросить ее. У кого же, у кого можно спросить про это?
Тихо отворилась дверь. В комнату на цыпочках вошел муж. Увидев, что у нее глаза открыты, он подошел к постели.
– Ну как? Тебе лучше?
– Да, спасибо.
– Как ты нас вчера напугала! Но теперь, слава богу, опасность прошла! Только вот не знаю, как быть с тобою. Я телеграфировал нашей приятельнице госпоже Икардон – ведь она обещала приехать к твоим родам; я сообщил, что роды произошли преждевременно, умолял ее поспешить. Но, оказывается, у нее племянник болен скарлатиной, и она ухаживает за ним… А ведь нельзя тебя оставить одну… И нужна все-таки женщина, хоть сколько-нибудь приличная… И вот одна здешняя дама вызвалась ухаживать за тобой и развлекать тебя… Я, знаешь ли, согласился. Это госпожа Онора.
Христиане вспомнились слова доктора Блека. Она вздрогнула и простонала:
– Ах нет… нет… не надо… только не ее, только не ее.
Андермат не понял и принялся уговаривать:
– Ну что ты, детка! Я, конечно, знаю, что она вульгарная особа, но Гонтран ее хвалит за услужливость, она была ему очень полезна. И к тому же она, говорят, была прежде повивальной бабкой; Онора и познакомился с нею у постели роженицы. Если она будет тебе очень уж неприятна, мы ее живо отставим. Давай все-таки попробуем. Пусть она придет разок-другой.
Христиана молча думала. Ее томила потребность узнать правду, всю правду; и в надежде на болтливость этой женщины, от которой слово за словом можно будет выпытать эту страшную правду, истерзать себе сердце, ей уже хотелось ответить: «Да… приведи ее… сейчас же… сейчас же приведи».
К непреодолимому желанию все узнать примешивалась какая-то странная потребность выстрадать до конца свою боль, чтоб она острыми шипами впилась в душу – таинственная, болезненная, неистовая жажда мученичества.
И она тихо сказала:
– Хорошо. Я согласна. Приведи госпожу Онора.
Но тут же она почувствовала, что не в силах ждать дольше, что ей надо немедленно убедиться, твердо убедиться в его измене. И она, едва дыша, почти беззвучно спросила:
– Правда, что господин Бретиньи женится?
Андермат спокойно ответил:
– Да, правда. Мы бы тебе раньше сказали, да ведь с тобой нельзя было говорить.
И она спросила:
– На Шарлотте?
– На Шарлотте.
Однако у Вильяма тоже была теперь навязчивая мысль, всецело завладевшая им, – он думал о своей дочери, еле мерцающем огоньке жизни, и поминутно ходил посмотреть на нее. Его обижало, что, очнувшись, жена не пожелала сразу же увидеть ребенка, а говорит о чем-то постороннем, и он сказал с мягким упреком:
– Разве ты не хочешь посмотреть на дочку? Знаешь, она превосходно чувствует себя.
Христиана вздрогнула, словно он коснулся открытой раны, но ей надо было пройти весь крестный путь.
– Принеси ее, – сказала она.
Он исчез за опущенным пологом в ногах кровати, затем снова вынырнуло его сияющее гордостью, счастливое лицо, и он поднес ей неловкими руками белую запеленутую куклу.
Осторожно положив ребенка на вышитую подушку возле Христианы, задыхавшейся от волнения, он сказал:
– А ну, посмотри, какая красавица у нас дочка!
Христиана взглянула.
Он отвел двумя пальцами легкое кружево, и Христиана увидела красное личико, очень маленькое и красное, с закрытыми глазками и кривившимся ротиком.
И, склонившись к этому зачатку человеческого существа, она думала: «Это моя дочь… дочь Поля… И из-за этого комочка я столько выстрадала… Этот комочек – моя дочь… моя дочь!..»
Сразу исчезло отвращение к ребенку, рождение которого истерзало ее бедное сердце и ее хрупкое женское тело. Она смотрела на него с горестным и жгучим любопытством, с глубоким изумлением молодого животного, увидавшего своего первого детеныша. Андермат, ожидавший, что она со страстной материнской нежностью станет целовать дочь, удивленно и обиженно взглянул на нее.
– Что же ты ее не поцелуешь?
Христиана тихо склонилась к красному лобику, а он как будто звал, притягивал к себе ее губы; когда же они приблизились, коснулись этого чуть влажного лобика, и мать ощутила живое тепло крошечного существа, которому она передала часть своей собственной жизни, ей показалось, что она не в силах будет оторваться от него, что она навсегда прильнула к нему.
Что-то защекотало ей щеку – это муж наклонился, чтобы поцеловать ее. Он прижал ее к себе в долгом объятии, полном благодарной нежности; потом ему захотелось приласкать и дочь, и, выпятив губы, он стал целовать ее носик осторожными мелкими поцелуями.
Христиана смотрела на них, и у нее сжималось сердце – ее ребенок и он… он!..
Потом Андермат заявил, что пора отнести дочь в колыбель.
– Нет, – сказала Христиана, – пусть еще немного побудет тут, хоть минутку, чтобы я чувствовала, что она рядом со мной. Не говори больше, не двигайся, оставь нас, подожди немного.
Она охватила рукой запеленатое тельце ребенка, прижалась лбом к его сморщенному красному личику, закрыла глаза и лежала, не шевелясь, ни о чем не думая.
Но через несколько минут Вильям осторожно тронул ее за плечо.
– Довольно, дорогая. Будь умницей. Тебе вредно волноваться!
Он взял девочку на руки, а мать следила за ней взглядом, пока она не исчезла за пологом кровати. Затем Андермат вернулся и сказал:
– Значит, решено? Завтра я пришлю к тебе госпожу Опора, пусть посидит с тобою.
Христиана ответила ему окрепшим голосом:
– Да, друг мой. Пришли ее… завтра утром.
И она вытянулась в постели, усталая, разбитая, но, быть может, уже не такая несчастная.
Вечером пришли ее навестить отец и брат и рассказали последние новости: профессор Клош поспешно уехал разыскивать дочь; герцогиня де Рамас не показывается – ходят слухи, что и она помчалась разыскивать Мадзелли. Гонтран весело смеялся по поводу этих происшествий и извлекал из них комическую мораль:
– Нет, право, на водах творятся настоящие чудеса. Курорты – это единственные волшебные уголки на нашей прозаической земле! За два месяца на них разыгрывается столько романов, сколько не случится во всем мире за целый год. Право, из земли бьют не минеральные, а какие-то колдовские источники. И везде та же самая история – в Эксе, Руайя, Виши, Люшоне и на морских купаниях: в Дьеппе, Этрета, Трувиле, Биаррице, в Канне, в Ницце. Везде!.. А какая пестрая смесь племен, сословий, характеров и рас, какие великолепные экземпляры проходимцев вы там встретите! Сколько там удивительных приключений! Женщины там выкидывают невероятные фокусы, да еще с какой очаровательной легкостью и быстротой! В Париже, посмотришь, недотрога, а тут удержу ей нет… Солидные господа вроде Андермата находят здесь богатство, другие – смерть, как Обри-Пастер, а ветрогонов подстерегает тут кое-что похуже – законный брак, как меня… и Поля. Вот глупость, правда? Ты, наверно, уже знаешь, что Поль женится?
– Да, Вильям мне говорил, – тихо сказала Христиана.
Гонтран принялся разъяснять:
– Он правильно делает, честное слово! Ничего, что она дочка мужика. Это все же куда лучше, чем девицы из подозрительных семей или девицы легкого поведения. Я Поля знаю. Он в конце концов женился бы на какой-нибудь твари, если б она месяца полтора сумела ему противиться. А ведь устоять перед ним может только прожженная шельма или воплощенная невинность. Он натолкнулся на воплощенную невинность. Тем лучше для него.
Христиана молча слушала, и каждое его слово вонзалось ей в сердце, причиняло жестокую боль.
Она закрыла глаза.
– Я очень устала. Хочу отдохнуть немного.
Маркиз и Гонтран поцеловали ее и ушли.
Но спать она не могла: сознание работало лихорадочно и мучительно. Мысль, что он больше не любит, совсем не любит ее, была так невыносима, что, если бы она не видела возле своей постели сиделки, дремавшей в кресле, она встала бы, распахнула окно и бросилась вниз головой на каменные ступени крыльца. Между занавесками окна пробился тонкий лунный луч, и на паркет легло светлое круглое пятно. Она заметила этот голубоватый кружок, и сразу ей вспомнилось все: озеро, лес, первое, еле слышное, такое памятное признание: «Люблю вас» – и Турноэль, и их ласки в тот вечер, и темные тропинки, и дорога к Ла-Рош-Прадьер. Вдруг ясно-ясно она увидела перед собой белую ленту дороги, и звездное небо, и Поля. Но он шел теперь с другой и, склоняясь к ней на каждом шагу, целовал ее… целовал другую женщину. И она знала эту женщину. Он обнимал теперь Шарлотту! Он обнимал ее и улыбался той улыбкой, какой нет больше ни у кого на свете; шептал ей на ухо такие милые слова, каких нет ни у кого на свете; потом он бросился на колени и целовал землю у ее ног, как целовал он когда-то землю у ног Христианы. И ей стало больно, так больно, что она застонала, и, повернувшись, зарылась лицом в подушку и разрыдалась. Она рыдала громко, еле сдерживая крик отчаяния, терзавшего душу.
Она слышала, как неистово билось в груди сердце; каждое его биение отдавалось в горле, в висках и без конца выстукивало: Поль… Поль… Поль… Она затыкала уши, чтоб не слышать этого имени, прятала голову под одеяло, но все равно с каждым толчком сердца, не находившего успокоения, в груди отзывалось: Поль… Поль.
Сиделка сонным голосом спросила:
– Вам нехорошо, сударыня?
Христиана повернулась к ней лицом, залитым слезами, и сказала, задыхаясь:
– Нет, я спала… Мне приснился страшный сон.
И она попросила зажечь свечи, чтобы померк в комнате лунный свет.
Под утро она забылась сном.
Она дремала уже несколько часов, когда Андермат привел к ней г-жу Онора. Толстуха сразу повела себя очень развязно, уселась у постели, взяла Христиану за руки, принялась расспрашивать, как врач, и, удовлетворенная ее ответами, заявила:
– Ну что ж, ну что ж. Все идет хорошо.
Потом она сняла шляпу, перчатки, шаль и сказала сиделке:
– Можете идти, голубушка. Если вы понадобитесь, я позвоню.
Христиана, уже чувствуя к ней отвращение, сказала мужу:
– Принеси ненадолго маленькую.
Как и накануне, Андермат принес ребенка, умиленно его целуя, и положил на подушку. И так же, как накануне, мать прижалась щекой к закутанному детскому тельцу, которого она еще не видела, и, ощущая сквозь ткань его теплоту, сразу прониклась блаженным спокойствием.
Вдруг малютка завозилась и принялась кричать тоненьким, пронзительным голоском.
– Грудь хочет, – сказал Андермат.
Он позвонил, и в комнату вошла кормилица, огромная, краснощекая, большеротая женщина, осклабив в улыбке широкие блестящие зубы. Эти людоедские зубы даже испугали Христиану. Кормилица расстегнула кофту, выпростала тяжелую и мягкую грудь, набухшую молоком, точно коровье вымя. И когда Христиана увидела, как ее малютка присосалась губами к этой мясистой фляге, ей захотелось схватить свою дочку на руки, отнять ее у этой женщины; она смотрела на кормилицу с чувством ревности и брезгливости.
Госпожа Онора надавала кормилице всяких советов, и та, покормив ребенка, унесла его.
Вслед за ней ушел и Андермат. Женщины остались одни.
Христиана не знала, как заговорить о том, что грызло ей душу, боялась, что от волнения потеряется, заплачет, выдаст себя. Но г-жа Онора принялась болтать, не дожидаясь приглашения. Пересказав все местные сплетни, она добралась до семейства Ориоль.
– Славные люди, – говорила она, – очень славные. А если б вы знали, какая у них была мать! Уж такая работящая, такая хорошая женщина! Десятерых стоила. Дочки обе в нее пошли.
Она собиралась было перейти к другой теме, но Христиана спросила:
– А вам которая больше нравится: Луиза или Шарлотта?
– Я-то больше люблю Луизу, невесту вашего братца, она серьезнее, хозяйственнее, у нее во всем порядок. А моему мужу больше по душе младшая. У мужчин, знаете ли, другие вкусы, не такие, как у нас.
Она умолкла. Христиана, чувствуя, что мужество ее слабеет, с трудом выговорила:
– Мой брат часто встречался у вас со своей невестой?
– Ну еще бы, сударыня, очень часто, чуть не каждый день. Все у меня и сладилось, все. Я не мешала им беседовать. Что ж, молодость! И, знаете, как мне было приятно, что и младшая не в обиде, раз она приглянулась господину Полю.
Христиана, задыхаясь, спросила:
– Он ее очень любит?…
– Ах, сударыня! Уж так любит, так любит! За последнее время совсем голову потерял. А потом, знаете ли, когда итальянец – ну вот, что увез дочь у доктора Клоша – стал увиваться вокруг Шарлотты, так, для пробы, только поглядеть, не клюнет ли у него, я думала, что господин Поль вызовет его на дуэль… Ах, если б вы видели, какими злыми глазами он смотрел на итальянца! А на нее смотрит так, будто перед ним Мадонна!.. Приятно видеть такую любовь!
И тогда Христиана стала расспрашивать обо всем, что совершилось на глазах этой женщины, что говорили влюбленные, что они делали, как ходили на прогулку в долину Сан-Суси, где столько раз Поль говорил ей когда-то слова любви. К великому удивлению толстухи, она задавала такие вопросы, какие никому не могли бы прийти в голову, потому что она непрестанно сравнивала, вспоминала тысячи подробностей истории своей любви, начавшейся прошлым летом, изящное ухаживание и тонкое внимание Поля, его изобретательность в стремлении понравиться, все милые, чарующие, нежные заботы, в которых сказывается властное желание мужчины пленить женщину. Ей хотелось знать, расточал ли он все эти соблазны перед другой, с прежним ли жаром вел новую осаду, чтоб покорить другую женскую душу непреодолимой силой страсти.
И всякий раз, как Христиана узнавала в рассказах старухи какую-нибудь знакомую черточку, волнующий сердце нежданный порыв чувства, так щедро изливавшегося у Поля, когда им овладевала любовь, она страдальчески вскрикивала: «Ах!»
Удивленная этими странными возгласами, г-жа Онора усиленно старалась заверить, что она нисколько не выдумывает.
– Истинная правда, ей-богу, как я говорю, так все и было. Никогда не видела, чтобы мужчина так влюблялся!
– Он читал ей стихи?
– А как же! Читал. И все такие красивые.
Наконец обе они умолкли, и слышалась только тихая, однообразная песенка кормилицы, убаюкивавшей ребенка в соседней комнате.
В коридоре вдруг раздались все приближавшиеся шаги. Больную пришли навестить Ма-Руссель и Латон. Оба нашли, что она возбуждена и что состояние ее несколько ухудшилось со вчерашнего вечера.
Как только они удалились, Андермат приоткрыл дверь и спросил:
– Доктор Блек хочет тебя проведать. Ты примешь его?
Христиана резким движением приподнялась на постели и крикнула:
– Нет… нет!.. Не хочу… Нет!
Вильям вошел в комнату и, изумленно глядя на нее, сказал:
– Да как же это?… Все-таки надо бы. Мы в долгу перед ним… Прими его, пожалуйста…
У Христианы было совсем безумное лицо, глаза непомерно расширились, губы дрожали, и, глядя в упор на мужа, она крикнула таким громким и таким звонким голосом, что, верно, он разнесся по всему дому:
– Нет!.. Нет!.. Никогда!.. Пусть никогда не является!.. Слышишь?… Никогда!..
И, уже не отдавая себе отчета в том, что делает, что говорит, она вытянула руку и, указывая на г-жу Онора, растерянно стоявшую посреди комнаты, закричала:
– И эту тоже… выгони ее, выгони… Не хочу ее видеть!.. Выгони ее!..
Андермат бросился к жене, крепко обнял, поцеловал ее в лоб.
– Христиана, милая! Успокойся!.. Что с тобой?… Да успокойся же!..
У нее перехватило горло, слезы полились из глаз, и она прошептала:
– Скажи, чтоб они ушли… Пусть все, все уйдут. Только ты один останься со мной.
Испуганный Андермат подбежал к толстой докторше и осторожно оттесняя ее к двери, забормотал:
– Оставьте нас одних на минутку, прошу вас. У нее лихорадка. Молоко в голову бросилось. Я ее сейчас успокою и приду за вами.
Когда он подошел к постели, Христиана уже лежала неподвижно, с застывшим, каменным лицом, по которому катились безмолвные обильные слезы. И впервые в жизни Андермат тоже заплакал.
Действительно, ночью у Христианы началась молочная лихорадка, и она стала бредить.
Несколько часов она металась в жару и вдруг заговорила громко, отчетливо.
В комнате сидели маркиз и Андермат, решившие остаться на ночь подле нее; они играли в карты и вполголоса считали взятки. Им показалось, что она зовет их, и они подошли к постели.
Но она их не видела или не узнавала. Белое, как полотно, лицо смутно выделялось на подушке, белокурые волосы рассыпались по плечам, голубые, широко открытые глаза пристально вглядывались в тот неведомый, таинственный, фантастический мир, где блуждает мысль безумных.
Руки, вытянутые на одеяле, иногда шевелились, вздрагивали, дергались в непроизвольных и быстрых движениях.
Сначала она не то чтобы разговаривала с кем-то, а рассказывала о том, что видит перед собою. И то, что говорила она, казалось бессвязным и непонятным. Вот она стоит на огромной каменной глыбе и не решается спрыгнуть, боится вывихнуть ногу, а тот человек, что стоит внизу и протягивает к ней руки, – он ведь чужой, она мало с ним знакома. Потом она заговорила о запахах и как будто вспоминала чьи-то полузабытые слова: «Что может быть прекраснее?… Есть запахи, опьяняющие, как вино… Вино пьянит мысли, аромат опьяняет мечты… В ароматах впиваешь самую сущность природы, всего нашего земного мира… прелесть цветов, деревьев, травы на лугах… проникаешь в душу жилищ, дремлющую в старой мебели, в старых коврах, в занавесях на окнах…»
Потом у губ ее вдруг легли страдальческие складки, как будто от усталости, от долгой усталости. Она поднималась в гору медленным, грузным шагом и говорила кому-то: «Понеси меня еще раз, пожалуйста, прошу тебя… Я умру тут, больше сил нет идти! Возьми меня на руки. Помнишь, как тогда, на тропинке, над ущельем? Помнишь!.. Как ты любил меня тогда!»
А потом она вдруг испуганно вскрикнула, и ужас наполнил ее глаза. Перед нею лежало мертвое животное, и она умоляла убрать его с дороги, но осторожно, чтоб не сделать ему больно.
Маркиз тихо сказал зятю:
– Ей чудится осел, которого мы видели, когда возвращались с Нюжера.
А она теперь говорила с этим мертвым ослом. Утешала его, рассказывала ему, что она тоже несчастна, гораздо несчастнее, чем он, потому что ее покинули.
Потом она как будто противилась кому-то, отказывалась сделать то, что от нее требовали: «Ах, только не это!.. Как? Ты велишь мне везти телегу?…»
Дыхание у нее стало тяжелым, прерывистым, словно она действительно тащила телегу, из глаз лились слезы, она стонала, вскрикивала. Больше получаса она все поднималась по крутой дороге и тащила телегу, в которую ее заставили впрячься, – должно быть, вместо околевшего осла.
И, должно быть, кто-то жестоко бил ее, потому что она жалобно молила: «Не надо, не бей! Мне больно!.. Ну, хоть не бей меня! Я повезу, повезу телегу, я все сделаю, что ты велишь… Только не бей меня больше!..»
Потом горячечное возбуждение улеглось, она уже не кричала, а только тихо бормотала что-то до самого утра. Наконец она умолкла и впала в забытье. Очнулась она только к двум часам дня и вся еще горела в лихорадке, но сознание уже вернулось к ней.
Все же до следующего утра мозг отказывался работать, мысли расплывались, ускользали. Когда она просила что-нибудь, то не сразу вспоминала нужные слова и с большим трудом подбирала их.
Ночью сон принес ей отдых, она проснулась с совершенно ясной головой.
Однако она чувствовала в себе великую перемену, как будто болезнь принесла душевный перелом. Она меньше страдала и больше думала. То, что было для нее так ужасно и совершилось так недавно, теперь словно уже отошло в далекое прошлое, и она все видела в ясном свете мысли, каким никогда еще не освещалась для нее жизнь. Свет, внезапно все озаривший, тот свет, что загорается в сознании в часы тяжкого горя, показал ей жизнь, людей, их дела, весь мир со всем в нем сущим совершенно иными, чем она видела их прежде.
И тогда она почувствовала, что она покинута и одинока в жизни, еще более одинока, чем в тот вечер, когда у себя в спальне, после возвращения с Тазенатского озера, думала о своей жизни. Она поняла, что люди идут в жизни рядом, бок о бок, но ничто не связывает истинной близостью два человеческих существа. Измена того, кому она так верила, открыла ей, что другие люди – все люди, будут для нее лишь равнодушными спутниками на переходах жизненного пути, коротких или долгих, печальных или радостных, в зависимости от грядущих дней, которые предугадать нельзя. Она поняла, что даже в объятиях этого человека, когда ей казалось, что она сливается с ним, вся проникает в него, что они душой и телом становятся единым существом, они были близки лишь настолько, чтобы коснуться той непроницаемой пелены, которой таинственная природа окутала человека, обрекая его на одиночество. Она хорошо видела теперь, что никто не может преодолеть невидимую преграду, разъединяющую людей, и они далеки друг от друга, как звезды, рассеянные в небе.
Она угадала, как напрасно извечное, непрестанное стремление людей разорвать оболочку, в которой бьется душа, навеки одинокая узница, как напрасны усилия рук, уст, глаз, нагого тела, трепещущего страстью, усилия любви, исходящей в лобзаниях лишь для того, чтобы дать жизнь новому существу, которое тоже будет одиноким, покинутым.
Ее охватило непреодолимое желание взглянуть на своего ребенка, и, когда его принесли, она попросила распеленать его: ведь она до сих пор видела только его личико.
Кормилица распеленала малютку, и хрупкое тельце новорожденной зашевелилось на глазах у матери в тех непроизвольных, беспомощных движениях, какими начинается человеческая жизнь. Мать робко дотронулась до него дрожащей рукой, потом губы ее сами потянулись к нему, и она осторожно стала целовать грудку, животик, красные ножки, икры, потом, устремив на ребенка неподвижный взгляд, забылась в странных мыслях.
Двое людей встретились случайно, полюбили друг друга с восторженной страстью, и от их телесного слияния родилось вот это существо. В этом существе соединились и до конца его дней будут неразрывно соединены те, кто дал ему жизнь, в нем есть что-то от них обоих, от него и от нее, и еще что-то неведомое, отличное от них. Оба они повторятся в этом существе: в строении его тела, в складе ума, в чертах лица, в глазах, в движениях, в наклонностях, вкусах, пристрастиях, даже в звуке голоса и в походке, – и все же в нем будет что-то иное, новое.
Они теперь разлучились, расстались безвозвратно! Никогда больше их взгляды не сольются в порыве любви, которая делает бессмертным род человеческий.
И, прижимая к груди своего ребенка, она прошептала:
– Прощай! Прощай!
«Прощай», – шептала она на ухо своей малютке, и это было прощание с тем, кого она любила, мужественное и скорбное прощание гордой души, прощание женщины, которая будет страдать еще долго, быть может, всю жизнь, но найдет в себе силы скрыть от всех свои слезы.
– Ага! Ага! – закричал Вильям Андермат, приотворив дверь. – Поймал тебя! Отдавай-ка мне мою дочку!
Он подбежал к постели, схватил малютку на руки уже умелым, ловким движением и поднял над головой.
– Здравствуйте, мадемуазель Андермат! Здравствуйте, мадемуазель Андермат!.. – повторял он.
Христиана думала: «Вот это мой муж!» – и с удивлением смотрела на него, как будто впервые его видела. Вот с этим человеком ее навсегда соединил закон, сделал навсегда его собственностью. И он должен навсегда быть, согласно правилам людей, требованиям морали, религии и общества, частью ее существа, ее половиной. Нет, больше того – ее господином, господином ее дней и ночей, ее души и тела! И ей даже хотелось улыбнуться, так все это сейчас казалось ей странным, потому что между ними не было и никогда не могло возникнуть ни одной из тех связующих нитей, которые рвутся так быстро, но кажутся людям вечными и несказанно сладостными, почти божественными узами.
И не было у нее никаких укоров совести из-за того, что она обманывала его, изменяла ему! Она удивилась: почему же это? Почему?… Наверно, потому, что слишком уж чужды и далеки они были друг другу, слишком разной породы. Все в ней было непонятно ему, и ей все было непонятно в нем. А между тем он был хорошим, преданным, заботливым мужем.
Но, должно быть, только люди одного пошиба, одного и того же духовного склада могут чувствовать друг к другу нерасторжимую привязанность, соединяющую их священными узами добровольного долга.
Ребенка снова запеленали. Вильям сел у кровати.
– Послушай, милочка, – сказал он. – Я уж просто боюсь и заикнуться о ком-нибудь, после того как ты оказала доктору Блеку столь любезный прием. А все-таки сделай мне удовольствие, разреши доктору Бонфилю навестить тебя!
Христиана засмеялась – в первый раз, но вялым, равнодушным смехом, не веселившим душу.
– Доктор Бонфиль? – переспросила она. – Вот чудо! Вы помирились?
– Да, да, помирились. Скажу тебе по секрету важную новость: я только что купил старый курорт. Теперь тут все мое! Что скажешь, а? Какой триумф! Бедняга доктор Бонфиль пронюхал об этом раньше всех и пустился на хитрость: стал ежедневно наведываться сюда, справлялся о твоем здоровье, оставлял у швейцара свою визитную карточку со всякими сочувственными словами. В ответ на его заигрывания я нанес ему визит, и теперь мы с ним в прекрасных отношениях.
– Ну что ж, пусть придет, если ему хочется. Буду рада его видеть.
– Великолепно! Благодарю тебя, милочка! Я завтра же его приведу. Нечего и говорить, что Поль постоянно просит передать тебе привет, шлет наилучшие пожелания и интересуется малышкой. Ему очень хочется посмотреть на нее.
Несмотря на все мужественные решения, у нее защемило сердце. Все же она пересилила себя.
– Поблагодари его от меня.
Андермат сказал:
– Он все беспокоился, не забыли ли мы тебе сообщить о его женитьбе. Я сказал, что ты уже знаешь, и он несколько раз спрашивал, как ты на это смотришь.
Христиана напрягла всю свою волю и тихо сказала:
– Передай ему, что я вполне его одобряю.
Вильям продолжал терзать ее:
– И еще ему очень хочется знать, как ты назовешь дочку. Я сказал, что мы еще не решили, Маргарита или Женевьева.
– Я передумала, – сказал она. – Я хочу назвать ее Арлеттой.
Когда-то, в первые дни беременности, они с Полем обсуждали, как назвать будущего ребенка, и решили, если родится девочка, назвать ее Маргаритой или Женевьевой. Но теперь Христиана не могла больше слышать эти имена.
Вильям Андермат повторил за нею:
– Арлетта… Арлетта… Что ж, очень мило… ты права. Но мне хотелось бы назвать ее Христианой, как тебя. Мое любимое имя… Христиана!
Она тяжело вздохнула.
– Ах, нет! Имя распятого сулит страдания.
Андермат покраснел: такое сопоставление не приходило ему в голову; он торопливо поднялся и сказал:
– Ну что ж, Арлетта – красивое имя. До свидания, дорогая.
Когда он ушел, Христиана позвала кормилицу и велела, чтобы колыбель ребенка поставили у ее постели.
Когда легкую, зыбкую колыбель с пологом на согнутом медном пруте, похожую на зыбкую лодочку с белым парусом, поставили у широкой кровати, мать протянула руку и, дотронувшись до уснувшего ребенка, прошептала:
– Бай, бай, моя маленькая. Никто никогда не будет любить тебя так, как я!
Следующие дни она провела в тихой грусти, много думая, закаляясь душой в одинокой скорби, чтобы мужественно вернуться к жизни через несколько недель. И теперь главным ее занятием было смотреть на свою дочку: она все пыталась уловить первый луч сознания в ее глазках, но пока видела только два голубоватых кружочка, неизменно обращенные к светлому квадрату окна.
И сколько раз с глубокой печалью думала она о том, что мысль, еще спящая, проглянет в этих глазках и они увидят мир таким, каким его видела она сама: сквозь радужную дымку иллюзий и мечтаний, которые опьяняют счастьем и доверчивой радостью молодую женскую душу. Глаза дочери будут любить все то, что любила мать, – чудесные ясные дни, цветы, леса и людей тоже, на свое горе. Они полюбят одного человека среди всех людей. Они будут любить! Будут носить в себе знакомый дорогой образ; вдали от него будут видеть его вновь и вновь, будут загораться, увидев его близ себя… А потом… потом они научатся плакать! Слезы, жгучие слезы потекут по этим щечкам. И эти еще тусклые глазки, которые будут тогда синими, станут неузнаваемыми от страданий обманутой любви, заволокутся слезами тоски и отчаяния.
Она с безумной, страстной нежностью целовала свою дочь и шептала:
– Не люби никого, кроме меня, моя маленькая.
Но вот настал день, когда профессор Ма-Руссель, навещавший ее каждое утро, объявил:
– Ну что ж, можно вам сегодня встать ненадолго.
Когда врач ушел, Андермат сказал жене:
– Как жаль, что ты еще не совсем поправилась! У нас сегодня в институте гимнастики будет интереснейший опыт. Доктор Латон сотворил настоящее чудо: излечил папашу Кловиса своей механизированной гимнастикой. Представь себе, безногий-то ходит теперь, как здоровый! Улучшение заметно с каждым сеансом.
Христиана спросила, чтобы доставить ему удовольствие:
– Так у вас сегодня публичный сеанс?
– И да и нет. Мы пригласим только докторов и кое-кого из наших друзей.
– В котором часу это будет?
– В три часа.
– Господин Бретиньи приглашен?
– Ну конечно. Он обещал прийти. Все правление будет присутствовать. Для медиков это очень любопытный опыт.
– Знаешь, – сказала она, – я в это время как раз встану и могла бы принять господина Бретиньи. Попроси его навестить меня. Он составит мне компанию, пока вы все будете заняты этим опытом.
– Хорошо, дорогая.
– А ты не забудешь?
– Нет, нет, будь покойна.
И Андермат ушел собирать зрителей.
Когда-то Ориоли ловко надули его своей комедией исцеления паралитика, а теперь он вел ту же игру, пользуясь легковерием больных, жаждущих чудес от всяких новых методов лечения, и говорил об этом исцелении так часто, с таким пылом и убежденностью, что и сам уже не разбирался, верит он в это или не верит.
К трем часам все, кого ему удалось залучить, собрались у дверей ванного заведения, поджидая Кловиса. Старик приплелся наконец, опираясь на две палки, все еще волоча ноги, и учтиво кланялся направо и налево.
За Кловисом следовали оба Ориоля и обе девушки. Поль и Гонтран сопровождали своих невест.
Доктор Латон, беседуя с Андерматом и доктором Онора, поджидал публику в большом зале, оснащенном приборами на шарнирах.
Как только он увидел папашу Кловиса, на его бритых губах засияла радостная улыбка.
– Ну как? Как мы чувствуем себя сегодня? – спросил он.
– Идет дело, идет!
Пришли Петрюс Мартель и Сен-Ландри: им тоже хотелось посмотреть. Первый уверовал, второй сомневался. Ко всеобщему удивлению, вслед за ними явился доктор Бонфиль, поклонился своему сопернику и пожал руку Андермату. Последним прибыл доктор Блек.
– Милостивые государи и милостивые государыни! – сказал доктор Латон с легким поклоном в сторону Луизы и Шарлотты. – Сейчас вы будете свидетелями весьма любопытного опыта. Прежде всего до начала его попрошу вас отметить, что этот больной старик уже ходит, но с трудом, с большим трудом. Можете вы ходить без палок, папаша Кловис?
– Ох нет, сударь!
– Прекрасно. Начнем.
Старика взгромоздили на кресло, мигом пристегнули ему ремнями ноги к членистым подставкам, затем доктор Латон скомандовал: «Начинай! Потихоньку!» – и служитель в халате с засученными рукавами стал медленно вращать рукоятку.
Тотчас же правая нога бродяги согнулась в колене, поднялась, вытянулась, вновь согнулась, затем левая проделала те же движения, а папаша Кловис вдруг развеселился и, потряхивая длинной седой бородой, стал качать головою в такт движению своих ног.
Четыре врача и Андермат, наклонившись, следили за его ногами с важностью авгуров, а Великан хитро переглядывался с отцом.
Двери оставили открытыми, и в них беспрестанно входили все новые зрители – верующие и любопытные скептики – и теснились вокруг кресла, чтобы лучше все видеть.
– Быстрей! – скомандовал доктор Латон.
Служитель подбавил скорости. Ноги Кловиса побежали, а он принялся хохотать, закатываясь неудержимым смехом, как дети, когда их щекочут, и, захлебываясь, мотая головой, взвизгивал:
– Вот умора! Вот умора!
Это словечко он, несомненно, подслушал у кого-нибудь из курортных гостей.
Великан тоже не выдержал, разразился зычным хохотом и, топая ногой, хлопал себя по ляжкам, выкрикивая:
– Эх, черртов Кловис!.. Эх, черртов Кловис!
– Довольно! – сказал Латон служителю.
Бродягу отвязали, и врачи расступились, чтобы понаблюдать за результатами опыта.
И тогда Кловис на глазах у всех без всякой помощи слез с кресла и пошел по комнате. Правда, он шел мелкими шажками, горбился, морщился от тяжких усилий, но все же он шел без палок!
Доктор Бонфиль первым заявил:
– Случай совершенно исключительный.
Доктор Блек перещеголял в оценке своего коллегу. Только доктор Онора не вымолвил ни слова.
Гонтран прошептал на ухо Полю:
– Ничего не понимаю! Взгляни на их физиономии. Кто они: обманутые дураки или угодливые обманщики?
Но вот заговорил Андермат. Он подробно изложил весь ход лечения, с первого дня, рассказал о рецидиве болезни и, наконец, о новом, полном и окончательном выздоровлении. И весело добавил:
– Если даже в состоянии нашего больного за зимние месяцы наступит некоторое ухудшение, мы его летом подлечим.
Затем в торжественной и пышной речи он восславил воды Монт-Ориоля и все их целительные свойства, все до единого.
– Я сам, – говорил он, – на собственном опыте и на опыте дорогого мне существа убедился в их благотворном действии. Мой род теперь не угаснет, и я обязан этим Монт-Ориолю!
И тут он вспомнил вдруг, что обещал жене прислать к ней Поля Бретиньи. Ему стало совестно за такую забывчивость, потому что он был внимательный муж. Он огляделся по сторонам и, заметив Поля, подошел к нему:
– Дорогой мой! Я совсем забыл сказать вам: ведь Христиана ждет вас сейчас.
Бретиньи пробормотал:
– Меня?… Сейчас?…
– Да, да. Она сегодня в первый раз встала и хочет вас видеть раньше всех наших знакомых. Бегите скорей и передайте ей мои извинения.
Поль направился к отелю; сердце у него сильно билось от волнения.
По дороге он встретил маркиза де Равенеля, и тот сказал ему:
– Христиана уже встала и удивляется, что вас нет до сих пор.
Он ускорил шаг, но на площадке лестницы остановился, обдумывая, что сказать ей. Как она его встретит? Будет ли она одна? Если она заговорит о его женитьбе, что отвечать?
С тех пор, как у нее родился ребенок, он думал о ней, содрогаясь от мучительного волнения, краснел и бледнел при мысли о первой встрече с нею. С глубоким смущением думал он также об этом неведомом ему ребенке, отцом которого он был; его преследовало желание увидеть свою дочь, и было страшно ее увидеть. Он чувствовал, что увяз в какой-то грязи, нравственно замарал себя, совершил один из тех поступков, которые навсегда, до самой смерти, остаются пятном на совести мужчины. Но больше всего он боялся встретить взгляд женщины, которую любил так сильно и так недолго.
Что ждет его сейчас: упреки, слезы или презрение? Быть может, она позвала его лишь для того, чтобы выгнать?
И как держать себя с нею? Смотреть на нее смиренным, скорбным, молящим или же холодным взглядом? Объясниться или выслушать ее, ничего не отвечая? Можно ли сесть или надо разговаривать стоя? А когда она покажет ребенка, что сказать, как поступить? Какое чувство следует выразить?
Перед дверью он снова остановился в нерешительности, потом протянул руку, чтобы нажать кнопку электрического звонка, и заметил, что рука его дрожит.
Однако он надавил пальцем пуговку из слоновой кости и услышал задребезжавший в передней звонок.
Горничная отворила дверь и сказала: «Пожалуйте». Он вошел в гостиную и в отворенные двери спальни увидел Христиану. Она лежала в глубине комнаты на кушетке и смотрела на него.
Эти две комнаты, которые надо было пройти, показались ему бесконечными. У него подкашивались ноги, он боялся наткнуться на кресла, на стулья и не решался посмотреть себе под ноги, не смея отвести от нее глаза. Она не пошевелилась, не сказала ни слова, ждала, пока он подойдет. Правая ее рука вытянулась на платье, а левой она опиралась на край колыбели с опущенным пологом.
Он остановился в трех шагах от нее, не зная, что делать. Горничная затворила дверь. Они остались одни.
Ему хотелось упасть перед ней на колени, просить прощения.
Но она медленно подняла и протянула ему правую руку.
– Добрый день, – сдержанно сказала она.
Он не осмелился пожать ей руку и, низко склонив голову, чуть коснулся губами ее пальцев.
Она промолвила:
– Садитесь.
Он сел на низенький стул у ее ног.
Надо было что-то сказать, но он не находил слов, растерял все мысли, не решался даже посмотреть на нее. Наконец он выговорил, запинаясь:
– Ваш муж забыл мне передать, что вы ожидаете меня, а то бы я пришел раньше.
Она ответила:
– Это не имеет значения. Раньше или позже… все равно пришлось бы встретиться…
И она умолкла. Он торопливо спросил:
– Надеюсь, вы теперь хорошо себя чувствуете?
– Благодарю вас, хорошо, насколько это возможно после таких потрясений.
Она была очень бледна, худа, но красивее, чем до родов. Особенно изменились глаза; такого глубокого выражения он никогда раньше не видел в них, и они теперь как будто потемнели. Их голубизна сменилась густой синевой. А руки были восковые, как у покойницы.
Она заговорила снова:
– Да, пришлось пережить тяжелые часы. Но когда столько выстрадаешь, чувствуешь, что силы в тебе хватит до конца жизни.
Он был глубоко взволнован и тихо сказал:
– Да, это тяжелые испытания, ужасные.
Она, словно эхо, повторила:
– Ужасные.
Уже несколько секунд полог колыбельки колыхался, и за ним слышался шорох, говоривший о пробуждении спящего младенца. И Бретиньи теперь не сводил глаз с колыбели, томясь все возраставшим беспокойством: ему мучительно хотелось увидеть то живое существо, которое дышало там.
И вдруг он заметил, что края полога сколоты сверху донизу золотыми булавками, которые Христиана обычно носила на своем корсаже. Он не раз когда-то забавлялся, вытаскивая и снова вкалывая в сборки платья у плеч своей возлюбленной эти изящные булавочки с головками в виде полумесяца. Он понял ее мысль, и сердце его больно сжалось при виде этой преграды из золотых точек, которая навсегда отлучала его от ребенка.
Из этой белой темницы послышался тоненький голосок, тихая жалоба. Христиана качнула легкий челнок колыбели и сказала немного резко:
– Прошу вас извинить меня, но я больше не могу уделить вам времени: моя дочь проснулась.
Он поднялся, снова поцеловал ей руку и направился к выходу. Когда он был уже у дверей, она сказала:
– Желаю вам счастья.
Примечания
1
Мишле (1798–1874) – французский историк.
(обратно)2
Обелиск. – Речь идет о находящемся в Париже египетском обелиске эпохи фараона Сезостриса (XIII в. до н. э.), вывезенном из Луксора.
(обратно)3
Тенирс. – Имеется в виду один из двух фламандских живописцев: Старший (1582–1649) или его сын – Младший (1610–1690).
(обратно)4
Калло (1592–1635) – французский гравер и рисовальщик.
(обратно)5
Перевод И. Миримского.
(обратно)6
Ты вестница небес… – цитата из стихотворения Шарля Бодлера (1821–1867) «Гимн красоте».
(обратно)7
«Мон-Дор» – название французского курорта в Оверни.
(обратно)8
Воочию (лат.).
(обратно)9
Рейер (1823–1909) – французский музыкант и композитор.
(обратно)10
В подлиннике игра слов: le medecin de Saint-Bain du Siede, основанная на двойном смысле слова Siege, которое означает и «седалище», и «престол» римского папы.
(обратно)11
«Пустокарманное предместье» – намек на обнищание старинного французского дворянства, которое в конце XIX века по традиции проживало в аристократическом Сен-Жерменском предместье Парижа.
(обратно)12
Теодор Руссо (1812–1867) – художник-пейзажист барбизонской школы.
(обратно)


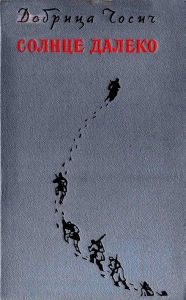

Комментарии к книге «Монт-Ориоль», Ги де Мопассан
Всего 0 комментариев