Юхан Борген Теперь ему не уйти
Часть первая. ЭХО
1
Они выходили из хижины и, пошатываясь, брели к деревьям. Выходили по одному, нетвердой походкой, продрогшие до костей, и под сенью деревьев старались как можно дальше отойти друг от друга; ежась от холода, они тяжело ступали по рыхлому снегу. Потом смущенно оглядывались вокруг и тут, во мгле и холоде, справляли нужду. В большинстве своем старые люди, они с трудом ступали по скользкому насту, неловко — без привычки — ковыляли по лесным кочкам.
Мириам Стайн стояла на низком крыльце, которое вело в дом — род хижины для лесорубов, только не в меру большой и неудобной. Прямая, полная сил после утренней разминки, стояла она на крыльце, глубоко вдыхая воздух, и с каждым выдохом от ее сочных губ веером разлетался пар. В спортивной куртке, в брюках, она единственная из всех женщин вписывалась в пейзаж. Закурив сигарету, она приветливо кивала всем, кто, пошатываясь и спотыкаясь, возвращался назад, в хижину, где как-никак было тепло вблизи раскаленной докрасна печурки, слишком маленькой для просторной пустой комнаты с темными стенами, обычно служившей приютом парням в грубых сапогах, с топором и котомкой за плечами. Она кивала каждому, кто взбирался на крыльцо, сопровождая кивок легкой улыбкой. Ее душу переполняло сострадание, да, именно сострадание к соплеменникам — беженцам, наскоро собравшимся в путь. Она испытывала к ним сострадание с примесью досады от того, что эти люди не могли, а может, — кто знает? — и не хотели представить себе иную обстановку, чем та, к которой привыкли: улица, лавчонка, город, где они провели свою жизнь, защищенные домом, защищенные, как они воображали, всем, что их окружало. За долгие годы они утратили страх перед преследованием. И когда преследования начались, перекинувшись и в здешние глухие места, когда и здесь началась охота на людей и всё, о чем раньше только читали в газетах, они никак не могли в это поверить. Они ходили друг к другу в гости, ошарашенные, неверящие, собирались кто в задних комнатах при лавчонках, кто — в ослепительных гостиных состоятельных семейств, там, где, пожалуй, лишь семисвечник на столе перед зеркалом напоминал хозяевам об их происхождении, общности с другими, подобными им людьми, о былых гонениях. Да и не забыли ли они вообще, что они евреи?
Она не забыла. Она, в детстве никогда не знавшая притеснений, а после на крыльях хвалы летавшая от концерта к концерту, из города в город по всей Скандинавии, она, вкусившая сладость успеха в Англии и в Голландии, да и в самой Германии до того, как там начались преследования... вот только не во Франции... Она стояла, улыбаясь воспоминаниям, рассеянно кивая людям, возвращающимся в дом. Честолюбие ее жаждало покорить Париж, но там ей не повезло...
Нет, она не забыла, что она еврейка. Впрочем, думала ли она об этом в детстве, и после — в консерватории? Никогда. Наверно, и она тоже нипочем не вспомнила бы об этом, не случись то небольшое происшествие...
Правда, теперь и это воспоминание вызвало у нее улыбку, потому что случилось то происшествие в дни ее счастья... Как давно все это было...
Не случись оно, может, мысль, что она еврейка, огорошила бы ее столь же внезапно, как и всех прочих, кого она сейчас в душе корила за это!..
Она стояла, улыбаясь своим мыслям. Из леса вышла старая фру Ф. — худая, в тяжелой, неудобной одежде; решив, что улыбка предназначается ей, она торопливо улыбнулась в ответ, как улыбаются люди, скованные страхом. Весь вчерашний день напролет старая женщина упрямо несла сама свой старомодный рюкзак, когда вереница людей медленно пробиралась сквозь частокол одинаковых стволов, выстроившихся ровными рядами, будто намеренно преграждая путь к земле обетованной, к стране, ставшей теперь для них землей обетованной, — к стране вон за тем лесом...
Из дома донеслась команда, отданная рокочущим басом и тут же повторенная пронзительным тенорком. Пронзительный тенорок принадлежал Харалдсену — сморщенному, будто высушенному на ветру, суетливому, настырному человечку. Харалдсен, судя по всему, был помощником Лося.
Вообще-то говоря, беженцам не полагалось знать ни имен, ни прозвищ своих провожатых, как, впрочем, и тех, у кого они находили приют в разных местах на окраине города. Они впервые встретились — молчаливая горстка перепуганных людей, — когда их собрали всех вместе на маленькой железнодорожной станции с красным зданием вокзала у двух пересекающихся путей. Им вообще не полагалось ничего знать. Но они как-то уловили это имя: Харалдсен. Так звали морщинистого, будто высушенного на ветру человечка, который вечно повторял все, что ни пророкочет своим звучным органным басом тот, другой — высокий, невозмутимый. Этот маленький человечек беспрерывно подгонял беженцев, донимал их резкими, сердитыми приказаниями. Мириам стояла у дома, уложив рюкзак, готовая идти дальше, и думала, что, наверно, возненавидела бы и этот голос, и, возможно, его обладателя, не будь он, как и тот, высокий, по прозвищу Лось, их спасителем — доверенным лицом Сопротивления, человеком, знающим каждую былинку, каждую кочку вдоль дороги между рекой и границей.
Скорей — в страну обетованную! Губы Мириам вновь сложились в горькую улыбку. Она знала, что все это случится. Но тоже никуда не уехала. Зная, чего следует ждать, она в душе не верила в это: не было у нее той убежденности, которая побуждает к действию. Она вообще считала, что всякое предвидение зиждется на шаткой основе: то-то и то-то случилось там-то и там-то — значит, то же самое должно теперь непременно случиться здесь. В душе жила смутная надежда: может, именно потому, что все случилось там-то и там-то, может, именно потому уже не случится здесь...
Но это случилось. Случилось одиннадцать дней назад. И все, или почти все, сразу узнали об этом. Весть переползала из дома в дом, приходили усталые, измученные бессонницей люди с оловянным взглядом, приходили в чужие дома и наставляли хозяев; их глухие голоса и мрачные взгляды подтверждали: началось. Началось и здесь тоже. Преследования евреев в Норвегии стали фактом, в Норвегии, маленькой разоренной стране, не желавшей верить, что одно неизбежно влечет за собой другое, что логика беспощадна, как математический ряд. Измученные бессонницей люди рассказывали: удалось вывезти еврейский детский дом — отважная женщина-врач приехала за детьми на автомобиле и постепенно перевезла всех. Рассказывали, что уже начались погромы и грабежи; в квартирах верующих евреев погромщики ломали утварь, уничтожали предметы ритуала, ненавистные и недоступные пониманию невежественных верзил в мундирах; рассказывали про супругов, разлученных и порознь отправленных...
Мириам поежилась на утреннем холоде. Слово это... Оно вобрало в себя все — все, что знаешь, но чему отказываешься верить, о чем догадываешься и рисуешь себе в мыслях, но страшишься признать. Безжалостные географические названия будто вмерзли в мозг: злобное смертоносное Берген-Бельзен, Освенцим с его дьявольским присвистом и ватное Маутхаузен, от слов этих пересыхает горло, и в нем першит от страха. И это глумливое слово: «отправили». Отправили, будто сверток, будто хлам, утративший всякую ценность в этом мире несчетных могил. Она, Мириам Стайн, скрипачка с европейским именем, сейчас втайне дрожала от стыда: ведь она не хотела верить тому, что хорошо знала. И еще она стыдилась мысли, что она сама и, может, трое-четверо других беженцев уже давно достигли бы желанной границы, без ночевки в обледеневшей хижине, не доведись им волочить за собой всех этих стариков и калек — людей, сгубивших свое здоровье тем, что вечно цеплялись за насиженные места, за жалкий свой скарб.
Неужто страх за собственную жизнь должен непременно ущемлять естественную человечность, подавлять чувство общности и сострадания?..
Все собрались теперь на площадке перед хижиной.
Было еще темно, но с востока, куда они держали путь, между стволами пробивался робкий свет. Символический свет... Ни разу за много лет Мириам не думала о том, что она еврейка, ни разу с тех пор, как не стало ее родного дома со всем его ритуалом, который соблюдали ее отец и братья... Но насколько искренней и глубокой была их вера? Этого она никогда не узнает. Все они уже умерли. Ее брат, живший в Париже. И прелестный Жак, сынишка его... Она теперь одна на всем белом свете. Когда-то она любила, но это давно прошло. Она выжгла в себе все, что не вело от одной сцены к другой, от одного концертного зала к другому, ко всем этим залам, где гасили свет, где сидели люди, над которыми она властвовала с помощью смычка — волшебного продолжения ее правой руки, тогда как левая рука легко и крепко держала скрипку, ставшую истинным продолжением ее души в мире, лишенном каких бы то ни было прочных ценностей, кроме музыки.
Последние беженцы с усталыми бледными лицами вышли из дома и обступили щуплого Харалдсена, и он заговорил своим пронзительным тенорком. Велел им спокойно шагать за ним, как вчера, ни о чем не спрашивая, не переговариваясь между собой, главное, чтобы они не спрашивали то и дело, сколько еще осталось до границы. Всего их было двенадцать человек, не считая двух проводников. Вчера они шли долго, но прошли совсем немного. Шествие беженцев особенно замедляли фру Ф., не желавшая расстаться со своим вещевым мешком, и еще худой студент-медик, который к тому же мог выдать их своим кашлем: кашель нападал приступами, вынуждая юношу то и дело останавливаться между деревьями и, низко склонившись к земле, зачерпывать воду в каждом лесном ручейке, в каждом ключе, еще не затянутом льдом. Было девятое декабря тысяча девятьсот сорок второго года, спустя одиннадцать дней после того, как из квартиры в квартиру, из контор в лавчонки, в библиотеки, во дворы шепотом стали передавать весть об этом и названия тех жутких мест, и имена людей, на чью долю уже выпал страшный жребий. Одиннадцать дней беженцы шли, прячась в разных местах, потому что граница была перекрыта, так сказали им люди. Еще одно из этих слов, которые теперь повторяют каждый день: граница перекрыта...
Вереница беженцев сразу двинулась в путь, и скоро им стало казаться, будто они бредут так всю жизнь. Была какая-то обреченность в этом унылом шествии людей, лишь уходящих от чего-то, но не устремленных навстречу новому. Впереди шел щуплый, морщинистый Харалдсен. Он особенно строго следил за тем, чтобы они не переговаривались между собой. Сам он на ходу беспрерывно бормотал что-то, то ли бранился, то ли молился богу — шедшие позади разобрать не могли. Он наводил на них страх. Кто-то говорил, что у него не все дома, рассказывали, будто он становился в позу у границы и приказывал сфотографировать его вместе с беглецами. Да, впрочем, чего только не говорили. Говорили, к примеру, что среди беженцев — знаменитая скрипачка Мириам Стайн, кое-кто слышал ее игру, другие читали о ней, хотя большинство беженцев были из тех, кто обычно не следит за такими вещами; но сейчас лесом брели двенадцать безвестных, незнакомых друг с другом людей — их собрали на маленькой железнодорожной станции и выстроили в цепочку. Потом они долго кружили по лесу и вынуждены были искать приюта в холодной хижине. Дурные вести с границы, сказали им. Граница перекрыта: сюда прислали новые отряды пограничной полиции. Да, чего только не говорили! Никто не знал, кто все это говорил, но ночью в лесной хижине люди, лежавшие без сна на жестких скамьях, шепотом сообщали друг другу самые жуткие вести.
По лесу шла маленькая вереница безвестных, незнакомых друг с другом людей разного возраста. Шли пожилые мужчины в фетровых шляпах и длинных зимних пальто, и женщины в шубах, и еще несколько человек помоложе в нескладно сидевших на них спортивных костюмах; кроме собственных рюкзаков, они несли тяжелые чемоданы тех, кто был старше и слабее их. Случалось, путники в душе кляли друг друга: у одного — тяжелый чемодан, другой ступает чересчур медленно и грузно. Но они помогали друг другу, хоть порой и без удовольствия.
Позади всех шагал человек по прозвищу Лось, великан с седой головой и невозмутимым лицом. Он не был ни приветлив, ни хмур, просто великан — косая сажень в плечах, — крепкий, надежный. Мириам шла посреди цепочки за трогательной парой старых супругов: из всех беглецов только они шли рядом — он брел по снегу чуть левее тропки, учтиво уступая дорогу жене, но тропинка была слишком узка для подобной учтивости, и жена тоже по большей части брела сбоку от нее, иногда они взглядывали друг на друга и улыбались. Этой улыбкой они подбадривали друг друга — улыбкой, что была теперь лишь отблеском прежних счастливых дней...
Так думала Мириам, бредя между чужими людьми по лесу, в голове назойливо всплывали образы, вызывавшие во всем ее существе острую боль: может, точно так же в свое время брели люди в пустыне сорок лет подряд и состарились под гнетом воспоминаний? Может ли быть, что они шли без всякой надежды? И была ли картина, открывшаяся их провожатому за рекой, столь же безрадостной, как та, что виделась сейчас маленькому Моисею, который вел беженцев за собой и, судя по всему, уже учуял недоброе? Бедняга, он видел границу, которую самому ему не дано было перейти... Разные мысли лезли в голову, оттого что ум Мириам оставался праздным во время ходьбы, ум, полный не тревожных предчувствий, а молчаливого и трезвого знания. Многие из беглецов, нынешних ее спутников, казались заведомо обреченными, настолько подавлены были они и равнодушны, словно начисто утратили способность представить себе какое бы то ни было будущее — хорошее или дурное. Ночью она слышала, как они перешептывались в холодном мраке хижины — одинокие люди, придавленные ужасом, который вызывали те жуткие слова.
День выдался холодный. После обильного снегопада в начале зимы повсюду лежал глубокий, но сухой, легкий снег. Непривычные ноги ступали по нему, спотыкаясь о заледеневшие корни и камни. Слабый рассвет, навстречу которому они шли, сгустился между деревьев в сплошную серую пелену; этот ровный свет стирал все расстояния, навевая глубокую тоску. Невыразимо жалкой казалась эта вереница измученных людей, петлявших между стволами: постоянные изменения курса предвещали мало хорошего. Часы тянулись в холодной тоскливой мгле. Казалось, они шли вот так всю жизнь. Время от времени Харалдсен останавливался и прислушивался, и даже эта передышка была новым испытанием для измученных людей. Значит, что-то происходит там, на границе? Они напряженно вслушивались в холодную мглу. Хорошо бы впереди шел Лось, человек, одним своим видом внушающий доверие, истинный борец Сопротивления, какими они себе их представляли. Но как-то раз во время очередной остановки, когда они снова долго вслушивались в тишину, Лось, тяжело ступая по глубокому снегу, вышел вперед, чтобы глухо перемолвиться несколькими словами со сморщенным человечком, и тогда все поняли: именно он, этот маленький щуплый сморчок, знает здесь все пути-дороги. Выступив из ряда, Мириам смотрела на своих провожатых, и ей вспоминались другие случаи из ее жизни, когда все решали мужчины, а женщины оставались в стороне, будто какая-то вещь.
Вскоре после полудня беженцы подошли к прогалине, неожиданно открывшейся в этом безрадостном лесу. Отделившись от них, Лось зашагал по холму и скрылся из виду. Вскоре он снова показался и поманил их рукой, а потом отвел в хижину, где им предстояло сделать привал. Почти всех беглецов люди, давшие им приют, щедро снабдили едой — хлебом, сыром и маслом, — такую снедь по нынешним временам редко видели те, кто остался дома, в Норвегии. Путники сразу же принялись наперебой угощать друг друга, хотя всем дали с собой примерно одно и то же, и все же чужая снедь всякий раз вносила разнообразие. Она казалась особенно вкусной — порождение чужого быта, чужих привычек.
Не в силах дольше смотреть на страдальческие лица, отмеченные печатью обреченности, Мириам вышла из хижины. У крыльца стоял Лось. С той стороны, от границы, подошел молодой человек. Она хотела поздороваться с ним, но он — замкнутый и неулыбчивый — направился прямо к Лосю. Он был в спортивном костюме с огромным рюкзаком. Пожилой великан и молодой незнакомец завели тихий разговор, дважды молодой оборачивался, показывая в ту сторону, откуда пришел. Потом торопливо попрощался и зашагал к лесу, из которого только что вышли беженцы.
— Господи,— вырвалось у Мириам, — ведь это же Кнут Люсакер!
Лось приложил палец к губам и еле заметно улыбнулся.
— Нынче лучше никого не признавать, — добродушно проговорил он. Потом с любопытством взглянул на нее: она была иной закваски, чем все эти испуганные люди.
— Он учился у меня играть на скрипке, — сказала она.
Лось тихо рассмеялся.
— Забудьте об этом,— сказал он. — Кнут, надо думать, в свое время лихо играл на скрипке, а все же лучше вам забыть об этом, главное — имя его забудьте.
Она молча кивнула. Она смотрела на уходившие вдаль следы больших спортивных ботинок. Значит, этот молодой человек, некогда способный и прилежный ее ученик, музыкант — один из тех, кто постоянно совершает опасные переходы. А прежде он казался ребенком — ребенком с печатью ранней зрелости на лице. Потом вдруг однажды он пропустил урок. Ей ни разу не случалось разговаривать с ним. И вот он перестал посещать уроки. Значит, он один из тех, кто поддерживает связь между отечественным Сопротивлением и свободным миром по ту сторону границы. Он — связной... так, кажется, это называется... в слове этом был оттенок торжественности и чего-то дерзновенного. Связные проносили опасные документы, им лучше было умереть на месте, если бы их схватили.
— Далеко еще? — спросила она. Это было против всех правил. Но наедине с ней Лось отнесся к этому спокойно.
— До границы самое большее час, — сказал он. — Мы думали, пусть люди сначала передохнут. Ведь последний отрезок пути...
Вот, значит, как! Последний отрезок пути — наиболее коварный, ведь нынче все наличные силы брошены ловить людей, объявленных самыми опасными! Как раз тут они вышли из хижины, и при виде их она невольно горько улыбнулась. Эти старые люди, значит, и были дичью, за которой охотились, которой расставляли сети, стремясь во что бы то ни стало накрыть их ею в последний миг, чтобы никто не вырвался на свободу...
Сеть? Новая мысль вдруг обожгла ее. Кто вечно твердил про сети, в которые хотят поймать человека? Она сразу же вспомнила кто, но противилась воспоминанию. Вилфред, бывший когда-то ее другом. Вилфред Саген, в прошлом Маленький Лорд, с которым она познакомилась в консерватории примерно четверть века назад, тот самый, что был ее другом, тот самый, кого она однажды спасла в Копенгагене, вызволила из унизительного положения, да, ее Маленький Лорд, безответственный человек, вечно попадавший в унизительные положения, тот, что подарил ей самые счастливые дни в ее жизни. Потом она бежала от него, от всего, связанного с ним, собрав последние силы...
Ее вдруг зазнобило от какого-то внутреннего холода. Рядом с ней выстроили всех беглецов, на этот раз разделив их на две группы. Покорные и безразличные ко всему, они выполнили приказ. Одну партию возглавил Лось, другую — Харалдсен. Мириам решительно вышла из ряда, в который ее поставили, и перешла в партию Лося. Первую группу повели налево, вторую — направо. И снова впереди Мириам оказалась та самая трогательная супружеская пара. Повинуясь внезапному порыву, она подалась вперед и взяла у супругов чемодан. Они удивленно обернулись к ней, смутились, хотели возразить. Но она успокоила их улыбкой и показала на собственный рюкзак: смотрите, мол, какой он легкий! Тогда они снова повернулись и затрусили дальше: теперь, когда она освободила их от ноши, старики могли наконец идти по тропинке рядом. И вдруг ими овладело спокойствие и бесстрашие: они следуют предначертанным путем, и, что бы ни ждало их — они вместе.
Мириам в свои 39 лет чувствовала себя совсем молодой и сильной. «Молодая, уверенная в своей победе, она стоит на сцене, будто двадцатилетняя...» — говорилось в статье о ее последнем концерте. И это была правда, она знала, что это так... Огромное, безмерное знание было сокрыто в ней. Молодой и уверенной в победе она и впрямь чувствовала себя все эти годы, не ведая того страха перед публикой, о котором так много говорили артисты. Он тоже понимал это, Вилфред. Как-то раз, было это в Лондоне, он поднялся к ней после ее концерта и спросил: откуда она могла все это знать... Сам он в то время, кажется, состоял при каком-то театре, писал декорации, он занимал там какую-то мелкую должность, хотя уже успел показать себя, и в тех редких случаях, когда он вдруг выступал с литературным произведением или картиной, в газетах появлялись рецензии, его называли способным...
Вдруг узкая цепочка людей вздрогнула. Обернувшись к ним, Лось поднял руку, требуя тишины. Новый повелительный знак руки, и они залегли на снегу, распластавшись, будто ворох тряпья. Лось поманил к себе Мириам, самую проворную в этой горстке немолодых людей. Знаком он показал ей, чтобы она пробиралась влево, а сам между тем, пригнувшись, двинулся вправо. Она торопливо кралась между деревьями, которые росли здесь особенно близко друг к другу — так, что протиснуться между ними было нелегко. Потом лес расступился, и показалась вырубка. Еще несколько шагов, и ей открылась пограничная просека, далеко продвинувшаяся в обе стороны. Она была шире, чем предполагала Мириам, и вырублена более ровно. Мириам ничком легла в снег на опушке леса — ждать дальнейших приказов.
В тот же миг с севера донесся выстрел. Лось, пригибаясь, побежал вперед.
— Болван, — шепотом выругался он.
— Кто стрелял? — спросила она. Выстрелы прозвучали удивительно глухо.
— Харалдсен, — ответил Лось. — Ждите здесь! — тихо добавил он и бросился к остальным — к тем, кто был позади.
Тут-то все и случилось — столь внезапно, что она даже не успела осознать, что именно случилось. Из леса за ее спиной вдруг послышались слова команды, которые кто-то выкрикивал с яростью, но так глухо и нечленораздельно, что она толком ничего не разобрала. И снова команда, окрик, выстрел... Она встала на колени с рюкзаком на спине и тяжелым чемоданом в руках, который судорожно старалась удержать, не соображая, что его лучше бросить...
Она кинулась бежать. Она бежала, пригибаясь как можно ниже, очертя голову мчась в белую пустыню. Сначала она не думала ни о чем, разве лишь — как нелепо она торчит над землей. Потом подумала: сейчас это случится, уже случилось с ними, сейчас это будет со мной... Вся прежняя легкость разом слетела с нее, каждый шаг был теперь пыткой, она ловила воздух ртом, но по-прежнему не догадывалась бросить чемодан. Бесконечная пограничная просека мнилась ей океаном, а берег беспрерывно отступал к деревьям на той стороне. Теперь сзади уже не доносилось ни криков, ни выстрелов. Кругом был мир белого снега, и в этом белом мире она была одна. Бежать стало легче, на открытом месте снег лежал плотнее. Она ощутила необыкновенный прилив сил, строй деревьев на другой стороне быстро приближался, и ей уже казалось, будто сама она стоит на месте, а навстречу ей плывет чужой берег — берег покоя, спасения.
И, очутившись в лесу на другой стороне, она продолжала бежать. Она будто забыла, что пограничная просека осталась позади. Деревья здесь стояли реже, и ей не терпелось, чтобы за ее спиной их стало как можно больше. Только потом она остановилась, ловя воздух ртом и уже понимая все. Но вздохнуть никак не удавалось. Она упала на снег и, падая, поняла все до конца: их схватили, кого-то из них схватили, может, даже всех остальных схватили, ведь кто-то подстерегал их именно здесь, и они всем косяком угодили в сети. Она лежала, припав к земле, голыми руками разрывая снег, и тихо стонала. Теперь уже не только рюкзак давил ее своей тяжестью — ее угнетало бремя безграничной вины перед теми людьми — бремя предательства? Она бросила их. Но ведь ее вызвали и послали вперед. И тогда-то все и случилось. Неужели ей надо было вернуться для того лишь, чтобы вздеть кверху руки под ружейным дулом?
Выстрелы. Только это занимало ее сейчас. Она знала, что проводники на этом маршруте к границе носили с собой оружие, но пускали его в ход лишь в чрезвычайном случае.
Может, у Харалдсена просто сдали нервы? Этого она не знала. Мысли перелетали от одного к другому, прерываемые стонами и слезами; отчаянно рыдая, она припала к снегу: он забивался в рот и леденил зубы.
Тут она спохватилась, что по-прежнему держит в руках чемодан старых супругов. Значит, она перетащила его через границу без всякой пользы для кого бы то ни было — будто украла. Мириам с отвращением выпустила из рук чемодан. Потом, встав на колени, освободилась от собственного рюкзака. Она прислушалась, по-прежнему стоя спиной к тому, к чему прислушивалась. Чуть спустя она медленно обернулась в ту сторону. Пограничной просеки уже не было видно, наверно, Мириам, сама того не сознавая, забежала довольно далеко на территорию Швеции. Медленно, пригнувшись, она стала красться назад по снегу. Вскоре она уже стояла у открытой просеки, попеременно оборачиваясь то в одну, то в другую сторону. Нигде никого, зато кругом — уйма следов... Мириам двинулась вдоль опушки между деревьев, пока не добралась до того места, где следы начинались. Все они шли в одном направлении. Следы были свежие. Кто-то еще, наверно, успел перебежать на ту сторону одновременно с ней. Но она никого не видела и не слышала. Видела только под ногами белый покров и впереди — опушку. А в ушах шумела кровь.
В лесу на той стороне все стихло. Отсюда туда — метров сто, не больше... Может, там, в ста метрах от нее, лежат ее недавние спутники, ничком, в снегу, как обычно в таких случаях приказывают ложиться людям в ожидании дальнейшего, а не то, может, палачи выстроили их лицом к деревьям, а потом кратчайшим путем поведут к уже ожидающим грузовикам. Но два этих мира — мир покоя и безопасности и другой — мир войны и охоты за людьми, она никак не могла отделить друг от друга... Как же так? В одном, значит, человека охраняет закон, а в другом закон велит того же человека убить. Мысль эта и негодование, ею вызванное, отняли у нее все силы, и она снова рухнула в снег, не снеся того, что знала всегда: так уж устроен свет...
Услышав шаги, она вновь припала к земле. Потом услышала также голоса, уже знакомые ей по глухим разговорам в пути, во время ночевки в хижине. К ней шли четверо из другой группы — юноша, девушка и двое пожилых мужчин. Они молча кивнули ей. Юноша и девушка улыбнулись. Перешел еще кто-нибудь границу? Видела она кого-нибудь? Вопросы и ответы скрещивались судорожно, страх и отчаяние выхолостили голоса. Один из мужчин потерял жену. Он все порывался бежать назад через просеку, но молодые не пускали его, им пришлось повалить его в снег и удерживать в таком положении. Вполне возможно, что и другие тоже перебрались через границу. Молодые знаком показали Мириам, чтобы она прошла вдоль просеки в другую сторону и там поискала их.
Только теперь Мириам вновь обрела прежнюю силу и ясность мысли. Она побежала вдоль опушки леса на юг, на бегу тихо окликая недавних спутников. Навстречу ей вышел мужчина — шведский крестьянин. Не видел ли он людей, пришедших с той стороны? Да, он слышал выстрелы: что, убили кого-нибудь? Кто-то стрелял, она не знает кто. Не видел ли он беженцев? Как же, вчера прибыла партия. А он живет в Фалле, у Фалльшё, граница там идет прямо по воде. А больше он не видел беженцев? Она показала рукой куда-то назад. Он покачал головой. Нет, оттуда больше не было беженцев. Вчера вот прибыла партия. Вопросы и ответы падали вразбивку, но постепенно складывались в слитную картину. Каждый день кто-то переходит границу, и евреи тоже. Значит, в Норвегии начались преследования евреев?
Вопросы были будто из другого мира. Это и вправду был другой мир. С равным успехом швед мог бы спросить, идет ли война.
Но крестьянин оказался добрым человеком и смекалистым, хоть и задавал нелепые вопросы. Наверно, простому человеку из нейтральной страны не так-то легко понять все, что случилось. Да, крестьянин оказался добрым и смекалистым малым; он спросил о ее спутниках. Вдвоем они пошли назад в лес и отыскали их, взяли и вещи Мириам — рюкзак и чемодан старых супругов. Неужели у нее столько вещей? Он раздумчиво приподнял чемодан, проверяя его вес. Мириам показала на рюкзак — это ее. А чемодан? Впервые она вдруг четко осознала, что это чемодан старых супругов, наверно собранный ими наспех, в надежде, что удастся спастись. И вот теперь он хмуро и одиноко стоит в снегу, в чужой стране, тогда как его владельцы...
Крестьянин понял, что означает ее кивок, он сделал несколько шагов в сторону просеки, к лесу, постоял прислушиваясь. Как странно — даже этот человек из безопасной страны не мог перейти белое поле, ступив в царство охоты на людей, не мог потребовать именем закона, чтобы ему выдали горстку несчастных, ищущих спасения у него на родине.
Подошли остальные. Двое молодых по-прежнему удерживали с двух сторон человека, отчаянно рвавшегося назад. У него выступила на губах пена, глаза после бесплодной борьбы смотрели осоловело. Швед, сразу поняв все, сказал: идти назад нет никакого смысла. Сколько людей еще осталось там?
Беженцы переглянулись, впервые прямо посмотрев друг другу в глаза. Впервые принялись они считать — считать человеческие жизни. Раньше их было двенадцать, теперь — пятеро.
— Они что, застукали вас?
Они впервые поняли, что «их застукали». Но кто их застукал? Мириам никого не видела. И четверо других тоже оказались у самой пограничной просеки, когда это случилось. И они тоже не обернулись, просто помчались вперед. Все снова переглянулись, точно стыдясь чего-то. М-да...
Швед обвел их взглядом.
— Ступайте на хутор,— сказал он,— вон там, у самой границы. Там норвежцы соорудили барак и столовую. Ступайте туда, придет ленсман — зарегистрируйтесь у него.
— А остальные как же?
Мириам кивнула в сторону границы. Этому человеку словно бы невдомек, что остальных нет с ними, что спутники их пропали. Беглец, потерявший свою жену, снова начал вырываться, и молодые еще крепче вцепились в его руки. Швед покачал головой. Долго смотрел он в ту сторону, где был другой мир. Потом снова показал на хутор — на этот раз они и впрямь увидели за деревьями дом. Туда им следовало идти.
А швед по-прежнему стоял у самой просеки, светлой полосой тянувшейся сквозь лес. Он хмуро улыбнулся им и замахал рукой, чтобы они уходили: пусть идут на хутор.
Медленно, понурив голову, побрели они вниз. Юноша поднял с земли чемодан старых супругов и понес. У него совсем ничего не было с собой.
2
Беглецов согнали в кучку — крошечную темную кучку, и они легли побелевшими лицами в снег. Все молчали. Таков был приказ. Три парня с угрюмыми мальчишескими лицами растерянно прохаживались взад и вперед, беспрерывно ругаясь. Что-то волновало их, словно произошло нечто непредвиденное. Кажется, они ждали кого-то. Еще они были растеряны оттого, что схватили не всех беглецов: кое-кому удалось убежать. Парни были в синих мундирах пограничной полиции, но без знаков различия.
Из-за деревьев вышел высокий, стройный человек. Казалось, его появление изумило тех троих. На вид ему было лет сорок, и держался он начальственно. Он коротко приказал что-то двоим, и те тут же удалились, разойдясь в противоположные стороны пограничной просеки. Потом он обернулся к третьему — единственному, кто остался на месте. Тот как будто стал возражать. Высокий насмешливо взглянул на него и слегка улыбнулся.
— Что ж, — сказал он,— в таком случае мы вместе отведем их назад. Велите им построиться!
Он отдавал приказания холодно и спокойно.
Охваченные ужасом беженцы наблюдали сцену, разыгрывавшуюся у них на глазах. Им приказали встать на колени на снегу, заложив руки за спину. Старые супруги стояли, тесно прижавшись друг к другу. Они будто уже решили умереть вместе. Высокий, стройный снова отдалился от них. Он тоже был в мундире, но какого-то иного рода. На вороте у него сверкали какие-то непонятные знаки. Лицо его поражало безукоризненной правильностью черт, а левая рука, которой он все время беспокойно жестикулировал, — необычной длиной. Сейчас он уходил от них, временами скрываясь за деревьями, а парень из пограничной полиции, прохаживаясь широкими шагами среди перепуганных беженцев, прокричал, что их не будут расстреливать: пусть немедленно встанут, возьмут свои вещи и строем — марш за ним, да поживей! В пустом лесу гулко отдавалась его брань. Некоторые из беженцев уже успели побывать в немецких тюрьмах с немецкими тюремщиками — тон этот был хорошо им знаком. Другие в ужасе смотрели на разбушевавшегося паренька. На вид лет восемнадцать, не больше, детски округлые щеки, крупные рабочие руки. Лицо совсем не злобное, скорее, чуть простодушное. Наверно уж, ждать недоброго надо от другого — того высокого, стройного, что шел впереди. Обычно такие вот красавчики оказывались самыми жестокими из всех.
— Шагом марш!
Военная команда звучала смехотворно по отношению к этим хилым людишкам, в большинстве своем пожилым, с трудом передвигающим ноги. Вереница беженцев медленно тронулась в путь — туда, откуда они только что пришли; теперь, когда они лишились всякой надежды, они то и дело скользили и спотыкались. Высокий, стройный снова вынырнул из-за деревьев. Двое в мундирах коротко посовещались. Похоже, они спорили о чем-то. Потом они повели своих пленных на север, вереница людей медленно тянулась по густому лесу, метрах в ста от пограничной просеки. Пленники слышали, как те двое в мундирах снова о чем-то заспорили, понизив голос. И снова беженцам приказали встать на колени, и если только кто-то посмеет пошевельнуться... Все это сердито прокричал им молодой парень, а высокий, стройный красавчик угрожающе взметнул сжатую в кулак левую руку. Вслед за этим оба вошли в лес. Самые смелые из беженцев опасливо подняли глаза, переглянулись, пытались подбодрить остальных улыбкой. Три женщины и четверо мужчин... все понимали, что добра не жди, но никто не плакал. Старая фру Ф. почти беззвучно шевелила губами, по-прежнему цепляясь за постромки старого рюкзака. Может, она молилась, а может, шептала проклятья.
Высокий и стройный вышел из-за деревьев один. Он приказал им встать. Лицо его было суровым. Он снова велел им изменить направление и сам зашагал вдоль цепочки, беспрерывно оглядываясь по сторонам. День уже клонился к вечеру, скупой на свет декабрьский день, а сумерки вскоре сгустились в сизую мглу. Беженцам человек этот казался странным. И они страшились его еще больше, чем того крикливого, грубого паренька. Рассказывали, что среди этих дикарей, без суда и следствия расправлявшихся с несчастными людьми, были особенно жестокие самодуры, изверги, движимые чистым садизмом. Самые молодые из беженцев начали шепотом переговариваться. Однако холодный взгляд высокого красавца мигом заставил всех смолкнуть. Даже скрип ботинок на снегу стал вдруг казаться чуть ли не преступлением, в котором они сами были повинны.
Долго брели они к северу, временами справа в просвете между деревьями мелькала пограничная просека. Этот долгий путь вдоль границы, за которой им обещали свободу, казался сейчас новой пыткой. Один раз на своем пути они увидели дом, вокруг маскировочных штор, точно рамка, проглядывали полоски света. Высокий обвел их вокруг дома. Он молча отдавал распоряжения — одним движением левой руки. Потом они снова отклонились вправо, все дальше и дальше отклонялись они от первоначального направления. Внезапно всю вереницу людей захлестнул ужас, все зашумели — неизвестно, кто начал первый. Но человек в мундире повелительно, с ледяным выражением на красивом лице вскинул левую руку, и это заставило всех умолкнуть.
Неожиданно они вновь оказались у пограничной просеки. Уже стояли густые сумерки. Белая полоса мерцала перед ними в слабом вечернем свете. Высокий красавец, увязая в глубоком снегу, обогнал колонну, выбежал на просеку и вернулся назад. Затем, все так же молча, сделал знак: бегите! Ничего не понимая, они как вкопанные застыли на опушке леса. Лицо красавца в мундире исказила гримаса раздражения. Он снова знаком велел им бежать, стоявшие ближе к нему расслышали сдавленное проклятие. Наконец двое выбежали на просеку — женщина и мужчина. За ними последовал третий. Потом двинулись и четверо остальных. Красавец в мундире сгреб в охапку старую фру Ф. и чуть ли не вынес ее на белую полосу. Первые к тому времени уже почти достигли другой стороны. Здесь, по слежавшемуся снегу, идти было легко. Красавец в мундире все время шепотом поторапливал их. Отобрав у фру Ф. ее тощий рюкзак, он тащил ее через кочки по скользкой ложбине, покрытой льдом. Первые были уже у цели, на безопасной стороне, там они бросились ничком на землю. Один хотел было вернуться назад, чтобы помочь старухе, но высокий снова сердито замахал рукой, приказывая беглецу идти дальше. Никто теперь никого не окликал, все молчали. И даже те, кто был уже в безопасности, в растерянности распластались на снегу, гадая, где же остальные. Только один-единственный силуэт метался между деревьями в полутьме в немой и надрывной пляске.
Наконец все перешли границу. Последние, застыв на опушке леса, видели, как красавец повернул назад, он шел теперь спокойно, будто по столичной улице Карла Юхана, победоносно вскинув голову: он шел с гордо поднятой головой, не страшась, казалось, решительно ничего, даже выстрела с той стороны — может, даже он ждал или хотел его.
Скоро он скрылся вдали за деревьями. Он не обернулся, чтобы им помахать. Было почти темно. Но они видели, что он ушел. Они переглядывались не в силах осознать случившееся. Тут вдруг кто-то всхлипнул у них за спиной. Где-то во тьме здесь были люди, кто-то из них уже отыскал самых слабых и больных из всей группы, тех, что, однако, не ныли, не хныкали в страшный час. Откуда-то появился шведский крестьянин. Он сказал, что все видел... С ним была женщина в брюках, та самая, про которую рассказывали, будто она музыкантша, и притом знаменитая. Она спросила:
— Тот человек, что сейчас пошел назад... кто он?
Ей отвечали: ах, этот... не знаем, он появился неожиданно и стал командовать, он распоряжался без слов, одними лишь взмахами левой руки. Но женщина — скрипачка, или кто она там есть, настаивала:
— А как он выглядел?
И одна из старух в восторге прощебетала:
— Он был прекрасен, будто ангел господень!
Скрипачка и шведский крестьянин стали хлопотать вокруг
них. Вдвоем они проводили их к хутору у озера. Прямо напротив гумна был пограничный шлагбаум. По другую сторону шлагбаума стояли два немецких солдата. Сигареты их вспыхивали во тьме.
3
Человек быстро шагал по лесу. Он шагал прямо на север, прочь от границы. Поленницы стояли здесь плотно одна к другой, угадывались во тьме и дальше. Мгла быстро сгущалась. Подойдя к одной из поленниц, он хотел наклониться, но оглянулся, будто что-то заслышав. Чуть подальше в лесу стояла женщина в лыжном костюме под коричневой кофтой, простоволосая. Она наступила на сухую ветку, этот хруст он и услышал. Она помахала ему, чтобы он не боялся, но было слишком темно, и он ее не заметил. Он наклонился и, просунув руку под бревна, вытащил оттуда комбинезон и свитер, затем стянул с себя мундир; оставшись на холодном вечернем ветру в одном нижнем белье, быстро засунул внутрь поленницы немецкий мундир и бережно его упрятал. Затем он натянул на себя гражданский костюм и проделал все это так проворно и быстро, что, казалось, будто из земли попросту вырос другой человек. Все время он действовал одной левой рукой, но женщина не могла заметить это во тьме, она знала лишь, что перед ней человек, втайне совершивший прекрасный подвиг, и вот он неожиданно перевоплотился у нее на глазах. Вероятно, он провел в лесу весь день. У него не было с собой даже рюкзака. Она видела, что он дрожит в своей легкой одежде. Потом он растерянно оглянулся вокруг — борец Сопротивления, он действовал на собственный страх и риск у границы в час смертельной опасности, когда те, кто жили в этих краях, почти каждый день становились перепуганными свидетелями трагедий...
Мгновенно приняв решение, женщина вышла из-за деревьев. В следующий миг они уже стояли друг против друга. Сначала мужчина хотел броситься бежать. Но тут же передумал. С невозмутимостью, чуть ли не смахивающей на издевку, он принялся оглядывать поленницу, а заодно соседние с ней, словно пришел сюда за каким-нибудь делом, связанным с лесными работами.
— Позвольте мне помочь вам! — сказала она голосом, тоненьким от волнения. И когда он отвернулся, чтобы она не разглядела его лица, добавила: — Я все видела, кое-что, во всяком случае. Вы, наверно, продрогли. А мы... мы живем тут по соседству — муж мой и я. Пойдемте со мной, отогреетесь у нас. — Но он по-прежнему не смотрел в ее сторону, притворяясь, будто ищет что-то рядом с поленницей; она продолжала: — Мы можем спрятать вас. Идти сейчас дальше назад для вас небезопасно. Вы ведь услали тех двоих вдоль пограничной просеки... может, они подняли тревогу, да они наверняка подняли тревогу!
Он обернулся к той стороне, посмотрел в глубь леса. Между деревьев притаилась мгла. Повсюду лежал серый, зловеще-серый снег. Женщина снова заговорила, тихо и сбивчиво:
— А был ведь еще третий солдат, и вообще...
Мужчина наконец решился.
— Хорошо, — устало сказал он. — Ступайте вперед.
Она осторожно двинулась вперед, в глубь леса, временами останавливаясь, чтобы прислушаться. Белка перепрыгнула с ветки на ветку, посыпался легкий снежок — и оба испугались. Застыли на месте. Она — спиной к нему, он дышал ей теперь прямо в копну волос. Оба одновременно сообразили, что произошло. И будто невидимый ток улыбки прошел между ними, проскочила искра доверия. Они подошли к открытому холму. На склоне его стоял маленький домик, темной кочкой плавал он в белом море снега. Из домика не проникал ни единый луч света. Они снова замерли, как и в прошлый раз, разглядывая дом. Но все будто дремало — и сам домик, и низенький сарай, темным пятнышком черневший на серовато-белом пригорке. Женщина сказала не оборачиваясь:
— Я пойду вперед. Стойте здесь. Если я выйду в проход между строениями и махну рукой, значит, все в порядке.
Мужчина стоял не шевелясь, она же стала подниматься по склону к дому. Там, наверху, она скрылась из виду. Он увидел, как в одном из окон вспыхнула полоска света под маскировочной шторой. И тут же женщина вышла во двор между строениями. Смутной тенью виделась она ему на пригорке, но он разглядел, как она махнула рукой. На миг он замешкался не в силах решиться. Затем быстро пересек открытый участок, взобрался на пригорок, ступая по ее следам, и после минутного колебания вошел за ней в дом. Она заперла за ним дверь, и они очутились в совершенно темных сенях. Но уже в следующий миг сюда хлынул свет из комнаты, в которую она вошла. Комната была маленькая, скудно обставленная городской мебелью. Женщина внезапно возникла посреди комнаты, окутанная нарядом из яркого света, и сказала каким-то совершенно новым, потеплевшим голосом:
— Добро пожаловать к нам!
Это была миловидная, крепко сбитая женщина в шерстяном костюме и кофте, со светлыми волосами; неожиданным было лишь что-то кукольное в слегка поблекших чертах лица. И тут вдруг что-то сделалось с ней, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Он быстро шагнул к ней, но она отпрянула назад с выражением блаженного ужаса на лице.
— Вилфред! — запинаясь, проговорила она тем тоненьким голоском, который он слышал в темном лесу. — Маленький Лорд! — И когда он растерянно застыл на месте, то ли испугался, то ли остолбенел от изумления: — Неужели ты не узнал меня? Неужели забыл свою Лилли? Нет, это же просто...
— Лилли! — негромко воскликнул он. Но она уже успела взять себя в руки. Приложив два пальца к губам, она испуганно оглянулась. Теперь он и в самом деле узнал ее. И страсть к притворству тут же захлестнула его.
— Мог ли я не узнать тебя? — проговорил он тем же тоном, только еще тише. — Господи, мог ли я не узнать мою Лилли, фею из моего детства на Драмменсвей? — Но при всем при том он держался на редкость скованно. Будто к нему снова вернулся страх, будто все эти слова нужны лишь для того, чтобы прогнать страх. — Мог ли я не узнать самую хорошенькую из всех наших горничных... первую мою любовь, таинственную дочь некоего дипломата... или — забыл — быть может, министра?
Но это поддразнивание, отголосок былых времен, рассердило ее. На кукольном лице появилось выражение недовольства. Она сбросила шерстяную кофту на стул и обернулась совсем иным существом — маленькой и проворной женщиной, верным, хоть и несколько поблекшим отражением той самой изящной горничной с Драмменсвей, которая столь великодушно покрывала самые дерзкие из его детских проделок и наверняка — он всегда это подозревал — видела его насквозь. И в то же время в ней появилась теперь какая-то твердость, зрелость, что ли,— хозяйка лесного домика, персонаж старой сказки... Он вспомнил долгие вечера на Драмменсвей с чтением вслух и короткие волнующие дни, полные тайных преступлений.
— Это твой дом? — Он огляделся вокруг. Он уже успел заметить стандартную полированную мебель, которая будто вопила: «Плата в рассрочку, плата в рассрочку — наш идеал уютного дома, целых двенадцать предметов!»
— Ты замужем? — снова спросил он.
Почти тридцать лет прошло с той поры. Всех этих лет теперь будто не бывало. В стране шла война, здесь, в лесу, шла война — оба они только что стали свидетелями стычки. Но сейчас всех этих лет будто и не было. Худо лишь, что женщина, по-прежнему стоявшая перед ним, в силу давней привычки держится с излишней почтительностью.
— Ты... вы... наверно, озябли и проголодались..
Было ясно, что она не осмеливается заговорить с ним о том, что видела там, в лесу. И она воспользовалась обычной уловкой хозяек:
— Да вы, наверно, проголодались, я сейчас принесу вам поесть...
Она ушла. Вилфред Саген застыл на месте. Правую руку он сунул в карман костюма. Левой провел по лбу — он никак не мог осознать эту невероятную встречу. И, все так же не двигаясь с места, он увидел, как она возвращается назад с подносом, на котором несет хлеб, сыр и масло. Его искушенный глаз сразу подметил, что масло — настоящее. Значит, те, кто живет близко к границе... Он отогнал эту мысль, не все ли ему равно. Он хотел думать лишь о том, что произошло в лесу. Но происшествие это ускользало от него, словно не сам он участвовал в нем, словно оно было лишь сном или грезой.
Лилли снова возвратилась в комнату.
— Скоро будет готов кофе, — сказала она. Теперь она произносила слова слегка на крестьянский лад.
Он все так же стоял, не двигаясь с места, но она сама подошла к нему с улыбкой и тронула его за плечо:
— Вы же часто говорили своей матушке, что ничто вас не удивит, что нет ничего невозможного.
Она неловко попыталась изобразить его речь — речь не по летам развитого ребенка, каким он был в детстве. Годы отступили назад, лавиной рухнули вниз... Она усадила его на диван — на самое почетное место.
«Вечно они усаживают тебя на диван, будто в западню, в ловушку, из которой не выберешься». Но Лилли уже вернулась с кофейником.
— Я думаю о положении, в которое попал, — медленно проговорил он. Он лгал, он пытался думать о своем положении, но оно никак не прояснялось в его мозгу, не обретало реальности.
Лилли поднесла к самому его носу чашку с кофе. Настоящий прекрасный кофе! Тут и сомнений не может быть, что... Он рассердился на самого себя за то, что отвлекается на такие пустяки.
Лилли сказала:
— То, что вы сделали... вот это действительно невероятно. Я была в лесу. Обычно мне удается... — Она вдруг осеклась, мгновенно смерив его подозрительным взглядом. Но для нее будто не существовало всех этих лет, хоть она и с болью следила за тем, что сейчас творилось в стране. Она вновь овладела собой: — Обычно мне удается кое в чем помочь людям. Мой муж...
— Твой муж? — Вопрос этот вырвался у него неловко, словно против воли.
— Мы ведь живем совсем рядом, это удобно. Когда я услышала первый выстрел... Я думала, беженцев надо повести дальше, к северу. А здесь граница закрыта с тех самых пор, как стали преследовать евреев.
Она говорила деловым тоном: все совершалось у нее на глазах.
— Лилли, — решительно начал он. — Извините, что я по-прежнему зову вас по имени, — нет, я уже оправился от изумления, не волнуйтесь, чего только не бывает, особенно в наши дни. У вас есть дети, Лилли? Нет, значит, что ж, не жалейте об этом. Как я понимаю, вы хозяйка небольшой крестьянской усадьбы. Здесь у вас очень славно...
В ней проступила вдруг некоторая чопорность, приличествующая, как ей казалось, хозяйке дома. Она протянула ему доску с хлебом. Да, и доска была шведского производства, там выделывают такие вещицы.
— Я вот что хотел сказать: сегодня вы видели случайное происшествие, в котором я оказался замешан, — не так ли, случайное происшествие, в котором оказался замешан неизвестный вам человек?..
Глубоко оскорбленная его словами, она вскинула голову.
— Я думала, вы поняли, что мне можно доверять, что мой муж и я...
Он прервал ее жестом левой руки.
— У меня и в мыслях не было просить вас не выдавать меня, молчать, если что-то случится. Я не хотел вас обидеть. Но ведь я сейчас в крайне затруднительном положении, вы же сами понимаете, что произошло. Сюда могут прийти, может, скоро они уже будут здесь.
Теперь она вновь была вся внимание.
— Мы можем спрятать тебя, — тихо сказала она. — У нас есть тайник... — И ей так хотелось поделиться с ним самым сокровенным, что у нее вырвалось: — Мы с мужем...
Кто-то свистнул за окном. Вилфред вздрогнул. Лилли улыбнулась. Снова раздался тот же свист, потом кто-то трижды неумело прокричал петухом. Подбежав к окошку, Лилли слегка отодвинула маскировочную штору, тоже трижды. Сразу же вслед за этим послышались грузные шаги, какой-то мужчина сбивал на крыльце снег с ботинок. Потом он вошел, стянул с себя берет. Лилли быстро шагнула к нему. Он был сед как лунь. Вилфред узнал его: это был тот самый человек, которого прозвали Лосем. Он мрачно ответил на приветствие жены.
— Сегодня все сорвалось, — сказал он.
Вилфред встал. Только сейчас в ярком свете лампы мужчина его заметил. Он попятился. Лилли побледнела и съежилась рядом с рассерженным мужем.
— Ты... ты сам сегодня вел? — тревожно спросила она. Потом быстро зашептала ему что-то: хотела успокоить.
— Да, я сам вел, вместе с Харалдсеном. Этот болван начал стрелять. И все сорвалось.
Он тяжело сел, по-прежнему не здороваясь с Вилфредом. Лилли вся дрожала от радости, что сейчас ошеломит его неожиданной новостью.
Лилли начала рассказывать, сбивчиво, как попало нагромождая слова. Она не знала, что он вел сегодня беженцев к границе. Он же никогда ей об этом не говорит. Она не видела его. Она видела лишь, что одни перебрались на ту сторону, а другие стояли на коленях в снегу, и тут вдруг... она не находила слов, чтобы ошеломить его, как хотела. На глазах у нее выступили слезы. Слишком уж она гордилась своей лептой, чтобы рассказать о необычайном событии в двух словах. Она лишь то и дело показывала на гостя и бормотала что вот, мол, он сделал нечто такое... словом, все беженцы спасены! Ничего нельзя было разобрать. Но Лось все же разобрал — опытный боец, вынесший на своих плечах нечеловеческое бремя — бремя неудачи...
Мало-помалу до него дошел смысл ее слов. Преодолевая смертельную усталость, он встал, но снова рухнул на стул. Жена принесла ему кофе. Обняла его. Женщина между двумя мужчинами, которыми одинаково гордилась, сейчас должна была сделать только одно — наилучшим образом все объяснить. Настал самый великий миг в ее жизни — миг, связавший настоящее с юностью, проведенной в кругу светских людей, который она презирала, но которым все же втайне гордилась.
Тяжело поднявшись, Лось пересек комнату. Казалось, его ботинки заняли все пространство. Он протянул гостю руку, похожую на медвежью лапу. Вилфред быстро выбросил свою левую и горячо пожал эту лапу. Тот отпрянул. Бросил на жену быстрый взгляд.
— Вы повредили руку? — спросил он.
Вилфред кивнул. Лилли в растерянности оборачивалась то к одному, то к другому, то к человеку по прозвищу Лось, гордости ее и счастью, то к неизменно жившему в ее мечтах сказочному принцу ее юности, порочному ангелочку, всегда ошеломлявшему ее своими выдумками и затеями... Много лет в сердце своем, или где там хранят такие вещи, она хранила его образ, и случалось, в уединенные часы обращалась к нему, скрашивая этим воспоминанием дни в тихой крестьянской усадьбе, где текла ее жизнь. Она вгляделась в это лицо, что в былые годы столько раз заставляло ее волноваться. Черты его осунулись. Это не было лицо мужчины, каким теперь представлялось ей мужское лицо. Но за складками кожи, за впадинами щек она разглядела все те же утонченные, мягкие черты, будто с книжной картинки, ту же жесткую, чуть насмешливую улыбку... все было точно такое же, может, скрытое годами, а, может, наоборот, приоткрытое? В эту минуту перед ней словно ожило прошлое в уютном доме на Драмменсвей, полном озорства и мелкой лжи.
И снова она обратила взгляд к мужу — Лосю. Что-то чуждое, жесткое появилось в нем после нежданной радости. Он редко улыбался всем лицом. Но на его лице была эта улыбка, широкая, открытая улыбка, когда он двинулся в своих огромных ботинках навстречу гостю. Теперь улыбка погасла, стерлась. Растерянно стояла Лилли между двумя мужчинами. Она спросила:
— Ваша рука?.. Может, я могу чем-нибудь вам помочь?
Гость улыбнулся:
— Премного благодарен, но это старая рана...
Впрочем, он не глядел на Лилли. Он не сводил взгляда с Лося. Лилли была трогательна в своей беспомощности. Она обернулась к мужу:
— Я сказала, что мы можем спрятать его на эту ночь. Наверно, сейчас за ним уже послали погоню...
Ее взгляд зашарил по лицу Лося. Тут было что-то недоступное ее пониманию. Муж взглянул на нее, будто очнувшись от сна.
— Конечно, — сказал он. — Спрятать на одну ночь... Сейчас.
Втроем они выпили кофе. Оказалось, у Лилли припасена бутылочка водки. Она суетилась вокруг мужчин, чтобы как-то поднять настроение. Она снова рассказала мужу все, что видела. Она заставила даже Вилфреда выдавить из себя несколько слов. Муж ее задал всего лишь два-три вопроса. Он спросил, где гость раздобыл немецкий мундир, и Лилли снова была тут как тут, сразу же восторженно защебетала о том, что она видела в лесу. Она была женщина между двух мужчин, и оба были ей дороги.
— И тогда я сказала, что мы можем его спрятать.
— Спрятать его...
Повторив эти слова, муж кивнул. Они чокнулись крошечными рюмками. Потом выпили кофе и снова чокнулись. Настало время ложиться спать. Муж встал, взял фонарь. Втроем они пересекли двор, Лось прикрывал фонарь рукой. В сарае потайная лестница вела вниз, в маленькую комнатушку. В ней оказалось на редкость уютно. Там стоял диван, а на нем — шерстяные одеяла, тут же были электрическая плитка, стул, на стуле — несколько книг. Вилфред сразу же распознал в одной из книг свое сочинение, первую свою книгу. Секунду мужчины стояли друг против друга. Взгляд Лося был прикован к правой руке Вилфреда, загадочно засунутой в карман костюма. Он увидел, что его гость легко и привычно орудует левой.
— До завтра, — сказал он. И ушел.
Вилфред стоял в маленькой подвальной каморке и слышал, как заскрипел снег под огромными ботинками Лося.
Он долго стоял так, может, с полчаса. Стоял не шевелясь. Прислушивался.
Так и не услышав ни единого звука, Вилфред осторожно вышел за дверь и прислушался снова. Потом вернулся назад и потушил свет. И снова долго стоял в потемках и слушал. Потом подошел к раскрытой двери и ощупью взобрался вверх по лестнице. Он все запомнил. Легко отыскав наружную дверь, он вышел во двор. Небо очистилось от туч. Вилфред отчетливо видел домик на другой стороне двора. Все было окутано мраком и тишиной.
Тогда, выйдя со двора, он зашагал на запад. Он ставил ногу в снег на всю подошву, будто пробираясь по илистому дну реки. От этого при ходьбе почти не слышно скрипа. Морозило...
4
Грузный человек по прозвищу Лось ощупью вошел в комнату и остался стоять впотьмах, прислушиваясь к дыханию жены. Дыхание было столь безупречно ровное, что он понял: она не спит. Сбросив с себя одежду, Лось тяжело рухнул на край кровати и долго сидел так, всматриваясь в потемки. В глазах плясали искры. Только теперь он почувствовал, какого напряжения стоил ему этот день. Он так устал, что не мог совладать с этими искрами, они плясали, то угасая, то загораясь, двоились, складываясь в причудливые узоры, то вспыхивавшие, то исчезавшие где-то позади сетчатки.
Дыхание Лилли утратило свою подозрительную размеренность. Она приподнялась на кровати, и слабый скрип в тишине показался непривычно громким.
— Ты думаешь, это он?
— Кто «он»? — спросил Лось.
— Он. Однорукий.
— Не знаю. Да, думаю, он. Что ты ему рассказала?..
— Господи... — Теперь она села в постели и впилась взглядом во мрак, в ту сторону, где сидел муж. — Это же Вилфред, тот самый, о котором я столько тебе рассказывала, прелестный мальчик из большого дома на Драмменсвей. Я же не могла себе представить...
— Да, да, — с досадой перебил он ее, — мы никогда не можем себе представить, что кто-то из наших знакомых — предатель. Но как ты думаешь, что он все-таки понял?
— Вилфред Саген, — задумчиво обронила она во тьму. — Он понял все. Он обо всем догадался... — И, не услышав ответа, взмолилась: — но ведь он же помог беженцам, он же спас их. Он на нашей стороне!
Она сидела, роняя слова в темное пространство, тщетно стараясь придать им вес, но слова были бесплотны, и от этого они, казалось, не достигали дна.
— В том-то и дело, — сказал он. — Однорукий, как его прозвали, он, может, и на той, и на другой стороне, почем мы знаем! Он вдруг появляется откуда ни возьмись, как можно знать...
— Но он же помог беженцам, — не отступалась она. — Он и вправду появился внезапно, в немецком мундире, отдал этим мерзким парням какой-то приказ, отослал их. А после сорвал с себя мундир, одежда его была спрятана под дровами. Я все это видела сама, он стоял в лесу и дрожал от холода.
Каждый из них теперь сидел на своей кровати и каждый смотрел прямо перед собой в потемках, будто ни к кому не обращаясь. Робко высунувшись из-под одеяла, она взяла мужа за руку, рука была холодная, как снег за окном, жесткая, сильная.
— Скажи правду, я тебя подвела?
Он высвободил свою руку и жесткой ладонью погладил маленькую ручку жены, утешая ее.
— Не знаю. Вот ведь проклятое дело. Если мы с тобой ошиблись, все полетит к чертям. Самое разумное было бы немедленно сматываться отсюда.
— Через границу? Ты же говорил, что никогда этого не сделаешь, даже если все...
Лось устало провел рукой по лицу. Искры по-прежнему плясали в глазах.
— Конечно, — мрачно проговорил он. — Если все вздумают отсюда уйти... Да только, если нас схватят, нужно суметь держать язык за зубами.
Лилли вздохнула. Ей вновь представились все эти картины: говорили, будто там вырывают ногти... Она дотронулась до своих пальцев. Даже за самой трудной работой здесь, в лесу, она не забывала следить за своими ногтями. Лилли так до конца и не отделалась от своей суетности столичной горничной.
— Ты ведь можешь поехать на север, к сестре и зятю...
Подняв холеную руку столичной горничной, Лилли неловко погладила мужа по лицу. Она тронула его щетину, словно проведя шелком по колючей проволоке.
— Да, да, — незлобиво, со вздохом проговорил он, — я знаю, ты этого не хочешь. Да и я не хочу. Но ведь и о других людях тоже нужно подумать.
Он не договорил. Не было нужды договаривать. Когда-то Лось пытался скрыть свою деятельность на границе и в других местах от Лилли. Подобно многим сильным мужчинам, он считал свою жену слабой, беспомощной. В этом не было для нее ничего обидного, просто ему нравилось заботиться о других, хотя жизнь у него всегда была суровая, и в ней не было места для нежности.
Лилли откинулась назад, легла, стараясь приглушить тревогу.
«Если мы ошиблись», — сказал муж. Все эти годы она слышала его споры с друзьями, горячие споры о том, что бесполезно спасать какие-то единичные человеческие жизни... Спасти горстку измученных войной беглецов, переправив их на ту сторону границы, туда, где было вволю еды, где царил мир... да многие из них, может, даже большинство, были недостойны того, чтобы ради них приносить столько жертв. Товарищи Лося знали это, все время знали, и кое-кто из них ожесточился и озлобился, они стали укорять друг друга за мелкие оплошности, допущенные в пути, в их неблагодарной роли проводников. Ни разу она не слыхала, чтобы Лось корил кого-нибудь за ошибку. Единственное, что выводило его из себя, — это когда кто-то хотел бросить свою работу, отступиться, потому-де, что от этой мелкой смехотворной возни нет никакого толку. «Не о себе сейчас надо думать», — неизменно говорил он своим обычным спокойным тоном. Многих перепуганных или отчаявшихся людей одна эта фраза заставляла взяться за ум.
— Ты могла бы перебраться через границу, а я заберу тебя назад, когда здесь снова все успокоится, — сказал он. — И поскольку она не отвечала, он продолжал: — Я знаком кое с кем на той стороне. Уж они не станут докладывать властям.
Ответа нет. Она лежит не шевелясь и глядит в потолок. Будто в темноте можно различить его зеленые доски. Она тогда поставила одну на другую две табуретки и красила потолок, терпеливо переставляя обе табуретки, пока весь потолок не был выкрашен приятным зеленым цветом. Было это в летнюю пору, когда муж не возвращался к ней пять дней кряду и она не знала, как вынести те светлые ночи, как лучше погасить страх и тревогу. А когда однажды утром он вернулся домой — такой худой, измученный, что она не сразу его узнала, — она огорчилась от того, что он повалился на кровать и уснул, даже не заметив, что она заново выкрасила весь потолок.
«Наверное, я никогда не пойму, как все это страшно», — подумала она, потягиваясь в кровати. Ей было приятно все это, приятно было участвовать в игре, но притом она считала, что защищена от наихудшего. Она пыталась представить себе мрачный подвал для пыток, где на тебя с громкой бранью накидываются палачи, вооруженные палками и щипцами. И если начнут вырывать ногти... казалось, не ей самой будет больно, а какой-то другой, незнакомой женщине; у нее защемило в груди от жалости к той чужой женщине, чувство вины захлестнуло ее. Не на нее ведь орали палачи, не у нее вырывали ногти.
— Он нипочем этого не сделает! — вдруг воскликнула она в потемках.
— Кто не сделает? И чего?
Искры в глазах только сейчас погасли. По голосу Лося было слышно, что он уже почти спит. Но он тут же проснулся от ее слов. Одни и те же мысли преследовали его во сне и за любым делом, они всегда были тут как тут, будто рисунок на ткани, беспрерывно разматывающейся на станке, открывая все тот же узор... Холодно и неожиданно резко он ответил ей:
— Этого ты не знаешь. И не можешь знать. Никто этого не знает. Есть такие типы, что вроде и вашим, и нашим...
Она возразила. Что значит: и нашим, и вашим? Если человек не на их стороне, значит, он против них, как же еще?
Он коснулся ладонью ее лица.
— Ты воображаешь: оттого, что ты когда-то знала его мальчишкой — кстати, ты сама рассказывала, он был такой пройдоха, что даже его мамаша и та понятия не имела, что он вытворяет... И если это вправду он, Однорукий, как его тут прозвали, то, говорят, он всю жизнь колесил по свету и водился со всяким сбродом, с богачами и еще бог знает с кем и никогда не занимался никаким путным делом, разве что писал что-то или малевал, но даже и тут не добился толку, как я слыхал. Вечно он лишь забавлялся и морочил голову людям. Да они все такие...
— Кто это «они»?
От его слов повеяло холодком, как всегда, когда они касались такой темы, как классовая борьба или что-нибудь в этом роде, — за много лет она так и не научилась относиться к этому серьезно. Ее преданная девичья душа навсегда была околдована почтением к знатным и благородным людям, хоть в свое время она и сама многое видела и поняла. Зачем только муж всегда делит людей на два лагеря и готовится к бою?
— Чудачка ты, — уже беззлобно продолжал он. — Сколько лет ты живешь здесь со мной в диком лесу, в крошечной нашей усадьбе, вся работа на тебе — по дому и по двору, и, ничего не скажешь, ты с честью несешь хлопоты, а все равно...
Он не договорил. Да она и не хотела этого слышать. Тень эта весь век маячила между ними, разве что растаяла за последний год: Лось — человек из леса, участник классовых боев и стачек, должен был сражаться со смешной мечтательной слабостью к «сливкам общества» у своей маленькой крепкой женушки, так бойко управлявшейся с ведрами и дымящей плитой.
— Есть такая порода людей: они ни за тебя, ни против, — не спеша продолжал он, пытаясь разъяснить ей и заодно уяснить себе то, что и ему казалось загадочным. — Может, они одновременно и за, и против — для них это ведь своего рода спорт, почем я знаю. Ты же сама рассказывала, что твой Маленький Лорд еще в ту пору всегда будто раздваивался, отгадывал чужие мысли и паясничал. — Лось полежал еще немного, подумал. Потом сказал: — Есть такая порода людей — в них столько злобы, что они и самих себя готовы зарезать.
— Не пойму я этого, — закрывая глаза, сказала она. Мужество вдруг покинуло ее, тоска, казалось, разом нахлынула со всех сторон, накрыла ее будто влажной простыней. — Ничего я не понимаю. Поступай как знаешь.
Снова тот же смиренный тон и та же покорность. Он не осознал этого до конца, но все же в нем шевельнулась догадка: что, если это маленькая хитрость с ее стороны? Но даже догадка эта растрогала его. Они с товарищами часто говорили: мужчина, ведущий активную работу в Сопротивлении, должен быть свободен. Но кто свободен? Может ли взрослый человек быть свободен от заботы о ком-то, от личной привязанности?.. Иногда, случалось, он ощущал укоры совести за то, что он остался человеком, с человеческими радостями и огорчениями, в мире, превратившемся в сплошной кровавый клубок, из которого не вырваться никому...
— Мы многого не понимаем, — сонно забормотал он. — Да и понимаем ли мы вообще что-нибудь? Когда они пришли в нашу страну, разве мы понимали, что нас ждет? Мы не хотели этому верить. Когда к нам сюда, на границу, устремились люди, молившие о помощи... разве мы понимали? А когда на хуторе Нюсвеен расстреляли хозяйского сына и он мертвый лежал перед домом... что мы тогда поняли? Наверно, мы и сейчас не понимаем, что речь идет о жизни и смерти.
Он говорил об этом, словно бы усмехаясь впотьмах, как будто стеснялся таких выспренних слов. Теплое чувство подкатило к ее сердцу: с ним творится то же самое, подумала она, может, даже и ему до конца не верится, что все обстоит именно так, хоть он и в гуще борьбы.
— А можешь ты понять, — с усилием выдохнула она во тьму, — что кто-то держит их сторону, кто-то из норвежцев?
Он немного помедлил с ответом.
— Да, могу. Были скверные времена для рабочего люда. Не так уж глупо звучали посулы тех самых типов...
Она лежала, обдумывая его ответ. Ведь она просто забыла обо всем этом. И снова мысли ее отвлеклись в сторону.
Она спросила:
— А правда, что хотели его убрать? Однорукого?
Она робко произнесла эти слова — чуждые ей слова: она страшилась до конца додумать мысль... Он хотел прикоснуться к ней во тьме, но нащупал лишь простыню, закрывавшую ее, словно броня.
— Не твоего ума это дело...
Он лежал, прислушиваясь к ее дыханию во тьме, оно скоро выровнялось, и все-таки он услышал:
— А ты убивал кого-нибудь? Он пришел в ярость.
— Мы не должны думать о таких вещах! — сказал он. — Не нашего ума это дело.
Он говорил «мы» и «не нашего ума», хотел этим успокоить ее. Но ведь легче было просто ответить: «Нет». Тут вдруг она услышала его храп, в комнате зашумело, загрохотало. Ей было грустно одной, одолевала жалость к мужу. Перед ее мысленным взором возник бледный человек с золотыми кудрями... а впрочем, кажется, теперь нет уже ни золота, ни кудрей. Лицо, возникшее перед нею во мраке, было лицом ребенка, совсем непохожее на усталое, худое лицо человека, еще недавно стоявшего в ее комнате. Однако черты, спрятанные под морщинами, были все те же, ангельские, почти беспощадно правильные черты, некогда придававшие его лицу холодную взрослость. Тогда Вилфред был ребенком. Но, пожалуй, теперь, когда он стал мужчиной, те же черты отмечали его печатью детской беспомощности. Сейчас ему, должно быть, года сорок три. Цифра эта казалась ей невероятной. Самой ей скоро уже исполнится пятьдесят — состарившаяся девочка, при ведрах и дымящей плите...
Вилфред нырнул в лес, что тянулся к северу от усадьбы. Поначалу он оставлял в снегу на безлесном пригорке глубокие следы. По ним всякий мог бы проследить его путь. Муж Лилли, тот, которого прозвали Лосем, мог поутру снарядить за ним погоню. Нетрудно догадаться, что он пойдет лесом на север, что он захочет снова вернуться в Осло. А если к тому же догадаются, кто ему помогал и с кем он держит связь? Он и впрямь был очень одинок, всегда и везде, но все же располагал кое-какими связями. Он знал, что эти простаки прозвали его Одноруким. По нынешним временам физический недостаток — немалая помеха. Речь, разумеется, не о том, чтобы научиться ловко преодолевать неудобства, — разве он уже давным-давно не разучил все пьесы для одноруких пианистов?
Надо будет — он и вовсе без рук обойдется. Искусственной правой рукой он умел делать почти все то же, что другие двумя настоящими руками. Главное — чтобы люди этого не замечали. По нынешним временам особая примета — большое зло.
На ходу корча гримасы, Вилфред все больше углублялся в лес. Когда ты в лесу, он уже не кажется таким темным. Вилфред изобразил на своем лице презрение и впрямь исполнился презрения. Хорошо, что он по-прежнему владеет своими чувствами. Пробираясь ощупью меж деревьев, росших плотно одно к другому, он старался разжечь в себе бесстрашие: жидкий, прозрачный лесок не мог его спрятать.
Вилфред почувствовал вдруг, что смертельно устал. Он брел между деревьями шатаясь, как какой-нибудь пьяница. Но ему нельзя шататься, нельзя прилечь отдохнуть. Холодно. Надо скорей идти дальше. Когда он доберется до хутора, он постарается связаться с Робертом. Роберт никогда ни о чем не спрашивает, Роберт выше таких вещей. А может, нет? Да что там, конечно же, Роберт выше таких вещей, хоть он и патриот, как все. Он снова на коне и, надо думать, тем или иным способом обделывает свои дела. Среди всех этих героев и борцов Сопротивления немало таких, которые ловко обделывают свои делишки. Почему не быть среди них и Роберту? Он теперь редко видится с ним и ни о чем не спрашивает, никогда — ни о чем. Может, оттого и Роберт тоже не спрашивает его ни о чем? Роберт не мастер трезво оценивать действительность, никогда им не был. Роберт, добрая душа, человек, который всю жизнь с переменным успехом проворачивал разные дела.
Да, он свяжется с ним, как только доберется до хутора. Путь займет целый день да еще ночь, и то, если повезет. Но, как знать, может, займет и больше. Ему нельзя шататься. Надо идти ровно, ведь он должен пересечь множество проезжих дорог да еще мост, а сейчас, после того, что он сделал, опасно пересекать мосты...
Все перепуталось. Это и давало Вилфреду возможность жить, на это он и делал ставку. Когда он доберется до большого хутора... Он вздрогнул при мысли: а что, если там больше нет Морица? Мориц обязан ему, Мориц — офицер, командующий частью... Но что, если его больше там нет?
Да что уж, конечно, он там. Правда, ему посулили другое назначение — ничтожный, дрянной пост у побережья при одной из никому не нужных батарей, размещенных здесь в первое лето войны. Мориц сам не знал, что это — повышение или... Он предпочел думать, что повышение. Там он будет сам себе голова, да и делать там почти нечего. Охота им вот так переставлять людей с места на место!.. Он сам сказал это Вилфреду с одной из тех своих кислых улыбок, что, казалось, таили в себе предательскую насмешку...
Вилфред шел предрассветным лесом и думал о том, как все перепуталось: вот у него ход к офицеру — командиру воинской части. Все началось с пустяка: однажды, когда случай или его собственная страсть к опасным играм свели их вместе на том большом хуторе и Мориц произнес одну из своих длинных тирад, лихо и от всего сердца выпалив изменническую ересь, в комнате вдруг появились двое, и Вилфред, быстро сообразив, что надо делать, продолжил сам преступную тираду в точности тем же голосом — голосом Морица, с той же легкомысленной цинической интонацией, на его родном языке... и те двое застыли на месте, ошеломленные, и только переглядывались... а Мориц встал и с улыбкой заявил: «Да, вот перед нами один из этих непокорных болтунов, которые выражают идеи Сопротивления...» Он тут же предал Вилфреда, своего спасителя... и те двое вывели его во двор большого хутора, избили как следует и увезли...
Затем по приказу свыше его отпустили. Как дал понять ему Мориц, иногда могут пригодиться такие типы, как он, такие, у кого связи по обе стороны...
Значит, правда, что куда ни глянь — все прогнило, значит, в каждом механизме имелось свое ненадежное звено. И правда, в силу того, что сам он был ненадежным звеном во всех цепях, куда вставляла его жизнь, он стал играть спасительную роль посредника... Он невольно улыбнулся этой мысли — один в ледяном царстве: кто он, падший ангел? Пусть так!..
Когда же он доберется до хутора?.. Казалось, путь до него бесконечно долог... Но он знал дорогу. Случай сделал его ангелом-спасителем человека, занимавшего высокий пост, но, возможно, недовольного этим постом, впрочем, кто знает? Наверно, и он играл в ту же игру и так же смотрел на все с разных сторон, как и Вилфред, так что, надо думать, в тот самый первый раз их свел не только слепой случай.
Ведь они же с первого знакомства поняли друг друга.
Они поняли друг друга в тот же миг, когда опасность миновала — когда она миновала для Морица. Взаимная зависимость — добрый залог для дружбы. И то хорошо, что каждый знал про другого: он запятнан, он изгой, желающий одного и делающий другое... А что могла дать Морицу война? Он владел имением в Померании, был богат, а значит, и над ним тоже нависла угроза, он был утонченный игрок, чуждый этой плоской, хоть и непомерно восхваляемой односторонности, имя которой — мораль. Можно считать, что Вилфред вызволил из беды своего духовного брата. Он подыскал ему также подружку, отыскал в джунглях, где пребывали подобные ей — презренные, лишенные нравственности и равнодушные люди — люди без родины, как называли их.
Вилфред шагал, насмешливо улыбаясь. Его уже не шатало из стороны в сторону.
Все перепуталось — но только не для простых душ. Он сразу вспомнил Лилли и ее мужа — простого человека с простыми целями и заботами. Для них, для всех, кто был с ними, Вилфред только что сыграл роль сущего ангела. Вспомнил он и о другом, что-то настойчиво рвалось в душу и грозило ее заполонить. Но он отогнал эту мысль. Он словно бы видел женщину, которая бежала по белому снегу между деревьями. Она обошлась без его помощи. Он знал, что она будет в этой партии. Вилфред многое знал из того, что творилось по обе стороны фронта. Ему было забавно все это знать. И забавно вмешиваться временами. И если был в мире человек, которого ему действительно хотелось спасти от этой безумной охоты на людей, то и это нисколько не умаляло его равнодушия ко всему на свете. Где-то в пустом пространстве его души жила память о чем-то настоящем и прочном... скудные воспоминания о несбывшемся.
Все эти настроения забавляли его, они помогали скоротать время в пути... После, надо думать, его осенит что-либо другое, коль скоро нет выбора. Придет время, и он отдаст себя на волю судьбы... Все происходит само собой. Первым делом его ждет отдых на большом хуторе.
5
Многие мужчины с годами обретают лицо. Роберт принадлежал к их числу, черты его лица стали тверже, образовав некую систему складок, и выражали теперь определенный характер, который он старался воплотить всем строем своей жизни. Жизнь его была соткана из множества решений, и все они принимались от чистого сердца. Его изначально смазливое лицо послушно приноравливалось к каждой очередной роли. Но после случилось главное событие его жизни. Он был из тех, кто говорил: «Когда на карту поставлена судьба отечества...» Все горе родины, собранное вместе, подарило ему вторую молодость. И мало-помалу он обрел лицо человека, на которого можно положиться, при желании он мог бы сделать на этом карьеру...
«Таких, как он, изображают на рекламах виски», — подумал Вилфред, когда они стояли друг против друга в дверях. Роберт не скрывал своего изумления:
— Как ты узнал пароль?
— Господи, право же нетрудно сообразить, что человек твоего толка открывает дверь по звонку, сигнализирующему букву «V» [1]! Ты что, не хочешь меня впустить?
Когда они вошли в комнату, он сразу заметил запретный радиоприемник на книжной полке, точнее, край его, выглядывавший из-под незатейливой маскировки.
— Я уже увидел его, — сказал он, когда Роберт попытался заслонить собой аппарат.
Ох уж эти патриоты с их позами и мелкой возней. Все, что они ни предпринимали, было так прозрачно — нескончаемая демонстрация боевого и беспорочного образа мыслей. И когда старина Роберт, словно по команде, скользнул к неизбежному бару, — мыслимо ли вообще представить себе этого человека без бара, даже очутись он волей судьбы в вигваме? — Вилфред сказал:
— Да, мне и правда не помешал бы глоток какого-нибудь живительного напитка, ты угадал. Но ты словно боишься меня?
Роберт улыбнулся чуть смущенной улыбкой.
— Боюсь тебя? — повторил он, поднимая стакан.
Вилфред осушил свой.
— Почему бы и нет? — игриво сказал он.
Они сидели прямо друг против друга, между ними — маленький письменный стол. Из нижнего ящика стола торчал клочок бумаги — одна из запрещенных листовок, которые эти люди читали и распространяли с молниеносной быстротой словно лишь для того, чтобы вырасти в собственных глазах.
— Коли так — твое дело объяснить почему, — холодно произнес Роберт.
Вилфред подумал: «А он куражится, хотя, может, он и вправду так вошел в образ...»
Он протянул Роберту пустой стакан:
— Я сам при случае пришлю тебе бутылку.
Роберт наполнил стакан и ответил с опозданием, слишком явным, чтобы расценить это только как дерзость:
— Я не уверен, что захочу принять твою отборную водку.
Сквозь маскировочные шторы, сквозь двойные рамы окон до них донесся топот марширующих ног. За углом топот оборвался. Но тут же послышалась песня — солдатская песня с привычным рубленым ритмом.
— Дурацкая песня! — Вилфред снова протянул стакан.
Роберт словно не замечал его.
— Это ты говоришь!
Опять скупой, с запозданием, холодный ответ. Вилфреда охватило беспокойство: нет, он не боялся, просто его раздражало, что он не знает, в какой мере позер Роберт слился со своей ролью «истинного норвежца».
— Что ж, сейчас самое время раскрыть мне тайну, что на самом деле ты — один из главарей Сопротивления, только не отвечай мне опять: «Это ты говоришь!» Дескать, Черчилль да ты, ну и еще два-три человека, имен которых ты, конечно, не знаешь...
«Какого черта, почему этот идиот не принимает мяч, когда над ним подшучивает старый друг?» Запоздалые ответы Роберта и вправду начали его пугать.
Роберт встал. Обернувшись к окну, он, казалось, сердито принюхивался к темно-синей шторе, отгораживавшей его от мира, где царило действие.
Когда он обернулся к Вилфреду, на лице его сияла улыбка. Это было неожиданно. Старая плутоватая улыбка, какой улыбаются друзьям, уже без всякой отчужденности.
— Зачем ты ко мне пришел? — спросил он.
— Зачем в нынешние времена приходят друг к другу? Поболтать. И еще — вдруг у тебя есть диван, на котором можно поспать...
— Несколько ночей?..
Вилфред кивнул.
— Если только я не помешаю...
Теперь Роберт уже без всякой просьбы налил ему стакан все той же дрянной водки.
— Конечно, — сказал он. Улыбка не сходила с его лица. — Кстати, от какой из двух сторон ты прячешься?
— От обеих.
Роберт сел. Он раздумчиво кивнул. («Господи, ему ли изображать из себя мыслителя!»)
— Ты, кажется, очень устал?
— Ты попал в точку. — Вилфред выпрямился в удобном хозяйском кресле. Его то клонило ко сну, то вдруг охватывало неестественное оживление. — А вот ты, напротив, выглядишь помолодевшим, словно заново родившимся. Может, поделишься тайной, каким кремом ты мажешься на ночь?..
Роберт рассмеялся.
— Мне диета на пользу. Пудинг из акулы или еще бог знает из чего. Из брюквы. Я думаю, все мы, кто вынужден жить на паек...
— Хочешь намекнуть, что я купаюсь в мясном соусе?
Вилфред насмешливо тронул свои скулы, словно у мертвеца выдававшиеся под тонкой кожей. Роберт подумал: «Если бы рафаэлевский ангел несколько месяцев сидел на голодном пайке...»
— Не знаю я, в чем ты купаешься, — добродушно сказал он.
Вилфред встал, шатаясь от усталости.
— Разговор двух старых друзей в эти дни приобретает порой налет нездоровой враждебности... — Он оглянулся вокруг. — Ты, кажется, упомянул про какой-то диван.
Роберт вяло показал рукой в сторону портьеры.
— Если только там уже не спит кто-то другой...
Чуть погодя Роберт стоял, просунув в щель между портьерами свечу, и внимательно разглядывал своего старого друга. Тот сразу же погрузился в глубокий сон — как только упал на диван. Роберт заботливо прикрыл спящего одеялом. Его угнетало тягостное чувство стыда, но он не мог понять, стыдится ли он того, что приютил сомнительную личность, человека, о котором говорили, что его не мешало бы убрать... или того, что он скрыл свое природное гостеприимство под маской холодности. Что, в сущности, знал он об этом бывшем друге своем из лучших времен, которому втайне всегда завидовал, оттого, что тот добивался всего, что желал, — рыцарь легкомыслия и незаслуженной удачи, человек, с которым он некогда делил и горе, и радость. Дружба их возникла много лет назад, в далекие годы первой войны, когда и он сам, и вся его компания беспечно плыли по воле волн — волн легкомыслия и равнодушия. И что, в сущности, знали люди, желавшие его убрать, об этом падшем ангеле, что сейчас спал на его диване таким глубоким сном, каким спят только праведники? Это худое лицо, похожее на смутный набросок в путевом блокноте художника, хранило знакомое выражение бесхитростной робости, в свое время покорившее всех. Безмерная растерянность охватила доверчивую душу Роберта, столь уязвимую для злой воли.
Кто вообще знает хоть что-нибудь об этом вечно мятущемся дитяти с множеством несбывшихся дарований? Годами его чуть ли не боготворили за незаурядность, зато потом — даже не высмеивали, просто забывали о нем, как забывают всех, кто не оправдывает надежд или же совершает недозволенные виражи в своей, казалось бы, предначертанной карьере, из-за чего окружающие остаются с длинным носом — и это в награду за все их восхищение и преданность...
Роберт вздрогнул: он вдруг увидел руку. Чуть заметно сдвинулась портьера, и луч света выхватил из тьмы желтый, как воск, протез, покоившийся на груди спящего. И показалось вдруг, будто это и есть самая живая, единственная живая часть существа, лежащего на диване. И Роберт впервые понял, что когда-то, да и всегда, его притягивала именно эта тепличная искусственность Вилфреда, бесплотность, что ли. Необузданность его и вместе с тем утонченность, порочность, и совершенная невинность, и в придачу этот дешевый цинизм, изумлявший наивных его соотечественников, привыкших воспринимать каждое слово всерьез, при всей испорченности — на словах, и на деле — того круга, в котором оба в ту пору вращались.
И еще кое-что другое понял он, стоя вот так и разглядывая друга, потому что теперь видел его в новом ракурсе: полное безразличие спящего, казалось, еще больше обостряло его собственную, недавно пробудившуюся тягу к справедливости и добру. Трагическая участь родины, все страшные события, обрушившиеся на нее, начиная с того самого непостижимого апрельского дня... разве не угадывалась за всем этим упорядочивающая рука, встряхнувшая ватный хаос жалких и вялых судеб?
Да, так оно и есть: удар, жестокий и беспощадный, но зато он разбудил их... А что же, собственно, было прежде? Роберт провел ладонью по лбу. Он просто не помнил этого, словно прежде была какая-то странная жизнь под водой, блестящая, но и угнетающая своим коварным накалом — накалом чувства вины и укоров совести за ничтожные поступки, свои и чужие.
И тут грянула война и заставила всех вскинуть головы к грозовому небу: в жизнь, неведомо для них самих, вошло упорядочивающее начало. Оно не только отделило овец от козлищ, перевернув сознание всех и каждого, — оно перетряхнуло весь ворох самоугодливых мыслей, подленьких забот о сексе, о выгодных сделках — весь мусор будничной суеты.
Господи, что это с ним: какой восторг и пафос из-за минутного взлета души — и это самобичевание! — ну, прямо солдат Армии спасения в исповедальне!.. Спящий будто источал иронию, окутывавшую Роберта, который застыл в просвете между портьерами, весь во власти какого-то дурмана, немощи, что ли. Подумать только, этот темный субъект, не ведающий ни добра, ни зла, разлегся на его диване и словно бы по обыкновению прав: всегдашняя его ирония вот-вот захлестнет патриота Роберта, еще недавно свято верившего в свое предназначение. Он верил в него так свято, как только мог. Он не видел ничего смешного в попытках людей, да и в собственных своих попытках сбросить иго — иго гнусного зверя, мастодонта, нагрянувшего с юга и низвергшего маленький, но отважный, честный народ в мерзостную трясину, с каждым днем засасывающую его все глубже.
Роберт вскинул обе руки будто для удара, но тут же их уронил. К чему пустые рассуждения. Разве сердце позволит ему оскорбить действием проклятого паразита, которого он любил...
Слово это испугало его. От стыда по телу прошла дрожь. Черт побери, что он готов был себе внушить? Какое дьявольское наваждение подсказало ему это слово: «любил»? Разве всю свою жизнь он не укладывал женщин на свое ложе, одну за другой, истый Казанова на шестидесятом градусе северной широты... И разве он и его сподвижники не рисковали много раз своей свободой и жизнью в необыкновенные эти дни с тех пор, как грязный зверь наложил мертвящую лапу на маленькую несчастную страну?..
Казалось, спящий друг беспрерывно меняет облик под тяжестью разоблачений, которые сам вызвал, лежа в глубоком сне. Неужели правда — вся эта болтовня про какую-то гипнотическую силу, присущую некоторым людям? Иначе чем объяснить, что разумный человек вроде него, Роберта, вот так стоит и смотрит на спящего прохвоста, позволяя ему замутить свою душу? Или это мутная душа спящего окутывает все сущее тенью подлого подозрения, подобно простертым щупальцам спрута, таящим невидимый, но смертоносный яд скепсиса? Да, будто отравленный, будто замаранный чем-то, стоял он сейчас в своей гостиной на пороге чистенькой библиотеки, которую некогда обставлял с таким удовольствием, — она пришлась как нельзя более кстати в нынешние времена, когда борцы, преследуемые за свои убеждения, часто просились на ночевку к друзьям...
Опять выспренние слова! G уст двуликого человека, что лежал сейчас перед ним, всегда слетали тирады, искажавшие и высмеивавшие обиходные понятия, в которые Роберт и его соратники по борьбе облекали скромные свои усилия во спасение угнетенной родины. Чем-чем, а уж этим искусством слизняк, разлегшийся на его диване, владел в совершенстве — умалять подвиги честных борцов своими подлыми сомнениями и неверием...
Роберт мог бы сейчас предупредить кое-кого — людей, утверждавших, что знают правду о Вилфреде. Он легко мог сделать несколько шагов к телефону в коридоре — позвонить одному знакомому, который даст немногословный ответ на немногословное сообщение.
Он прошел несколько шагов к телефону и снял трубку. Но все время он мыслил мыслями того человека, который лежал на диване в библиотеке: «Ты не сделаешь этого, конечно же, нет. Ты просто решил предпринять прогулку в шесть коротких шагов, чтобы щегольнуть своей независимостью».
Он снова раздвинул портьеру на пороге между гостиной и библиотекой, и на лицо спящего упал луч света. Челюсть у него отвисла, как у мертвеца, и, как у мертвеца, неестественно заострился нос, обнаружив легкую кривизну, которая в иное время была незаметна. Роберт уличил себя в том, что наслаждался этим недостатком; он словно бы придавал нечто человеческое существу, своим совершенством поправшему все возможности человека. Двулик и двусмыслен — таков он всегда и во всем, такова и его красота, в которой, по правде говоря, скрыто что-то отталкивающее.
Звонок в дверь. На этот раз — уже не условный сигнал. Роберт вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Снова звонок. Он не двинулся с места. Позвонили в третий раз, раздался легкий стук. Неужели они? Неужели конец? Он быстро оглянулся. Снова постучали, но все так же тихо. Нет, они так не стучат. Они барабанят. Он быстро вышел в прихожую и распахнул дверь. На пороге стояла Селина, его жена, — впрочем, в последние годы они были не слишком-то прочно женаты.
— Почему ты не открываешь? — Зеленые глаза сверкнули оловянным блеском.
— Я не знал, что ты знаешь...
— Впусти же меня в дом. Господи... да ведь все знают, где вы живете, хоть вы и переезжаете с места на место.
Быстрым взглядом она выхватила стол и стаканы на нем.
— У тебя гости?
— Да, у меня гость. Что тебе нужно?
— Какой гость?
— Не твое дело, — любезно ответил он.
Она шагнула к портьере, но он загородил ей путь. Она рассмеялась:
— Кто она: блондинка, шатенка, брюнетка? Красивая?
— Там нет никакой женщины.
Селина опять рассмеялась:
— Черт побери! С каких пор ты стал интересоваться мальчиками?
Он почувствовал, что краснеет.
— Тебе нужна моя помощь? — спросил он.
Она прохаживалась по квартире, заглянула в кухню.
— Тебе нужна женская помощь, — сказала она. — Но я надолго здесь не останусь.
— Дорогая Селина, — ответил он, — можешь оставаться здесь сколько хочешь, но только сделай милость, не шныряй так повсюду. И ответь мне на один вопрос. Люди говорят, будто ты угодила в сомнительное общество... правда это?
— Кто тебе сказал?
Она отвечала ему смело, с вызовом, как всегда.
Признаться, в свои тридцать восемь лет она выглядела ничуть не хуже своих добродетельных сестер, скорее напротив.
Он пожал плечами.
— Я хочу знать, правда ли это.
Она улыбнулась.
— Разве я устраиваю тебе допрос? А «люди» многое говорят — кстати, что ты и сам мог бы рассказать немало любопытного в случае, если... А скажи, есть у тебя ванная комната? Послушай, куда это ты собрался?
Он вернулся в гостиную с туалетными принадлежностями в руках и сунул их в изрядно потертый портфель.
— Ага, только я — в дверь, ты — за дверь. Нечего сказать, веселое будет у нас рождество.
Он спохватился. И правда, сегодня рождество, он и забыл совсем. Она тихо засмеялась. Она знала, чем сразить его, он был сентиментален, как школьник, несмотря на все свои патриотические деяния. Но он уже оправился.
— Я же сказал: можешь оставаться сколько хочешь. Но не требуй от меня...
Уложив вещи в портфель, он запер его. У портфеля был теперь подозрительный вид. С таким на ночь глядя опасно выйти на улицу по нынешним временам. Они оба разглядывали портфель, думая одно и то же.
— А что поделывает там твой приятель?
Она чуть приметно откинула назад голову и снова стала казаться смелой, веселой и беззаботной; когда-то все это приводило его в восторг, много лет после того, как однажды во время морской прогулки он увел Селину у Вилфреда.
— Взгляни сама, — сказал он. Но она видела, что он нерешительно топчется на месте с подозрительным портфелем в руках.
Она направилась к библиотеке. Но почему-то помедлила, прежде чем раздвинуть портьеры. Он подумал: «Ну, сейчас будет спектакль».
Тут он увидел, что она отпрянула. Лицо ее исказилось. Она зажала рот рукой, словно хотела заглушить крик. Что-то по-девичьи беспомощное вдруг проступило в элегантной женщине, одетой в короткий меховой жакет, — и где только она его раздобыла?..
Селина снова раздвинула портьеру, на этот раз уже осторожно, и на лице ее отразилась бесконечная нежность. В следующий миг это выражение сменилось испугом.
— Боже, неужели он...
— Не бойся. Он просто вкушает неправедный сон. Черт знает, где только он шлялся.
Она склонилась над Вилфредом. Из гостиной ему было видно, как длинной изящной рукой она почти коснулась головы спящего. Неужто бабы никогда не перестанут молиться на этого падшего ангела? Не то чтобы сам Роберт по-прежнему был привязан к ней, хоть она и была хороша, вся лучась порочной невинностью, роднившей ее с тем, кто спал там, за портьерой... Черт бы взял всех этих двуликих людей! Роберт все так же растерянно стоял с дурацким портфелем в руках. Затем растерянность сменилась гневом. Но и гнев рассеялся быстро, как всегда. Он думал: я же борец Сопротивления, к лицу ли мне такая уступчивость? Вечно они оставляют меня в дураках, эти люди, мечущие крапленые карты... Он чувствовал, что его тянет к ним, к их бесшабашному веселью, к озорству, ведь когда-то это был его мир...
И снова Селина будто прочла его мысли.
— Милый, — сказала она, подойдя к нему, — оставь ненадолго свои патриотические заботы, и мы втроем повеселимся немного, отпразднуем рождество, и вообще...
Он знал, что похож на обиженного мальчишку. Да он и был обиженный мальчишка — в свои-то пятьдесят четыре года!
— Ну, с этим вот типом нам с тобой нескоро удастся повеселиться...
У него вырвалось: «Нам с тобой». Он прикусил язык. Но она тут же поймала его на слове.
— Когда-нибудь ведь он проспится! Я убегаю, надо же раздобыть что-нибудь к ужину, это не так-то просто. Вот тем временем он как раз и проспится. А ты вынь из портфеля зубную щетку и все остальное и наведи в доме уют!
Она победила. Она знала это. И он тоже. Она слегка приложилась губами к его щеке.
— Кстати, не мешало бы тебе побриться, — сказала она. — А я скоро вернусь.
6
Гнусный зверь навалился на страну, отвратительными щупальцами пригнул ее к земле. Люди теперь уже привыкли к этому зверю. Не то чтобы они перестали его бояться, но они привыкли к страху. И не то чтобы они смирились со своей невыносимой долей. Но пламя, охватившее их, стало тише. Огонь, пылавший снаружи, ушел внутрь.
В новой квартире — того сверхмодного типа, который быстро становится старомодным, — старые друзья празднуют рождество. В каждом доме сейчас празднуют рождество. Люди не совсем отрешились от веселья и смеха. Очень многого теперь не купишь — ни подарков, ни еды, ни вина — всего, что обычно покупали на рождество. Но зато тем драгоценней то, что удается раздобыть. Женщины в этой стране вяжут теперь будто одержимые, вяжут усердно, как никогда. И пусть нельзя купить шерсти желаемого цвета и качества, всегда ведь можно распустить старые вещи и связать из них новые. Во многих домах сейчас сыро и холодно. И потому вязаные вещи очень кстати. Да и сама работа приятна — отчасти необходимая, но отчасти и бесполезная. И к тому же она заменяет курение. Ведь с куревом дело сейчас обстоит скверно. Да и со всем прочим тоже.
Одного лишь нынче не занимать — боевого настроения. Вот ведь какое чудо — настроение не соответствует кривой, отражающей общее положение дел, скорее, наоборот — оно будто в отместку безудержно взмывает ввысь как раз в пору, когда, казалось бы, налицо все причины для тревоги и горя. Смех и веселье далеко не всегда признак благополучия. И даже самочувствие... подчас и оно не подчинено законам причины и следствия. Сколь многие люди в опасности и беде обретают бодрость духа, которой им так не хватало в пору благополучия. Они и сами это сознают и думают: «Чудно устроен человек». Беда возвышает человека в собственных глазах, позволяет ощутить себя чуть ли не героем.
В новой квартире, где трое старых друзей празднуют рождество, еды и питья вдоволь. Зато слегка недостает веселья, все будто выжидают чего-то. Может, они вовсе и не такие уж близкие друзья, впрочем, никто из них толком этого не знает. К тому же дружба их принадлежит прошлому. Старая любовь ржавеет. И дружба тоже ржавеет. Одно лишь вино в рюмках не ржавеет. Об этом усердно заботятся все трое: они с такой скоростью опорожняют рюмки, будто страшатся, что кто-то придет и отнимет у них вино.
Да, наверно, именно этого они и боятся — или, может, чего-то другого? Может, они боятся друг друга? «Будем здоровы!» — говорят они, поднимая рюмки. «Будем здоровы!» — раздается в ответ. Не самый оживленный разговор. Роберт добродушно произносит:
— Значит, надо было случиться войне, чтобы мы трое снова встретились?
Вилфред учтиво улыбается. А Селина — нет. Она не станет тратить время на зряшную учтивость, когда в рюмках ждет вино. Вилфред узнает эту ее повадку, узнает и другое — она никогда не хмелеет после первых рюмок. К тому же ей надо приглушить сильное возбуждение. А вот ему глушить нечего. Он забыл ее, забыл, насколько это может человек, которому еще далеко до маразма. Он помнит ее как живописную фигуру на носу лодки, в брызгах и россыпях воды, в свете радуги. Черты лица те же, та же фигура... Она великолепно сохранилась. Но все это не будит отзвука в его душе. Как и память о том, что когда-то давным-давно они точно так же сидели втроем в хижине в Нурмарке. Тогда они были молоды. Но никто из троих особенно не чувствует бремени лет. Идет война. Но даже и этого они будто не чувствуют. Сегодня рождество. И всякий раз, вспоминая об этом, они говорят: «Будем здоровы!»
Повсюду в городе, повсюду в стране люди сейчас говорят друг другу: «Счастливого рождества!», а на Новый год скажут: «С Новым годом, с новым счастьем!» — и значительно заглянут друг другу в глаза: что-то ведь должно непременно случиться. Что? Да хоть что-нибудь. В стране да и во всем мире. Должен произойти решающий перелом.
— С кем я? — неожиданно начал Вилфред. — Ты, кажется, хотел знать, с кем я? Во-первых, я ни с кем, практически я никогда ничьей стороны не принимаю. Вообще вы всегда употребляете такие выспренние выражения!
— Вы? — переспросил Роберт.
— Ну, если хочешь, все люди по нынешним временам. Они теперь рассуждают с пафосом о самых простых вещах. Все время одних презирают, другими восхищаются, на каждом шагу убивают кого-то в мысленной своей кровожадности. Я все понимаю, но, черт побери, так убивайте же на самом деле, те из вас, кто посмелей!
— Ну, ну... кажется, мы хотели приятно провести вечер?
— Сегодня рождество, — сказала Селина. Она не поднимала глаз от вина. Вынув зеркальце, она напудрилась, но казалось, взгляд ее смотрит сквозь зеркало.
— Андреас... — заговорил Роберт, — помнишь Андреаса, с которым ты учился в одном классе? Выпьем за него! Выпьем за всех наших друзей, что томятся в тюрьме!
Вилфред сидел и смотрел на Роберта, героя сотен ресторанных битв, в которых было так много раненых и так мало победителей. Он размышлял о добродушном цинизме Роберта, оборачивавшемся безграничной терпимостью. Из цинизма Роберт был добр и сентиментален, чуть ли не религиозен. Не цинизм ли сделал его патриотом?
— Он пострадал за?.. — осторожно спросил Вилфред.
— Многие из наших пострадали, — прозвучал ответ. — Андреасу пришлось туго.
Вилфред не посмел даже улыбнуться... Что-то непохоже на правду. Придется зайти с другого конца:
— Неужели он в самом деле?..
Клюнуло. Клюнуло, черт побери!
Роберт состроил неприступную мину — мину человека, который знает больше, чем говорит.
— Андреасу пришлось туго, — мрачно повторил он. — Выпьем! — воскликнул он тут же, словно желая переменить разговор — из страха выболтать лишнее.
— А ты не думаешь, положа руку на сердце, что Андреас и без того непременно угодил бы в тюрьму, вне зависимости от всякой войны? Он в ту пору такие дела обстряпывал...
Вот этого ему не следовало говорить. Обида вспыхнула в глазах Роберта — взгляд раненого оленя. Взгляд этот негодовал: «Мало ли что было в ту войну! Кто бы в ту пору не польстился на выгодную сделку? Не надо путать одно с другим. Та война была совсем иного рода... Зато эта война настоящая!..»
Они выпили. Вилфред чувствовал, что быстро хмелеет. Его вырвали из сна, безграничного и бездонного. Две недели он жил в таком напряжении, что теперь ему казалось, будто с него содрали кожу. На большом хуторе он в этот раз гостил недолго... не то чтобы Мориц отказал ему от дома — просто служебные дела его складывались хуже некуда. Он был издерган и раздражителен да и, судя по всему, напуган. Марти, подружке его, которую привел ему Вилфред, пришлось покинуть хутор. Вмешались придирчивые начальники — из тех, на которых вдруг находили приступы нравственности. Короче говоря, из какой-то ставки был получен приказ, чтобы офицеры вели себя как следует и подавали тем пример нижним чинам.
— Неужто ты всерьез полагаешь, что все немцы — бандиты и подлецы?
Роберт прокашлялся:
— Вопрос не в том, что полагаю я, а в том, что следует принять на веру. Мораль...
— Ах, мораль? Все теперь рассуждают о морали...
— Мораль нуждается в упрощении. Я, к примеру, не убежден, что от немцев воняет. Но я радуюсь, когда люди уверяют, что это именно так. — Роберт продолжал с еще большей настойчивостью: — Ты что, не понимаешь: это же военная необходимость — упростить некоторые понятия до уровня, который ты, несомненно, назвал бы вульгарным?
— И потому объявить всех, кто придерживается иного мнения, изменниками родины — так, кажется, это называется?
Роберт уже не мог больше сдерживаться:
— Да, именно так это и называется. Ты все понял совершенно верно, как всегда.
— Все вы, да и ты сам, надеетесь отделаться на веки вечные от бремени своей вины. Взять, к примеру, наши спекуляции в годы минувшей войны или достаточно вспомнить угрызения совести, донимающие тебя с детских лет: как-то раз во время парусных гонок вы промчались мимо опрокинувшейся лодки и не остановились. А человек утонул.
Роберт снисходительно улыбнулся.
— Согласен, это кажется слишком просто. Да оно так и есть. И все же это правда. Тот самый случай из детства... И то, что в годы прошлой войны мы бессовестно наживались на чужих страданиях... Что ж, мы начали новую жизнь — иного объяснения не сыщешь.
— Кто это «мы»?
— Мы, — начал Роберт и продолжал уже без малейшего наигрыша, — мы это все, связанные общностью. Все, кто с нами, в противовес другим, в противовес вам, если я верно понял... Что ж, я готов признать: может, те заблудшие юнцы, которые дают себя завербовать на Восточный фронт, и движимы слепым идеализмом... Но вот те, что отсиживаются здесь, в тылу, да при том еще наживаются за чужой счет!..
На лице Роберта застыло выражение бесконечного презрения к подлым любителям наживы, с которыми сам он порвал навсегда.
— Вы так спешите осудить всех, кто наживается за чужой счет, — медленно проговорил Вилфред, — раньше с этим так не спешили. Я, к примеру, сколько живу на свете, всегда наблюдал, как одни наживались за счет других — соотечественников своих или же других угнетенных. Всегда кто-то в выигрыше, а кто-то — в накладе...
Роберт перебил его:
— Может, скажешь, недавнее происшествие у границы — тоже всего лишь патетический жест?.. Нет уж, будь добр, не притворяйся, будто не слышал об этом: перед самым носом у пограничной стражи появился человек в немецком мундире и освободил группу беженцев. Кстати, говорят, беднягу схватили и замучили до смерти.
Селина спросила:
— Как это случилось — с рукой твоей?
Тихие беседы и споры идут сейчас в тысячах других домов. Одни — фанатики, другие держатся умеренных взглядов, а у некоторых, похоже, вообще нет никаких взглядов. Гнусное чудовище придавило страну грязными щупальцами, и в сердцах бушует огонь... Накал, пьянящее чувство опасности...
Всюду теперь накал и всюду — опасность. Некоторым известно все, что происходит, а хорошо информированным людям известно даже больше. Многие предпочли бы вообще ничего не знать, но они ловят, глотают каждое слово, как глотали бы волнующие страницы детективного романа. Про одних говорят, будто они ходят по краю пропасти, про других — что они плывут по течению, и это тоже один из нынешних оборотов, выражающих высшую степень презрения. Но никто вслух не упоминает о таком варианте: быть и с той, и с другой стороны в тайной войне, где, казалось бы, предел возможного — не держать ни той, ни другой стороны. О непостижимом не рассуждают. И раньше об этом тоже не рассуждали — о неуправляемом разуме, не желавшем признавать никакие «стороны», а неизменно порхавшем так, словно это порхание — самоцель, в ничейной полосе, где можно до отчаяния насладиться гордым одиночеством.
Но, может, в этой тяге к одиночеству нет гордыни? Кто он — отчаявшийся одиночка в этом безупречном наборе героев и подлецов? Вилфред не знает этого. Или, может, он просто любит себя самого, и только себя, столь безудержно, что в душе его нет места дружбе — а может, напротив, он себя презирает? Он не знает и этого...
Он говорит:
— Подобные героические поступки обычно своего рода жертва...
Но Роберт настороже, он не допустит снижения идеала. Слишком велика была бы утрата.
— Далось тебе это чувство вины! — презрительно говорит он. — Не хочешь ли ты убедить меня, что всякий подвиг — всего лишь своего рода искупление?
А Вилфред и этого не знает. Он знает об этом еще меньше, чем Роберт, хотя он единственный из всех знает, что же именно произошло на границе... Вот собрались вместе давние друзья, бесконечно далекие друг от друга, но, хотя они спорят решительно обо всем, кажется, будто враждебность сникает. Спор постепенно рождает подобие примирения. Как знать, может, они были еще дальше друг от друга в ту пору, когда были близки, тогда, в лесной хижине или в джунглях ресторанной жизни. Так редко человек встречается с человеком, самое большее — раз или два в жизни. А иногда встречи и вовсе не происходит...
Когда-то в Париже — будто сто лет прошло с тех пор — кучка молодых людей сделала своим кредо слова Д. Г. Лоуренса: «Я — это я. Душа моя — темный лес. Диковинные божества выходят из этого леса в световой круг признанного моего «я», — выходят, чтобы вновь скрыться в лесу. У меня достанет мужества смотреть, как они появляются и исчезают. И я никогда не позволю человечности возобладать надо мной...»
Вилфред вспоминает об этом с иронией. Он глядит на Роберта, которого, в сущности, столь мало знает, и думает: пожалуй, все люди склонны принять на веру ту или иную теорию и ловко вычеркивают из нее все, что им не по нраву.
Покладистый Роберт, никогда не вздымавший знамя той или иной идеи, самое большее — размахивавший шелковым носовым платком, с чего это он вдруг так взъярился? Чем-то устраивает его ситуация, не оставляющая ему места для сомнений, — значит, он обрел в ней спасение. Роберт говорит:
— Что за страсть сводить все убеждения к какому-нибудь неблаговидному мотиву!..
Презрительно ухмыльнувшись, Роберт подкрепляет свои слова очередным глотком — и еще одним. Ему приятно сидеть вот так и ссориться с другом, перед которым он в свое время благоговел, когда надменный нигилизм был в моде.
— Человек должен во что-то верить! — говорит он.
Подавшись вперед, Вилфред невольно улыбнулся.
— Да, черт возьми! — воскликнул Роберт, внезапно захмелев от скверной водки. — Эти твои надуманные искания для меня все равно что тьфу... — И он щелкнул пальцами перед носом у своего приятеля прежних лет.
Приличия ради вмешалась Селина. Она медленно потягивала вино и сейчас только ощутила хмель. Но она хотела, чтобы в доме царил мир. Ради этого мира она взяла воинственный тон.
— Не ссорьтесь на рождество! — закричала она. — Вино-то ведь я раздобыла!..
Ей самой хмель тоже ударил в голову. Резко взмахнув рукой, она задела бутылки, которые полетели на пол. В следующий миг все трое уже резво ползали по полу, пытаясь спасти напитки. Это был мир, скрепленный общим старанием подхватить бутылки, не дав пролиться бесценной влаге, и поскорей убрать битое стекло.
Суета на полу соединила их. Что-то в этом напоминало прежние дни. Потом они сидели, отдуваясь, совершенно протрезвев. Роберт проговорил примирительно:
— Просто я не терплю, когда умаляют геройские подвиги вроде того, что произошел у границы!
И тут же от собственных слов кровь снова бросилась ему в голову. Он стал вспоминать другие героические подвиги — и вспомнил. Роберт обожал героические подвиги, и обожал дружеские споры о принципиальных вопросах — он был теперь заклятый враг всяческого оппортунизма. Он унизил себя, согласившись встретить рождество в обществе сомнительного субъекта, который к тому же признает себя таковым. Что ж, зато он с пылом ринется в бой за великое дело.
Роберт вспоминает: ведь он чуть-чуть не позвонил кое-кому насчет Вилфреда. Наверно, так и надо было сделать, посоветоваться, что ли... Именно так ведь и делают. Старая дружба не в счет, если только этот Вилфред и вправду... Он уже мысленно называл его «этот Вилфред». Хорошо так вот сидеть и быть беспощадным. Иные семьи теперь расколоты, супруги — по разные стороны баррикады... В этот миг беспощадной справедливости Роберт ощутил высокий подъем духа:
— Мы выказываем терпимость уже одним тем, что выслушиваем тебя...
Вилфреду нечего возразить. В самом деле...
— У нас нет никаких гарантий, что... — продолжал Роберт. Он все время не заканчивал фразы. Сейчас он угрожал тому, другому, но был слишком хитер, чтобы запутаться в сетях собственных слов. Он говорил «мы» — как бы от имени многих других. Роберт великодушно включил в это «мы» и Селину, хотя за последний год почти потерял ее из виду.
Заботливо, как положено хозяйке, она произнесла:
— Наверно, пора нам что-нибудь поесть.
И они едят — острое, быстро состряпанное блюдо: рыбу, запеченную до неузнаваемости.
Но Роберт возбужден собственными речами.
— Я не позволю насмехаться над «внутренним фронтом»! — заявляет он, прожевывая рыбу. Он весь дрожит от приятного возбуждения. Сейчас бы хорошую драку!
И Вилфред тоже дрожит — от досады, вызванной этим потоком слов, от усталости. Черт побери, зачем только они его разбудили?
Он мог бы пойти к своей матери на Драмменсвей, хоть сегодня мог бы туда пойти. Но, кажется, его визиты ее не радуют. Она догадывается, что у него дурные связи, что он ведет жизнь, которая сама по себе уже измена, что он распространяет вокруг себя яд. Как-то раз он имел неосторожность заметить: «Смешно, что дядя Мартин, прежде всегда недовольный системой правления да и всем прочим в стране, стал теперь таким ревностным демократом!» Ему не следовало бы это говорить, но ведь раньше мать никогда не любила громких фраз. Она ответила: «Теперь другое время». Она никогда не ныла. Но, кажется, не преминула позаботиться кое о каких благах. Что ж, героический голод не для нее...
— Твоя рука... — настойчиво пыталась вернуться к прежнему разговору Селина. Она теперь уже с трудом ворочала языком. Она ведь никогда не любила закусывать после выпивки. Вилфред не стал прятать руку. Он то поднимал ею бокал, то свертывал сигарету. Селина со страхом коснулась этой руки. Он быстро вскинул ее, словно желая ответить на прикосновение легкой лаской, но Селина отшатнулась.
— Черт с ней, с рукой этой! — грубо оборвал ее Роберт. — Мы не о том сейчас толкуем! Про эту руку рассказывают многое: будто эта самая рука...
Он по-прежнему не заканчивал фраз. Он понял вдруг, что может сейчас вывести этого типа на чистую воду и, когда пробьет час, это зачтется ему. Может, тот ничего еще не совершил, может, не все правда, что про него болтают, но рассуждает он как предатель и этого уже довольно, чтобы расправиться с ним. Роберта вдруг осенило: сейчас нельзя выпускать этого типа из дома — так велит ему долг...
Мысленно он исторгал у него немое признание: «Да, я нацист, нацист душою, короче — человек, который презирает людей, и я презираю тебя... Некоторые люди рождены властвовать над другими — рабский дух они обращают в его противоположность и благодаря этому властвуют, и ты знаешь это, и я это знаю, и черт бы взял твою жалкую ложь насчет достоинства человека... И еще потому я нацист, как ты молча именуешь меня, что я поклоняюсь самому дешевому мифу, предпочитая его мутному интеллектуализму... и плевать я хотел на твою демократию и на социализм, все это лишь ярлыки, мы, избранные, одинокие и безжалостные, нуждаемся в поклонении и мы приучаем к нему глупцов, используя их рабский дух...
Так пей же, черт побери, жалкий обманщик, и пусть вино придаст тебе смелости пойти к телефону и позвонить приятелю или знакомому, из тех, кто связан с тобой этой самой вульгарной общностью, а затем — поспеши пристукнуть человека, который не прочь покончить счеты с жизнью, только что ему самому неохота с этим возиться... Так ступай же к телефону, черт бы тебя взял, не забудь понизить голос, а после возвратись с оружием под плащом, как делали убийцы во все времена... Но поспеши, пока похоть и водка не привлекли твой взгляд к прелестям Селины, которая в рассеянности уже сбросила с себя кое-что из одежды. Поторопись же... Потому что я — воплощение всего, что ненавидишь ты, защищая свою дурацкую любовь к человеку. Одним моим существованием я отрицаю твою веру — твой оптимизм вянет, у тебя опускаются руки и иссякают силы... Так будь же героем, братом людей, а главное — правоверным!..»
Они свирепо, с пьяным трагизмом, буравили друг друга взглядами в безмолвном споре, где подсудимый вдруг вырос в обвинителя; но, сознавая всю тщету слов, продолжали хранить враждебное, нескончаемое и загадочное молчание: один — настороженно-выпытывающее, другой — дерзновенно-вызывающее в своей саморазоблачительной ярости; и оба прекрасно понимали друг друга...
«А может, ты и прав, ты вкупе со всеми прочими правоверными! Что может породить презрение? Лишь ответное презрение. Но заслуживает ли твой «человек» любви? Те, кто стремится к власти, кому охота ее осуществлять, сами берут ее себе, вам же остается смирно сидеть в своем углу и, гордясь своим человеческим званием, прислушиваться к свисту кнута... Они умеют использовать свой материал — человеческий материал, для них все одно — что люди, что муравьи: отработав, пусть себе подыхают и те и другие, муравей сделал свое дело — и конец!.. А я? Я плевать хотел и на господ, и на рабов, но сердцем и умом я на стороне господ. Одинокий всегда беспощаден, и мир принадлежит ему, а не мученикам и угнетенным...»
Роберт, устав от всех этих невысказанных слов, спросил:
— Когда же ты стал таким?
— Почему стал! Я всегда был таким...
Роберт сидел не шевелясь... Он растерянно оглядывался вокруг, раздраженный, недовольный собой. Настало время решиться. Но все вокруг него сделалось смутно и темно. И он остался сидеть, зная, что должен был бы решиться...
Селина уже успела снять с себя почти все. Очевидно, ложно истолковала яростные взгляды, которыми жгли друг друга противники.
— А что, если оба? — радушно предложила она. Селина воображала, что вся ссора — из-за нее...
Оба яростных противника устало улыбнулись. Первый как бы сказал второму: «Возьмите меня, я признался во всем, я виновен — по крайней мере для вас, судящих человека за его мысли».
Другой ответил: «Мы возьмем тебя, когда придет срок».
Многие вот так затаились и подстерегают друг друга. Кто-то сейчас водит хоровод вокруг елки за темными шторами в отблеске рождественских свечей. Кто-то спешит от дома к дому, в городах или селах, выполняя мелкие задания, имеющие, однако, важный смысл...
Гнусный зверь простер лапы от одного берега к другому, через все горные хребты. Он не замечает булавочных уколов, или все же, может, замечает? Он ведь бдительно следит за всем. И может, чувствует боевой пыл, и оттого земля страны, на которой он разлегся, кажется ему жесткой и неудобной.
Никто ничего не знает наверняка, и это-то рождает у иных сомнения: а стоит ли игра свеч, стоит ли приносить жертвы: ведь всякий раз, когда кто-то ударит его ножом, зверь лишь занесет тяжелую лапу, одну из многих, и бьет...
Никто ничего не знает наверняка. И от этого растет накал, и он виден на лицах, даже в отблеске рождественской елки.
7
Консул Мартин Мёллер принадлежал к числу тех, кто сильно сдал за годы войны. Когда он поднимался по низким ступенькам лестницы в квартиру своей сестры Сусанны Саген на Драмменсвей — в этот февральский вечер над голыми деревьями аллеи висели свинцово-серые тучи, — ему казалось, будто и небо давит на него своей тяжестью. Все давило на него. Может, оттого он и ссутулился, подобно многим другим в лихие нынешние времена. Куда девался природный румянец щек, почтенная округлость живота, даже холеные руки?.. Вместо того чтобы выставить все это напоказ, тело консула с годами согнулось в дугу. На площадке перед дубовой парадной дверью он остановился перевести дух. Ему не хотелось признаваться себе, что сердце и легкие нынче вели себя предательски.
Дверь ему открыла пожилая горничная, и это было для него некоторым утешением — будто повеяло дыханием минувших дней: горничная в белоснежном чепце на седых волосах. Этой женщине была совершенно чужда развязная бойкость и суетливость, которые царили теперь повсюду: сколь ни трогательна человеческая солидарность, нынешние времена породили несколько тягостное единение между верхами и низами в этом вывернутом наизнанку обществе.
На секунду консул задержался у зеркала в просторном холле с неизменно зажженным камином (где только по нынешним временам раздобывала его сестра такие березовые поленья?) и решил, что зеркало — не слишком объективный прибор. Его ссохшаяся фигура смотрела на него из старого, хорошо знакомого зеркала, оно словно смеялось над ним, дразнило воспоминаниями, и в гладкой стеклянной поверхности, казалось, скрывался отблеск всех пролетевших дней. С ужасом разглядывал он морщины на своем лице, свое усохшее тело. Одно дело — мимоходом взглянуть в случайное зеркало, другое — стоять перед вот этим: старые зеркала хранили все прежние образы и воспоминания, все, что принято называть атмосферой, — с годами это стало мукой.
И когда пожилая горничная распахнула двери в гостиную, ему вдруг показалось, будто все вновь повторяется с подлой дотошностью: его визит к младшей сестре, его тревога, которой он считал необходимым с ней поделиться, — казалось, все это лишь насмешливый отзвук былого. Все чаще и чаще возникало у него подобное чувство. Он был склонен объяснять его возрастом: все уже когда-то изведано и пережито. Но объяснение не удовлетворяло его, словно какая-то часть тайны так и не раскрылась до конца; осталась тревожная догадка, что уже само повторение былого подтверждает самые худшие опасения.
И вот он снова прилетел сюда как зловещая птица, как вестник из того бурного мира, от которого его очаровательная, но слишком беспечная сестрица так мастерски умела отгораживаться. Он всегда восхищался этой ее способностью. Спокойно смотреть, как мир катится в пропасть, коль скоро ты все равно не в силах этому воспрепятствовать, пожалуй, для этого нужно своего рода мужество. И без того хватит нытиков, надеющихся от чего-то застраховаться своим нытьем, уйти от ответственности...
Мысль эта неприятно поразила его. Он стоял в раскрытых дверях — волнующий миг — и старался не допускать в свое сознание истину, что, может, сам он не мужественный человек. Еще секунда — и он увидел сестру, вышедшую ему навстречу. Он поймал себя на том, что пытливо всматривается в ее лицо — все нынче взяли себе неприятную привычку пристально изучать друг друга. Он и прежде этим грешил — теперь он мог в этом признаться, теперь все видишь, как говорится, новыми глазами... Но то, что должно было его успокоить, возымело обратное действие: сестра почти не изменилась, ее формы сохранили приятную округлость, возможно, она даже несколько располнела, несмотря на скудость нынешних трапез. Ее цветущий вид был сейчас неприличен. Как и эта обворожительная ее улыбка — будто насмешка над его собственной и всеобщей непрестанной тревогой.
— Господи, братец, — сказала она все с той же улыбкой, которая вызвала у него прилив раздражения, — ты стоишь здесь как олицетворение всех современных бед... Располагайся, прошу тебя, садись.
Она позвонила. Вошла пожилая горничная. Она уже несла поднос. Быстрым взглядом он невольно подметил невероятную, доисторическую прочность хрусталя — этот хрусталь он хорошо помнил.
Когда же его усадили в кресло и он отпил первый глоток, с наслаждением чувствуя, как виски освежает сухую гортань, он поднял глаза на сестру и чуть ли не с упреком спросил:
— Но это же виски, настоящее виски, не понимаю, откуда?..
— Стоит ли так уж огорчаться из-за этого? — шутливо проговорила она. — Конечно, хорошо, что Лондон сейчас нас с тобой не видит... — И, заметив его удивленный взгляд, продолжала: — Я только что слушала одну из этих наводящих ужас передач: оказывается, мы терпим жестокую нужду!
Он приподнялся в кресле, на этот раз и впрямь рассердившись:
— Милейшая Сусанна! Мы и в самом деле терпим нужду. В описании ужасов нет ни малейшего преувеличения. Не понимаю только, как ты...
Но укор его как-то поблек оттого, что совсем против воли он снова нырнул в старомодный огромный, как ванна, стакан для виски и после со вздохом наслаждения вынырнул из него.
— Кроме того, — не дал он ей вставить легкомысленное возражение, которое — он знал — уже готово слететь с ее уст, — сколько раз тебе надо говорить, чтобы ты сдала свой радиоприемник? Эти аппараты нужны людям, которые используют их для общего блага... А ты сидишь здесь, ничем не рискуя, и слушаешь Лондон и весь мир как ни в чем не бывало.
Она ответила, и притом серьезно, хотя все тем же поддразнивающим тоном, который всегда служил ей защитой от неугомонного братца, вечно чем-то встревоженного...
— Я сдала радиоприемник. Откуда им знать, что у меня есть второй? К тому же я ничем не рискую, как ты совершенно справедливо заметил. У кого поднимется рука на пожилую вдову? А уж тебе, во всяком случае, не к лицу сетовать, что твоя легкомысленная сестрица будет иметь хоть какое-то представление о событиях. В прежние времена ты не раз меня корил за то, что я далека от жизни.
Он рассеянно перелистывал английский журнал, который она читала перед его приходом. Он взглянул на дату: октябрь 1939 года. Значит, так вот она купалась в прошлом, в беззаботном прошлом, и в одиночестве забавлялась новостями английского высшего света, слушая в то же время сообщения об ужасах, творившихся в мире.
«Все матери, которым предстоит впервые вывести дочь в свет, сталкиваются со сложной проблемой. Однако не нужно впадать в панику. Надо лишь последовательно и заблаговременно продумать план действий. Первым делом надо определить дату дебюта. А это, уж во всяком случае, следует сделать заблаговременно. Ведь в сезоне не так уж много свободных вечеров. Если ваш бал намечается на нынешний год, вам следует определить дату немедленно. Миссис Кенуорд из журнала «Тэтлер» окажет вам в этом содействие. Она в курсе всех светских событий. Самое лучшее — устроить бал на дому. Ничто не сравнится с домашней обстановкой. Но сначала посоветуйтесь с архитектором. Старые лестницы могут подвести вас, не выдержав напора сотни ног. Следующий по важности вопрос — это украшение дома...»
Отложив в сторону журнал, Мартин Меллер вздохнул. Горничная принесла содовую и вышла, но он этого не заметил. Он заметил лишь, что его обворожительная сестрица снова наполнила его стакан все тем же возмутительным напитком.
— И вот такие вещи ты сейчас читаешь...
Но и на этот раз укор прозвучал не слишком-то убедительно, потому что консул снова нырнул в огромный стакан с приятной живительной влагой.
Она спросила:
— Ты о Вилфреде хочешь со мной говорить? — Он вздрогнул, пораженный ее неожиданной проницательностью. Она продолжала: — Заметил ли ты, дорогой братец, что все в жизни повторяется? Я думаю, может, это просто возрастное явление? Может, мы и в самом деле уже испытали все, что уготовано нам судьбой?..
На этот раз ему не удалось скрыть своего удивления. Такая уж эта Сусси: казалось бы, вовсе ничего не смыслит ни в чем, совсем не от мира сего, и тут же выясняется: ничего подобного — ее быстрый ум цепко схватывал все, что происходило кругом.
— Возьми, к примеру, твой сегодняшний визит, — продолжала она, — все это уже было тридцать лет назад. Ты пришел ко мне тогда на правах крестного отца и опекуна мальчика, Вилфреду было четырнадцать лет. Ты считал своим долгом разъяснить мне кое-какие вещи. Всерьез озабоченный, ты укорял меня. В ту пору речь шла о его успехах в школе, и помнишь ли ты, чем все это кончилось? Я показала тебе письмо его учительницы... господи, я теперь уже стала забывать имена и все такое, но письмо говорило, что он прекрасный ученик...
— Да, только письмо это, судя по всему, написал он сам...
Он сразу же пожалел о своих словах. Но сестрица снова проявила себя с неожиданной стороны:
— Этого я не знаю. Но зато я знаю, что он окончил школу с прекрасными отметками. А когда старый добрый Рене, над которым ты всегда втайне потешался — да, да, не отмахивайся, — когда Рене сказал, что у него необычайный талант живописца, то и эта оценка впоследствии оправдалась. И неужели ты станешь отрицать, что книги, которые он написал...
Он остановил ее движением руки.
— Я ничего этого не отрицаю, все достоинства Вилфреда мне известны. Ты вообще заблуждаешься, полагая, будто я недооцениваю дарования нашего мальчика. Все дело лишь в том, что наш талантливый мальчик с тех пор уже вырос и достиг сорокачетырехлетнего возраста, он мужчина. А от мужчины требуется известная доля ответственности, честности в отношениях с людьми...
Все обернулось не так, как он задумал. Как и не раз в прошлом, он пришел к сестре с самыми благими намерениями, не сомневаясь, что ход беседы будет определять он. Но все обернулось иначе. Вот он сидит перед ней и вынужден оправдываться. И главное — у него уже вырвалось обвинение, которое он думал придержать на самый конец.
— Я знаю, что ты имеешь в виду, — серьезно произнесла фру Саген. — Я знаю, что болтают о нем.
Она поднялась и встала у окна — темный силуэт в слабом свете заката. Когда она обернулась к брату, во взгляде ее и в облике была властность, которой он прежде не знавал за ней...
— Мартин, — начала она, подавляя волнение, — я хочу сказать тебе одну вещь, пусть неприятную... Когда ты и все прочие добрые патриоты разгуливаете по улицам словно бы с дипломом, удостоверяющим ваше патриотическое поведение, тебе, очевидно, невдомек, что тем самым вы становитесь совершенно непригодны для той скромной деятельности, которой, говорят, вы занимаетесь? Можно ли сомневаться, что наши хитрые враги следят за каждым сколько-нибудь известным деятелем нашей крохотной столицы со всем ее патриотическим великолепием? Как ты не понимаешь: в неравной борьбе, которая, возможно, даже и не борьба, а лишь своего рода демонстрация — впрочем, не знаю, — пользу могут принести лишь те люди, которых вы называете сомнительными, кто одной ногой стоит в одном лагере, а другой — в противоположном, по крайней мере так это может показаться? Как ты не понимаешь, что именно они... Возможно, наши враги доверяют им...
Она села, быстро и неловко, по-прежнему вся дрожа от распиравшего ее негодования, вперив взгляд в тяжелое небо над Оскарсхаллом. Этот идиллический пейзаж показался ей полным внутренней противоречивости: роскошный замок времен веселых королей — какой анахронизм в этом гнетущем мире рабских умов и темных поступков...
Он сказал, подавляя удивление:
— Не знаю, дорогая Сусанна, кто вбил тебе в голову подобные рассуждения, и даже не хочу этого знать. Но ты должна понять, что это смертельно опасные рассуждения.
— Для кого — смертельно опасные?
Он не привык к столь быстрой реакции с ее стороны. Консул мельком взглянул на английский журнал. Ему показалось, будто, помимо их двоих, в гостиной еще находится кто-то третий — в этой восхитительной гостиной, где некогда царили легкость мысли и крепкое вино и где до сих пор витал аромат того и другого.
— Я не знаю, видишься ты с ним или нет, — уклончиво ответил он. — Но в случае, если все же его увидишь, скажи ему, что... понимаешь ли, мы же не знаем... люди ничего не знают наверняка. Однако нынче эти люди, случается, действуют чересчур поспешно, подчас без достаточных оснований.
Она метнула на него испуганный взгляд. Он не хотел этого говорить, совсем не хотел. Он жалел, что разговор принял такой оборот. Он снова сердито нырнул в стакан.
— Неужели ты хочешь сказать...
— Я ничего определенного не утверждаю. Я хочу лишь сказать, что нынче нас всюду подстерегает опасность. И человек, уже взятый на заметку, пусть даже причиной тому непостижимая двусмысленность поведения, такой человек рискует вдвойне.
Он отставил стакан.
— Словом, игра эта может оказаться весьма опасной.
— Ты хочешь сказать, что Вилфреда считают изменником родины, или как это у вас называется?
Так впервые было произнесено это слово. Он удивленно взглянул на нее. Откуда только брался пыл у его обворожительной и столь далекой от жизни сестрицы? То ли мальчик заморочил ей голову, то ли вопреки всему он и впрямь?.. Мартин Мёллер отогнал эту мысль. Какие-то вещи решались раз и навсегда, однажды названные своими именами, иначе теперь нельзя. Мыслимое ли дело, положившись на слово легковерной матери, просто вот так взять и перетасовать всю колоду друзей и врагов. Он стал ощупью искать сигару, будто палку, чтобы опереться, но сестра уже пододвинула ему нераспечатанный ящичек отменного качества сигар, каких теперь не увидишь.
— Где только ты раздобываешь эти вещи? — спросил он, на этот раз с откровенной досадой. — Может, это?..
— А если и так? Ну, знаешь ли... — Она отодвинула изящный ящичек в сторону. — Нельзя навязывать патриоту товар, добытый с черного хода.
В ее тоне вдруг проступила враждебность. Он пожал плечами. Казалось, сегодня все несуразности долгой жизни сплавились воедино. Его сестрица Сусанна всегда была глуха к доводам, касающимся общности людей. Казалось, ей от природы недоступны некоторые азбучные истины.
Он начал:
— Это ты произнесла слова «изменник родины». Я не берусь судить других. Но нельзя безнаказанно нарушать общепринятые нормы поведения.
Фру Саген встала у окна в эркере. Теперь она уже не скрывала негодования. Шагнув к брату, она снова заговорила, и он подумал, что эту непривычную властность сестра, должно быть, переняла у кого-то и сейчас копировала поведение других людей в сходных обстоятельствах.
— Ты сказал — «люди». Ты намекаешь, как это теперь делают многие, что не лишен связей с так называемыми внутренними силами. Я не знаю, чем ты занимаешься, и, бог свидетель, не хочу этого знать. Но почему ты так легко готов осудить того или иного из твоих ближних? Не потому ли, что их уже осудила кучка безответственных людей, точнее, говоря без обиняков, кучка «патриотических» кумушек?
Это не был вопрос — она высказала свое убеждение. Но ей ли принадлежали эти слова? Это был голос прослойки, которая не принималась в расчет, — прослойки скептиков. А может, это попросту голос разъяренной тигрицы-матери? Консул тоже встал. Неприятно было сейчас смотреть на нее снизу вверх. Он тоже поднялся по ступенькам к окошку в эркере. На душе стало как-то легче.
— Ты могла бы по крайней мере проявить понимание, — проговорил он.
Но она мгновенно парировала:
— В чем — понимание? Может, согласиться шпионить за ним?
— Называй это, как хочешь. Я бы назвал это — спасти его.
— От чего спасти?
Он снова пожал плечами. Слишком уж прямолинейно она ставит вопрос. Чужой дух витает в этой гостиной.
— Люди могут прибегнуть к крайним мерам, — сказал он.
Теперь он снова увидел на ее лице испуг. Она спросила:
— А если он скроется?
— Его найдут, куда бы он ни бежал.
— Ну и что же? Когда-нибудь ведь все разъяснится...
Он стоял, глядя на залив, расстилавшийся внизу, на мутную темную воду, где отражалось небо, вдруг показавшееся ему совершенно безрадостным.
Он пробормотал:
— Ты думаешь, ему удастся оправдаться?
Досада захлестнула его. В одной из листовок нынешние времена выспренне именовались временем великого очищения. А не обстояло ли дело как раз наоборот? Может, это время очернения, время смутного недоверия и скоропалительных приговоров?
— Почему Вилфред не может быть прост, как другие? — мягко проговорил консул Мёллер. Старый усталый человек, он устал от скверной пищи, от бездеятельности, от несвойственного ему альтруизма.
Сестра тронула его за плечо:
— Мне не нравится твой вид, Мартин. По-моему, ты сильно сдал. Почему бы тебе не уехать? Говорят, в высокогорных отелях и теперь можно отлично отдохнуть.
Она снова отошла к большому окну, выходившему на залив. За окнами быстро темнело. Вдоль насыпи у железной дороги лежал грязный снег. Она резко обернулась.
— А знаешь ли ты, что у Вилфреда в Париже сын?
У него перехватило дыхание. Он представил себе младенца с темными кудрями.
— Ему восемнадцать лет. Он работал в театре, кажется, писал декорации. Немцы бросили его в тюрьму, но он бежал. Думают, что он в маки.
Мартин Мёллер почувствовал себя в западне. Здесь его потчевали убедительными сомнениями и неожиданными вестями. Его обвинениями не интересовались. Угощали странными фактами. Он спросил:
— А фамилия у него чья?
— Он носит фамилию матери. Она француженка. Кстати, зовут его Рене.
Будто по волшебству, из шкатулки появилась фотография. Мартин увидел высокого подростка лет пятнадцати-шестнадцати. Он был в чем-то вроде комбинезона и стоял, прислонившись к мачте яхты, он обладал тем небрежным изяществом, которое — все хорошо это помнили — было свойственно Вилфреду в бытность его подростком. Черты его лица, безупречно правильные, поражали неправдоподобной красотой, но взгляд был какой-то бескрылый.
Мартин Мёллер застыл с фотографией в руках — будто хотел вырвать у нее все тревожные тайны Вилфреда. Наконец он сказал:
— Он похож на...
— Да, я и сама это вижу. Он похож на отца Вилфреда. Сам Вилфред не так уж сильно похож на отца. Сходство проявилось лишь в его ребенке.
Сусанна протянула руку, словно желая погладить фотографию, которую держал ее брат, но все же не коснулась ее. Он вернул ей снимок. Она взяла фотографию в руки, будто распятие...
Мартин Мёллер стоял перед ней пристыженный, и доводы его тоже словно бы увяли.
Защитная реакция вдруг пробудила в нем раздражение, как всегда, когда он чего-то не понимал.
— Какого черта, почему наш Вилфред всегда и во всем ведет себя двусмысленно! Если и впрямь дело обстоит так, как ты намекаешь, если он вправду...
Он провел рукой по лбу.
Она спросила:
— А знаешь ли ты, как он заполучил эту руку, точнее, потерял свою?
Он порылся в памяти. Так много всего приключилось в ту пору. Взять, к примеру, торговые его дела. Да и вообще все это было так давно.
— Кажется, на карусели?
— Да, на карусели. Там была карусель. И ребенок.
— Вот этот мальчик? Рене?
— Он тогда даже еще не родился. Был другой ребенок, чужой. И Вилфред его спас.
Опять шквал неожиданностей, опять скрытый укор обвинителю.
— Кто сказал, что Рене в маки?
— Люди сказали... там, видно, то же, что и здесь.
Она неопределенно улыбнулась.
«Люди», «они», как теперь принято выражаться, казалось, обступают тебя со всех сторон. Кто они, все эти люди, создающие определенное мнение?.. Что ж, если все, что говорят о Вилфреде, основано на заблуждении...
— Так как насчет сигары?.. — спросил он.
Она пододвинула ему ящичек. Наверно, давно уже держала его наготове. Она не улыбалась. Ему просто необходимо ухватиться за что-нибудь, ей это было ясно.
— Не знаю, — проговорил он, словно беседуя с самим собой. Его стакан вдруг снова оказался полон до краев отличным виски. На Бюгдё рано спустился вечер: все словно сговорилось прогнать нынешний день, чтобы память спокойно вернулась к былым временам.
— Когда Вилфред возвратился из Парижа... — снова начал он, — я имею в виду его первое возвращение... — дядя Мартин сладострастно выпускал изо рта кольца дыма, — мы все думали, что он сошел с ума.
— Ты так думал.
— Все так думали. А что еще прикажешь думать? У него было несколько выставок... — что ж, я в этой живописи ничего не смыслил ни тогда, ни теперь, но раз знатоки провозгласили его художником...
Теперь он опять был прежний «дядя Мартин»; когда он произносил эти слова, казалось, будто он берет живопись кончиками пальцев и поднимает вверх, выставляя ее на всеобщее обозрение и осмеяние. Выпрямившись в кресле, он заговорил с пылом:
— Я хочу сказать, это было нечто реальное, осязаемое — общественное положение или называй, как хочешь. Вилфред получил признание, и даже больше того. Право, я гордился им, читая в газетах отзывы критиков. Ведь я был его опекуном, не так ли? Я...
Под наплывом внезапной досады он вновь рухнул в кресло.
— И вдруг он посылает домой... и, боже милостивый, заполняет весь Стеклянный зал безумными этими холстами... Все эти штуки какой-то тамошний проходимец вбил в голову молодежи... как бишь, его звали?
— Андре Бретон. Да только ты неправ.
— М-да... — Мартин Меллер вскинул брови. Удивительно, до чего же непогрешима эта дама, когда-то бывшая его младшей сестренкой, удивительно, сколь прочно она удерживает в памяти чепуху, которую другие, естественно, тут же забывают и выбрасывают из головы.
— Что ж, изволь, назовем их всех экспрессионистами, сюрреалистами... да, да, как я уже говорил, в живописи я ничего не смыслю. Но ведь и сам Вилфред отверг все это потом, у него появились иные кумиры.
— Кандинский. Клее.
Мартин Мёллер сдался — он продолжал курить. Будто два пушечных залпа, прогремели сухие, короткие пояснения его сестрицы: запас ее знаний об этих комедиантах в мире искусства, о которых в ту пору подробно писала отечественная печать, казался воистину неисчерпаемым.
— И тут, черт возьми, наш мальчик одним ударом, одним бессовестным ударом, разрушил положение, которое сам создал себе первыми своими картинами, вернее, — ты уж прости меня — первой своей мазней, можно подумать, что она не была достаточно новомодна...
Он подался вперед в кресле.
— Сусси, милейшая моя Сусанна, будь столь любезна и не пытайся уверить меня, будто ты что-то в этом поняла, даже в его первых работах, хотя, возможно, в них было своего рода искусство, а уж эта новая мазня в стиле мсье, как бишь его там...
Она не курила. И не пила. От этого положение гостя, наслаждавшегося сигарой и виски, становилось еще более неловким. Безмерная горечь захлестнула его.
— Какой смысл, черт побери, всю свою долгую жизнь вести честную торговлю? Какой смысл трудиться в поте лица? Появится такой лодырь и шалопай, ты уж прости меня, Сусанна, но будем называть вещи своими именами, и с помощью блефа добивается известного признания, а затем — тут же — чистейшего скандала, который вдобавок затрагивает его близких, сама ведь знаешь... Но зато их помнят, странно, почему-то их помнят, шарлатанов этих. Будто они совершили какой-то подвиг!
Он отвлекся от главного. Она не стала его этим корить. Он всегда восхищался умением сестры тактично не замечать чужих оплошностей.
— Ты хочешь сказать, — тихо произнесла она, — что ты тогда не понимал его и теперь не понимаешь.
Он помешкал немного, нежась в кресле. Вообще-то здесь очень уютно.
Все реже и реже наведывался он теперь сюда. Но всегда ему приходилось — неизменный проклятый его удел — вносить в этот дом тревогу.
Что ж, кто-то ведь должен это сделать, кто-то должен взять на себя труд спасти этого вечного вундеркинда, если и впрямь он неповинен во всех тех ужасных грехах, которые ему приписывают.
Милосердное виски помогло ему успокоиться, и Мартин добавил:
— Ты же сама была в отчаянии, когда он устроил выставку своих безумных картин?
— Какие слова ты употребляешь, — спокойно возразила она. — Да, слово «безумные» в ту пору меня потрясло. Кто-то из критиков так написал. Я тогда ужасно перепугалась. Печатное слово всегда пугало меня. Я, вообще-то говоря, плохо разбираюсь в живописи, ты прав, Мартин. Но слова пугают меня. Столько новых слов вошло в моду в те годы, когда Вилфред был за границей, все рассуждали о подсознании, точно всю жизнь только это и делали. Даже страшно стало. Но слова эти не проникли мне в душу.
Он вскинул голову, просиял:
— Да, не правда ли? Слова! Слова! Зачем, черт возьми, говорить вслух про всякие непристойности? Мы привыкли набрасывать покров на многое, и слава богу, если хочешь знать мое мнение...
— Но когда я увидела эти картины, да, милый Мартин, я говорю о тех самых последних несуразных холстах, о тех несуразно больших холстах, на которых было изображено нечто недоступное мне...
Будто что-то оборвалось у нее внутри. Будто порвалась последняя, натянутая до предела струнка... Он поднял голову. Ощущение уюта рассеялось. Он поймал настороженный взгляд сестры. Она взглянула на тикающие часы. Потом посмотрела на залив под окнами. Мимо шел поезд. Кажется, уже спустилась ночь.
— Ты утверждаешь, будто что-то поняла?
— Вилфред объяснил мне эти картины. Он сказал, что действительность...
— И ты попалась на эту удочку? — Мартин Мёллер искренне негодовал. Теперь он снова был прежний дядя Мартин, мужчина, глава семьи.
— Господь наградил нас пятью органами чувств, дорогая Сусанна, и я полагаю, этого предостаточно!
Поезд исчез, умчался к центру города. Оба повысили голос, стараясь заглушить отдаляющийся шум. Он подумал: в былые дни поезда ходили здесь гораздо реже. И когда поезд появлялся, было даже приятно: всякий раз это вносило какое-то разнообразие. Нескончаемая круговерть мыслей... как она раздражала его! Мартин Мёллер презирал всяческие сантименты.
— Он сказал, что действительность не так проста, как кажется, — закончила она.
Снова откинувшись в кресле, дядюшка Мартин заговорил с обидой и с торжеством:
— И всю эту чушь ты приняла всерьез двадцать лет назад! А сегодня ограждаешься ею, как щитом...
Ему снова было все совершенно ясно: слава богу, он еще многих может научить уму-разуму!
— Ты приняла на веру всю эту модную болтовню тех лет! Помнится, тогда толковали про какое-то раздвоение... к чертям весь этот вздор! Ты же хочешь с его помощью оправдать по меньшей мере странное поведение нашего мальчика в нынешние времена, когда нужна лишь однозначность. Здоровый инстинкт, Сусанна, таится в сердце каждого норвежца!
Она взглянула на графин, Мартин смутился. Он сказал примирительно:
— Ты же сама понимаешь: сегодня всем нам лучше вести себя так, чтобы избежать кривотолков!
Она снова заговорила:
— Еще одно. Когда он вернулся домой без руки — а ты ведь знаешь, что он много лет не притрагивался к клавишам, — представь себе, он снова стал играть! Одной левой рукой. Он навестил Пауля Витгенштейна — знаешь, того австрийского пианиста, что потерял правую руку в годы прошлой войны, — он снова завоевал успех у публики пьесами для левой руки. И Вилфред разучил их, помню, как он играл концерт Равеля и несколько вещей Рихарда Штрауса...
— Но что ты, собственно, хочешь всем этим доказать?
— Доказать...
У сестры был усталый вид. Мартин досадовал теперь на свою резкость. Какого черта он всегда вмешивается в чужие дела? Этот порочный мальчишка был когда-то его подопечным, но с тех пор прошло много лет. Мальчик стал взрослым. А сам Мартин стал стариком. И снова его охватило гнетущее чувство, будто жизнь замерла на месте или, того хуже, клочками возвращалась вспять. Да, было время, когда Вилфред завоевал успех — пробился, как теперь говорят... А сейчас? Если только это правда, что мальчик втайне совершает какие-то добрые дела... Что ж, пусть сам смотрит! Ему жить!
Но с другой стороны: все бытие ведь перевернуто вверх дном! Распущенность, разврат перестали быть личным делом каждого, теперь они становятся опасными для жизни. Нежелательные знакомства, дурные наклонности могли толкнуть человека на измену родине, а это влечет за собой презрение, месть, высшую кару. Опасность подстерегает на каждом шагу — все это столь непривычно... столь противоестественно в маленькой стране, некогда дышавшей миром, почти не знавшей бурь...
Он прислушался. В доме родной сестры он стоял и прислушивался. Она тоже прислушалась. Он заметил у нее на лице испуг.
— Неужели он здесь?
— Не знаю. У него есть ключ. Я никогда не знаю, где он. Он мне не говорит.
Все прежнее негодование разом вспыхнуло в нем:
— Так он приходит сюда?
— Я же сказала: я ничего не знаю. Он почти никогда здесь не бывает. А тебе сейчас лучше уйти.
Ему следовало бы обидеться. Он чувствовал, что имеет на это право. И в то же время у него есть долг: он обязан помочь сестре.
Но лицо ее выражало такую отрешенность, что и обида, и чувство долга тут же угасли.
— Сейчас тебе лучше уйти. И спасибо за все.
8
С моря бастион был невидим: столь естественно он сливался с берегом. С суши сюда не было доступа, но тот, кто вздумал бы подняться на невысокую соседнюю гору, увидел бы внизу череду бункеров в паутине колючей проволоки...
Берег был голый и необжитый. Но в долине фьорда стоял старый хутор с перестроенным на современный лад жилым домом, где расположилось командование укрепленной зоны. Идеальное место для воинской части — незавершенные, но уже устаревшие укрепления, более пригодные для устрашения, нежели для боевых действий. В низких строениях между скалами рядовой состав части сменялся каждый месяц, и с каждой сменой присылали все меньше людей.
Мориц фон Вакениц стоял у окна жилого дома и разочарованно глядел в туманную даль зимнего дня: затеплившийся свет вскоре поглотила серая мгла. Ни один день не оправдывал надежд, которые сулило утро. Час за часом фьорд монотонно вспенивался зеленой с белым гребнем волной, бился о мрачные скалы, хлюпал в темных ложбинах, пока власть моря не изгоняла его оттуда, и вновь отступал, обессиленный, оскудевший от прорыва своего в недра гор. Снег мутными пятнами еще лежал на скалистых склонах. Крутые ущелья, узкие лощины повсюду прорезали берег, отчего он казался неприветливым и безрадостным. И небо будто вечно текло на землю, мглистое и сырое, временами обрушивая на нее холодные валы мокрого снега.
Такова, значит, эта страна — хмурая и неприступная, совсем иная, чем он себе представлял, совсем не та, что жила в буйных воспоминаниях о веселой поездке сюда когда-то в детстве, в дни школьных каникул. Для Морица то лето навсегда воплотилось в яркие картинки с преобладанием синего цвета, будто вобравшие в себя всю прелесть природы, которая околдовала его, — самое прекрасное лето в альбоме его детства. Во время той поездки он немного выучился здешнему языку и впоследствии тоже продолжал его изучать: он взял себе за правило развивать все свои знания, ничего не забывать из того, что довелось ему когда-либо прочитать или услышать.
Его всегдашняя грусть была всего лишь пряной приправой к будням там, в Померании, на залитых солнцем равнинах, с таким многоцветьем красок, будто в каком-нибудь Арле. Здесь же мрачное состояние духа стало фоном, который с каждым днем все больше подтачивал его силы. Служебные обязанности его на этом случайном клочке береговых укреплений были немногочисленны и однообразны, большую часть работы можно было без ущерба для дела переложить на плечи двух его подчиненных, живших в бывшей людской. Оттого у Морица всегда была под рукой рюмка, которую он то и дело наполнял мозельским вином. Он пил его без жадности, не спеша, но за долгий пасмурный день выпивал две-три бутылки. Однако вино было ему необходимо: оно спасало его от страха.
Он ждал уже долго. Он начал сегодня ждать с самой зари. За Вилфредом послали машину к станции: по пути он должен был прихватить с собой Марти. Мориц решил, спокойствия ради, поселить ее в другом месте, подальше от побережья. Вечно во всех поступках своих он балансировал на грани запретного. Но при этом он ведь солдат, да, с виду он настоящий солдат.
Он поправил на себе мундир и почувствовал себя солдатом. Он был не из тех, кто расстегивает воротник удобства ради, дает себе поблажку. Совсем напротив, отправляясь проверять укрепления, он всякий раз натягивал темно-зеленые перчатки, а для любого смотра — светлые; безупречным блеском сверкали его ботинки, которые не менее пяти раз кряду он возвращал денщику для повторной чистки, когда ему присылали на эту должность нового парня. Не потому, что ботинки могли засиять еще ярче, а потому, что так велел обычай.
На кухне все уже было готово к завтраку — сегодня ожидалось изысканное угощение. Люди в этой стране придают большое значение еде, они привыкли к добротной пище и любят вкусно поесть. Мориц задумался о своем друге Вилфреде: он был словно кусок его самого, словно брат, — тепличный цветок, давший втайне неожиданные ростки, орнамент, сложный узор которого ускользал от взгляда...
У Морица было мало друзей — так сложились обстоятельства. Он встречал лишь коллег, погрязших в казарменном быте, — общество их тяготило его.
Внутренне оставаясь холодным, он был по-своему благодарен этой Марти, которая связалась с ним, не задумываясь над тем, что творит, но сохраняя какое-то изящество в своем падении — дар, на его взгляд, присущий всем европейцам. И это тоже он не рассчитывал встретить в стране, которую им рисовали как своего рода природный заповедник, населенный примитивными, но добродушными особями.
Он услышал, как кто-то бежит по гравию между домами. В прихожей он столкнулся со своим денщиком Хайнцем, тот уже держал в руках форменную фуражку, светлые перчатки и стек — все, что Мориц сделал частью своего обмундирования. Машина развернулась у дома и стала. Из нее выпрыгнул шофер и застыл у дверцы по стойке «смирно». Мориц, подтянутый, щеголеватый, вышел на обитое железом крыльцо. Чуть располневшая в последнее время от сытной еды, с легким загаром, никогда не сходившим с ее лица, Марти выглядела великолепно. Вилфред — он вылез из машины следом за ней — рядом с Марти казался особенно бледным, но улыбался своей всегдашней невозмутимой и насмешливой улыбкой.
Застолье разворачивалось с точностью военной операции. Хозяин дома восседал спиной к огромному окну, чтобы на него не давила свинцово-серая природа, словно бы вплывавшая в комнату; к тому же отсюда он лучше видел своих гостей. Чтобы в комнате стало повеселей, зажгли высокие свечи на столе, где в зеленом блюде алели раки. На всей картине была печать сознательного смешения свежести, источаемой дарами природы, с уютным теплом домашнего очага, особенно приятным в пасмурную погоду. Хайнц в белых перчатках разливал вино и подавал гостям обед, как истый метрдотель, каким он вот-вот должен был стать, когда началась война. Он поставил перед каждым чашку дымящегося бульона — единственная дань погоде, — все же прочее угощение составляли холодные блюда, малыми порциями, но подобранные со вкусом и знанием дела. Морица забавляло выражение лица Марти. При виде всех этих вкусных блюд — ни дать ни взять картинка из довоенного журнала, — на нем проступило детское вожделение.
Потом они пили кофе и коньяк в каменной беседке. Небо чуть посветлело. Они сидели, закутавшись в пальто и пледы, для поддержания тепла на спиртовке грелся кофе. Гости бурно радовались крепкому черному кофе, совсем не похожему на мутное пойло, которое по воле злого рока они пили ежедневно. Мориц радовался их радости. Он подумал: была бы возможность щедрее кормить этот народ — наверняка не возникло бы столь сильного недовольства. Недоедание и скверный кофе куда в большей мере, чем полагают, причина противоестественной стойкости здешнего Сопротивления.
Не то чтобы оно всерьез тревожило оккупантов, но покоренный народ необходимо привлекать на свою сторону с помощью жизненных благ, которые он ценит. Он вспомнил батраков в своем родовом поместье. Не изведав ничего лучше ржаного кофе, они были им довольны. Точнее — никто не спрашивал, довольны они или нет. Они работали, делали, что им велят,— на то они и батраки.
— Чудно, — сказала вдруг Марти, глядя в светлеющую даль на чаек, весело паривших на ветру, — чудно, что и природа, и ветер, и чайки... что все это осталось прежним, совсем как раньше...
Мориц рассмеялся:
— Птицы не замечают, что сейчас «решается судьба отечества», вы это хотите сказать?
Она с простодушной досадой уставилась на него. Мориц продолжал ее поддразнивать:
— Скажите, Марти, а вас это сейчас очень беспокоит?
Она беспомощно взглянула на Вилфреда: этот чужой человек, офицер, с которым она, случалось, делила постель, не хотел понять, что в душе она — патриотка... Вилфред пожал плечами. Нелепая чувствительность!
— А ты? — продолжал Мориц, обращаясь к Вилфреду: — Ты уже принял решение?
Вилфред взял сигару. Так мирно, уютно в этой беседке...
— Вы же все преисполнены идеализма. И твою позицию никто не поймет!..
В тоне Морица слышалось дружеское участие. Вилфред рассмеялся. Он низко нагнулся над столом, стараясь заслонить спичку от ветра.
Беседка была самая настоящая маленькая крепость — естественное скопление камней под крышей из дубовых досок, столь хитроумно встроенных в камень, что снаружи никто бы их не заметил.
— Зачем отравлять приятные минуты каверзными вопросами? — с улыбкой проговорил Вилфред, вдыхая сигарный дым. Его неугомонная левая рука недвижно покоилась на спинке кресла. И сам он сейчас весь отдался покою: ветер, вино, коньяк и тучи, стремительно плывущие по небу, привели его в блаженное состояние духа.
Втайне он развлекался назревающей ссорой между этими двумя столь несхожими друг с другом любовниками: oн, всезнающий циник, изнывавший от скуки на своем невысоком посту, с каждым днем все больше пренебрегая своими обязанностями; она, слабая, податливая женщина, охочая до лести и житейских благ, но отнюдь не лишенная притом искренней любви к своему униженному отечеству...
— Наша Марти просто дитя природы, как я понимаю, — сказал он, отхлебывая попеременно кофе и коньяк. Но Мориц не унимался.
— Ты упрощаешь! — заявил он. — Слишком уж просто ты хочешь все объяснить!
Оба сидели теперь и глядели на Марти, под их пристальным взглядом она вспыхнула, залилась краской.
— От нас, — устало, но настойчиво продолжал Мориц, — требуют, во-первых, дисциплины, необходимой в условиях войны, во-вторых, надменного снисхождения ко всем этим блошиным укусам, я имею в виду действия ваших патриотов. От вас мы требуем лишь одного: свыкнуться с нами, что, кстати, наилучший выход для вас самих — вы же разгуливаете с гневным видом, всячески стараясь показать, как вы страдаете за свое отечество... Но вот вы оба... как говорится, от ворон отстали, а к павам не пристали. А раз так — можно ждать удара с обеих сторон.
Марти хотелось вскочить и уйти. Она походила сейчас на обиженную школьницу. Она будто не понимала ничего, воображая, что все в полном порядке: как бы она себя ни вела, главное — сберечь в своем девичьем сердце искру всенародного гнева.
Но Мориц по-прежнему не унимался. Из сугроба под каменным столиком, за которым они сидели, он выудил бутылку ликера. Рассматривая ее против света, он вопросительно, не без кокетства поднял брови. Она кивнула. Марти нельзя было покорить силой оружия, но вот с помощью ликера...
— Да, вас не поймешь, — игриво продолжал Мориц. Он поднял рюмку. Марти послушно последовала его примеру. — Нетерпимость — ваше национальное свойство.
Он откинулся назад в неудобном кресле, оформленном в виде дерева, с ветвями и почками на них.
— Все это могло бы быть смешно. Но, в сущности, в этом ваша сила. Когда вас, норвежцев, тем или иным способом настигает рок, вы делаете оскорбленную мину и говорите «нет!», не считаясь с безысходностью положения. Вы бы посмотрели на моих батраков в Померании — неужто вы воображаете, будто им нравится война? Или, к примеру, мне самому? Она не нравится даже нашим политикам.
Он рассмеялся, но вдруг помрачнел:
— Но в тот же миг, как война стала фактом, вот бы вам взглянуть на них! Они явились все, как один, эти усталые горемыки, никогда не помышлявшие ни о благосостоянии, ни о чем другом, что составляет для вас смысл бытия, явились все, как один, в мундире, сразу усвоив военную выправку. Вы думаете, они рвались в бой? Ничуть. Но они были готовы к бою. К бою за родину? Да за что угодно, чем только их поманят — за родной дом, за церковь, веру, свободу, а можно и за отечество, не все ли равно, все это лишь символы, которые в тот же миг обрели для них смысл, совершенно определенный смысл для всех и каждого, сразу же, как только... Да кто они такие, эти люди, — им ли обижаться на неумолимый рок?
Он говорил так, будто все это его нисколько не интересовало, — просто хотел разъяснить некоторые очевидные истины существам с другой планеты — бесхитростным детям, вообразившим, что они смогут всю жизнь резвиться на лужайке только потому, что им разрешили поиграть там часок перед обедом.
— Хорошо, хорошо, — примирительно сказал Вилфред, ничем не выдавая, что чувствует на себе взгляд Марти: глаза ее вновь вспыхнули в последнем приступе возмущения, впрочем быстро погасшем под лаской ликера. — А какую породу животных предпочитаешь ты?
— Я? Как человек, я ценю в других уступчивость, сговорчивость. Как офицер, я считаю это непреложным.
В его тоне не было угрозы. Но в самой любезности его скрывался вызов. Он продолжал, на этот раз даже с каким-то волнением.
— Говорят, мы живем во время, лишенное иллюзий. Что, собственно, это значит? Одна сторона дела ясна: надо принимать вещи такими, какие они есть... А впрочем... Люди и сейчас преисполнены иллюзий, и, если хотите знать мое мнение, слава богу! Но вот вы, вы живете одними иллюзиями, купаетесь в них, сменяя одну иллюзию другой. Прежняя звалась «Англия», впрочем, почему бы и нет?
Вилфред сидел, постукивая пальцами по каменной столешнице.
— Ты долго жил в уединении. Не думаешь ли ты...
— Ты заблуждаешься. Я по-своему связан с этой страной. Я говорю на вашем языке. Возможно, только поэтому начальство явило снисхождение к моим грехам...
Он смущенно оглянулся, затем продолжал с улыбкой:
— Сто тридцать пять лет назад агрессором, а следовательно, извечным врагом, была Англия. В ту пору в Уллеволе правил проанглийски настроенный Юнас Коллет, прожигая жизнь с таким двором, который вы сейчас вряд ли потерпели бы у себя. Кто знает, может, он был твоим предком, я бы не удивился... Нет, нет, к чему этот изумленный вид? У меня тоже есть предки. Разве мое имя — фон Вакениц — не показалось тебе знакомым? Нет? Хотя, верно, ведь вы, норвежцы, не знаете собственной истории, за исключением ее героических эпох. Неужели ты не слыхал про некоего Августа Фридриха фон Вакеница? Он был родом из Померании, в чине генерала служил в Шотландии под началом герцога Камберлендского. Но впоследствии он осел в твоей старой Христиании на правах ближайшего советника асессора Розенкранца — слабого и недалекого малого, весьма нуждавшегося в наставнике, который нашептывал бы ему на ушко разные разности. Почтенный асессор публично признался, что всякий раз, когда его разъедало сомнение по поводу какого-либо важного дела, а сомнения разъедали его беспрестанно, он спрашивал себя: «А как поступил бы в этом случае мой друг фон Вакениц?» Как видишь, нельзя сказать, что я ничем не связан с вашей страной. Положение в ней изменилось. Так почему бы не сменить иллюзии? Это же легче всего. Вы живете иллюзией, имя которой — национальная независимость, что бы там ни понимали под этим. Вы попросту закрываете глаза и видите лишь то, что хотите. В этом ваша сила, как я уже говорил, да, наверно, это так...
— Но действительность? — вставил Вилфред не без некоторого волнения. — Вот сейчас ты уже приготовился сказать: но действительность... не так ли?
— Да, пожалуй, что так. Действительность... правда, вы употребляете это слово в самом элементарном его смысле, понимая под ним то, что мы чувствуем, едим и так далее... Иногда, напротив, вы ударяетесь в метафизику и принимаетесь рассуждать об истинной действительности, скрытой за внешней... В зависимости от того, как вам удобней в данный момент...
Вилфред выпрямился на своем сиденье.
— А сам ты что думаешь?
— Действительность, разумеется, относительна. Моя действительность не имеет ничего общего с действительностью батраков, о которых я вам рассказывал. Действительность, очевидно, некая постоянная величина для каждого, не правда ли? В общем, некая сумма фактов.
Вилфред не мог сдержать улыбку.
— А мне показалось, что ты не всегда склонен признавать факты. В частности, такой факт, как положение в этой стране...
Мориц поднял брови. Он не оглянулся на собеседника, хотя настороженно ловил его слова.
— Все дело в методах, милый друг. — Из пузатой бутылки он налил гостям коньяку. — В форме, в различии между тонким вкусом и безвкусицей. Нет, нет, не улыбайся! Кажется, мы живем в среде, лишенной формы, но это лишь кажется так. Чужеземное всегда во всех своих проявлениях раздражает и оскорбляет местных жителей, а вот этого-то и следовало бы нам избегать. Ты ведь сам хорошо знаешь, что такое форма, знаешь, что сплошь и рядом именно она определяет и видоизменяет содержание, короче — формирует его. Конфликты всегда вызываются формой. Что же касается действительности — она попросту неизбежна.
Ветер наскоками врывался в беседку, обжигал ледяным дыханием... В его вой вплетались громкие крики чаек, доносившиеся с моря. Что-то зловещее вдруг проступило в этой картине. Марти вновь захотелось встать и уйти. Но Мориц склонился над бутылкой и сам поднял бокал. И крепкий, густой, веселящий ликер снова пролился в ее гортань. Все силы тотчас покинули ее — на смену пришло тихое веселье.
— Послушать тебя, мы будто не люди, а какие-то животные, — вяло пробормотала она.
— Нет, нет, совсем не животные. Люди... — Мориц вновь откинулся в кресле, следя за полетом чаек. — Мы всегда так нелепо рассуждаем о людях, — продолжал он. — Что можно сказать о человеке? Он склонен к обману, ищет наслаждений, жаден, скуп или же труслив, в нем обитают господь и дьявол одновременно. Немногие люди — гении, но не о них речь. Когда люди произносят слово «человек», они обращают свой взор к небу, как бы надеясь заполучить оттуда коллективную индульгенцию... Дорогая Марти, я очень люблю людей, или, если вам угодно, человека, но ведь все хорошо в меру, не так ли? Я не обращаю при этом взор к небу и не забываю о земле, по которой все мы ползаем.
Вилфред спросил:
— Ты думаешь, вы выиграете войну? — Вопрос прозвучал грубо, хотя Вилфред спросил как бы вскользь.
— Ты прекрасно знаешь, что я этого не думаю. Я никогда в это не верил. Зато я думаю, что мы выиграем мир. Американцы... Впрочем, дело не в этом. Неужели ты воображаешь, будто работники мои, о которых я тебе рассказывал, верили все это время — или хоть когда-нибудь — в счастливый исход войны? Да их никто и не спрашивал. Вопрос этот занимает народ, ведущий настоящую войну, куда меньше, чем принято думать. Это вас он занимает — тех, кто, как говорится, может «сделать ставку». Это вам необходимо знать, каков будет исход.
— Но почему же тогда?.. — Вилфред осекся: не стоило рассуждать о таких вещах в присутствии Марти. Оба одновременно взглянули на нее. На лице ее была блаженная вялость, но она не спала.
— У меня на родине заявила о себе оппозиция, — сухо произнес Мориц, — тебе известно мое отношение к ней, она меня не интересует, отчасти потому, что я сдержанно отношусь к политике вообще. Но эта оппозиция не стремилась во что бы то ни стало обеспечить победу, она пыталась лишь умерить масштабы беды, как сказал бы ты.
Ветер дул еще резче, еще холодней стало его дыхание. Марти мужественно терпела холод. Теперь, когда они повели ее к дому, она будто легко плыла по земле. Мориц проводил ее наверх: ей хотелось отдохнуть. Вилфред прошел в библиотеку — смотрел, как за окном сгущались сумерки.
Комната была частично приспособлена под кабинет. Стоя лицом к зеркалу, Вилфред наблюдал, как умирает день. Он видел свой силуэт на фоне окрестного пейзажа, силуэт дрожал и колебался. Мориц бесшумно спустился вниз и встал за его спиной, почти рядом.
— Ты совершенно прав, — сказал он.
Вилфред поймал его взгляд в зеркале, глазами спросил, о чем он.
Тот сказал:
— У тебя ведь тоже нет ни братьев, ни сестер?
— Есть сводный брат. Я с ним не знаком. Он оскорбил мое одиночество самим фактом своего существования.
— Я был в этом уверен. Я распознаю единственное дитя на любом расстоянии.
— Но ты ведь не это хотел сказать?
— Я хотел сказать, что твое положение... что вообще такие, как мы... нет, я вовсе не утверждаю, что твоя гибель предрешена изначально. Но в сложившейся ситуации...
— Ты хочешь сказать, что некоторые люди неизбежно делают ошибочный выбор?
— Да, что-то в этом роде... Нет, посмотри, у тебя волосы светлые, у меня темные, а так, честное слово, почти никакой разницы!
Он рассмеялся.
Его присутствие вдруг стало физически неприятно Вилфреду. Ему не нравилось, когда его мысли высказывались другими людьми. Все же он не сдвинулся с места. Его взгляд был словно прикован к двойному отражению в зеркале на фоне темнеющего неба.
Мориц заметил его реакцию и сказал с легкой усмешкой:
— It is a humiliating confession, but we are all of us made out of the same stuff [2].
Вилфред поморщил нос.
— Оскара Уайльда можно цитировать по любому поводу. Он еще говорит, что раньше или позже неизбежно приходишь к той омерзительной общности, которая зовется человеческой природой. Если это правда и ты этому веришь, почему же ты не пустишь себе пулю в лоб вместо того, чтобы жонглировать подходящими к случаю цитатами?
— Кто знает? Наш общий друг говорит, что только поверхностным людям дано познать самих себя...
Он вновь рассмеялся. Зазвонил телефон. Вилфред быстро прошел в гостиную и оттуда, из-за закрытой двери слышал, как Мориц отвечал по телефону. Очевидно, служебный звонок. Вилфред старался отойти как можно дальше от двери, чтобы не слышать разговора. Эти людишки с убийственной серьезностью толкуют о вещах, уже не имеющих ровно никакого значения. Покой, которым он еще недавно наслаждался, сменился немым отчаянием... Однажды он уже стоял в железнодорожном туннеле и в смертельном испуге прижимался к стене, и мимо него с грохотом мчался поезд, а ведь тогда он твердо решил лечь на рельсы и дать себя переехать. Теперь он снова оказался в туннеле — в тупике, в ловушке, как всегда видится в детских снах, со всех сторон опутан сетями...
Однако сейчас он думал не только о себе, он хотел слиться со всеми — может, даже со всем, — словно бы сделавшись воплощением искусства, которое в свое время творил, разумеется искусства беспредметного... В былые времена он был одержим жаждой власти — ею одной, властитель не терпит родства, он враг братьям своим... Вилфред стоял в полутемной комнате и сжимал кулаки так, что побелели косточки пальцев. Властители убивали своих братьев, если требовалось... А Мориц... неужели брат? Что ж, брат как брат, — лучше, во всяком случае, чем этот Биргер, которого он презирал и по которому тосковал... Да, было не слишком приятно видеть свое собственное «я» отраженным в облике этого Морица, увидеть нетронутую копию, когда сам ты с такой одержимостью уродовал свое лицо, что, казалось, его уже невозможно узнать... Он поднял искусственную руку: это была часть его существа, более подлинная, чем другая рука и ноги, которые остались ему от далеких времен невинности и страсти. И Мориц верно сказал о нем: он уничтожил свою форму, а значит, и свою сущность...
Мориц стоял в дверях.
— До поры до времени отечество спасено! Ты, конечно, предпочитаешь виски... как прирожденный британец!.. Но, увы, тебе придется довольствоваться немецким коньяком, три звездочки как-никак, хотя и звездам приходится доверять все меньше и меньше...
Все свое обаяние этот человек вкладывал в подобного рода безопасные остроты на военные темы... До чего ж все-таки он наивен...
— Ты хотел знать, с кем я? Не слишком ли это прямой вопрос? Хоть ты, возможно, и мой двойник...
Мориц подался вперед. Они сидели у камина в библиотеке.
— Тебе никогда не бывает страшно?
— Нет, почему же, когда меня преследуют...
— Но... вообще... ты же способен представить себе... Твое положение...
— У меня нет никакого положения. Я человек без статуса.
— Вот именно. Будто лесная дичь. Ох, тебе стоило бы хоть разок побывать на охоте с трещотками, да, да, на настоящей охоте с загонщиками, которые трещотками вспугивают дичь и гонят ее то туда, то сюда. И когда начинается стрельба, право, это даже менее страшно, чем все прочее. Война, что бы там ни говорили, в общем, разумное явление, только не позиционная война. Война действенная и вправду способствует разумному прогрессу. Психологи всегда отрицают это. Но они ошибаются. Писатели понимают это... иногда. Вилфред коротко засмеялся:
— Я сам был немного писателем...
Но тот, другой, снова оборвал его с прежним сдержанным пылом, неожиданным, даже приятным в нем.
— Почему ты говоришь: «был» и «немного»? Я прочитал твои книги — все три, когда их перевели у нас. Есть какая-то трусость в твоем кокетстве...
— Значит, наверно, ты сам не пытался писать. В писательстве есть что-то мучительное.
Мориц нетерпеливо прервал его:
— Я тоже писал книги. Надо ли говорить, что они в чем-то родственны твоим? И я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь о мучительности этого ремесла.
Мориц сидел не шевелясь. Сигара обожгла ему пальцы, и он бросил ее в камин. «Там осталось достаточно табаку, чтобы какой-нибудь норвежец, жадный до курева, но лишенный его, мог набить себе трубку», — подумал Вилфред. Посторонние мысли вновь бесшумно вторглись в круг сознания. Он подумал: «Да, будь моя правая рука настоящей рукой, а не механизмом... но ведь я должен был спасти того ребенка, это был не просто рефлекторный жест с моей стороны — человеческие руки всегда нужны — руки, умеющие спасать других, руки, всегда готовые это сделать». И еще думал: «У меня был отец и брат. Но пусть бы сыном моего отца был не Биргер — Биргера я ненавижу, ему нет места в моей душе... У меня есть другой брат, вот он сидит рядом со мной, и в нем нет простоты, а есть двуликость, даже — многоликость. Пока еще у меня нет к нему ненависти, но, если его присутствие станет более навязчивым, мы не сможем оба остаться жить, он будет угрожать моему одиночеству...»
И слово «изменник» тоже вплыло в круг сознания, вытеснив другие мысли. «Я все читаю на его лице, он думает, что и в этом мы схожи с ним — мы, потенциальные изменники, — изменники вообще: по отношению к миру, к своей среде и к людям, к таланту; мы составляем с ним некий тайный клуб из двух человек — клуб людей, всегда желающих для себя иного, чем другие. Да, мне случалось спасать людей, это в природе вещей, кого-то мы спасаем, чтобы создать равновесие всякий раз, когда лодка грозит перевернуться... Жил-был когда-то человек с сигарой, и, где бы он ни появлялся, его всюду сопровождал рок, и почему бы ему не быть отцом Морица?..» Мысль эта рассмешила его...
Мориц спросил:
— Когда ты родился?
Но нет, он не позволит этому двойнику, явившемуся невесть откуда, навязать ему свою близость. Он свыкся с болью, поселившейся в его сердце, он хотел изведать ее до конца. Кто сказал: «Испить чашу до конца...»?
Вилфред сказал:
— Пусть даже мы родились бы в один и тот же день, тебе с твоим германским мистицизмом все равно не удалось бы извлечь из этого мнимого сходства больше, чем оно того заслуживает. Мы оба не способны верить, это своего рода яд, вот и все.
Пространство вокруг них наполнилось невидимыми существами, простыми душами, которые обвиняли и задавали вопросы. Мориц встал и долго глядел на темные облака, плывшие с моря. Вилфред видел его в зеркале: Мориц все время держался с несколько искусственной чопорностью, как офицер, как хозяин...
Мориц обернулся. Сделав несколько шагов, он выскользнул из зеркала. Вилфреду стало не по себе, страх охватил его.
Тот, другой, сказал:
— Я всегда ощущал родство с существами, с явлениями, умеющими сберечь свою сущность. Поэтому война с ее чудовищным расхищением сил противна мне даже с чисто практической точки зрения... Мой рационализм пошел на пользу моему имению. Но одновременно я ощущал ущербность всего рационального, и это никак не пошло на пользу мне самому. Сначала я надеялся, что мне поможет писательство...
Он вдруг умолк, шагнул к камину и, остановившись у него, любуясь пляшущими змейками пламени, зажег сигару.
— Разрыв между рациональным — целевой задачей — и бесцельными, если хочешь, разрушительными устремлениями, обратился в пропасть. Я был в той пропасти — душою я был там. Вряд ли это пошло моей душе на пользу. Я был женат. Это длилось недолго. Нельзя обитать в пропасти вдвоем.
Вилфред сидел и глядел в огонь. Он почувствовал на себе взгляд того, другого, но не хотел попадать к нему в плен.
— Эта мятежная тяга к одиночеству, — продолжал тот, — обращается в свою противоположность — в требование властителя, чтобы его приняли в сообщество на его собственных условиях...
Вилфред вскинул голову, будто что-то подтолкнуло его.
— Конечно, — сказал он. — Дальше!
— Я почти все уже сказал... Знакома ли тебе досада, порождаемая совпадением мнений — твоего и мнения другого человека, исходящего притом из совершенно иных предпосылок? Представь себе, что к тебе в дом пришел друг, которого ты глубоко уважаешь... О чем бы он ни рассуждал: о национал-социализме, об угрозе с Запада или с Востока, о расовой проблеме — человек этот приятен тебе. Но тебе неприятно, что он так думает. Или же — тебе неприятны его мысли, хоть они и совпадают с твоими. И ты начинаешь ненавидеть его самого, или его мысли, или то и другое вместе...
— Ребяческий дух противоречия!.. Кто-то сказал однажды: «Человек, ни разу не сидевший у постели своего больного ребенка, не правомочен высказывать свое мнение о чем бы то ни было ».
— Ошибаешься. Я сидел у постели своего больного ребенка. У нас ведь было двое сыновей.
Еще и это! Что ж, значит, хоть в чем-то они отличаются друг от друга: у Морица было когда-то двое детей.
Но он не хотел распаляться из-за того, что затронуло его больше всего другого.
— Ты совершенно правильно сказал насчет стремления — твоего и подобных тебе — добиться своеобразной общности в условиях одиночества в той самой пропасти. Ведь ты, кажется, обитал в пропасти?
Мориц прошелся по комнате, вышел из светового круга. Он ступал бесшумно, как зверь.
— Ты нарочно дразнишь меня, нарочно отталкиваешь меня. В известном смысле это дерзость с твоей стороны, ты многим рискуешь, превращая меня в своего врага, но не это сейчас занимает меня. Я знаю — ведь и ты тоже такой!
— Думаешь, угадал?
— Да.
— Но ты неверно угадал. Я ценю свое одиночество превыше всего.
— Но ты же приходишь ко мне в гости?
В его словах звучала мольба. Но это могла быть и угроза...
Мориц продолжал:
— Главное в одиночестве — не изоляция, а надежда, что изоляция будет сломлена. Ты, к примеру, с кем только ни водишь компанию, один бог знает, какие люди вокруг тебя... Я же обречен на своего рода коллективное бытие как офицер и как человек. И это общение усугубляет одиночество, делает его полным.
Вилфред нетерпеливо дернулся:
— Ты что, совсем не умеешь пить, не впадая в философию? Неужели ты не можешь помолчать?
— Нет. Я разговариваю сам с собой все дни напролет — в этом проклятом бастионе. Все, кто предрасположен к писательству, разговаривают сами с собой. Во всяком случае, это лучше невыносимого панибратства с кем попало. К тому же я не выношу, когда со мной спорят.
— Раз нельзя спорить, значит, нельзя и согласиться с тобой!
Тот, другой, продолжал беспокойно кружить по комнате. Он то брал рюмку и снова ставил на стол, то хватал сигары и тут же снова клал их назад. Огоньки сигар мерцали в потемках.
— Вот ты презрительно отозвался о мистике, о германском мистицизме... Я и мой род не совсем германского корня, у нас в роду кельты, славяне и прочие. Мистика — это всего лишь логический противовес рационализму, которого, как ни крути, умному человеку мало. Вы, жители этой страны, культивировали личную свободу как некую анархическую святыню, без каких-либо обязательств по отношению к кому бы то ни было, лишь к индивиду, как таковому... Вам, наверно, даже не понять страданий мыслящего немца, колеблющегося между почтением и бунтом, откуда бы он ни был родом, пусть даже из Померании или, к примеру, из Вюртемберга, где родилась моя мать. А тебе тоже недостает чувства меры... Да, да, я знаю, ты мечешься от одной крайности к другой, от одной неудовлетворенности к другой — в этом мы с тобой схожи. Дело здесь не в неумении влиться в общество: такие люди, как мы с тобой, можем влиться в общество только с виду. Но наша любовь к независимости даже тюремную камеру превратит в королевство.
— Или же в пропасть, где, по твоим словам, обитаешь ты сам?..
— Нам ничто не поможет. Даже если б мы властвовали над вселенной. Потому что паша человеческая сущность не дает нам достичь величия, попросту дорасти до него. Что же делаем мы? Стараемся уничтожить эту человеческую сущность, как только можем. В ту пору, когда я писал картины...
Вялость мигом слетела с Вилфреда. Он напряженно слушал, стараясь уловить не столько слова собеседника, сколько отзвуки, которые они будили в его душе... Ведь были же счастливые времена, дни, недели в ту пору, когда он еще был жив. Он бросил рассеянный взгляд на свою искусственную руку. Столько всего вдруг обступило его, что он не мог с этим совладать. Он заставлял себя выбраться из этого водоворота воспоминаний, еще не успевших проясниться, но уже поглощенных чем-то куда более отдаленным и... пустым: ты будто летишь в нескончаемое пространство, в бездонность, но тебя все равно поймают, перебросят из одной сети в другую, одна прорвется, не удержав тебя, но и другая прорвется тоже, нигде нет опоры, ничего прочного... и все равно ты будешь в ловушке... Он был сейчас близок к сути вещей, к которым его влекло, которые толкнули его на долгие странствия прочь от берегов, где, возможно, свободно дышалось всем, кто сознавал свою общность с другими людьми. Безграничная тоска захлестнула сердце — тоска по человеку... и жажда бежать от него.
Они прислушались. Наверху проснулась Марти. Послышались шаги — от кровати к туалетному столику. Мориц криво усмехнулся:
— Надеюсь, ты извинишь меня...
Отзвук его голоса по-прежнему жил в комнате. Было почти совсем темно, лишь от камина падал отблеск на пол. Вилфред смешал себе коктейль. Оставаться на ночь здесь не хотелось. Призраки наступали на него со всех сторон. Он мог выйти на дорогу и шагать куда глаза глядят, только бы прочь отсюда. Но мог и заночевать где-нибудь в лесу, ему случалось поступать так раньше.
Комната все еще была полна отзвуками голоса Морица; голос был звучный, красивый. Доводы его Вилфред полностью разделял, но верно и то, что родство отдаляет. Рассуждения Морица сейчас показались ему отвратительными. А может, сам Мориц показался ему отвратительным...
Какого черта этому типу понадобилось навязывать Вилфреду тождество или по меньшей мере родство, когда оно и так столь очевидно? Когда две селедки случайно встречаются в море, разве они останавливаются, помахивая плавниками, и спрашивают: «А что, ты тоже селедка?» Сердце ныло, но ему было хорошо сейчас, он чувствовал, что его начал обволакивать хмель... Каждый сам кузнец своего несчастья.
Он вспомнил вдруг месяцы, некогда проведенные в Париже, тогда все было иным, почти все, тогда он ощущал в себе беспредельность... И сразу нахлынули воспоминания. Нежное чувство прокралось в душу Мириам. Он подумал: «Я должен сейчас уйти, я должен уйти раньше, чем тот тип вернется сюда. Потому что, если он вернется, что-то непременно произойдет... Нельзя встречать самого себя в другом. Но, может, он так увлечен прелестями Марти... Нет, мне надо бежать отсюда...»
Он остался сидеть в кресле, притворяясь, будто размышляет о чем-то. Но он не размышлял ни о чем. Он сидел и разглядывал свою руку, желтую, как воск. Мысленно он вернулся сейчас назад в мир, где, может, ему лучше было остаться. Но он и в ту пору не весь отдавался ему. Все в силу этой самой человеческой природы, кто тут только что рассуждал о человеке? Он и в ту пору тоже бежал от всего навстречу катастрофе в собственной душе, прочь от того, что могло быть, что уже было. Он сидел, вдруг с беспощадной ясностью осознав все. Но ведь теперь уже поздно. Господи, слишком поздно!..
Часть вторая. МИРИАМ
9
Таковы были дни моего счастья — бесконечные и бесконечно щедрые, будто маки, кивающие головками под солнцем и теплым ветром, — сплошное поле кивающих маков на заре, в сверкающий полдень, на закате с быстрыми длинными тенями, — маки, омытые росой, маки, колеблемые ветром, маки, прокаленные солнцем.
Дни моего счастья? Не мне выпали они — другой, во всем похожей на меня, человеку, каким, возможно, я стала бы, если бы не...
Дни?.. Нет — недели, годы. Я совсем потеряла счет времени, в ту пору всегда был день, и была осень — мягкая осень с утренними туманами в парках и над мостами, любимыми им и потому любимыми мною, были ослепительно-ясные дни, когда стирались все расстояния, и рядом мнились Эйфелева башня и Сакре-Кёр — никаких расстояний, ничего, кроме мерцающего воздуха, в котором парили мы, — снежинками под высоким небом, полным света, бесконечного света. Светлые были все дни, чуждые страха, а ночи — напевно теплые, прорезаемые лишь гудками автомобилей и скрипом тормозов, ночи тоже дышали радостью, радостью и желанием.
Все началось без начала и кончилось без конца. Моя жизнь, дни моего счастья...
Вилфред знал, что я в Париже, но я не знала, что он это знал. Он приехал сюда по вызову своего чудаковатого дяди Рене, который увлекался музыкой, живописью, одним словом — искусством, этот божьей милостью дилетант. Когда же радость встречи несколько поостыла, Вилфред переключился на обычный образ жизни всех северян в Париже: ночные злачные места, ночные развлечения. Мог бы придумать что-нибудь получше. Все города одинаковы по ночам.
Откуда я узнала об этом? Во всех колониях земляков за границей существуют свои тайные барабаны джунглей. И даже я, сторонившаяся соотечественников и коллег, кое-что слыхала о Вилфреде — совсем немного, но этого было довольно, чтобы я вновь впала в прежнюю высокомерную отчужденность. Откуда взялось во мне это высокомерие? Теперь я знаю откуда, знаю, почему тогда чуждалась всех. Правда, один любезный здешний критик написал обо мне, что со времен Уле Булля и Томаса Теллефсена еще ни один скандинавский музыкант не покорял Парижа так, как это сделала я, но никто другой вслед за ним не повторил этих слов. И сама я знала, что это ложь. Никого я не покорила. Когда из концертного зала принесли ко мне домой цветы, пианино стало похоже на катафалк. Ненадолго я обманулась, поверив в свой успех. Но скоро поняла, что на самом деле до успеха далеко.
Какой же лукавый случай привел меня на похороны старого дядюшки Вилфреда, да и как я вообще узнала о его смерти? Да нет, какой уж там случай. Я прочитала о несчастье в «Ле журналь», в длинной, набранной мелким шрифтом колонке под рубрикой «Автомобильные катастрофы»...
Несчастье произошло на тихом перекрестке. Очевидно, старый дядюшка попал в беду по рассеянности. И не случай привел меня на его похороны. Я сама разузнала, где и когда они состоятся. Стоя за углом маленькой красной часовенки, я видела, как оттуда вынесли гроб. И я увидела его среди тех, кто провожал покойного в последний путь: были там два господина из посольства, знающих толк в похоронных делах, священник да пяток кумушек из норвежской колонии, из тех, что годами бездельничают в Париже под предлогом изучения того или иного великого искусства. Потом я снова увидела его у могилы уже одного. Все прочие всхлипывали и рыдали. А он — нет. Он стоял под золотой листвой, и лицо его казалось таким же бледным, как шелковая лента на венке, который он по-прежнему держал в руках. Когда-то я любила его красоту. Но только ее. Его я не любила. А сейчас? Сейчас он уже не был так красив, как прежде. И ведь я знала, что безупречная правильность его черт, пронизывавшая весь его облик гармония скрывали недобрый, беспокойный дух. Помню, когда мы оба были детьми, или почти детьми, дома, в Норвегии, и вместе учились в консерватории на улице Нурдала Бруна, он почему-то не выносил лебедей; однажды, когда мы с ним забрели в парк, он так злобно говорил о них. Да он и вообще глумился над чем угодно, даже над музыкой, которую боготворил, над всем искусством, которому поклонялся. Одновременно боготворил и глумился. Из-за этого он тогда стал мне противен.
Теперь он стоял у гроба столь одинокий, что щемило сердце: стыдно, подло подглядывать за ним. Ведь я именно это и делала. Подглядывала за ним. В этот золотой день ранней осени, стоя чуть поодаль, я следила за ним, как я думала, против воли. Я не собиралась показываться ему.
Впрочем, наверно, все-таки собиралась. И оттого, что я видела себя насквозь, он снова стал мне противен. Стоит себе тут, напрашиваясь на сострадание, что же, слов нет, горе лишь красит его, как, впрочем, все, что ни возьми, всегда лишь красит его. К лицу ему и скорбь, скорбь и одиночество на публику. Сама себе я тоже была противна оттого, что пришла смотреть эту комедию: позер низводит до своего уровня и зрителей.
Прилетела птица — скворец. Опустившись на край могилы, он поклевывал землю. Вилфред подался вперед и положил венок на могилу. Скворец скакнул к нему, склонил набок голову. Вилфред шевелил губами, но ни звука не донеслось до меня. Скворец подскочил к его руке, положил головку к нему на ладонь. Я растрогалась — совсем против воли. Вилфред знал подход к птицам и к людям тоже: все они льнули к нему, ели у него из рук. Но он ничего не мог им дать. Руки его были пусты. Такое проклятье, видно, лежало на нем. Он не заманивал их, они сами тянулись к нему. Вилфред выпрямился. Скворец отлетел в сторону, но уселся неподалеку. Он опустился на крест одной из ближних могил и вновь призывно склонил набок головку. «Это самка, — подумала я, — не скворец, а скворчиха, не птица, а потаскуха какая-то, вроде тех, какими он привык себя окружать...» Что заставило его полюбить этого дядю, столь безоглядно поклонявшегося искусству? Сам он всегда искренен во всем, даже в своем презрении. Искренен он и в своем таланте, в своих многочисленных талантах. Настолько искренен, что порой поворачивается к ним спиной. С ленивым зевком поворачивается спиной к своим удачам — всякий раз, когда ему и впрямь удается что-то. Его успехи были для меня мукой. Но я гордилась ими. Он мгновенно заражал меня своей раздвоенностью — той, что зачеркивала его труд и даже величайшим удачам придавала видимость обмана.
Нет, я не хотела показываться ему, не думала выходить из-за спасительной стены часовни. Назад он пойдет другим путем. И мы расстанемся, не повидавшись.
И тут я выступила вперед. Сердито взглянула я на скворчиху — другую легкомысленную особу, искавшую его общества. Я видела, как птица озлилась. Сидя на могильном кресте, надменно вскинула свою шальную головку.
Но тут же вскинул голову сам Вилфред. Впрочем, в тот миг я не видела его лица. Солнце обвело его голову золотым венцом. И венец я видела — не его самого.
Но когда он двинулся мне навстречу своей всегдашней легкой походкой — о, как хорошо я помнила эту легкость, ведь она тоже была мне противна, — я впилась глазами в его лицо, в стройное его тело, столь удручающе готовое к чему угодно — обнимать, ласкать или принимать ласки. Я подумала: он ведь был чем-то вроде альфонса, всего лишь несколько лет назад. Тогда, в Копенгагене, когда он ввалился ко мне в артистическую уборную при концертном зале, весь избитый, в крови. Он был так жалок тогда, и я помогла ему. Но мне больше не хотелось его видеть. Мне и сейчас не хочется его видеть.
Так думала я, а сама между тем сделала несколько шагов к нему. Совсем немного шагов пришлось мне сделать. Потому что он быстро шел мне навстречу, точнее, мчался. И когда он схватил меня в объятья — там, на усыпанной гравием дорожке под низкими лиственницами у могилы, — я все еще старалась хранить суровость, но, как видно, не преуспела в этом. Наши губы слились против нашей воли. Оба мы были застигнуты этим врасплох. Кладбищенский сторож заставил нас очнуться. Мы не слышали, как он подошел, хотя гравий, должно быть, скрипел под его шагами. Он схватил нас за плечи и в буквальном смысле слова оторвал друг от друга. Вот чем обернулось все это. Он был оскорблен, он негодовал: мыслимо ли столь непристойно вести себя на освященной земле...
Вилфред попросил у него прощения. Он просил прощения с той детской серьезностью, перед которой никто не мог устоять. Сторож перестал браниться. Совсем напротив, он вдруг произнес нечто вроде пожелания, которого я не поняла, — видела лишь, что губы Вилфреда дрожат от сдерживаемого смеха. После, когда я спросила его об этом, он ответил, что такие слова говорятся в мужской компании, они непристойны, но их употребляют не в прямом смысле.
Помню наше медленное шествие мимо желтых гипсовых ангелов, кипарисовых рощиц, мимо сверкавших на солнце гранитных крестов.
Медленное шествие к выходу. Каждый шаг был напоен ожиданием следующего волшебного шага бок о бок с ним. Он поддерживал меня за локоть, чуть заметно прижимая его к себе, и уже это само по себе было лаской, сама близость его была лаской, как и смутное, молчаливое взаимопонимание между нами, столь долго искавшими друг друга. Когда мы наконец вышли на улицу, я будто впервые увидела его. Он похудел, под глазами круги, но в глазах был яркий блеск, словно его взору без конца представлялись прекрасные видения.
— Ты очень любил его? — спросила я.
Он слегка помедлил с ответом:
— Да, наверно, очень.
Какое-то озорное, лихое чувство подхватило меня, кажется, я чуть приревновала его, как тогда — к скворчихе. Я спросила:
— А что, он был хороший художник? — разумеется, не без ехидства.
Он ответил:
— Какой уж там художник. Он был просто любитель. Верный любитель, поклонник искусства. Ему я обязан всем, что умею, если вообще считать, что я умею что-то...
Мы спустились вниз по улице Рокет, потом шли другими улицами, которых я не знала. Мне впервые довелось гулять по этим улицам, и все было мне в диковинку: церковь и фонтан, подсвеченный солнцем. Но ведь я вообще впервые в жизни гуляла. Мои крепкие ноги все эти годы мчали меня то туда, то сюда, но разве я гуляла? Разве я ощущала когда-нибудь, как проникают в меня соки земли — сквозь асфальт и все прочее, — наполняя все мое существо сладостной негой?..
Никогда. Никогда. Потому что меня не было до этого дня, я еще не жила. Я шла рука об руку с ним и рождалась на свет. Но я не находила слов выразить мою радость, потому что радостью дышал вокруг нас воздух, и радостью дышали голуби, срывавшиеся вниз с карнизов домов, и пели о ней машины вместо меня, выпевали радость мелодичными гудками, и светились радостью люди, шедшие нам навстречу, — ярким светом светились их лица, говорившие то, что мне уже не нужно было говорить. Самые вдохновенные слова поэтов померкли, забылись. Слово поэта должен бы сказать он, ведь он был поэт — и поэт тоже. Но я не хотела нарушать его скорбь... Тут вдруг он остановился и сказал — но, право, это не было слово поэта:
— Наверно, ты тоже чертовски голодна?
Конечно же, он знал кафе тут неподалеку. Почему — конечно? Потому, что в тот день все складывалось само собой. Он не искал, не расспрашивал, не выбирал. И не было нужды с озабоченным видом изучать меню. Он угадывал мои вкусы, а официант угадывал его желания. В нем жила та радость, что сообщается другим без слов, и властность, которой покорялись все. Все покорялись ему; казалось, мы произвели переворот в маленьком ресторанном мирке, мы — двое скромных, нетребовательных жителей огромного города. Приветливость и дружелюбие звучали в его словах, и, согретые ими, люди наперебой старались ему угодить. А он будто излучал свет, и все они ощущали это — и тот, что наполнял вином наши бокалы, и тот, что подавал нам обед, и цветочница, продававшая фиалки, и уличный певец, которого поначалу хотели прогнать... Мы видели, как официант на бегу чмокнул в щеку буфетчицу.
— Это моя жена, — извинился он, проносясь мимо нас.
— А это — моя! — сказал Вилфред и вытер мне рот салфеткой, прежде чем запечатлеть на нем долгий поцелуй...
— Тебя здесь знают? — спросила я. Я не могла говорить ни о чем серьезном, — только о совершеннейших пустяках, лишенных значения. И то, о чем я спросила, тоже не имело значения, разве что ревность снова кольнула в сердце.
— Тебя знают! — весело ответил он. — Знают двух счастливых мошек...
— Мне всюду мерещатся скворцы, — сказала я, — противные скворцы!
— Мы шли на запад, — сказал он, — и солнце светило нам в глаза. Все от солнца...
Он заметил, что мы шли на запад. Подозрительность снова шевельнулась во мне. Значит, он сохранил ясность мысли, когда я вся была будто в тумане.
— Даже когда меня повезут на кладбище, я и то буду знать направление, — сказал он. И я вспомнила его дар угадывать чужие мысли и чувства.
— После, — сказал он, — когда я буду провожать тебя домой, мы пойдем еще дальше на запад.
Я подумала: «Он проводит меня домой... сегодня вечером; неужто это все тот же день? Неужто это тот же самый день, когда я стояла перед зеркалом и пудрилась в коридоре английского пансиона на улице Президента Вильсона? Тот же самый день, когда я решила пойти на похороны — просто, чтобы присутствовать там, может, даже, чтобы увидеть Вилфреда, только, уж конечно, не для того, чтобы он увидел меня, и, уж конечно, не для того, чтобы встретиться с ним, а может, все же, чтобы встретиться с ним, поздоровавшись, выразить сочувствие и затем сразу уйти, ну, самое большее, минуту поговорить с ним у какой-нибудь могилы, в крайнем случае вместе пройти мимо памятников к выходу, все время сохраняя рассеянную отчужденность, — так обычно старые друзья вместе покидают кладбище после утраты... Неужто это все тот же день? И он сказал: «Домой»...
Мы вместе пошли «домой» — к дому, который уже был мной покинут, который — я это знала, скоро будет покинут, — как только он меня позовет. Я самостоятельный человек, артистка. Я была самостоятельным человеком, сколько себя помню. Но теперь вдруг утратила всю свою самостоятельность. И все же, когда он хотел было взять такси, у меня достало воли сжать его руку, чтобы удержать его, впрочем, он этого и ожидал. Он знал, что я люблю ходить пешком. Он сам любил ходить пешком. Мы с ним только и делали, что вместе ходили пешком в ту пору нашего первого знакомства. Как-то раз в парке, позади Ураниенборгской церкви, мы вдвоем любовались Северным сиянием, и оно будило в наших душах тоску. Он поцеловал меня, а когда кончился поцелуй, оказалось, что мы стоим по колено в снегу.
А потом — потом была одна грусть. Нет, разве? Мои успехи... я даже забыла о них. Каждый из нас в своей области понемногу шел в гору, и каждый оступался и падал. Только, пожалуй, я шла упорней, во всяком случае, ровнее его, потому что он оступался так часто...
Он сказал:
— Я был на твоем концерте.
— Я знаю.
— Ты видела меня?
— Я знала, что ты там. И что, тебе не понравилась моя игра?
— Ты робела. Какая-то скованность мешала тебе. В Лондоне ты была смелее.
— Я играла, как ученица.
— Кроме «Рондо». Тут ты осмелела.
— Да, я осмелела. Ты и это расслышал?
— И увидел тоже. По тебе ведь все видно. Когда ты шла мне навстречу на кладбище...
— Что же ты не договариваешь?
— Ты меня ненавидела!
Я сказала, подумав:
— Не очень сильно!
— Но все же немножко.
— А ты знал, что я на кладбище?
Теперь пришел его черед задуматься.
— Знал ли я? Нет, пожалуй.
— А ты ждал, что я приду?
— Нет.
— Но ты чувствовал это? Догадывался?..
Он надолго погрузился в раздумье:
— Нет.
И он обнял меня.
— Париж не завоюешь в один день, — сказал он. Я подняла на него глаза. Может быть, он хотел меня утешить. Но он продолжал говорить в деловом тоне, без сюсюканья, к какому обычно сводятся все утешения: — Париж таит в себе много разочарований для музыканта. Достаточно вспомнить историю музыки. Я часто сопровождал дядю Рене на концерты. И много раз мы наблюдали одно и то же. Артисты, на чьем счету были одни победы — словно жемчужины на нитке, — здесь вдруг как-то тускнели. Дядя Рене говорил, что... в общем, тут комплекс причин. Лондон покорить легче. Тамошняя публика много податливей здешней. А Париж внушает музыкантам трепет. Наверно, великими своими традициями, — говорил дядя Рене.
Та же мысль мелькала и у меня. Первое, что приходит на ум. К тому же это самый простой способ утешиться. Но теперь я знала, что моя догадка верна. И сразу поняла, что это правда. Я узнала ее от человека, который сам ничего похожего не пережил.
— Твой дядя, — спросила я, — наверно, он был очень умен?
— Да нет, — ответил он. И рассмеялся. — Ни необыкновенного ума, ни дарований у него не было. Что же тогда привлекало меня в нем, спросишь ты? Что-то другое, нечто чрезвычайно редкое. Я не знаю, как назвать это свойство. Только оно встречается очень редко...
Не сговариваясь, мы свернули вправо и скоро увидели свод Триумфальной арки на площади Звезды, позолоченной вечерним солнцем. Потом мы сидели на скамейке в парке Монсо, глядя на улицу, сверкающую вереницами машин. Вилфред положил теплую руку на мой затылок. Было что-то дружеское в этом целомудренном касании, будившем во мне благодарность и безмолвное обещание: «После!» Я подумала: он угадал мою неопытность, столь обременительную в среде искушенных. Теперь я рада ей. И он ей рад.
День медленно угасал у нас на глазах. Один из тех сентябрьских дней, когда осень весеннее самой весны. Пичужки, мошкара вдруг стали виться вокруг нас как одержимые. Всюду кипела жизнь, но тяжелая листва источала столь безмерный покой, что мы сочли себя обязанными перейти на шепот.
— В ту пору, когда ты нанизывала успехи, — спросил он, — ты никогда не сомневалась в себе?
Я не знала, я не помнила никаких успехов. Я вообще ничего не помнила из того, что было прежде.
— Просто я старалась играть в меру моих сил.
Ответ прозвучал так нарочито, деланным простодушием.
— Не верю, — сказал он. — Не верю, что можно играть в меру своих сил, в искусстве это немыслимо. Артист или превосходит себя, или играет ниже своих возможностей.
Но я страшилась разговоров об искусстве. Знали бы люди, сколько в нем труда, самого обыкновенного механического труда.
— Словом, я усердно работала.
— В прошедшем времени?
Его рука еле ощутимо сжала мой затылок. Рука эта будто догадывалась, сколь радостно мне это касание. Конечно, догадывалась. А не то — не могла бы дарить мне такую радость.
— Я и сейчас усердно работаю. И буду усердно работать.
Вблизи жужжанье шмелей и пчел, вдали — жужжанье машин... Его рука на моем затылке. И на его затылке моя рука. С властной нежностью он повернул мою голову к себе:
— Будешь не только работать...
Он улыбнулся. Он нарочно надевал на себя маску грешника, хуже того — искусителя. Я тронула его подбородок, уже слегка шероховатый.
— Ты бы лучше отрастил бороду, сейчас многие носят бороду.
— Я уже пробовал. Она рыжая.
Мы болтали о пустяках, глядя, как клонится к закату солнце. Теперь оно уже почти скрылось между деревьями ближе к Нейи. Мы болтали о пустяках, но в них было то, что всего важнее в жизни. Я почувствовала, что озябла, и в тот же миг он поднялся с места. Я спросила, не озяб ли он.
— Не я, а ты, — ответил он спокойно.
Он был так спокоен, а во мне билась тоска, может, он смеется надо мной? Нет, не смеется. В его спокойствии — уважение, род заботы. Я ощутила эту заботу, когда он переводил меня через площадь, с ее бурным движением. Последний луч солнца коснулся вершины Триумфальной арки. Он размывал очертания, придавал им зыбкость.
Зыбкость была разлита во всем, когда мы спускались вниз по строгой улице Марсо, столь непарижской в своей размеренности. Тень была так глубока, будто мы брели под водой. Он вывел меня к моей улице. Метнул быстрый взгляд на дом со скромной вывеской пансиона. Насмешливая улыбка скользнула по его лицу. И сразу же меня сковала усталость. Лестница... Обычно я пешком поднималась на пятый этаж, перескакивая через две ступеньки. Сейчас я с благодарностью вспомнила о лифте.
Его руки легко коснулись моих плеч. Обещание? Уговор?
Во всяком случае, никакого иного уговора между нами не было. Он все еще стоял внизу, когда я проходила мимо окна на первой лестничной площадке, потом — на второй, на третьей. Потому, что я все-таки не стала подниматься на лифте. А он стоял, будто осиянный золотом, хотя солнце уже зашло.
10
Как хрупка наша память! Я говорю: помню... Смысл: я знаю, что это было. Но хранит ли память зрительный образ — тот, что вошел в меня, и живет во мне, и с тех пор стал частью моего существа?
Потрясение, которое вызвал на другое утро телефонный звонок — телефон звонил в конце покрытого лаком узкого коридора,— во всяком случае, запомнилось мне навсегда. Наша хорошенькая горничная Нелли выбежала мне навстречу с вестью, которую я уже знала. Ее любопытное личико светилось восторгом сопричастности:
— Мадемуазель, вас к телефону!
Словно она не знала, что я уже это знаю. И я подумала: надо будет непременно что-нибудь подарить ей.
После, стоя у окна, я увидела, как подъехал маленький зеленый «ситроэн». Вилфред высунул голову и помахал мне, а потом я села в машину так, будто всю жизнь сидела рядом с ним в его машине...
Потом был переезд — как-никак набралось пять больших и два маленьких чемодана — и он спросил: может, я возьмусь отгадать, где он живет, и я сказала: в одной из кривых улочек позади Сен-Сюльпис, и — отгадала!
Было душно и сыровато в этой улочке, глубокой щелью пролегшей между угрюмых домов, но за сводчатыми воротами открывался двор — двор с желтой водоразборной колонкой, окаймленный цветником. Наверху — две крошечные комнатушки, заставленные вразброс нелепой мебелью, и еще огромная пустая комната с мольбертом и двумя табуретками, выпачканными краской. Он думал съехать с этой квартиры. А я хотела здесь жить. Я уже жила здесь, я всю жизнь только здесь и жила. Он ласкал меня так, что мне хотелось здесь жить, ласка его таила знание — знание взрослого мужчины о женщине, которая неопытна не по годам. Благодаря ему «первое объятие» не испугало меня, да оно и не было первым, а казалось естественным продолжением мечты, которой, сама того не зная, я жила. И когда его ласка погасила во мне смятение, он встал во всей светлой своей наготе и, подойдя к смешному маленькому фортепьяно с желтыми клавишами, сыграл «Марсельезу», да так громко, что женщины на дворе отставили в сторону ведра и, застыв вокруг бьющей струи, в ужасе слушали музыку. Когда инструмент так сильно расстроен, как тот, пожалуй, выходит даже красиво, вроде трогательных криков ребенка.
— А знала ты, — спросил он, отойдя от фортепьяно, — в чем секрет восхитительных французских гармоник? Они настроены на полтона ниже, чем положено.
Потом была лодочная прогулка в Шарантоне; шальное катанье в Венсенском лесу, который мы исколесили вдоль и поперек; пешие прогулки вдоль Марны с корзинкой для завтрака... Нет, нет, все это — не в один день, не в одну неделю. Может, прошли секунды, а может, годы. Но все они — часть моего существа, одно слитное воспоминание, моя жизнь...
Был непременный визит к моему брату, к его французскому семейству в уютной квартирке на улице Бак. Прежде я обедала там каждую пятницу, но теперь я уже забыла брата, всех забыла, даже малютку Жака, семилетнего мальчугана, соединявшего мечтательную библейскую красоту с благовоспитанной французской веселостью. Помню, как счастлива я была, что Вилфред с первой минуты завоевал расположение Жака. И еще помню деликатное любопытство Эмилии, ее недоуменный взгляд в сторону мужа: прилично ли такое? И веселые глаза брата — будто мы снова стали детьми, как некогда дома, в Христиании, где все члены семьи нежно любили друг друга... И глубокое волнение Вилфреда, когда после мы вдвоем побрели к Сене, мы шли на север, он научил меня определять направление, надо всегда знать направление, всегда знать, куда идешь, говорил он, и он рассказал, как некогда поразила его сплоченность нашей семьи в ту пору, когда мы с ним были подростками и учились в консерватории на улице Нурдала Бруна, рассказал, как она поразила и взволновала его... Факты, давно забытые мной, но оставившие острый след в его сердце, о чем я не подозревала, крупицы меня самой, долгие годы хранившиеся его памятью, выплескивались наружу и вновь становились мною, обретя новый смысл. Да, смысл. Он даровал смысл всему, что я едва замечала, давал ответ на невысказанные вопросы. Он сделал меня вместилищем любопытных свойств, и это было лестно. Поначалу я думала, что это лесть, хотя в душе и она была мне сладка и приятна, но потом я поняла, что ошиблась: просто любовь его пробудила во мне взрыв собственного достоинства, знание о себе самой, которое уже было достоинством. И помню мое волнение, когда как-то раз — наконец-то! — он повернул некоторые из картин в своей мастерской ко мне лицом, сделал он это с легким смущением, может, даже с грустью — хотя это я поняла лишь много позже, — словом, он повернул картины лицом ко мне и потом одну за другой водружал на мольберт, а некоторые клал на табуретки. Все это заняло лишь мгновенья — казалось, он в одно и то же время хотел и не хотел показывать их, и я стала смотреть — не то чтобы я очень много смыслила в живописи, — но я — нет, не смотрела, — я впитывала их, я ими жила... И он остановил меня быстрым движением руки, будто приложил палец к губам: «Тс-с, только не вздумай ничего говорить...» Он почувствовал мой восторг, но понимал, что я не найду верных слов, и сам он нуждался в моем восторге, но не хотел его принимать.
Значит, он и тогда не допускал меня к себе, но он мгновенно смягчил неловкость пожатием плеч, как бы сказав мне: «Это всего лишь некоторые из моих работ, все это пустяки», а взгляд его говорил: «Все это пустяки. Решительно все — важно лишь то, что я тебя люблю». Но он не произнес слова «люблю». Тогда не произнес. Только много позднее он произнес его. И я не услышала в нем ни торжества, ни ликования, одно лишь благоговение перед тем великим, чем богат мир.
Только много позднее он показал мне огромные полотна, которые чуть не убили меня. Но это было уже в другом месте, в другом конце города и вообще много, много позднее...
А наши полные детского веселья вылазки на окраинные ярмарки, увлекательные приключения под музыку карусели, в свете огней, наши прогулки теплыми вечерами, когда над ленивыми кронами деревьев грозно нависали дождевые тучи, но тучи никогда не отдавали земле больше сотни капель, — теплых капель, которые ложились в пыль темными пятнышками и быстро сжимались на глазах у всех. А ловкость Вилфреда... удочкой, с петлей на конце, он выуживал из закутка толстые бутылки с сомюрским вином. Я предпринимала одну за другой тщетные попытки, мы ухлопали на это кучу денег, зато он вытаскивал бутылки одну за другой, при этом лишь слегка кивая головой, он работал, как профессионал, будто всю свою жизнь только и делал, что вытаскивал бутылки из закутков, и владелец аттракциона предложил ему сто франков отступного, чтобы только он перестал доставать бутылки, и Вилфред взял деньги! Все вокруг смеялись. И мы ели жареный картофель и пили красное вино за четыре франка из премиальной сотни в киоске, где торговала толстуха, которая оказалась женой владельца бутылок, и все смеялись из-за этого тоже. И мы растратили наш капитал, без счета вертясь на карусели, которой распоряжался брюнет с сальными кудрями, оказавшийся зятем владельца бутылок, и все вокруг тоже узнали это, и все смеялись. «Деньги останутся в семье!» — сказали они. А на карусели мы садились в самолетик, который с каждым оборотом взлетал все выше и далеко-далеко в сторону, как казалось, над крышами домов, и я при спуске чуть не лишалась чувств, чего, впрочем, и ждали от меня.
А после он стоял у киоска, в руках у него было пять пачек сахара, и бутылки, и игрушечные медведь и обезьянка, умевшая лазать, и мы подарили все это богатство первому попавшемуся нам семейству, которое тоже чуть не лишилось чувств, подарили все, кроме обезьянки: она со мной и сейчас, она всегда со мной — а когда мы подошли к автомобилю, Вилфред обернулся, чтобы оглядеть все, с чем мы только что расстались: карусель, колесо счастья, качели и американские горы — все сверкало в ночи маленькими манящими огоньками, и он сказал с непонятной грустью:
— Эти карусели — моя судьба.
Память!.. Что из сонма ничтожных мелочей, составляющих день, отложится в ней? Что — мелочь, а что, напротив — важно? Я забыла многое из того, что важно, все забыла, что важно...
Потом я узнала, что важно прошлое. Ничто нельзя вырвать из взаимосвязи, как бы ты этого ни хотел. Кажется, в тот же день — впрочем, у меня смешались все дни — он рассказал мне, что скоро станет отцом. Ему придется ненадолго уехать — навестить женщину, которая вот-вот родит от него ребенка. Я испытала двойственное чувство: сначала я не слишком удивилась этой вести, во всяком случае, не считала себя обязанной выказать удивление, но в то же время весть эта поразила меня. Потом я вознегодовала: жаль было брошенную молодую женщину. Но Вилфред успокоил меня. Он говорил об этом без цинизма. Она полюбила другого и собирается за него замуж... Мне было досадно оттого, что он так легко вышел из положения, но я умолкла, когда он спокойно, с тихой грустью сказал:
— Я уже и сейчас люблю этого ребенка. Я мечтал бы взять его к себе...
Да, важно прошлое и важна взаимосвязь. А нам ведь так хотелось, чтобы наше маленькое бытие было чем-то исключительным в мире, без какой-либо связи с прошлым и будущим, но этого не получилось. Никогда ничего не получается так, как мы хотим. Я сидела и слушала, как он рассказывал мне про ребенка, и думала, что только сейчас стала взрослой, вот сейчас, в этот самый миг — да, наверно, это было так. Раньше я думала, что жизнь — это упражняться каждый день по четыре часа и затем час отдыхать, а вечером ехать на концерт. Наверно, я думала так. И еще, наверно, думала, будто каждый человек обрамлен рамкой, как картина, и развивается внутри ее по своим собственным законам, словно вокруг нет большого, огромного мира.
Однажды мы сидели вдвоем в пустой комнате, служившей ему мастерской. Тут только я заметила, что картины исчезли. Я быстро начала подсчитывать в уме, когда же я видела их в последний раз. Мы редко заходили в мастерскую: здесь всегда было сыро и холодно. Вилфред смущенно объяснил: картины он отослал на родину, на выставку. Спустя несколько дней после того, как я их увидала, он наконец решился: послал их туда. Там, у нас на родине, как раз освободился выставочный зал. С тех пор как он их отослал, уже прошел месяц. Даже и тут я не удивилась, только подумала: месяц, значит, мы уже месяц...
Он обласкал меня улыбкой. Он тоже подумал, что вот уже месяц... Меня вдруг осенило: значит, выставка там, на родине, уже открылась! Я ни о чем не смела спросить. Я вспомнила странную книгу, которую он выпустил в свет нынешней весной. Он не знал, что я ее читала, он ни разу не спросил об этом. Дома он ее не держал, я искала ее и не нашла. Я снова натолкнулась на стену, ограждавшую его одиночество, как в ту пору, когда мы были детьми. Он вдруг спросил:
— А ты бывала когда-нибудь в Бретани? Едем в Бретань!
Он принял решение мигом — только бы избежать моих вопросов о выставке. Значит, отзывы о ней были не столь уж лестны, может, его упрекали за излишний экспрессионизм, или как он там называется. А я знала, что картины его хороши и выразительны. Хороша была и книга его «Измерения». Книгу эту превозносили до небес, по при этом толковали ее не так, как сделала бы я. Мне о многом хотелось его спросить. Но он стоял у окна, и лицо его было сумрачно, хотя в мастерскую струился с улицы холодный свет. Я молила небо о чем-то — я точно не знала, о чем, — о том, чтобы он допустил меня в свое одиночество. Он объявил:
— Предсказывают новую волну жары. Завтра же едем в Бретань.
11
Был ли тот случай первым знаком, предвестьем того, что должно случиться с ним — с нами? Нет, не думаю. Сколько счастья подарило нам бабье лето — жаркое бабье лето у моря. И как лжива память: не одни золотые дни дарили счастье. Но тот день запомнился навсегда.
В тот день... не правда ли, воспоминания всегда окрашены в определенный цвет?.. Память удержала картину: ядовито-зеленое море мелкими сердитыми волнами колыхалось под солнцем, простершим сквозь грозовые тучи лихорадочно-жгучие щупальца. И не только море — вся картина выдержана в зеленом, но не в том приветливом зеленом, который дарует отдохновение, — зловещий зеленый цвет отдавал фаянсом. Даже в маленьком рыбацком поселке у моря всюду разлит зеленый отблеск — женщины, будто деревянные идолы, стояли там на перекрестках с вязаньем в руках, женщины в строгих черных платьях с высоким лифом, в накрахмаленных чепцах, похожих на сахарные головы: чепцы кивали степенно, в такт редким словам, которыми перебрасывались вяжущие рыбачки. Лица женщин, даже белые конусы чепцов, виделись будто в зеленом тумане. И Вилфреда тоже угнетал зеленый туман, он ушел в дюны — сделать несколько набросков, но скоро возвратился домой в нашу маленькую гостиницу.
— Один день здесь все лиловое, — улыбаясь, сказал он мне, — а на другой день — все зеленое...
Он посмеивался над собственной удрученностью, надо мной — я положила скрипку назад в футляр, так ничего и не сыграв. Он хотел, чтобы мы вместе пошли на жаркий пляж, но я в тот день не могла купаться.
— Когда же наконец будет у тебя ребенок? — небрежно обронил он — и это тоже с кокетливой обидой. Но, может, он и вправду хотел ребенка? Думаю, что хотел. Но я этого не хотела. Тогда не хотела. Я сказала:
— У тебя ведь есть ребенок! — Напрасно я это сказала, но он и тут рассмеялся. Это был один из его легковесных дней, я немного страшилась их.
— Хорошо, — сказал он, — я один буду купаться с мола.
Мы пошли вниз по улице к морю.
Вечер был густо-зеленый. Лишь редкие вязальщицы оставались теперь на улице. Остальные пошли домой, чтобы приготовить обед для мужчин, которые возвращались с ловли сардин перед закатом, — красивые, статные парни в синих блузах, кто без руки, кто без ноги... Почти все участвовали в битве за Дарданеллы, и битва эта пометила их на всю жизнь.
Они сейчас в море. На молу — никого. Всего через каких-нибудь несколько часов мол превратится в огромный рынок — когда вернутся лодки с серыми, голубыми и горчично-желтыми парусами, парусами цвета охры решительно всех оттенков — тогда на торжище сбегается весь поселок, приходят сюда и важные матроны — скупщицы рыбы для фабрик. Прочно припаявшись к тумбам причала, они стоят, наперебой предлагая свою цену, пока подсчитывается улов. Женщины предлагают низкую цену, а рыбаки — высокую, но сходятся всякий раз на одной цене: той же, что и вчера. Каждый день на закате разыгрывался один и тот же спектакль, и всякий раз мы наблюдали его с волнением.
Был прилив, когда Вилфред нырнул с мола. После я вспомнила, что заметила вверху на столбах причала узкий влажный манжет: вода вдруг быстро начала опадать. Скоро низкий, уютный мол будет торчать словно башня над морем сплошного песка...
Каким образом впоследствии вспоминаешь то, что раньше заметил, но не осознал? Потому что я и вправду это заметила. Но много ли толку от наблюдений того, кто не знает моря и не может сделать из увиденного верный вывод?..
Скоро я поняла все. Голова Вилфреда вынырнула далеко впереди в широком просторе залива. Голова темная, блестящая, мокрая, словно у моржа. Как могло случиться, что он уплыл так далеко за такое короткое время? Я видела, как он плыл — быстрыми, сильными саженками. Будто летел на крыльях. Ядовитые лучи солнца — точно сноп света сквозь витраж — выхватили вдруг сверкающую от влаги голову там, впереди. И теперь голова казалась просто темной точкой.
Тут только я поняла, что начался отлив... Вилфред, с его безошибочным чувством времени, с его кровной связью с природой, на этот раз позабыл обо всем — то ли так торопился скорей очутиться в море, то ли был так подавлен зеленым маревом, почем я знаю? Заметил ли он, как далеко заплыл? Тут он обернулся назад, и я увидела, безошибочно поняла по какому-то признаку, я не могла видеть его лица — но я увидела, как его охватил страх, увидела это по тому, что он вдруг повернул в другую сторону — в его движениях появилась целеустремленность — и поплыл к мысу, лежащему далеко вправо. Это была его последняя надежда. Впереди расстилалось открытое море, без каких-либо прибрежных островков — сколько раз мы любовались этой картиной с пляжа!
Я стремглав ринулась вверх по улице — к первому кружку вяжущих женщин на углу, но, не понимая моего французского языка, они лишь подняли головы от своего вязанья и вяло, бесстрастно разглядывали меня. Но в следующий же миг они испуганно и взволнованно обернулись к морю. Тут только я заметила, что прижимаю к груди синий купальный халат Вилфреда. Его они увидели и поняли все.
Рыбачки, в тяжелых черных юбках, напоминающих стога сена, вдруг заметались, забегали. Они хриплокричали друг другу что-то на непонятном бретонском наречии. В окнах, в воротах показались люди. Рыбачки заполонили всю улицу, быстро кивая сахарными чепцами, они стрекотали, квохтали, вскрикивали надрывно. Одна из них выбежала на мол, но у причала не было ни одной лодки. Я уже и раньше это заметила. Выходя на промысел поутру, рыбаки всегда уводили с собой на буксире и маленькие лодчонки. И весь долгий день напролет поселок был отрезан от моря.
Сумятица не стихала. Все мы думали об одном и том же — об этом, наверно, и кричали рыбачки: как добраться до мыса, ведь путь туда бесконечно долог! Сначала вверх по длинной улице, до самого ее конца, потом — перелеском, и дальше — берегом моря, которое здесь образует большую бухту; когда они ездят туда за водорослями на примитивных телегах, запряженных тощими конягами, это занимает целый день. Мыс казался мне самым отдаленным местом на земле. И рыбачки кричали то же самое. Я обернулась к морю. Там, впереди, между разрозненных вспышек, которые зажигало солнце на вспенивающихся волнах, поблескивала его голова. Невооруженным глазом было видно, сколь неравны силы в борьбе между морем и им. С мола доносился теперь ровный гул отлива, мощного потока воды, стремительно увлекаемого в океан. Хлюпанье волн о столбы причала переросло в шум водопада. Вода бурлила, вспениваясь черными вихрями, которые тут же поглощали волны, свирепо вздымавшиеся навстречу отливающим водам.
И тут новый звук ворвался в шум водопада — звук, исполненный благословенной надежды, — треск мотора. Из одних ворот выехала женщина на мотовелосипеде. Это был старый, видавший виды велосипед почтальона, тот самый, что по утрам распугивал всех прохожих, когда его хозяин спешил за почтой в ближайший городок. А сейчас машину оседлала сама почтариха, она ехала на велосипеде, подогнув под себя широкие юбки, из которых торчали две тощие ноги в черных чулках. Все это я видела, но мысленно была там, в волнах, всем телом осязая, как Вилфред отчаянно борется с морем, чтобы достичь мыса на западе — последняя его надежда...
Почтариха сражалась с тяжелым велосипедом, бесновавшимся, точно необъезженный жеребец под неумелым всадником. Она что-то крикнула мне, но я уже бежала к ней. В тот же миг, как я вскочила в седло, чудище с ревом сорвалось с места. Все кипело вокруг, зелеными вихрями клубилась пыль, рыбачки неуклюже кидались в сторону, дома мчались мимо нас — и над всем стоял зеленый отсвет, зловещий спутник этого дня. Поселок неожиданно кончился, велосипед, нырнув в жидкую рощицу, неровными скачками перелетал с кочки на кочку. Я вцепилась в седло, то есть сперва в седло, потом — в мощное тело почтарихи, сидевшей впереди. Она же вцепилась в руль, к которому были прикреплены ручки газа и зажигания. Буйным фейерверком проносился велосипед между тонких стволов. Раз он упал плашмя на землю, лежал, яростно рыча, толчками выпуская дым и пар. Но нам удалось вновь поставить его на колеса. И бешеная гонка продолжалась с кочки на кочку, через ямы, сквозь кучи торфа, выставленного для просушки. Мы прорывались насквозь, облако торфяной пыли летело за нами, но мы все равно прорывались, минуя кучу за кучей, будто сквозь груды желто-зеленой шерсти.
Вдруг за подпрыгивающим в тряске плечом, в которое я вцепилась, я увидела море. Бескрайнее, в мелкой ряби, море, грозившее унести Вилфреда в свой открытый простор. Только внутри бухты, где отлив был всегда сильнее, бурно ходили волны. Но открытое море расстилалось вдали, сверкая почти ровной гладью, — безжалостное и бесконечное.
Женщина впереди меня с силой повернула велосипед к берегу, теперь дело пошло легче. Перелески, торфяные болота сменил волнообразный песок, покрытый местами жесткой травой. Впереди были песчаные дюны, в рыхлой почве могли увязнуть колеса. Но там, за дюнами, ближе к морю, нас снова ждала твердая дорога.
Наш велосипед, словно бешеное чудище, мчался к берегу, взрывая песок, его шатало и бросало из стороны в сторону. Но могучая женщина впереди меня обуздала его. Не умением — силой. Впрочем, за время нашей отчаянной гонки она успела кое-чему научиться. Всякий раз, когда казалось: мы вот-вот перевернемся и упадем, она мгновенно выравнивала машину. Такую гонку я видала в кино: разъяренное животное всеми силами старалось сбросить тяжелую ношу — упорного седока. Но на этот раз седоки не дали себя сбросить! Они вцепились в своего разъяренного скакуна и мчались, живя одной надеждой...
Надеждой на что? Впервые я вдруг поняла в этот миг, что даже если мы вовремя поспеем к мысу...
Я не смела додумать до конца. Может, у бесстрашной женщины есть какой-то план? Но какой? Мне уже виделось, как мы стоим на мысу — две женщины на крайней оконечности суши, отважившиеся на поединок с немилосердным потоком, который пронесет пловца мимо нас, словно бутылку, кем-то брошенную в воду.
Рыхлый песок был уже позади. Теперь, когда под колесами стлалась твердая почва, велосипед покатил к морю на бешеной скорости. Мы обе вскрикнули одновременно. Что мы кричали? Может быть: «Вот! Вот он!» Но, скорее всего, это был просто вопль, какой вырывается у человека в час страшной беды — во все времена люди вопили так в час беды. Почтариха напропалую гнала машину к мысу. Мыс был окутан тенью. Но за ним в быстром потоке волн снова переливался ядовитый желто-зеленый свет. Там вдалеке я увидела... или, может, я ничего не увидела? Может, просто море злобно всплескивалось в бухте, где особенно силен был отлив? Снова громко крикнула женщина впереди меня. Но на этот раз она кричала не просто так. Я всем существом слушала, смотрела. Да, чуть влево от мыса, под ярким солнцем стояла у своей утлой старой телеги сборщица водорослей. Она стояла в воде до самых бедер и прутом секла жеребца по самому чувствительному месту — брюху; как я порой ненавидела за это бедных женщин, занятых таким тяжелым трудом! И вот сейчас судьба Вилфреда зависела от этой женщины. Я увидела, как, взмахнув в очередной раз толстым прутом, она вдруг уронила его и прислушалась то ли к шуму мотора, то ли к крикам почтарихи...
Обе женщины, кажется, поняли друг друга. Где уж мне было знать, что кричали друг другу эти морячки, день-деньской выполняющие мужскую работу! Сборщица водорослей, та, что стояла по самые бедра в море, вдруг опустила руку с ненавистным прутом и этой же жестокой, беспощадной рукой заслонила глаза. Она увидела что-то. Она увидела то, что уже видела или, может, не видела я. И тут она сделала неожиданное — летя к ней с нашим ревущим мотором, мы видели все отчетливей с каждым мигом: она стала поворачивать повозку. Прикрикнув на жеребца, она подставила плечо под телегу, по ступицу увязшую в песке и в водорослях. Ей уже удалось наполовину повернуть ее — в сторону моря. Теперь она снова принялась хлестать жеребца по брюху. Но сейчас я уже не жалела коня, никого вообще не жалела — только его одного, того, что далеко в море сражался с волнами один на один.
Как мало сил, должно быть, у него осталось... Нет, сейчас не до жалости — одну багровую ярость ощущала я, ярость борьбы против зеленого чудовища, колыхавшегося впереди и грозившего нас засосать.
В тот же миг, когда прекратилась гонка, я услышала шум отлива в бухте: низкий, булькающий звук выдавал его зловещую мощь. Женщина и конь там, впереди, попали в водоворот. Отмель, на которой они стояли, далеко заходила в море. Я знала об этом по рассказам. Но дальше дно круто обрывается к проливу, который проходим для судов, только вот песчаные дюны часто меняют место. Почтариха ринулась туда, к водоворотам. Я — за ней, вырвалась вперед. Мы словно бы стояли на страже — трое жалких, бессильных часовых, готовые поймать его, не ведая, куда же его прибьет, если вообще его прибьет куда-нибудь. Теперь я тоже отчетливо видела его. Он был еще далеко в проливе, и относило его далеко в сторону от нас — троих беспомощных баб. Но одновременно я поняла, что и он тоже увидел нас, я увидела, что он вдруг обрел надежду, что он не сдастся. Наши крики бессильно стелились над грохочущим морем. Вряд ли он слышал нас. Но зато он нас видел. Он переменил тактику. Теперь он плыл прямо навстречу отливу, надеясь, может быть, выиграть один метр расстояния против каждых пяти метров, на которые отлив относил его в море. Я подумала: какой математик жил в этом человеке, столь часто рассуждавшем о математике в живописи, о математике во всем. Да, он был наделен математическим инстинктом настолько, что порой от этого стыла кровь в жилах женщин. Математика была для него жизненным принципом. Теперь от нее зависела его жизнь. Только бы хватило сил...
Он стал понемногу выигрывать в расстоянии, он уже заметно приблизился к суше. Не сговариваясь, мы разошлись в разные стороны, чтобы увеличились шансы поймать его. Я оказалась на крайней точке мыса. Почтариха предостерегающе вскинула руку: дальше нельзя! Я стояла теперь по пояс в воде, с трудом выдерживая могучий натиск отлива. И я знала: если его пронесет мимо, если его подведут силы, зачеркнув мудрый расчет, тогда я тоже оттолкнусь от дна и поплыву ему вслед, чтобы в последний раз обнять его, когда нас поглотит море.
И тут случилось незабываемое. Его поединок с волнами пришел к концу. Мы видели, как его голова дважды исчезла в бурной стремнине. Когда голова показалась во второй раз, он уже сдался. Я тогда не могла размышлять — я просто увидела... увидела, что сила отлива ослабла. Сборщица водорослей и я стали с разных сторон прорываться сквозь массы воды — к нему. Но всего ближе к нему оказалась почтариха. Мы видели, как его, бездыханного, будто пробку, мчала вода, как его отнесло в более тихую часть бухты у побережья. Мы видели, как почтариха, похожая на большого зверя, на лосиху, пробивающую себе дорогу сквозь подлесок и заросли кустов, все глубже и глубже заходила в воду. Мы видели наконец, как грузно подавшись вперед в своем громоздком платье, она наклонилась и схватила его за плечи и долго удерживала его одна, борясь с отливом, и мы видели, что силы ее на исходе. Но тут подоспели мы. Мы подхватили, поволокли, все дальше и дальше оттаскивая тяжелое, как свинец, тело. Мы волочили его, а сами неотрывно глядели на берег. Расстояние от моря до берега было теперь больше, чем прежде от берега к морю. Вода прибывала. Она поднималась все выше и выше. Нам предстояла новая гонка не на жизнь, а на смерть. Мы видели, как море заливает отмель, где стоял наш велосипед. Еще совсем недавно там была суша. Но новый натиск безжалостного врага придал нам силы. Скоро мы выбрались на отмель. Мы поволокли тяжелое тело к берегу, куда уже тоже прихлынула вода. Наконец мы втащили его на мыс. Сюда уже не могло добраться море. Я перевернула Вилфреда на живот, головой вниз. Теперь я вдруг оказалась одна. Я положила его на песок, а сама, стоя над ним на коленях, начала растирать его отяжелевшее тело. Я видела, как почтариха уводила от моря велосипед, изо всех сил толкая вперед грузное чудище. Вдруг тело подо мной забулькало, зашевелилось, только в тот миг я осознала, что на песке лежит он — мужчина, человек, которого мы спасли! Он отдал морскую воду через рот и сам перевернулся на спину. И раскрыл глаза.
Тут раздался вопль оттуда, с моря, точнее, два вопля: вопль женщины и конское ржанье. Сборщица водорослей еще раньше покинула нас. Она стояла в волнах с конем и повозкой. Коняга в воде по самую шею, повозка — словно волнорез во вспененных водах прилива. И снова заржал жеребец. Заржал, оскалив желтые зубы. Но женщина схватила толстый прут или, может, все время сжимала его в смуглой руке, похожей на коготь... Вода мешала ей хлестать животное по брюху. Сунув руку под воду, она ткнула его прутом. Жеребец снова заржал: удар попал в цель и конь заметался в оглоблях. Но женщина не зевала, она дергала ремни, с криком тянула к себе упряжку. Мы увидели, как жеребец вырвался из упряжки. Но у него не было сил бороться с приливом. И снова хозяйка метнулась к нему, ткнула его прутом. Снова отчаянно заржал жеребец, боль вернула ему силу. Два-три коротких судорожных — от боли — скачка, — и он вырвался из водного плена. Женщина погнала его к берегу жестокими ударами прута и ласковыми словами.
Вечером мы сидели с Вилфредом на молу, башней высившемся над влажным песком; я не отпускала его рук, по-прежнему холодных, словно все тепло от моих ладоней утекало впустую. Тогда, на берегу, вдвоем с почтарихой, мы долго терли и мяли его тело, стараясь во что бы то ни стало его согреть, хоть и сами вымокли до нитки. Весь поселок живописной толпой высыпал нам навстречу, когда мы, ковыляя, вели его домой. Велосипед мы бросили на берегу: почтариха больше не хотела к нему прикасаться, как ни разу не прикасалась до сегодняшнего дня. Она просто вспомнила, что проделывал с велосипедом ее муж всякий раз на рассвете, когда она стояла и засовывала сверток с едой в его сумку, — каждое утро, год за годом. Так оседают в нашем сознании впечатления, чтобы вдруг ожить в миг острого страха, когда человек может больше, чем может...
Дружный стон вырвался из груди всех женщин, когда волны подхватили и погнали в открытое море брошенную на произвол судьбы телегу, и она потонула у нас на глазах. Вся картина казалась высеченной в зеленом камне.
Но когда после того нескончаемого дня мы сидели вечером на молу, как сидели после прилива каждый вечер, желто-зеленый туман наконец рассеялся. Далеко впереди расстилалось море, словно покрытое черным лаком, невозмутимо дожидаясь часа, когда силой луны оно вновь отхлынет от берега. Рыбаки уже разошлись по домам, а не то проследовали в погребок, в своих деревянных башмаках, гулко стучавших по круглым камням мостовой. Из погребка доносились звуки гармоники: деревенская музыка искрилась в клубах табачного дыма; усталые рыбаки грузно склонялись над некрашеными столешницами, где вокруг стаканов расползались винные лужи. За стульями, за спиной мужчин стояли женщины, распаленные случившимся, они верещали без умолку, снова и снова рассказывая мужьям историю про сумасбродного скандинава, которого унесло в море. Болтовня и музыка долетали до нас в потемках, звук усиливался всякий раз, когда в погребке распахивали дверь. Тогда мы знали: значит, еще одного рыбака увела домой заботливая жена, дозволявшая ему стакан-другой кальвадоса — но уж никак не три — после долгого дня работы в море, на дальних отмелях, там, где небо сливается с землей и где с зари до заката рыбак одной рукой управляется с неводом.
Из окон гостиницы падал свет, играя в бурых сетях, вывешенных для просушки на берегу, на палках у самой воды. И отсюда тоже к нам притекали звуки в этот вечерний час: вода уходила, а лодки, привязанные у берега, будто усталые звери, опускались на песок, одна за другой, с тихим вздохом. Завтра на рассвете звери снова проснутся, медленней прилив поднимет их на воду, и снова они будут медленно и терпеливо покачиваться на ней, удерживаемые якорем на дне и привязью на берегу. Вздохи лодок, волшебные сети на берегу, искристая музыка, летевшая к нам с улицы всякий раз, когда распахивалась дверь погребка,— все это слилось в единую песнь на молу — песнь наших рук, которой мы клялись: никогда не умирать, никогда не попадать в беду, никогда не расставаться...
12
Катерина, почтариха, была столь же проста, сколь ловка и решительна, она и не думала в будни играть роль скромной героини. Она держала прачечную, славившуюся на всю округу, к ней приезжали из самого Кемперле, чтобы накрахмалить чепец... Катерина словно не признавала за собой никаких заслуг, кроме рабочей доблести. Но когда мы явились к ней — спросить, не пришел ли для нас денежный перевод, она встретила нас величественно, словно мы были ее детьми, а она — нашей матерью, величественной матерью из какой-нибудь античной драмы.
— Парень уже забросил бы вам бумажку, если бы что пришло, — только и сказала она.
Это мы понимали, знали и то, что «парнем» она зовет мужа — разговорчивого почтальона, повелителя велосипеда, но уж никак не супруги своей, Катерины; во всем мире ему был подвластен один велосипед, даже свой речевой поток он и то не мог удержать, когда, случалось, повстречаешься с ним на улице.
— Так что, уж если бы вам пришел денежный перевод...
Мы получили норвежскую газету. Я прочла в ней, что шесть картин из тех, что Вилфред послал на выставку, купили у нас на родине. Может, сам он уже давно знал об этом? «После блестящих отзывов...» — писала газета. Может, он и об этом тоже знал? Я сама распечатала бандероль с газетой, а Вилфред тогда был на пляже иболтал с рыбаками, все толковал о чем-то с этими грубыми, просоленными морским ветром парнями и старался выучиться их диковинному языку.
Я выбежала ему навстречу, встретила его на улице у гостиницы, мне не терпелось сказать: «Картины проданы, и отзывы о тебе самые, самые...»
Лицо его светилось покоем. Он шел от своих приятелей рыбаков, видно, долго толковал с ними на скупом, суровом их языке. На родине о нем говорили, что у него нет друзей, а тут выходило, будто все здешние жители — его друзья. Все льнули к нему, не только женщины. Нет, мужчины добивались его дружбы, и он радостно отдавал себя им на пляже, в погребке — всюду, я видела, как ему приятно...
— Картины...
Он не дал мне договорить. На виду у всех, прямо посреди улицы, он привлек меня к себе и расцеловал. Рыбачкам эти поцелуи были не по душе. Я знала, что они им не по душе. Он рассмеялся. Рыбачки по обе стороны улицы, чтобы не смущать нас, отступили к стенам домов. Он снова поцеловал меня. Я не смогла выговорить ни слова — про газету, про отзывы, про то, что кончились деньги: мы уже за месяц задолжали в гостинице. Я сказала, что он опоздал к обеду и хозяйка сердится. Рыбачки стояли вдоль узкой улочки у стен домов и все слышали. Я сказала то, что — я знала — придется им по душе. Все они недолюбливали хозяйку: родом она была не из здешних мест.
— К черту хозяйку! — засмеялся он; вот этот язык — веселый, лихой — был им понятен, они и сами были веселые и лихие, стоило им на миг вылезть из своей скорлупы.
«К черту хозяйку!» — повторили рыбачки и тоже рассмеялись. Они знали, что мы задолжали ей денег, все-то они знали. И про то, какие мы недотепы: кто станет купаться при сильном приливе, ведь разница в уровнях воды — больше девяти метров! Отчего они смеялись, когда смеялся он? Отчего они любили его, а меня — нет? Снова я ощутила нелепую ревность. В тот же миг ревность сменилась отрадой. Что ж, пусть любят его, да, его пусть любят, а не женщину, которая вешается на шею полубогу...
Однажды он рассказал мне про свою учительницу, как он забавы ради доводил ее до белого каления, так что она готова была проглотить его живьем, он вообще многое рассказывал мне, все сплошь невинные вещи. Когда-то ему нравилась девушка, которая стояла в моторной лодке, подставляя солнцу лицо, радугой сверкала она в водяных брызгах. Он проиграл ее приятелю в карты. Сказал он об этом так: ей, мол, повезло. А про ту, другую, что скоро родит от него ребенка, он сказал: «Так уж она решила», и, значит, в проигрыше остался он? Но он рассказывал об этом весело, всегда и обо всем — весело. А я — в тот раз на улице — так ничего и не сказала ему про то, что кончились деньги и мы задолжали за квартиру и хозяйка при встрече со мной свирепо поджимает губы. Правда, его встречали, как миллионера. Зависть боролась во мне с материнской радостью за него...
А тут еще эта Катерина, с ее прачечной и знаменитой гладильней. Да, она была истинным художником. Немыслимые башни-чепцы в ее руках превращались в сказку, в торт из марципана. Она гордилась своим искусством. Нимало не кичась тем, что своей отвагой спасла человеку жизнь, она требовала, чтобы без конца восхищались ее крахмальными чепцами. Чепцы были повсюду — они стояли, лежали, висели, куда ни повернись, в ее просторной рабочей комнате с почтовым окошком, будто глазком, в который можно было подсмотреть всю эту роскошь.
— А не приходило ли для нас письмо с денежным вложением?
Она огляделась вокруг в своей сверкающей белой кондитерской из чепцов... огляделась без особого интереса.
— Письмо с денежным вложением? Да, теперь вспомнила: кажется, раз пришел какой-то толстый конверт, на той неделе, что ли, впрочем, не знаю. — Она начала рыться в грудах льняных наволочек и других ослепительно-белых вещей, навалом лежавших на полках и столах. Да, в самом деле. Вот оно. Она вытащила письмо из-под груды белья. У него был такой вид, будто его прогладили утюгом. Катерина с трудом, по складам, прочитала адрес: разбирать буквы, известно, нелегкое дело. Почтариха устало протянула нам конверт. Может, это и есть то самое письмо?
Вилфред рассмеялся. Он стоял, держа в руках целое состояние, и отрешенно смеялся. Величественная почтариха широко раскрыла глаза: пачка с деньгами, да еще совсем непохожими на те, что она привыкла держать в руках.
— Хотите, парень прихватит эти ваши бумажки с собой в город и обменяет их на порядочные деньги?..
Вилфред смеялся. Просунув голову далеко в глубь почтового окошка, он заливался хохотом. Катерина вторила ему. Я боялась, как бы она не обиделась, что он так смеется над ее оплошностью. Но она и сама тоже развеселилась. Она даже не поняла своего промаха. Ее дело — гладить белье. А разные письма приходят все время, на то и почта...
Спустя полчаса весь поселок знал, что скандинавские гости разбогатели. На всех улицах вязальщицы, завидев нас, поднимали от работы глаза и провожали нас почтительными взглядами.
Может, уже тогда меня что-то кольнуло в сердце? Это беспредельное легкомыслие. Не то чтобы я особенно чтила деньги, но я любила порядок во всем и привыкла уважать хлеб насущный.
Он сказал:
— Ты уж прости меня. Я не знал, что ты всерьез тревожилась о деньгах.
Да, он и тут верно угадал и вообще был необыкновенно внимателен. Но, видно, моя озабоченность в свою очередь его раздражала. Можно ли свыкнуться с тем, что двое самых близких людей столь по-разному смотрят на житейские вещи? Он сказал и вновь угадал — до жути верно:
— Завтра ты снова сможешь играть!
— Откуда ты знаешь...
Он подмечал мои чувства лучше меня самой, и мне это было неприятно.
— Милая, — проговорил он, — я люблю тебя. А разве знать и любить — не одно и то же?
Мы снова стояли посреди улицы, на виду у всего поселка. И снова он на виду у всех обнял меня. Но теперь, когда мы сделались богачами, это не покоробило никого. Он засмеялся и, взяв меня под руку, повел домой.
— Вот видишь, мы их уже многому научили,— сказал он.
Мы подошли к гостинице. Хозяйка, улыбаясь, стояла в дверях. Ей уже сообщили великую весть. Любые вести мигом облетали поселок. Хозяйка поочередно обняла нас. Втроем мы болтали, как школьники в первый день каникул. А из ее уст беспрерывно сыпались похвалы — похвала обеду, который она сию минуту нам принесет, похвалы нам, ей самой, погоде нынешней, всему поселку и всей планете.
А в жаркий час полудня, когда сквозь открытые окна проникали к нам крики чаек, долетавшие до кровати, где мы лежали, я задала ему вопрос:
— Скажи, чего ты больше всего боялся тогда, в море?
Приподнявшись на локте, он взглянул на меня сверху вниз.
— Я уже думал об этом, — ответил он. — По правде сказать, я за обедом только об этом и думал. Кажется, я больше всего боялся умереть счастливым.
Но я пребывала в том тягостном состоянии духа, когда нужно непременно все знать, когда душа не может смириться с тем, что ее не допускают к другой душе.
— Но разве не лучше умереть, пока человек счастлив? Раз уж все равно надо умирать...
— Ты говоришь «пока»? Значит, ты ждешь, что...
— Нет, нет! Ты прицепился к слову. Раз уж ты заставляешь облекать в слова смутные мысли...
Он сел на кровати:
— Что за страсть все облекать в слова!..
— Допытываться до сути!
— Облекать в слова.
— Ты хочешь сказать: въедаться в душу?
— Я хочу сказать то, что сказал. Неужели ты никогда не замечала, насколько велик разрыв между мыслью и словом?
— Ты думаешь, что слова не объемлют мысли?
Я была полна злого задора, того, что всегда только все портит и разрушает.
— Дело не в том, что слова не объемлют мысли. Совсем напротив. Этим они и опасны. Мысли должны оставаться при тебе.
Мы лежали, и каждый прислушивался к дыханию другого. Старая игра. Разве не всегда влюбленные играли в нее? Наверно, всегда, когда один жаждал полностью раствориться в другом, а тот, другой, ограждал свою свободу. Оттого, наверно, слияние душ и подменяли слиянием тел. И сейчас я ждала его, ждала его тела. Но он не обнял меня. Я склонилась над ним. Он спал. Спал самым настоящим крепким сном. Мимолетная обида скоро сменилась любопытством. Я стала разглядывать его лицо.
Оно выражало полный покой. От носа до уголков рта уже пролегли еле заметные линии. Какими они станут через несколько лет, не проглянет ли в них угрюмство, побуждающее человека замкнуться, любой ценой отгородиться от всех — любимых, ненавистных, все равно, бежать от них в свой собственный уединенный мир, куда нет и не будет доступа чужим?!.
Ледяной ветер ворвался в окно. Чайки все кричали и кричали. Значит, близость между двумя людьми невозможна? Чужая... вот, значит, кто я для него. Разве не из-за этого веками страдали люди, не этого разве они страшились, не потому ли лишали себя жизни?..
Я снова легла. Мысли мои потекли в ином направлении. До сих пор я полагала, что я сама — кузнец своего счастья. Господи, какой уж там кузнец. И какое уж там счастье? Я жила честолюбием, маниакальным стремлением к совершенству, но ведь и оно лишь мечта, вечная мука артиста. И тут в мою жизнь пришел он... нет, не то. Я пришла в его жизнь. Опять не то. Я всегда была в его жизни. Как и он в моей! Страх снопом белых ножей впился в тело. Ничего не доказано. Он был в моей жизни всегда, хотя бы как тайный источник вдохновения. Но была ли я в его?..
Неужели он и вправду обладал этим покоем, который сам по себе есть совершенство?.. Я взглянула на его руки. Они свободно лежали на одеяле, и в них тоже был тот полный покой, который приводил бы меня в ярость, если бы... если бы я не любила его. Неужто я бы предпочла, чтобы он жил в душевном разладе, как некогда в прошлом, в таком разладе вечно противоречивой души, что его называли нравственным калекой. Господи, ведь это же дело моих рук, плод нашей любви, что он переменился, и зачем только я коплю зловещие предчувствия, когда этот мир столь прекрасен, когда наша любовь возвысила моего любимого, исцелив его мятущуюся душу, как я однажды исцелила раны, которые он нажил в своих постыдных скитаниях среди темного сброда...
И снова я склонилась над ним в порыве столь безмерного счастья, что не утерпела и невольно стала гладить его лицо. Он мгновенно проснулся и взглянул на меня ясными глазами.
Когда мы вышли на улицу, легко ступая по ее колдобинам и кочкам, женщины прильнули к стеклам окон, женщины стояли в дверях домов, а во мне будто пела радость, и, казалось, всюду звенят бубенцы. Мы несли купальники, хотя отлично знали, что будем совсем одни на нескончаемом берегу по другую сторону мыса и что никакая сила в мире не заставит наши грешные тела облачиться в них. Но знали мы и то, что весь поселок следит за нами: берем ли мы с собой купальники или нет, а после, когда мы вернемся, захочет знать, вымокли ли они...
Но там, на мысу, мы и впрямь оказались одни на свете, и нам было отрадно видеть друг друга обнаженными, голыми на голом берегу, где над голым морем кружились под солнцем чибисы...
Рука в руку мы медленно двигались навстречу морю, покуда ледяная вода не закрыла нас по пояс, и, отдавшись на волю моря, ощутили один и тот же восторг. И я думала: «Нет, он неправ, я хочу умереть счастливой. Пусть, если надо, хоть сейчас». Но море приняло нас в свое лоно, и мы затерялись, будто песчинки, и я подумала: «Нет, нет, я не хочу умирать, счастливой или несчастливой, я хочу жить, сейчас, здесь и во веки веков. Я сейчас поплыву за ним и в воде обниму его, и мы начнем тонуть, а потом будем, смеясь, отбиваться от волн и переводить дух. И я хочу жить, жить, жить...»
13
Люди, которые приезжают из отпуска... где их дом? Громыханье большого города обрушилось на нас еще на Монпарнасском вокзале. Деловитая суета, царившая кругом, была укором всякому, кто непростительно погружен в себя. Улицы кишели людьми, целеустремленно сновавшими взад и вперед, мы же привыкли к людям, которые глядят на тебя... Сотни голов на улицах казались заблудившимися небесными телами в бескрайнем пространстве, наполненном вечным движением. Теперь мы, старые парижане, снова сидели по вечерам в кафе и, словно новички, беспрерывно изумлялись всему. Уличные музыканты по-прежнему наигрывали «Валенсию» — вот уже полгода, как эта песня звучала повсюду.
Наши земляки, теряясь в толпе, удивленно раскрывали глаза...
А я — давний житель Парижа, уютно окопалась в моей привычке к нему, впрочем, именно сейчас, загорелая, пышущая здоровьем, я все же чувствовала себя чужой в анемичной здешней атмосфере с постоянными толками об искусстве, с беспрерывным смакованием ничтожных происшествий. Скрипачку Мириам Стайн после отпуска дома ожидало письмо, извещавшее, что ее ходатайство, поданное через международную организацию музыкантов, удовлетворено: она принята в постоянный оркестр при парижском муниципалитете. Хоть я и не была музыкантом с мировым именем, меня если и не зазывали наперебой, то, во всяком случае, принимали. Так, значит, я принята!
Вскинув брови, Вилфред взглянул на меня тем самым уморительным дедовским взглядом, когда, казалось, ему не 27, а все 54, мне же не 24, а всего 12. Он радовался моей удаче и сказал весело:
— Ты добилась признания. Это не так легко — добиться признания.
Я настороженно искала в его взгляде и тоне следы иронии, но не нашла. Я подумала вдруг, насколько чуждо должно быть ему подобное честолюбие. Но разве его самого не хвалили за все, чем бы он только ни занялся?.. Я не знала, к чему он стремится.
Со сдержанным напряжением выслушивал он комплименты по случаю выставки его картин на родине: дескать, выставка эта — пощечина тем траченным молью старым критикам, которые не доросли даже до фовизма. Вилфреда наперебой приглашали в разные мастерские на чердаках — смотреть самые что ни на есть авангардистские картины, ровным счетом ничего не изображавшие. На бульваре Распай в ту пору открылась выставка Боннара; впрочем, Боннара эта публика сторонилась, даже почтенную голову Матисса и то готовы были снести. «А знаете ли вы болгарского художника Папасова? — спрашивали нас. — Он всегда пишет исключительно телеграфные столбы, зашифрованные телеграфные столбы, никто и не догадается, что это такое». Одна восторженная дама с прической под малярную кисть, глубоко заглянув Вилфреду в глаза, попросила у него совета.
— Напишите корову! — сказал он ей. И когда смех заглох: — Я всерьез вам это говорю, попробуйте написать корову в точности такой, какая она есть, и вы увидите, как это трудно.
Дама смущенно уставилась на него. Что он — смеялся над ней, над ними всеми или же попросту был старомодный натуралист, ненадолго увлекшийся экспрессионизмом? Что он хотел сказать этим советом? Зачем ей корова? Какой от нее прок?
— Делайте с коровой, что хотите, — сердито ответил Вилфред, — но сначала научитесь ее рисовать.
Когда мы остались одни, он сказал с досадой:
— Подумать только — эта шайка готова скомпрометировать все, чего истинные художники добились с помощью революции в искусстве!..
Он постарался скорей позабыть об этом случае. Мы вообще старались обо всем забывать. Горластые разносчики газет выкрикивали между взвизгами трамваев, что Германию приняли в Лигу Наций. Мы и это тоже постарались забыть, как и то, что Бриан согласился встретиться с Муссолини...
Меня пригласили на первую репетицию. Предстоял публичный концерт в честь президента Пуанкаре. Вилфред проводил меня к унылому дому в стиле девяностых годов у Люксембургского сада, где должен был состояться смотр наших сил. Мы вошли в темный коридор и ощупью искали дверь или человека, который бы нам помог.
Когда глаза наши привыкли к потемкам, мы разглядели слабую полоску света в конце коридора. Оттуда, изнутри, до нас донеслись голоса. Почему-то мы вдруг застыли на месте. Послышался мужской голос:
— Опять эти чужаки тут как тут! Будто наши собственные музыканты не терпят нужду!
Мы замерли, слушая, что будет дальше. Какая-то женщина подхватила пронзительным голосом:
— И уж, конечно, еврейка. Эти евреи всюду пролезут...
Вилфред схватил меня за руку. Так крепко, что я ощутила это, хотя вся оцепенела почти до бесчувственности. Я смутно различала его лицо во тьме коридора. Он так загорел, что лицо его почти сливалось с мраком. Я стояла и думала: «Я впервые переживаю это». Конечно, я слыхала о таких вещах: дома, на родине, многое рассказывали. Я вдруг отчетливо услышала отцовский голос: «...только никогда не подавать виду... нипочем не поддаваться...» И бурные возражения моих братьев... И снова низкий, спокойный голос отца: «Ни за что не поддаваться!»
Я стояла и думала: «Вот теперь и мне довелось это пережить. И мне тоже». Одна лишь эта мысль вертелась у меня в голове, и казалось — я всегда знала, что раньше или позже это непременно случится, просто сама оттягивала, из трусости. У меня вырвался тихий стон, потом Вилфред заговорил, и я слышала слова, какими он утешал меня, но не различала их — слышала только звук, нежный, утешительный звук — лучшее средство от слез.
Разговор в зале смолк. Я прошептала:
— Я не пойду туда...
Он шепотом ответил:
— Ты должна. Ты должна сквозь это пройти. Не пройдешь сейчас...
Странно было слышать от него такие слова. Счастье борьбы как будто никогда не вдохновляло его. Впрочем, что я знала о нем?
Но я все стояла, до одурения повторяя: «Я не могу, не пойду». Все завертелось вокруг меня. Я прижала к себе футляр со скрипкой, который Вилфред отдал мне, когда мы вошли в дом. Он предполагал тут же уйти, но почему-то решил проводить меня до самого зала. Может, лучше бы ему не слышать этого? Но, может, он догадывался о том, что меня ждет? Он же всегда обо всем догадывался. Мне вспомнились вдруг газетные заголовки: «Демонстрации против засилья иностранцев». «Туристский автобус на Елисейских полях опрокинут». «Спекулянты валютой...»
Может, то была лишь случайная, вздорная вспышка ненависти к иностранцам в этом гостеприимном городе с неожиданными его причудами? Минувшим летом, в короткий период правления Эррио, франк резко упал в цене. Отдельные американские туристы вели себя вызывающе. Но, конечно, дело совсем не в этом. Не в том, что мы иностранцы...
Растерянно стояли мы в коридоре.
— Если мы сейчас отсюда уйдем, — сказал он, — битва будет проиграна навсегда, ты никогда не станешь выше этого. Ступай сейчас же в зал, а я подожду снаружи, пока не кончится репетиция.
Он говорил со мной, как человек, исполненный зрелой мудрости и заботы, но не как взрослый с ребенком. Я подумала: «Он заслужил, чтобы я его послушалась». Мы по-прежнему растерянно топтались в коридоре. Вдруг распахнулась дверь парадного. Оживленно болтая, вошли оркестранты, они смеялись, шутили. Наткнувшись на нас в темном коридоре, они испуганно отпрянули в разные стороны, извинившись тем детски игривым тоном, каким любят изъясняться французы в ситуациях, представляющихся им пикантными. Нас оттеснили к самой двери, которая вела во внутренние помещения. Поток внес меня в зал, Вилфред едва успел пожать мне руку. Моя рука была холодна как лед.
В зале устроили перекличку, потом очень долго обсуждали репертуар — в течение осени предполагалось дать три концерта, распределили голоса для первой репетиции. Во время переклички я узнавала имена многих талантливых музыкантов, о которых читала в музыкальном журнале, но большинство имен были мне неизвестны. Нас познакомили, все сердечно приветствовали меня. Все весело беседовали друг с другом. Обменивались воспоминаниями.
Я украдкой оглядывалась вокруг, пыталась догадаться — кто же мог произнести те жестокие слова: среди всех этих улыбающихся, бледных, даже измученных лиц я не увидела ни одного, способного внушить подозрение... Может, все это просто мне приснилось?
Но левая рука еще ныла — так исступленно вцепился в нее Вилфред. Синяк на руке долго будет напоминать, что все это и вправду приключилось со мной. А здесь, в зале, я обрадовалась их приветливости и сама была с ними столь же приветлива, и меня осыпали комплиментами за мой красивый загар. Музыканты были будто дети, встретившиеся после каникул. Но когда я, оглядевшись, увидела все эти бледные лица, я сама почувствовала себя чужеродным телом, барыней среди работяг. Я сказала: «В Бретани», и уже от одного этого слова повеяло роскошью. Одна оркестрантка проговорила: «Да, везет некоторым...» Остроносая, маленькая оркестрантка с кларнетом в руках. Может, это она... Я не хотела знать, не хотела больше отгадывать.
Потом, когда я вышла из зала — Вилфред все это время стоял в коридоре или вышагивал по нему взад и вперед, — все увиделось мне в ином свете. Беззаботный Буль-Миш, который всегда навевал на меня веселье... Теперь, казалось, я должна заново исследовать его дома, прохожих, прежде всегда представлявшихся мне друзьями. Я боязливо вглядывалась в лица, подмечая удивленные ответные взгляды.
Вилфред успокоительно похлопывал меня по спине, когда мы спускались вниз по бульвару:
— Неужто все еще саднит?
— Разве ты не видишь — они глядят на меня?
Я заметила, что говорю шепотом. Но он рассмеялся:
— Неудивительно! Ты же пялишься на них так, будто они — злые духи!..
Но он не мог мне вернуть мой прежний Париж.
Мы спешили на свидание с городом, но Париж не шел к нам. Или, может, мне это лишь мерещилось? Море, своеобычные жители моря — все это не отпускало меня. Проснувшись порой по ночам, я слышала шум моря и крики чаек. Но в действительности по улице грохотал мусоровоз, а крики чаек оказывались отдаленными гудками автомобилей в городе, никогда не знавшем покоя.
Потом я подолгу лежала без сна, мечтая о «потерянном крае» — стране моего счастья, о морском крае счастья с его немеркнущим блеском.
Вилфред ничего подобного не ощущал. Он чувствовал себя в этом городе привольно, будто рыба в воде. Париж был истинным его домом. Прежде Вилфред много работал здесь, но теперь нежился в объятиях лени. Париж сделал его другим человеком — уравновешенным, знающим себе цену...
И снова я пытливо вглядывалась в его лицо, когда он спал. И все больше и больше сомневалась, что он обрел душевное равновесие.
Однажды, прохладным осенним днем, гуляя, мы забрели на правый берег. Пересекли бульвар Пуассоньер. Вилфред шел, оглядывая дома, номера домов. Наконец он вытащил из кармана клочок бумаги — обрывок газеты.
— Вот странное дело, — нервно проговорил он, — ночью мне приснилось, будто какие-то люди изобрели новый способ ходьбы — «свободную походку», и кто ходит такой походкой, освобождается от всего, что его удручает, — представляешь, какая чепуха? И хочешь верь — хочешь нет, только я раскрыл газету, как сразу увидел вот это объявление...
И в самом деле! Я не поверила ему. Я поняла, что он лжет. Я стояла на узком тротуаре посреди снующих взад и вперед людей и впервые в жизни — в этой моей новой, истинной жизни — сознавала, что он лжет...
— Зайдем посмотрим, — сказал он. Я взглянула ему в глаза, надеясь увидеть обычную иронию. Но глаза его горели нездоровым любопытством к этой дешевой мешанине из мистики и рационализма, столь модной в то время. В дверях нас встретил жирный зазывала в униформе с галунами.
Все помещение было серое, цементного цвета. От стены к стене тянулись три висячих мостика, будто в тренировочном зале цирка. По колеблющимся мостикам шагали люди — по одному на каждом мостике, — и ледяной женский голос командовал: «Стой! Вперед! Стой! Вперед!.. Кругом!..»
Во мне все переворачивалось: я очень мало знала о декадансе, а также о всяких программах здоровья, порожденных декадансом; я была молода, влюблена, возбуждена счастьем и страхом перед бедой, которая может разразиться вдруг, как гроза в солнечный день.
Пригласили следующую тройку. Вилфред поднялся по металлической лестнице. Я видела, как он вышел на висячий мостик и зашагал по нему уверенными, танцующими шагами. Он остановился, потом сделал поворот и еще один поворот, пошел дальше и снова остановился. Глаза его сверкали, отражая холодный свет, лившийся с потолка, с холодного, серого, как цемент, потолка.
Все переворачивалось во мне. Но я услышала одобрительные возгласы хозяйки аттракциона: «Вот так новичок! Взгляните-ка на мсье! Вот пример для вас, господа! Истинный мастер!..»
А он... кажется, он млел от восторга, под градом похвал, которыми осыпало его это ущербное существо. Словно он только и делал в жизни, что шагал, освободившись от всего, по висячим мостикам. Отвращение сменилось глухим отчаянием. Я думала: «Вилфред бывал здесь раньше, овладел этой походкой. Он лишь забавляется всем и лжет, лжет, все время лжет...»
Он взял меня за руку. Я высвободилась. Он заботливо вывел меня на улицу. Он тихо смеялся. Потом сказал: «Прости меня». Он видел, что я плакала. Что-что, а это он умел — просить прощения, кротко заглядывать в глаза. Он обронил:
— Ты слишком долго не была в Париже.
Я ответила:
— В этом Париже я никогда и не была! В фальшивом Париже, столь любезном твоему сердцу, ущербном, рабски приверженном очередной моде...
Он сказал:
— Почему бы не поиграть в игру? Ты тогда и чарльстон не хотела танцевать, помнишь?
Да, я помнила, и воспоминание саднило душу. Я и вправду тогда не захотела танцевать чарльстон. Это было в кафе «Селект», или как оно еще там называлось. Танцевали чарльстон, мне даже понравилось. Все это было до Бретани. Мужчины обычно начинали приплясывать сидя — у них чесались ноги — и, уже танцуя, подходили к дамам. Но и тем уже не сиделось на месте — они напоминали самок в пору течки. Дамы вскакивали на ноги и тоже начинали выкидывать антраша под возбуждающую музыку. Вдруг Вилфред поднялся, приплясывая, как все. Отвращение захлестнуло меня. Он испытующе поглядывал на меня: может быть, я совладаю с собой? Но я не могла! Не хотела и не могла, я возненавидела чарльстон и все связанное с ним. Я возненавидела его, хотя всего секунду назад была готова танцевать. Почему? Из глубокого отвращения ко всякой пошлости.
Он не стал меня попрекать. Но и не сел на место с виноватым видом. Он исполнил великолепный сольный танец, настолько виртуозный и полный выдумки, что все остальные сошли с танцевальной площадки и, встав в круг, хлопали ему в такт музыке. Хозяин ночного клуба прислал даровое шампанское...
Когда мы вышли на улицу, я спросила:
— Может, вернешься к своим приятелям и еще раз пройдешься по мостику?
И высвободила свою руку.
У него сделался такой обиженный вид, что я подумала: «Да он же просто дитя. Избалованное дитя, я сама его избаловала, его нельзя не баловать».
Потом его взгляд ожесточился, погас. В моей голове лихорадочно пронеслось: «Как нежно заботился он о тебе! Что будет с его любовью, с твоей любовью?.. Мыслимо ли, вот так, на тротуаре, среди снующих людей, разом все потерять?..»
— Конечно, это глупо, — потухшим голосом проговорил он, — но мне это в самом деле приснилось.
Снова дитя. Дитя, которое могло быть моим, если я захочу. Я хотела...
Я взяла его под руку. Вокруг нас искрился, переливался свет. Легкий туман рассеялся, ушел.
— Я виновата.
— Нет, я виноват.
— Нет, я!
— Прости меня...
Но это было уже слишком, он явно переигрывал.
— А что мне тебе прощать?
— Мне хотелось бы показать тебе мои картины, — сказал он.
— Разве я их не видела?
У него сделалось сердитое лицо или, может, просительное, не знаю.
— Ах, ты о тех...
Картины его занимали меня. Все, что касалось его, занимало меня. Значит, у него есть другие картины? И он прятал их от меня?
Мы пошли дальше — на север. Мне было неприятно думать, что он ведет меня к месту нашей первой встречи. Он повернул на северо-восток. Да-да, он научил меня чувствовать направление. Но сейчас он вел меня сам.
И тут вдруг из какого-то заведения послышалась музыка, было это на какой-то тихой улочке. Проклятая «Валенсия», опять она — будто звуковая чума. Он шел рядом со мной, держа меня под руку. И ноги его шли, точнее, плясали... Он шел рядом со мной, приплясывая так легко и ритмично, будто какой-нибудь... какой-нибудь из этих...
Такси подъехало тут же, как только я махнула шоферу.
14
В такси стоял душный запах табака и пудры. Я сидела, глядя, как мимо проплывают знакомые улицы и дома. Все вокруг нас казалось мне зловещим. Я уже давно не ездила одна в такси. Мне так покойно было сидеть рядом с Вилфредом в его зеленом маленьком автомобиле...
Я дала шоферу адрес пансионата на улице Президента Вильсона, но, передумав, попросила повернуть в другую сторону и высадить меня у церкви Сен-Сюльпис. Не могла же я в самом деле вернуться в мой прежний пансионат, как провинившаяся школьница. Я страшилась жалостливых и любопытных глаз Нелли, чей взгляд сказал бы мне: «Ага, недолго же это продлилось!»
Потом я бродила по узким улочкам вокруг нашего дома, но не смела вернуться: вдруг там никого не будет? Моросило. Тонкая пелена окутывала старомодные уличные фонари, и, казалось, вся улица тоже спряталась под пеленой... Внезапно передо мной точно из-под земли вырос Вилфред. Он взял меня под руку, но не робко, словно бы выясняя, в каком я расположении духа, а спокойно и уверенно, будто ровно ничего не случилось:
— Я вышел встретить тебя...
Он не хотел объяснений, взаимных покаянных признаний своей вины.
— Завтра, — сказал он, — я должен снова заняться работой. А ты ведь пойдешь на репетицию, не так ли?
Мне не нужно было на репетицию. И он это знал. Значит, хотел удалить меня из дома, хотел остаться наедине со своим мольбертом.
— У меня тысяча разных дел, — сказала я. — Квартира весь день будет в твоем распоряжении.
Я вспомнила, что уже век не навещала брата, отделалась несколькими открытками, посланными из Бретани малютке Жаку. Меня тут же охватила острая тоска по близким.
Он рассмеялся:
— Наоборот. Весь дом в твоем распоряжении... Я делаю эту работу в другом месте.
И снова — укол ревности, потребность все знать о нем. Он и прежде как-то дал мне понять, что работает в другом месте. Но мы с ним не расставались день и ночь начиная с августа, теперь же стоял октябрь. Выходит, я ничего не знаю о том, что, может, занимает его больше всего?
Мы вошли в нашу маленькую, заставленную мебелью квартирку. Стол накрыт, а на нем — угощение: лангусты, холодный цыпленок, салат, белое вино. У меня прямо дух захватило.
— Я забежал в магазин Жоржа на углу и купил кое-какую снедь.
Снова кольнуло в сердце: значит, он был уверен, что я вернусь домой...
— Знаешь, от волнения на меня нападает зверский голод, — сказал он оправдываясь.
Я тут же кинулась к нему на шею. Вот, значит, как легко было меня пронять: школьница, а не взрослая женщина — сначала обиделась, потом ударилась в сентиментальность. А ведь я годами стояла на подмостках — известная скрипачка, не из самых великих, зато из растущих...
— Где же ты работаешь? — спросила я. И тут же поняла, что лучше было мне прикусить язык. Но он не выпустил меня из объятий. Он сказал:
— Да там... — и неопределенно кивнул головой куда-то в сторону.
— Можно мне посмотреть картины?
Он пожал плечами.
Но мы не пошли туда завтра и на следующий день тоже. Нас будто вновь забрал в плен этот город, дивный самовлюбленный город, в котором мы жили. Какое-то беспокойство вселилось в нас, без слов передаваясь от одного к другому. Вдвоем бродили мы по городу, томимые жаждой, — жаждой объятий, еды, вина и снова еды. Короткие полосы дождя с ледяным ветром, предвещавшим осень, сменились жарой, столь сильной, что плавился асфальт, и от домов, окон, статуй струился свет, будто в первый день творения,— сверкающий город казался написанным кистью шального пуантилиста... Мы были богачи, вхожие в оазисы, разбитые для богачей в бедных кварталах, — богачи, начисто лишенные совести. Мы установили доверительные отношения с официантами, и они поили нас чудесным вином, какое припрятывали для немногих избранных. К нашему столику то и дело подходили в белых колпаках виртуозы поварского дела, с простодушной гордостью рассказывая о своих блюдах, как мать об удачном дитяти. О вы, дни моего счастья, наполненные голодом, жаждой и вожделением! Я так долго жевала серые отбивные в пансионате на улице Президента Вильсона. Я так долго была уверена, что скрипка — это и есть вся жизнь... В газетах писали, будто франк неуклонно падает. А нам было и горя мало. Будто зеленый побег извечной людской надежды и веры, наш маленький «ситроэн» пробивал себе путь в джунглях радостных дней, светившихся отраженной радостью, взятой у нас. Мы чувствовали себя туристами, с присущей туристам радостью открывания, обладая в то же время знанием посвященных. Мы встречали всюду уйму единомышленников, философствующих гурманов, постоянно возвращавшихся — будто привидения — в храмы чревоугодия: мы вступили в своего рода тайный клуб, члены которого, свободно переходя от столика к столику, вместе осушали последний бокал на рассвете, а рассветало теперь все позже. Но, разглядывая себя в зеркале на другой день, я не чувствовала стыда. Из зеркала на меня смотрели глаза, не заплывшие с похмелья, а неузнаваемо лучистые. Загар не сменился малокровной бледностью. Молодость наша не знала тоски похмелья. Непокоренные дети счастья, мы готовы были одарить им всю землю. Я порхала на крыльях легкомыслия. И крылья мчали меня, куда хотели. Это меня-то, всегда тащившую на себе бремя заботы и чувства долга.
Однажды утром зарядил дождь. Он лил и лил, и, казалось, над городом опустился занавес. Дождь сказал нам: конец.
Было утро, накануне мы рано легли, трезвые как стеклышко. Мы оделись. Вилфред сказал:
— Сегодня.
— Можно мне с тобой?
Вилфред долго смотрел на меня, потом пожал плечами. Будто годы прошли с той минуты, как я спросила.
Он не захотел взять такси:
— Там такой бедный квартал...
Называлось то место Фальгьер, оно находилось где-то за Монпарнасским вокзалом. Мы шли туда, словно по дну океана. Дождь лил с какой-то ожесточенной яростью, от стен домов отскакивали брызги. Мы остановились у большого серого здания. Вилфред отпер маленькую железную дверь, я мы поднялись вверх по узкой железной винтовой лестнице. Пахло пустотой и цементом. Наши шаги гулко отдавались в пустом доме. Мы поднялись в маленькую каморку без всякой мебели. Я вздрогнула: на полу, чуть прислонясь к стене, в неестественной позе мертвеца сидела кукла-манекен. Вилфред напряженно улыбнулся. Неужто я первый раз вижу подобный манекен? Скульпторы иногда пользуются ими, и художники тоже. Вилфред казался мне каким-то чужим. А манекен что-то упорно мне напоминал.
Мы вымокли насквозь. Я озябла. Вилфред помог мне сбросить громоздкий плащ — он уступил мне свой. Потом он открыл маленькую дверь. Мы вышли на галерею: она огибала три стены зала, широкой бездной зиявшего внизу.
Не помню, увидела ли я сперва этот зал, или же мой взгляд скользил по узкой галерее, прилепившейся к серым бетонным стенам.
Как бы то ни было, прошло некоторое время, прежде чем я обнаружила картины. Настолько они были велики, даже огромны, что взгляд, должно быть, не сразу мог объять их. Они не сразу воспринимались как картины. Поначалу они мнились лишь частью этого холодного как лед пространства, частью пустого зала. Должно быть, я сначала увидела лишь фрагменты — клинья, круги, что-то плоское и скучное, без перспективы, немилосердно упорядоченное, без глубины — без смысла. Дрожа от холода, я стала смотреть вниз — на унылую свалку, громоздившуюся на полу. Громадные волны упаковочной бумаги вздымались там, повсюду валялись орудия ремесла, там и тут стояли узкие стремянки, ведра с краской... Мой взгляд вновь устремился к стенам и, прилепившись к ним, растворился в беспощадном строе фигур, на миг обрадовавшем меня контрастом с пугающей свалкой на полу. Но и на стенах взгляд не обрел опоры, а был заворожен узором — порождением жестокого упорядочивающего начала. Повинуясь излучаемой им властной силе, взгляд следовал за углами, которые открывались и смыкались перед ним, порой давая ему отдохнуть на успокоительных окружностях, в свою очередь прерываемых прямоугольниками, может, не совсем ровными, но, во всяком случае, изначально задуманными как прямоугольники, и лишь изредка в этом месиве мелькала искра — след человечности, тут же угасавшая, умерщвленная в самый миг сотворения.
Страх охватил меня, ледяным дыханием тронул душу, и, казалось, душа тоже распадется на части, подчиняясь загадочному закону, — распадется, чтобы возникнуть в новом образе волей неведомого мне существа...
И тут вдруг случилось тягостное: меня вырвало.
Потом полились слезы.
Вилфреда не было со мной. Его силуэт неясно маячил где-то внизу. Я дала волю слезам, долго плакала, неслышно и без стыда. Я видела маленькую железную лесенку, что вела из зала на галерею. Слышала, как барабанят по крыше из стекла и железа тяжелые капли дождя. Какие только пустяки не вплетались в мое сознание, словно бы стремясь отвлечь меня от всего, что глаза страшились увидеть, но к чему все равно тянулись. Я стояла, чувствуя, как в душу вползает ненависть и еще другое — отчаяние, бесконечное и безысходное. И против воли в сознании всплыло слово «предательство»...
Потом я снова подняла глаза и смотрела, смотрела так долго, сколько хватило сил. И я подумала: если это — искусство, я должна умереть.
Мой взгляд упал на Вилфреда — он по-прежнему стоял там, внизу... В тот миг и он тоже представился мне неким «элементом» — о, как я ненавидела это словцо, которым так охотно щеголяли представители разрушительного эпигонского искусства, из тех, кого нам часто доводилось встречать, поскольку Вилфред водил с ними знакомство: они сумели навязать нам свой жаргон.
Но, стоя там внизу, он и вправду был лишь элементом целого, тростинкой на фоне огромных фигур, громадного пространства зала, и оно поглотило его — жуткое целое, созданное им самим на обломках взорванного, разрушенного мира, со всех сторон обступавших меня.
Он поднял глаза, по его лицу скользнула робкая улыбка. Но он не пошевельнулся, не оставил точки, входившей в неведомое мне математическое построение. Мы молча спорили друг с другом. Да, да! Я видела их всех, изучила их — Брака, Пикассо, Кандинского, Клее,— «поняла», мгновеньями даже растворялась в них, испытывая пьянящий экстаз. И если поэт и волшебник Брак, единственный, что-то говорил моему сердцу, то выдумщик Пикассо находил отклик в моем темпераменте. Но все они одинаково раздирали на части, разрушали привычный мир представлений и властно требовали покорности.
Я видела их холсты на выставках минувшей весной и почувствовала, что готова поддаться их влиянию, но сумела вырваться. В конце концов все эти художники были мне глубоко чужды и к тому же заняты другим видом искусства. И вот теперь Вилфред... Не то чтобы он походил на других, нет, он ни на кого не похож. На его холстах нет ни единого элемента, который был бы взят из природы, пусть даже до неузнаваемости деформированного. Нет здесь даже яростной страсти к разрушению, одновременно пугавшей и привлекавшей меня в отдельных его картинах, какие хранились дома, в домашней мастерской, и какие я бы назвала модернистскими.
Бесплодная мужская математика, но, может, также своего рода геометрическая поэзия? Пламень его поэзии не грел, лишь наводил жуть. Окоченевшие видения взорванного мира. Круги и снова круги, зеленые, оранжевые и черные, будто погасшие светила; круги, вспоротые углами и треугольниками... и неподвижная круговерть теней, будто поклявшихся безвозвратно сгубить человеческую душу. И еще этот вызывающий размер!
Может, именно это переполнило чашу... Картины словно говорили, — нет, кричали мне: «Мы не оставим тебе ни малейшей лазейки — вложить в нашу математическую монументальность мир твоей мечты, твою мещанскую тягу к заветному, сокровенному — выжжем дотла, ничего тебе не оставим, чтобы ты оскудела душой, и тепло стало льдом,— и там, где прежде ты пресмыкалась, упиваясь ассоциациями и воспоминаниями, там теперь откроется тебе объективная истина»... Столь нарочито вызывающей была эта демонстрация бессердечности, столь назойливой в своем всеведении...
Вилфред поднялся на галерею и подошел ко мне. Наверно, увидел, что я плачу. Мне захотелось крикнуть ему, чтобы он вернулся назад, туда, где был лишь элементом организованного хаоса... Гений Сезанн устранил в мотиве все случайные эффекты света и воздуха. Да, Сезанна я понимала, он открыл людям глаза — и мне тоже, — он помог мне видеть. Но неужели его отказ от всего случайного должен был в конце концов привести к насилию над случайностью, зовущейся человеком, к насилию надо мной? Череда королей — династия разрушителей, со своими, ими самими сотворенными законами престолонаследия... неумолимые диктаторы, превратившие мой цветочный сад в глыбу льда, — Мондриан, Вантонгерло, ван Дусбург... я видела их работы, с их неопластицизмом, и даже иногда сладострастно вздрагивала при виде самоубийственных их усилий. Но они не были так беспощадны!
А здесь, в этих картинах, был момент сознательной злобы, расправы уже не с одним общепринятым, но и с чужим бунтом.
— Это предательство! — прошептала я. Я хотела остановить слезы. Мне претила роль бессильной жертвы, обреченно застывшей перед насильником. Я хотела быть обвинителем, — впрочем, нет, я была равнодушна, глуха к этому антимиру — отрицанию самой нашей сущности, нашей любви.
Я ушла от него с пустотой, со льдом одиночества в сердце, и возвратилась в каморку. И снова я вздрогнула при виде куклы, столь «естественной» в своей застывшей распластанности... недвижности манекена.
Я рванула к себе негнущийся плащ, но от прикосновения к нему содрогнулась, словно и он был частицей всего этого обескровленного антимира.
Я видела, как он побледнел, когда я произнесла слово «предательство». И сразу вспомнила его рассказ — про ребенка, про то, что все повторяется, про стеклянное яйцо, в котором он жил. И что-то он тогда говорил про предательство... Все это вдруг сделалось мне безразлично.
У меня не было чувства, что я покидаю его, когда под дождем я быстро зашагала по улице. Он сам покинул меня — не только меня одну,— он покинул все: жизнь, себя самого... Очевидно, потому женщины «покидали» его, даже та, что родила ребенка. Я мысленно послала им привет.
Вдруг я остановилась. Дождь сыпал так часто, что я смутно различала противоположную сторону улицы. Я не заметила, куда шла, между редкими домами тянулись пустыри. Многоэтажные дома для бедноты казались высеченными изо льда. Может, их населяли манекены? Но я не хотела давать волю навязчивым представлениям. Я здоровый живой человек, я вырвалась из мира больных фантазий. Мне сейчас полагалось бы быть на репетиции. Я уже пропустила несколько репетиций из-за наших исступленных легкомысленных развлечений.
И снова меня захлестнул страх: что, если я не отделаюсь от кошмара? А ведь это и вправду кошмар, он не отпускает тебя, хоть ты и знаешь, что уже не спишь...
Да, вот что приключилось со мной. Страх захлестнул меня. Ни души на пустынных улицах; дважды мимо прогромыхали фургоны с окнами, слепыми от дождя, — великаны, посланные к неведомой цели таинственным повелителем. Вокруг меня был мир, слепо подчинявшийся невидимой воле. Я пощупала собственный пульс, биение крови показалось мне благословенным счастьем, доказательством бытия. Доказательством того, что я жива.
Только удержать эту спасительную мысль никак не удавалось, отрадное чувство нипочем нельзя было удержать. Мою душу исполосовали плетьми. И всюду теперь виделись мне раны, ведь я и ожидала увидеть раны. Я вспомнила картину Иеронима Босха: совы и змеи копошились в теле больного человека. Но все же это были настоящие совы и истинные змеи!.. Может, на человечество надвигается некое новое средневековье, выражающее себя в неясных символах?..
Мимо меня прошли строем солдаты. Небольшой отряд марокканцев, огромных, черных, как ночь. За ним показался еще один отряд, солдаты маршировали как заводные и скрылись в тумане на пустыре между низких домов. Дома тоже сомкнулись строем — квадратные, бесчеловечные. Война. Квадраты, треугольники. Проходили еще марокканцы, поодиночке, вяло волочившие ноги, — видно, отстали от колонны. Наверно, где-то рядом казарма. Я могла бы спросить, как пройти к ближайшей станции метро, но нет, только не это, под землей не могу... Но можно спросить о чем угодно, просто, чтобы услышать голоса, видеть мимику человеческих лиц.
У меня не было голоса. Не было ни ног, ни рук, ни тела. Они бросили меня, пока я стояла в тумане. Все бросили меня. Кругом один лишь дождь. Черный, как ночь, великан вдруг возник предо мной. Все, что еще оставалось во мне живого, задрожало от страха. Марокканец улыбнулся, о чем-то спросил меня. Я зашевелила губами, хотела переступить с ноги на ногу, но ног не было. Ничего не было — лишь треугольники кружились в холодном безграничном пространстве.
15
Когда я очнулась, Вилфред был рядом. Я очнулась в пункте «скорой помощи», где-то совсем далеко на окраине. Меня отвезли туда на армейской машине два сердобольных негра. Вилфред все выяснил. И вполголоса, деловито рассказывал мне об этом.
Он не стал живописать собственные волнения, просто рассказал все, как было. Он вышел из дома в Фальгьере, но не мог меня найти. Дождь шел сплошной стеной. Под проливным дождем он кинулся в северные кварталы — туда, откуда мы пришли. Потом позвонил в полицию, на станцию «скорой помощи». Служба информации хорошо поставлена в этом городе. К тому же в моей сумке было удостоверение личности...
Нет, он не корил меня за свои волнения, просто понимал, что я хочу все знать. Душу мою грызла тоска, будто с похмелья, и жалкое чувство вины. Все это было так тягостно...
Но об огромных холстах я теперь могла думать без боли. Я поняла, что это их он собирается отправить на выставку в Норвегию — там их будут показывать в каком-то громадном Стеклянном зале; он упоминал об этом прежде, но тогда я не знала, о каких картинах идет речь. Холсты эти будили во мне острую тревогу — тревогу за все, что он разрушил в себе, но уже не наполняли меня столь беспредельным физическим отвращением.
Вошла сиделка. Вилфреду разрешили взять меня домой — надо было лишь подписать кое-какие бумажки. Но сначала он долго сидел у моей кровати и рассказывал. Только о картинах он не сказал ни слова. Не пытался оправдываться. И я не пыталась. Когда он вез меня домой, уже рассвело и снова лил проливной дождь. Вилфред успел позвонить в репетиционный зал — сказать, что я заболела. Он обо всем успел подумать и позаботиться. Дома он дал мне снотворное, и я проспала до вечера.
Дни моего счастья! Теперь их настигла осень, не знающая пощады, с дождем и ветром на улицах и сквозняком в доме. Мы дружно работали на репетициях — словно все слились в одно целое, в семью. Наш первый концерт состоялся в огромном зале с искусственными деревьями. Теперь мы были уже не французы и иностранцы, а инструменты и голоса, и дирижер был старый человек, спасительно опытный. От него тянулись к нам нити, невидимые для публики...
Вилфред тоже работал. Одновременно мы покидали наш дом. Я знала: он улаживал последние мелкие дела, связанные с отправкой и страховкой картин, перепиской и коммерческой стороной затеи. Но он уже не излучал радости, как прежде. Его загар быстро бледнел, а на лице проступало уныние и усталость. Во всей повадке его теперь сквозил вызов, словно он знал, что восстановит против себя весь небольшой замкнутый мирок. Он был мне теперь еще дороже прежнего.
Я думала: над ним не властно время; наверно, думала я, так было с ним всегда. Подростком он не казался юным. А, сделавшись взрослым, вел себя порой как ребенок. Я думала, что теперь хорошо знаю его, и дивилась собственной слепоте в те счастливые дни, когда я тешила себя мыслью о том, что он обрел внутреннюю гармонию.
Но, может, все наладится между нами теперь, когда мы так правдивы, так откровенны во всем? Он продал маленький автомобиль. Мы мало выходили из дому и никогда уже больше не забредали в роскошные кафе и рестораны, где радушные официанты и повара столь по-детски гордились своей кухней. Всему этому словно настал конец, не только для нас двоих — для всех. Неужто и вправду еще существовали все эти шумные места, куда день за днем наведывались одни и те же жадные до удовольствий люди? Мы не выходили из нашего квартала, лишь изредка заглядывая в маленькие скромные кафе на Сен-Жермен-де-Пре. И здесь тоже мы завели шапочные знакомства с людьми, которые жили и думали так же, как и мы, в большинстве своем молодыми, как и мы. Когда выдавалась теплая погода, те же пары прогуливались по бульвару Мишель — они шли, обнявшись,— рука на талии, рука на затылке, — казалось, они цепляются друг за друга в надежде, что все это будет длиться вечно...
Как-то раз мы снова прошли мимо того жалкого заведения, где нелепые афиши рекламировали «свободную походку». Тот же самый зазывала маячил у входа. Бледный как смерть, он уже не так бодро и самоуверенно окликал прохожих, как прежде...
Странная перемена вдруг сказалась в походке Вилфреда, неприметно преобразившейся в пляску: он слегка покачивал бедрами, вертел ногами. Я верю, что сам он этого не замечал. Но эта пляска претила мне... Ложная ее веселость была словно яд...
Он спросил:
— А может, в порядке исключения пойдем куда-нибудь?
Да, я и вправду была не прочь поразвлечься. Мы вели такой суровый образ жизни, а я все еще была слаба. В ту минуту я поняла, как я слаба.
— Выбирай ты, — сказал он.
Я понятия не имела, что выбрать. Я не из тех, кто знает толк в развлечениях. Пять-шесть концертов, действительно представлявших интерес, мы уже слышали. В конце концов мы отправились в некое заведение под названием «Лоран». Мне стало противно, едва мы туда вошли. Вилфреду тоже, казалось, зал не пришелся по вкусу. Повсюду за столиками сидели педерасты. Мы уже не в первый раз встречали подобную публику. Они не смущали нас, но Вилфред все же предложил уйти.
В тот же миг поднялся занавес над маленькой сценой сбоку. Вышел негр. Я же была полна благодарности к неграм после того случая на пустыре, в туман и дождь. Он объявил, что сейчас мы увидим танец под названием «Блэк боттом» — последний крик моды! Посмеиваясь, негр исполнил соло... Смотреть на это было забавно, музыкальная акробатика, доступная только негру. Наградой ему были аплодисменты.
На сцену вышла женщина — огневая партнерша. И в тот же миг мужчина преобразился: танцор, полный ленивой грации, сменился задыхающимся самцом. Совсем иной танец заполыхал на сцене. Вначале он чем-то напоминал чарльстон, так же болтались словно вывихнутые из суставов руки и ноги при неподвижных бедрах. Танец этот был мне противен. Я взяла руку Вилфреда, я искала опору, защиту от чего-то, что оскорбляло меня...
Я хотела уйти, как вначале предложил Вилфред. Но, казалось, стул вцепился в меня и не отпускал, и столик тоже удерживал меня — весь зал заявлял на меня свои права, поглотил меня. И тут рука Вилфреда заплясала в моей руке, и это тоже было мне противно. Я хотела вырваться, но не могла, хотя Вилфред не стискивал моей руки.
Но теперь я знала, чем мне противен танец: на сцене привиделась мне кукла — тот самый манекен с всамделишными руками и ногами, но бесплотным телом. Кукла из дома в Фальгьере...
На сцене были два тела, лишенные души, два тела, жившие по законам... Да, да! По законам тех громадных картин... Двое на сцене уже перестали быть человеческими существами, да и вообще живыми существами... они были всего лишь фигурами, произвольно менявшими объем и форму по собственной воле, но и по заказу, диктуемому музыкой, ритмом, желанием, долетавшим к ним из зала...
Я вдруг услышала собственный стон — я сидела и стонала, в этом раззолоченном светлом зале, полном бледных людей с напряженными лицами; но мой голос потонул в общем стоне — стоне сладострастия и ужаса. Теперь я четко ощущала судорожные подергивания руки, которую держала. С трудом преодолевая завораживающую власть музыки и пляски, я повернулась, будто придя к нему откуда-то издалека, и вгляделась в него.
У меня похолодело сердце... Он обернулся и тоже посмотрел на меня... Оцепенелый взгляд наркомана. Лицо его состарилось, превратилось в угрюмую маску — ту, что прозрела в нем моя тревожная любовь в те далекие дни в Бретани, когда я вглядывалась в сонные его черты... Он улыбнулся. Но вышла не улыбка — гримаса. Он сжал мою руку... Я закричала. Я услышала собственный голос, он тоже был искажен, но в нем звучал страх, жажда бегства, отчаянная человеческая тоска. Опрокинулся стул. Вилфред по-прежнему улыбался. Цепляясь за меня, он встал. Вдвоем мы пробирались между столиками мимо людей, не замечавших нас, людей с устремленным на сцену оцепенелым взглядом.
Очутившись на улице, мы продолжали бежать. Дождь уже перестал. Мы бежали по хорошо знакомым улицам. Но мы не узнавали их, как не узнавали прохожих, то и дело мелькавших мимо. Потому что сейчас мы не видели в этих людях людей. Случайные сцепления туловищ и конечностей, они казались несовершенным подобием человека.
Потом мы умерили шага. Мы будто слились в одно существо. Мы устали. Нам трудно было дышать. Мы молча ходили по улицам, постепенно вновь принимавшим знакомый облик. И все так же молча мы направили наши шаги к кварталу, где был наш дом, где молодые, бедные, простые люди молча бродили в тени старых зданий, каждым камнем знакомых им. Ни мы были будто предатели среди них...
16
Мой английский импресарио прислал мне письмо, предлагая весной выехать на гастроли в Англию и Шотландию. Он считал, что в Лондоне, где хорошо отзывались о моей игре, мне гарантирован наилучший прием. В первом отделении он рекомендовал играть Стравинского, который никогда не был мне особенно близок, во втором — двух английских модернистов, о которых я и слыхом не слыхала.
На другой день пришла бандероль с нотами — сочинения одного из двух модернистов. Я проиграла их с листа. Это была какая-то тревожная музыка, пожалуй, атональная, но без той чрезмерной ломкости, которая так пугала меня, навевая тоску и усталость. И все равно — как обрадовала меня эта весть, привет из настоящего мира — моего мира! Но зачем только мне предложили именно это? Меня подмывало тут же послать отказ. Да у меня и не было сил выехать на гастроли. Я теперь страшилась всего.
В один прекрасный день появился автор — композитор Ивлин М., тихий молодой человек в потертом, но безукоризненно отутюженном костюме. Он походил на конторщика из Сити, какими я их себе представляла. Ивлин аккомпанировал мне дома, в мастерской наверху, ведь теперь Вилфред работал в Фальгьере, а она почти всегда пустовала. Композитор был скромный, учтивый молодой человек, однако на редкость упрямый. Он не принадлежит ни к одному из существующих направлений, сказал он мне. Я невольно улыбнулась. До чего же все они старались быть уникальными, неповторимыми...
Неспешно, почти против воли, я в перерывах между репетициями начала готовить программу. Она могла быть готова через какие-нибудь полгода, если, конечно, я буду напряженно работать и если достанет сил...
Потертый Ивлин с его учтивыми манерами и обликом конторщика, со всем его непостижимым упрямством вскоре отбыл в Италию. Исчез столь же внезапно, как и появился... Но он настаивал, чтобы я играла его музыку, хоть она была мне чужда.
Раз Вилфред принес с собой домой газету «Л'энтрансижан». Он с торжеством показал мне новость: художники и скульпторы тридцати шести стран решили способствовать подъему франка. Газета писала, что художники благодарны Парижу, городу, который неизменно дарил им вдохновение... Все события совершались в этом городе. Всем художникам случалось здесь жить. Статья пестрела громкими именами — словно пробег сквозь историю искусства. Художники тридцати шести стран, поддерживавшие эту инициативу, перечислялись поименно. Ждали еще и других добровольцев. Задумали не то распродажу произведений искусства, не то лотерею — разыгрываться должны были вещи, приносимые благодарными художниками в дар Парижу. Японец Фудзита уже приготовил афишу.
Новость слегка ошеломила меня. А что, Вилфред тоже примет в этом участие?
Если только его пригласят! Глаза его лучились. Я не совсем понимала его. Он ни разу не выражал никаких чувств благодарности Парижу, о которых так красноречиво говорилось в газете. Да, он любит этот город, он удивительно хорошо знает его, словно провел здесь всю свою жизнь. В нем живет неутолимое любопытство к будням его, к его живописным уголкам и закоулкам, к здоровому его пульсу и к болезненным наростам. Восторженность Вилфреда испугала меня. Чем бы ни увлекся он — он всему отдавался душой и телом. В ту пору он часто бывал на могиле своего дяди в углу кладбища Пер-Лашез. Как-то раз я проводила его туда. С волнением стояла я под проливным дождем в том же самом месте, где мы встретились с ним на похоронах. Здесь началось наше счастье.
Но он уже не отгадывал мои мысли, как прежде, — только веления плоти: когда я была голодна, утомлена, когда мне хотелось пойти куда-нибудь или, наоборот, отдохнуть. Он поощрял меня в моей работе, помогал в переговорах с дирижером оркестра. Со временем я решила принять предложение о гастролях в Англии. Я больше не смела рассчитывать на Париж.
А не угадывал Вилфред того, что я была в разладе с самой собой, что мои порывы противоречили друг другу, подтачивая мою волю, обрекая меня на бесконечные колебания.
Впрочем, может, он это и понимал. Может, он уже знал то, в чем впоследствии я убеждалась столь часто, — нельзя поддаваться робости, раздвоенности в тебе самом. Нет большего несчастья для человека.
Как возникла между нами эта стена? Я не хотела знать то, что я знала. Его картины. Его странная восторженность. Танец в тот вечер в кафе «Лоран». Все вместе взятое. Одна мысль донимала меня: «Ему недоступна цельность», я всеми силами сдерживала отчаяние, которое она вызывала во мне. Но мысль эта засела в душе незаживающей раной.
Стена, выросшая между нами, мешала мне открыться ему. Мое одиночество — теперь я уже цеплялась за него — служило мне точкой опоры. Он же в своем одиночестве был надменен, более того — агрессивен.
Его нежность не могла растопить эту стену, да теперь и нежность его тоже страшила меня. Внезапно он начал твердить, что мы должны пожениться, родить детей, непременно кучу детей. Он был бы рад, если бы я родила их тут же, на месте. Он приносил домой книги по уходу за детьми и детской психологии, брошюры и толстые фолианты, которые лихорадочно листал, записывал то, что в них открыл, и спустя несколько дней уже знал все это наизусть. Но весь этот пыл казался брызгами водопада, выплескиваемыми засасывающей и неукрощенной силой, когда струя грозит увлечь тебя в водоворот.
Он стал ребячлив и в выборе развлечений. Он водил меня на всякого рода народные увеселения, ярмарки. Может, он хотел возродить нашу с ним запоздалую весну, ту, что пришлась на раннюю осень? «Нельзя изменять простоте в сердце своем», — говорил он. Но говорил он это с ожесточением, и простота угадывалась плодом рассудка. Потому что, в сущности, он совсем не знал детства. Он говорил: «Игра... игра нужна и в искусстве тоже, — ее упустили, забыли о ней. Любое искусство должно быть прекрасной игрой...»
Но, рассуждая об игре, он походил на смертника. Он говорил: «Нельзя изменять простоте», и мнились за этим мрачные омуты памяти, волны мятущейся совести.
То было время последних ярмарок — этих передвижных увеселительных парков, которые возникают на окраинах с весны, шумят все лето напролет и исчезают глубокой осенью, когда скоморохи уползают под крышу.
Был студеный вечер. В этот день долго моросил дождь, но потом выглянуло прохладное ноябрьское солнце, свежий ветер разогнал тучи. Город, будто новорожденный, встал из тумана, отряхивался от дождя. Пыл Вилфреда заразил меня. Меня тоже потянуло на улицы — к людям, к веселью... Он хотел, чтобы мы вышли с ним прогуляться. Мы долго бесцельно бродили по старым улицам в нашем Левобережье. Потом перешли реку у Сите. Долго смотрели мы в убывающем свете дня на собор Нотр-Дам — мы будто видели его впервые. В известном смысле так оно и было. В тот вечер все казалось новым и зловещим. Косые лучи солнца освещали западную сторону собора. Под ярким светом лучей резко сгустились тени, и он высился перед нами будто горный хребет, с острыми скалами, с глубокими ущельями между ними. Никогда еще Нотр-Дам не казался мне столь полным жизни.
Потом мы пошли на север, а после — на восток. Скоро мы поднялись вверх к тускло-серой Менильмонтан и оказались неподалеку от злосчастного кладбища. Я теперь не любила эти места. Там встретились мы с ним. И память об этом дне была мне отрадна. Но я не хотела вспоминать. Не хотела, чтобы меня к этому принуждали...
Ярмарку разбили на пустыре, впрочем, часть его больше походила на парк. Шум разносился далеко вокруг. Музыка карусели врывалась в улицы мощными толчками, резавшими ухо. Я невольно вспомнила слова Вилфреда: «Карусели — моя судьба». Почему-то от этих слов больно щемило сердце. Правда, я любила эти фальшивые звуки, но во всей нашей затее была какая-то нарочитая детскость. Мне уже не хотелось идти на ярмарку. Вилфред предложил прогуляться вдоль фургонов, просто посмотреть, как веселится народ...
Ярмарка вынырнула из-под чахлых деревьев, с бледными от фабричной копоти листьями, — хилыми, вялыми листьями, тихо покачивавшимися на тонких ветвях. И дети на ярмарке тоже были хилые, вялые — уныло сновали они между фургонами, — у них не было денег на развлечения. Толпа посетителей давно поредела. Владельцы аттракционов без дела слонялись вокруг своих киосков и ширм. Оказалось, это паши старые знакомые. Встретили нас так тепло: как воспитатели — былых воспитанников детского сада. Я не без грусти подумала: «Может, они и есть наши истинные друзья, единственные наши друзья в этом городе, где все лишь мелькают, проносятся мимо друг друга».
В одном месте одиноким, покинутым чудовищем высилась карусель. Она стояла между деревьев, пустая, будто окостеневшая в своем одиночестве. Вздыбленные кони, коровы, зебры большими печальными глазами смотрели на нас под ожерельем огней. Краска облупилась с величественных лебедей, что, взмахнув крыльями, взлетали над сиденьями, заслоняя клиентов от посторонних глаз. Лебеди всегда привлекали влюбленных — жителей здешних окраин: примостившись в колясках между крыльями, скрытые от взглядов людей, они взасос целовались под музыку карусели. Лебеди были нарасхват.
Но сейчас опустели и эти коляски. Карусель с пустыми сиденьями крутилась, еще и еще, в надежде зазвать публику. Наконец она остановилась со стоном, со скрежетом в старом, изъезженном механизме. Словно всему этому вертящемуся зоопарку впору было погрузиться в спячку где-то вдали от городской суеты, чтобы по весне восстать от сна и вновь вывести на парад сверкающих свежей краской лебедей, похотливых жеребцов и всех этих печальных животных, пахнущих свежим лаком, который всегда прилипает к одежде первых посетителей ярмарки.
Вилфред взглянул на меня:
— Прощальный круг!
Но я не хотела и не могла себя заставить. Рядом стояла девчушка лет пяти, тщедушная, в красном бумажном платьице. Вилфред взглянул на меня, на нее: если я ничего не имею против...
Господи, если уж он настолько сентиментален...
Девчушка обернулась к нему сперва растерянно, изумленно, потом просияла, но тут же нахмурилась: с опасливостью пролетарского ребенка она не верила в нежданный подарок.
Он покорил ее за один миг. Худенькое детское личико будто налилось соком, глазки заблестели. Она улыбнулась ему, потом — несмело — мне, потом — снова ему. Неужто это правда? Да, правда. Бережно взяв девочку за руку, Вилфред подвел ее к сказочному оленю. Но олень не пришелся ей по душе. Она оглянулась кругом, цепенея от муки выбора. Вилфред осторожно спрашивал:
— Хочешь корову? Нет? Лебедя? Автомобиль?
Она выбрала коня, блестящего, ослепительного коня, свежевыкрашенного, сверкающего в ряду других коней, как новый золотой зуб во рту. Наверно, старый конь рухнул под тяжестью многих тысяч ребячьих тел, и хозяин вывел из конюшни и поставил на карусель нового...
Вилфред осмотрелся кругом. Хозяин карусели куда-то ушел. Устав от безделья, он, видно, отправился в ближайшее кафе пропустить стаканчик живительного. Но Вилфред знал, как завести карусель. Войдя под маленький балдахин, скроенный из потрепанной занавески, он запустил чудовище. Он вышел из-под балдахина в самый раз, чтобы успеть вскочить в седло. Под ним оказался олень, отвергнутый девчушкой...
Одинокое чудовище странным образом казалось еще более одиноким, заброшенным с этими двумя, столь разными пассажирами, кружившимися сейчас в свете фонариков.
Еще и теперь, стоит мне захотеть, — а сколько раз против воли, — передо мной возникает эта картина: карусель и на ней, на фоне ясного осеннего неба, два всадника — худенькая, длинноногая девчушка, и верхом на олене — Вилфред, странно возбужденный, с застывшей улыбкой. Карусель вертелась все быстрей и быстрей. Вот уже второй раз они промчались мимо меня, в третий... На лице девчушки все ярче расцветало блаженство, счастье, торжество, она весело кричала что-то своим друзьям — ребятишкам, следившим за ней с пригорка.
В четвертый раз промчались они мимо: девчушка на своем ослепительном жеребце, гордо запрокинув головку, за ней Вилфред на своем облезлом сказочном олене. Я видела, как карусель набирает ход. Но что-то как раз тогда отвлекло меня, и я на миг отвернулась в сторону. Я заметила лишь, что девчушка, не в силах сдержать восторг, повернулась на своем жеребце, очевидно, что-то крикнула Вилфреду...
Потом был вопль — вопль детей, но и взрослых тоже... И по-прежнему грохотала музыка, гремела и грохотала, а потом резко стихла...
Я выбежала вперед. На деревянном настиле, под застывшими в неподвижности конями, будто мертвец, лежал Вилфред. Руки его были где-то под балдахином, скрывавшим заводной механизм. Он не кричал — кричали другие: публика, дети, взрослые. Откуда их столько набежало сюда?..
Упавшая девчушка вскочила на ноги и вышла из-под коня... А он по-прежнему лежал не шевелясь...
Он не кричал, не издавал ни звука. И все знали, что случилось с ним; оказывается, они все видели и готовы были рассказать. Все видели, кроме меня. Они видели, как девчушка верхом на коне повернулась, закачалась и упала, видели, как Вилфред спрыгнул с оленя и подхватил ее в тот самый миг, когда подол ее платьица попал в мотор карусели. Все видели это.
Но я помогала высвобождать его тело из-под мотора. Пришлось вытаскивать его осторожно. Руку его придавило колесом — острым, жестким железом, еще и сейчас издававшим скрежет.
Я помогала, и вот мы вытащили его. Но правая его рука утопала в крови, превратилась в месиво из крови и лохмотьев пиджака, и в ней торчал маленький острый кусок железа. Вилфред был в сознании. И смотрел мне прямо в глаза. Он не сказал ни слова. Но улыбнулся мне.
17
Всегда ли только задним числом свершившееся представляется игрой судьбы, предопределенной каким-то высшим началом? Всегда ли только потом вырисовывается взаимосвязь?..
Дни счастья моего... все, что привело их к концу, было связано между собой точно кусочки мозаики!..
Картины — как забыть тот первый раз, когда я увидела их, — всю их громадность, извращенную громадность, и его страсть, знакомую восторженную страсть к извращенному, к разрушению естественных форм жизни и природы... И мое восхищение его руками, особенно правой рукой, столь искусной и ловкой. И вдруг она изуродована, разрушена — и она тоже...
Он и прежде твердил мне: надо спасать детей. Он страдал за них. Когда-то, так он мне рассказал, был ребенок, он упал, его не уберегли. Все дети падают — это у него была навязчивая идея. И всегда должны найтись руки, чтобы подхватить ребенка — спасти.
Мне претило разрушение... Не поэтому ли он прятал от меня в больнице свою перевязанную руку? Он всякий раз быстро прятал ее от меня, превозмогая боль, я видела это. Но он не хотел моей жалости, а в один прекрасный день не захотел, чтобы я приходила.
Сам он себя не жалел. Беда не ожесточила его. Он был теперь спокойней, чем когда бы то ни было раньше. Он прочитал в газете о новых усилиях, предпринятых художниками всего мира ради спасения франка. Но он не стал участвовать в распродаже картин, хоть его и пригласили. Наверно, за это время узнал из газет о том, как приняли его громадные холсты в Норвегии. Я тоже читала об этом, и мне было невыразимо больно за него. Но я уже не могла ему этого сказать. Он прислал мне письмо, написанное левой рукой. В нем говорилось лишь о моих лондонских гастролях. Вилфред хвалил своеобразные произведения англичан. Он написал мне: «Прощай!» И подчеркнул это слово.
Сейчас я сижу в его комнате, в доме на Пилестреде. Я жду его. Он не знает об этом. Но он придет. Потому что я хочу, чтобы он пришел. Должен же человек наконец найти путь, даже если он заблудился. Как далеки теперь дни моего счастья, хотя двадцать лет они живут во мне, и столько раз обдуман каждый миг... Двадцать лет. Но, кажется, все это было вчера. Ничего не изменилось с тех пор. Я даже не состарилась. Люди, которым не для кого жить, долго не старятся.
Я живу для моего искусства! Как он потешался над такими высказываниями! Смеялся без умолку. Пока в смехе не появлялось нечто зловещее. Он переигрывал в этом — и в этом тоже...
Но ведь только потом вырисовывается взаимосвязь всех событий...
А женщина, что родила от него ребенка?.. Я как-то встретила ее по чистой случайности. Она и вправду ушла от него, он не солгал. Это была простая душа, веселая, довольная жизнью натура. Он напугал ее. «В Вилфреде как будто всегда жило разом несколько человек», — сказала она. И, зная, что я захочу ей возразить, она тут же добавила: «Нет, нет, конечно, другие люди тоже оборачиваются разными гранями. Но хоть бы минуту побыл только тем, кого я выбрала, или тем, кто выбрал меня!»
Она показалась мне милой и славной женщиной. Значит, она лучше меня разгадала его — сплошь и рядом таково свойство простых душ. Она рассказала, что кормится ремеслом — разрисовывает на дому посуду для фабрики.
Ее он выбрал. И меня тоже. А я выбрала его. Он многих выбирал, я же — его одного.
Часть третья. ТЕПЕРЬ ЕМУ НЕ УЙТИ
18
Комната была длинная и узкая, с небольшим окном в эркере, нависавшим над тесным колодцем двора. От двери к окну по линолеуму вытоптали дорожку. Весенний ветер врывался со двора — с этого двора с двумя выходами в противоположных концах, вечно пронизанного сквозняком, — ветер вздымался вверх и дергал крючки на окнах. Будто вихрь в горном ущелье, поднимался он, принося с собой запахи, притекавшие от бочек с селедкой и ящиков с сыром, которые годами складывали у черного входа бакалейной лавки, принося также запахи уборной, находившейся во дворе, где торопливо справляли нужду ночные прохожие, забредавшие сюда с этой единственной целью или в лучшем случае чтобы распить бутылку, которую потом с шиком разбивали о стену дома.
Так комната стала как бы частью двора; она вбирала в себя все его запахи и шум. И сама она казалась недреманным оком, денно и нощно следящим за всеми дворовыми происшествиями.
Роберт протиснулся мимо плотного клубка людей в подворотне. Народ толпился здесь с самого утра, дожидаясь, когда кассирша столовой на втором этаже, окнами выходившей на улицу, спустится вниз и вывесит на парадной двери сегодняшнее меню. Как раз в эту минуту появилась кассирша. Роберт остановился: через головы ожидающих он стал наблюдать за церемонией вывешивания меню. Поднявшись на цыпочки, он прочитал его: сегодня давали рыбный суп, тушеную брюкву и мусс — продукт военного времени, столь хорошо знакомый завсегдатаям: бледно-сиреневого цвета, похожий на взбитый белок, вот только что яйцами там и не пахло. На новом меню были точно такие же пятна жира, как и на прежнем, которое унесла кассирша. Известно, других жиров в этом меню не отыщешь, подумал Роберт, как всегда стараясь скрасить шуткой невзгоды нынешних дней. Тихий вздох разочарования прокатился в толпе ожидающих, но эти забитые люди тут же покорно выстроились в очередь, вернее, она сложилась как бы сама собой...
Роберт пересек двор и бросил торопливый взгляд на окно в эркере. Никого. Отлично. Он ведь строго наказал «тому типу», чтобы не смел подходить к окну. В силу давней привычки Роберт всегда старался во всем отыскивать повод для радости. В ту минуту он еще не хотел признаваться себе, что с равным успехом это могло означать: «того типа» просто нет дома.
Он стал подниматься по лестнице, одолевая разом по две ступеньки и думая о том, кого теперь привык называть «тот тип». Не для того ли, чтобы в душе еще больше принизить его и убедить себя в одном: если в нынешнее опасное время он предоставил тому типу убежище, то сделал это лишь из скрытых патриотических побуждений, а отнюдь не из дружбы, вечной и неистребимой, пусть даже друг стал врагом.
На последних двух лестничных пролетах дело замедлилось. Странно, он ведь похудел, почти совсем бросил курить — вынужденная добродетель, порожденная недостатком курева, — а все равно будто свинец в руках и ногах. Истощение? Недоедание? Или, может, просто старость?.. Он отогнал эту мысль. Думать о старости — значит думать о смерти. А Роберт не любил давать волю неприятным мыслям.
Он трижды размеренно постучал в дверь и стал ждать. Потом повторил условный стук. Затем вынул из кармана оба ключа: один к главному, другой к дополнительному замку. Торжественная процедура. Он разыгрывал маленькую комедию для себя самого — всякий раз одну и ту же. Вилфред поселился здесь неделю назад. Одно время в этой комнате скрывался Биргер, тот самый, что в былые дни развозил сосиски в тележке Роберта. Минувшей зимой Биргер участвовал в дерзком налете на бюро выдачи продовольственных карточек. Знал ли Вилфред, что его сводный брат, восставший из мира теней, был одним из самых активных бойцов подполья? Когда-то он живо интересовался им. Потом интерес полностью исчез. А недавно исчез и сам Биргер: как многих других, враги бросили его в тюрьму.
Да, Биргера нет теперь с ними. С каждым днем редели ряды верных тружеников, неустанно сражавшихся с могучим врагом, изводивших его бесчисленными булавочными уколами, хотя время шло, а враг по-прежнему держал страну под своей пятой: по крайней мере он ничем не выказывал, что силы его подточены. Решающие события разыгрывались где-то в далеком мире. И все же, когда оттуда долетали радостные вести, от которых тайным торжеством распирало грудь, то думалось: бесчисленные булавочные уколы, нанесенные здесь, на обочине главных событий, тоже были небесполезны, и, значит, не зря смельчаки изводили ими могучего зверя.
Но за это приходилось расплачиваться. С каждым днем за это приходилось расплачиваться все дороже. Кое-кто говорил, что игра не стоит свеч... Всегда находились охотники разглагольствовать о результатах, те самые, что предоставляли другим таскать для них из огня каштаны, а сами сидели сложа руки в ожидании часа свободы, который неминуемо пробьет в свое время.
Подойдя к окну, Роберт глянул вниз в мрачный провал двора, где в вихре ветра, дувшего из обеих подворотен, кружились бумага и упаковочная стружка, выхваченные им из захламленных подвалов бакалейной лавки. Да, подворотнями как раз и был удобен двор. Всякий, хорошо знающий здешние места, мог незаметно выбраться через любой из двух выходов — то ли на улицу Пилестреде, то ли на Акерсгате. А если подняться на верхний этаж, там нетрудно было бы отыскать лестницу, ведущую на чердак, а оттуда — спуститься по другой лестнице к другому выходу. Словом, ловкий человек здесь не пропадет: он должен лишь все время сидеть лицом к зеркалу, вделанному в потолок прямо против окошка в эркере. Так можно увидеть всех, кто бы ни забрел во двор, а самому при этом оставаться невидимым.
Роберт там и уселся и принялся наблюдать за жизнью двора. Бог ты мой, конечно же, прибор этот сооружен не для него, впрочем, и не для Вилфреда тоже — придумал его квартирант, скрывавшийся здесь до Биргера. А теперь Роберт поселил в здешней каморке своего старого друга... и разве он не имел на это права? Ведь в последние два года он сам оплачивал эту конуру, как обычно, под чужим именем, но что уж значит имя по нынешним временам? Хозяин дома был свой человек, честный бакалейщик, старавшийся как можно лучше обслужить старых клиентов, да в придачу еще горстку новых, которых он прежде никогда и в глаза не видал и которых, как он сам понимал, ему не суждено было сохранить.
Бодрое настроение Роберта улетучилось, сменившись тревогой и раздражением. А вдруг того типа схватили... каждая из сторон могла сделать это. Нет, невозможно. Наверно, он просто шатается где-то, верный своей привычке, бредя куда-то загадочными и нелепыми своими путями, не понимая, что за ним охотятся. А впрочем, может, и вправду никто за ним не охотится, может, никто даже не следит за ним. А все же эти проклятые бессмысленные скитания куда как опасны... особенно сейчас. Потому что чувства у всех накалены и нервы напряжены до предела. Развязка уже близка. И кто может поручиться, что его опрометчиво не порешат... те, на кого возлагают подобные дела.
Вилфред всегда обладал губительным даром вызывать к себе сочувствие и интерес других людей. Он не напрашивался на это, совсем напротив, за дружескую заботу он всегда платил оскорбительной иронией, но друзья все равно не оставляли его: не считаясь ни с какими расходами, пренебрегая опасностью, они всеми силами старались его спасти...
А вдобавок еще эти картины, проклятые картины, они запали в душу Роберта, до того не имевшего ни малейшего отношения ни к живописи, ни к искусству вообще... картины эти чуть ли не превратили его в расхлябанного неврастеника без точки опоры в реальной жизни, хотя он всем сердцем ненавидел их, в особенности те огромные несуразные холсты, которые Вилфред тогда прислал из Парижа. На них нельзя было даже разобрать, где низ, где верх, а безграничная претенциозность заставляла публику разевать рты и с отвращением отворачиваться. Неужто задача искусства — навязывать людям ощущение тревоги, ощущение распада мира, в те годы — много, много лет назад — лучившегося уютом, прочностью и покоем... И неужто задача искусства — безобразно обнажать все, что, возможно, таилось и тлело в душе каждого, но что лучше было бы не осознавать, не выпускать на свет божий, если хочешь и впредь наслаждаться покоем и счастьем?..
А скитания эти! Зачем только этот тип сбежал из своего убежища, коль скоро уж кто-то взял на себя труд позаботиться о его безопасности...
Фру Саген... Роберту лишь дважды приходилось с ней говорить за все эти долгие годы, в первый раз — много лет назад во время случайной встречи на выставке тех самых картин — и вторично уже теперь, в нынешнюю войну; совсем недавно она тайно послала за ним и пригласила его к себе домой на Драмменсвей: она ломала руки — да, да, именно ломала свои красивые белые руки, никогда не знавшие грубой работы... Одинокая страдалица-мать, изнеженная женщина, в свою очередь изнежившая ребенка, который и не был ребенком, когда им был, но и не сделался взрослым с тех пор...
Наверно, мольбы испуганной матери и толкнули Роберта на эту идиотскую жертву — отдать свое тайное убежище, принадлежащее не только ему, но и всей группе, в распоряжение неблагодарного обманщика, даже не считавшего нужным извещать его о своих отлучках, куда бы он ни умчался в погоне за ответом на загадки, которые сам себе загадал, хотя, даже если он отыщет разгадку, ни одному человеку на свете не будет от этого ни малейшей пользы.
Поднявшись с места, Роберт стал беспокойно кружить по каморке. Да, комнатка была невелика, и, может статься, тот тип ощущал себя здесь узником в еще большей мере, чем если бы... но вся беда в том, что он не понимает, каково на самом деле быть узником, будто и не страшится этого, не боится, что его и впрямь могут, схватить. Не боится? Но разве он не был во власти страха? Конечно, был — в ту ночь, когда попросил приюта у Роберта, уж конечно, что-то он тогда натворил...
Снова вдруг вспомнились те самые картины. Господи, ведь этот тип сам говорил в ту пору, что они ровным счетом ничего не означают. У него не было ни малейшего намерения, заявлял он, символически отобразить ничтожество человека, его страх. Кстати, произнося слова: «символически отобразить», этот тип насмешливо кривил рот и гримасничал, ленясь подыскивать собственные слова, чтобы заклеймить простодушные выводы собеседника.
И вот теперь он, Роберт, хоть, может, и над ним самим тоже нависла угроза, должен сидеть здесь, теряя драгоценные часы и к тому же еще размышляя о том, что же этот гений двадцать лет назад хотел сказать своими картинами, — всей этой мазней, разозлившей порядочных людей, любящих в жизни гармонию и красоту.
Этот тип вообще не заслужил, чтобы его старались спасти. Сам он ничего дельного не предпринимал, только шатался где-то без всякой цели, бежал из города, припадая к природе, забивался в какую-нибудь дыру, где мнил себя в безопасности или, напротив, где ни в чем не мог быть уверен, бродил и искал, по его словам, нечто такое, что нежная его душа некогда утратила в былом, ныне исчезнувшем мире...
Роберт взглянул на часы. Он подождет еще минут пятнадцать. Сядет спиной к окошку и уставится в зеркало, следя за всем, что творится во дворе, но только ровно пятнадцать минут, и ни минуты дольше. Ему нужно уладить уйму дел, встретиться с разными людьми. Ведь он живет реальностью, и будни его увлекательны. Он трепетал от радости, от сдерживаемого торжества, предвкушая новости из Лондона, которые он скоро услышит — в другом доме, куда допускаются лишь посвященные. Он радовался будням, подарившим ему подлинную жизнь. Такие будни надо беречь — наполненные дружеской близостью и общностью с настоящими людьми, чей каждый день насыщен трудом и мукой, уж они-то не бросятся в погоню за химерами, созданными собственным воображением.
Еще четверть часа — и конец. Конец всему, даже если им когда-нибудь еще суждено встретиться — здесь ли, на улице или где бы то ни было. И без того его измучила совесть: ведь он позволил подлому изменнику родины — если, конечно, правда все, что о нем говорят, — воспользоваться приютом, предназначенным для более достойных людей. Да, если этот тип сию секунду появится в дверях, Роберт скажет ему несколько суровых слов. К черту реверансы, к черту всю эту жалость!
Хотя... сам-то он в конце концов ничего толком о нем не знает, да и как-никак они — старые друзья.
Нет, он подождет еще четверть часа, и ни минуты больше. Вдруг Роберт вздрогнул. Может, ему лишь показалось, будто в зеркале, вделанном в потолок, мелькнул знакомый силуэт? Карикатура... В следующую секунду он уже был у окна и, перегнувшись через подоконник, глянул вниз. В провале двора он увидел Вилфреда, это несомненно был он. Очевидно, преломление света в зеркале так исказило его облик. И все же что-то странное, непривычное померещилось Роберту и в самой худощавой фигуре, маячившей там, внизу, в колодце двора. Затем силуэт исчез.
Подойдя к двери, Роберт стал прислушиваться. Ждать пришлось долго. Шаги медленно поднимались по лестнице. В тот самый миг, когда «этот тип» должен был взяться за ручку двери, Роберт рывком распахнул ее. Вилфред сказал своим обычным надменным тоном, который облегчал задачу порвать с ним раз и навсегда:
— Как называется игра, в которую ты сейчас играешь? Наверно, «Патриот и изменник родины»?
Они стояли друг против друга. Вся решимость Роберта покинула его... Тон у Вилфреда был прежний, но сам он изменился до неузнаваемости. Роберту он напомнил людей, изображенных на снимках, которые тайком выносили на волю из концентрационных лагерей. Глаза в огромных глазницах были противоестественно велики. Черты лица заострились. Светлые волосы, тронутые сединой, мертвыми прядями свисали со впалых висков, а рука, которую он протянул Роберту, походила на коготь. В его худобе было что-то зловещее.
— Очень мило с твоей стороны — дождаться меня здесь, наверно, я доставил тебе уйму хлопот... — Вилфред огляделся: — А эта комната... конечно, она нужна вам для более важного дела, зачем ей пустовать, раз я все равно здесь не живу.
Он бросился на кровать.
— Нет ли у тебя чего-нибудь выпить? Сейчас главное — выпить. А после ты избавишься от меня. И спасибо тебе за все.
Вилфред выпалил эти слова будто урок, будто желая во что бы то ни стало опередить собеседника. Значит, и на этот раз он обо всем догадался. Роберт вновь почувствовал прилив раздражения. Вечно он перехватывает у него инициативу — всегда, при каждой встрече, — этот старый друг, которого он сейчас почти ненавидел. И все же невольно Роберт уже полез в карман мятого плаща, который постоянно носил, и вытащил бутылку. Вилфред, не глядя, протянул руку, схватил бутылку и отпил из нее большой глоток. Роберт заскрежетал зубами, с трудом сдерживая раздражение. И тут она очутилась перед ним — Вилфред, опять же не глядя, протянул руку, Роберт должен был взять бутылку, но не взял — этот тип мог бы потрудиться и вернуть ее другу с большей учтивостью.
Тогда желтая, как воск, рука описала дугу и вновь поднесла бутылку ко рту. Роберт увидел, как водка в ней убывает. Он подошел к Вилфреду и грубо выхватил у него бутылку.
— По-моему, довольно с тебя!
— Еще бы! Свиное пойло!
Роберт прокашлялся.
— Ты не ошибся, я хотел говорить с тобой о комнате...
Но Вилфред перебил его:
— Знаешь, это излишний разговор. Через полчаса я уйду, — ничего, не задержу тебя? А сейчас — или поговори о чем-нибудь другом, или вообще заткнись.
Он улегся на бок и тяжело задышал.
Роберт взглянул на часы. Намеченные им пятнадцать минут давно прошли. Он попытался овладеть собой:
— В любом случае — сейчас не время укладываться спать...
Вилфред на кровати поднял правую руку.
— Заткнись наконец, черт бы тебя взял, хоть на одну минуту! — И тотчас же притворился, что спит. Вилфред всегда притворялся, что спит, чтобы его оставили в покое. Прошло совсем немного времени, и он вскочил с кровати.
— Ну, что ты молчишь? Давай, теперь выкладывай! К тому же я не прочь выпить еще.
Роберт протянул ему бутылку и снова увидел, как быстрыми рывками стала убывать водка. Вилфред тяжело опустился на край кровати.
— Ты, конечно, хотел бы кое-что узнать от меня, — сказал он, — кое-что узнать в награду за твои благодеяния. Первое: есть такой молодой человек по имени Кнут Люсакер, студент, только не притворяйся, будто с трудом припоминаешь, о ком я говорю... Вы должны непременно спрятать его. Он слишком долго исполнял задания, сейчас пора его спасать.
Роберт забыл всю свою досаду.
— Так ты думаешь...
— Не важно, что думаю я. Они взяли его на заметку. У них есть люди, которые подосланы к здешним патриотам... нет, нет, не воображай, будто я хочу втереться в доверие... мне оно ни к чему...
— Ты точно это знаешь?
— Да, точно. У меня есть немецкий друг, брат. Нет, нет, опять ты не то подумал... он самый обыкновенный прохвост, хотя, впрочем, может, и не такой уж обыкновенный, я же сказал тебе, что он мой брат...
— Как это так — брат?
— Самый настоящий брат, какого человеку, не знавшему ни братьев, ни сестер, может, удается обрести раз в жизни, а откуда он — из Пенсаколы или с Марса, — уж это не имеет ровно никакого значения. Когда-то, может, помнишь, меня очень интересовал парень по имени Биргер, да, конечно, я знаю, что он один из ваших людей, вот он настоящий брат по крови — мой сводный брат. Сверх этого что-то роднило нас, и уж одно смутное это родство пугало меня. Оно делало меня сентиментальным... словом, он угрожал моему одиночеству — ты же знаешь, я хотел, чтобы оно было полным... Дай-ка сюда бутылку.
И снова Роберт протянул ему бутылку, но на этот раз Вилфред лишь пригубил водку и вздрогнул от отвращения!
— Как только вы пьете этакую гадость!.. Да, ведь мы толковали о Биргере. Он досаждал мне одним фактом своего существования. Да, я знаю, он арестован. Да, я слегка к этому причастен. Да, да, можешь глазеть, сколько хочешь. Не будь войны, кто знает, может, я убил бы его. Потому что, даже будь мы друг от друга на расстоянии тысячи миль — все равно слишком велика была моя тоска по брату, чтобы я мог примириться с тем, что он существует, разумеется, когда понял, что у нас нет ничего общего, что мы рознимся в самом главном...
Роберт с отчаянием проговорил:
— Может, его все равно бы арестовали...
— Несомненно. Но я хотел быть к этому причастен, понятно? Хотя мы только что говорили о другом. О моем немецком друге. Ты не знаешь его, пусть он останется безымянным, как все, кто носит мундир. Я сейчас отправлюсь к нему. Не знаю, что из этого выйдет. Но я должен видеть его еще раз, говорить с ним. Я должен узнать, одно ли мы с ним существо или же нас двое, верно ли, что мы с ним — порождение чьей-то грозной и тайной воли, пожелавшей, чтобы родились два одинаковых существа, и что миллионы людей должны были умереть ради того лишь, чтобы пересеклись наши пути...
Роберт сказал:
— Ты устал. Можешь отдохнуть здесь — до завтра.
— Ты думаешь, что я сошел с ума, но ты ошибаешься... впрочем, вряд ли тебе все это интересно.
— Отчего же, по старой дружбе...
— Нет, нет. Я охотно останусь здесь еще часа два-три, может, даже до утра, не знаю. Не забудь, что я сказал тебе про того студента. Он помог спасти группу беженцев — сам знаешь какую. Может, он и есть тот герой, о котором, помнишь, вы все толковали, тот, что совершил подвиг у границы. Кнут Люсакер сделал свое дело. А теперь — переправьте через границу его самого и пусть он прихватит с собой Лилли и ее мужа, того, что все зовут Лосем, — надеюсь, ты помнишь Лилли, бывшую нашу горничную в доме на Драмменсвей, о которой я тебе рассказывал? Когда-то я чуть не извел ее своими проказами. Но она еще жива! Студенту все известно про нее и про Лося. Прими меры немедленно, сегодня же вечером или ночью. Сейчас граница трещит по всем швам. Дело идет к концу, говорю тебе.
Роберт слушал его будто завороженный. Раздражение оттого, что он должен вот так сидеть, выслушивая распоряжения изменника, смыла огромная теплая волна надежды...
Роберт поднялся:
— Можешь оставаться здесь, сколько хочешь...
— Только до вечера или самое большее до утра. Я должен встретиться с ним, с братом моим, и что-то непременно произойдет при этом. Только ты уходи сейчас, я захмелел и хочу спать. Ступай, говорю тебе, отыщи этих твоих друзей. Вот тебе ключи от комнаты, возьми их сейчас, а я просто захлопну дверь. Ступай, сказал я. Ты мне надоел. К тому же я пьян, ну и дрянью же ты меня накачал!..
Роберт слегка помешкал. Он увидел, как голова друга откинулась на подушку. Лицо его походило на маску мертвеца. Взяв ключи со стула, Роберт тихо подошел к двери.
19
Мерзкий зверь по-прежнему держит в когтях страну. Но порой люди забывают об этом: кому не хочется глубоко вздохнуть посреди забот и ощутить в своем сердце радость? Подчас она незаметно прокрадывается в душу, чтобы затем уже прочно поселиться в ней. Так остро нужна человеку радость, что порой она сама приходит к нему незваная — как спасение.
Стоит ясная апрельская ночь. Светлая радость может сейчас прихлынуть к кому угодно — хотя бы уже потому, что зимняя тьма отступила, и велик ли грех, замечтавшись, спутать эту тьму с самым мерзким зверем, что налег на страну всей своей тяжестью, — тьму да холод, еще недавно кусавший мочки ушей. Холод отступил под напором теплого воздуха с юга, хотя порой еще налетает ледяной северный ветер. А все же что-то носится в воздухе — не то тоска по несбывшемуся, не то угроза... Сплошная холодная мгла, без начала и без конца, дала трещину.
В городе, где пламенеет надеждой рассветный луч, блеснувший на каком-нибудь старом карнизе, изъеденном многолетней пылью, и на побережье, над фьордом, у выхода к открытому морю, где замирает шторм, — повсюду в шуме ветра слышится иная музыка — уже не прежний однообразный рев, будто из глотки взбешенного безумца, волнующий смутный свет напоен звуками, сливающимися в песнь тоски и надежды, она летит над пустынными грядами холмов, что тянутся миля за милей мимо редких скоплений домиков, пугливо теснящихся друг к другу, притихших, с темными окнами: кажется, будто они сбежались сюда, гонимые одним и тем же страхом, да так и застыли на месте, не смея разойтись.
Зато внизу, в лощинах городских улиц, по-прежнему притаился густой мрак. Ночь почти не знает прохожих. Ничто не манит человека на улицу, отовсюду грозит опасность. А те редкие прохожие, что все же бредут ночным городом, жмутся к домам, возле них им не так страшно. Безжизненно распростерты улицы, взрезанные рельсами, изуродованные разбитыми тротуарами. Над ними фонари с приглушенным светом, будто глаза слепца. Страшно брести в этом полумраке, который может скрывать все что угодно. У самых домовых стен и вовсе темно. Но там как-то покойней, словно ты уже вошел в дом.
А в доме покойно, для многих почти безопасно; но для других еще страшней, чем на улице, да только все равно надо ведь где-то быть.
Дома порой так жутко, что даже стены не защищают, а будто таят угрозу. Если не дай бог случится что-то, они помешают бежать. Если вдруг задребезжит звонок или тяжелые удары в дверь возвестят, что они уже здесь. Все слышали резкие крики в ночи, в страхе прислушивались и наконец успокаивались на том, что, видно, пришли к соседям, словно это менее жутко... и многие прятались под одеяло, утешаясь мыслью, что пришли не за ними.
Конечно, они стыдились этого, стыдились столь позорного утешения. У них нет зла на соседей, напротив, соседи — милейшие люди, с которыми им не раз случалось перемолвиться несколькими словами на лестнице. И все равно хорошо, что пришли за ними, то есть это ужасно, но все же лучше, чем если бы пришли за тобой. Своя рубашка ближе к телу.
А то нет, что ли? Однако многим это утешение не впрок. Некоторые сочувствуют страждущим так горячо, будто беда настигла их самих. Но от этого страждущим не легче.
Есть и такие, что спешат по улицам, прижимаясь к стенам домов, чтобы спрятаться в их тени, скрываясь от зорких, высматривающих глаз. Для этих своя рубашка не ближе к телу. Получив сведения из тайных источников, люди эти держат путь к другим — незнакомым людям, чтобы их предостеречь. Иные из них вооружены — те, кому поручено свершить возмездие или же угрозой добиться своего; но, может, они несут кому-то весть о его родных или же другую весть из большого мира — неутомимые люди, которым «ближе к телу» чужое горе, по крайней мере в эту ночь.
И ночь эта затаила угрозу. Опасность подстерегает прохожих на каждом шагу. Многие считают, что так или иначе близок конец. Но это не умаляет угрозу — напротив, умножает ее, однако людям, чей ум затуманен тайной радостью, опасность кажется меньше. И оттого они бывают неосторожны. Многие исчезают в такие ночи. Исчезают, даже не успев замести следы, а значит, ставят под угрозу других...
В свете тоже разлита угроза — в свете, который предвещает весну, и в отсвете объятого огнем мира, где совершается главное, где уже предрешен конец... Много знают люди такого, что наполняет сердце надеждой и торжеством. Но ведь так бывало и раньше. Каждая новая весна приносила с собой мимолетную надежду и радость. Но то был обман. Слишком рано начали надеяться люди. А это опасно — начать надеяться слишком рано и поступать, вдохновляясь ложной надеждой. Гнусный зверь не сдвинулся с места. И повсюду простер свои щупальца.
Многого люди не знают. Кажется, зверь повсюду простер свои щупальца, недремлющим оком следит он за всеми и каждым. Но внезапно случится такое, что поневоле поверишь, будто зверь уже сдался или попросту уснул. И тут вдруг он опять занесет одну из своих страшных лап и ударит.... Никогда нельзя знать...
Может, напротив, следует ждать беды. Грязный зверь может еще больше рассвирепеть, поняв, что дни его сочтены. Часто слышишь теперь: то одного, то другого из лагеря зверя нашли ночью где-нибудь под забором, валялся, будто порожний мешок: «наложил на себя руки». Вот только что проку от этого? У зверя столько щупалец, их и не сосчитаешь. И не могут же они все сами покончить с собой.
Нет, зверя не прогонишь весенним ветром, полоской света. Надежда и тоска — неверные предвестники счастья. Люди, просыпающиеся ночью в своей кровати, быстро переворачиваются на другой бок и баюкают себя надеждой. Но в следующий миг ее уже нет как нет, а люди лежат, чутко прислушиваясь к шагам, раздавшимся где-то вдалеке, то приближающимся, то снова тонущим в других звуках; люди лежат и прислушиваются, не раздадутся ли опять шаги. И надежда тает с каждым мигом, хоть люди всеми силами и цепляются за ее тень. И скоро ничего уже не остается от прежнего света — предвестника покоя и счастья, маленькой звездочки, зажженной человеком в собственном сердце.
Звездочка гаснет, а люди лежат, вглядываясь в немую тьму, и видят, что ночь медленно отступает. Тут они и замечают рассвет за окном. Конец сну, конец ложным надеждам. Что ж, по крайней мере хоть забрезжил день. Он медленно набирает силу.
А быстрые шаги во тьме, чьи они? Может, это спешат верные люди, чтобы выполнить тайное задание? Или же то зверь рассылает свои патрули, и об их злодействах мы узнаем на другой день из сообщений, составленных в непререкаемом тоне: «Понесли заслуженную кару...»
«А ты знал его?» — «Так я же только на той неделе его видел!» — «Господи, у него ведь четверо детей...»
Дрожь ужаса пробирает людей, беда кажется еще более непостижимой оттого, что «они ведь знали его». Но если они не знали «его», — все равно это непостижимо. Он же однофамилец такого-то и тезка кого-то другого, он же носил коричневые ботинки и фетровую шляпу. И сразу вспоминаешь других, у кого тоже четверо детей. Одни вдруг начинают страшиться каждого своего шага, уничтожают какие-то письма и бумаги. Воровато оглядываются по сторонам у себя на фабриках, в конторах. Совершая обычные покупки, ведут себя более робко и приниженно, чем вчера. Они рады бы превратиться в маленьких серых мышек, тех, что могут спрятаться в расселинах стен.
Другие, напротив, совсем утратили осторожность. Впереди еще много дел. И сейчас надо торопиться больше прежнего именно потому, что произошло что-то ужасное.
Значит, это они спешат по ночам вдоль улиц, прижимаясь к стенам домов. Это те, кому своя рубашка отнюдь не всегда ближе к телу, те, кто не верит, что все само собой обернется к лучшему. Они хотят подтолкнуть время вперед, навстречу тому, чего все ждут, — навстречу Концу!
Дальше этого никто не смеет заглядывать... Люди лежат по ночам с пересохшим горлом и прислушиваются. Там, за окнами, творится многое, о чем они могут только догадываться, о чем знают лишь понаслышке. К счастью, о многом часто можно узнать от людей. И оттого — хорошо собираться вместе: на службе, в очередях, даже если при этом воровато оглядываешься по сторонам: «Нет, кто бы подумал, что вот тот или вот этот...»
А все же поверить можно: чего только не услышишь нынче! Зверь добился своего. Он заронил яд в тело, которое он сосет... Пора наступить концу.
Эти апрельские ночи, как вынести их, как вытерпеть? Они такие долгие, куда дольше зимних ночей, ведь в апреле светает рано, а день все равно наступает поздно. Днем люди встречаются и заводят тихий разговор, стараясь ободрить друг друга, особенно после такой ночи, когда зверь нанес очередной удар. Они подбадривают друг друга, хоть и говорят о свершившейся беде — тем лишь, что люди говорят с людьми.
Сейчас в центре города стоит точно такая ночь. Улицы почти пустынны. А когда свет начинает ласкать изъеденные временем карнизы, словно бы сотворяя их из ночи, люди и подавно стремятся укрыться в домах — даже самые деятельные из них и отважные, не оставляющие своей бескорыстной работы и теперь, хотя кругом происходят такие ужасные вещи.
Из одного дома в центре города небрежной походкой, с независимым видом вышел худощавый мужчина. Шагая по самой середине улицы, он то осматривался кругом, то глядел на часы, очевидно, спешил к раннему поезду. Он будто бросал вызов пейзажу из камня и стен, пытавшемуся притвориться безвинным, но притом скованному страхом. Если кто-то стоит сейчас у окна, за темной шторой, лишь у самого подоконника оставившей узкую щель, то, наверно, он подумает: куда спешит этот человек в столь ранний час, что он замыслил? Доброе или злое дело? Кто он — охотник или дичь?
Человек шел по улице свободным и вольным шагом — казалось, он принял решение, сбросил с себя гнет страха. Он спокойно шел по середине улицы и держал путь к вокзалу.
20
Прогулка вдоль побережья была великолепна. Каждый миг ее будто воскрешал благословенное прошлое — все, что некогда было и ушло. Силой мысли он пытался его удержать, однако оно ускользало, всякий раз ускользало... Но даже боль эта была сладка.
Над морем висел голубой туман — будто дым господней сигары. Ветер приносил с суши пряные запахи земли. Светлые березовые рощи навевали легкую радость, уготованную всем, кто бы ни шел своим путем в этом благостном мире.
Но никого больше не было — был один-единственный человек в этом счастливом мире, где за каждым поворотом дороги ждали путника новые радости.
Счастье нового дня поселилось в его душе с той самой первой минуты, когда он сошел с автобуса, весело помахав на прощание шоферу, который тут же повернул свою видавшую виды машину, чтобы повести ее назад, к унылой будничной службе в маленьком городке. Вилфред шел по дороге между холмов, и кровь его пела. Будто каждый камень, мокрый от росы, тихо говорил с ним неслышной речью — на языке, понятном лишь им обоим.
Мягкие волны накатывали на песчаный берег, шепотом поверяя ему свои тайны, бурые водоросли качались на них взад и вперед, смиренно и ровно, точно говоря: да, здесь наша жизнь и мы ею довольны. С горизонта поднималась смутная дымка, она быстро таяла под крепнущими лучами солнца. Чайки выписывали свой белый узор на сини неба, будто усеянной жемчугом, — это море отражало прохладные лучи солнца, с каждым мигом набиравшего силу...
Неужели эти жемчужные россыпи обрамляют картину мира, полного страха и злобы? Даже его собственные легкие шаги по тропке, казалось, опровергали это. Неведомая даль дарила ему загадочное ощущение счастья, и оно несло его вперед, между пологих холмов к морю, где слышался равномерный плеск ленивых утренних волн, холодными языками лизавших гладкие прибрежные камни. А с другой стороны — с суши — эти терпкие запахи, эта песнь пробивающейся листвы, свежий пар от скудного мха на скалах, отточенных до совершенства...
Никто не отозвался на его стук, когда он подошел к дому. Раз-другой он подал голос, надеясь, что его услышат, и все время чувствовал, что за ним следят. Он обошел вокруг дома, поочередно подходя к каждому окну, и сквозь стекла разглядывал одну комнату за другой. Увидел погасший камин, у которого стояли низкие кресла так, как будто большая компания гостей только что встала и покинула их. Но не было ни рюмок, ни другой посуды на столах, ни вообще каких-либо следов пребывания людей. На кухне чисто вымытые тарелки и чашки стояли на обычных местах. Вилфред знал педантизм Морица, его любовь к порядку. Неужели он уехал — бежал от опасности и беды, не дав себе даже труда известить об этом друга, более того — спасителя?
Все это время его не покидало гнетущее чувство, будто за ним наблюдают из какой-то совсем близкой точки, посмеиваясь над его тщетной беготней вокруг дома. Будто сам он подглядывает чужую жизнь, но кто-то в то же время подглядывает за ним, а за этим вторым человеком подглядывает вся окрестная природа, полная знания всех унизительных человеческих тайн... У него мелькнула мысль, что его могут подстрелить; что ж, если кто-то сейчас выстрелит в него сзади, без промаха попадет ему в спину, чувствующую угрозу, что ж... может, это и будет желанное избавление, которого жаждет все его существо?..
Со стороны моря донесся резкий смех. Он обернулся. Каменная беседка. Ну, конечно же. Мориц сидел в этой маленькой естественной крепости с видом на море, где в гребне каждой волны сверкали огни отраженных лучей солнца, рассеивающего дымку утреннего тумана, в крепости с видом на море, откуда просматривалась также и суша, где стоял дом...
Вилфред быстро сбежал по склону холма к беседке. Она была обращена открытой стороной к морю, а закрытой — к суше, и случайный путник не мог бы сверху увидеть того, кто в ней расположился. Сойдя вниз по пяти каменным ступенькам, Вилфред очутился у фасада, обращенного к морю. На каменной скамье сидел Мориц. Он сидел в своей излюбленной позе, расслабившись и одновременно настороже, будто зверь, готовый сорваться с места при малейшем шорохе. Перед ним на каменном столике стояли бутылка мозельского и две рюмки. Вилфред огляделся вокруг.
— А где Марти?
— Она ушла месяц назад, даже не простившись со мной.
Он холодно взглянул на Вилфреда: казалось, был доволен, что тот так и не понял, в чем дело. Вилфред недоуменно посмотрел на вторую рюмку.
— Это для тебя — на случай, если ты зайдешь. Или для кого-нибудь другого. Сюда ведь не часто кто-нибудь забредает. А ты был похож на вора, да, на взломщика, когда крался вокруг дома, заглядывая в окна.
— Ты мог бы окликнуть меня. Я не люблю, когда за мной следят.
— Никто не любит! — коротко и холодно отрезал его собеседник. Он налил гостю вина. Бутылка была уже наполовину пуста. Словно в ответ на немой вопрос, Мориц наклонился и выудил из густой тени под столом вторую бутылку.
— Неужели она ушла без всяких объяснений? Не оставила даже записки?
— Записки не было. Твое здоровье!
Мориц поднял рюмку. Прохладное мозельское вино, будто огнем, опалило ему глотку.
— Одним врагом больше, — сухо произнес Мориц. — Одним опасным врагом больше. Кстати, почему ты так беспокоишься о Марти? Простой вежливости ради следовало бы сначала спросить, как поживаю я!
Они сидели друг против друга, как много раз за время их знакомства. Прекрасное свежее утро, казалось, вобрало в себя все сущее — теперь Вилфред даже не мог вспомнить, что вообще привело его сюда.
— А сам ты как поживаешь? — спросил Мориц.
Как он поживает? Он ушел в подполье, как теперь принято выражаться, скрывается — прячется, попросту говоря...
Мориц спросил:
— Но ты по крайней мере хоть жив?
Странный вопрос. Вилфред ведь и вправду жил как бы вне мира. Вся его прежняя энергия, казалось, покинула его. Он нашел приют в маленькой каморке на улице Пилестреде. Прятался там, как мелкая зверушка в норе, и не искал связи с миром.
— У тебя скверный вид. Не побывал ли ты часом в тюрьме? Теперь ведь такая мода...
Да, он побывал в тюрьме — своей собственной. Он долго был там. А теперь его расспрашивают об этом, и в вопросе — одновременно озабоченность и насмешка. Вилфред покачал головой. Он думал о Марти. Он слышал о ней от Роберта, тот рассказывал, что она пошла по рукам и вообще чудит — просто совсем опустилась.
Мориц устало улыбнулся.
— Похоже, нам обоим приходится худо. Я получил новое назначение, вот-вот смоюсь. Злые языки утверждают, что мы все вообще скоро смоемся отсюда.
Да, злые языки это утверждают. Роберт так и сиял от восторга, предвкушая эту минуту. А вообще-то, что стал бы делать Вилфред без Роберта все это время и почему именно Роберт так печется о нем?
Мориц поднял рюмку:
— Ты что, приехал сюда, чтобы не раскрывать рта?
Вилфред часто задумывался об этом. У Роберта есть все основания поступать прямо противоположным образом... Неужели и впрямь существует нечто зовущееся дружбой?
Он заставил себя поднять рюмку.
— Я приехал повидаться с тобой.
Он понял вдруг, что ненароком сказал правду. Чудесное утро вдруг застыло, оцепенело, новый день будто затаил дыхание в недобром предчувствии. Конечно, не мог же он приехать сюда без всякого дела.
— Ты явился, как говорится, к самому отходу поезда...
Дорогой Вилфреду мнилось, что его влечет сюда некая определенная цель, но все это отошло куда-то далеко. Все, что терзало его день и ночь в унылой каморке на Пилестреде. Он должен избавиться от чего-то... Но сейчас его мучило смутное чувство вины перед Робертом: вот Роберт не умеет долго ненавидеть кого-нибудь...
— Из Германии приходят дурные вести, — продолжал Мориц.
Вести — вот что сейчас больше всего занимало Роберта. Как он радовался им и как горевал, когда удар настигал кого-то из его товарищей по борьбе. И все же горе не убивало его. У некоторых всегда есть в запасе радость — спасение...
— ...Так что, наверно, это наша последняя встреча.
Вилфред слишком долго жил взаперти и теперь никак не мог сбросить оцепенение. Морица тянуло на исповедь. Но между ними стояла стена. Всем существом своим Вилфред был сейчас в каморке на Пилестреде — куда больше, чем во все то время, когда он и вправду там был.
— Враг? — повторил он, вдруг возвращаясь к прежнему разговору — разговору о Марти: — Да что ты, ей все безразлично, она просто дура!
Но Мориц, казалось, только и ждал повода заговорить о ней:
— Ты ошибаешься. И вообще все эти слова — умный, дурак — ничего не значат. Марти — артистическая натура, а значит, впечатлительна и в некотором роде творческая личность. К тому же она лжива, впрочем, одно без другого не бывает. Она лжива и притом простодушна, а простодушный лжец сплошь и рядом говорит правду, как она, к примеру, сказала мне правду о тебе.
— Ты что, сегодня настроен философствовать?
— Да, я настроен философствовать. Все это время я много размышлял. И решил принять кое-какие меры.
— И какие же меры ты принял?
— Да никаких...
Они избегали смотреть друг на друга. Они глядели на сверкающую гладь фьорда...
— Вы что, поссорились с Марти?
Мориц отпил из рюмки, потом прижал прохладное стекло ко лбу.
— С Марти невозможно было поссориться. Она сама говорила все, что хотела, а ответов не слушала. Просто мы оба были в скверном расположении духа.
— Причина?
— Не было никакой особой причины. Просто в одно прекрасное утро мы проснулись в скверном расположении духа, оно возникло, как возникает день. А потом от него не отделаешься, пока не зайдет солнце. Но скверное настроение не покидало нас при солнце, как и при луне. Так мы и жили. Я тоскую по ней...
— Почему ты называешь Марти артистической натурой?
Вилфред отвел взгляд от смутной линии горизонта, который, казалось, то отдалялся, то приближался по воле волн, игравших светом, волшебно преображавших все расстояния. Его собеседник сидел, вертя в руке рюмку, — в худой, но крепкой жилистой руке.
— Разумеется, Марти не «интересовалась», как принято говорить, каким-либо видом искусства, это не в ее стиле. Она не принадлежит к числу дам, без которых не обходится ни одна генеральная репетиция, ни один вернисаж. Дамы эти бездумно вращаются в кругу, не имеющем ничего общего с искусством. Твой друг Роберт — вот он человек искусства. Наверно, он не в состоянии отличить Боннара от Пикассо, но зато у него есть личность, которую он стремится выразить, и для этого есть по меньшей мере две возможности.
— Почему ты вдруг заговорил о Роберте? Вот уж совсем безобидный человек.
— Не может быть безобидным тот, кто сам обижен. Откуда мне знать, во что мог ввязаться такой человек, как он? Большинство людей лишь в последний момент вспоминают, что надо спасать свою шкуру... Впрочем, речь не об этом, я просто хотел сказать, что он поразительно свободен от утомительной тяги к идеализации всего и вся, — право, есть что-то болезненное в этой извечной германской черте. Вот англичане смотрят на все с практической стороны... Черт побери, отчего ты не остановишь меня? Мне так недоставало тебя все это время!
Только теперь Вилфред заметил, что в нескольких шагах от них в траве лежали, сверкая на солнце, пустые бутылки. Значит, мрачное глубокомыслие Морица — всего лишь плод долгого общения с отменным немецким вином...
— Ты ведь, кажется, говорил о Марти?
— Да, все было связано между собой: Марти и нынешнее положение в мире... В простодушии Марти, в ее серьезном отношении к мелочам я чувствовал, признаюсь, какую-то силу. Это смущало меня. Я должен сказать тебе одну вещь... — Мориц подался вперед и с нарочитой доверительностью продолжал: — Я по-своему любил эту женщину. Ее простодушная лживость, нелепая вера в добро — все это трогало меня, а ее провинциальная порочность словно бы возвращала невинность мне самому...
Вилфред пожал плечами: какой смысл обсасывать пустячные переживания — но, казалось, Мориц отрешенно готовится к чему-то, чего уже нельзя избежать.
— Почему ты говоришь в прошедшем времени? — спросил Вилфред. — Будто все у нас уже позади...
Мориц коротко рассмеялся:
— А разве не так?
В тот же миг в руках у него оказался револьвер; очевидно, он незаметно вытащил его из кармана.
— Комедиант! — сказал Вилфред. Ему нравилось дразнить Морица. За беседой они уже почти до дна распили вторую бутылку. Ясное утро постепенно сменялось пасмурным днем. Радостное настроение улетучилось.
Мориц наполнил его рюмку, затем вынул из-под стола третью бутылку.
— А что, люди вроде нас с тобой — всегда комедианты. Не то чтобы мы стояли в стороне от жизни, мы по-своему участвуем в ней, но разве мы вкладываем в это душу?
Отставив бутылку, Мориц снова взял в руки револьвер; теперь он вертел его в руках.
— Взять, к примеру, тебя: ты вечно перегибаешь палку, ты злоупотребляешь выигрышем, которым наградил тебя случай. Ты вызволил меня из беды, правда, не ради любви ко мне. Впрочем, мне безразлично, почему ты это сделал. Но шло время, и глянец на подвиге твоем поистерся. Сам понимаешь, не могу же я день за днем надраивать мою благодарность к тебе, чтобы она сверкала вечно новым блеском?
Вот это разговор начистоту! Раньше или позже он должен был состояться. Нельзя безнаказанно отвергать дружбу человека, который вынужден насиловать свою природу, чтобы вступить в общение с другим. Вилфред вздохнул с облегчением, он будто снова обрел под ногами твердую почву.
— А это значит, — спросил он и с насмешливой серьезностью поднял рюмку, — что отныне ты отказываешь мне в верности и дружбе?
— Ты угадал.
Мориц снова отложил в сторону револьвер. На его вялом лице блуждала улыбка, чувственная и обманчивая, как все в этом человеке, разыгрывавшем комедию.
— Твое положение двусмысленно: с кем только ты не водишься! Хуже того — сам факт твоего существования способен кое-кого раздражать.
— И ты полагаешь, что это можно исправить?
Мориц отрешенно глядел в весеннее небо. Черные тени промчались над фьордом, зловеще кричали морские птицы. Какая-то ложная торжественность сквозила во всей этой сцене, и казалось, вокруг — наспех сколоченные декорации, реквизит театральной техники, который будет выброшен на свалку, как только окончится представление.
— Вся эта природа действует мне на нервы... — Подняв рюмку, Мориц снова поставил ее на каменный стол. — Я обдумал создавшееся положение, — сказал он по-прежнему таким тоном, словно самому ему все глубоко безразлично.
— Ты хочешь извиниться?
Мориц раздраженно покачал головой:
— Мы действуем решительно и быстро. Странные вы люди, вы, жители этой миролюбивой страны. Вы до сих пор не поняли, что в критической ситуации высшая справедливость требует решительных действий. Реальность, как и прежде, вам чужда.
Вилфред уже раскрыл рот, чтобы ответить, но отвечать не хотелось. Револьвер на столе словно дразнил его. Стоит ему сейчас протянуть руку и попытаться его схватить — но, как бы молниеносно он ни проделал это, Мориц опередит его и к тому же это послужит оправданием поступка, в котором, в сущности, ему и не надо будет оправдываться.
Вилфред опустил обе руки на холодную столешницу. Мориц не сдвинулся с места. Его длинные пальцы теребили знаки различия на воротнике мундира, словно он хотел этим сказать: «Видишь, я убрал руки от револьвера — пользуйся случаем!»
А если револьвер не заряжен? Если вся эта мелодраматическая сцена — лишь повод подтолкнуть Вилфреда на дурацкий и необратимый жест? В рукопашной схватке Мориц легко возьмет над ним верх... Вилфред не слишком искушен в обращении с огнестрельным оружием, да и кто, глядя на револьвер — орудие смерти, — возьмется определить, хранит ли оно сейчас в себе эту смерть или же нет...
Мориц вдруг протянул руку и схватил... рюмку. Вилфред чуть было не попался на удочку, но, уж верно, ангел-хранитель вовремя удержал его.
Мориц поднял рюмку и кивнул с одобрительной улыбкой.
— Недурно, недурно! — пробормотал он.
— Лучше не бывает! — Это могло относиться и к вину. — Наверно, с интендантского склада?
Кокетливо приложив два пальца к губам, Мориц вскинул брови.
Да, наверно, вот так он сидел и забавлялся день за днем. А теперь у него появился зритель...
— Слишком поздно... — вдруг тихо произнес Вилфред. И поскольку тот, другой, не отозвался, он продолжал: — Я полагаю, это в природе вещей. Человек взрослеет рывками. И причины, побудившие нас в свое время сделать то-то и то-то, впоследствии уже недействительны, да их даже и не вспомнишь! Кажется, будто все предопределено заранее.
Мориц холодно рассмеялся:
— Ты вечно думаешь лишь о самом себе — о том, чтобы возвыситься над обыденным... — Он сидел, вертя в руках револьвер. — Я же сказал: мы с тобой братья, — продолжал он, — мне ли не знать, что такое сомнение? Большинство наших поступков мы совершаем случайно. Преднамеренность мертвит — в ней уже зачаток малокровной рефлексии. Важнее наших раздумий и решений — условия, случайные обстоятельства, которые вынуждают нас действовать... Как-то раз на Украине, в боях за некую речушку, со мной приключилась забавная история. Прилетела вдруг темненькая пичужка, не знаю, какой уж породы, но я невольно заприметил ее. Артиллерия расчистила нам путь, мы могли свободно пройти к реке, но почему-то замешкались. И тут откуда ни возьмись появился вдруг партизанский отряд, из тех, что сильно донимали нас в тамошних краях, и открыл по нашим силам огонь из автоматов и пулемета, может, даже из двух. Ну конечно, тут вступили в дело наши танки, и скоро стрельба у речки стихла, но, пока партизаны вели огонь, пули сбили всю листву на деревьях, окаймлявших реку, так что под конец всюду торчали одни голые сучья, а деревья стали похожи на веники. А та крохотная пичужка прямо-таки заворожила меня; дожидаясь минуты, когда мы сможем выступить вперед, я не отрывал от нее глаз: по мере того как ветви обламывались под ней, она перескакивала с ветки на ветку, с дерева на дерево. Сорвет пуля одну ветку — пичужка тотчас перелетит на другую. Над нами было светлое небо, с серебристым туманом над речкой, но всюду стоял дым, и еще помню грязную темную полоску земли вдоль речки. Но пичужка оставалась целехонька — казалось, весь наш смертоносный грохот бессилен против нее. Под конец меня стала так раздражать эта пернатая озорница, что я вытащил револьвер и пристрелил ее. Вот тут-то меня и ранило, после чего меня прислали сюда. Я тогда совсем забыл о себе, мне бы укрыться где-нибудь, а не стоять на месте. И если бы в ту пору от моего присутствия духа зависел исход войны, то и тогда я, наверно, не смог бы оторваться от этой проклятой птицы.
Мориц небрежно раскачивался на стуле, лениво свесив по бокам руки. Он рассказывал про пичужку, но невидящий взгляд его был устремлен в пространство. Вилфред читал в его глазах решение, которое вот-вот созреет...
— Ты верно сказал: сейчас уже слишком поздно, — продолжал Мориц. Он снова протянул руку к револьверу. — Единственное, что меня забавляет, — удар одновременно поразит и тебя. Мой денщик и второй солдат находятся сейчас вон в том сарае. Ты отверг мою дружбу. Вот почему я пригрозил тебе. Ты отверг своего единственного брата.
Он вскинул руку с револьвером. Рука была уже на уровне головы... Только теперь Вилфред вспомнил, что приехал сюда с определенной целью. Но он не солгал Морицу — просто всегда случается не то, чего ждешь. Он медленно встал, так, будто эта игра совсем не касалась его. И вдруг, резко подавшись вперед, схватил Морица за руку. Рюмка опрокинулась, из нее полилось вино. Пуля попала Морицу в правый глаз. Он рухнул на стол и мгновенно как-то усох, так что казалось, на столе валяется один мундир. Рюмка покатилась по столешнице и бесшумно свалилась в траву.
Только теперь Вилфред спохватился, что он держит в руках револьвер. Стрелял не он. Мориц сам застрелил себя. Он лишь дожидался зрителя — уж таков был этот позер.
Но как-никак Вилфред держал в руках дымящийся револьвер... Он находился на месте преступления и стоял с револьвером в руках...
Никто не шел. «Они в сарае, — подумал он. — Но еще минута — и они будут здесь». Издали могло показаться, будто Мориц уснул.
Он быстро наклонился над мертвецом. Кровь темным пятном расползлась по столу. Никто не шел. Вилфред хотел бросить револьвер, но пальцы не разжимались. Какая-то смутная мысль закопошилась в его мозгу: может, даже неплохо иметь при себе оружие. И одновременно прихлынуло новое чувство — новое и непривычное, — чувство безмерного облегчения, словно все двойственное и чужеродное в нем самом умерло вместе с Морицем. Азарт предстоящего бегства захлестнул его, точно блаженный хмель. Теперь во всем окрестном пейзаже был разлит какой-то нездешний покой: мертвец у стола и кругом — трава, лес со светлыми пятнами зелени...
Он ринулся к берегу, где стояли лодки. Моторная лодка никак не заводилась, и Вилфред перескочил из нее в шлюпку, отвязал ее и стал грести изо всех сил — она невыносимо медленно шла по воде. Крепко упершись ногами в шпангоут, Вилфред налег на весла с такой силой, что потемнело в глазах. Он греб, не отрывая глаз от лодки, чтобы только не смотреть на берег и не видеть, как медленно он уплывает прочь. Когда же он все-таки наконец поднял голову, устав смотреть на скамью, покрытую растрескавшейся зеленой краской, взгляд его упал прямо на каменную беседку. Как-никак она уже сместилась в сторону и с каждой секундой отдалялась все больше, почти сливаясь с пейзажем. Над морем кружили чайки. Из отдаления беседка напоминала древний храм. Вилфред ясно различал силуэт человека, припавшего к крышке стола, очертания его плеч на фоне светлого неба между каменными столбами. Беседка, ее деревянный остов и даже фигура над столом — все будто высечено из прибрежных скал. Картина эта могла быть также частью гобелена с романтическим рисунком. Но где же убегающий олень в глубине, где собаки? И где вышитый шелком рыцарь с румяными, как яблоко, щеками? Весь узор выполнен в сером камне... Вдруг случилось нежданное: из оголенного леса левее усадьбы вышел олень. Стремительно выбежав из-за деревьев, он замер, принюхиваясь, и затем не спеша направился к «храму». Потом зверь снова застыл, вскинув точеную головку, принюхиваясь к ветру. И тут же бросился назад, к лесу, откуда пришел.
Вид убегающего оленя вернул Вилфреда к действительности. Куда бежал он? Как хорошо, что ему не удалось завести моторную лодку. Она привлекла бы внимание всех жителей побережья, а куда же ему деваться, если не в другие селения на берегу, где его подстерегают новые опасности? Уходить все дальше в море от места происшествия теперь уже бессмысленно.
Волны беспощадно швыряли утлый челнок в устье фьорда. Предельное напряжение сил дарило Вилфреду неясное чувство свободы, он радовался тому, что все было так, как оно было. Скоро за ним начнется погоня, две охотничьи партии, наверно, уже выступили в поход: пусть они враждуют между собой, но, так или иначе, обе гонятся за ним.
Волны заставили его снова взять курс на берег. Вечно одно и то же. И в море не найдешь покоя — покоя нет нигде. И все же он смутно осознавал, что не беспредельная его незащищенность дарит ему благодатное чувство свободы. Нет, исток всего — само убийство, потому что это все же было убийство, преступление, совершенное двумя людьми: провокатором и тем, у кого был револьвер. Не только от Морица из Померании — циника, игравшего своей жизнью, теперь избавился Вилфред. Потому что кто такой в конечном счете этот Мориц? Он был частью его самого, его вторым «я», а может, и третьим — призраком его детства, мнившегося ему неискоренимым, — зато теперь он искоренил его одним-единственным движением руки, пытавшейся предотвратить... Предотвратить? Как знать... Это было делом здоровой руки...
Здоровой руки? Вилфред взглянул на свою руку, сжимавшую весло. Она показалась ему сейчас чуждым предметом, куда более чуждым, чем протез, полученный в награду за минутный жертвенный порыв под звуки карусельной музыки. «Если рука твоя соблазняет тебя...» — мысль эта вызвала у него приступ веселья. Весь он сам себя соблазняет — так что ж, руби, секи, уничтожь самого себя, коль скоро ты сам себя соблазняешь. Только сейчас он спохватился, что револьвер по-прежнему лежит у него в кармане.
— Нет! — театрально выкрикнул он в лицо ветру, который быстро свежел и швырял в лодку сверкающие брызги соленой морской волны. «Уж этого я не сделаю,— подумал он, — ни за что!»
Волны все упорней гнали лодку к берегу — хорошо хоть не уносит в открытое море. Вилфред греб как осатанелый, изобретая один за другим хитроумные планы. Планы быстро менялись: сначала он думал как можно скорей сойти на берег, пока его не заприметило слишком много людей, пробраться к беседке с суши и, если повезет, насладиться минутой, когда солдаты обнаружат труп... Но, едва успев придумать какой-нибудь план, он сразу же его отвергал. Да, нужно лечь курсом к берегу, что верно, то верно, коль скоро у него уже нет сил грести. А сойдя на землю, он бросится бежать, спасая свою жизнь, как тот самый лесной олень.
Чуткий, пугливый зверь, вечно мчащийся куда-то на быстрых ногах, — это и есть истинный его брат; зверь, от роду обреченный на бегство, — вот с кем ему суждено породниться навек. Беглец — вот кто он теперь, дичь, которой не от кого ждать пощады.
Мысль эта привела его в восторг. Он повернул к берегу.
Впервые в жизни он был самим собой, впервые в жизни — совершенно одинок.
21
Однажды, выйдя из густого сосняка, он оказался в саду при какой-то вилле. Сад открылся ему столь внезапно, что он не успел повернуть вспять. Из шезлонга раздался сытый, ленивый голос; кто-то замахал сигарой:
— Что вы, что вы, заходите! Мы не ставим заборов!
Он уже давно не слышал человеческого голоса. Вилфред остановился, разглядывая скульптуру, высившуюся на лужайке. Он увидел нечто огромное, будто выкопанное избронзового века. Нечто неожиданное, диковинное в этом пустынном краю. Скульптура напоминала чуть стилизованную и слегка деформированную фигуру человека, устремленного к свету и изготовившегося к борьбе, которая представлялась заведомо безнадежной ввиду некоторой вялости борца. Но напоминала она и обыкновенный гигантский корень.
— Да, это и есть корень, — добродушно продолжал тот же голос. — Я просто покрыл его лаком. Не знаю, правильно ли я сделал. Ну что, по-вашему, он изображает?
— А ничего, — ответил Вилфред. Он вдруг почувствовал сильное волнение. — Он сам по себе — совершенство.
Человек неожиданно вскочил с шезлонга. Голос его и вся фигура разом утратили сытую вялость.
— Господи! — воскликнул он. — Вы первый, кто верно ответил на этот вопрос!
Глаза его сверкали. Теперь, когда он стоял, выпрямившись во весь рост, он вовсе не казался таким уж тучным, это голос его ввел Вилфреда в заблуждение — у людей в шезлонгах делаются сытые голоса.
— Лаура! — позвал он и в два прыжка очутился у дома. В окне показалась головка молоденькой девушки. У нее были светлые пепельные волосы и темные глаза — в точности как у человека в шезлонге.
— Это моя дочь Лаура.
Он выжидающе взглянул на Вилфреда — тот назвал свое имя, фамилию. Их звучание поразило его самого — он уже отвык от своего имени. Он и не рассчитывал, что оно произведет впечатление. Хозяин виллы был слишком взволнован, чтобы переключить свое внимание на что-либо иное.
— Лаура, — крикнул он, — ты не поверишь: вот этот человек, наш гость, первый, кто не счел нужным утверждать, будто наша скульптура напоминает то-то и то-то! Господи, — сияя улыбкой, он обернулся к Вилфреду, — вы не представляете себе, чего только мои друзья и все прочие, кого бы я ни спросил, не приписывают этому прекрасному произведению искусства... А вы что, просто прогуливаетесь здесь?
Впрочем, это не был вопрос в прямом смысле слова, один из тех назойливых вопросов, которые задают гостю, алчно следя за ним глазами, непременно желая знать, чем живет человек. Спустя секунду на маленьком столике, окруженном желтыми садовыми стульями, уже стояли бутылки и рюмки. Хозяин виллы перенес сюда свой шезлонг. Девушка, которую звали Лаурой, сказала с улыбкой:
— Папа все время сидит в шезлонге... И всюду носит его с собой...
Человек в шезлонге засмеялся счастливым смехом. Он крикнул дочери, чтобы подавала обед, они как раз собирались обедать, как приятно, что к обеду есть гость! И он так спокойно уселся в шезлонге, словно они были единственными людьми в этом мире, не ведающими ни соседей, ни угрозы с чьей-либо стороны...
Хозяин стал рассказывать про окрестные леса. К северу от здешнего идиллического уголка лежат леса, дикие ущелья, о которых почти никто ничего не знает.
— Разве не удивительно? Здесь вьется фьорд, окаймленный молодыми рощицами, распаханными полями, приветливыми домиками с крепкими причалами у воды, изредка вдоль берега курсирует старый рейсовый катер — и я помню эти катера, лодки, причалы, сады и дома с тех самых пор, как ребенком рос на хуторе — там, поближе к поселку. А чуть подальше — непроходимые леса, настолько густые и неоглядные, что даже человек, хорошо знающий здешний край, и тот непременно заблудился бы, случись ему ненароком туда забрести. Уродливый лес, попросту сказать безобразный, — как только природу угораздило такое создать!
Вилфред старался не показывать, как он голоден. Он не хотел, чтобы эти люди изумлялись, мучительно сдерживая любопытство: лучше не будить его, силой воли подавив голод.
Хозяин сказал, угощая гостя:
— От этих прогулок разыгрывается аппетит...
И сами слова эти — «прогулка» и «аппетит» — звучали очевидной неправдой, предназначенной ввести необычный случай, которому никто не хотел искать объяснения, в рамки обычного.
Хозяин и сам был не любитель лишних объяснений. Вилфред вынес из застольной беседы, что они с дочерью сейчас живут здесь вдвоем, но прежде семья была больше. А виллу, судя по всему, перестроили из просторного крестьянского дома, видно, здесь когда-то стоял обыкновенный хутор...
— Ребенком, — рассказывал хозяин, — я был одержим страстью отыскивать корни, похожие на кого-нибудь: одни напоминали троллей, другие — известных политиков, третьи — мою старую тетку, жившую в этом же доме, впрочем, почти все корни напоминали ее, да будет земля ей пухом, она прожила больше ста лет, все бродила здесь, нащупывая палкой дорогу. Странное дело, про людей, которым выдается прожить долгую жизнь, говорят, будто они впали в детство, — что ж, может, это так и есть. Но, по-моему, когда людям выпадает долгий век, и притом им удается избежать старческого слабоумия, они подчас просто становятся совсем другими людьми, чем прежде. Будто истинная их личность, прежде скрытая от глаз, все их дарования ныне просятся наружу, стремясь выявиться во всей полноте. Наша престарелая тетушка начала вдруг писать картины, когда ей уже перевалило за девяносто, нет, нет, не думайте, что она взялась за эту наивную живопись, которую превозносят, когда ею занимаются старики, — нет, из-под ее рук выходили вещи скорее кубистского толка, вот только что в миниатюре. Сам Клее не постыдился бы признать себя автором одной из них...
Лаура (она сновала взад и вперед — разве лишь изредка присядет на миг) проговорила:
— Отец сам стал художником в пятьдесят лет... Но только я боюсь, не слишком ли мы утомили разговорами господина...
— Сагена. Меня зовут Вилфред Саген.
Он вторично назвал свое имя, которое сделалось ему чужим. Назвать его было приятно, оно прозвучало чуть ли не как признание. И на этот раз оно произвело впечатление. Мужчина вынул изо рта сигару, так и не закурив, и вместо этого замахал ею, как дирижерской палочкой.
— Тот самый? Художник?
— Да, когда-то я был художником.
Хозяин тихо присвистнул. Потом посмотрел на дочь. Не таилось ли в этом взгляде что-то недоброе? Отложив сигару, хозяин сказал:
— Прошу прощения...
Вилфред встал. Он хотел уйти. Его имя, как видно, неприятно подействовало на этих людей. Быть может, он был для них олицетворением самого большого зла в этом злобном мире, от которого они столь искусно отгородились. Он ответил:
— Я же не хотел вам навязываться. Вы сами пригласили меня...
— Прошу прощения, — повторил хозяин. Он тоже хотел было встать с шезлонга, но скоро отказался от этой невозможной задачи. — Я вдруг понял, сколь наивен и глуп я был, поверяя вам мои мысли и радуясь, что вы так отлично все понимаете.
Вилфред крепко сжал спинку стула. Он никак не ожидал, что его имя могло быть принято и таким образом. Так давно ведь все это было. Сытная пища и выпитое вино на миг окутали его странной пеленой — чужеродным облачением, под которым, казалось, было сокрыто иное существо, выше, значительнее его самого. И тут же он вспомнил: когда-то кто-то сказал — ну да, это же была тетя Клара!.. — она сказала тогда, что в малом подчас сокрыто большое. Но все это было так давно. Однако те слова взволновали его. На глаза навернулись слезы...
Потом он изготовился к прыжку, к скачку в неизвестность:
— Не скажете ли вы мне, что... так неприятно поразило вас в моем имени?..
Хозяин рассмеялся:
— Кому приятно оплошать! Я сидел и рассуждал о вещах, известных вам несравненно лучше моего. Да что об этом толковать! Мы рады вам, хотите, слушайте мою болтовню, даже если она вам наскучит. Нет, нет, только не вздумайте уверять, будто я вам не надоел! Не часто нам теперь доводится принимать в нашем доме художника!
Вино, обед, нежданное гостеприимство... случай свел его с просвещенными людьми, которые не рассуждали наперебой лишь о смерти и патриотизме... Вилфред почувствовал, как на глаза навертываются слезы — заклятые его враги с детских лет.
— Простите меня, — сказал он, — я долго был один...
Вилфред переводил взгляд с отца на дочь. Участие их не было назойливым, как и их жажда самовыражения; потребность творчества, воссоздания всего сущего воодушевляла этих двоих людей, живших среди клубничных грядок, плодовых деревьев и зеленой травы... Он учтиво осведомился у дочери:
— Может быть, и вы тоже пишете картины?
По лицу девушки промелькнула тень.
— Я писала картины, также играла немного. Я жила целый год в Париже...
Увидев огорчение на ее лице, он спросил:
— Вас подавило обилие впечатлений?..
Лицо ее сразу же посветлело.
— Просто я поняла: все уже сделали до меня. И гораздо лучше... Мне было четырнадцать лет, когда я увидела ваши картины на выставке в Стеклянном зале. Они-то и зажгли во мне этот огонек.
Все звенья времени, все слои бытия сомкнулись вдруг в одно, словно части единого, громадного и необозримого механизма. На мгновение Вилфреду показалось, будто возник какой-то порядок в хаосе без начала и без конца, будто он обрел крошечную точку опоры, высоту, на которую вознесли его внешние силы без всякого старания с его стороны.
Лаура рассмеялась:
— Обыватели с артистическими претензиями всегда невыносимы...
Она подлила себе вина, на миг позабыв о своей роли хозяйки. Но даже не пригубила его. И потому, что она не пригубила вина, а против воли задумалась о чем-то, прошлое снова ожило в уме Вилфреда. Явления и судьбы, прежде, возможно, никак не связанные между собой, вдруг обрели смысл, точнее, не смысл, а взаимосвязь...
Он встал:
— Я бесконечно благодарен...
Из глубины шезлонга хозяин ворчливо перебил его:
— Вы останетесь у нас на ночь. И вообще оставайтесь у нас, сколько захотите. Лаура покажет вам вашу комнату.
И сам тут же уснул. Дымящаяся сигара упала в траву.
Он стоял у раскрытого окна, выходившего на фьорд. Уже спустилась ночь. Над полями был свет, он шел с моря. Где-то, видно, уже лопнули почки на плодовом дереве, и в комнату текли терпкие запахи. Потайные источники в душе Вилфреда звенели, разные мысли, важные решения зрели в ней... Он стоял, содрогаясь от противоречивых желании, признательность и раздражение боролись в его сердце. Дом, притаившийся на берегу, будто ждал своего часа, этого часа из всех часов. Он словно возник на заре в силу одной лишь этой причины, выступив из мрака по воле того, кто сотворил и дом, и самого Вилфреда, и положение, в котором он очутился...
Он тихо закрыл окно и бросил полный ненависти взгляд на нетронутую, под белым покрывалом кровать. Спустившись с лестницы, он увидел, что дверь в гостиную открыта. Он прокрался к ней на цыпочках, иногда застывая на месте и корча рожи, глумясь над всем этим незащищенным уютом, над креслами, ублаготворявшими не одно поколение обитателей дома, над старомодным буфетом с его неисчислимыми полками и фамильным серебром, над комнатным цветком с алыми бутонами, что стоял на подоконнике, над странными картинами на стенах — все было здесь, даже пикантная приправа к самодовольному строю жизни буржуа, который так ловко умел маскироваться под нечто другое.
Вилфред быстро пересек гостиную и подошел к буфету. В верхнем отделении были два графина, он вынул пробку из того, что казался полней. Запах виски вновь возбудил в нем прежнюю тягу к неожиданным выходкам. Приятно было обмануть доверие этих милых людей, оставить им в подарок горький опыт, небольшое разочарование, которым они будут упиваться, сидя вдвоем за ужином. Вытащив из буфета графин, Вилфред торопливо прошел в коридор. Все повторялось, он хотел, чтобы все повторилось.
На дворе теперь было уже почти совсем светло. Он увидел дерево, на котором уже распускались почки, маленькую вишню с короной из прозрачного тюля. Все запахи разом потекли ему в ноздри. Бронзовый корень зловеще сверкал в своей загадочной немоте. А вот желтые садовые стулья, на которых сидели днем...
В душе его звенела радость. Каждая былинка была ему другом, отзывавшимся на его шаги, радостно подтверждавшим, что все хорошее он видит сегодня в последний раз.
22
Лес... лес, страшное, жуткое урочище, о нем рассказывал ему хозяин виллы... Вилфред понял вдруг, что вплотную подошел к диким ущельям...
Вилфред пришел оттуда, где расстилались луга, где уже зеленели редкие рощицы, а в просветах между ними стояли маленькие домики, обычные человеческие обиталища, в точности похожие на все другие места, мимо которых он шел после того, как в один прекрасный день, там, у побережья, вдруг обрел свободу. А теперь его встретил этот край... Все здесь было другое: пейзаж и почва, растительность и свет.
Вилфред шагал на запад, заря занималась у него за спиной, и, сколько бы он ни шел, даже освещенное пространство оставалось темным. Темным был мох между темными стволами густого ельника, и там же, между стволами, земля вспарывалась глубокими расселинами, местами переходившими в лощины, в сырые овраги, где под склонами мертвых кустов, деревьев, рухнувших под бременем лет, мрачно поблескивала вода. Кое-где по краям оврагов виднелись скалы: они будто подстерегали кого-то, может, тоже ждали своего часа.
Он пришел в этот край — усталый, разбитый, каким всегда бывает человек перед восходом солнца. В правой руке он держал графин — в правой, искусственной руке; пальцы этой руки отличались мертвой хваткой, уж они-то не разожмутся. Спустившись в первый овраг, он поскользнулся на влажном камне, спрятавшемся под мхом, проехался на каблуке и мягко упал навзничь, однако не выпустил графин из рук, а, напротив, приподнял его, словно бы подставив зеленоватым солнечным лучам.
Край мрачных кошмаров, край низких пригорков и коварных расселин простерся вокруг него, обступил его; лес негостеприимен и хмур, и земля дышит сыростью. Нет под сенью деревьев ни единого места, где бы люди захотели сказать: «Здесь мы останемся, здесь будет наш дом».
Никто не захотел здесь остаться. Те, кто здесь побывали — если вообще кому-то довелось здесь бывать, — ненароком забредя в этот край, стремглав бежали отсюда. А деревья, закрывавшие темные провалы расселин, рухнули сами собой.
Он долго лежал в том месте, где поскользнулся. Спешить больше некуда. Он достиг цели. Он лежал на сыром мху и чувствовал, как сырость просачивается сквозь одежду. Перед ним белело легкое снежное пятно, медленно таявшее под бледным солнцем. Осторожно вынув из графина стеклянную пробку, он поднял его так высоко, что зеленые лучи солнца сразу заиграли в хрустале. Затем отхлебнул из него немного виски. Встав на ноги, огляделся вокруг.
Да, то не был мираж. Возможно ли, что спустя столько лет он наконец нашел край, который искал? Значит, это всего лишь непроходимый лес, край, покинутый богом и людьми, куда не ступит человеческая нога...
Не над этой ли расселиной поднимал его мужчина с сигарой?.. Нет-нет, ведь оттуда открывались дали, и было где побегать взапуски, и было лесное озерцо...
И все же это был край, который он искал! Он огляделся вокруг: край без начала и без конца, стволы и стволы без числа — безрадостный край. Он вспомнил вдруг ребенка, которого встретил в Копенгагене в Росенборгском парке. Как-то раз он сидел там на скамейке. За его спиной под деревьями копошилась маленькая девочка, она сновала от куста к кусту, заглядывала за каждую скамейку, не пропуская ни одной, и все время слышался звон бутылок. Иногда она показывалась между скамейками, но тут же убегала назад, к деревьям на газоне, и вскоре вновь выходила из тени, неся охапку бутылок, которые сверкали и переливались на солнце. Видно, ребенок знал, где искать бутылки, оставшиеся со вчерашнего дня; девочка была худа и бледна, истинное дитя трущобы, свою добычу она складывала в грязный фартук. Один раз, когда она вновь вынырнула на слепящий солнечный свет, он увидел, что она отхлебывает по глотку из каждой бутылки: подержав ее против света, она допивала вино. Шатаясь, девочка побрела к Вилфреду в ярких лучах солнца и, опустившись на землю, где резко скакали воробьи, рассмеялась. Она была пьяна. Она сказала: «Весь мир мой!»
Вилфред начал спускаться со склона, то и дело скользя, глубоко увязая ногами в зеленой тине, а спустившись, стал взбираться на противоположный склон. В желтой, как воск, искусственной руке он по-прежнему держал графин. Когда он был на вершине холма, его настигло солнце. Но впереди зиял новый овраг, бездна, казавшаяся еще темней оттого, что кругом было солнце. Если бы исповедаться природе, сбросить бремя с души! Значит, это и есть тот край, к которому он когда-то стремился. Теперь он нашел его. Здесь он может просто быть. И он всем сердцем благодарен за это. Под наплывом чувств он вновь опустился на землю, по-прежнему крепко сжимая в руке графин: виски в нем почти не убавилось. Он увидел, как ширится свет, как пробираются между стволами солнечные лучи. А край столь же безрадостен, как и прежде.
— Рыдать хочется мне, рыдать, оплакивая уходящую жизнь, — вслух произнес Вилфред.
Он сказал это без самолюбования, даже без пафоса — просто сказал то, что есть. Он встал и снова побрел дальше, скользя по кочкам, проваливаясь в колдобины. И дальше те же овраги, темные бездны обрывов. Он поднял голову, но увидел лишь скупые проблески синевы между кронами деревьев, будто назло всему живому застилавшими небо. Безутешный край, подумал он, безотрадный. Он встал на колени. Большими глотками начал пить из графина. Все вокруг дышало отчаянием. Крошечные пичуги бесшумно порхали с ветки на ветку в мертвенном свете солнца, не дарящем тепла. От влаги, просочившейся сквозь тонкий мох, намокли колени. Куда бы ты ни ступил — всюду вода, но ее не слышно. Лишь однажды зазвенели ручьи, и ему почудились в звоне моцартовские мелодии. Встряхнув графин желтой, как воск, рукой, он прислушался к звукам, но они стихли. Он отпил еще немного.
Отчего в здешнем лесу не слышно детского плача?
Слишком поздно. Слишком поздно для плачущих детей, он хотел спасти их, спасти побеги, которым не суждено было вырасти. Сняв мертвую руку с сырого мха, он приложил ее к холодному хрусталю графина. Рука и хрусталь слились в одно, казалось, он одинаково осязал и то и другое. Но, свалившись на бок в скудный мох, он почувствовал у себя в кармане револьвер и рассмеялся. Как легко все казалось когда-то, он думал, что это легко... Он стоял в туннеле и ждал поезда. Рельсы дрожали, чувствуя приближение смерти. Он думал, это так легко! Отложив в сторону револьвер, он снова рассмеялся — столь нелепо выглядело оружие в зеленом мраке.
«Здесь мой дом!» — повторил Вилфред на разных языках. Он скользил по склонам, спотыкаясь, весело чертыхался и вновь без всякой цели взбирался на скалы. Все тело его промокло, продрогло, и здоровая рука онемела. Теперь обе руки одинаковы. Вилфред тихо хлопнул одной о другую: обе теперь сравнялись. И ноги тоже, видно, скоро онемеют в этой сырой мгле, ноги в тонких, разъезжающихся ботинках. Пусть кто хочет придет за ним сюда, пусть будет его гостем, кто бы ни пожелал, пусть ищет его в этих зеленых безднах — безднах его души. Он примет все с благодарностью...
Нет, он никогда не бывал в этом краю. Куда-то исчезли деревья, прежде застилавшие небо, но все небо в тучах. Вилфред тяжело брел по болоту, высоко вздымая вверх руку с графином; теперь — ближе к вечеру — в хрустале уже не играло солнце. Это его первый день в здешних местах, и он уже угасает. Почти весь день Вилфред все шел и шел, по дикий край словно шел за ним следом. И снова впереди овраги. Вилфред упал — рухнул в один из них и долго лежал на дне в грязи. Затем отхлебнул из графина, расплескав виски. Небывалая жажда томила его: сколько воды кругом, а напиться нечем...
Он пососал грязную траву на дне оврага и так и остался лежать с гладкими стеблями во рту.
23
Случались дни и часы, когда он ясно помнил, что все это однажды уже было с ним, что тогда он тоже искал и куда-то все шел и шел... Разница лишь в том, что теперь он узнал свой край, что, быть может, теперь ему уже не надо искать.
Графин был пуст, и теперь ему неоткуда было черпать силы. Он оставил графин на вершине пригорка, чтобы заметить по нему, если он возвратится вспять. Но сколько он ни ходил, он ни разу больше не видел его. Почему-то ему было приятно знать, что графин стоит на вершине холмика, сверкая прозрачным хрусталем, и каждое утро первым ловит лучи солнца еще до того, как оно взмоет вверх, рассеивая пары, поднимающиеся над этой промозглой землей. Будто это вовсе и не графин, а гномик: стоит на холме гномик, стоит и оглядывается вокруг одним глазом.
Но скоро силы совсем оставили его, и он уже не мог идти, только полз понемногу вперед с долгими передышками. И всюду он видел все тот же пейзаж. Он уже знал наперечет эти острые скалы, склоны, покрытые скудным мхом, и расселины, подстерегавшие путника. Он перестал их бояться. Он теперь ничего не боялся. Он надолго впадал в забытье, лежа на земле, и во сне к нему приходили всякие люди и звери. Больше он не разговаривал с самим собой, теперь в нем не совмещалось несколько разных людей. Он был един, он обрел цельность и простоту. Стал почти ничем.
Но однажды он вдруг приподнялся с земли в какой-то сырой дыре и стал ощупывать свои руки и ноги, проверяя, слушаются ли они его. Они не слушались. Тогда он рассмеялся и, нарушив безмолвие, много дней стоявшее вокруг, вспомнив маленькую пьяную девочку в парке, воскликнул:
— Весь мир мой!
24
Однажды вечером перед ним возникла тропинка. Возникла из ничего в ранних сумерках, и вдруг прихлынули силы. Он зашагал по ней. Эту тропинку протоптали люди, плотно утрамбовав землю, — она отчетливо видна в светлых сумерках. Иногда тропинка вдруг исчезает, и тогда он не старается ее отыскать — у него нет воли искать ее. Но тропинка возникает снова и бежит дальше, и у него нет воли с ней расстаться. Тропинка, возникшая из ничего, обрела над ним странную власть, оживив его онемевшие ноги, она вилась, оставляя какой-то след в нем самом... И он бредет, словно к некой цели, оттого, что тропинка вьется и, значит, ей ведомо нечто, что она хочет ему открыть.
Но сумерки скоро сгустились, заморосило, и он перестал различать тропинку, он совсем не видит ее, только ноги видят или, может, угадывают ее, ноги идут протоптанной лентой. То под горку сбегает она, то снова взбирается вверх, но тут ногам уже трудно угнаться за ней: чуть ли не вся сила ушла из них. Тропинка сама волочит их за собой... А ноги еле-еле волочат его самого и даже взносят на пригорок вслед за тропинкой. Она почти все время петляет по пологим холмам, и тут дело спорится само собой: он шагает мелкими деревянными шажками, разве что порой его заносит то в одну сторону, то в другую. А что — чем плохо, когда тебя ведут за собой. Он по-прежнему не смеет узнать, куда ведет эта тропка, но идти стало легко. Будто чья-то чужая воля сейчас движет им, и он бредет, распрямившись во весь рост. Лишь иногда, случается, он вдруг рухнет оземь и, пытаясь подняться, елозит по земле руками. Но и руки тоже чувствуют власть тропинки, даже искусственная рука и та чувствует. И он ползет по тропинке на четвереньках, предоставив ей вывести его к цели. Наверно, так зверь находит свою нору.
Тропинка вывела его. Блаженное ощущение покоя охватило его: наконец-то! Он подполз к отвесной горной стене, где зияла дыра, и пробрался внутрь. Знакомый запах встретил Вилфреда, но мозг его тоже будто омертвел. Странное дело, мысли мгновенно ускользают куда-то, стоит ему попытаться на чем-то их остановить...
Когда он очнулся, ему показалось, будто он видит сон. Он узрел картину, знакомую издавна: солнце играло в нитях паутины. Безупречное, сверкающее кружево паутины, усеянное в лучах утреннего солнца бисером росы, закрывало вход в пещеру. Он сразу узнал эту пещеру, еще даже не осознав, что сам он — внутри нее. Это же та самая пещера, где он некогда прятался мальчишкой, здесь он сидел когда-то, сжимая стеклянное яйцо, которое дала ему фру Фрисаксен.
Но в пещере холодно. Тело его потянулось к теплу и свету. Он пополз, медленно, с бесконечной осторожностью и, подобравшись к паутине, замер, страшась разрушить чудо — бусинки росы опадут, и сверканье погаснет... Все силы напряг он, чтобы порвать лишь те немногие нити, которые не мог не порвать оттого, что тело его тянулось к теплу и свету. Но, коснувшись паутины, понял, что это невозможно. Он порвал сперва одну нить, затем другую. Посыпался бисер! На миг вся великолепная тончайшая сеть повисла в утреннем солнце. В следующий миг ее уже не было — он разрушил ее. Тело добилось своего. Теперь только бы лечь, растянуться. Солнце поднимается все выше.
Когда он проснулся, над ним стоял великан. Вверху торчала маленькая головка, почти что рыжая — мальчишеская голова. Великан что-то говорил ему.
Потом Вилфред поел немного и вновь провалился в сон, а когда открыл глаза, великан снова стоял над ним, но уже не казался столь огромен: просто крупный мужчина, его могучий торс венчала мальчишеская голова. Это был Том, ну конечно же, Том, сын садовника, приятель его детских лет. Том наклонился и проговорил что-то вроде того, что, дескать, наконец-то ты пришел в себя... И только тогда Вилфред понял, что и сам он тоже присутствует здесь, он — Вилфред. И лежит в незнакомой комнате.
Том сказал:
— А я уж думал, ты отдал концы!..
Потом прошло несколько дней, и вот они сидят лицом к лицу, расположившись на ящике с надписью «Искусственное удобрение». Том говорил без умолку, сыпал словами, которые не так-то легко было разобрать. Они пили кофе. Вилфред опустил взгляд: на нем были чужие ботинки, чужие брюки, он слышал, как Том сказал: «Настало время». Но Тома будто не радовало, что оно настало.
— Ты должен знать правду, — сказал он, — тебя разыскивают.
— Зачем же ты подобрал меня?
— Сам не знаю. Просто так: смотрю — лежит человек. Мы же с тобой вроде земляки. А вообще-то, скоро все это кончится.
Да, скоро все это кончится. Неужели Вилфред не знает? Неужели не следит за событиями? Разгром немцев уже стал фактом — или вот-вот станет.
— Мы готовимся взять власть в свои руки!
— Мы?..
Конечно, Вилфред все это знал, не знал лишь, что крах столь близок.
Веснушчатое мальчишеское лицо Тома залилось краской. Из тех лиц, что с годами не меняются. Том был теперь огромный мальчишка лет сорока с лишним... женат на голландке, у него четверо детей. Вдвоем с женой он превратил запущенное садоводство в первоклассное хозяйство. Брат жены участвовал в Сопротивлении и погиб смертью храбрых. Том рассказывал о себе неохотно — не с другом ведь говорил...
Том ответил:
— Мы — это все, кто с нами. — Он мог бы добавить: «Вот ты, к примеру, не с нами». — А вообще-то, ты ведь, помнишь, спас меня, когда я тонул.
Но даже и эти слова Том произнес с какой-то детской злостью, которую не умел или не хотел скрыть. Вилфред скорчил одну из своих всегдашних гримас. И будто кто-то насильно дернул чужую кожу. Он коснулся своего лица здоровой рукой — ощущение было ужасным. Чужое лицо. Не успел он осознать, что он — это он (впервые за долгий срок), как вот показался самому себе чужим...
— Ведь, правда же, ты это сделал? — настойчиво допытывался его собеседник.
— Что я сделал?
Это чужое лицо, которое он нащупал... Вилфред поискал глазами зеркало. Но зеркала не было. Была нарядная мещанская гостиная с мебелью орехового дерева и кучей безделушек, а посреди всей этой роскоши — ящик, на котором они сидели.
— Как что? Спас меня, черт побери! — Том со злостью взглянул на него. — Я, кажется, с тобой разговариваю!
Кто-то разговаривает с ним. Том. Кто такой Том? Сын садовника. Как же была их фамилия? Впрочем, в ту пору у них вообще не было фамилии. Это же такие были люди — ну, словом, из низов. Таких людей всегда звали по их ремеслу, говорили: «Садовников Том...» Вилфред вновь овладел собой:
— Да. Только это было давно.
— Может, тебе неприятно об этом вспоминать? Ты же был герой — герой тогдашнего лета! Только вот потом люди говорили, что не известно, точно ли ты хотел меня спасти.
Вилфред изо всех сил старался поддерживать разговор.
— Какие люди?
— Неважно. Они говорили, будто ты, наоборот, хотел меня утопить, что ты сначала нарочно оставил меня под водой и только потом вытащил меня и привел в чувство лишь для того, чтобы выставиться перед другими, когда все сбежались на место происшествия. Кстати, это Андреас сказал.
— Андреас, Андреас... — Да, теперь он вспомнил. Андреас, мальчик с бородавками, тот самый, кому он помогал делать уроки, недалекий Андреас с его плебейской завистливостью. — Кажется, Андреас взял себе новую фамилию... помнится, что-то птичье...
— Эрн его фамилия. Эрн. Эрн — значит «орел». Это шведская фамилия. Дворянская.
Глаза Тома извергали огонь, будто пушечные жерла. Да, Том вошел в силу. Теперь настал черед Тома. И Андреаса. Пусть.
— Знаю, ты скажешь: Андреаса при этом не было. Он, мол, не ездил с нами на острова. Ты прав. Это она рассказала ему.
— Кто «она»?
Комната поплыла перед ним — мебель орехового дерева, безделушки...
— Как кто? Эрна, черт побери, кто же еще? Не притворяйся, будто не можешь вспомнить, что Андреас в свое время отбил у тебя твою старую любовь... Разве ты не знаешь, что они женаты? Неужто ты вправду не знаешь этого?
Все поплыло. Все закружилось вокруг. Он изо всех сил хотел сосредоточиться на том, что говорил ему садовников Том, но все завертелось вокруг.
— Поздравляю, — неуклюже произнес он. Он вовсе не думал издеваться над кем бы то ни было. Но Тома охватила ярость. И теперь его понесло.
— Может, и Эрны тоже там не было? Может, не ты ухлестывал за ней каждое лето? Не ты, может, завязал ей руку шнурком? Только вот она приметила кое-что в день той поездки на острова, сначала она видела, как ты сбежал от остальных, и потом, как ты стоял и удерживал меня под водой, но тут она вышла на гребень холма, и тогда ты засуетился, но даже и потом ты не захотел передать меня тому большому парню, который умел делать искусственное дыхание. Тебе надо было сначала меня доконать, а потом выставляться, что ты меня спас.
Что-то ныло, ныло в душе. Да, теперь он вспомнил их всех. Только они были все будто в какой-то дали. Завистливый маленький Андреас с его бородавками — случалось, Вилфред зло потешался над ним, но он же помогал ему сдавать экзамены. Ага, значит, Андреас этого не вынес. Люди не выносят, когда их выручают из беды, по крайней мере не выносят того, кто их выручил. А Эрна, бедная, честная, привязчивая Эрна со свежими губами, солеными от морской воды... Значит, они сплотились против него — это была самозащита, они защищали свое право быть наверху, и вот почему они...
Вилфред собрал для ответа все силы:
— Неужели ты вправду в это веришь?
Том не отвел глаз. Он насмешливо откинул назад голову.
— Этими старыми трюками ты теперь меня уже не проймешь... Я верю в то, что знаю. И зачем только мне понадобилось оживлять твой труп. Что ж, по крайней мере они порадуются, когда тебя схватят.
Так — теперь наконец ему ясно все. Его считают изменником, хуже того, его уже разыскивают, так, кажется, сказал Том? Значит, друзья детства, собираясь за затемненными окнами, всякий раз не забывали посудачить, поиздеваться над ним. Мысленно возвращаясь в прошлое, они отказывали ему во всех достоинствах — в больших, как и в малых, зачеркивая все, что было приятно зачеркнуть. Собравшись вместе, они преображались в карательный отряд и много раз на досуге расстреливали его.
— Да, да, ты прав, — пробормотал он. Он хотел встать, но пол качнулся ему навстречу...
И снова над ним высится Том. В руках у Тома мокрое полотенце.
— Я жалею, что сказал про это — будто ты хотел меня утопить, — говорит Том. А все же он хмур, как и прежде. Справедливость превыше всего, читается на его детском лице. Том продолжает: — Андреас, может, немного злопамятен, но вообще-то, он славный парень. Ты знаешь, что он вышел из тюрьмы?
— Том, — начал Вилфред, — ты, кажется, говорил, что твоя жена с детьми уехала в город, они продают там цветы, не так ли? И что сегодня они должны вернуться. Тебе, наверно, хочется, чтобы я убрался отсюда до их приезда?
Том помог ему подняться с пола и сесть на диван.
— Ты всегда все угадывал, — ответил он. Краска то и дело заливала его детское лицо. Сейчас это была краска стыда.
— Я ненавижу тебя, — сказал он.
Да, вот так. Стоит перед ним молодой садовник, который его ненавидит. Впрочем, не такой уж молодой. Все они уже не столь молоды...
— Ладно, Том. Стоит ли волноваться из-за пустяков. Не о чем тебе больше думать, что ли...
Том снова залился краской — на этот раз от ярости.
— Пошел ты к черту! Меня теперь этакими штучками не проймешь! А я и тогда уже тебя ненавидел, и родители мои тоже, все ходили к вам, благодарили, кланялись, а сами ненавидели вас — и тебя, и мамашу твою.
Господи, еще и это. Но Вилфреду слова Тома придали силы.
— Хорошо, Том, я сейчас уйду...
— Да, уходи! Уходи!
Степенный мальчуган с мужской статью разъярился вконец. Он так ждал драматического эффекта. А Вилфред посмеялся над ним. Схватив исхудалого гостя за плечи, Том вытолкнул его из дома — в беспощадный свет дня. Вилфред изумленно огляделся кругом. Пустынное болото и зеленые холмы превратились в дачный поселок. Низенькие коттеджи с плоскими крышами стояли в ряд лицом к морю, а на некоторых участках еще только шло строительство.
— Да, мы еще перед войной разбили землю на участки. Раньше-то мы не понимали, что и здесь земля представляет ценность. Думали, ценится только земля на той стороне, где вы, господа, жили в ваших старых коробках, куда нас не пускали даже на порог!
Все былое возвратилось к Вилфреду. Конечно, не могло обойтись без перемен. Но сразу так много всего... И свет этот... Он протянул руку вперед, левую руку. Но в ту же минуту земля ушла у него из-под ног... После он миролюбиво сказал:
— Спасибо, Том, ни пуха тебе ни пера!
— И тебе тоже!
Тому пришлось наклониться к нему, потому что он упал на колени. Но он не хотел стоять на коленях. Он встал.
— А хижина фру Фрисаксен сгорела, — проговорил Том. — Там жил всякий сброд. Вот она и сгорела...
Дверь захлопнулась. Над морем кричали птицы. Вилфред был один. Черные вороны налетели с суши и вились над морем. Том сказал «всякий сброд» — значит, ставил самого себя неизмеримо выше тех людей. Н-да.
Птицы теперь низко кружили над его головой и сердито кричали. Он вспомнил: нынче пора высиживания птенцов. Вот почему так злобятся птицы: всякое существо, возвышающееся над землей, мнится им смертельной угрозой. Он замахал руками, пытаясь отогнать птиц. Из дома позади него донесся смех. Птицы налетали на него со всех сторон.
Он заковылял к мысу, осаждаемый тучей белых и черных птиц. Он брел мимо участков, заваленных строительным мусором. Между рядами домов поблескивало море. И вспомнился, нет, снова ожил тот день, много-много лет назад, когда он вот так же брел по этим местам, только в зиму, в метель.
Та-та-та-там...
Наконец-то. Как и в тот раз: Симфония Судьбы... Тогда он, утопая в снегу, ходил по кругу.
Ледяные ноги фру Фрисаксен в кровати. Она была мертва. Где-то лаяла собака.
Лает собака. Кто-то заговорил с ней, успокаивая ее. Наверно, голландка — жена Тома — вернулась домой. Собака лаяла заливчато и восторженно. Вилфред побрел дальше между участков, теперь он уже не шатался на ходу. Том накормил, обогрел его — это придало ему сил. Том — добрая душа, он отблагодарил Вилфреда за то, что тот хотел его утопить.
Та-та-та-там...
Все повторялось, он думал об этом, подходя к краю мыса. Все повторялось.
А вот — новое: пепелище — почти ничего не осталось от дома фру Фрисаксен, только железная печка и еще кусок обгоревшей и свалявшейся сети, похожей на паутину... Силы снова оставили его.
Не позвали ли его с пепелища: «Входи»? Он пошарил руками в золе. Нет, кто мог бы здесь звать его...
Не выйдет ли вдруг к нему сейчас женщина, протягивая портрет — фотографию юнги на улице Опорто...
Но никто не вышел к нему. И никто его не звал. Морские птицы кричали над его головой, метались над мысом. Здесь между камнями были их гнезда, он не держал на них зла за то, что они налетали на него с высоты, клевали в голову. Они так наседали на него, что он лег на землю — не от слабости, а спасаясь от них. Его рука нащупала в золе какой-то предмет. Он поднял его, чтобы рассмотреть, это было яйцо, стеклянное яйцо с белым домом внутри. Он сразу узнал его. И он подумал, всем существом своим понял: значит, вот оно где, это яйцо, ты здесь, яйцо... Он поднял его и стал разглядывать против света. Стоило повернуть его, и внутри начинал валить снег. На стекле была выцарапана буква «С».
Все вспомнилось ему. Он перестал различать тогда и теперь. Острая боль захлестнула его, но он старался не терять нить мысли. Птицы взмыли в небо и полетели над морем. Теперь, когда он лежал ничком на пепелище, он не казался им опасным. Подняв яйцо двумя руками, он смотрел, как в нем переливается свет. Это яйцо держал в руках отец, когда его нашли, — его отец, человек с сигарой.
Он снова повернул яйцо так, чтобы в нем повалил снег. Когда-то он жил в этом яйце, оно вобрало его в себя, но как же сделалось, что он вышел из него и пустился в путь, который в конечном счете снова привел его сюда?..
Со стороны садоводства к нему шагал мальчик — крепкий мальчуган с веснушчатым лицом. Вилфред привстал с пепелища — не хотел, чтобы ребенок видел его лежащим. Но мальчику было все равно, сидит он или лежит. Он протянул Вилфреду деньги — бумажкой.
— Отец сказал, чтобы ты уходил отсюда. Говорит, нечего тебе здесь ошиваться.
Мальчуган тотчас зашагал назад не оборачиваясь. Веснушчатое его лицо было жестким и замкнутым, как орех. Теперь Вилфред сидел на пепелище с деньгами и стеклянным яйцом в руках, точнее, в одной здоровой руке, — соседство казалось нелепым. Здоровая рука была теперь не очень здорова, она позеленела, распухла и сильно ныла. Теперь обе его руки никуда не годятся. Но ноги еще держат его, нужно лишь терпение, они могут доставить его к пригородной станции — в сторону, противоположную морю. Интересно, следят ли за ним сейчас из окон дома? Голландка — жена Тома, у которой убили брата... может, она сейчас стоит у окна, испытывая минутное удовлетворение при виде его, подобно тому, как испытал его Том, а еще раньше — Андреас. Даже тем Андреас возвысился в собственных глазах, что женился на Эрне, которая тоже нуждалась в утешении, — в том, чтобы вырасти в собственных глазах...
Но Вилфред не мог заставить себя подняться.
Проклятые ноги, они разъезжаются в стороны всякий раз, как только он пытается встать. Если домочадцы садовника следят за ним из окон, они, наверно, подумают, что он нарочно не уходит отсюда, что он валяется здесь им назло.
Оставалось лишь набраться терпения. Была уже середина дня. Наконец ему удалось встать на ноги и, пошатываясь, сделать несколько шагов. В тот же миг чайки налетели на него. Теперь они снова видят в нем угрозу, надо уходить. И он ушел. Он шел, ища защиты у низеньких домов, слепыми окнами смотревших на него. Потом ему предстояло пересечь открытый участок — тут птицы снова его увидят. Он взглянул на свои ноги в чужих ботинках — ботинки были ему велики. Птицы галдели, верещали вокруг него, но, по мере того как он уходил от моря, их становилось все меньше и меньше. Только не оборачиваться, не размахивать руками — и так он с трудом удерживает равновесие. Он должен успеть к поезду, ему сказали, что он должен успеть к поезду. У него не было своей воли — он подчинялся приказу, не рассуждая.
Чужая воля, жившая в нем, гнала его к перешейку. Дорога вела с полуострова к летним дачам. «Старые коробки», — назвал их Том. Когда-то они были для него пределом мечтаний, сыну садовника они казались королевским дворцом, воплощением грез. Теперь же Том видел в них старые коробки. Дачи стояли на самой вершине холма. Наверно, сын Тома, тот, что лицом похож на орех, когда-нибудь купит их старую коробку в Сковлю, снесет ее и построит на ее месте новую дачу. А может, даже сам Том купит ее или Андреас! Да, Андреас купит ее и метр за метром будет пожирать пейзаж, пока не насытится им. Он скажет: вот эта старая сосна закрывает мне вид — подать сюда топор! И, чествуя самого себя — ведь он сидел в тюрьме за родину! — он скажет гостям: «Да, вот так мы валили деревья в концлагере...» И на миг он придаст своему лицу трагическое выражение, показывая, что рад бы забыть, да не может. А гости будут смотреть на него как завороженные и в душе торжественно вздымать флаг на мачту...
Ирония не помогала, никакие уловки больше не помогали. Ведь те люди правы, они всегда были правы. Все чрезвычайно просто. Шагая по перешейку, он спотыкался на гладких камнях и до боли кусал пальцы на здоровой руке, которая была отнюдь не такая уж здоровая. Все дело в этом: в сущности, все чрезвычайно просто! Все просто для того, кто сам прост душой, у кого нормальные инстинкты, вычитал он в одной из тех газет, что нашел у Роберта. Может, Роберт это и написал. А прост ли сам Роберт? И что значит это слово? Значит ли оно, что все явления — суть лишь то, что видно на поверхности, и ничего больше, вроде солнечного заката на картинах художников известного толка, тех, что пишут лодку у моста и дом на фоне леса, а сверху — небо, где положено заходить солнцу?
Что-то хлопнуло о выступ скалы слева, что-то с плеском упало в воду рядом. Острый предмет больно ударил его в затылок. В мозгу вспыхнула мысль. Она приказала ногам: бегите! И ноги бросились бежать. Но они позабыли прихватить с собой его самого, и он упал. Он услышал вопль, радостный мальчишеский вопль. Еще один камень упал в воду, обрызгав лежащего человека грязной водой. Боль расползлась от затылка по всему телу. Он лежал не шевелясь, боль то приливала, то отпускала. Вокруг него упало еще несколько камней.
Странно, что камень попал в него всего лишь раз. Когда он сам был мальчишкой, он неделями упражнялся, чтобы попадать в цель, и кидал камни, пока не научился. Он попадал в любую цель, какую ни наметит. Пальцы его безошибочно ударяли по клавишам рояля, он находил ответ на любой вопрос. До одурения читал он разные толковые словари, уйму книг и там находил ответы, чтобы затем ошеломить ими кого-нибудь. И он стал первым учеником в классе. Из всех — первым. «Ваш сын очень быстро схватывает, фру Саген, он необычайно быстро схватывает, но...»
Но...
Но!
«Я думаю, что моя душа — темный лес».
Конечно, это же написал тот самый Лоуренс. Значит, он думал так, черт возьми. Неужели кто-то думает иначе? Да — простые, чистые люди, чистые сердцем. Они думают иначе. Они думают, что их душа — проезжая дорога. Снабженная указателями, не дающими сбиться с пути.
Камень ударился в дерево с другой стороны. Потом обстрел прекратился. Вилфред медленно встал и подошел к дереву, здоровой рукой ощупал кору. Когда-то это дерево было волшебным: оно обозначало границу, впрочем, в ту пору все обозначало ее. Здесь была граница между дачниками и туземцами, теми, у кого не было даже фамилий. Бог ты мой, он знал их всех как облупленных, играл с ними и даже иногда спасал их, когда в этом была нужда. Но считал ли он их, в сущности, людьми?
Мориц — да, вот кто любил рассуждать о людях. Голубая кровь... Он не хотел держаться проезжей дороги. Это и убило его...
А дерево это... как часто Вилфред стоял здесь в былые дни. Дорожка здесь разветвлялась, направо — к большому миру, к станции, налево — к летним дачам, к летней его стране. Ноги сейчас влекли его туда. Но сам он не хотел туда идти. Он напряг всю свою волю.
Может, те — простые душой — даже не ведали искушения, может, их даже не тянуло сделать дурной выбор?
Та-та-та-там... та-та-та-там... Вот она опять, проклятая симфония. Кто-то назвал ее Симфонией Судьбы. Эти продажные писаки, они что хочешь переиначат по-своему. Какое отношение имеет судьба к его ногам? Ногам хотелось свернуть налево от этого дурацкого дерева, сам же он хотел идти направо — ведь ему приказали туда идти да еще дали денег. Та-та-та-там... Эта мелодия уже вела его однажды. Все повторялось. Стеклянное яйцо. Он нащупал его в кармане, обворожительно округлое и гладкое. Хорошо жить в таком яйце. Он овладел своим телом, не знавшим, куда податься, и заставил его зашагать в сторону станции. Они правы, всегда и во всем. И в том, что касалось спасения Тома. Была доля истины в злобной версии, которую они состряпали: да, правда, Вилфред хотел тогда все сделать сам, он рисковал затянуть дело так, что Тому это могло стоить жизни. И все равно: они лгали. Зерно истины — еще не вся истина. А вся истина — разве она существует? Разве ее можно найти?
Теперь, когда он удалился от моря, идти стало легче. Его уже не заносило куда не следует. До станции, кажется, километров пять или около того. Надо лишь верно распределить силы и не сбиваться с пути.
Ему больше не хотелось спасаться бегством; чем бежать от опасности, уж лучше шагнуть ей навстречу. Воля Тома вела его, Том ведь дал ему деньги. К тому же тропинка расширилась, теперь это уже дорога, но вот она стала еще шире, можно шататься на ходу, не рискуя наткнуться на дерево, не спотыкаясь о корни. Навстречу шел человек, его румяное лицо, освещенное вечерним солнцем, растянулось в добродушную улыбку. Он не осуждал подвыпившего соотечественника, ведь не каждый день приносит такие добрые вести. Разгром врага стал фактом, так ведь сказал Том. Теперь возрадуются все сердца, все сердца, все сердца... Тихо напевая, он разминулся с прохожим. Здесь нет злобных птиц, встречный прохожий приветлив, нет ни злобных слов, ни острых камней. Он ощупал затылок — на нем запеклась кровь. Удивительно, как распухла его здоровая рука, толстая рука на худом теле. Он рассмеялся. Прохожий обернулся ему вслед, Вилфред догадался об этом по звуку шагов. А вот в поезде лучше поостеречься, чтобы не показаться людям чудаком, — в этой стране люди, едущие в поезде, всегда серьезны, полагается вежливо отвечать, если тебя о чем-нибудь спросят, но лишнего не болтать...
Надо идти и не давать воли мыслям. Надо спешить туда, куда послал его чужой приказ. Пока человек жив, он не может ручаться за себя. Мало ли что взбредет ему в голову... В кармане у него яйцо, это хорошо, приятно трогать его, в нем какая-то благостная завершенность. Ноги идут и идут.
25
Все переменилось в этом городе, пусть самую малость, но перемена заметна во всем, особенно в лицах людей: они светятся затаенным счастьем.
Везде запустение, уродство. Солнце первых майских дней безжалостно обнажило его, но в самом запустении этом будто сквозит гордость. Облупившиеся, неухоженные дома улыбкой оскалились на улицы с разбитой мостовой; страшные, худые люди снуют из дома в дом, будто с сиянием над головами, каждый словно несет другому благую весть. Прежде, собираясь группками на углах, говорили тихо, нынче голоса звучат звонче, свободней. Но по-прежнему люди торопливо и настороженно оборачиваются и оглядываются вокруг. Над ними высятся деревья с их дерзко зазеленевшими стрелками — будто фанфары, громкой светлой песней своей возвещают они всеобщую радость.
Люди стали стремительнее в движениях. Не то чтобы им было куда особенно торопиться. Но они могут позволить себе стремительность — и в ней тоже будто скрыт молчаливый вызов. Люди так долго сдерживали свои чувства, сдерживали даже шаг, чтобы никто не подумал, будто они спешат куда-то по важному делу. Спешить куда-то по важному делу было просто опасно. Теперь необузданная надежда воплотилась в слова: «сбросить иго». «Иго» — слово это вдруг обрело смысл, из разряда абстракций перешло в разряд вещественно-ощутимого, чтобы затем вновь стать всеобъемлющим — синонимом безмерно тяжкого бремени.
Лица людей тронуты первым загаром. Лица — изможденные, но уже не серые, как прежде, и в этом тоже своего рода вызов, за который, по счастью, не сажают в тюрьму. На солнце, слава богу, запрета нет — отчего бы не подставить ему лицо?
Хотя для среднего человека условия жизни почти не изменились, все же каждый упоен близостью счастья. А оглянувшись вокруг, нетрудно заметить, что на улицах почти не видно прежних зеленых — защитного цвета — пятен, лишь на деревьях сверкает чудесная молодая зелень. Молодая зелень возобладала! Мерзкий зверь под градом ударов втянул щупальца, но не уползает, дожидаясь поворота событий — там, в большом мире, охваченном огнем, бушующим нынче вовсю.
Многое известно активным борцам, тем, что принадлежат к «внутренним силам». О переговорах долгое время ходили лишь слухи. Но сейчас точно известно, что они ведутся. Высокое начальство из лагеря оккупантов беспрестанно колесит по стране, выезжает нередко даже за ее пределы, чтобы встретиться с какими-то лицами, тоже занимающими высокие посты.
По нынешним временам высокий пост — помеха. Начальство помельче все же глядит веселей.
У кое-кого из посвященных прибавилось хлопот. К примеру, Роберт, один из деятелей «внутренних сил», не то чтобы уж очень известный, но весьма уважаемый, уже хлопочет о флагах. Если слухи не лгут, все может произойти внезапно, в любой день, не сегодня-завтра, на этот случай нужно иметь в запасе флаги. И флагов должно быть много. Роберт также неутомимо следит за правильной политической оценкой событий — как в своем кругу, среди соратников по борьбе, так и среди многочисленных знакомых, которых завел за эти годы. И всегда подчеркивает, что Освобождение — плод многих усилий: вехи его — и Сталинград, и Эль-Аламейн, особенно — Сталинград...
Когда-то у Роберта наряду с прочим была небольшая фирма, торговавшая типографской краской. Наверно, скоро понадобятся плакаты, а для плакатов понадобится красная краска. Теперь и Роберт тоже колесит по стране в заботах о типографской краске. У него редкий дар сочетать возвышенное с полезным.
Рассказывают, будто из тех, кто в свое время покинул страну, спасаясь от расправы, сейчас уже сформированы и ждут своего часа передовые отряды — это не только солдаты, обученные за рубежом, но и другие, кто своими делами заслужил право первыми вернуться на родину, чтобы помочь опьяненным радостью соотечественникам навести у себя порядок, поддержать их физически и духовно. Среди этих людей — скрипачка Мириам Стайн. На чужбине имя ее не поблекло — напротив, слава ее лишь возросла, и не только музыкальная: артистка прославилась и как добрая самаритянка, как деятельный человек, готовый отдать все силы новому обществу. Одно лишь слово на устах у многих: «благоденствие» — емкое слово, радующее слух после стольких лет горя и разорения...
Вилфред Саген вошел в город как обыкновенный человек среди других таких же людей. Он не стал плутать по пути с вокзала, а двинулся напрямик через город. В приливе минутной слабости — или, может, силы? — он подумал, не явиться ли прямо в потайную каморку на Пилестреде; но это было выше человеческих сил — одна лишь мысль об этом заставила его пошатнуться. А шататься на ходу сейчас нельзя. У него и без того скверный вид, не хватало еще свалиться в канаву.
И все же он шел — шел с вокзала напрямик через город. Долго стоял он в потемках около дома на Драмменсвей и прислушивался. Все здесь казалось пусто: ни света, ни звука. Как уже не раз в жизни, он порылся в своем багаже, который весь умещался в карманах, заменивших ему чемодан и рюкзак, и нащупал ключ. Может, удастся прокрасться в дом, если только собрать все силы? А кое-какие силы все-таки есть — во всяком случае, довольно, чтобы чувствовать голод и жажду — простейшие признаки жизни. На своем веку ему много раз доводилось тайком пробираться в дома, для него это было привычным делом. И если в этом путешествии по хорошо знакомой лестнице, сквозь знакомые двери, по знакомым коврам он и ощутил что-нибудь, кроме жадных голодных судорог — какое-нибудь движение души, — то, во всяком случае, он успешно его подавил. Мысли его были лишь о себе, о самых простых потребностях тела. Дальше мысли не шли: для этого он был слишком слаб.
Потом он снова брел через весь город — на восток. Он брел, на ходу пожирая то, что нашел в доме на Драмменсвей, ел открыто при всех, не прятался под деревьями. Редкие прохожие, оказавшиеся в этот час на улице, занятые каждый своими заботами, бесшумно скользили мимо — пожалуй, так все же было спокойней. Он брел, пережевывая пищу на ходу, глотал и снова засовывал ее в рот. Где-то он немного вздремнул, присев на скамейку. Но, едва очнувшись, сразу же снова начал есть, понемногу запивая снедь из бутылки, которую всякий раз бережно прятал во внутренний карман пиджака. Его карманы заметно распухли от всего, что он прихватил с собой. Выглядело это не слишком красиво, но что поделаешь?
Тьма скоро рассеялась, ночи стали уже совсем короткие, и птицы рано запели в кронах деревьев. Когда он дошел до Старого города, было уже почти светло. Он почувствовал необычайный прилив сил, может, от мысли, что скоро отдохнет от всех мытарств. Что он будет делать в здешних краях? Да ничего... Ни в одном краю в этом мире его больше не ждут дела.
Потом он вышел к причалам, там, где прежде была Грёнли, и, оттого что он узнал эти места, решение, казалось, вдруг родилось само. Зелень отсюда теперь почти исчезла, и почти исчез горный склон. Но в раннем свете утра он увидел Экебергский лес на взлете холма, где когда-то пережил безмерное унижение. И этот холм блестел зеленью — клочок природы, выживший наперекор рельсам и пустынным причалам. Нет, здесь ему нечего делать, как, впрочем, и во всех других местах. Но что-то шевельнулось в его сердце — оттого, что пришло узнавание. Какой-то отзвук будило в нем это место — похожее чувство охватило его при виде тропинки, выбежавшей вдруг из проклятого края, где он обрел свою душу...
Какое выспреннее выражение! И смехотворное — откуда только оно взялось? Но разве он и впрямь не обрел там свою душу? Вздор. Человеку в его положении не до души...
У одного из причалов стояла лодка. Осмотревшись, он бесшумно спрыгнул в нее. Никого. Весла на запоре — обвязаны обрывком цепи; Вилфред вновь выбрался на берег — поискать что-нибудь, чем можно отбить замок. Но нигде не оказалось ни камня, ни куска железа. Он вспомнил про револьвер. Он даже не осмотрел его и не знал, заряжен он или нет. Что ж, теперь наконец-то он пригодится. Снова спрыгнув в лодку, Вилфред рукояткой револьвера ударил по замку. Тот мгновенно раскрылся. Вилфред сразу налег на весла, он быстро вел лодку вперед — весла мощно раздвигали жирную воду клоаки. Отзвук... отзвук, со всех сторон его обступали отзвуки. Здоровая рука ныла. Уже светло, нельзя, чтобы его сейчас заметили, сейчас он не хочет брани, насилия, ударов. Где угодно пусть схватят его, лишь бы не здесь, в этой грязной сточной воде.
Вилфред повернул к Большому острову. Светлая тихая рань, впереди незамутненная гладь моря. В верхней части города в окнах вспыхнуло солнце. Набережные и дома еще спят.
Причалив к крутому восточному склону острова, он привязал лодку и сошел на берег. С деревьев навстречу ему грянул хор птичьих голосов — будто фистулой зазвенел безумный орган, во всю свою мощь возвещающий ликование. Вилфред стал медленно взбираться на холм. Здесь, на острове, стояли бараки, осталось также несколько старинных домиков, среди них — диковинное строение с островерхой крышей, напоминавшее не то барский дом, не то церковь. Наверно, в нем расположились офицеры, а в бараках — солдаты. Значит, и этот остров превратили в военный лагерь, в крепость, а может, в последнее прибежище зверя. Здесь был враг. Вилфред не стал искать прибежища у врага, еле слышно побрел он по мягкой тропке, скрытой густыми кронами деревьев, — брел словно по воде. С утренним теплом к нему притекли запахи из самого сердца острова: воздух был напоен ароматом чужестранных растений. Раньше здесь жили и усердно трудились монахи. Здесь они возделывали свои грядки с целебными травами, на веки вечные обогатив островную флору иноземными видами. Остров казался отдельной страной — тоже оккупированной, но с клочками ничейной земли.
Он подошел к низенькому строению вроде павильона — порождение изысканного вкуса былых времен. Долго стоял он снаружи, заглядывая в щелку между куском картона, заменяющим оконное стекло, и рамой. Потом он с силой налег на дверь — будь что будет. Но сила оказалась ненужной. Под его напором трухлявая дверь сразу подалась и открылась настолько, насколько позволял перекос. Он вошел внутрь. Здесь жили люди. На скамье стоял примус; на полу валялся кофейник. И Вилфред снова подумал: «Будь что будет». От усталости у него уже начались галлюцинации. Опускаясь на пол, он сунул руку в карман, за съестным. Но он даже не успел вынуть еду: уснул, положив голову на скамью.
Когда он проснулся, был уже вечер. Он сразу же вспомнил, где он. Ему снилось, что он снова бродит в том безрадостном лесном краю, но это не испугало его. Теперь он носил этот край в себе, он принес его с собой сюда — в светлый лес, с его неземной красотой, и край этот был с ним в сыром павильоне. Живая рука отчаянно ныла, он подмял ее под себя, когда во сне рухнул на пол, и теперь он стал растирать ее мертвой рукой. Он лежал, сквозь дверную щель наблюдая за светом. Смеркалось быстро. Птичье пение уже смолкло. Лишь издали доносился тихий плеск легких волн о берег. Значит, погода стоит по-прежнему ясная, и волны тихо набегают на берег, гонимые южным ветром.
В ожидании темноты он поел. Зачем он ждал темноты? Просто так. Он ничего здесь не искал. Он просто хотел здесь жить, просто быть.
Он ясно видел теперь — как странно, что прежде он до конца не сознавал этого, — он ясно видел связь между обрывками детства и редкими мгновениями самосущности, даруемыми человеку потом. Он был будто в лихорадке — главное сейчас найти верные слова для своих дум. Самосущность? Минуты абсолютного времени, мгновения бытия — не повседневной жизни, родственные другим минутам, когда символические фигуры, сливаясь на полотне, создавали совершенный узор, некогда воплощавший в себе его — Вилфреда — стремление к совершенству.
Тьма не сгустилась до черноты. Стояли серебряные сумерки. Скоро птицы опять запоют. Он доел остатки еды и выпил немного вина. Затем осторожно выбрался из павильона. Подойдя к странному дому с островерхой крышей, он увидел за стеклами приглушенный свет. До него донеслись голоса. Прижавшись к стене, он стал слушать. Он думал, что люди разговаривают друг с другом, но слышался только один голос — голос диктора по радио. Приемник был включен на полную мощность, но звук плохо проникал сквозь стены... Слышны были лишь отдельные слова, диктор говорил по-немецки. Он расслышал слово «капитуляция», потом имя «Дениц». И еще расслышал «на всех фронтах». Диктор много раз повторял одно и то же. И слова его, сплетаясь воедино в великую, ликующую весть для мира, с волнением дожидавшегося рассвета, прорывались сквозь стены, отдавались у Вилфреда в ушах.
Он спустился в долину, открывавшуюся в самом сердце острова. В серебристо-сером свете ночи перед ним выросли развалины монастыря. Здесь царило безмолвие. В ноздри ударил густой запах ревеня, принесенный прохладным ночным ветром. Он вспомнил легенду о потайном ходе из монастыря до крепости Акерсхус, будто бы прорытом под морским дном. Все может быть, значит, и это. Почему бы монахам в коричневых рясах не выйти вдруг из серебристого мрака и не заняться привычными хлопотами?.. Картины, созданные воображением, в эту ночь реальнее самой грубой реальности. В далеком мире свершаются решающие события, а в соседнем доме побежденные строят планы почетного отступления — это их последние планы. Мир лежит в развалинах — может, иной мир восстанет из них? А те, которым принадлежит будущее, собираясь вместе, изучают сводки, карты и телеграммы. И сама ночь будто серебристый плод, созревший для тех, кому принадлежит будущее.
Он долго стоял, разглядывая строгие очертания руин. Он хорошо знал их. Когда-то — школьником — он часто бывал здесь: всем классом они приезжали сюда изучать редкие виды растений. Дрожа от страха, стояли ученики у стеблей вышиной почти в человеческий рост, трогали липкие листья. Когда учительница объяснила, что это белена, один мальчик тут же рухнул оземь, сраженный то ли острым ядом, то ли испугом. Точно так же пугал их тогда вид монашьей обители. Теперь он узнал ее, узнал отзвук былого. Вдруг ему послышались чьи-то шаги на тропинке, по которой он сам сюда пришел. С быстротой молнии метнулся он за развалины монастырской стены. Из тьмы выплыла тень, посеребренная сумерками. Может, это призрак отца Гамлета, в своем безвинном сне отравленного беленой, неприкаянно бродит в здешних местах?
Блаженный ты или проклятый дух, Овеян небом иль геенной дышишь?.. [3]Тень замерла на холме у входа в разрушенный монастырь. Вилфред даже не был уверен, что и впрямь ее видит. На миг она привлекла его взор, теперь же мысли его, тягучие и неспешные, обратились к другим предметам. Время, место — все потонуло в ночной мгле. Действительность сменилась игрой воображения...
Нащупав в кармане стеклянное яйцо, он ухватился за этот гладкий шар, словно в нем было спасение, разгадка всех тайн. Казалось, он держит в руке свой собственный, усталый, измученный мозг, стараясь выжать из него последний сгусток мысли, чтобы объять ею судьбу некоего человека... что, если он сам — всего лишь отзвук этой судьбы? Не примешивается ли ко всем ночным запахам аромат сигары? А легкий пар над лугами — вдруг это лишь дым от сигары, выдохнутый в мир человеком, который покинул его, так и не изведав покоя, навсегда уйдя от его поисков и расспросов, со своей печальной и лукавой тайной?
А игра длилась в выжатом мозгу, в глубоком отчаянии рождавшем слова:
Отец, державный Датчанин, ответь мне! Не дай сгореть в неведенье: скажи, Зачем твои схороненные кости Раздрали саван свой...Сквозь тонкую дымку над морем проглянула бледная луна. Он увидел плотного низенького человечка в мундире фельдфебеля. Застыв у входа в монастырь, фельдфебель сопя принюхивался к ночному воздуху, будто зверь. Затем, судя по звуку, он справил малую нужду и, повернувшись, исчез.
Наполовину высунувшись из-за стены, Вилфред в раздражении скорчил гримасу: школьную премудрость и театр, реминисценции — все к чертям! Что вдруг привиделось ему в этой фигуре? Призрак... Наверно, многие, подобно ему, беспокойно бродят вокруг в эту ночь, принюхиваясь к воздуху, ища для себя выход, словно ночь может дать им ответ. Но ночь ничего не сулила одинокому фельдфебелю, да и Вилфреду тоже. Она несла счастливую весть победителям, всем, кто ходил сейчас с гордо поднятой головой, и праведным людям, что скрывались в лесах, дожидаясь сигнала. Скоро настанет их время, может, в эту ночь, может, завтра. Час освобождения близок — он уже слышал эти слова.
Кажется, где-то бьют часы? Нет, это подает голос буй-ревун на фьорде: баюкаемый ночью, он накрылся волной, будто одеялом...
Вилфред выпрямился во весь рост и прислушался к звукам вселенной. Он услышал напев надежды, ночная дымка таяла и отступала. Скоро наступит час, когда призракам пора возвращаться в землю, и ему тоже — пора.
Уже светляк предвозвещает утро И гасит свой ненужный огонек...Чары рассеялись. Вилфред бесшумно зашагал по траве — к югу. Когда-то здесь был ручей — серебряная нить под нависшей листвой берез. Вспомнились и пологие горы, ближе к проливу. Едва завидев рощу плакучих берез в лунном свете, он свернул на юго-восток. «Может быть, там найдутся мидии», — подумал он.
Он и вправду нашел их, спустившись к отмели, но с берега было не так легко их взять. Быстро скинув с себя одежду, он вошел в воду и горстями начал выбрасывать мидии на берег. Потом он быстро оделся, весь дрожа от холода. Хорошо бы укрыться где-нибудь в доме. Его путешествие в потерянный край, его жалкое возвращение к навсегда потерянному еще не завершено. Какая-то сила гонит его вперед, повелевая делать то-то и то-то. Может, это и есть здоровый инстинкт? Здоровый или больной — он подчинился ему. Он еще не обессилел вконец, но воля еле теплится в нем, если вообще это воля, и притом — его воля.
Свет медленно просеивался сквозь дымку. Снова сбросив с себя рубашку, Вилфред завернул в нее мидии. Когда он побрел по опушке леса, из крон деревьев послышались первые ликующие голоса птиц. Предрассветные сумерки отступали; подобравшись к павильону, он осторожно заглянул внутрь. Никто не заходил сюда в его отсутствие. Он притворил дверь так плотно, как только мог — он озяб. Разжечь огонь он не смел, да и не было спичек. Вскрыв раковины сломанным ножиком, который нашел на скамье, он жадно проглотил мидии. «Устрицы с белым вином», — насмешливо подумал он и вспомнил про бутылку. Он долго приберегал ее. Сейчас она будет в самый раз. Мидии хороши, а под коньяк особенно. Он пил из бутылки маленькими глотками и подолгу удерживал жидкость во рту. Он поступал так из экономии — коньяк надо беречь.
Впрочем... надо ли? Он отпил несколько глотков, уже не думая о бережливости. Сел на пол и стал лить коньяк в глотку. Мгновенно всплыли откуда-то видения и звуки, заполнили собой сырую каморку. Жаль, что нет здесь музыкального инструмента — он безмерно тосковал сейчас по музыке. Попробовал даже спеть, но вышло не очень удачно... Что, если кто-нибудь его услышит? Да что там, где уж расслышать одинокого певца, когда тысячи звонких голосов распевают в деревьях. Уже грянул ликующий птичий хор. Снова утро! Он поднял бутылку, чтобы отхлебнуть из нее, но уже не мог этого сделать. Милосердное беспамятство сошло к нему и вновь унесло его на крыльях сна...
Дважды в этот день он просыпался, приподнимался на полу и прислушивался, цепенея от страха. Мнилось ему, будто сотни трубачей с трубами и литаврами маршируют сквозь дом, через лес. Но шум был лишь в его собственной голове, и всякий раз он заглушал его глотком из бутылки.
Потом бутылка опустела. Он лежал, обеими руками сжимая ее, лежал на полу в блевотине и грязи. Когда он проснулся в третий раз, снова была ночь. Он проснулся с уже готовым решением, встал на ноги и, шатаясь, вышел из дома. Холодный ветер разом стряхнул с него хмель, в самом прикосновении ветра была ласка. Он постоял, наслаждаясь ею, ждал, что она повторится.
Но ласка не повторилась. Ночной ветер уснул. Был лишь он один, и была его воля, но она не была его. Он ощутил подъем, почти что радость. Мириам... когда-то он искал ее на станции, там, в долине, в маленьком домике пригородного вокзала. Но она не пришла — впрочем, это было давно. Тогда она спасла бы его. Теперь — поздно.
Теперь он знал — судьба снова гонит его вперед, и это последний отрезок пути. Радость охватила его. Он быстро зашагал вниз по склону к лодке.
26
В город. Или, может, прочь от города?..
В город!
Но он устремился прочь от города.
Сомнения раздирали его...
Еще когда он плыл на лодке с острова, он видел отблески костров над центром города, слышал отдаленные крики — но не ужаса, а радости.
Сейчас он увидел людей на холме у Мореходного училища. Может, его заметили? А может, обнаружили пропажу лодки?..
В полутьме он зашагал прочь от города. Вскоре, свернув в сторону, он начал подниматься в гору, дорога терпеливо вела его к взлету холма. В домах теперь горел свет: освещенные окна весело смотрели в ночь. Люди стояли, размахивая руками, на фоне яркого света. Все было ново и непривычно. Что это за костры?..
И вдруг на его пути вырос такой костер — бесстрашно раскинулся он посреди дороги. Вокруг костра, прямо на развилке путей, кружились в радостной пляске дети и взрослые. Теперь он понял, что это были за костры: жгли маскировочные шторы! Люди то и дело выбегали из домов с новым запасом хрустящих штор — призрачными тенями мелькали они во тьме, но, подбегая к костру, попадали в полосу света, и лица их смеялись. Какой-то ребенок закричал: «Ура!» Взрослые зашикали было на него, но сами подхватили его возглас. Седой мужчина в пижаме под зимним пальто раскупоривал бутылки шампанского — пробки щелкали одна за другой.
Вот, значит, какие это костры и какие люди вокруг! Костер вдруг полыхнул ярким пламенем, и Вилфред неожиданно оказался в полосе света. Его тотчас окликнули, люди с сияющими лицами окружили его, наперебой весело что-то кричали; другие по-прежнему сновали взад и вперед, подбрасывая в костер разный хлам — теперь уже не только шторы. Он не успел моргнуть, как его справа и слева схватили за руки, и вместе со всеми он закружился в пляске вокруг костра.
Кто-то запел: «Мы победили!..» Пламя вдруг резко спало, из дома начали скликать детей; с балкона кто-то крикнул: «Погодите до утра — оставьте праздник на завтра!..»
Вилфред вышел в открытый простор, к полям, окутанным дымкой. Он все еще ощущал прикосновение чужих рук, теплых человеческих рук, в порыве радости протянутых ему, он ощущал их тепло в обеих руках — невыносимый огонь из глубины лет.
Рождественская, елка в доме на Драмменсвей... тогда все брали друг друга за руки, и горничные в свежевыглаженных фартуках тоже приходили сюда, и все руки смыкались — нежные пальчики смыкались с грубыми заскорузлыми руками, и это было ему противно, и противны были ласковые слова...
Теперь его обступила природа. Он снова был полон сил. Выйдя к опушке леса, он присел отдохнуть — ведь он сейчас полон сил, мог позволить себе передышку. К чертям рождественские елки в доме его детства! Что прошло, то прошло. Он блаженно медлил сейчас, ибо знал:конец близок.
На опушке леса вдруг появились люди. Они переговаривались, оглядываясь назад, и тут же подошли еще люди, растянулись в цепочку. Прозвучала команда, но не из тех, прежних — резких, презрительных, грозных. Одно слово носилось в воздухе: «Друзья!» Он услышал его, не ушами — всем телом.
Потом сквозь дымку он увидел тех же людей: выстроившись в затылок, они шагали куда-то. Но не в сторону города — они шли к хутору, смутный силуэт которого угадывался в тумане. Он сразу понял, кто эти люди. Они шли исполнять приказ — долго ждали и дождались своего часа.
Он тоже ждал. Чего же ждал он? Он резко обернулся: над ним пронеслись птицы. Потом он стоял, глядя на город, расстилавшийся внизу, и душой принял свой выбор. Он поднял над светлой пропастью в глубине свои жалкие мертвые руки. Долго глядел он на здоровую руку, размышляя о том, чем, в сущности, отличаются они друг от друга — рука и протез, живая рука и рука мертвая.
Среди низких домов в Старом городе по улицам бродили старые люди, и тех было немного. К Вилфреду подбежала женщина, схватила его за руку. Она хотела поцеловать его руку, здоровую руку, но, тут же выпустив ее, отшатнулась в страхе. Он пошел было за ней к узким воротам, но она бросилась бежать. Вилфред остановился, потом тоже пробежал несколько шагов, хотел окликнуть ее... Он огляделся вокруг. Никого. Может, женщина учуяла какой-то запах? Что-то испугало ее... Он зашагал быстрее к западной части города, туда, где были люди. Люди, в чьих глазах светилась надежда, — он хотел их видеть.
И вдруг он увидел их, они были повсюду, они шли толпами и пели, строем шагали по темным улицам с песней, с сияющими лицами. Они шли к центру города — женщины, мужчины и бледные дети. Над городом еще стояла ночь, лишь на северо-востоке открылась на небе кромка зари. Но люди высыпали на улицу, многие пели, другие просто стояли на углах, на краях тротуара — и у всех лица светились тем же особым светом. Свет, шедший изнутри, будто пронизывал их насквозь. Никогда еще Вилфред не видел людей такими. Казалось, они и сами этим изумлены, будто в них вселилась какая-то нездешняя радость. Впрочем... Он видел такие лица на полотнах художников средневековья. В его мозгу всплыло слово «блаженные».
Да, блаженными казались все эти люди. Может, взгляд их прозревал иные миры? Он вспомнил себя ребенком, вспомнил, как отчаянно резвились дети на улицах в первый день каникул. Кто-то из них придумал, будто они стали птицами и умеют летать. И все дети разом сбросили с себя ранцы, замахали руками, и, кружась, все кричали: «Я лечу! Лечу!»
Такими же были люди, которых он видел сейчас. Они будто вознеслись над землей. Духом своим вознеслись они над миром, и все ликовало, пело у них внутри: «Я лечу! Лечу! Я лечу над миром!»
Он вновь очутился у своего дома на Драмменсвей. И здесь, в окнах, обращенных к заливу, был свет. Стоя на нижней ступеньке лестницы, он видел, как чья-то дородная фигура снует за легкими занавесками. Наверно, дядюшка Мартин — да, теперь даже можно расслышать его голос — наверно, дядюшка Мартин объясняет что-то сестре, усиленно размахивая при этом руками.
Он стоял в самом низу лестницы, смотрел и слушал. Одолел две ступеньки и снова остановился, пошарил в карманах, нет ли карандаша или ручки — написать несколько слов, но ничего не нашел. Тогда, бессильно уронив руки, он перестал прислушиваться и смотреть. Он все отсек от себя... Медленно спустился он вниз по ступенькам. Теперь уже рассвет набрал силу.
Вилфред быстро шагал к центру города. Улицы теперь заметно опустели. Но просветленность в облике людей сохранилась, ощущалась в каждом их жесте, в походке. Он увидел догоравшие костры в Студенческом городке, на площади перед университетом. Некоторые из блаженных по-прежнему стояли у костров, завороженно глядя на тлеющую бумагу. На площади перед университетом мужчина примерно одних лет с Вилфредом стоял между двумя статуями, застыв, подобно им, и плакал; его смуглое лицо, обращенное к светлому небу, под слезами блестело как бронза.
Скорей — под любую крышу, в любой дом, только бы уйти от всей этой просветленной радости... В любой дом... Понурив голову, он шел быстрым шагом. Он шел к тому подъезду на Пилестреде, где ежедневно вывешивали на двери скудное меню. Однажды он летел на крыльях к желтому строению пригородного вокзала, с последней, отчаянной надеждой на спасение, в которое сам не верил. Теперь же он был свободен — свободен от надежды, как и от всех сомнений...
Войдя во двор, он метнул взгляд в верхнее окно дома. В окне не было света, маскировочная штора опущена. Вся сила, переполнявшая Вилфреда, когда он бродил по холмам, теперь иссякла, с каждой ступенькой сил становилось все меньше. И с каждым этажом все трудней становилось идти. Неужели когда-то было всего пять этажей?
Когда он распахнул дверь, посреди комнаты стояла Мириам. На ней была военная форма. В волосах — седая прядь. Она не улыбалась, но и ее лицо тоже светилось изнутри. Шагнув к нему, она замерла. Казалось, она не очень удивлена.
Лица эти — будто лица блаженных...
Оба долго стояли, не шевелясь, друг против друга. Сердце бешено заколотилось в груди Вилфреда, отнимая у него последние силы. Тут она будто наконец увидела его. Взгляд ее, соскользнув с его лица, охватил всю его фигуру и снова поднялся вверх, словно она боялась смотреть. А он думал об одном: только бы не упасть. Когда-то он обладал великолепным даром притворства, которое всякий раз противопоставлял натиску обстоятельств, теперь он его лишился. Теперь он был один на один со своим внутренним «я». «Мориц... — подумал он, — может, я умер вместе с ним. Почти все во мне умерло». И еще он подумал: «Простота... мне она недоступна...»
В его мозгу четко вспыхнула эта мысль и еще другая: «Обстоятельства ни при чем... только бы устоять на ногах, не рухнуть на пол».
— Роберт... — начала она, — твой друг Роберт... Я только что вернулась назад, перешла границу вместе с передовым отрядом.. Роберт сказал, что, может быть, ты...
Жестом руки он не дал ей договорить. Ее взгляд упал на его руки и заметался от одной к другой, будто гадая.
— Руки твои...
Слова эти вырвались у нее. Она пыталась улыбнуться. Но улыбка не получилась. Взгляд ее снова ощупал его лицо, всю его жалкую фигуру. Слезы выступили на глазах Мириам. Шагнув мимо нее к окну, он отстегнул кнопки маскировочной шторы и поднял ее. В комнату ворвалось утреннее солнце: сноп лучей, похожих на сверкающие ножи. Вилфред обернулся: вокруг Мириам был ореол света, казалось, к нему сошел ангел с какой-нибудь старой картины, весь высвеченный снаружи и изнутри, — ангел в мундире цвета хаки.
Теперь пришел его черед улыбнуться, но повиновалась ему лишь одна половина лица. Это было столь непривычно, словно воля уже не управляла телом. Счастье еще, что он стоит спиной к свету.
Мириам машинально повторила:
— Роберт сказал, что, может быть, ты...
— Спасибо, — ответил он. — А ты ведь нарушила дисциплину, придя сюда, не так ли? Ты же несешь службу...
Теперь улыбнулась она. Ей вдруг это удалось:
— Ты всегда верно угадывал.
Она сказала: «Угадывал». Может, он и вправду уже умер? Он ощупал себя, все тело его застыло, почти онемело, как бывает после слишком длительного заплыва.
Вот оно что! Он слишком долго плыл. Он все плыл и плыл. Пора уже опуститься на дно.
— Я пришла к тебе, — сказала она. Все слова были не те. Он знал это, он всегда угадывал верно. Ей хотелось сейчас сказать ему нечто важное, такое, что бы обязывало, что разбудило бы его, заставило очнуться.
Она заплакала, в точности как тот мужчина на улице. По чистому лицу ее струились слезы, и она не смахивала их.
— Ты, наверно, устала, — проговорил он и подвел ее к кровати. Сам он тоже хотел присесть на кровать, но вдруг почувствовал, что это невозможно, нельзя им вот так сидеть рядом. Он встал перед ней на колени. Но когда ее руки коснулись его головы, он отпрянул назад. А вот его руки... когда он простер их к ней, он увидел, что они в грязи: мертвая желтая рука и другая — распухшая левая...
— Тебе нельзя здесь оставаться, — сказал он.— Здесь своего рода явочная квартира, сюда могут прийти.
— Кто?
Он пожал плечами.
— Они знают, где кого искать.
Подняв голову, она прислушалась. Он встал. Теперь он тоже слышал — громкий шум, будто взрыв голосов. Сейчас это уже не был обман слуха — шум в собственных его ушах. И еще раз взрыв голосов ворвался в комнату, затем распался на отдаленные, но все же внятные человеческие голоса. В такт шагам звучали те же возгласы, что он слышал минувшей ночью:
«Мы победили! Мы победили!»
И снова взрыв голосов, казалось, где-то вверху гул встречает препятствие, свод, от которого он отражается эхом. Обернувшись, он увидел на лице Мириам улыбку — блаженную, неземную.
Улыбка эта... будто условный знак между посвященными, будто картина в доме его детства, в комнате служанок — изображение Судного дня. Так улыбались праведники в белых одеяниях, те, что держали верную сторону...
Улыбка Мириам погасла. Ее взгляд упал на него.
— Это тебе нельзя здесь оставаться! — прошептала она. Он покачал головой, и в ответ в глазах ее вспыхнула искра — жажда действий пробудилась в ней: — Ты должен спрятаться... до той поры, пока все не разъяснится!
Он снова покачал головой.
— Мириам, — проговорил он, — господь тебя благослови...
— Ты же не веришь в бога.
— Да, не верю.
Она подошла к нему, встряхнула его за плечи:
— Я сказала, ты должен уйти. Ты обязан уйти. Обо всем прочем мы поговорим... после.
Она уже не плакала. Торопливо вытерла лицо руками. Перед ним вновь стояла юная Мириам — деятельная, добрая Мириам, с лицом, исполненным прелести и спокойной силы.
— Когда мы бежали отсюда... — прошептала она, — это ведь ты спас нас?..
Он покачал головой. Вскинув руки, обе несчастные руки, будто два символа унижения, он властно обхватил ее голову и отстранил от своей, долго изо всех сил удерживал ее так. И снова до них долетели возгласы, шум, колокольный звон и пение флейт. Из всего этого моря звуков вдруг вырвались крики, крики радости и страха.
— Признайся, ведь это был ты тогда, у границы, я знаю, что это был ты!
В ее мольбе тоже были радость и страх:
— Ну, скажи же!
Он слышал ее слова. Но не воспринимал их. Он держал ее в объятьях. Но она оставалась для него недосягаемой.
И тут послышались голоса из холодного провала двора. Оба застыли на месте. Мириам быстро шагнула к окошку в эркере — в конце узкой комнаты. Он подошел к кровати. Теперь голоса уже доносились со двора, он слышал топот сапог. Распахнув окно, Мириам высунулась наружу — посмотреть, кто идет. Он торопливо зашарил руками в обоих карманах. И каждая рука нашла свое: одна — стеклянное яйцо, другая — револьвер. Он подумал, что до сих пор не знает, заряжен револьвер или нет. Он поднял его к голове, а сам продолжал следить за Мириам, как она стоит и смотрит во двор. Теперь спина ее распрямилась. Она уже увидела, что идут сюда. Шаги раздавались на лестнице, в самом низу. Чуть помедлив, он нажал на спуск.
Она метнулась от раскрытого окна, будто ее тоже подстрелили. Кинувшись к нему, распростертому у кровати, ощупала его голову, обе руки — одну со стеклянным яйцом, другую — с револьвером. Револьвер еще дымился.
Она снова подхватила его голову; бережно приподняв ее, взяла с кровати подушку и подложила ему под затылок. Затем приложила ухо к его рту — рот был открыт и слегка перекосился. Лишь теперь она заметила, что и нос тоже слегка скошен. Он резко выступал на худом лице. Лицо. Его лицо. Каким же было его истинное лицо? Она все лица его любила. Раньше она не знала об этом!
Прильнув губами к его губам, она не целовала его — лишь пробовала ртом, дышит ли он еще. Она тихо всхлипывала и стонала, а гул голосов снова вздымался с улиц. Будто людское счастье рвалось сюда к ним,— к ней.
«Ко мне, — подумала она. — Я ведь теперь одна».
Тут она услыхала на лестнице, этажом ниже, топот, скрип приближающихся сапог, шагавших, однако, вразброд. Кто-то шел впереди — человек этот ступал легче других, быстро переходил от двери к двери. Вот теперь шаги уже на пятом... Она сидела на полу и слышала, как шаги шли к ней...
Молодой человек с повязкой на руке распахнул дверь. У него было бледное, усталое лицо. Она заметила искру изумления в его глазах, когда он увидел ее на полу в военной форме. Знаком руки она остановила его. За его спиной слышался топот ног.
Человек быстро отпрянул, на миг закрыв глаза. Затем он обернулся к тем, кто шел следом.
— Теперь ему не уйти, — сказал он.
1
«V» — первая буква в слове «victory» — победа (англ.). По азбуке Морзе: три точки, тире.
(обратно)2
Признаваться в этом унизительно, но все мы сделаны из одного и того же теста (англ.).
(обратно)3
Здесь и далее перевод М. Л. Лозинского.
(обратно)

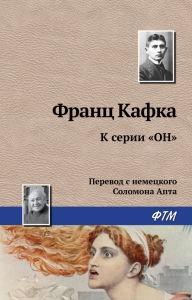
Комментарии к книге «Теперь ему не уйти», Юхан Борген
Всего 0 комментариев