Борис Верхоустинский Атаман Повести и рассказы
Атаман
I
Набережная Волги кишела крючниками — одни курили, другие играли в орлянку, третьи, развалясь на булыжинах, дремали. Был обеденный роздых. В это время мостки разгружаемых пароходов обыкновенно пустели, а жара до того усиливалась, что казалось, вот-вот солнце высосет всю воду великой реки, и трехэтажные пароходы останутся на мели, как неуклюжие вымершие чудовища.
Перс Суран-хан, кирпичнолицый, бородатый, бритый, с выкрашенными ногтями, сидел в одних портках, без рубашки, на цибике чая и строго смотрел на синее небо.
После долгих размышлений он важно закурил глиняную трубку и с шумом плюнул в воду, переливавшую тысячами цветов из-за плававшей по ней нефти.
— Хан!
Перс обернулся: сверху набережной по шатким ступеням лестницы спускался мальчуган-оборвыш с здоровенным арбузом под мышкою.
Перс выстукал из трубки недокуренную махорку. Ну, ее, — какой это дурак придумал курить в такие жаркие дни? Съесть пол арбуза будет куда лучше.
Оборвыш сел на цибик рядом с Суран-ханом и разрезал темнополосый арбуз пополам. Принялись его уничтожать, громко чавкая. Когда от арбуза остались лишь корки, перс вздохнул и вытер мозолистою рукою губы.
— Эх! Караша, та малы.
— А ты жри, что дают! — ответил оборвыш.
Перс опять закурил трубку и опять плюнул в расцвеченную воду.
— Ну, а теперь расскажи, каково у вас там, — попросил, болтая ногами и не глядя на собеседника, мальчик.
— О-ой, жаркы! — вздохнул Хан.
— Ну, а как жарко?
— А ошен жаркы…
— Дурак! Говори толком. Заладил, что индюк: «жаркы! жаркы»! Басурман голопузый!
— А… а ты чэго? — обиделся перс, — хочэшь, тэбэ в лэпешка сдэлай?.. Тэпэрыча там — о-ой, тэм как… Кароший страна Персия, и бабы карошиэ.
Черные глаза перса мечтательно сузились, а широкие плечи поднялись выше. Мальчик, сурово прищурясь, посмотрел в даль реки. По ее ослепительной, как расплавленное стекло, поверхности вяло полз черный буксир, похожий на водяного таракана. Этот таракан тужился, изнемогал, волоча за собой на толстом канате огромную мачтовую баржу. Ей-Богу, ежели увидеть этакую махину во сне, то примешь ее не иначе, как за корабль. Вот было бы ловко, кабы ее подарили Волчку. Он, Волчок, прорубит в бортах окна, просунет пушки, нарядится в шелковую рубаху, плисовые шаровары и лакированные сапоги — и в добрый путь, за Астрахань, на Каспий — стрелять, грабить, рубить топорами.
— Хан!
— Чэго тэбэ?
— Поедем, хан, к Каспию… Рыбачить, да на промыслах воровать. А оттудова в Персию, укокошим купца какого-нибудь, будем богатыми.
Перс отрыгнул и повел плечами:
— А высэлыца хочешь?
Оба, раздумывая, замолкли. Но вдруг перс ударил себя по бокам, прыснул от хохота и оскалил зубы, белые, как у хищника. Удивительно веселые вещи ему вспомнились! В Шуше то было, на Кавказе. Хан служил у одного зажиточного армянина конюхом. Вдруг — щуп! щуп! — татары — в армян, армяне — в татар. Сколько пуль было изведено! Собрать тот свинец да снести в духан, так целый день можно пить и тутовку, и кахетинское, и нанять музыкантов с зурнами. Армянина ранили в руку, дочки перевязали ее; старшая дочь была беременная, но такая красавица… Татары вечером поймали ее на улице, раздели донага, и человек тридцать — в-ва!.. А потом отнесли на угол, вспороли ей живот, вынули младенца и положили к ее белым грудям.
— А и сволочь же ты! — нахмурился Волчок, — не буду больше тебе воровать арбузов.
Волчок спрыгнул с цибика и побежал по шатким ступеням лестницы наверх набережной. Суран-хан смущенно посмотрел ему вслед. Какой глупый Волчок! Как же можно лишать человека даровых арбузов, когда он к ним привык!
II
Покинув Суран-хана, Волчок долго стоял наверху набережной, облокотившись о чугунный барьер. Он смотрел, как река длинной серебряною лентой ползла и извивалась, словно убегала из плена. Левый берег казался таким далеким-далеким, почти игрушечным. Голубела игрушечная церковь, пестрели игрушечные домики, а люди маячили черными вертлявыми точками. Ни лиц, ни платья их нельзя было разобрать. По обеим же сторонам слободы тянулись бархатные заливные луга, а за ними чуть синела кайма леса. Слобода стояла на пригорке; в половодье луга вплоть до леса исчезали под водой, и тогда она была островом.
Сообщение между берегами поддерживал остроносый пароход, похожий на селедку. Он свистел, шумно хлопал красными лопастями колес по сонной воде и на длинном канате тянул за собою паром с лошадьми и возами. Волчок всегда изумлялся, когда пароход и паром подплывали к пристаням. Купцы, чиновники, мужики, барыни, дети, почтальоны и разносчики — ф-фу ты! И откуда только вылезала этакая прорва людей! Низ набережной сразу становился муравейником. Одни муравьи ползли длинными вереницами по деревянным лестницам вверх, к Волчку; другие входили в белые ворота, похожие на разинутый рот, и торопливо взбирались вместе с возами и извозчичьими пролетками на гору, в город.
— Пойду плюну! — пронеслась у Волчка мысль. Он стремительно сорвался с места, в припрыжку побежал по песку набережной к той ее части, где в старину были прорыты ворота; остановился над самой их серединой, перегнулся, прицелился в шляпу какой-то барыни и сплюнул. К несчастью, он рассчитал плохо, плевок отнесло в сторону, на картуз извозчика, — бородатый болван ничего не заметил. Тогда Волчок повторил свой опыт; на этот раз вышло удачнее — слюна упала прямо в лоток с яблоками, кто-нибудь да купит же это яблоко…
— Ты что тут делаешь, негодяй? — вдруг раздался солидный голос за спиною Волчка, но он не растерялся: скорчив страдальческую гримасу, Волчок обернулся к застигшему его на месте преступления барину в белой шляпе и с тросточкой.
— По-дай-те, Христа ради, ко-пе-е-чку! — завыл он, изгибаясь как угорь.
Барин поправил золотые очки на носу и, немного озадаченный наглостью оборвыша, неуверенно повторил:
— Что ты здесь делаешь? На народ плюешь, а-а?
— Ба-арин, Христа ради, ко-о-пе-е-чку! — еще плаксивее заголосил мальчик и даже втянул щеки в рот, чтобы показаться исхудалым от голода.
Барин изменился в лице.
— Да ты, может, спрыгнуть хотел?
— Х-х-хо-тел! — сквозь слезы прошептал Волчок. — Мамка палкой обидела. За фатеру не плочено… Хлеба не на что…
Барин смущенно пошарил в кармане кителя, вытащил кошелек и, избегая приниженных взоров Волчка, подал ему двугривенный, потом, поколебавшись немного, добавил еще гривенник.
— На, только уйди отсюда, уйди сейчас же… Ты — умный мальчик и не должен падать духом: свет не без добрых людей.
Барин пошел дальше своею дорогой, а Волчок весело засеменил голыми пятками по боковой дорожке бульвара, обсаженного пахучими вековыми липами. Он бежал во всю прыть, чтобы барин не одумался и не отнял двух серебряных денежек.
Добежав до переезда, разрывавшего тенистый бульвар на две части, Волчок свернул на площадь, где полукругом стояли скучные трехэтажные дома с посеревшею штукатуркой.
«Окружный суд»,
«Архив»,
«Мужская гимназия»,
«Казначейство»
— чернели на этих домах угрюмые надписи. Волчок терпеть не мог проходить здесь; если бы не безотлагательные дела, сюда его не заманить бы и горячими калачами.
Миновав площадь, Волчок понесся к табачной фабрике, где работала укупорщицей его тринадцатилетняя сестра Ленка. Чем дальше бежал Волчок, тем зеленее становились деревянные дома и заборы загаженной махорочной пылью улицы. И так воняло дешевым нюхательным табаком, что прохожие тут всегда чихали.
Фабрика вся содрогалась и глухо гудела. Волчок несколько раз бывал в ее середине — гибель народа, гибель машин, словно чертово место там. Сам сатана хозяином; он пустил колеса, надел на них ремни, шириною чуть ли не в грудь Волчка, приволок из ада ящики, накидал табаку и подрядил мастеров. Хитрый бес!
Волчок вытащил откуда-то из своих лохмотьев кусок мела и нарисовал едва заметный крестик на железных воротах фабрики. Он не рассчитывал быть дома до самого вечера, а потому крестиком сообщал Ленке, чтобы она приходила сразу же после работы в колокольную лавку, как Волчок называл один павильон полуразрушенной выставки. Выставка эта устраивалась года полтора тому назад. Сколько народу на ней перебывало, чего-чего там не красовалось в пяти дворцах-павильонах! Сеялки, плуги, молотилки, машины для пахтанья масла, огнетушители, картины, таблицы, испещренные цифрами, камни, меха, полотна, игрушки и тысячи необычайных вещей, вроде чучела дикаря, едущего на санях, везомых оленьими чучелами. Кроме того, там были две башни, с которых пускали шелковых змеев и воздушные шары, чтобы узнать какая будет погода.
Ныне же царем всех пустых дворцов — он, Волчок! Две версты пришлось ему обежать, исследуя дощатный забор, которым обнесена выставка, — наконец, труды увенчались успехом, он отыскал удобную лазейку.
Выставка была на той же улице, где и фабрика. Уж очень красивые ворота построили для нее плотники — расписные, узорчатые. Жаль только — дожди посмыли краску, да и фабрика наплевала на них много зелени. А все же хорошие ворота, будто девушка в малороссийском сарафане.
И на них мел Волчка начертил крестик. Пусть сегодня все соберутся в колокольную лавку.
Покончив с знаками, Волчок понесся к церкви Параскевы-Пятницы, что в конце прозеленелой улицы. Церковь старая — видела на своем веку и татар, и злых воевод, и гулящих людей, сподвижников Стеньки Разина. Синий купол с золотыми звездами; стены толстые, древние, но выбелены заново. Ходила в нее больше фабричная голытьба, да и то не горазд. По вечерам здесь было не совсем безопасно, рядом ютились Таборы, пригород, населенный золоторотцами, крючниками, нищими, ворами и самыми дешевыми потаскушками. У церковной паперти зачастую происходили побоища с ножами, свинчатками, с разбивающими череп гирьками.
Волчок прошмыгнул за церковную ограду и, отворив щелистую дверь сторожки, остановился на пороге.
— Ванька!
В сторожке женщина с изможденным лицом качала зыбку, подвешенную к потолку. «Баю-баюшки-баю! Не ложися на краю»! — тихо напевала она, но при виде Волчка перестала петь.
— Здравствуй, Волчок! Ванюха гуляет с мальчишками на речке, у мельницы. А тебе зачем его надобно?
— Да так, надобно! — замялся Волчок.
Женщина пристально взглянула на него, и под ее взором Волчок покраснел. Не видит ли она его душу? Чего доброго, тогда она узнает, зачем ему нужен ее сын.
— Тетя Шура!
— Ну?
Волчок совсем растерялся; кроткие глаза женщины как-то поширели и опечалились. Ей-ей, она что-то видит. Не влопаться бы впросак; даром, что он ловок врать, а тут можно попасться и выдать все.
— Хочешь гривенник? — пробормотал Волчок, торопливо нашаривая монету.
— А откудова он у тебя?
— Нашел! — твердо произнес Волчок, протягивая деньгу женщине, но та не приняла от него подарка; тогда Волчок захлопнул дверь и помчался через Таборы на речку, к паровой мельнице, где обыкновенно купались ребята в теплой воде, выпускаемой из мельничных котлов.
Подумать страшно, сколько всякой дряни приносила эта речонка в Волгу. Дохлых собак, гнилых арбузов, стружек, навоза, ломанных корыт… А нефть, краска, отбросы из ретирадов? И в такой-то помойной яме купались все таборцы, хотя называли ее Тухлой.
Когда Волчок выбрался на загаженную набережную, без перил, без мостовой, с пришибленными и словно издыхающими лачугами, он увидел золоторотца и потаскушку, раздевающихся на берегу в рассохшемся челне.
Волчок остановился.
Первым обнажился мужчина. Его тело было крепко и смугло, а на левой руке краснела шерстинка от дурного глаза. Оголившись, он помог бабе, совсем дрянной бабе… Волчок с удовольствием залимонил бы в ее отвислое брюхо камнем. Изрытое оспой лицо, рыжая косенка — и все это в грязи. Но вот женщина бросилась с челна в воду, вздымая тысячи брызг, искрящихся на солнце, — и вот совершилось чудо, когда она, проплыв по-лягушачьи до того берега, вернулась обратно и встала лицом к Таборам.
Волчок увидел прекрасное, сверкающе-белое тело: солнце и вода, хотя и нечистая, преобразили потаскушку. Волосы на ней горели, как золото.
— Ишь ты, стерва! — весело подумал Волчок, идя к мельнице. — Обязательно надо жениться. Слава тебе, Господи, пятнадцатый год! Есть и невеста на примете…
Волчок перепрыгнул с берега на хлюпающие под его ногами бревна плота.
— Ва-ань-ка-а-а! — басисто крикнул он, приставив ко рту ладони в виде рупора.
На краю плота несколько голых мальчишек сидели, спустив ноги в воду, и курили. Их было шесть человек, но имели они лишь две папиросы, по папиросе на троих. Затягивались по очереди, да и то не во весь дух, а в полдуха. Рядом с ними, на ослизлых бревнах, валялись рубахи, картузы и штаники. Сапогов же ни у кого, кроме Ваньки, — сторожева сына — не было.
Ванька обернулся на зов, передавая драгоценный окурок следующему счастливцу.
— Приходи в колокольную! — таинственно шепнул Волчок, здороваясь с ним. Ванька покорно кивнул головой. Белобрысый, толстый и сонливый, он был полною противоположностью смуглому и худощавому Волчку. Совсем нестоющий мальчишка, ждущий хорошего кулака. Да и порядочный трус к тому же. Волчок его не уважал и дорожил им исключительно из-за его обширных знаний по части городов, стран народов и морей. Ванька учился в городском училище, откуда он и выносил всю свою премудрость. Однако, раздражал Волчка он нестерпимо.
Для рассейскаго солдата П-п-пу-л-л-и, бондбы ничево: С ними он за панибрата, Все безделки для него!— запел Волчок, схватывая Ваньку подмышки и спихивая в воду. Тот на секунду исчез, потом, фыркая и отплевываясь, вынырнул. «Черт! Сволочь проклятый»! — ругался он, взбираясь на плот, но хохочущий Волчок уже взлетал по глинистому откосу на набережную.
«Беспременно женюсь»! — размышлял он, направляясь к покосившейся лачуге. В ней жила его невеста, дочь мороженника, большого пьяницы и драчуна.
Невеста сидела на крыше дровяного сарая и грызла черствую корочку хлеба. Кроме нее, на дворе еще был безносый старичок — Трофим сапожник. Сидя на бревне, он чинил шилом и дратвою прорехи порыжелого сапога и добродушно посвистывал, но вместо свиста из его рта вылетало шипение. Кроткое лицо Трофима было совершенно обезображено. На месте носа зияла черная дыра с зелено-ржавыми краями. Но глаза Трофима светились спокойствием.
— Бог на помощь, Трохим! — приветствовал Волчок старика. Тот поднял голову, отрываясь от работы.
— То-то что на помощь! — улыбнулся он, кивая на солнце, — ишь ты, жарит как… А мне и на руку! Червячком выполз махоньким, а как обогреюсь малость, може, и птичкою запорхаю. Хе-хе-хе!
— Волчок! Волчок! — заюлила невеста, соскакивая с крыши. — Пойдем гулять, мне одной скучно.
Волчок принял степенную осанку и вполголоса пробормотал:
— Сегодня в колокольную надо, все тамо соберутся.
Черные брови девочки почти сошлись, она прикусила пышную, как у взрослой, косу, перекинутую через плечо на грудь, ударила жениха косою по лицу и прошептала:
— Пойдем вместе, а то мальчишки защиплют.
— Знаешь что, выдь за меня замуж! — взволнованно попросил Волчок, заглядывая в ее синие глазки.
Девочка тревожно взглянула на жениха:
— А бить будешь?
— Редко, — успокаивал ее Волчок, — да и то, ежели будешь шлюндрой.
— Ладно! — согласилась девочка, — только поп не поженит и тятька насмерть выдерет.
— Эка! — задорно усмехнулся Волчок, — так он и достал! О ту пору-то, эва, как далеко будем, не иначе — в самой Персии.
Ксюша кивнула головой: Волчок говорит верно.
— Пойдем! — потащил он ее за рукав, — у меня тридцать копеек. Двадцать на нож, чтобы отплатить, ежели кто сунется, а на гривну пряников. Опосля походом в колокольную.
Ксюша согласилась, и они пошли со двора.
— Куда вы? — прохрипел Трофим.
Волчок ему никогда не врал:
— Деньга есть; за пряниками да за ножом…
Оборванная парочка направилась в город, — все хорошее там, в Таборах путного ничего нет.
III
В городе Волчок и Ксюша пробыли долго; ходили на бульвар, посидели на скамеечке; толкались по Сергиевской улице, где мостовая изрыта — строят рельсовую дорогу для таких фур, что бегают без лошадей. Наблюдали за работой асфальтщиков, заливавших тротуары, а также глазели на витрину ювелирного магазина. Хорошо быть вором: все твое, лишь бы зазевался городовой!.. И серебряные чарочки, и золотые часы и медали, и цепочки, и гравированные папиросники… Одним словом, все!
— Да не про нас! — вздохнула девочка, отходя от витрины. Волчок сверкнул глазами:
— А вот врешь! В Персии все богатеющие, только бы доехать. Перво-на-перво куплю себе саблю вострую с золотой рукояткою, а опосля тебе в косу бусу. А не то грабить будем, там перед русскими робеют.
Волчок выпятил грудь, словно завидел толпу преклоняющихся перед ним персов.
Свернули в железные ряды за ножиком.
— Нож мне! — заявил Волчок, пролезая мимо навешанных на дверь замков в первую попавшуюся лавку.
Темно-желтый, как испорченный лимон, продавец отрывисто спросил:
— Кухольный, сапожный али складешок?
— Складешок… Подлиннее бы.
Торговец навалил на прилавок целую кучу. Волчку сразу же понравился один, с черной ручкой, но он отложил его в сторону, как недостойный внимания, и начал рыться в ворохе других. Торговался же так упорно, что купец, утомившись спорить, вместо ответа стал лишь мотать головой: мол, я не согласен. Несколько раз Волчок даже порывался уйти из лавки…
— Да вот тебе за двугривенный! — вспылил продавец, подавая намеченный Волчком нож. Но Волчок презрительно фыркнул. Дурак он, что ли? Он, чай, не кует двугривенных и не находит их на мостовой. Такого ножа ему и даром не надо, — вот невидаль.
— Купи его, надоело! — в тон мальчику попросила Ксюша. Волчок нехотя, словно уступая ее просьбе, выкинул на прилавок монету, а складешок спрятал в карман.
Вышли.
— А и хитрый же ты! — восторженно молвила девочка. Волчок лихо нахлобучил картуз и процедил сквозь зубы:
— Со мной не пропадешь.
Ксюша запросила пряников — уж не надул ли он ее, и не лжет ли, что есть еще гривенник. Мальчик обиженно всунул ей в руку деньгу — покупай, что знаешь… И она у ближайшей торговки набрала десять копеечных коврижек, пахнущих льняным маслом. Девять коврижек Ксюша оставила себе, а одну подарила Волчку, чтобы и ему было сладко. «Не мало ли?» — одолело ее сомнение, когда она съела первый кус, и он ей не особенно понравился. «Мало!» — решила она, одаряя жениха второю штукой.
Фабрика, мимо которой они проходили, уже не тряслась и не гудела. По субботам в ней шабашили в два. Высокая, длинная, со множеством темных окон, она еле-еле вздрагивала, как при издыхании.
Ксюше она напомнила облезлую псину, что лежит посреди улицы и жалобно скулит.
Другое дело выставка! Красок-то, красок на воротах!.. Позолоченный шпиц, красная арка с синими финтифлюшками; под аркой щит с гербом города, половина щита белая, половина небесная. А столбы, вырезанные так затейливо? А створки ворот, и по красному петуху на каждой створке? Смотрят они друг на дружку да поют, задрав головы. Умные люди сделали!
И все это огромное пространство, обнесенное высоким забором с тремя рядами колючей проволоки наверху его, раньше было обыкновенною пустошью. Почему, зачем ей была оказана столь необычайная честь Ксюша не знает. Вероятно, богачи рассердились, что пустошь только улицу портит, и прислали плотников, маляров, землероев и каменщиков. Те построили им много знатных дворцов. Богачи перебрались туда со всеми сокровищами и долго показывали народу свою роскошь Но оказалось, в домах позабыли сложить на зиму печи, — подкатили осенние холода, богачи поселились в трактирах, а все свои вещи повывезли обратно — пустошь осиротела, что было весьма на руку пронырливому Волчку.
Его лазейка находилась не на той улице, где фабрика, а там, где против выставки желтые дома, пахнущие карболкою и йодоформом, — губернская больница. Идти туда надо темными переулками. Вокруг больницы много лип и седых берез, может быть, поэтому ее и назвали Загородным садом. Липы же и около самого забора выставки. Хотя между ним и Загородным садом залегла немощеная дорога, но в будни здесь ездили очень редко, да и то лишь одни возы с мешками извести, вытряхивающими из себя при каждом толчке белую зловредную пыль. Иначе обстояло по воскресеньям. Стремились велосипедисты, пролетали кареты и лихачи с седоками; спешили толпы пешеходов — на ипподром или в Деевскую рощу, под сень высоких сосен. Роща возвышалась верстах в двух от города на крутом берегу Волги и была излюбленным местом гуляния горожан.
Но по субботам дорога между Загородным садом и выставкой особенно пустела. Волчок свои путешествия за таинственный забор обыкновенно приурочивал к этому дню.
— Стой!
Ксюша остановилась.
Волчок оглянулся по сторонам, не подсматривают ли, и, прыгнув в придорожную канаву, приподнял одну доску в заборе. В образовавшее отверстие сперва пролезла Ксюша, а за нею он, и доска вновь опустилась.
— Поди, ждут; мы маленечко запоздали! — беспокоился Волчок, торопливо пробираясь по заросшей травою дорожке к пустующим павильонам.
— Пущай! — ответила Ксюша; она спешила доесть последнюю коврижку, чтобы ни с кем не делиться.
Печальное зрелище представляли собой покинутые здания — высокие крашеные сараи со стеклянными крышами; они побурели от снегов и дождей, а ветер сорвал с них флюгера и перебил множество стекол. Странный городок — без жителей, без вещей в разрушенных домах… Ласточки, голуби и скворцы были его единственными обитателями. Они гнездились и на метеорологической башне, и в павильонах, и в покосившихся будках, когда-то полных всяких сладостей — вафлей, халвы, конфект, мармеладу, бутылей с фруктовыми квасами и с лимонадом.
Все постройки были расположены кругом; посреди него, на небольшой площади, высилось нечто в роде беседки или, вернее вершины колокольни.
Волчок любил свое царство, беседка была его тронным залом.
Величаво, как и подобает истому царю, он прошел по широким ступеням, за ним Ксюша, его достойная невеста.
— Здорово, ребята! — нахмурив брови, пробасил он подданным, сидящим на деревянном парапете в ожидании его прибытия.
Один из подданных, Ванька — сторожев сын, которого Волчок спихнул с плота в Тухлую, — еще не совсем позабыл нанесенную ему обиду и куксился. Но Волчок строго взглянул на него, и так властен был его взгляд, что оскорбленный подданный лишь сокрушенно шлюркнул сопливым носом. Против Волчка ничего не поделаешь: надо слушаться…
Другой подданный держал в руках резиновую рогатку и мечтал, как он вечером разобьет пущенным из нее камнем фонарь. Мрачный, одинокий, воспитанник Сиротского дома, он слыл среди мальчишек за отчаянного головореза; Волчок взял его в свое царство после единоборства, предварительно расквасив ему нос и опрокинув наземь. «Пусти»! — захрипел тогда побежденный, — «А мне упокоришься»? — спросил Волчок. Тот обещал стать на веки вечные верным другом, — Волчок пощадил его и, действительно, нашел в нем преданного угрюмого раба. Дергач, как и Ванька, приходился Волчку однолетком.
Ленка, сестра Волчка, тоже находилась в числе подданных. Царь пустоши любил ее, хотя сильно подозревал, что до вдовства матка была не раз замужем, а дважды — очень не походила на него Ленка, бледная, высокая, покорная, с робкими движениями и слабым, точно умоляющим голосом.
— Вы чего же, черти, не отвечаете, как я повелел? — грозно крикнул Волчок и даже притопнул по полу беседки босою ногой.
Подданные соскочили со своих мест и вытянули руки по швам:
— Здравия желаем, атаман!
— То-то! Садитесь опять, да впредь-то не позабывайте, а то буду бить…
Подданные влезли обратно на свои места.
— Жениться задумал я! — выпалил Волчок, — на Ксюшке. Так вот… С сегодня она будет… ну… моя жена. Верно, ведь? — обратился к невесте Волчок.
— Ладно, мне все равно.
Волчок опять нахмурился:
— А звал я вас не за тем… Все о стране Персии… Видел я седни того самого тамошнего хана. Ай, и богат же, богат! На ногах сафьяновые коты, на руках перстни; халат, что у татарина, куда там — татарина, жаром горит халат-от; весь в золоте. Сказал я хану: «Мои удальцы собираются»! Похвалил: всем, бает, будет за старание по… по лошади.
— Ишь как! — удивилась Ленка, — мне-то коня ни к чему, а вам под стать.
Волчок рассердился.
— Молчать, дура! Видишь, не кончил слово я… Так вы, братцы, обряжайтесь. Пора выезжать. Уведем карбас али катер и задуем до Каспия, а по Каспию с рыбаками до страны Персии. Хан говорит: уже много мальчишек туда поехало, такие головотяпы, что ай-лю-ли! В Персии-то война страшенная, вот он и набирает тайком. А ежели кто разблаговестит, так того удушим.
Волчок вынул из кармана нож и воинственно погрозил им подданным.
— Так что молчок, ни гу-гу… Да и не в барыш вам болтать попусту: полиция учует, что мы в Персию собрались, перво-на-перво в тюрьму, а опосля на заре расстреляют. Закон такой, не то все давно бы утекли. Да и расстрельная-то казнь в большущую милость, скорее всего обольют керосином и подожгут, как того скубента, что в мае красный стяг на бульваре перед людом пронес.
Ванька со страхом шлюркнул носом, а Дергач зевнул: дескать, не запугаешь.
— А теперича выметайтесь! — окончил свою речь Волчок. — В тую субботу опять приходите, а кто супротивничать станет, дам ему взбучку здоровую.
— Прощай, брат! — буркнул мрачный Дергач.
— Прощай! — покровительственно ответил ему царь пустоши, пряча складешок.
Подданные быстро засеменили по заросшим дорожкам и один за другим исчезли в лазейке.
— Ну, Ксюшка! — тихо сказал Волчок, обнимая девочку, — давай же поженимся.
IV
Солнце стояло уже очень низко, когда они, царь пустоши и его царица, покинули беседку. Они шли, понурив головы и не говоря. Лицо Волчка было бледно, а движения вялые, расслабленные. Новенький нож, о котором так долго мальчик мечтал, более не радовал его, ничто не радовало Волчка, и, кроме того, он стыдился Ксюши, не смея даже взглянуть в ее сторону. Сколько боли, сколько слез он принес ей своею женитьбою — право, лучше бы навсегда остаться холостяком.
— Ксюша! — наконец, не выдержал Волчок.
Она замедлила шаг.
— Прости меня, Ксюшенька!
Плечи Волчка вздрогнули.
Ксюша не отвечала. Она уже не походила на ту маленькую и вечно веселую девочку, что недавно сидела на крыше сарая, грызя корочку хлеба. Выросла, преобразилась, поумнела и покрасивела. Опорком, валяющимся в грязи, чувствовал себя Волчок рядом с нею.
Он прикрыл глаза грязными ладонями, прислонился к водосточной трубе облезлого домишки, мимо которого они проходили, и заплакал, трясясь всем телом.
— Волчок же! — испуганно крикнула девочка.
Он не отозвался.
— Да ну, какой… милый…
Руки девочки обвили его шею и оттащили от водосточной трубы.
— Дурачок, глупый ты… Ты, чаешь, рассердилась я, — ан нет. И тятьки не боюсь, плевать, ежели вздует. О-ой, смешной-то! Что сморчок, сморщился!
Волчок улыбнулся.
— Прости же!
На его сердце посветлело.
В Таборах им пришлось расстаться. Ксюша направо, он налево, оба домой. И так-то тяжело было расставаться что Волчок уже подумывал сейчас же утечь в страну Персию, лишь бы не расходиться, но оставлять товарищей в дураках стыдно, и не все еще приготовлено к поездке. Поэтому, хоть и горько было, а разошлись.
Лачуга матери Волчка глазела на вонючую улицу одним окном, да и то заклеенным во многих местах газетною бумагой; сколько раз оно билось — одному Богу ведомо. Не вставлять же каждый раз по новому стеклу: и так не густо, а тогда и совсем будет пусто — матка поденничала, стирала, мыла полы; Ленке платили за день пятиалтынный; Волчок бродяжил. В самый раз околевать с голоду.
— У-у, язва! — встретила Волчка матка бранью, — пожаловало ненаглядное солнышко. Жулик сволочной!
Волчок сел на лавку к столу.
— А, ведь вздую, ей-ей! — сурово процедил он свозь зубы.
— Это родную матушку-то? — всплеснула руками матка, грязная, толстомордая и спившаяся баба.
— Да, вздую! — буркнул Волчок. — Ты это почто мои сапоги пропила, а? Утресь хвать-похвать, а они — тю-тю… Рожа разбойничья, вот как тебя величать, а не матушка. Завтра, чай, воскресенье, а я босыш буденный.
Ленка лежала на деревянной кровати и спала, привычная к подобной перебранке. Посреди избы стоял неоскобленный осиновый столб; он подпирал потолок, чтобы тот не провалился вместе с крышею, и изба не разъехалась.
Глядя на этот столб, Волчок заскучал, захотелось в лес и в поле.
— Ну, ладно! дай пожрать, — лениво попросил он.
Матка, обескураженная справедливым упреком, молча подала сыну латку с тюрей и краюху хлеба. Волчок стал хлебать. Уже почти совсем стемнело: матка постлала ему на полу лохмотья, заменявшие постель.
— Как поешь, так и на боковую, нечего тут прохлаждаться.
— Мое дело! — строго ответил Волчок, отодвигая от себя опустошенную латку.
От матки воняло водкой, потом и какою-то кислятиной. Черт знает, какая потаскуха эта матка! Мало того, что пьет, так и пропивать вздумала.
Но гнев Волчка смягчился, когда она, постлав, села с ним рядом и вздохнула.
— Нельзя, Волчок, так ругаться… Я ж тебя уродила, не иная… Скажу тебе прямо, от разных вы кобелей — ты да Ленка, прямо скажу, поистине, а токмо я, не иная. Ты первый мой, тебя от покойничка — царствие ему небесное! — Ленку ж с солдатиком прижила. Красив был, а я дура.
— Оставь! — отмахнулся от ее слов Волчок, но матка не унималась:
— Вот вырастешь, так узнаешь — часто мы согрешаем. Трудно было носить тебя, восемь месяцев нутро ныло, на девятый начала помирать. Злодей был покойничек, такой сатана — царствие ему небесное! — что злей не видывала: тяжелую не щадил, бил по чреву… а выносила сыночка!
Мать хихикнула и прижала к своей груди Волчка. Волчок не вырывался. Во тьме и в молчании они просидели с минуту, а потом Волчку это надоело; он осторожно высвободился из ее объятий и, не раздеваясь, лег. Заснул тотчас же, даже не слышал, как мать его благословила.
Спал он словно убитый и к утру позабыл все виденные за ночь сны.
Утром же он долго лежал с открытыми глазами. Стояло вёдро, все было в золоте: и щелистый пол, и столб, подпирающий потолок, и грязь, и бутыль с подсолнечным маслом на подоконнике.
Ленка еще спала, но мать уже возилась у печки — пекла ржаные лепешки; воскресенье, ведь, надо же приготовить что-нибудь вкусненькое.
— Мам!
— Что?
— Солнце-то!
— Да, солнышко! — добродушно согласилась она, перевертывая лепешку.
— А что, ежели бы оно упало теперь?
— А куда ж ему упасть?
— Куда-нибудь! — неопределенно ответил Волчок, но матка рассеяла его сомнения:
— Это когда Антихрист придет, да будет промеж людей шляться, да свои печати окаянные накладывать. А с виду Антихрист тот благой, хоть от девки самой что ни на есть распахабнейшей. И многие народы ему поклонятся, как Господу. Поди знай, може, он уж тутотка, на земле… И все ж ему душу-то грешную не захороводить в омут: Бог-от и грешников приголубит, а его в тартарару вечную. Эва как!
Мать бросила Волчку прямо с поду горячую лепеху:
— Ha-ка, сыночек, закуси… Мать пекла, помни.
Волчок алчно зажевал, пачкаясь в муке, которой была обсыпана лепешка. Съел единым мигом, а когда встал, поглотил еще штуки четыре. Во всякой еде Волчок норовил есть с запасом, на случай голодухи. Проглотил бы и шестую, да не полезла. Пришлось оставить сестре.
Ленка лежала, раскинувшись по постели, и во сне сладко улыбалась. Правая нога до колена выбилась из-под лоскутного одеяла. Ленка злила Волчка. A-а, негодяйка! Подумаешь, растянулась, что барыня, и колено нагое высунула, — а сама крапивница, дочь солдатская.
— Мам, — шепнул Волчок, — ты молчи, я сейчас ее вспугаю!
Он зачерпнул в железный ковш воды из стоящей в избе кадки и, подкравшись на цыпочках к спящей, отогнул край одеяла. Тьфу, Господи, экая белая худая шея… И этакая-то размазня занимает в избе место, ест, спит, называется сестрою…
Волчок, сердито улыбаясь, вылил воду на девушку. «Что? Что-о? Что-о-о»? — вскрикнула она, смотря побезумевшими глазами на брата. Волчок стянул с нее одеяло и коротко приказал:
— Вставай! повалялась, да и довольно. Пора честь знать!
Мать хихикнула, а Волчок нахлобучил на голову картуз. Что-то поделывает Суран-хан, надо бы его спроведать. Красть арбуз Волчок сегодня не будет, но лепешку ему снесет.
Волчок сунул в карман две лепешки, пару луковиц и завернул в тряпицу немного соли. Пусть перса покушает.
— Уходишь? — спросила матка.
— Ухожу.
Матка больше ничего не спросила, но по ее лицу было заметно, как ей обидно, что Волчок не хочет даже чайку попить с нею. Не каждый же день чай, да еще с сахаром.
Но Волчок вышел за дверь. В сенях он зацепил за какой-то гвоздь и до крови рассадил руку. «Бог не хочет, чтобы я не попил чаю»! — подумал он, однако, упорно двинулся дальше, придерживая натянутым на ссадину рукавом текущую из нее кровь. Но — что за новость! — не успел он отойти от избы двух шагов, как запнулся и упал на дорогу. Если бы зимой, тогда бы еще понятно, но летом… летом… «Бог хочет, чтобы я попил чаю»! — решил Волчок, возвращаясь. Ему стало жаль мать, обиженную его уходом, а также и Ленку, Правда, она крапивница, но, ведь, нагуляла-то ее матка.
— А то давай, попьем вместе! — весело сказал Волчок в избе пекущей лепехи матке. Она просияла, а Волчок скинул картуз, взял с лавки одеяло, прыгнул на кровать к сестре и с нею прикрылся Какую он поднял возню! Он ее щекотал, дергал за русую косенку и строил такие ужасные рожи, что ей сделалось страшно. Кого только он не изобразил: и монаха, и разбойника, и пьяницу, и городового. Мало того, он, прислонясь к стене, встал на голову и трижды прокукарекал, хлопая ногами, как крыльями.
Затем они пили чай до седьмого пота и дружно беседовали о том, о сем. И, когда Волчок вновь вышел из избы, гвоздь не задел его, а дорога не уронила. Солнце горело вовсю, куры звонко кудахтали.
Первым долгом он поспешил к Ксюше.
Во дворе безносый Трофим уже сидел на бревне, читая засаленную книгу.
— А где Ксюша?
— Дома, — ответил Трофим, протягивая Волчку руку. Волчок пожал ее и сел с ним рядом.
— Что читаешь?
— «Зюма или открытие Хины», — важно прогнусавил Трофим. — Слушай: «Остановившись, она размышляет о средствах войти неприметно в кабинет (делохрам, сиречь), где ставят питии Графини. Она не имела ни малейшего понятия об ужасных подозрениях, которые на нее имели, ниже о предосторожностях, принятых для того, чтобы сделать кабинет (делохрам, сиречь) сей для нее неприступным, также как и для всех других индейских невольниц». Вот, братик Волчок, каковы дела-то! Живем, что черви, и ничего не ведаем, а книжка знает.
Трофим зевнул и перекрестил рот, чтобы не залез, грехом, нечистый.
— Хорошая книжица, уму пищу дает; одначе, все не то, непонятно горазд. Надо полагать, Зюма этот самый — страсть какой важнец: королевич, а не то первеющий полковник… Что, купил ножик?
— Как же, вот!
Волчок показал Трофиму складешок; тот перепробовал его на все лады и нашел сносным.
— Смотри же, Волчок, людей не вздумай терзать им — погубить душу-то недолго, а, ведь, кажинной тваре жить хочется, во как хочется. К примеру сказать, я — издыхать должен в скорости, сгнил до тла, а сыро в землице, темен уют, терпи, человек, до Страшного суда, до гласа архангельского.
Волчок нахмурился:
— Понимаю же!.. Сам не полезу, а коли замают, в брюхо воткну, чтоб неповадно было. Тоже и за Ксюшку, как теперича она моя жена. Только ты никому, никому об этом не болтай.
Скрипнула дверь. Волчок схватил от Трофима нож и крепко сжал в руке. Вышел отец Ксюши, мороженник, плечистый, чернобородый мужчина.
— Тебе чего, поганцу, тут надобно? Брысь вон, пискарь дохлый! За Ксюшкой, подлец, прибрел; у-у, голову переломаю!
Мороженник шагнул к Волчку, но тот с быстротою белки влез на распахнутую дверь сарая, а с нее на крышу.
Хороша мо-ро-же-но! Два фунта дерма подложено!— заорал он во все горло. Мороженник поднял камень с земли и бросил в Волчка. Волчок увернулся, показал ему фигу и спрыгнул на соседний двор, откуда вышел на набережную Тухлой. Надо навестить Суран-хана.
V
За паровой мельницей — огромным шестиэтажным доминой — набережная Тухлой принимала более благообразный вид. И тротуар с крашенными тумбочками, и мостовая, и фонари, и в окнах тюлевые занавесочки. Таборы здесь кончались. И, если баржи, ладьи, челны, расшивы и вертушки против Таборов были грязны и в заплатах, то здесь они или в самом деле были новей, или казались такими.
Тот берег Тухлой болотист, — поемная низина, поросшая копьями дикого лука. Версты на две, кроме штабелей дров, на ней ничего не стояло, и только вдали виднелись домишки, маковки церквей и пожарная каланча. В половодье Тухлая разливалась до самых построек; тогда чайки с криком носились над ее водами, вылавливая нагнанных с Волги рыбех.
Старый город соединился с тем берегом американским мостом и длинною дамбою. Черный мост высился рядом с древним монастырем, в белых стенах которого торчали застрявшие в стародавние времена каменные ядра.
У монастыря Волчок проворно юркнул под откос набережной, поглазел, как на лаве бабы, высоко подоткнув подолы, полощут белье, а мальчишки терпеливо ловят плотву, — и помчался под мост мимо свинцовых плит, сложенных на берегу, как дрова, в поленницы.
Редко кто захаживал под мост — рыбак с сачком, да бурлаки, тянущие лямку. Уж очень легко было сорваться с узкой тропы в темный омут. Но Волчок не боялся ни омута, ни подмостного мрака.
— Ха-ан! — крикнул он, став спиною к воде. «А-ан»! — ответило эхо, заглушаемое сверху топотом конских копыт, лязгом железа, грохотом телег и стуком шагов.
— Ха-ан! — повторил Волчок, и опять эхо передразнило: «а-ан»! Никто не отзывался… Тогда Волчок полез на четвереньках вверх к гранитной опоре моста. Откос дамбы был облицован камнями, но они только затрудняли движение, ежеминутно скатываясь вниз в темный омут. Раз Волчок сорвался и предотвратил падение лишь тем, что лег на брюхо, а подбородком уцепился за выступ булыжника. Крутой откос казался почти отвесным и недоступно высоким, а омут чернел зловеще, словно таил в себе гибель. Сколько народу в нем перетонуло! Весной, в половодье, здесь пошла ко дну лодка с рыбаками; никто не спасся, хотя речка не широка. Мальчишек в ней тоже куча. Говорят, тут проживает черт; он стал страшно злым с тех пор, как над его логовом перекинули мост. Правда, с моста частенько бросаются в омут, чувствуя вину перед чертом и принося ему повинную, но черт хмурится еще более, а омут темнеет все зловещее.
— Ха-ан!
Волчок поднялся на ноги и, придерживаясь за гранит, осторожно пошел вдоль опоры, к ее углу. Завернув за угол и при этом вторично чуть-чуть не сорвавшись, он опять полез на четвереньках, но теперь гранитная стена была не над ним, а сбоку.
Сваи моста лежали посреди подставы, часть гранитной массы оставалась свободной и образовывала нечто в роде террасы, — вот к ней-то и пробирался Волчок.
Когда до террасы можно было достать рукой, он остановился передохнуть, а затем вскарабкался на нее и, гулко шлепая босыми ногами по холодному граниту, приблизился к неподвижно лежащему персу. Это он, Волчок, нашел Суран-хану даровое убежище, это он поселил его здесь. Ни одна собака не разнюхает, хотя мост над самою головой и слышны голоса пешеходов.
— Хан! Вставай, лежебока!
Хан лежал на спине, прижав к груди изогнутые руки, и страдальчески смотрел расширенными глазами на просмоленную настилку моста, по которому где-то там, далеко-далеко, едут, идут, несутся и плетутся десятки людей и животных. На синих губах, на платье, на граните белела рвотина. Еще, должно быть, ночью к Суран-хану пришла непрошенная гостья; быть может, на самой заре перс ослаб в неравном поединке…
— Холерный! Холерный! — прошептал Волчок. Пятясь по-рачьи и дрожа, он отступил к краю террасы, не будучи в силах оторвать взгляда от неподвижного перса и его страдальческих глаз. Он был уверен, что упадет под откос, но этого не случилось. Как раз на самом краю Волчок по-воровски стремительно повернулся спиною к мертвецу и соскочил на дамбу. Хорошо, что он опомнился вовремя!
Он стал поспешно спускаться вниз. Чем быстрее он полз, тем сильнее хотелось поскорее добраться до тропы. Он ускорял движения, скользил, обрывался, разорвал штаны и разбередил ссадину, полученную утром при выходе из дома. Конечно, мертвеца Волчок уже не мог видеть, но, ведь, он знал… знал, что Суран-хан по-прежнему лежит на граните, сжав руки двумя дугами, и с открытым ртом. И так он пролежит очень долго — кому он нужен, кто его отыщет?
Волчок побежал, что было силы, по тропе, мимо поленниц свинца и полощущих белье баб, к набережной. Там он на миг приостановился, оглянулся на американский мост, полный людей и обозов, — и опять, как сумасшедший, рванулся в Таборы. На пути ему встретился Ванька, сторожев сын.
— Волчок!
— А… Ванька! — пробормотал Волчок, тяжело дыша.
— Какой ты белый! — испугался Ванька, — хворь взяла?
— Не!.. Хворь не взяла. Бежал горазд шибко, притомился. Слышь, Ванька, а в Персию-то тю-тю! Не возьму я. Сробеешь ты, куда с добром! — и мамка твоя запечалится. В субботу не иди в колокольную.
На лице Ваньки промелькнула довольная улыбка. Слава тебе, Господи, миновала страсть!
Обрадовав Ваньку, Волчок покатил дальше, домой. Дома была одна Ленка; ее он также решил не тревожить на странствование: девчонка слабая, погонишь — пойдет, а после глаза выплачет.
— Ленка! а в Персии тебе не бывать, забудь, что говорено. Втроем держим ход — я, Ксюшка да Дергач, окромя трех — не надобно. Выпущаю тебя из шайки набранной.
Больше Волчок ничего не промолвил. Круто повернулся и, горбясь, вышел из дому. Вышел — и пропал…
VI
На шестой день, чуть проглянуло солнышко, Волчок вернулся.
Матка ахнула, увидев его: в смазных сапогах, в новенькой красной рубахе и в чистеньком пиджаке, картуз на голове также не старый, продырявленный, а совсем мало ношеный.
— Волчок, родной, ты откелева?
— В монастырь ходил! — за тридцать верст, к Стратилатию. Двор мел, дрова пилил, за конями ухаживал, игумну понравился, одарил меня он… Богу молился маленечко… Лови рупь, матушка!
Волчок протянул матери серебряный рубль, но она не сразу взяла. Такой был странный Волчок, что и обнять-то его матери хотелось и боялась она его.
— Поспать бы мне, что-то не выспался!
— Подь ко мне! — позвала с кровати Ленка: — я сейчас на фабрику, а ты отоспишься.
Волчок разделся и занял еще теплое от сестриного тела место в постели. Спал до самого шабаша, во сне часто вскрикивал, словно его душили.
Часа в три, когда пришла Ленка, Волчок встал с постели, вымылся, расчесал огрызком гребня свалявшиеся волосы и присел к столу есть с маткою и сестрой пшенную кашу. Матка все пыталась выспросить у него, где и как он мытарился, но Волчок уклонялся от разговора: был и сплыл, вот и вся недолга. «Экий хват»! — думала матка о сыне; ей нравилось, что он не болтун. Из Волчка будет толк: слыхать галчат по галканию, видать кречета по возлету.
Покончив с кашей, он не тотчас же поднялся с лавки, а повременил добрых полчаса, потягиваясь, как будто не выспался. Матка и Ленка часто ловили на себе его взгляд, — исподтишка он их внимательно рассматривал.
— Ну! — вдруг сказал Волчок, — пора мне… Ухожу, може, на неделю, а не то и поболее… Не сумлевайтесь, ежели долго не ворочусь: в монастырь опять, у игумна таково сладко жить, что у-ух! По подарочку ждите, тебе, мам, душегрею хорошую да черный плат, а тебе, Ленка, важнецкую шаль привезу.
Он окинул взором избу и лизнул языком губы, точно они у него мгновенно потрескались.
— Так вот… тяжел путь-от, помолись, мам, ежели что…
— Да ты бы погодил, Волчок, — робко попросила мать.
— Нет, пора мне, день приспел! — спокойно возразил он, кланяясь до пояса матке и сестре.
Сказано-сделано, не баба же он, у которой семь пятниц на неделе. Он вышел из избы.
Сперва он наведался к Ксюше. Ей было накануне сказано, как и Дергачу, что в долгий ящик дело не приходится откладывать. И она его не отложила… Ксюша сидела на бревне, рядом с безносым Трофимом, тачающим сапог, и о чем-то рассеянно болтала. Солнце пекло напропалую, а на ней уже была порыжелая жакетка и продранная шаль, из-под, которой бойко выглядывали глаза девочки и выбивались пряди непокорных волос.
— Время! — тихо сказал ей Волчок, — обряжайся живей, ежели не совсем готова.
Трофим, не поднимая глаз, спросил:
— Али куды ехать надумали?
— Надумали!
Трофим поднял лучистые глаза на Волчка и улыбнулся.
— По путям шествуем: первой путь — урождение, второй — смертушка… И промеж того должны странствовать — к тоске, к радости, к свадьбе, к болести. Все мы Господнии страннички. А только, как пить дать, пымают вас.
— Смотри, дядя Трофим, лишь тятьке не бай! — испуганно попросила Ксюша; Трофим кивнул головой:
— Чего ж мне, узнает и сам!
Волчок и Ксюша вышли со двора. Горестно было расставаться с Таборами — все-то здесь знакомо сызмальства, каждый дом, каждая лавочка у ворот, и во всем что-то родимое, близкое. Особенно горевала Ксюша, минуя церковь Параскевы-Пятницы. Ей вспомнились пасхальные ночи, когда горят плошки и трещат ракеты, а черная, неизвестная толпа гудит: «Христос воскрес»! — «Воистину воскрес»! И колокола тогда пересмехаются, а душа ликует, радуется.
— Останемся?
— Нет, нельзя! Экая нюня ты! Кабы знала ты страну Персию! Вот где удивление! Тот, богатей-то, перс-начальник, уехал намедни в Рыбинск али в Ярославль — не упомнилось — мальчишек вербовать, а меня обрядил, как следует, вишь, в новом я, — и рупь на харчи дал. Эва-ка!
Волчок показал Ксюше серебряный рубль. Ксюша более не артачилась. Ко время своего хождения в монастырь Волчок скопил на милостыне два целковых. Сперва он хотел оба подарить матке, но, рассудив один оставил у себя.
На прозеленелой улице ворота выставки глядели так печально, словно выставке было жаль, что Волчок ее покидает.
Так они оставили за собой и выставку и сопящую фабрику и подошли к волжской набережной. Там их ожидал Дергач. В правой руке он гордо держал деревянное копье, в острие которого был вставлен начищенный и наточенный гвоздь; в левой же была резиновая рогатка, — отлично, без промаха попадал он из нее в цель, и немало фонарей было разбито прежде, чем он достиг такой меткости. Карманы его курточки оттопыривались под множеством камешков, припасенных для путешествия.
— Давно ты? — спросил его Волчок.
— Давненько, атаман! — угрюмо ответил Дергач. Волчок взял от него копье и похвалил:
— Ладное!.. Молодец, Дергач, пика дельная…
Перед тем, как расстаться с городом, Волчок шмыгнул в мелочную лавку, ютящуюся в конце набережной. Он накупил хлеба, вяленой воблы, соли, подсолнухов, две удочки с лесами и крючками, четверть махорки, курительной бумаги, спичек, кирпичного чаю, сахару и медное колечко с цветным камешком — для Ксюши. Рубль растаял, осталось два стертых пятака.
Ксюша очень обрадовалась подарку. Она весело бежала по пыльной дороге к роще; обремененный покупками Волчок и вооруженный с ног до головы Дергач еле поспевали за ней.
Тры-та-та! Тры-та-та! Вышла кошка за Кота, За Кота Котовича, Ермолай Петровича!— на бегу выкрикивала Ксюша.
— Вот дрянь! — ухмыльнулся Волчок, луща семечки.
Дергач мрачно глазел по сторонам.
— Быть грозе! — вдруг указал он пикою на сгущавшиеся в небе тучи.
Волчок сплюнул наземь подсолнечную шелуху и ничего ему не ответил.
Дорога пролегала холмами и возгорьями; в глубине оврагов, над которыми перекинуты деревянные мосты, сверкали журчливые ручьи. Душный, почти раскаленный воздух рассекали ласточки и стрижи, а птица, по имени дождевик, голосила: «пить, пить»!
Невдалеке от рощи, на крутой горке, стояла печь для обжигания извести. Каменные, задымленные стены, и в них двери, похожие на окна, и окна, похожие на двери.
— Будто крепость! — подумал Волчок, глазея на хлопочущих около нее рабочих. Они наваливали в двери-окна известковые глыбы; их фартуки, руки, бороды и соломенные шляпы были в белой пыли. Зной делал работу невыносимой, глаза мучительно блистали, а из пересохших глоток не вылетало ни одного слова. Казалось, у этих людей вырезали языки, чтобы никто не знал о том, как жжет солнце, и как грузны известковые камни. Печь-крепость была их владычицей.
Беглецы ускорили шаг.
Сосны Деевской рощи манили к себе, в тень, в прохладу, но с Волги доносилась перебранка. Волчок и Дергач подошли к обрыву, к росшей на нем иве, — и вот, что они увидели внизу.
На корме зачаленной барки сидели у столика три барочника, перед ними пыхтящий самовар. Недаром поволжан дразнят водохлебами — полуведерный самовар был пузат, как купец первой гильдии. Солнце жгло непокрытые головы барочников, но они, обливаясь потом, терпеливо пили с цветных блюдечек чай и были, по-видимому, вполне счастливы.
В это время к берегу пристала лодка с двумя пьяными мастеровыми. Мастеровые чем-то задели барочников, те лениво, словно нехотя, начали ругаться. Но пьяницам вовсе не понравилось такое невнимание. Они повысили голос, облаяли барочников сиволапыми обормотами и даже зацокали по-вологодски: «цайныцки — самоварныцки»! Это уж не на шутку рассердило барочников, потому что они были доподлинные ярославцы.
— Голь фабричная! — огрызнулись они.
— Забастовщики!
И, вдохновись, зачастили такими словечками, что мастеровые сперва было совсем призамолкли в изумлении. Однако, скоро оправились и запустили в ругателей камнями, которые ударились по обшивке баржи, не долетев до мужиков.
— Ах, свиньи! — взвизгнул Дергач, натягивая рогатку. Целил он очень старательно, пыхтящий самовар бесил его, как бычка растянутый кумач.
«З-з-з-з»! — вылетел снаряд и с такой силой щелкнул по медной камфорке, что чайник упал на колени к бородатому барочнику и ошпарил его, а самовар, перевалясь за борт, звонко булькнул, скрываясь пол водой.
Барочники окаменели, — ни Волчка, ни Дергача они не видели из-за ивы и думали: причиной гибели их утешителя — мастеровые. Но оцепенение длилось лишь миг; ошпаренный молча вскочил с табурета, бросился в воду и поплыл к берегу. Два его товарища притянули за веревку привязанную к рулю баржи лодку, спрыгнули в нее и также молча загребли наперерез фабричным, тщетно пытающимся спихнуть в Волгу свою лодку, завязшую в песке.
Волчок с трепетом следил за происходящим. Если мастеровые не успеют уехать, барочники их, наверное, убьют… Выплывший бородач был ужасен. Бронзовое лицо приняло молчаливо-дикое выражение, — можно было подумать: он дал себе клятву не дышать до тех пор, пока не расквитается с обидчиками.
Но они ускользнули… Кое-как им удалось сдвинуть лодку с песку, и теперь, напрягая все мускулы, они гребли в две пары весел, мешая друг другу и поднимая брызги.
Ошпаренный бородач остановился.
— Дья-в-в-во-лы! — в одном слове вылилась вся его ярость. Он забегал по берегу, не зная — бросаться ему вслед за ними вплавь или нет. Неуклюжая барочная лодка не догонит, да, к тому же, впопыхах барочники сломали весло.
— Дья-в-в-во-лы! — вновь разразился ругательством бронзовый бородач. Набрав в подол рубахи кучу мокрых камней, он принялся метать в отступающих. Они были уже далеко, течение помогало их побегу, но бородач кидал, не уставая.
И он попал… Прямо в грудь.
Мастеровой на рулевой гребле выпустил весла, откидываясь всем туловищем вперед, словно его смертельно поклонило ко сну…
— На что смотрите? — раздался сзади мальчиков голос Ксюши, успевшей нарвать большой букет из колокольчиков.
— Беги! Беги! — прошептал Волчок, срываясь с места и увлекая за собой девочку. Побежал и Дергач следом — под сень сосен, в Деевскую рощу.
VII
Хороший уголок Деевская роща!
Смолистый воздух пьянит, птицы поют, а солнце играет янтарем могучих сосен. Но сосны молчат, и лишь, когда налетает ветер, они плавно и медленно раскачиваются, смолистые шишки бесшумно спадают с иглистых ветвей.
Роща доходит не до самого прибрежного обрыва. Перед ней зеленый луг, шелковая мурава. Луг ровен, как стол; растут на нем лишь мелкие травы, но бабочки любят резвиться над ним, они порхают, словно ожившие цветки.
Некогда роща была дремучим лесом, тянувшимся по берегу и от берега на добрые триста верст. В глушь его и ворон костей не занашивал. Но лес жгли на корчевку и вырубали. Осталась только роща. Владели ею Деевы, старинные купцы. Они понатыкали под янтарными соснами скамейки и столы, проложили усыпанные песком дорожки, построили избушку для сторожа и на ней приколотили жестяную вывеску: «Здесь гуляющим самавары». Действительно, по воскресеньям около избушки дымилось штук тридцать самоваров; одноногий сторож Вавила разгнечал их пахучими шишками.
Завернули к сторожке. На ее двери висел замок: Вавила, должно быть, уковылял в город. Внутри избы серый кот дремал на стуле.
Побежали к купальне.
— Прыгай! — смеясь, сказал Волчок Ксюше, остановившейся в нерешительности на краю обрыва.
— Какой ловкий! — застенчиво улыбнулась девочка.
— Так смотри же!
Волчок прыгнул под обрыв, увяз почти до пояса в песке, высвободился и поехал на спине вниз. За ним поспешил Дергач. Ксюша последовала их примеру. Съезжать было весело, но зато сколько песку набралось в башмаки! Пришлось их снять и протрясти.
— А грозе быть! — сумрачно молвил Дергач.
Волчок сидел на коленях перед Ксюшей, сидящей на большом камне. Он смахивал с ее босых ног золотистые песчинки, чтобы они не мешали ей.
— А наплевать! — пробормотал он, не оборачиваясь.
— Волчок! Волчок! Глянь-кось, чертов палец! — вскрикнула Ксюша.
— Где?
— Вон там…
Ксюша торопливо обула башмаки и подняла с земли что-то темное, вроде окаменелого пальца.
— Врешь! — уверенно возразил Дергач, — что за дурак черт-то, станет он тебе терять свои пальцы. Не напасешься!.. Это молниева стрела; как падет с неба да воткнется в песок, тут ей и остаться. Много их; тоже слышал я, будто Илья пророк бросает их.
Волчок взял у Ксюши находку и зачем-то посвистал в нее.
— Чертов палец, не иначе! Черту пальцев жалеть нечего: поди у него их не одна тысяча.
Спорить с атаманом Дергач не посмел. Ксюша швырнула в Волгу вязку измятых во время спуска колокольчиков и взяла обратно от Волчка чертов палец. С такою загадочной вещью она никогда, никогда не расстанется.
А Дергач уже действовал. Он возился на мостках купальни, разрывая копьем, как рычагом, цепочку, которой была причалена веселенькая шестиместная лодка, но ни уключин, ни весел не было.
— Весла в купальне! — сообразил Волчок.
Дергач, упершись о копье, быстро влез на перила мостков, а оттуда перемахнул на крышу и с нее вовнутрь купальни.
— Здесь! — послышался его голос.
Он перекинул Волчку круто загнутые весла, затем обратно перелез с уключинами. Руль с лодки не был снят.
— Здоров лазить! — похвалил его Волчок. Дергач усмехнулся, довольный ласкою атамана, и перешагнул в лодку. Сперва он бережно положил на ее днище свое возлюбленное копье, потом воткнул уключины в гнезда и сурово доложил:
— Готово, атаман!
Он сел на передней гребле, Волчок на средней, а Ксюша к рулю, на корму.
«Б-бу-бу-бу»! — загромыхала черная грозовая туча, внезапно налетевший ветер накатил на лодку высокую волну. Река подхватила беглецов и стремительно понесла их. Тысячи вспененных волн-барашков испуганно закружились по ее ожившей равнине, вся она потемнела и преобразилась, как будто разгневалась.
— Ну, теперь держись! — весело крикнул Волчок, когда они догребли до середины Волги.
Ксюша спрятала чертов палец в карман юбки, чтобы рулить без помехи.
Купола города и Деевская роща отдалялись; лодка, подгоняемая попутным ветром, плыла к повороту.
«Рассказы» т. 1, 1912 г.
Алая ленточка
1
Смеялась так звонко-звонко:
— И на что вам, Петр Матвеич, эта ленточка?
Смех был задорный, с ямочкой на подбородке и мягкими линиями у рта.
Коренастый Петр Матвеич егозил:
— А я ее спрячу, прямо, то есть, у сердца; буду вынимать и смотреть, вспоминать и улыбаться… Да ну же, скорее… ну!
И дала… Протянула ласковые руки и дала, а он, когда брал, думал:
«Руки смуглые, загорелые, а уж тело-то, тело, чай, что кипень, и упругое».
Потом опять:
— А у вас брови дугой, красивые…
— Ах, полноте!.. Ну, что это, право, вы какой…
И стыдливо опускала глаза, а в нем шевелилось:
«Девка пригожая, краснощекая и в карман за словом не лазает».
Опять судачили о всяких вещах; о красном солнце, похожем на червонец, и о барынином муже, такой высокий, желтый, а на голове лысина… смешная.
— О, да! Лысые смешные, это правда, так и хочется шлепнуть ладонью по макушке. Чудесный звук.
— А говорят, нонече есть такая мазь, что вытягивает волос. Правда али враки?
— Не знаю, может и есть, вот стану лысым, поразведаю.
Смеялась:
— Ах! какой вы балагур, настоящий шут Балакирев. Ха-ха-ха! Нет, у вас волос густой, что шапка русая.
Прервал:
— Хорошенькая ручка, малюсенькая… Кабы ее да поцеловать!
— Что вы! Что вы! И как только не стыдно вам! Оставьте, пожалуйста… У меня руки грязные, у меня руки жесткие. Может, и были бы ничего, да от работы портятся.
А сама искоса поглядывает на него и дразнит.
…Притворился, что позабыл о них, и вдруг — внезапно схватил, и ну, — давай целовать… А она вырывается и смеется, задорно так, дескать, дальше, дальше, сердечный мой! Ну, конечно, и дальше есть: целует и в алый рот, и в полузакрытые глаза. Сразу смеяться перестала: дышит часто и истомно, раскраснелась вся, затуманилась, шепчет:
— Желанный мой!
Вдруг — звенят сердитые колокола, будто старики почтенные кашляют: сейчас высыпет народ от всенощной, увидят, уходить надобно.
Прильнула к нему крепко-накрепко:
— Пора мне! Пусти меня!..
Не хочется, постыло домой идти: спросят, где, шлюндра этакая, шаталась.
На конце аллеи показались идущие к домам богомольцы.
— Приходи завтра ко мне. Приходи же, зазнобушка! После работы, вечером. Живу в том краю посада, у фабрики, в отдельном домике. Три окна, занавески синие, а над серым забором скворешница.
Разошлись.
Весеннее солнце смотрело им вслед и улыбалось. Здоровенный воздух и красиво: всюду — золото, золото, золото, и на листве кудрявых берез, и на сизом носу отца Мефодия, выходящего из посадской церкви с толстой книгой под мышкою.
2
Прошли сутки.
День угасал, пробуждая к жизни тихий вечер.
Петр Матвеич вернулся с фабрики, принарядился, бегал по комнате и ждал.
— Раз-два! раз-два! — стучат сапоги, а часы — тик-так! тик-так! — будто передразнивают.
— А вдруг надует и не придет? Возможно ведь…
Даже холодный пот выступил на лбу:
— А я-то, дурак, поверил ей!
И снова:
— Раз-два! Тик-так!
— Спешит ли, желанная?
Стало скучно, тоска ужалила сердце. Крутил усы в нетерпении.
— Тс-с-с! — кто-то прошел мимо окна. Кто?.. Вот олух! — ему бы присесть к окну, раздвинуть синюю занавеску и смотреть, смотреть, а теперь, конечно, она не нашла его домика.
Рассердился и прикусил губу от огорчения.
…Чу! скрипнула калитка.
Робкий шорох…
Она!
Притаилась в сенях, а войти не решается.
Быстрым шагом направился к двери, расправляя красную рубаху, чтобы быть пофорсистее.
Отворил дверь, с ней лицом к лицу встретился:
— Здравствуй, алая ленточка!
— А я к вам на минуточку. Посмотреть, как живете вы… И напутала-то, и наврала-то дома! — говорю, к старой тетеньке на побывочку.
И боязливо озирается, и играет концами черной косынки, а губы сжала, что-то такое обдумывает. Не смеется, нет.
— Книг-то!.. Много, страсть… Красные, синие, зелененькие. Да вы, чай, ученые?
— Учен, умен, что поп Семен!..
Побежал в сени за углями. Вернувшись, принялся ставить самовар, гремел ведром и самоварною трубою. Перемазался. А когда щепал косарем лучину, чуть не саданул по пальцу. И вот еще странность: никогда раньше не просыпал на пол кухни столько углей, как в этот вечер.
А она смеялась:
— Ха-ха-ха! Да уж какой вы проворный. Давайте-ка помогу.
Нет, нет! Что за глупости: он не хочет, чтобы гостья пачкалась. Сам! Сам!
Раздувал угли в самоваре и чувствовал ее нежный взгляд на своей спине, затылке и плечах. Было приятно, потому что знал — ей страшно хочется погладить его по голове и сказать: какой вы такой хороший! — но не решается.
А еще он знал, что думает она:
— Обними меня очень крепко, я пришла!
Но ему лень… Так, просто лень… Не обнимет!
Продолжал раздувать самовар, хотя надобность в том уже давно миновала.
— А я завтра на вечер…
— Куда же?
— Да в клуб рабочий, приходите.
Вдруг спохватилась:
— Ах, Боже мой! Ну, что это, право, какая я… За булками ведь послали. Прощайте же…
Вскочил, словно встрепанный, лицо вытянулось:
— А чай-то как? Вот так раз!.. А еще говорили: к старой тетеньке…
Усмехнулась, плутовка:
— Благодарствуйте! На минуточку ведь, посмотреть, как живете вы… Ничего, мне понравилось. Прощайте же, тетенька-тетенькой, а за булками все же надобно.
Вильнула юбкой, стукнула каблучками — ау! уж и след простыл.
— Болван, болван! Хоть бы ручку поцеловал на прощание.
Черпнул из ведра воду ковшом и со злобой плеснул в самовар, на красные угли:
— Потухайте, черт вас дери!
И пошел в комнату, где кровать, да стол, да полдюжины венских стульев; принялся читать, но не клеилось: строчки прыгали и хотелось себя вздуть.
Присел к раскрытому окну, тяжело вздохнув. Стал мечтать.
Старый бог повесил на небесный свод богатырский щит из красной меди — круглую луну.
Было тихо.
Воцарялась ночь.
Лег спать, огорченно думая, что с ним такое случилось.
Кровать под молодым телом поскрипывала.
3
На рассвете прогудел церковный колокол: бум!.. бум! — тягуче так. Голос медный, с хрипотою.
Жизнь пробудилась, зачирикали серые воробушки.
С кровати поднялся Петр и к окну подошел, в одном белье, папироской попыхивая.
Раздвинул занавеску…
Мимо окон плетется стадо. Позвякивают бубенчики. Коровушки пегие, белые, черные, а вот красных нет. Гм! Почему же красных нет? Ведь они, говорят, молочные…
…Идут, и у каждой вымя колышется. Сзади шагают пастух да веснушчатый подпасок. Длинные кнуты ползут по земле, будто змеи. Пастух в дудку дудит: собирайся, тварь бессловесная, на луга травянистые, на подножный корм.
Теперь на поле пахнет медвяными травами.
…Прошли плотники. Ребята загорелые, рубахи заплатанные. Несут топоры, пилы и ящики со «струментом». Махорку потягивают, да по сторонам поплевывают.
А вот — девушка. Не спала всю ночь… Голову вперед, глаза к земле. Гадает, чай, заметили, что уходила, или нет.
Дело весеннее, дело понятное: любовью мать сыра-земля держится.
— Ах, ты, алая моя ленточка! Краля ласковая!
Кулаком стукнул по подоконнику:
— Будь я не я, а уж будешь моя!
И к столу направился.
На стуле, над почтовой бумагою, крепко задумался.
— Люблю тебя! ну! ей-богу же! — заскрипели пером мозолистые пальцы, но дальше — ни тпру, ни ну. Разорвал белый лист и чуть-чуть не расплакался.
— Я не вор, не разбойник, да и не пьяница! — начал вновь, и опять затерло: не понравилось.
Вздохнул:
— Башка ты моя дубовая!
А при встрече сказать и тем паче не сумеет он, опять нагородит с три короба вздора да глупостей, еще за краснобая-враля сочтет, много ведь таких стрекулистов водится, что сыплют словами, как бисером, а за пазухой таят змею ядовитую.
— Э-эх! Все не то…
Вытащил ящик с книгами из-под кровати. Рылся в нем и кряхтел, наконец, нашел истрепанную книжонку и, послюнявив палец, принялся ее перелистывать.
Увы! Книжонка та была — «новейшим письмовником».
Задумался, теребя русую бороду:
— Оно, конечно… ну, да уж ничего не поделаешь…
И прочел:
— Опьяненный Вашею небесною красотою, честь имею покорнейше просить Вашего согласия на вступление в законный брак…
Закипел! Не выдержал! Чертыхнулся, а письмовник отнес в кухню — в печку, на растопку к прочему мусору!
И вновь присел к столу, и вновь заскрипел пером по белому листику:
«Милая!
Встало солнце, а я не сплю…
О тебе думаю.
Пташка моя сизокрылая!
Алая ленточка!
Потому пишу, что заробел ныне я: опять примусь самовар ставить, а не скажу, о чем думаю.
Дурак такой…
Петр».На сердце полегчало.
Запечатав письмо в синенький конверт, завалился спать.
Воробушки за окном чирикали.
4
В шесть часов загудел гудок — просыпайтесь, рабочие!
На плечи просаленную блузу, на голову — черную шляпу, а в карманы — хлеб да соль. Айда на фабрику пилить, сверлить.
Домик мал: кухня да голостенная комната, но на дверь — замок, ибо жулик народ пошел.
Уже солнце, словно сверкающий лебедь, плывет по небу — идти весело.
Улица черна — посыпана каменноугольным шлаком, домики малы — в три окна, вылезают же из них люди-труженики. Глаза протирают, позевывают — еще не размаялись.
Идут мимо сруба, а на срубе серяки-плотники помахивают топорами, только щепы летят округ.
— Ей, дядя! Смотри, штаны свалятся! — орет Кузьма Орешников, токарь, друг Петра. Петр подходит к нему, хлопает по плечу:
— Молчи, Кузьма: рязанцы обидчивы. Не след обижать мужика темного.
Кузьма сердится:
— А зачем они индюки бессознательные?.. У-y! Черти длиннобородые, всех бы мужиков в топку перекидал.
Но Петр смеется:
— Аника воин! Оставь, хоть на племя, с десяточек…
Ростом жердь, шириною соломинка Кузьма Орешников; лицом смугл, глазами сер, на голове кепка, но душою чепец прост и добр, хоть и норовит порою заговорить презлым басом.
— Хотел я тебя спросить, что значит «инсургент», вчерась в книге вычитал?
— Бунтовщик! Особенно коли за родину…
Парень задумывается. Серые глаза горят огнем: черт любознательности внутри сидит. Ноги-ходули ступают рассеянно.
У красного забора почтовый ящик. Стоп! Петр вытаскивает из-за пазухи письмо.
— Кому?
Петр смущается:
— Товарищу!
Письмо — бултых! Думает Петр:
«Назад брать — ящик ломать: дело кончено».
В Кузьме же черт шевелится:
— А скажи-ка, брат, мне, пожалуйста, что такое за наука гомеопатия?
Но Петр уже в воротах фабрики. Ищет в карманах брюк медную бляху, с которой надо быть на работе. Не забыл ли? Нет, здесь.
Его номер: 1671.
…Пыхтит и повизгивает кирпичное чудовище.
Пять этажей, сто глаз и одна пасть — злые, скрипучие ворота.
Покорно и угрюмо протянулись к пасти вереницы блузников и исчезли в ней, словно осужденные грешники.
5
Когда тучи алы, когда солнце низко, трудовой день кончается.
Визжат железные ворота, выползают рабочие толпы на черные улицы.
Петр устал, в ушах звон стоит, грудь умаялась — целый день околачивался у станка, резцы натачивал, нарезал винты.
Рядом с ним шагает Кузька Орешников:
— С мастером поругался я… Зверь-человек! Говорит, стержень крив, а я его точил-точил, ажно руки мои окровавились.
Петр отвечает:
— Н-да!
Сам же думает:
«А письмишко мое уж получено».
На перекрестке прощаются:
— Приходи, брат, в клуб, на вечер.
— Не знаю, — колеблется Орешников, — о свете читаю я. Больно здорово… Ну, и умник же француз Фуко. Впрочем, может сберусь. До свидания!
Расходятся.
Петр один. Путь мимо мелочной лавочки.
Не перенести искушения. Визжит блок — Петр стоит у прилавка, рассматривая товары.
Толст, длиннонос и с лукавыми глазами продавец. В холщовом переднике.
— Здравствуйте-с!
— Здравствуйте! У вас есть карамель самая сладкая?
Ну, еще бы! Конечно, карамель здесь лишь самая сладкая.
— Так отвесьте-ка фунтик мне.
И еще, поколебавшись немного:
— А пряники вяземские? А орешки китайские?
Все, все тут есть! Да еще как дешево!.. Прекрасный человек этот лавочник: даже пастила у него приготовлена для Петра.
На прилавок с форсом летит серебряный рубль, торгаш его пробует на зуб.
— Не съешьте, пожалуйста! — пугается Петр.
Торгаш льстиво ухмыляется в рыжую бороду и сдает медяки с рубля.
— Нельзя-с без этого: дело торговое, фальшивых монет развелось множество. До свиданьица-с, заходите и в следующий раз, товарец по совести.
Медяки — в кошель, Петр берет с прилавка пакеты с лакомствами и — марш домой.
— Белочка! Пусть орешками позабавится.
Идет по улице, бодро поглядывая по сторонам.
…А вот и дом.
В калитке ручка — железное кольцо.
Какое красивое!..
Это ничего, что слегка изъедено ржавчиной. Пустяки! Когда-нибудь он его основательно вычистит толченым кирпичом, и оно заблестит, будто серебряное.
Взбегает на шаткое крыльцо, торопливо отмыкает замок, входит в кухню. Блузу — долой, шляпу — долой, а покупки — на стол бережно. Надо картошку варить, как волк, голоден, — но до картошки ли?..
Потеет, трудится — начищает новые штиблеты, натягивает брюки и прихорашивается у зеркальца.
Усталости как не бывало…
На вечер! На вечер! Кадриль плясать, лезгинку плясать, мелким бесом рассыпаться перед Алой ленточкой. Уж теперь-то он не будет тюфяком, нет!
…Из глиняного рукомойника, что висит в углу, льется блестящая струйка воды — фыркает Петр, отдувается: хорошо грязь фабричную да холодной водицею.
6
Перед самым уходом на вечер является Кузьма Орешников. Лицо красное, чуть не плачет, говорит отрывисто:
— Почему, Петя, люди злы?
Не понимает Петр, — с черной шляпы смахивает пылинки:
— Идешь на вечер?
Но Кузьма не унимается:
— Почему, Петя, люди злы?.. Почему на земле им тесно жить? Иду к тебе, а у казенки толпа: два босяка дерутся на ножах. В три ручья кровь валит… Тьфу!
Говорит Петр:
— До сих пор у людей языки разные, ну, столковаться-то и трудно им.
— Доколе же злобность эта продолжится?
Отвечает Петр:
— Жди! У всякой чаши свое дно имеется.
Выходят на черную улицу.
— Умереть мне, Петрюк, хочется! — шепчет Кузьма слабым голосом. — Сделать что-нибудь в пользу общественную и умереть. Такой червь во мне… Кругом обиды, несправедливости…
Петр его похлопывает по плечу.
Солнце закатывается.
Близ железнодорожного полотна каменный двухэтажный дом.
У ворот, на лавочке, сидит Алая ленточка. На Петра глядит с ласковой робостью:
— Будто чуяла… ненароком на улицу выбежала, ан — вы тут как тут. Ха-ха-ха! Все мужчины обманщики, а вы нет, пришли.
Кузька приосанивается:
— За комплимент благодарствуйте!
— И совсем даже не про вас сказано! — негодует Алая ленточка. — Вот навязчивый!.. Пресвятая Богородица, да никак у него ус растет!
— Всегда вы с одними насмешками, — ерепенится Кузьма, — иной безусый посознательнее усатого, а у баб так и совсем дело дрянь: долог волос да умишка нет. Э-эх!
Скрывается в воротах.
Петр смеется, а самому так стыдно, так конфузно что того гляди лататы задаст.
— А вы слышали?.. Булочница-то, Маврикия Архиповна, под скорый поезд попала в полудень. Шмякнул он ее, а из нее и дух вон.
— Да ну! Да как же так? — пугается Алая ленточка. — Вот ужасти! Экая бедненькая! А я-то вчерась из-за булок торговалась с ней, дурища…
— Н-да, — лицемерно вздыхает Петр, — вдова, детки остались сиротками.
И добавляет тревожным шепотом:
— А письмишко получено?
— Получено.
— А не сердитесь?
— Чудачок какой! — усмехается Алая ленточка.
Но Петр вздыхает:
— Быть нам без булочной…
Шепотком же робко осведомляется:
— Да ты любишь ли?
Она его успокаивает:
— Родной мой!
На том и покончили. Пошли в клуб, счастливые.
Рабочий клуб окрещен странным именем: «Кружок любителей музыки». «Музыки» же в нем — балалайка да облезлая гармоника.
Убог он и тесен, только две комнаты в нем: танцевальная — вдоль бурых стен расставлены дырявые стулья да дрянные табуреты, — и буфет чайная, где посетители дуются у маленьких столиков в шашки и в шахматы, покуривают вонючие папиросы, да чаек благодушно распивают.
Кузька Орешников завзятый шахматист. Ерзает по стулу, морщится, на партнера смотрит с мрачным подозрением; Петр же и Алая ленточка кружатся в вальсе по танцевальной комнате среди возбужденных, раскрасневшихся пар.
В углу бледнолицый парень наяривает на трехрядке.
Каблуки о пол пощелкивают, развеваются разноцветные юбки, духота, теснота, коптят лампы, а всем весело.
Запыхалась Алая ленточка, раскраснелась:
— Ой, не могу боле я, уморушка…
Петр подводит ее к табурету, а сам на дырявый стул рядом присаживается и из карманов вытаскивает вяземские пряники, орехи китайские, да карамель самую сладкую.
В руки ей сует:
— На-ка вот, ну, пожалуйста!
— Ну, и что это, право, за безобразие!.. Деньгам перевод! — укоряет его Алая ленточка. Петр отвечает ей ласковой шуткою.
— Гостинчик тебе… Вот что.
И она заливается:
— Ха-ха-ха! Да какой же потешный ты… Зубоскал Зубоскалович.
Живо рожица из смеющейся — в задумчивую. Алая ленточка пробует пряник:
— Ой! Сладко-то!.. А то раз я у барыни из вазы персик свистнула, такой миленок, в пушку, что цыпленочек.
И, вспомнив, торопится:
— А во сне я тебя нонече видела…
Глаза потупляет, досказывая:
— Целовались мы!.. Бессовестные!.. На мостике, а под мостиком речка течет, а в той речке вода серебряная, и золотые рыбки плещутся. Что бы такое значило?
Петр сияет.
— Уйдем от них.
— Уйдем! — шепчет Алая ленточка. И они поднимаются — идут в переднюю, спускаются по деревянной лестнице, выходят на железнодорожное полотно. Молчат.
Молчат, а кругом будто пение.
Будто пение, но никто не поет.
Идут, взявшись за руки…
И вот уже нет ни домов, ни людей, кругом только темный лес.
Ночь была.
Рельсы без конца, и влекут куда-то вдаль, вдаль, где все светло, прекрасно и таинственно; где мир иной, и где сердца иные…
— Да знаешь ли?.. Да без тебя, ведь, жизнь не в жизнь!
Приближается поезд. Зловещ и неожидан. Петр целует руку Алой ленточки, и они свертывают с полотна в темный лес.
7
Весной, при сиянии лунном, в лесу, как в храме, торжественно, и кажется он населенным туманными призраками, бесшумно скользящими по зеленым мхам.
Хорошо тогда лежать под кудрявой березкою, беззаботно слушая песни-думы серого гусляра.
Но Алой ленточке страшно;
— А нас волки не слопают?.. Чу! шуршит…
Петр смеется:
— Пусть только сунутся!
И кулаки сжимает воинственно, семерых, мол, на левую!
Вновь слушают шум леса зеленого, песни соловушки, да как ручеек кроткий где-то рядом позванивает… Любо им — обнимаются.
— Сладкий мой!.. А где Бог по-твоему?.. Может, на небе, а не то бродит по лесу?
— Я не верую, — отвечает Петр.
И звенит в ответ смех серебряный:
— Ха-ха-ха! Ну, и я ж тогда не поверую… Эва как: собрались два разбойника!
Опять молчат: слушают соловушку, да обнимаются горячо. Темный лес шумит, а им, как зверкам вольным, радостно.
— Все тарелки у барыни перекокала… Ха-ха-ха! А намедни барчонка по щеке смазала: не приставай вперед…
Кровь к лицу у Петра бросается, а рука тянется к карману, в кармане — финский нож.
— Подлецы!.. Увижу, дам ему взбучку здоровую!
— Ну вот какой, — огорчается Алая ленточка, — да я ж и то по щеке его шлепнула. Обиделся и хамкою выругал.
Смеются, целуются, а в посаде, за лесом, петухи звонко выкрикивают: пора домой!
Нехотя поднимаются, пробираются сквозь кусты к железнодорожному полотну.
— Ой, ой! Чуть глаз себе веткой не выколола… Совсем ротозейка я!
Петр берет ее под руку:
— Будем вместе шагать, вплоть до гроба… а венчаться не надобно.
Она к нему доверчиво прижимается:
— Теперича ты — кормилец мой… Начну книжки читать толстенные… Больно умной стать хочется…
Идут по шпалам, думают о будущих днях, развеселая жизнь впереди — все вдвоем, все вдвоем: и радости, и несчастия.
Вдоль насыпи потянулись серые заборы — посадские огороды, вдалеке же, вероятно, на вокзале, дважды прозвенел дребезжащий колокол. Скоро тронется поезд и пролетит, тяжело отдуваясь белым паром и сердито стуча стальными колесами.
Но нет, не успел: они уже в посаде.
…Тихо и мертво…
На перекрестке стоит городовой.
— Экие мы гуляки! — улыбнулась Алая ленточка.
Воздух был особенно прозрачен, и почти совсем рассвело, хотя солнце еще не показалось.
Подошли к домику — три окна, скворешница…
Петр распахнул калитку:
— Входи первою!
Вошла.
И дни покатились.
И уже скоро отцвели и яблоня, и сирень, а в лесу кукушка откуковала. Весна уступила место румяному лету, мимолетному, как сон золотой. Были цветы, много цветов, и было солнце, очень много солнца… Но птица-Судьба опять высоко взмахнула черными крыльями и опять все изменилось: листва пожелтела, журавли отлетели, а небо покрылось свинцовыми тучами.
Незаметно подползла багряная осень… Под сердцем же Алой ленточки что-то забилось — новая жизнь.
8
…Барабанит по тесовой крыше мелкий дождичек, скрипит калитка под напором осеннего ветра, но светло в желтом домике, радостно, хотя жестяная лампа и тускло горит.
Алая ленточка — заправская хозяйка, хорошо Петру с ней. С раннего утра до позднего вечера чистоту-лепоту наводит, чинит белье да грибы солит на зиму.
Скрипят половицы, громыхает посуда, а она — ловкая, проворная — поет игривую песню, слышанную в клубе. Песня хоровая, странно-дикая… Очень она по сердцу Алой ленточке:
Веселуха моя, Да — ух! — я… Веселишь ты меня, Да ух! — я… На чужой стороне, Да — ух! — я…Постукивает каблуками, возится с работою, а песня, что серебряная струна, стыдливо дрожит и переливается, а стены — будто насторожились и перемигиваются. Весело!
Как у деда три сыны, Да — ух! — я… Один лапти плете. Да — ух! — я… Другой коней пасе, Да — ух! — я… Третий, сидя на камене, Ух! — я… Держит дуду на ремене, Ух! — я…В памяти выплывает древний, древний камень, — за сосновым лесом, верстах в двух от посада, на поле. Огорожен. Рядом деревянная часовенка. В камне ямка, в ямке невкусная вода. Приходят богомолы, пьют… Слепоту мажут — исцеляются.
— Ха-ха-ха! Раз она черпала ложкой воду, черпала, а оттуда как скакнет ржавая лягушка… Страсть!
И вновь запевает «Веселуху», игривую песню. Но гремят шаги — Петр с работы идет, — дверь отворяется.
— Ах, бедненький! — всплескивает руками Алая ленточка. — Промок-то как, почитай, по самые косточки: не простудись грехом.
— Ну, вот еще! — усмехается Петр. — Не сахарный…
А у самого сверток в руках, что-то газетой обернуто. Что?..
И вот — сверток развертывается, премилые башмачки вылезают из газеты на белый свет.
— Ой! — вскрикивает Алая ленточка. — Да какие хорошенькие, и на шнурках… Супротив них плюнелевым не выстоять!
Нежно прижимает башмачки к своему сердцу, а потом потупляет глаза и омрачается:
— Чертовка я!
— Да почему же так?
— А дураком-то тебя вчерась выругала…
Петр смеется:
— Экие глупости!
На душе Алой ленточки проясняется:
— Ай, ай! Какие хорошенькие, съесть хочется!
Она радостно чмокает губами новый башмачок:
— Пахнет кожею!
Петр умывается из глиняного рукомойника и не видит ее шалости. Он доволен, хотя теперь приходится работать сверхурочно, да и заказами со стороны не брезговать: чинить ружья, лудить самовары, делать жернова для кофейных мельниц и секретные замки.
…На кухонном столе весело дымится превкусная похлебка — время ужинать.
9
После ужина является Кузьма. Длинновязый, смешной… Ввалится, что молодой Топтыгин, прищурится и улыбнется:
— Раскрасавице молодухе — челом!.. Соскучился… ни есть, ни пить, ну, просто карачун да и только… Инда иссох весь. Скоро ли кумом быть?
Алая ленточка хохочет:
— Иссох!.. Ха-ха-ха!.. Комплиментщик какой!.. А кумом быть — подождать надобно.
Жмет мозолистую руку, тормошит пуговицы у его пальто — расстегивает.
Желанный гость — радостная встреча!
А ее суженый говорит другу: «Что новенького приволок?» — и набивает две папиросы, для себя и для него. Табачок — дрянь, сущий антрацит, зато глотку дерет здорово — основательное курево.
Усаживаются вокруг стола, чадят горлодерными папиросами, читают, спорят, а Алая Ленточка сидит, подперев голову и слушает. Многого не понимает, тогда делается обидно, словно какой-то мерзкий старикашка брызгает слюной и шипит на ухо: «глупая бабенка, где тебе».
Губы надуты, и хочется уйти в сени всплакнуть, но там темно, страшно — еще испугаешься и уродца родишь. Крепится. Скоро грусть проходит: была-нет… Алая ленточка приносит шитье, — позвякивают ножницы, взлетает игла, и думаются немудреные думушки.
Об осени:
Злая-презлая монахиня. В послушниках у нее длиннохвостые черти… Чу! Какой-то чертенок влез в трубу и колотит маленьким молоточком по вьюшке.
О поле:
Мчится тройка, звенят колокольчики, воют ветры и быстрые кони храпят, а в кибитке мертвец сидит…
Алой ленточке страшно.
— Ай! — под сердцем дитя запрыгало.
«Сын али дочь? — думает Алая ленточка, и решает: — Сынок… Девочку не хочу!»
И радостно ей, что она породит сына. Это будет великан с голубыми, добрыми глазами.
Надвигаются туманы, поглощают Алую ленточку, только откуда-то из страшной дали слышатся тихие голоса, похожие на журчание лесного родника:
— Это было во времена Коммуны…
Коммуны… что такое «Коммуны»?.. Ага! Две сестры — царицы; обе влюбились в великана с добрыми глазами и отравились
…Его же привязали к столбу и расстреляли!
Алая ленточка вздрагивает, осиливая дремоту. Снова звенят ножницы, бегает иголка и мелькает ноздреватый наперсток.
— Про кого они говорят? Поди, здоровенный бык… С окладистой бородой, а грудь железная… Кузнец, конечно. А может быть, маленький, слабенький, на верхней губе золотые пушиночки, а глаза васильковые. Ах, сердечный, сердечный, да за что же так?.. Чай, крепко ее любил. Гладил по волосам и целовал ее руки, узенькие, с голубыми жилками… Что вы наделали, ироды!
Позабыв о шитье, слушает, но чтению уже конец. Кузька закрывает книжку и любовно разглаживает обложку пальцами:
— Да, Петрюк, много зла промеж людей шляется…
И вздыхает:
— Скучно, ох! как скучно жить.
Встрепенувшаяся Алая ленточка стремительно убегает в кухню:
— Вот дурища — и забыла совсем.
Скоро возвращается, торжественно неся свои новые башмачки:
— Это он купил… Хорошенькие, ведь?
Кузька внимательно поворачивает башмаки в разные стороны:
— Ничего… носить можно.
— Ну, вот вы какой! — огорчается Алая ленточка. — Это он, он купил их мне. Очень даже хорошие башмаки, врете вы.
У нее на глазах блистают слезы.
Кузька вновь осматривает башмаки:
— А ведь и в самом деле хорошие.
И вдруг что-то нежное и ласковое волной подхлынивает к нему и увлекает. Он смотрит на Алую ленточку, на Петра и торжественно произносит:
— Отличнейшие башмаки! Отродясь такой тонкой работы не видывал. Ей-Богу!
— Ага! — прищелкивает языком Алая ленточка. — Я говорила, говорила!
Кузьма напяливает на ноги калоши и уже берется за дверную ручку, но останавливается:
— А башмаки-то отличные, из хрома… Берегите же их, не занашивайте.
И выходит, посвистывая.
На улице грязно и темно, но, неизвестно отчего, он спешит, словно на какой-то чудный праздник.
Калоши скользят, Кузьма чуть не обрушивается в слякоть; падая, он ругается:
— У-y! Черти, дьяволы!
Потом снова шагает, свистя и весело думая:
«Жить хорошо, люди столкуются…»
Подслеповатые фонари ему подмигивают.
1909 г.
В школе
1
Актовое зало светло и просторно. Паркетный пол блестит под лучами осеннего солнца; сияют золочения рамы с портретами царственных особ и бронзовые люстры.
Девять часов утра. Серая толпа гимназистов заняла ползала и гудит, как рой проснувшихся пчел, вылетевших на поиски пахучего меда, но классные надзиратели, величественно стоящие у широких дверей, с суровым видом записывают в памятные книжки фамилии не в меру разжужжавшихся, чтобы потом сделать выговор или пожаловаться.
Входит священник, в синем подряснике, с серебряным крестом на груди. Он еще молод, и лицо его почти прекрасно. Львиной гривой ниспадают на плечи каштановые кудри, поступь пряма и непреклонна, брови густые, а курчавая борода словно у апостола. Да и матово-белое лицо, с нежным румянцем на щеках и с прямым носом, тоже как у апостола.
Рой жужжащих пчел замолкает.
— Читайте молитву! — приказывает отец Иоанн.
Из толпы гимназистов выходит Виктор Барский, остриженный наголо, как маленький каторжник; на колене заплата, голубые глаза растерянно смотрят на висящую под хорами иконку.
Притихшая толпа ждет первого слова, чтобы перекрестить лбы.
«Преблагий Господи, ниспошли нам благодать Духа Твоего святаго, дарствующаго и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу».
Отец Иоанн низко кланяется иконке и, круто повернувшись на каблуках, направляется к двери. Гимназисты расходятся по классам.
Актовое зало пустеет, лишь портреты царственных особ зорко переглядываются друг с другом и словно жмурятся под ласкающими лучами умирающего солнца.
В классе Виктор садится на свою парту, раскрывает книгу и спешно проглядывает урок. Сейчас греческий язык — перевод отрывка из Анабазиса Ксенофонта… Ой-ой, если грек спросит — капут, в журнале будет жирная двойка.
Все в тревожном волнении, — шелестят листками книг и тетрадей, у некоторых лица бледны, а глаза печальны, как перед тяжким испытанием.
На кафедре, у стола, стоит Аарон Готлиб, смуглый, длинноносый, с черными волосами. Он строит дурацкие рожи Виктору, шевелит губами, подражая зубренью, мотает головой, желая показать, что — нет, не выучено, и поднимает кверху два пальца, в знак предстоящей участи. Аарон Готлиб — сосед Виктора по парте и его большой друг.
Но Виктору не до смеха. Он зубрит, заткнув пальцами уши.
Вдруг, точно по команде, все поднимаются на своих местах — является «грек». Брюхат, круглолиц и краснонос. По происхождению чех.
Грек притворяет за собой дверь, всходит, не кланяясь, на кафедру, садится, раскрывает журнал и макает перо в чернильницу. Гимназисты опускаются.
— Кого нет?
Аарон Готлиб называет фамилии семи отсутствующих и уходит к своему приятелю.
Грек, напялив на нос золотое пенсне, долго просматривает алфавитный список учеников.
— Господи! Господи! Сделай так, чтобы меня не спросил! — крестит под партою низ своего живота Виктор.
А грек наслаждается томлением ожидающих: то взглянет на задние парты, то опять уткнется носом в журнал.
И мычит:
— Э-э-э…
Когда его взгляд обращается к Виктору, тот строит тонкую, слегка легкомысленную улыбку, и смело смотрит в глаза мучителю: дескать, вызовите меня, пожалуйста, вызовите, я все отлично выучил. Но грек — хитрая бестия! — не доверяет. Тогда Виктор, не спуская глаз и улыбаясь еще легкомысленнее, нащупывает мизинцем правой руки сучок на скамейке парты и про себя заклинает: «Сухо-дерево, завтра пятница! Сухо-дерево, завтра — пятница!» Иногда это помогает, но не всегда.
— Виктор Барский!
Класс облегченно вздыхает.
Виктор берет дрожащею рукою тетрадь с вокабулами и книжку с текстом.
— Не трусь! — шепчет вдогонку Аарон, — подскажут! — Но Виктор бредет, опустив голову, к кафедре и не слышит его шепота. Сердце страдальчески сжимается.
Вблизи безобразие грека особенно отчетливо. Рыжая борода почему-то посередине бела, а глаза заплыли жиром, как у свиньи.
— Ну-с, раскажытэ нам спервы о походэ дэсяти тысяч и о состава грэческого войска.
И, вот, Виктор рассказывает о десяти тысячах воинов, о том, как они ушли от персов, как была им мила далекая отчизна, как они умирали на знойных песках Малой Азии, и как народы удивлялись их мужеству.
— Дэ-с! дэ-с! — поддакивает учитель, не смотря на Виктора. — Это был вэлыкый народ. А как: «Я воспитываю»?
— Пайдеуо.
— А как: «Я буду воспитывать»?
Виктор молчаливо теребит никелированную пряжку ремня.
Дверь тихо открывается, входит Костя Долин, сутулый и бледный. За ним Фома Костромской, уже с темным пушком на верхней губе. Фома — красота и гордость своего класса, Фома — силач, побивший семиклассника, Фома — богач, сын торговца железом, и всем известно, что он пьет пиво, а по воскресеньям ходит на свидания с гимназистками. Ах, этот здоровенный Фома!
Кланяются. У обоих книги не в ранцах, а в ремешках.
Грек молча вычёркивает из журнала «abs» ы, поставленные против фамилий запоздавших, протирает пенсне носовым платком и ехидно говорит:
— Тэпэрь учэныкы всэ студэнты. Ходят с опозданиями, кныжкы в рэмэшкэ… Да, да, всэ сталы студэнтамы.
И вдруг багровеет от раздражения, заплывшие глаза горят, как у рассерженной мыши:
— Ф-Фома Костромской! Чтоб нэ было!.. Д-дубина!.. Остаться после уроков на два часа. Трэтый раз опаздываэшь.
Фома поднимается — парта его в углу, у окна — и спокойно отвечает:
— Вы не смеете меня ругать дубиной, я на вас буду жаловаться директору. Опоздал я потому, что из носу пошла кровь. Вота!
Фома вытаскивает из кармана окровавленный носовой платок и трясет им в воздухе.
Класс замирает. Неслыханная дерзость! Только от Фомы и можно ожидать подобного. Некоторые начинают хихикать. Виктор видит, как глаза грека заполняются гневом. Если бы грек мог, он, вероятно, запустил бы чернильницей в голову непокорного Фомы… Если бы мог, он растянул бы Фому на полу и собственноручно бы отодрал.
Но Виктор не обнаруживает своего восхищения Фомой. Недаром его прозвали хитроумным Одиссеем: участливо и прискорбно смотрит он в глаза учителю, тот, в пылу гнева, попадает на удочку, ставит ему четыре с минусом и отпускает. Теперь будет расправа с Фомой. Ну-ка, любезный друг, пожалуйте!
— Фома Костромской!
Фома поднимается, Фома идет, Фома подает греку тетрадь с вокабулами и ждет начала единоборства.
— Я есмь.
Фома спрягает:
— Эйми, эй, эйэи, эсмен, эста, эсан.
— Я есмь человек.
— Хо антропос эйми.
— Я есмь дурной человек.
Фома молчит.
— Я есмь дурной человек! — повелительно повторяет грек.
Фома чуть заметно кивает головой, лица школьников расплываются в сдерживаемые улыбки.
Грек багровеет до последней степени, выводя в журнале толстую единицу.
— Н-на-мэсто!
За Фомой к столу плетется угловатый Костя Долин. Грек заставляет его читать Анабазис, чутко прислушиваясь к ударениям. Потом Костя переводит и делает грамматический разбор. Все время он страшно волнуется, на узеньком лбу выступает пот. Костя гладит ладонью коротко-остриженные волосы на голове, потирает переносицу, засовывает руки за пояс и в карманы мешкообразных брюк, переступает с ноги на ногу. Грек спрашивает его долго и подробно, но Костя всегда знает урок, — приходится отпустить с миром и поставить тройку.
После этого грек, захлопнув журнал, объясняет особенности следующего отрывка. Говорит он вяло, словно жует недоваренную кашу: наползает нестерпимая скука.
Виктор смотрит на черную доску, где красуются нестертые цифры, начертанные мелом еще вчера; смотрит за широкие окна, где над рядами крыш возвышается пожарная каланча, и шепчет, едва раскрывая губы, чтобы не заметил учитель:
— Надул я его, чёрта!
Аарон Готлиб, прикрывая рот ладонью, отвечает:
— Молодчина!
В коридоре гремит звонок, грек берет журнал под мышку и уходит.
— У-р-р-ра! — кричит Аарон, ударяет Виктора книгой по голове и, прыгая с парты на парту, убегает кФоме, закуривающему под партой папироску.
2
Перемена продолжается пять минут.
Виктор сидит и рассеянно наблюдает за схваткой двух братьев-близнецов, по прозванию «Горшки». «Горшки» — точная копия один другого: одинакового роста, у обоих голубые глаза, русые волосы, хриповатые голоса, а пальцы вечно запачканы чернилами. Как же различить братьев? — да очень просто: старший ленив, младший зол: старший флегматик, младший — надут; старший хороший товарищ, младший заноза и ябедник. Братья не любят друг друга и часто ссорятся.
— Так, так его! — волнуются свидетели битвы.
Младший «Горшок», получив затрещину, дико вскрикивает и, изловчившись, ударяет брата кулаком в лоб.
— Ого! Ловко дал…
— Ну-ка, тресни, тресни его по носу.
Старший «Горшок», пыхтя, как паровоз, набрасывается на брата, сбивает с ног, садится на него верхом и колошматит, приговаривая:
— Вот тебе! вот тебе! вот тебе! За папу, за маму за весь православный народ… Хочешь еще? — Вот, тебе, вот тебе, вот тебе, я-те покажу, как чужие тетради рвать.
Костя Долин, стоящий у двери на часах, бежит к драчунам, неуклюже размахивая длинными руками, и встревоженно оповещает:
— Вакула идет! Ребята, «Кузнец» идет!
Драчунов растаскивают в разные стороны, а вдоволь накурившийся Фома вылезает из-под парты и пишет мелом на черной доске, стоящей у двери:
«Добродетели украшают нас».
— Ты чего же тут доску пачкаешь? — спрашивает Фому классный надзиратель Вакула, дюжий, обросший волосами и словно закоптелый у горнила. Брови густые, сизый нос испещрен багровыми жилками. Говорит нижайшим басом — рявкает так, что стекла дрожат.
— Сколько раз, Фома, сказывал тебе: не пачкай доску попусту. Меловая пыль отравляет легкие. Останься- ка, братец, ты после уроков на час.
Фома сокрушается:
— Простите, пожалуйста, я думал, о добродетелях можно.
Фома весело оскаливает зубы.
— Дураки — гудит Вакула, — экой ты, братец, лоботряс… Сотри сейчас и не балуй больше.
Вакула с любовной усмешкой оглядывает Фому, тот стирает губкой мудрое изречение.
В конце коридора заливается звонок, перемена окончена. Ученики рассаживаются по своим местам. Но Фома держит ответ перед Вакулой:
— Ты этта чего же, братец, охальничаешь? Я тебя спрашиваю, чего же ты, братец, озорничать выдумал. Мало тебе двоек, так еще кола захотел? А-а? Зачем дерзишь греку, а-а?
Неустрашимый Фома опускает голову и мычит:
— Да он меня дубиною выругал.
— И поделом! — гудит Вакула, — я ж тебе сколько раз говорил, что дубина ты… Дубина и лоботряс. Экой ты, братец, в самом деле.
— То… в-в-вы! — жалобно мычит Фома.
Вакула утешительно похлопывает его ручищею по плечу.
— Зловредный ты, братец, тип. Ну, садись. Я уж с ним поговорю, может, кол-то и вычеркнет. А остаться должен ты — от него два часа, да от меня час. Три часа. Ну, садись же.
Печальный Фома бредет к своей парте, Вакула же при входе историка покидает класс, его ножищи стучат на всю гимназию, словно по коридору катятся две телеги с кирпичом.
Аарон Готлиб закрывает дверь и докладывает историку, кого нет.
Историк высок, лыс и сухопар. Тощие старческие руки, ввалившиеся щеки, морщинистый лоб, кажущийся благодаря лысине очень высоким, и тонкие, насмешливо сжатые губы.
Зовут его Порфирий Иванович.
— А скажите-ка, милостивые государики, на чем, бишь, мы с вами остановились.
Классом сразу же овладевает веселое и благодушное настроение. Все сидят непринужденно, у всех лица оживляются: что-то расскажет, как-то пошутит Порфирий Иванович.
Виктор Барский приподымается со скамьи, чтобы толково доложить:
— Вы вчера говорили об упадке римской империи, о распущенности римских нравов, о христианстве, о варварах и о том, что Рим должен был пасть, так как пользовался трудом рабов.
— Спасибо вам, Виктор Иванович, садитесь. Теперь я бы хотел провести параллель между религиями древних народов, милостивые государики. Будьте добры, знающие урок и желающие отвечать — пусть подымутся, а прочие… хе-хе!.. пусть не беспокоятся.
Класс, как один человек, подымается.
— Аарон Иванович! Приятного аппетита-с!
Десятки голов поворачиваются в сторону покрасневшего Готлиба, десятки глаз насмешливо озирают его. Готлиб готов провалиться сквозь землю от стыда: он только что заложил за щеку кусочек булочки, взятой на завтрак из дому.
— Ха-ха-ха!
— Не подавись, Готлиб!
Историк торжественно указывает пальцем на дверь.
— Уйдите, Аарон Иванович, и покушайте на досуге. Здесь люди наукою занимаются, а маменькины-с булочки с историей ничего не имеют общего.
Готлиб краснеет еще более и с дрожью в голосе умоляет:
— Порфирий Иванович, честное слово, я не буду больше.
— Ну, хорошо-с, а только наказать вас, Аарон Иванович, надобно. Хотел вас вызвать, но вы, как назло, себя скомпрометировали. Теперь не могу-с, никак не могу-с! А вот Александр Иванович Бубликов сообщит нам свои исторические выводы.
Бубликов — коренастый и широкоплечий лодырь, с блаженным лицом, изрытым оспою, идет к столу, весьма довольный оказанною ему честью. Порфирий Иванович не любит затемнять журнал двойками, его урок не опасное ристалище, где можно свернуть себе шею, а приятное развлечение.
— Так вот, милостивые государи, был, значит, Египет, страна мертвецов и фараонов, была Персия, край любителей огня, а еще были сладкоречивая Эллада и железный Рим. Вы с этим согласны, Александр Иванович?
Бубликов ухмыляется:
— Согласен, Порфирий Иванович.
— Вот и чудесно. Ну-с, что вы знаете о египетском культе?
Бубликов нахмуривается, вспоминая:
— Там на пирах стояли мумии в углу комнаты, чтобы о смерти не позабывали гости, потом был обычай — когда умирал фараон, его труп выносили на площадь, и жрецы спрашивали: не имеет ли кто чего-нибудь против покойника. Если он кого-нибудь при жизни обидел, так труп сжигали… Потом… вот… пирамиды тоже…
— Очень хорошо, Александр Иванович. Если сравнить культы древнего Египта и Эллады, то культ Египта нам напомнит роскошно-убранную комнату, всю в золоте, серебре и бесчисленных бриллиантах, но навсегда закрытую железными ставнями. И вот, милостивые государики, поэтому в комнате царит глубокая ночь, сокровища египетской мысли навсегда затемнены призраком Небытия-Смерти. Жалок и несовершенен человек, по мнению мемфисского жреца, — немудрено, что изображениям божественных сил придавались формы чудовищных, несуществующих гигантов птиц и зверей, но отнюдь не человеческие формы. Эллин был не таков, милостивые государики. Вы с этим согласны, Александр Иванович?
Бубликов опять ухмыляется:
— Согласен, Порфирий Иванович.
Историк стучит пером по столу:
— И очень хорошо делаете, что согласны, Александр Иванович. Кстати, милостивые государики, христианская религия в своих взглядах на человека весьма близко подходит к мрачному культу страны пирамид; не таков эллин. Высшее назначение для античного грека — жизнь, высшая красота — человеческое тело. Эллин любил цветы за их нежные краски, любил небо за его бездонность и синеву, любил солнце за то, что оно прекрасно, и любил свою красоту, в образы которой он воплотил божества.
Постепенно, сам того не замечая, Порфирий Иванович увлекается, старческие глаза загораются тихим и радостным светом, исхудалые щеки чуть розовеют, а речь плавным и увлекающим потоком струится из-за тонких насмешливых губ.
Класс цепенеет. Тихо и незримо входят в комнату таинственные тени — пахарь благословенных полей, молчаливый египтянин; ловитель звездной мудрости, персидский маг, и смелый кормчий, обожженный солнцем и ветрами финикиец, и юный грек в миртовом венке и с томнопесенной лирой.
Как жаль покидать туманы очарования! Как грубо и непрошено гремит звонок, объявляющий конец урока.
Гимназисты срываются с места, окружают Порфирия Ивановича, старательно выводящего Бубликову тройку, и провожают его по коридору до самой учительской.
Но, возвратясь в класс, Виктор Барский спрашивает Аарона;
— Ты не знаешь, что значит «атеист»?
— Нет, не знаю.
— Безбожник! — многозначительно произносит Виктор. — Порфирий Иванович — атеист, он Богу не молится.
3
Третий урок математика. Учитель высок, узкогруд, с землистым лицом и злыми черными глазами. Он очень молчалив и всегда говорит только необходимое, с каждым словом из его горла вырывается зловещий свист — математик болен какою-то неизлечимою болезнью. Он слывет за строгого, но справедливого, гимназисты его боятся больше огня и прозвали «Мощами».
Мощи садится на стул, раскрывает журнал, отмечает отсутствующих и, вынув из кармана золотые часы, кладет их на стол перед собой.
Когда он озирает класс, его взор скользит по рядам школьников, никого не замечая, ни на ком не останавливаясь, как будто для математика не существуют десятки сидящих перед ним гимназистов, как будто он в классе один, и перед ним пустое, ничем не заполненное, место. Под этим незамечающим взглядом гимназисты стушевываются, подолгу задерживают дыхание в груди и стараются тоже не замечать учителя, что им не удается.
— Фома Костромской, к доске.
Фома нехотя поднимается. Вот несчастье! Опять отвечать, и, главное, кому — Мощам. Фома, конечно, плохо знает урок, но учитель не скоро отпустит его: прежде, чем поставить двойку, Мощи задаст десятки кратких вопросов, при этом по его лицу будет видно, что ему все равно, хорошо ли, плохо ли знает Фома, его дело — только спросить Фому, и он спрашивает.
С сонным скучающим видом стоит Фома у доски, выводя на ней мелом цифры и буквы, буквы и цифры.
Мощи изредка взглядывает на доску и лениво говорит:
— Не так.
— Дальше.
— Совсем не так.
— Ну-с, дальше.
Фома покорно стирает навранное, пишет снова и снова стирает. Ему обидно, ему скучно. Если бы он не боялся математика, он бы бросил мел на пол и ушел, опустив голову, к себе на парту. Но Фома боится математика: с ним шутки плохи, — когда он рассердится, его смугло-желтые кулаки начинают яростно стучать по столу, он дрожит и задыхается в гневе.
Изнывая, Фома пишет мелом на доске цифры и буквы, буквы и цифры. Класс, следящий за его работой, кажется ему чуждым, даже явно враждебным ему, Фоме.
Мощи вытаскивает волосок за волоском из своей скудной бороденки, рассматривает, прищурясь, на свет и для чего-то бережно прячет под заднюю крышку золотых часов. Такая у него привычка. Неизвестно, что он потом проделывает с выдранными волосками и зачем несет их домой.
— Не так.
— Дальше.
— Совсем не так.
— Ну-с, я слушаю.
С каждым вырванным волоском голос математика становится презрительнее, брезгливее. Фоме уже хочется плакать с досады, и плакать не потому, что задача, несмотря на все усилия, не решается; а потому, что обидно, очень обидно да и нестерпимо скучно ему.
Злой, угрюмый, выслушивает он: «Не знаете, садитесь!» — и просит разрешения выйти из класса: не может же он сидеть с руками, выпачканными мелом.
Учитель отпускает его. Фома, покидая класс, с шумом хлопает дверью, так что математик от неожиданности вздрагивает.
«Чёрт! Дьявол»! — бубнит в коридоре Фома себе под нос и входит в угольную комнату, где на асфальтовом полу возвышается дюжина удобных сидений, с вырезами посередине, фаянсовыми основаниями и болтающимися позади сидений цепочками, к которым подвешены фаянсовые же ручки. Славное местечко! — оно всегда полно беглецами, скрывающимися от зоркого ока наставника; дезертирами, благоразумно выбывшими из строя, не дожидаясь той минуты, когда острие единицы уязвит в самое сердце. Здесь же любители дружеских бесед ищут пристанища, покинув суету класса. Темы, разбираемые здесь, всегда злободневны и захватывающи, и именно здесь потухает исконная вражда граждан основных классов к обывателям параллельных. Полное равенство! — плюгавенький приготовишка гордо восседает рядом с дылдой восьмиклассником, у которого уже основательная бородка. Как в древности некоторые храмы, как в средние века некоторые города служили убежищами для преступников, так и уборная — отличное убежище: ни надзиратели, ни учителя сюда не заглядывают. Правда, однажды инспектор, в поисках беглецов, рискнул было заглянуть в эту комнату, но тотчас же сконфуженно захлопнул дверь, удивленно пробормотав: «Ф-фу… Ну, и однако же»!
На подоконнике, против посетителей, сидит кривой и рябой сторож в истасканном мундире. Зовут его — Циклоп, а, по произношению некоторых, — Киклоп. Циклоп курит махорочную «цигарку», сплевывает к ногам посетителей и внимательно слушает разговоры. Иногда Циклоп читает газету, широко открывая при этом беззубый рот, тогда у него вид чрезвычайно важный, как у самого директора.
…Фома засучивает рукава и принимается мыть под краном руки. Сколько мелу! Нечего сказать, пописал-таки, а для чего? — для того, чтобы получить двойку.
«Чёрт! Дьявол!»
— Эко! — отрывается от газеты Циклоп, — американцы-то, и што еще они выдумали…
Он читает гимназистам о клубе самоубийц, где каждый член рано или поздно должен покончить с собой, повеситься, застрелиться, принять яду или до смерти угореть.
Фома завертывает кран и задумчиво вытирает вымытые руки носовым платком. В уборную входит Виктор Барский, а за ним, немного погодя, Аарон Готлиб. Лица у них заморенные, просидеть столько времени у Мощей — не шутка.
— Объясняет к следующему разу! — мимоходом отвечает Виктор Барский на вопрос Фомы, что делает математик, — и, облокотившись на подоконник смотрит в окно.
— Эко! эко! — качает головой Циклоп, — и што еще они выдумали.
— Американцы решительный народ! — категорически заявляет с кресла какой-то скуластый семиклассник.
Фома лезет в карман за портсигаром и угощает Готлиба с Барским.
Закуривают.
— А давайте, братцы, вздуем математика! — предлагает, насупившись, Фома, — чего он, он, в самом деле, над нами кочевряжится. Накласть ему по мордасам, да и шабаш!
Готлиб фыркает:
— На-кла-ал… Он тя сгребет в кучу, да так намнет, что и своих не узнаешь. Вот грека можно бы отдубасить, да не стоит. Переведут в другую гимназию, а к нам на пока Кринку назначат из параллельного, а тот и совсем скот.
— Эко! эко! — никак не может успокоиться Циклоп, — и што еще они выдумали.
Виктор дергает Фому за рукав и тихо говорит, указывая на улицу:
— Смотри, листья-то прыгают… вертятся. Я думаю, скоро выпадет снег. Скучно как…
Фома вздыхает:
— Мне-то три часа сидеть… Дьяволы!
Горько Фоме. Дома его ждет хорошая книга, он остановился на самом интересном месте: герой, юный охотник за бизонами, упал с лошади во время бегства от свирепых индейцев. Что с ним сделают безжалостные преследователи? Какие пытки постигнут злополучного юношу? Может быть, его привяжут к столбу и из высоких луков индейцы будут метить в его благородное сердце… Неужели же он будет убит? Но ведь тогда печаль его милой невесты… Ах, что там — печаль, не печаль, а безысходное горе, будет превыше человеческого страдания. Она зачахнет на веранде своей плантации…
— А у меня револьвер есть, — хвалится Аарон Готлиб, — у батьки спер, он про него забыл, а я и свистнул. Старый, в два ствола. Хочешь, принесу завтра показать? Палит ловко, я уж в телеграфный столб пулю всадил, теперь хочу в ворону попробовать.
Виктор оживляется:
— В два ствола?
— В два.
— Теперь таких нету. Он что же — большой?
— Порядочный!
— А из него можно убиться? — мрачно спрашивает Фома.
Виктор хохочет:
— «Убиться»… Ха-ха-ха! Застрелиться, а не убиться. Хотя, — Виктор делается серьезным, — правильно говорить и «убиться», есть глагол «убить», к нему — частицу «ся», итого выйдет: «убиться». Ты, Фома, верно выразился.
— Отцепись к чёрту! — еще мрачнее нахмуривается Фома, — «ся»! «ся»! наплевать мне на «ся». Дам тебе тумака, чтоб не привязывался.
Кулаки Фомы сжимаются. Виктор думает — обидеться или нет, но вспоминает последнюю трепку, полученную от Фомы, и благоразумно смиряется.
— Дурак ты, Фома, из каждого револьвера можно застрелиться. Голова пустобарабанная.
Новое оскорбление! Фома начинает сердито пыхтеть, но ударить Виктора все же не решается, так как в уборной не хорошо устраивать драки — начальство будет вынуждено вмешаться в жизнь убежища, и тогда поминай, как звали, все вольности. Нет, драться здесь не годится, да к тому же и Циклоп выгонит.
Циклоп аккуратно складывает газету, прячет ее в карман и, взяв колокольчик, уходит в коридор звонить окончание урока. Делает это он с гордостью: маленький человек, а поди ж ты, сразу все двери настежь открываются, как начнет громыхать колокольчиком.
Беглецы быстро приводят в порядок свой туалет и толпой покидают уборную. В коридоре — крик, гам, возня и беготня; большая перемена продолжается целых полчаса.
4
Во время перемены в малом рекреационном зале дородный офицер обучает гимназистов гимнастике.
— Пятки вместе, носки врозь. Верчение головы… Начинай!
Выстроившиеся по росту гимназисты медленно и с глупым видом повертывают головы справа налево и гудят:
— Ра-а-а-аз…
Когда же офицер командует: «два!» — все головы поворачиваются слева направо, по зале идет монотонный гул:
— Два-а-а-а-а…
Вдруг чинность нарушается пронзительным свистом. Кто-то изо всей мочи свистнул, как Соловей-разбойник, и замолк. Кто? — узнай. Офицер притворяется, что ничего не расслышал, и командует бег на месте:
— Начина-а-а-й! Раз-два! Раз-два!
Подпрыгивающие, бегущие, но не убегающие, гимназисты сильно смахивают на потревоженных козлов; гремят каблуки, вздымается пыль, дородный офицер — для примера — тоже подпрыгивает.
— Раз-два! Раз-два!
У Фомы лицо постное, надутое, но Виктор Барский лукаво улыбается.
— Смирно! — командует офицер. Все замирают в неподвижных позах. Ухарский свист неожиданно опять прорезает воздух, но офицер мгновенно поворачивается в ту сторону, откуда он несется и командует:
— Виктор Барский, налево-кругом-марш, к директору…
— Это ж не я, ей же Богу! — врет Виктор, скорчив страдальческую мину, но офицер ему не верит. Сам видел, сам, собственными глазами.
Делать нечего, Виктор уходит к директору, за ним, отпустив гимназистов, спешит и дородный офицер, придерживая рукой болтающуюся шашку.
Директор, осанистый старик с бакенбардами, выслушивает жалобу офицера. Резолюция — на три часа после уроков. Вот так раз!
Однако, Виктор искусно скрывает, что ему наказание не по губам. Напротив! Ничего лучшего директор не мог придумать. Одно удовольствие — высидеть три часа в пустом классе. Одно удовольствие!
Выйдя из кабинета, он бегает, как сумасшедший, пот градом катится по его лицу. Виктор пристает к Горшкам, науськивает их друг на друга, дразнит Фому костромским теленком и вихрем перелетает по каменным лестницам гимназии. Но, вот, гремит звонок, перемена кончилась, Виктор опрометью проносится в класс и, тяжело дыша, замирает на своей парте.
«Три часа!»
Он с завистью смотрит на товарищей. Небось, смеются, еще бы — им-то не сидеть.
Высокие стены класса вдруг суровеют, чернота доски становится слишком резкою, бьющею в глаза… А дома-то, дома!.. Мать с опаской взглянет на стенные часы и сядет у окна поджидать его возвращения, но он…
Входит учитель русского языка. Коренаст, широкоплеч и курчав, хотя, говорят, кудри-то у него не свои, а поддельные, носит парик. Прозвище его — «Собака».
Виктор его урок знает очень плохо, но уже не притворяется, как перед греком, а даже не раскрывает книги. Наплевать! Пусть спросит, все равно.
В душе поселяется злоба. Он выдергивает из ручки перо, отламывает от него половину острия, втыкает перо в парту и — дзинь! — нет-нет, да и дернет за него пальцем. «Собака» кричит, сердится, краснеет, но найти виновного не может. Наконец, забава надоедает, Виктор бросает перо под парту.
Он начинает «думать». Думать очень интересно. «Собака» превращается в настоящую собаку, поджимает хвост, бежит с визгом по коридору, Виктор за ней и ее убивает. Впрочем, нет, убивать не стоит, лучше просто посадить в конуру на цепь. А не то устроить войну? Ну, хорошо. Начинается война; все учителя, кроме историка, идут с длинными копьями и в латах на гимназистов, которыми предводительствует он, Виктор. Ужасная битва! Копья вонзаются, мечи рубят, кости трещат, течет кровь. «За мной, ребята! Не трусь!» — героически выкрикивает Виктор, убивая «Собаку». Но «Собака» перед смертью успевает ранить своего победителя. Обливаясь кровью, Виктор падает на пол, верный Готлиб выносит его на плечах из пыла сечи.
…Гремит колокольчик, еще один урок кончился. «Собака» забирает журнал и уходит. Ровно через пять минут, после нудной перемены, когда скука и утомление делают голоса школьников тихими, когда тускнеют скучающие глаза и никому не хочется подыматься с парт для забавы, — ровно через пять минут является француз, маленький человечек, бесшумно ступающий, говорящий певучим тенорком и такой незлобивый, что никогда не ставит неудовлетворительных баллов. К его уроку не готовятся.
Придя в класс, француз раскрывает «Приключения Телемака», вызывает кого-нибудь к столу, велит ему читать и переводить. Целый час француз говорит о чем-то вполголоса чтецу, целый час слышно, как усталый чтец лениво бормочет: «я этого слова не знаю!» «мне это место не перевести!» — Не перевести? — удивляется учитель, — но это же очень просто.
В его наружности есть одна особенность: левый глаз желтый, а правый синий, и когда он смотрит в лицо, то кажется словно из его глазниц выглядывают два разных человека.
Виц-мундирчик на французе с иголочки, волоса подстрижены аккуратненько, подбородок выбрит, а темные усы закручены, — весь он розовенький, приличный и вкрадчивый, но когда он сидит за столом, класс его как бы не замечает: гимназисты переходят с места на место, громко беседуют и даже курят, забравшись под парту и не боясь быть уличенными.
Особенно непринужденно держит себя на уроке французского языка Фома — режет ножиком лакированную крышку парты и угрюмо напевает:
Когда окончу я гимназью нашу, Мощам я нос расквашу. Тара-ра-рам, тара-ра-рам! И греку взбучку я задам…Тягуче, удручающе медленно тянется время. Там и здесь, не стесняясь француза, зевают и потягиваются. Но, вот, в последний раз заливается звонок, все вскакивают, а Костя Долин выходит на середину класса и скороговоркою читает молитву:
«Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея, во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей и всех ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего».
Фома Костромской и Виктор Барский сумрачно смотрят вслед уходящим и убегающим товарищам. Счастливцы! Сейчас они будут дома, пообедают, дочитают интересные книги, будут играть с мальчишками, а тут — сиди. Три часа! Целых три часа.
5
Наползают сизые сумерки.
Виктор заперт в своем классе, а Фома в соседнем, и кроме них, в гимназии никого нет — пусты коридоры, пустует уборная, темно и безлюдно рекреационное зало. В нем портреты царственных особ более не переглядываются, золото рам потускнело в сумеречной мгле, а черты величавых лиц стерлись, обезобразились.
Виктор сидит за столом, на учительском стуле. Сумерки сгущаются. Страх обхватывает Виктора властными руками. В тишине, в безмолвии всегда людного, всегда наполненного звуками класса совершается незримая работа. Ничего не будет удивительного, если вдруг из темного угла вылезет великан с красными глазами или выскочит огромная жаба — и бросится прямо на Виктора.
Он бледнеет, пугливо озираясь по сторонам.
Страх все властней и властней обхватывает его горло сильными руками.
Виктор чутко прислушивается. Вдруг он вскакивает со стула и с плачем бежит к дверям.
— Циклоп! Циклоп! Отвори же! — барабанит он кулаками в дверь. — Ци-клоп! Отвори же!
Он стучит с такой силой, что кулаки покрываются ссадинами и синяками. По пустующим коридорам широкою волной проносятся и крик, и стук, и замирают где-то внизу.
В соседнем классе Фома, заслышав стук, срывается с своего места, подбегает к двери и тоже начинает барабанить кулаками.
— Циклоп! — злобно рычит Фома, — Циклоп! Отворяй же!
Он бьет дверь ногами, коленами, ударяется об нее всем телом, чтобы ее выломать, но все безуспешно: Циклоп у себя в каморке, в подвальном этаже, тачает при свете жестяной лампы сапоги и мурлыкает песни, порою взглядывая на часы, чтобы вовремя выпустить пленников.
Фома с бешенством ударяет в дверь и, ослабев, садится на парту. Выбившийся из сил. Виктор тоже возвращается на учительский стул; закрыв глаза ладонями, он плачет. Плечи Виктора вздрагивают, словно он кого-то сбрасывает с них. Плач вырастает в рыдания.
А сумерки все сгущаются, беспросветная тьма вливается в широкие окна.
«Рассказы» т. 1, 1912 г.
Во лесях
Идет Никон по посаду, и все прохожие на него оглядываются: что за чудо вылезло из темных лесов?
На Никоне овчинный полушубок, осташи под цвет полушубку, темно-русая грива волною сбежала на плечи, а на гриве красуется черная скуфья; в правой руке Никона высокий посох из славного дерева — орешника, наверху посоха вырезан крест.
И здоров же Никон, здоров — сущий богатырь: плечи — косая сажень, ростом велик, русая борода прикрыла полгруди, а густые брови нависли, как крылья у птицы, вылетевшей в небесную синь.
С лица он чист и благообразен, живет он в глухом лесу, а там солнце не жжет, не печет — по весне нескоро осядет загар.
В посаде тысяч пять жителей, да и то какие-то дохлые: женщины убогие, мужчины в засаленных куртках и в мохнатых бараньих шапках — железнодорожники, рабочие, лесопромышленники. Пропахли потом, нефтью и салом, иные с мылом моются в неделю раз.
Дома в посаде облезлые, грязные, улицы вытянулись в ровные линии, как будто по чьему-то властному приказу: «Ряды вздвой! Смирно!». Правда, на многих перекрестках стоят столбы с керосинокалильными фонарями, в ночи так светло, что читать можно, но и светлые фонари не озарят закоптелых лиц радостью.
Днем и ночью свистят, ревут и с грохотом подбегают к каменному вокзалу трехглазые паровозы, за них цепляются, как дети за подол матери, десятки одинаковых и безыменных вагонов — в иных скот, черкасские быки, холмогорские коровы, новороссийские свиньи; в иных люд — баре, подбаре и мужики; а иные — полны ржи, кирпичей, тюков с товарами… Пузатым паровозам все равно, что вести, лишь бы на станции приставили к негнущейся спине железный рукав да напоили из высоких баков грязной водой, лишь бы черные человечки со светлыми пуговицами не ленились подкидывать в железную утробу каменный уголь или подливать вонючую нефть. Напьются, насытятся — и дальше на стальных лапах по стальным тропам.
Каменный вокзал остается поджидать новых гостей. Подобен он неуютному дворцу. Чугунные восьмигранные колонны со скукой держат тяжелую крышу, со скукой люди ходят по каменным плитам перрона, лениво визжат высокие двери.
Не любит Никон посада, не любит. Не пошел бы из родимого леса, да надобно купить новый горшок для варева: старый ненароком разбился.
Выходит Никон на торговую площадь — день базарный, понаехало в посад мужичье, скрипят сани, ржут кони, ругаются бабы. Тут сено, там картошка, там молоко, творог, сметана, там продают поросят, — визжат они, горемычные, поднимают их мужики за задние ноги да потряхивают:
— Порося! Порося поеные!
А вешнее солнце узрилось на маковку прикурнувшего на площади собора, играет на серебристом куполе, перемигивается с ручьями, журчащими среди талого снега и темно-желтого навоза.
Всюду брань, крики, божба, все норовят друг друга надуть и, хоть на копейку, да обсчитать.
— Не клянись! — строго говорит Никон рыженькому мужичонке, продающему картошку желтоносой бабе в синем платье.
Мужичок сердито взглядывает на Никона.
— А тебя, юрода, спрашивают? Пошел-ка ты к чертовой матери!
Никон проходит своею дорогою к согнутой в три погибели бабке, разложившей на рогожах глиняную посуду.
Старуха сидит среди горшков, блюд, чашек, латок и свистулек, как между присмиревшими внучатами, и шепелявит беззубым ртом:
— Тебе чего, кормилец, надобно?
— Горшок для варева.
Бабка обводит слезящимися очами свой глиняный выводок и шамкает:
— А ты, родной, выбери, выбери, сынок, выбери. Сей — в семитку, сей — в три копейки, а сей по пятаку, а сей в гривку. Выбери, родной, они у меня крепконькие, стукни перстом по донышку. Эва, звон — от какой стоит!
Пекин выбирает, стучит. Горшки разные, и простые, и с глазурью и с цветочками и с разводами.
— Так я, бабка, этот куплю.
Он прижимает к груди облюбованный горшок, вытаскивает из засаленного кошеля пятак и расплачивается.
— Прощай, бабка.
— Прощай, кормилец мой.
Никон проходит через кишащую людом площадь и на повороте встречается с Павлухой-охотником.
— Тпру!
Павлуха осаживает коня.
— Садись, святой, подвезу.
Никон рад:
— Спасибо, Павлуха!
Садится в розвальни рядом с ним.
Едут. Павлуха посапывает грязным носом да настегивает чалую лошаденку узловатым кнутом. От Павлухи сильно разит водкою: пьяный человек, что делать. Одет он не по мужицки: на голове шведская шапка, сам в трепаной ватной тужурке с большими черными пуговицами, кушаком не опоясывается.
— Как живешь, Никон? Не надоело во лесях?
— Нет.
— Н-но, ты, собака!
Павлуха свирепо стегает коня, точно собрался пересечь его пополам. Голова у Павлухи маленькая, усы коротко подстрижены, бородка — клином, а лицо темное, в глубоких морщинах. Глаза же у него красные от непробудного пьянства, ничего нельзя по ним разобрать — хорошо ли ему, плохо ли, весел ли, сердит ли.
Конь шлепает копытами по мокрому навозу, розвальни раскатываются.
— Что в деревню не ходишь? У нас новый поп, староверческий, из начетчиков, умный, чуть приезжего миссионера не осрамил. Да только тот хитрый: потер нос, православные и начали галдеть, не дали договорить. Знак такой: потер нос — подымай на всю церкву крик.
Никон отмалчивается. Павлуха не верит ни в сон, ни в чох, а в Бога и подавно, что с ним говорить. Ради ссоры и о миссионере заводит речь: станет Никон хулить начетчика, Павлуха старовером прикинется, будет хвалить — Павлуха скажет: «Мы, православные!» Ему бы поозоровать.
Улицы остаются позади. Посад кончается, вот последний дом, двухэтажный, деревянный, крашен голубой краской. У ворот — высокий шест, а на шесте жестяной человек трубит в рог: куда ветер, туда и он, да только никто его не слышит, а ветры его трубы не пугаются.
…Расстилаются лучезарно-тающие поля. Так ярко, так бело вокруг, что глаза жмурятся сами собой.
— Взопрел! — говорит Никон, отирая рукавом полушубка со лба пот. — Пришла весна, Павел, пришла.
По дороге прыгают сойки и сороки. Они совсем не боятся лошади, хитрые твари — небось, выйди с ружьем, разлетятся во все стороны. А в придорожных кустах сидят мелкие пташки, коноплянки да воробьи; и такой у них писк стоит, что далече по полю звон разливается, словно бы шагает впереди красная девица, а в подоле у нее битых стеклышек видимо-невидимо, и думает она о том о сем, стеклышки позвякивают.
Жалуется Павел:
— Вышел приказ: отбирать ружья, ежели без свидетельств. А свидетельство получить — рубль с полтиною на марки отдать, да может и не разрешат. Сам посуди: а ежели у меня два ружья, дробовик да пульное на красного зверя… что поделаю? Прошения? Пулевых не пропущают, одни дробовики. А я и прошениев не подам и ружей не предоставлю, пущай сунутся: пропадать так пропадать, уж всыплю им из обоих, так и быть.
— Что ты, Павел, — укоряет его Никон, — да как же в человека палить? Душа в нем. Не дело замыслил, Павлуха, не дело. А ты на марки не жалей… А пульное… ну авось, и дробовиком управишься. Да и большой это грех промышлять убиениями: чай, и зайцам и тетеревам жить-то во как хочется.
Павел сердится:
— А мне издыхать? Голова баранья!
Дорога черна, розвальни переваливаются с боку на бок, из колеи в другую.
Павлуха вытаскивает из кармана бутылку, выбивает ладонью пробку и, закинув назад голову, тянет водку из горлышка. Пьет, не отрываясь, качается на выбоинах, стекло ляскает по зубам, но Павел терпелив. Отпив полбутылки, он затыкает ее пробкой, валится на спину и начинает горланить песни. Песни поет он разные: «Сударушка, сударушка, ты вымой мне портки», а потом: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Голос у него хриплый и со срывом, даже лошадь досадливо шевелит ушами, слушая его галденье, скоро ему и самому надоедает.
— Никешка, а ведь у меня того… жена умерла.
— Знаю. Царствие ей небесное.
— Да, умерла. Семнадцать лет прожили душа в душу. Бывало, пьяный приду, уложит, а утром водочки с капусткой даст: «На, непутевый, опохмелись!» Умерла — и кончено. Эй, ты, анафема!
Он стремительно приподымается, хлещет со всего размаху коня и заваливается спять.
Выезжают в лес. Стоят ели, как шатры; стоят светло-желтые сосны, как сторожевые; а мелкий ольшаник столпился у самой дороги, подглядывает, высматривает — дескать, нельзя ли и мне пролезть к чащу: я маленький.
— Ох, Никешка, Никешка, баранья твоя голова! — вскрикивает Павлуха, смотря в лазоревое небо. — Да и как же мне век вековать: семь ребятенков на плечах, сам ведаешь. Куда приткнусь, куда положу мою бедную голову. А тут еще ружье отбирать… только — дудки, брат, вилами на воде писано.
Никон молчит.
— А правды, Никон, нету, знаю доподлинно…
Никон молчит.
— Дурак ты, Никон, осел, эка, чучелом каким вырядился, смотреть тошно — во лесах живет, спасается!.. Вша ты, вонючая, вот кто ты: уполз, чтобы ногтем не тиснули. Не таких видывали, на кривой не объедешь.
Никон вскипает гневом, но крепится, молчит.
Павлуха подымается со спины и тпрукает коня, конь останавливается.
— Ступай к черту! — указывает Павлуха кнутовищем на дорогу. — Нет моей воли везти тебя, потому — враг ты мой и неприятель. Ступай к лешему!
— Ан нет, повезешь! — горячится Никон, в голубых глазах загорается пламень. — Говорю, повезешь, и повезешь. Н-но, пошел! — окликает он коня.
— Тпру, Васька! Тпру! — захлебывающимся от гнева голосом повелевает Павлуха. — Ступай к дьяволу, Никон, подобру-поздорову. Конь чей? Мой?
— Твой.
— Ну и уходи.
— Не уйду.
— Не уйдешь?
— Не уйду.
— А ежели я тебе в морду дам?
— Дай!
— И дам!
— Ой, Павлуха, не введи в грех. Тебе со мной не упра…
Договорить Никону не удается, Павлуха ловко изгибается, схватывает его за подмышки, сбрасывает на дорогу и так настегивает коня, что тот пускается вскач.
— Ха! ха! ха! ха! — хохочет вместе с Павлухой лес, — не управился. Лежи до второго пришествия.
Клокочет и шумит в Никоне ненависть. Ну, Павел, не сносить тебе головы! Не уйдешь! Не уйдешь, нет!
Он вскакивает на ноги и бежит за розвальнями, размахивая посошком. И отколотит же он Павла этим посохом, все ребра выстукает. Да и по зубам, по зубам…
Но Павел настегивает коня, тот дает ходу.
— Горшок отдай! — вдруг вспоминает Никон, что покупка осталась в розвальнях. — Па-авел, горшок отдай!
Павел придерживает коня и выкидывает горшок своему преследователю; при падении от горшка отлетает порядочный кусок. Этого окончательно не может вынести Никон, — не поднимая горшка, он бросается к розвальням; Павел принимается настегивать коня, но тот, точно оглушенный ударами, не торопится прибавлять бегу. Никон ухватывается за край розвальней, Павел бьет его сапогом по лицу, но Никон, не обращая на боль внимания, вскакивает в розвальни, и между ними начинается борьба.
— Пусти! — хрипит Павел, барахтаясь в железных лапах противника.
Никон сбивает Павлуху с ног, наваливается на него, разгоряченные лица сближаются, точно для поцелуя.
Конь бежит.
И вот Никон бьет поверженного Павла. Бьет свирепо, без всякой жалости, под его громадными кулаками темное лицо Павла расцветает кровавыми пятнами.
— Пусти! — умоляет Павел.
Озверевший Никон продолжает молотить кулаками по его лицу. Павел с ругательством освобождает правую руку, запускает ее за голенище сапога и вонзает в щеку Никона нож.
Никон скатывается с саней и сперва не может сообразить, что с ним сделал Павел; полушубок, борода заливаются кровью, рот тоже полон теплой и солоноватой крови. Никон сплевывает ее на снег, но кровь набегает снова и снова, тогда он набивает рот снегом, от этого кровавый ток словно бы слабеет. Не порезан ли язык? Никон выплескивает изо рта окровавленный снег и кричит:
— Па-авел! По-одлый!
Слава Богу, язык в исправности, ну, а щека — пустяк, в неделю зарастет. Но каков стервец: «Садись, подвезу!» — а потом — бултых наземь. Подлый!.. И горшок раскокал.
Никон встает со снега и подбирает посошок, выпавший вместе с ним из розвальней. Ох, беда: отломился крест, и торчит теперь вместо креста щепа, похожая на кукиш. Вот тебе и труды: три дня вырезал Никон крест, надпись сделал — Иисус Назорей Царь Иудейский, — и ничего не осталось. Ах, подлый, подлый Павел!
Он вздыхает, нахлобучивает смятую скуфью и шагает, понуря голову, назад, к тому месту, где лежит горшок. Не возвращаться же в посад за новым: почитай, добрых верст десять отъехали.
Горшок лежит посреди дороги, прискорбно разевая глиняное жерло. Да, краешек отбит, но варить все-таки можно.
Никон поднимает горшок и, от времени до времени сплевывая на снег скопляющуюся во рту кровь, направляется восвояси. Срам-то какой, о, Господи! Ах, подлый, подлый Павел!
Так он идет и сокрушается. Вдалеке слышен скрип саней. «Спрятаться?» — думает Никон, но из-за елей выезжает возок — цыгане, от них нечего скрываться.
Шагает навстречу.
Сытая кобыла тащит в гору белый некрашеный возок; возок завален сенниками и одеялами, из-под них высовываются две чернявые рожицы, девочки да мальчонка: глаза широкие, ресницы длинные, губы красные, волосы всклокоченные — брат да сестра. Сзади возка прилажена деревянная клетка, а в ней стоит розовая свинья и вместе, с детьми уставилась на встречника.
— С добречком! — приветствует детей Никон.
Они пересмехаются и что-то лопочут по-своему.
— Где тятька?
— А в санях! — отвечает девочка.
— А матка?
— Тамо же.
Головы детей скрываются, слышен плач, в дыру высовывается кудластая голова молодого цыгана, с серебряной серьгой в левом ухе. Немного погодя, высовывается и цыганка, с ожерельем из пятиалтынных на стройной шее.
— С добречком! — повторяет Никон. — Куда путь держите?
— В посад.
— Так. А ты, баба, щеку мне не залечишь? Ворог ножом проткнул, я бы пятак дал за мастерство.
Цыган задерживает кобылу, а цыганка еще больше высовывается из возка; красная кофта распахивается, Никон видит две смуглые груди, и хочется ему стукнуть цыгана по виску, а самому нырнуть в теплый возок и с молодухой полюбоваться.
— Ну! — нахмуривается он. — Смекаешь?
Цыганка, лукаво сверкнув темными глазами, застегивает кофту и говорит, задорно глядя на Никона:
— Могу. Пятака, мало. Клади, игумен, пятиалтынный.
— Эка! — возмущается Никон. — Да дыра-то невелика, ножом ткнуто. Кабы широкая, так пожалуй, а то чего тут… Семь копеек хочешь? Больше не дам.
— Нельзя, игумен, нельзя, золотой мой, красавец писаный. На гривну снадобья да заговору на пятак. Дешевле нельзя, ароматный мой.
Но Никон тверд:
— Два пятака, больше ни гроша. Тебе же прибыль, а мне что — я и с дырой прохожу.
— А красавца девки разлюбят! — нараспев насмехается над ним цыганка. — Не скупись, боярин, яичко раскрашенное.
— Тьфу ты! — негодует Никон. — Ну ладно, залечивай.
Голова цыгана исчезает, а цыганка вылезает из возка на дорогу: видит Никон сквозь тонкую кофту, как качаются ее отвислые груди.
— Подай ручник, Данило.
Цыган подает вышитое по краям грязное полотенце. Цыганка вытирает щеку Никона снегом, а затем полотенцем. Щека горит и ноет. То же цыганка проделывает и с внутренней стороной щеки, она велит Никону пошире разинуть рот и натирает — сперва снегом, после полотенцем.
— Глянь-ка, желанный, в бровь мою да обо мне, крале, думай.
Смотрит Никон на черную бровь, а острые глаза цыганки, как две иглы, покалывают, — глядит она прямо в его зрачки и ворожит:
Отделись, лиха-беда! Встань на речке, кровь-руда! Я с топориком по речке иду, Порубать хочу злую беду. Сорвать голову с плеч, Поперек пересечь. А ты встань-вставь, алый лед, По тебе ли добрый молодец пройдет. Уж ты, кровь, ты, кровь-руда. Не улезешь из-под льда! А тому быть нерушиму, А добру молодцу невредиму. Синь-кунь, хара-хар, Курлы-мурлы, упатар.Цыганка замолкает. Две черные иглы колят больнее; страшно Никону: чего доброго, еще обернет его глазастая ведьма в матерого волка, — что тогда делать, свои же вилами забьют.
— Легче ли, сокол?
— Маленечко полегчало, — слабо отвечает Никон, чувствуя, как кровь течет из раны медленнее.
— То-то, желанненький! А теперь латын-корешком тебя угощу. Глянь на меня, яичко, не съем.
Никон послушно взглядывает в ее бесстыдные очи. Красивая, ай, красивая ведьма! Зубки белые, уста, что цветочки.
Цыганка дает ему серый корешок и велит чуточку откусить, пережевать да жвачку языком во рту поводить, а потом выплюнуть. Никон в точности следует ее указаниям, кровь совсем стихает; он выплевывает окровавленную жвачку на снег, для чего-то крестится и сует цыганке пятиалтынный.
— Спасибо, баба, свое дело добро кумекаешь.
Цыганка влезает обратно в дыру и протягивает ему свою маленькую руку.
— А погадать-то, бриллиантовый, не желаешь? И наперед и назад, как на ладоне выложу.
— Не требуется! — хмуро отвечает ей Никон. — Счастливый путь!
Он нерешительно берет ручку цыганки и пожимает. Цыганка понукает кобылу, повозка трогается, розовая свинья тупо оглядывает Никона, проезжая мимо него.
Он быстро шагает по дороге, посошок скрипит, упираясь в снег.
Никон переходит через ручей, ручей еще не раскрылся, но, судя по желтым и синим лужам и талам скоро освободится от льда и зажурчит свою неумолчную песню. Идет весна, идет весна!.. Уже не по-зимнему стоят леса, кто-то дышит в них, потягивается, подымается из сырой земли.
За ручьем в лес вползает темная, темная тропа, ноги Никона протоптали ее в снегах, и ведет она прямиком к его хибарке, где он спасается от злоб мира сего.
В лесу полумрак. День клонится к сумеркам. От сосен, от елей лежат густые тени на темно-сизом снегу.
Все-то мило, все-то знакомо здесь Никону. Вон, на той сосне было ястребиное гнездо, вывелись в нем малые ястребята в прошлом году, знал о них Никон, но и сам не убил и другим не указал. Что же, и выросли, и полетели, — страсть, поди, сколько перетаскали цыплят у хозяек.
А там, у ели, — высокий холм-муравейник. Сколько народу в нем — и не пересчитать. Стекут ручьи, вылезут муравьи, обогреются и — за честный труд. Тот прет бревно, тот волочит камень — песчинку, тот загоняет в стойла земляных блох, чтобы для артели надоить. Хочется, давно хочется Никону разузнать, где кладбище у муравьев и какова муравьиная царица, да никак не приходится. Авось, сей весной сведает.
С глухим шумом черных крыльев из-за куста вылетает какая-то большая птица и медленно, словно сознавая свою безопасность, скрывается за дальними деревьями. Может статься, то ворон, что на заре каркал, может, черныш-тетерев, с красными бровями. Важные эти тетерева, а дураки, неспроста их прозвали Терентиями.
Лес молчит, не шевелится, не качается, но сильнее и явственнее некто дышит, поднимается из сырой земли.
Вдруг в тишину врывается пронзительный стон, всей кровью кто-то восплакался и замолк. Никон идет на крик, зорко смотря по сторонам.
…Дальше, направо…
Лежит морковка на снегу, а перед нею бьется, придавленный железным обручем капкана, заяц. Он и крикнул. Русак… Не гулять тебе по дремучим лесам, не скакать по полям в месячную ночь, не согреться рядом с зайчихою.
Никон гневается. Кто поставил капкан? Чьих рук злое дело? Мало порвал силков, еще и с капканами прилезли! Посмели!.. Ладно же, пиши пропало: зайцу смерть, а железо в воду.
Он раздвигает тугую пружину, освобождает прищемленного поперек туловища зайца, берет его за задние ноги и со всего размаху ударяет головой о древесный ствол. Кряк! — не рыскать косоглазому ни за травкой, ни за мхом, ни за рыжею морковкой.
Никон вскидывает русака на плечо и держит его за ноги левою рукой, в которой и горшок, в правую же он берет тяжелый капкан. А ведь не иначе, как Павлухина проделка… Мало ему ружейной добычи, давленой захотел. Нет, брат Павел, осекся. Еще он зарится на хитрую лису, что зимует где-то невдалеке. Может, когда налаживал капкан, и о ней подумывал, дескать, чем черт не шутит — возьмет желтая лиса да и влезет… Только нет, ничего не вышло.
Никон подходит к невысокому почернелому и обросшему зеленым мохом срубу. Это колодец; его Никон вырыл в позапрошлом году, когда ручей пересох и не было питьевой воды. Вот сюда-то и спустит Никон капкан, пусть Павел ищет.
Он сбрасывает зайца на снег, а сам нагибается над колодцем и заглядывает в него — темно, глухо. И он раздумывает бросать туда находку, взваливает зайца на плечо и быстро уходит по тропе к своей келье. Не надо поганить ключевую воду, пропахнет ржавым железом.
Келья стоит на крутом берегу ручья. Весной и летом Никон любит сидеть на ступеньке своей крохотной избушки и слушать, как юркий ручей звенит-поет-рассказывает сказки. И тогда душе сладостно, и чудится, что за кущею дерев притаились золотые ворота, а у тех ворот ангелы, в белых ризах и с пламенными речами. Малой мышкой бежит к золотым воротам душа Никона… Но зимою ручей нем и душа тоже нема.
Келья подобна бревенчатому коробу; есть в ней маленькая железная печка, а на крыше торчит круглая глиняная труба, совсем, как и у настоящей избы. Есть и оконце, узкое, без рамы, — стекло вмазано прямо в сруб.
Никон отмыкает свое жилище, скидывает зайца и капкан на пол, вычеркивает огонь и зажигает жестяную лампочку, висящую над его скудным ложем — двумя досками, положенными на козлы.
Бревенчатые стены каморки заклеены «божественными» картинами: тут краснеет геенское пламя, в нем же корчатся нераскаянные грешники; тут — наглядно показаны ступени жития: рождается человек, а над колыбелью уже склонил свою гнусную харю рогатый бес, но против него стоит ангел, опоясанный золотою веревочкой, — и бес в смущении: ничего с младенцем не поделать. Но когда ребенок вырос в румяного школьника, и школьник пошел воровать яблоки, ангел прислонился к забору и заплакал, а бес возрадовался. В двадцать лет человек пристрастился к игре в карты, к вину и блудницам, а денег-то у него мало, и добывать их трудом он не охотник, и вот крадется он с ножом на печаль ангелу. Всех ступеней жития двенадцать; на последней человек сидит в кресле лысый и согбенный и умирает, ангел-хранитель сокрушается: не миновать человеку ада кромешного.
Никон вешает скуфью на гвоздь в стене, скидывает полушубок и из монаха превращается в обыкновенного мужика: красная рубаха, домотканые порты. Тесно богатырским плечам в келье, — вздохни он, разомнись по-хорошему и все полетит к чертям, рушится келья, как скорлупа.
Под потолком прикурнул на приколоченной над дверью жердочке красный петух, по имени Степка. Степка — закадычный друг Никона и его голосистые часы. Он не ошибется во времени, поет в полночь, в заполночь и на заре. Перышки у него красные, гребешок тоже красный, а на желтых ногах отличные шпоры, — не последним драчуном слыл Степка в деревне, за драчливость его и продали Никону по дешевой цене.
При свете лампы Степка ежится, изумленно открывает радужные глаза, закрывает вновь и волнуется, толстый гребень качается.
— Спи, Степушка, спи! — успокаивает его Пиком. — Горшок вот принес, кашу будем варить.
Петух нахохливается и спит. На его радужных глазах тонкая перепонка, и от этого он кажется таким слабеньким, что Никону вдруг становятся всех жаль, и бабу, продавшую, и подлеца Павлуху, разбившего злополучный горшок. И соек жаль, прыгающих по талому снегу, и зайца, прельстившегося морковкой.
Никон опускается на колени перед потемнелым образом, висящим в углу между картин, медленно крестится, кладет земные поклоны и подолгу всматривается в темный лак.
— Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Темный лик Спаса неуловимо прозревает, спокойно и благословляюще смотрят на Никона строгие глаза. «Паршивенький я!» — сокрушенно думает о себе Никон.
— Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!
Хоть бы постегать себя, окаянного, плетью, хоть бы выдрать язык, чтобы не брехал по-псиному, хоть бы выткнуть перстом постылые очи, чтобы не зарились на блудодеяния…
Печально Никону, но и сладко от печали-тоски. Кабы ведал Павлуха, кого разобидел, на кого поднял руку, в кого нож воткнул: все спят, а Никон о душеньке своей промышляет, залез в нее, как в яму, и лопаткой, лопаткой сковыривает со стен скверну. И потому, может, Никон-то спасется, а тебя, миленький Павлуха, в тартарару вечную, к чертям на посмешище, ибо сквернослов ты и пьяница.
Умиленный своим смирением, обмывшись молитвою, как круто-горячею водой, Никон с затяжным зевком поднимается с пола, тушит лампу и ложится спать. В полночь Степка кричит: «Кук-рек-ку!» — но Никон от петушиного крика не просыпается, лишь повертывается на другой бок.
И спит он до самой зари, пока синий рассвет не заглянет в тусклое оконце. А тогда закаркают вороны, задолбит дятел по деревам, летит с жердочки Степка и захлопает красными крыльями: дескать, здравствуй, Никон, брось, друг, почивать.
Когда солнце на лазоревых высях, Никон, подкрепившись гречневой кашей, выходит на приступок чинить поломанный посох. В лесу шум и пев, рушатся снега, оживают деревья, поют птицы, чуя весну.
Трудно сапожным ножом вырезать новый крест и на нем новую надпись, — Никон, сидя на приступке, горбится, морщится и потеет, а солнце сияет на загрязненной стали и путается в кольцах окладистой бороды.
Степка же бродит по лесу, задирает кверху пламенную голову, кукурекает и ждет, не покажется ли из-за кустов рябая курица. Ждет долго, кукурекает звончей и тоскливее, но… нет ответного кудахтанья. Его ногам вдруг делается холодно, он поджимает одну ногу под себя и стоит, как журавль на болоте.
— Степка! Степка! — зовет его Никон. — Подь сюда, овса дам.
Петух оживает и стремглав бежит к хозяину. Никон выносит из кельи горстку овса, насыпает перед приступком и, опять расположившись на своем месте, добродушно посматривает, как краснокрылый питомец подбирает овсяные зернышки.
— Ни-ко-он! — неожиданно раздается чей-то оклик. Никон поворачивает голову в ту сторону, откуда кричат. Ковыляет нищий Кривда, убогий человек.
У Кривды одной ноги нет, вместо нее деревяшка; одет Кривда в бабью кацавейку, с нее же грязная вата свисла клочьями, сквозь дыры видно белое тело Кривды.
— Здорово, Кривда!
— А я к тебе, Никон… Эт-та…
Кривда одноглаз, бороденка поганая, от волоса до волоса — целая верста. В правой руке палка, с левого бока оттопырилась холщовая сума, видно, много понакидали Кривде по деревням.
Кривда подходит к Никону, пожимает его руку и присаживается рядом с ним на приступок.
— Эт-та… Греешься?
— Греюсь. Вчерась посошок поломал, седни чинить выдумал.
— Эт-та… А я Павлуху видел.
— Экое счастье, подумаешь! — нахмуривается Никон. — Скажи ему, что я-де, капкан его нашел, а в капкане зайчик-русак, и все это у меня в келье, да Павлу-то больше ничего не видать; даром, что капкан им заложен. Так и скажи, мол, и впредь посему будет. А коли сюда сунется, живому не выйти!
— Эт-та! — качает вихрастою головой Кривда. — Како слово молвил: «живому не выйти!»
— Башку ему колуном размозжу заместо чурбана!
Кривда вздыхает и грустно смотрит серым глазом на Никона.
— Глянь ко-сь, он те горшок прислал да повелел кланяться.
Так вот чем набита сума! Кривда вытаскивает из нее новенький горшок, получше того, что купил вчера Никон, — с белыми цветочками на красных стеблях.
— Возьми. Эт-та… Пущай, говорит, не серчает: пьян был. Мне пяток яиц дал, чтобы спроведал да горшок снес. Бери!
Никон исподлобья взглядывает на Кривду.
— Не надо.
— Да бери, чего ломаешься.
— Не надо!
— Экой строптивый! Павлу то будет в попрек, зла Павлу хочешь, а еще во лесях спасаешься.
Никон прислоняет поломанный посох к келье и, не глядя на Кривду, выспрашивает:
— Что ж, Павел так и сказал: кланяйся?
— А то как же? Вестимо так: «Кланяйся и горшок отдай».
Никон втыкает нож в приступок и остро взглядывает на убогого.
— А где Павел был утресь?
— А я почем знаю?
— Во лесях был? За охотою?
— Должно, не был, — соображает Кривда, — ежели б ходил, чай, еще не вернулся бы, да и порохом бы пропах. Не, не был!
Никон, щурясь, отрывает глаза от убогого и долгое время молчит.
— Ну ладно! — вдруг решает он. — Давай… Коли увидишь Павлуху, скажи спасибо, славный горшечино, больно способно в нем варево варить.
Он берет от Кривды горшок и внимательно разглядывает его со всех сторон.
Кривда прощается, бредет он к посаду: там по четвергам купцы Малафеевы милостыню подают.
— Погодь! — задерживает его Никон. — В посад тебе не идти.
— Эт-то как не идти?
— А так, я не приказываю. Сколько дадут Малафеевы?
— Три копейки.
— Ну…
Никон идет в келью и выносит оттуда капкан, русака и медную деньгу.
— На… Кати назад. Отдай Павлухе, а медь за ходьбу.
Кривда улыбается.
— Эт-та! Чудной ты, Никон. Стоснулось мне по тебе, давненько не виделись. Тебе бы в деревню: торчишь тутотка, что гриб.
— Не пойду! Что там потерял — выдел продан, деньги на исходе, сродники косо глядят. Не пойду! Уж лучше на линию в сторожа.
Кривда запихивает русака в суму, кладет три копейки за щеку, а капкан на плечо.
— Прощай. Може, из деревни-то и в посад поспею. Хе-хе.
— Прощай. Заходи.
Кривда исчезает за елями, и снова Никон один. Тихий ветер пролетает по лесу, поскрипывают деревья.
К вечеру земля холодеет, стихают ручьи, крепнут снега.
К вечеру ветер, злясь на слабеющую силу, воет, как волк, напоровшийся на острый сук и острым суком выколовший себе жадный глаз.
Петух-Степка взлетает на свою жердочку и засыпает, а Никон, подбросив в печку дров, сидит у багряного пламени, багряный и сам.
И не верится ему, что есть потаенная тропа, ведущая к тихому раю. Кабы была, можно бы было ступить на нее и идти и прийти к золотым воротам.
Крепко не верится.
Темно-сизые сумерки жалят печалью.
Слушает Никон тоскливые стоны ветра и знает, на что сердится ветер — мало порыскал по зимним полям, мало повил, не успел разметать свою силу по всем сторонам, а уж силы и нет, идут тихие дни и ласковые ночи, настигла землю весна.
Вспоминает Никон, как раз проснулся он зимнею ночью, словно от толчка, поднял голову и посмотрел, а за оконцем сверкают две голубые искры. Стукнул кулаком по стене, и звериные очи скрылись, кто то был — волк или леший? Все равно, а только не будь стены, съели бы Никона темные звери, не спастись бы и молитвою. Да и нельзя зверя винить, и ему жить хочется. Может, и он по-своему молится, выходя на добычу.
Никон зажигает лампу, вытаскивает из портов кошель и высыпает на ладонь все свое богатство, доставшееся ему после продажи выдела.
Сияют светлые рубли, двугривенники и пятиалтынные. Осталось их уже совсем немного, шесть целковых с полтиною. Весну и лето еще можно прожить, а потом…
Ветер поет, как орган в посадском трактире. Частенько захаживал туда Никон до ухода в леса. Стоит орган, трубастый, пузастый, и бьет по барабану двумя колотушками. А кругом разливанное море, кружит и радует хмель. И все как в тумане, по жилам течет распаленная кровь. Подходит к Никону гулящая девушка, а глаза у нее строгие и ручки как у цыганки, маленькие, а губки, что алые цветики. Обнимает он ее, дышит знойно.
Никон поспешно складывает деньги в кошель и засовывает его обратно за голенище.
А ветер уже пляшет и гогочет, как черт.
Точно порывом ветра, дверь распахивается. Никон сжимает кулаки и нахмуривается.
Стоит на пороге Павлуха, с винтовкою за спиной, с ягдташем.
Пьяные глаза смотрят в упор на Никона и слезятся от ветра.
— Обогреться пустишь?
Никон кивает головой на доски ложа.
— Садись.
Молчат. Павлуха свертывает дрожащими пальцами цигарку и закуривает.
— А я на лису! — заговаривает Павел. — Выследил. Убью беспременно.
— Убей! — тихо отвечает ему Никон.
И опять молчат. И смотрят друг на друга в упор.
— Ишь, ты… ветер бесится. По ночам-то, чай, скучно?
— Скучно, — вздыхает Никон, — тошнехонько!
Павел вынимает из ягдташа бутыль с водкою.
— Чарка есть?
Никон подает ему с полки синюю широкую чашку. Павел вышибает пробку и деловито нацеживает в чашку светлую, остро пахнущую водку.
— На, испей!
Никон берет от него чашку и медленными глотками осушает. И когда возвращает пустую чашку Павлу, уже стелются по келье туманы, заволакивая все. Только красный гребень Степки качается, как язык пожара, да мерцают глаза Павла.
— А теперича я!
Павлуха наливает и себе.
Так они выпивают еще по чашке и еще. Пустую бутылку Павлуха кладет в ягдташ.
Никону безудержно весело.
— Хо! хо! хо! хо! — заливается он. — А я плясать буду. Играй, орган! — он топает ногой по полу, свирепо взглядывая на собутыльника.
Павлуха запевает гнусавым голосом.
— Ой, жги! жги! жги! жги! говори! — кричит Никон и, неистово гремя сапогами, пускается в пляс.
Кабы бабе киселя, киселя. Стала б баба весела, весела. Ой, жги! жги! жги! жги! говори! Стала б баба весела, весела!Никон спотыкается и валится к ногам Павлухи, барахтается, как неуклюжий медведь, и обнимает пропитанный дегтем сапог Павла.
— Павлуха! Родной мой, хочу тебе ноженьку поцеловать.
Целует мокрую кожу и рад.
Встает, бьет себя кулаками в грудь.
— Эва! тутотка! тутотка, Павел, подлый ты человек! Давай сожжем келью. Чего в ней. Уйду я, Павел, все поломаю, раз-зорю-ю!
Он садится рядом с Павлом. Глаза у него большие и красные.
— Сожжем, Павел, сожжем! В-во! Пущай келья горит, лес горит! В-во! На нож! — подает он Павлу сапожный нож, которым днем чинил посох. — Режь космы. Режь, а то самого в горло стукну!
Поворачивается спиной к Павлу. Тот сгребает в руку кольца Никоновой гривы и окарначивает его.
— Ладно, — говорит Никон, — уходим. А Степку возьму с собой, чтоб его во лесях не слопали.
Он надевает полушубок и скуфью, снимает беспокойно взирающего на свет петуха с жердочки и уходит из кельи в темный лес. За ним плетется и Павел.
— Жечь не буду! — вдруг решает Никон. — Пьяненький я. Может, к утру очухаюсь и восплачусь.
— А куда я?
— А и ты со мной! — гневно кричит Никон. — В посад, в трактир.
Вступают в глубокую тьму; как слепцы, натыкаются на сучья. Слабый огонек, освещающий оконце кельи, смотрит им вслед одиноко и жалобно.
Уныло стучат сухие вершины сухостойных деревьев, словно кости сошедшихся в ночи мертвецов.
Путь далек…
«Новая жизнь» № 2, 1912 г.
Женечка
Как белая лилия она, а щеки ее матово-розовые. Глаза же карие, задорно бегающие. Ходит по городу с черным портфелем под мышкой и преважно надувает губы. Мальчишки у лотков и шустрые газетчики окидывают проницательными взорами модное пальто с куньим воротником и принимают за курсистку, идущую на занятия, но глубоко ошибаются: это Женечка; в ее объемистом портфеле не лекции и учебники, а образчики материй, прейскуранты усовершенствованных паровых молотилок, описания пишущих машин и два-три настольных календаря.
…Подходит к парадному подъезду, швейцар лениво отрывается от газеты и распахивает дверь, сердито оглядывая стройную фигуру нарушительницы его покоя.
Женечка, не удостоив его взглядом, величественно проплывает мимо, подымается по лестнице и озабоченно морщит переносицу, что-то соображая.
С апломбом звонит:
— Господин Дудов дома?
— Выпивши…
— Доложите.
Сует в руку мужиковатой горничной визитную карточку с задумчивыми готическими буквами:
«Евгения Николаевна Осокина.
Представительница фирмы „Хлебопашец“,
компании „Описки“
и издательства „Золотые Паникадила“».
— Гони ее к черту! — звероподобно рычит где-то в перспективе матерый голос, и дверь с шумом захлопывается за Женечкой, потому что:
— Они нализавшись, злющие…
— Нахал! — мысленно бушует Женечка, важно спускаясь по лестнице и опаляя хмурого швейцара молниеносным взглядом, за то, что он прислуживает таким грубиянам, как господин Дудов.
— Газетку не пожелаете? — подкатывается на улице газетчик. Женечка роется в желтеньком портмоне, вытаскивает серебряный пятачок и покупает левейшую газету. Потом влетает в вагон трамвая и утопает в новостях дня; ее розовый носик выглядывает из-за газеты очень многозначительно.
— Ай… ай… ай! — вдруг не выдерживает она. — Сормовские-то 96! И куда только мы катимся…
— Иван Петрович! Голубчик вы мой, здравствуйте! — неожиданно замечает она вошедшего в вагон знакомого. — Присаживайтесь сюда, веселее будет…
— Кого я вижу! — радуется Иван Петрович. — Мое почтение-с, уважаемая Евгения Николаевна. Давненько не виделись. Что новенького слыхать?
— Да вот с сормовскими швах…
— Эх! — отмахивается рукой Иван Петрович. — И не говорите, везде застой.
— И младотурки пошатываются.
— Да, да, представьте себе…
Потом оба замолкают, погруженные в степенное раздумье.
— Какая у вас малюсенькая ручка! — неожиданно осклабляется Иван Петрович, и его лошадиная физиономия озаряется робкой улыбочкой.
Но Женечка обдает его ледяной струйкой презрения: потакать ухажерам она не охотница.
— Н-да, сормовские… Не ожидала!
Собеседник смущается, не зная хорошо чего собственно Женечка не ожидала. Наконец, не выдерживает этой пытки — поднимается:
— Счастливо оставаться… Мне здесь.
— Au revoir! — сухо отвечает Женечка и вновь погружается в газету. Прочитав ее от доски до доски, бережно складывает в портфель и вытаскивает из кармана записную книжку:
«Присяжный Тарантасов думает купить машину с открытым шрифтом. Надо будет потом заехать к нему… Кстати и календарь всучу: все-таки с двух рублей сорок копеек комиссионных. Если три — вот тебе уже и рубль двадцать»…
Вагон останавливается. Женечка проскальзывает, шелестя шелковыми юбками, на площадку, выскакивает…
Снова подъезд, швейцар, лестница и на этот раз миловидная горничная с плутоватыми глазами.
— Мосье Козодоев дома?
— Дома-с.
— Проведите меня к нему.
Горничная проводит.
— Пожалуйста! — предлагает в кабинете Женечке стул тучный хозяин с сизоватым носом и вытаращенными глазами, похожими на мерзлые луковицы.
— Чем могу быть полезен?
— А вот, видите ли, я принесла вам прейскурант усовершенствованных паровых молотилок. Последнее слово техники. Машины безукоризненны. Вне конкуренции! Доставка за наш счет. Перед нашею фирмой Мак-Кормик ничто.
— Прекрасно, прекрасно… Очень приятно слышать, но…
— Непременно купите; если вы желаете, можно и в рассрочку.
— Постараюсь, постараюсь… — мнется хозяин, незаметно поглядывая на пышную грудь гостьи, а она хмурит черные густые брови и оживленно расписывает достоинства паровых молотилок.
— Вне конкуренции! Уверяю вас. В большом хозяйстве незаменимы.
И уже подсовывает потеющему хозяину какую-то загадочную бумагу:
— Вот здесь и там… Распишитесь.
— Господи! — пыхтит хозяин, но — делать нечего, — подписывается.
«Какая жалость, что у этого болвана уже валяется на столе календарь», — думает Женечка, мельком осматривая комнату и прощаясь:
— Через неделю молотилка на месте. Теперь удобно: снег.
— Снег! Именно снег! — ни к селу ни к городу повторяет покупатель и смущается, точно его невзначай щелкнули по носу.
Женечка, очень довольная сделкой, выходит на многолюдную улицу и быстро шагает к присяжному Тарантасову, уверенно поглядывая на прохожих, как человек, знающий себе цену.
Вскоре пушка ударяет бб-ум! Адмиральский час.
Тарантасов, долго отлынивая от навязываемой ему пишущей машины, утомляет Женечку, так что, покинув его, она чувствует потребность червячка заморить. Входит в ресторан средней руки, выпивает рюмочку дрей-мадеры, заказывает себе завтрак и поспешно съедает его. Потом достает из кармана юбки изящную слоновую коробочку и вынимает из нее маленькую папиросочку, закуривает. С наслаждением втягивает в себя струйки ароматного дыма и слегка щурится. Щечки ее розовеют, а глаза игриво усмехаются. Женечка чуть-чуть опьянена выпитой рюмкой дрей-мадеры. Но это ей нравится, хочется изогнуть спину и замурлыкать. Однако, дел еще по горло. Женечка поспешно расплачивается и вновь смешивается с уличной толпой.
Когда ночь поднимает свое черное знамя, а город зажигает бесчисленные огни, утомленная Женечка возвращается домой. Неумолчный шум, грохот колес, фырканье автомобилей, люди, небо, дома так надоедают Женечке за день, что она с наслаждением прислушивается к тишине двух своих крохотных комнаток и чему-то радостно улыбается.
Живет она в «меблирушке»; задняя комната с девственно белыми подушками и одеялом на кровати — ее спальня. Так хорошо в ней, так уютно, а круглое зеркало на туалете смотрит так ласково широким светлым глазом. Белые гардины, легкие стулья бронзового цвета, — спальня Женечки как хорошенькая бонбоньерка.
Передняя же комната с дверью в коридор очень мрачна. Большой дубовый письменный стол, массивные счеты на нем, кипы бумаг, папок, свод законов и шесть сердитых венских стульев у стен; эти стулья черны, как эфиопы. Около стола кресло, тоже черное. Сидя в нем, Женечка до глубокой ночи что-то подсчитывает, что-то пишет, иногда о чем-то задумывается, и тогда ее белые зубки изгрызают деревянную ручку пера.
Порою же на душе Женечки становится грустно, тогда Женечка берет лист бумаги, раздушенной и в вензелях, и пишет старушке матери:
«Надоело все! Осточертело! Еду к тебе, родная».
Однако, не едет.
Перед сном грядущим Женечка гадает. Позевывает, ко сну ее клонит, но маленькие ручки быстро перетасовывают новенькую колоду карт, вывезенную из Финляндии.
Короли похожи на морских волков, грозных викингов, валеты — бесстрашные рыцари с русыми волосами до плеч и грозно поднятыми секирами, а дамы загадочно и обольстительно красивы.
О, волки седые, бесстрашные пенители бушующих морей, откройте дочери милого севера печали, ее ожидающие, тоску, к ней подкрадывающуюся, и золотое счастье, зарытое, как клад заветный, в туманах отдаленного будущего. И вы, гордые королевы, смотрящие бесстрашными глазами на жизнь, проходящую мимо, тонкими пальцами божественных рук поднимите полог грядущего.
— С поздней дороги получится письмо…
— От кого бы это? — задумывается Женечка и решает: — От мамочки, вероятно.
— Женщина в черном умрет… Какая-то вдова.
Тоска угнетает сердце: туз проклятый, враждебной человеку масти пик, зачем ты поднял острие свое кверху?
— Не твоя ли могила, моя добрая, славная старушка? Твое личико покрыто морщинами, твое тело дряхлеет, смерть приближается…
И хочется крикнуть:
— Не надо смерти! Прочь, беспощадная хищница: жизнь хороша и пленительна.
Женечка сердито смешивает карты и идет в спальню. Зажигает розовый фонарь, свисающий с потолка на бронзовых цепочках, комнатка становится чарующе розовой, все предметы, находящиеся в ней, начинают улыбаться и радоваться.
Печаль, навеянная гаданьем, понемногу отходит. Женечка сбрасывает с себя платье и утопает в пуховиках постели. Потягивается, позевывает; два белых упругих полушария волнуются, словно пытаясь вырваться из-за белых стен обшитой кружевами сорочки, стесняющей их вольную волю.
…Томится молодое тело, рвется вдаль, вперед, тоскует о жгучих объятиях и о сладком шепоте любви! Женечка глубоко вздыхает и легкое облачко грусти опять подплывает к ее маленькому сердечку.
Смотрит на розовый фонарь, темные зрачки глаз расширяются. Встает в памяти тень когда-то любимого человека, вспоминается гордое сердце, не помирившееся с жизненным ужасом.
— Родной мой! Возлюбленный!.. — хочет тихо и горестно прошептать она, но не решается — любовь похоронена.
В звонких цепях, в арестантской куртке, с душой опозоренной и с телом поруганным, в каторжном каземате томится добрый молодец — золотая бородушка. Странен и непонятен ей он, обреченный на долгие-долгие годы задыхаться под низкими сводами тюрьмы. Иногда он ей кажется звездою, павшею с небес и принявшею человеческий образ, — так велика его неувядающая вера и так светла любовь его, — но чаще всего она его находит только безумным и смешным, ибо любить туманные призраки и страдать за любовь к этим призракам может или великий сердцем или безнадежно больной. У Женечки же сердце маленькое, а сама она такая округлая, здоровьем пышущая, розовая. Вначале, когда он был подследственным, она ходила к нему на свидания, но потом стало жаль из-за каких-нибудь 5-10 минут терять целый день в скучных ожиданиях в тюремной приемной, и она перестала ходить. Вскоре и писать ему перестала. И закатилась любовь, как солнце вечернее. С ужасом Женечка вспоминает, как у нее под кроватью целых полтора месяца хранился ящик с оружием, и удивляется, как это она могла быть такою дурой, чтобы из-за каких-то браунингов подвергаться страшной опасности.
Но все-таки Женечка часто грустит о погибшем друге-мечтателе. И смутная досада в груди пробуждается — зачем не стал царем тела юного, когда однажды ночевал у нее, скрываясь от сыщиков.
…Наконец, сон берет свое — глаза Женечки смыкаются.
Ласково смотрит на спящую девушку розовый фонарь, а тишина ловит ее вздохи. И видятся сладкие сны… Впрочем, снится и страшное: то будто бы ее кидают с высокой-высокой стены и она переживает все муки падения, то блуждает в каком-то колоссальном сарае, сплошь заставленном гигантскими паровыми молотилками и пишущими машинами, похожими на мрачные крепости. Шумят, гудят, железом постукивают, адской трескотней потрясают кирпичные стены, и все ближе, ближе к беспомощной девушке, тщетно пытающейся найти спасительный выход…
— Скучно одной! Страшно! — думает она, проснувшись, становится жутко своего одиночества.
— Замуж выйду! — решает она. — Мужа под каблук, наряжусь, как гордая царица, и стану играть на бегах.
Опять истомно вздымаются два белые полушария, а стройное тело млеет и ждет чего-то захватывающего, неясного.
Из полусумрака памяти выглядывает пара голубых правдивых глаз. Женечка знает, кому они принадлежат, и плотно сжимаются от гнева ее белоснежные, как у хищного зверька, зубы… Гражданин мертвого дома! Каторжник поротый! Безумец, променявший женщину на призрак!..
…Презирать его, ненавидеть за то, что не ворвался, сверкая ищущими глазами, не схватил в железные объятья ее трепещущего тела и дерзкими руками не сорвал одежд! Нагою и смущенною стояла бы пред ним и украдкой взглядывала бы на его губы, красные, как свежепролитая кровь.
И так шептала бы:
— Бей! Что хочешь делай… Ну же, ну!
Руки бы его целовала, на колени бы пала, покорная, и дрожащим голосом сказала бы слово простое, простотою своею великое: «люблю я»!
Но он не пришел.
…Молчит ночь, молчат стены, книги, круглое зеркало, все молчит, только в сердце назревает протяжный крик:
— Не пришел!
Женечка поднимается с кровати, берет юбку со стула, находит в кармане ее слоновую коробочку и закуривает крошечную папироску. Потом опять утопает в пуховиках, размышляя:
«Жить надо для себя… Только!»
К розовому потолку тянутся кольца синеватого дыма. Пускание этих колец успокаивает Женечку; докурив папироску, она крепко засыпает.
Перед самым рассветом розовый фонарь гаснет, и в комнате становится темно, но ненадолго — скоро над городом повисает бледное солнце зимы.
Долго валяться в постели Женечка не привыкла: время — деньги, им нужно дорожить. Но по воскресеньям она встает на полчаса позднее, потому что тогда ей некуда торопиться.
Гремит педаль мраморного умывальника, течет ледяная струйка воды — пальцы Женечки коченеют, а лицо свежеет: послесонной вялости как не бывало.
Старательно вытеревшись мохнатым полотенцем, Женечка сбрасывает с себя сорочку и, нагая, делает гимнастику по самой модной системе. Вытягивается, приседает, барахтается на персидском ковре, выгодно купленном по случаю, и, наконец, с грустью пробует свои мускулы — не прибавились ли… ее заветная мечта — стать физически сильною: борцы, атлеты, жилистые спортсмены вызывают в ней восхищение. Летом она до одури катается на велосипеде, зимой же приходится довольствоваться одной гимнастикой. У стен спальни стоит около десятка чугунных шаров, некоторые из них так тяжелы, что ей не поднять их даже обеими руками, но она все же не унывает…
Покончив с гимнастикой, Женечка наряжается у круглого зеркала. Платья носит она просторные, корсеты же совсем изгнаны из ее обихода, ибо Женечка… оккультистка. Ей хорошо известно, почему давние маги и современные священники в таких странных нарядах с огромными рукавами: не надо лишней обузы — уже не говоря о неправильном кровообращении, от этого страдают астральные, магнетические и электрические отправления нашего организма.
Но вот с туалетом покончено, Женечка идет в кабинет пить утренний кофе. На зеленом сукне стола уже стоит пузатенький никелированный кофейник на таком же блестящем подносе. Рядом возвышается горка свежих булочек-плюшек, завитушек, маковиков, розанов и превкусных филипповских сухарей. Все это принесено квартирной горничной, когда Женечка прихорашивалась у зеркала. Тут же лежит целый ворох писем: из Киева, от управления салотопенного завода, из Ревеля от крупного торговца кильками, из Владивостока, из Варшавы…
Женечка, не спеша, разрывает конверты и читает. Письма все больше деловые, но одно городское — пригласительное:
«Многоуважаемая Евгения Николаевна. Честь имею покорнейше просить Вас пожаловать ко мне в воскресенье, к 7-ми часам вечера. Надеюсь, что наш тесный кружок и на этот раз не будет лишен удовольствия видеть Вас.
Преданный Вам
Краснобык».Это значит, что Женечку приглашают на карточное сражение. Балы посещать она не охотница; какие там люди, — не люди, а людишки, куклы прыгающие; то ли дело пройтись по зеленому полю, да так пройтись, что сердце из груди готово выпрыгнуть. Играет она азартно: в макао, в Наполеона, в стуколку и в польский банк. Не прочь бывает и повинтить. Часто в один вечер опускает весь свой месячный заработок, а затем с прискорбным видом сообщает м-ме Лурье, владелице «меблирушки», что уплатит за комнаты после.
Ее не смущает, что Краснобык холост и что она будет одна среди мужчин, разгоряченных азартом и вином, — какое ей дело до всего этого, если ей хочется играть и наслаждаться остротой гордого риска. Придет время, спустятся на землю тени, покажут золотые часики полчаса седьмого, — Женечка выйдет на улицу, кликнет извозчика и поедет… И это будет хорошо, потому что ей так хочется; на остальное плевать, ибо оно только декорация к ее независимому «я».
Женечка пьет из маленькой японской чашечки кофе по-турецки и думает о Краснобыке. Ничего человек он, ей-Богу: в меру умен, и в меру благообразен — как раз такой, какие нужны ей, Женечке… Слишком умные — несносны, угнетают умом своим, а красавцы, как тепличные растения, требуют постоянного ухаживания… Два дома, завод, около десятка магазинов и прекрасная вилла в Крыму. Об этом стоит подумать. Влюблен же в нее он давно.
— «Преданный вам Краснобык». Ха-ха! — Женечка смеется. — Шалишь, брат, тень наводишь, не преданного ей надо, а покорнейшего слугу. Впрочем, и за этим дело не станет.
Женечка нажимает кнопку электрического звонка над письменным столом; является горничная в белоснежном переднике и уносит пузатый кофейник, сухарницу и японскую чашечку.
Старательно заперев за ней дверь, Женечка с озабоченным видом вынимает из ящика письменного стола толстую книгу с изображением астрального человека на обложке и две тетради: одна — с золотыми обрезами, маленькая, в шагреневом переплете, другая же — попроще и потолще.
— С чего бы начать? — колеблется Женечка. Наконец, останавливается на книге. Книга эта очень оригинальна. Автор в ней трактует о вопросах бытия и небытия с такою точностью и достоверностью, что только самые желчные старики и безнадежные скептики не поверят. Свою фамилию он благоразумно умалчивает, вместо нее красуется оккультный псевдоним — квадрат с треугольником посредине.
«Я сам там был,
— скромно сообщает он, говоря про загробные страны,
— и скитался двенадцать месяцев; вернувшись, я приступил к написанию этой книги — она есть вдохновенный плод двадцати лет размышления и двенадцати месяцев личного опыта».
— Какой умный! — восторгается Женечка. — Хорошо бы погулять вместе с ним среди теней и призраков.
«Черные маги всячески препятствовали моему труду, но всуе — сила моя победила».
— Ого! — удивляется Женечка. — Он пишет книгу, а кругом — черные маги… Фыркают, сопят, глазами огненными поблескивают и стулья ломают. Должно быть, очень мужественный старик.
И с покрасневшим от восторга лицом читает про Гермеса Трисмегиста, про сокровенную мудрость Каббалы, разбирается в библейских символах и удивляется, удивляется… Следит за тем, как бог, которого Каббала называет Короной, разветвляясь в Силу и Любовь — мужское и женское начала, — доходит до человека, занимающего Славу — седьмую стадию космического развития, чтобы вновь вернуться к «десятой стадии Сиферот». И когда она узнает, что бессмертия достигают только влюбленные, непорочные пары, она дает себе слово никогда не грешить против нравственности и быть женою верною мужу, дабы не погубить своей индивидуальности, знает, что предстоит страшная борьба с бунтующей плотью, но… ничего не поделаешь: вечность соблазнительна.
Оккультизм для Женечки — та милая безделушка, в которой так нуждаются энергичные люди. Каббалистические термины пленяют воображение, непризнанность учения выделяет из толпы. Женечка — ярая сторонница астрологии и алхимии, верит в философский камень, в гомункула и в жизненный эликсир. На мизинце ее левой руки красуется золотое колечко с крупной бирюзой, это — амулет. Женечка родилась под знаком Стрельца, и бирюза — ее благосклонный камень.
Дочитав до главы «Карма», Женечка закрывает книгу. Хорошенького помаленьку, — в следующее воскресенье она узнает, что в мире семь измерений, что 99+33=24, и что истина в метафизике.
Уже давно Женечке хочется вступить в какой-нибудь спиритуалистический кружок, но все не собраться с духом, и, пока что, она остается на положении вольно-философствующей и пишет в большой тетради свои воспоминания:
«Когда я была младшей наложницей царя Ассурбанипала»…
Дальше первой строчки у нее не вытанцовывается, напрасно она хмурит густые брови — никак не вспомнить свою жизнь в гареме ассирийского повелителя и интересные мемуары младшей наложницы Ассурбанипала остаются недоконченными.
Поневоле приходится браться за маленькую золотообрезную тетрадь в шагреневом переплете и писать мистические стихотворения о душе, символ которой — Вода, о Короне, принципе мирового движения и о страшной Пантере — похоти человеческого тела.
После обеда Женечка отправляется в кинематограф. Театры она посещает редко, и то лишь оперу да балет, зато кинематограф на нее действует, как бой быков на жгучую испанку, или гладиаторские сражения на римскую матрону времен упадка Империи. Сердце то замирает в предчувствии чего-то ужасного, то бьется гордо и радостно, в упоении сказочною стремительностью необычайной жизни, протекающей на полотняном экране.
Мелькают картины, молчит, затаив дыхание, разношерстная толпа, на миг забывшая скучную обыденность и жизненные томления, а Женечка, плотно сжав губы и волнуясь, следит за мрачным убийцей, крадущимся к беззащитной жертве. Душа Женечки трепещет и преклоняется перед дерзостью человека, вонзающего нож в горло своего ближнего… И если бы ее спросили врасплох в тот момент, когда окровавленное тело надает на мостовую, — кто убил? — Женечка, не колеблясь, ответила бы: «я!» и смутилась бы, как уличенная в тягчайшем из преступлений.
Вероятно, поэтому-то она и не любит ходить в кинематограф в сопровождении кого-либо из своих знакомых, которые только стесняли бы ее, заставив быть настороже, чего-то остерегаться.
Одна она чувствует себя гораздо лучше.
…Мир за миром. Картина за картиной. Какая пестрота! Какое разнообразие! То Женечка становится изящной дамой, фавориткой всесильного короля, окруженною всею пышностью средневековья, и за ней белокурые пажи несут ее длинный шлейф, а смелые рыцари не могут сдержать своего восторга перед ее дивною красотою. То она превращается в Красную Шапочку, кроткую девочку в стоптанных башмачках и с пепельными кудрями; безбоязненная, встречает в лесу серого волка, простосердечная, верит его лживым словам. Бежит к доброй бабушке, несет букет пахучих цветов и кусок вкусного пирога… Топ-топ! Топ-топ! Уже вдали, на поляне, видна ветхая избушка со слюдяными окошками.
Так упоительно забыть грохот каменного города, стать, хотя бы на миг, маленькой девочкой, чуждой лжи и жестокости, и стоптанными башмачками ступать по дремучему лесу неведомого тридевятого царства!
Но вот зрелище кончено. Вдоволь наволновавшись и посмеявшись, Женечка вместе с толпой спускается по лестнице к выходу, очень довольная и еще под свежим впечатлением виденного. Зимнее небо уже потемнело: дни коротки и угрюмы. В тысячеглазых домах вспыхивают желтовато-белесые огоньки, такие слабые, такие болезненные. Холодные камни города похитили благородную душу священного Огня, оставив людям безжизненные тела, томящиеся в лампах, фонарях, стекле, фаянсе, бронзе и железе. Где воля, где неистовство стихии, где красные языки, вонзающиеся в небо и больно жалящие его? Стальною волей всемогущего человека побежден божественный Огонь, некогда согревший в сердце Зороастра восторг и мудрость, мудрость и любовь.
…Поскрипывает снег под ногами пешеходов, мороз пощипывает уши, а ярко-освещенные витрины магазинов лукаво блестят и соблазняют. С церквей же доносятся тягучие колокольные звоны, парящие над городом, как стая коршунов, распластавших широкие крылья. Женечка нанимает извозчика, садится в сани, бережно прикрываясь меховою полостью, и мечтает. О золотой весне, когда оживают задумчивые леса и ликуют пернатые певцы, вернувшиеся из далеких стран; о белых ландышах и о сладком шепоте листвы.
— Уеду я, — думает она, — обязательно уеду к мамочке: скучно старушке одной.
Но крепки холодные объятия города и властен призыв его, — не вырваться, не уйти: город-спрут. Женечка знает это и озлобляется:
— Извозчик! Если вы не прибавите ходу, я сойду.
— Н-но, ты, близорукая! — понукает бородатый возница свою клячу, и уже скоро Женечка у богатого подъезда.
Расплатившись с извозчиком, величественно проплывает по красному ковру широкой лестницы, звонит. В передней ей помогает раздеться мрачный лакей, такой представительный и высокий, что Женечке становится жутковато. Его Краснобык вывез из Англии и объясняется с ним мимикой, потому что в языках не силен, а упрямый потомок Джона Буля знать не хочет никакого наречия, кроме своего отечественного.
Развесив по медным крючкам вешалки пальто, кунью шапочку и кунье боа, долговязый британец сумрачно распахивает перед Женечкой дверь и пропускает в просторную комнату, в стиле Louis XVI. Высокий потолок, со спускающейся с него бронзовой люстрой, на стенах дорогая подделка под гобелены, у стен — рыцарь со спущенным забралом, Амур и Психея из белого мрамора и, наконец, сам Нил Маркович Краснобык, сутулый, приземистый, с приторно-слащавым лицом.
— Евгения Николаевна!
— Нил Маркович!
Жмут руки, оба по-американски, сильно встряхивай кистью. У Женечки это выходит естественно, у Краснобыка же — подражательно.
— Пожалуйста, присаживайтесь… — начинает он неуверенным голосом, почему-то избегая ее взглядов, — наши партнеры сегодня, невидимому, с запозданием, чему я несказуемо рад.
— Ну! — удивляется Женечка, настораживая уши и бросая на собеседника игривый, зазывающий взгляд, один из тех, которые воспламеняют мужские сердца.
— Неужели? — улыбается она бархатной улыбкой, полной чистоты и беспечности.
Краснобык хлопает глазами: в его грудь закинуто что-то жгучее, красное, позывающее к греху:
«Бой-девка! Настоящее золото… С такою женой — как у Христа за пазухой. Деловая, образованная, любого фабриканта за пояс заткнет. А ножки малюсенькие, из-под подола выглядывают… Этакая стрекоза, симпумпончик розовый»…
В маленькой же головке самые рискованные планы, осуществление которых, даст или полную победу или непоправимое поражение. Женечка знает наверняка, что Краснобык нарочно подстроил tête-à-tête, из простого желания полюбезничать с нею наедине, но это tête-à-tête должно ему дорого обойтись. Повернет речь в желаемую ей сторону и волею, как бичом, загонит простоватого Краснобыка в тупик.
— Страшно рада вас видеть, Нил Маркович, — вскользь замечает она, — кругом скука, пустота, живого человека нет — мертвецы ходячие. У всех лица плоские, глаза тупые и одинаковые. Презренная толпа! Все надоели, Нил Маркович, так бы и ударилась об стену лбом… Вот и плывешь к вам, как на огонь спасительного маяка.
И шаловливо грозит пальчиком:
— Смотрите! Если огонь ложный, судно разбивается о рифы и бывает кораблекрушение.
Польщенный Краснобык совсем расчувствывается:
— Я не пират, Евгения Николаевна… Ей-Богу, отродясь, хе-хе! морскими экспроприациями не занимался. Скорее ваш покорнейший военнопленник.
«Дубина ты стоеросовая, а не военнопленник!» — думает коварная Женечка, вслух же томно вздыхает и жалуется на свою горькую долю:
— Ужасно, Нил Маркович, ужасно… Жить скучно, одиночество невыносимо.
И вновь бросает на него позывающий бархатный взгляд, — дескать, сердце мое к вам, Нил Маркович, давным-давно припаяно крепчайшей любовью.
Делать нечего: кряхтя и заикаясь, Краснобык приступает к изложению своих нежных чувств и сам удивляется: да как же так это случилось — не думано, не гадано, и вдруг — предложение руки и сердца, а над холостецкой жизнью крест.
«Ай да я! — сияет Женечка, слушая с потупленными глазами сердечные излияния Краснобыка. — Знай наших, такую свадебку сыгранем, что небу сделается жарко, а хождениям по городу конец».
* * *
Через час, сидя за ломберным столом в ярко-освещенной комнате, Краснобык в рассеянности ходит вместо туза восьмеркой, ломает подряд два мелка и невпопад отвечает на вопросы. Вид у него недоумевающий, словно он еще не совсем очухался после здоровенного удара обухом по голове. Две недели! Только две недели, а потом… его свадьба с Женечкой и тогда же он должен перевести на ее имя половину своего состояния, чтобы она была независима. Это — ее непреклонное требование. Лишь на таком условии Женечка согласилась стать его женою. Сперва она и слышать ничего не хотела, вскочила с кресла и заплакала: «Не надо мне вашей руки, не надо!» — но когда он униженно пал перед ней на колени и пообещал застрелиться, Женечка согласилась.
— …Малый шлем, господа… Нил Маркович, не спите, дорогой.
Это говорит плутовка Женечка, нетерпеливо постукивая кольцом-амулетом по столу. Ее щечки разгорелись от выпитого ликера, от игры и от одержанной победы. Москва — Берлин — Париж — Лондон — Нью-Йорк — такова будет ее свадебная поездка. Дома, чистокровные рысаки и завод — ее военная добыча.
О, теперь-то Женечка покажет свои коготки, благосклонная бирюза ее охраняет: старая ворчунья-жизнь выводит на широкую дорогу.
Но Нил Маркович растерянно улыбается:
— Мой ход! Сейчас, божественная, простите…
И ломает третий мелок.
Впереди — свадьба.
1912 г.




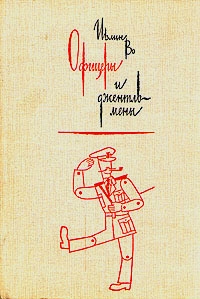

Комментарии к книге «Атаман», Борис Алексеевич Верхоустинский
Всего 0 комментариев