Состояние Витгенштейна
Предисловие к русскому изданию
Задача всякого предисловия — убедить читателя, что он должен прочесть книгу, которую держит в руках, и объяснить, зачем она ему нужна. Это задача отчасти рекламная, отчасти просветительская.
Но я совершенно не убежден, что вы должны читать эту книгу, и не совсем понимаю, зачем она вам нужна — если только вы не принадлежите к определенному типу читателей и не переживаете определенное состояние, близкое к депрессии. Это состояние бесконечной усталости от жизни, мира, культуры и собственных мыслей.
Витгенштейн выражал это состояние знаменитым восклицанием: «Невыносимо, невыносимо!»
Мы не будем здесь вдаваться в разговоры о философии Витгенштейна, тем более что читать роман Марксона можно с обычным читательским удовольствием, нисколько не ориентируясь в этой философии, довольно ясной, но все-таки требующей знакомства с несколькими сложными текстами. А вот состояние Витгенштейна — предельное раздражение по поводу всеобщей лжи и приблизительности, усталость от болтовни и глупости, чувство непреодолимой некоммуникабельности и хронического одиночества — в той или иной мере знакомо всем, и те, кому оно особенно знакомо, составляют таргет-аудиторию романа Марксона. Это состояние никак не зависит от интеллекта, здоровья, супружеского счастья или несчастья. Сам Марк- сон, в конце концов, был весьма благополучный человек, хотя и умер в полном одиночестве, и потому точная дата его смерти неизвестна. Дети — давно выросшие, потому что ему было 82 года, — обнаружили его мертвым 4 июня 2010 года. Вероятнее всего, он умер во сне. Очень может быть, что это идеальная смерть для одинокого человека, каким он был всю жизнь, несмотря на вполне удачный и все же расторгнутый брак.
Эта книга получила от Дэвида Фостера Уоллеса высшую похвалу — он назвал ее лучшим экспериментальным романом в американской прозе XX века; но, с другой стороны, кто такой Дэвид Фостер Уоллес? Он написал несколько очень хороших романов, в том числе знаменитое «Бесконечное остроумие» («Infinite Jest», 1996), что не помешало ему впасть в клиническую депрессию и повеситься в возрасте сорока шести лет (2008). «Любовница Витгенштейна» много раз переиздавалась и входит чуть ли не во все десятки лучших американских романов XX века, но перед публикацией в элитарном издательстве Dalkey Archive Press (1988) автор успел получить пятьдесят четыре отказа от других издателей, и именно эту цифру большинство снобов по обе стороны океана, слышавших звон, назовут при имени Марксона. Многие издатели высоко оценили книгу, но усомнились, что она будет продаваться. Я тоже сомневаюсь. Издавать сегодня Марксона — определенный риск. Вся надежда лишь на то, что «состояние Витгенштейна» — то есть депрессия и бесконечная усталость от слов — знакомо сегодня в России даже тем, кто никогда не слышал слова «Витгенштейн», а может, так и будет считать его вымыслом Марксона.
Не будем долго и красиво рассуждать об американском авангарде, поговорим просто и ясно, как требовал Витгенштейн и как писал Марксон.
Всякий хороший роман содержит автоописание, это почему-то (почему — отдельная филологическая проблема) залог литературной удачи. «Любовница Витгенштейна» не исключение.
А именно роман о ком-то, кто проснулся в среду или в четверг, чтобы обнаружить, что во всем мире не осталось, видимо, ни одного другого человека.
Ну, и даже ни одной чайки.
А вот разные овощи и цветы, наоборот, остались.
Определенно, это было бы интересное начало, как минимум. По крайней мере, для определенного типа романа.
Только представьте себе, как чувствует себя героиня и сколько в ней тревоги.
В ее случае это вдобавок всегда была бы настоящая тревога, а не всевозможные иллюзии.
Стартовая ситуация романа вполне ясна: героиня по имени Кейт осталась одна на свете, она путешествует по опустевшему миру, оставляет послания на улицах — то ли другим живым, то ли Богу, вспоминает умершего сына и брошенного мужа, ходит по музеям, перелистывает книги, делает таким образом ревизию всей мировой истории и культуре, а в конце обнаруживает (или не обнаруживает? — все в этой книге двусмысленно), что на пляже кто-то живет. Кто-то кроме нее. Вероятней всего, это она сама. Одиночество выкидывает с человеком такие штуки.
А вот как сложилась эта стартовая ситуация — читатель волен додумывать сам. Простейший вывод — мировая война; когда Марксон писал роман, это был один из главных страхов человечества и один из самых модных сюжетов. В особенной моде была нейтронная бомба, изобретенная еще в 1958 году Сэмюэлом Коэном, умершим, по странному совпадению, в том же 2010 году, что и Марксон. В отличие от других испытателей ядерного оружия, Коэн считал свою бомбу гуманной. Нейтронная бомба, которой особенно интенсивно пугали советских подростков в начале восьмидесятых, была, согласно легенде (это все же не совсем так), опасна для живой силы противника и почти безвредна для материальных объектов. Эта ее особенность была отражена в садистской частушке тех времен: «Мальчик нейтронную бомбу нашел, с нею он к школе своей подошел — долго смеялся потом педсовет: школа стоит, а учащихся нет». (Любопытно, что педсовет уцелел, являясь, видимо, не столько живой силой, сколько материальным объектом.)
Итак, можно полагать, что мир в «Любовнице Витгенштейна» уничтожен нейтронными бомбами, потому что людей нет, а музеи, книги и пляжи остались. Что будет с мировой культурой без человека и кому она теперь нужна, если ничего не предотвратила? Зачем вообще были все эти люди? Как их всех теперь не перепутать? Эти и многие другие вопросы встают перед Кейт, отнюдь не интеллектуалкой, которая оказалась единственной и безраздельной владелицей всех сокровищ мира, включая полотна и симфонии. Все это она охотно отдала бы за одного живого кота, занимающего ее мысли куда чаще, чем Бетховен или Рембрандт.
Вторая версия этой стартовой ситуации — безумие, или солипсизм («Солипсизм совпадает с чистым реализмом, если он строго продуман» — эту фразу из «Логико-философского трактата» российский читатель хорошо знает благодаря рассказу Пелевина «Девятый сон Веры Павловны», где она служит эпиграфом). Героиня вполне может полагать сущей только себя, а остальных игнорировать; постоянно разрушающийся мир «Любовницы Витгенштейна» — все эти разбитые окна и протекающие крыши, — может быть метафорой рушащегося внутреннего мира, старческой деменции, тем более что намеки на это в романе есть: Кейт путается в именах и событиях, смешивает сны и реальность, а постоянные повторы слов и целых фраз наводят на мысли о безнадежной борьбе с болезнью Альцгеймера, при которой больной мучительно пытается удержать слова и имена, поминутно вымываемые из памяти. Мы не знаем, сколько лет Кейт. Мы знаем лишь, что сорок семь ей уже было, а может, она просто забыла другие цифры.
И наконец, стартовая ситуация может быть метафорой любой, самой будничной жизни, — ведь человек эгоистичен по самой своей природе. «Зачем слово “эгоист”, если уже есть слово “человек”»? — вполне по-витгенштейновски спрашивал Илья Кормильцев. Все мы смутно видим окружающих, и, может быть, мир «Любовницы Витгенштейна» — это и есть наша повседневность, в которой вещи есть (потому что они нас еще волнуют), а люди и животные исчезли, потому что они требуют заботы, потому что мы от них устали?! И уверены ли мы, что помним свою жизнь? Ведь «состояние Витгенштейна» — это и есть реакция на тотальную неопределенность. В нашем мире все размыто: границы между добром и злом, правдой и вымыслом (жаль, что Марксон не дожил до термина «постправда», ему бы понравилось). Поэтому героиня все время повторяет то немногое, в чем она уверена. Философия Витгенштейна — реакция на заболтанный мир, в котором не осталось ничего бесспорного; на фашизоидный консерватизм с его напыщенностью, на иррациональность, на стремление каждого сектанта сочинить собственный словарь, дабы тем вернее дурить головы неофитам. В мире Кейт есть только конкретные вещи. Все абстракции уничтожены — то ли ядерным взрывом, то ли деменцией, то ли редукцией. Иногда человеку хочется редуцировать мир («я бы сузил», как мечтал Федор Павлович Карамазов, 1880). В «Любовнице Витгенштейна» осталась только действительность, да и той все меньше: закаты, костры, руины.
Что до манеры, в которой эта книга написана, общим местом стало ее сходство с «Логико-философским трактатом», который сплошь состоит из кратких афоризмов. С тех пор в этой форме было написано много чего интересного, в частности «Ориентация — Север» Гейдара Джемаля, многозначительная поэма в прозе, которую роднит с главным текстом Витгенштейна прежде всего адресация. Эту книгу, предупреждал Витгенштейн, поймет лишь тот, кто сам обдумывал схожие мысли. Афоризмы обычно не то чтобы зашифрованы — они в концентрированном виде отражают большой и сложный душевный опыт, который трудно передать; проще обращаться к тому, кто сам прошел хотя бы часть пути. Восходит эта форма, ясное дело, к Ницше, к «Злой мудрости», «Веселой науке», которую предваряет авторский вопрос «могут ли помочь предисловия тому, кто сам не пережил чего-либо подобного, приблизиться к переживаниям этой книги». Как видите, и Ницше, и Витгенштейн для начала отсекают «лишнюю», чуждую аудиторию; это же касается и Марк- сона, чья книга покажется невыносимой любому, кто к ней не готов. Но того, кто страдает тем же недугом, она исцелит.
Можно было бы назвать многих авторов начала XX века, находившихся под сильным влиянием Ницше — не столько идеологическим, сколько стилистическим, хотя в его случае это нераздельно. Можно вспомнить фрагменты Шестова и Розанова, стилистику Шкловского; но кого вряд ли вспомнят, — а следовало бы, — так это Андрея Белого. Я не знаю, читал ли его Марксон (он многих фундаментально изучил из русских — читатель будет приятно изумлен, встретив на страницах «Любовницы Витгенштейна» упоминание Цветаевой). Но даже если не читал — открытия Белого к тому моменту вошли в кровь мировой прозы. Величайшим его стилистическим открытием был жанр «симфонии» — литературно-музыкального, прозо-поэтического синтеза. «Симфонии» сродни музыкальной книге, описанной Алексеем Толстым в «Аэлите» (1923);
Желтоватые, ветхие листы ее шли сверху вниз непрерывной, сложенной зигзагами, полосою. Эти, переходящие одна в другую, страницы были покрыты цветными треугольниками, величиною с ноготь. Они бежали слева направо и в обратном порядке неправильными линиями, то падая, то сплетаясь. Они менялись в очертании и цвете. Спустя несколько страниц между треугольниками появились цветные круги, меняющейся, как медузы, формы и окраски. Треугольники стали складываться в фигуры. Сплетения и переливы цветов и форм этих треугольников, кругов, квадратов, сложных фигур бежали со страницы на страницу. Понемногу в ушах Лося начала наигрывать, едва уловимая, тончайшая, пронзительно печальная музыка. Он закрыл книгу, прикрыл глаза рукой и долго стоял, прислонившись к книжным полкам, взволнованный и одурманенный никогда еще не испытанным очарованием: — поющая книга.
Вот Белый делал нечто подобное. У него в «Симфониях» одни и те же фразы чередуются через неправильные промежутки, образуя тонкий, но уловимый ритм. И повторы в «Любовнице Витгенштейна» имеют ту же функцию: чередующиеся темы, имена, лейтмотивы, повторяющиеся воспоминания создают ощущение еле слышной, затухающей мелодии. Влияние Белого тут во многом, прежде всего в сардонической, мрачно-насмешливой, сентиментально-озлобленной интонации; в жонглировании знаковыми именами, утрачивающими свою парольность на глазах — потому что обмениваться этими паролями больше не с кем. Тот же эсхатологизм, утрата смысла, потеря контакта с великими именами стали темой другого замечательного романа — «Агапе, агапе» Уильяма Гэддиса, который упоминается у Марксона несколько раз. Там, где Гэддис говорит об утрате смысла искусства — ибо создание шедевра было ритуалом, а в эпоху его тиражирования и монетизации сакральный смысл искусства невозможен, — чувствуется не просто знакомство с книгой Марксона, но глубокое читательское сопереживание; там, где Гэддис реконструирует издевательские заочные разговоры Беньямина и Хейзинги, слышится отзвук таких же насмешливых диалогов Линкольна и Уитмена, Флобера и Мопассана, Витгенштейна и Хаусмана. Все разговаривают со всеми, ибо история схлопнулась, и Рембрандт и Бах, Ван Гог и Ницше, Спиноза и Рубенс — все оказались соседями. Это напоминает еще один сходно написанный, ассоциативно-пародийный роман — «Picture this» (1988) Джозефа Хеллера, в свою очередь сильно повлиявшего на Марксона и на их общего приятеля, исследователя и последователя Уильяма X. Гэсса, самого, наверное, талантливого из ныне живущих американских прозаиков.
Могут сказать — и пусть скажут, — что в «Любовнице Витгенштейна» отражен хаос, царящий в голове среднего американца, для которого Шекспир, Джойс, Шостакович — герои массовой культуры, а не гениальные творцы; очень может быть, но ведь Марксон и преследовал эту цель — изобразить массовое сознание, в котором нет больше иерархий, все современники и все равны. Это нормальная ситуация для конца света, а конец света и есть главная тема, среда и атмосфера «Любовницы Витгенштейна». Главный роман Хеллера назывался «Что-то случилось», книга Марксона могла бы называться «Что-то кончилось». Он назовет один из своих поздних шедевров «Последний роман» — и это будет роман, в котором почти нет фраз от автора: это цитатный коллаж, набор изречений, главным образом об искусстве и смерти; в каком-то смысле это не только последний роман Марксона, но последний образец жанра, искусство, которое не может сказать ничего нового, а лишь заново комбинирует фрагменты чужих текстов и жизней. «Последний роман» — очень грустная книга. Там Марксон, не сказав ни слова от себя, умудрился сказать все о себе.
Надо, наверное, сказать несколько слов о нем самом. Он мне особенно близок тем, что тоже родился 20 декабря. Мы все, рожденные 20 декабря, люди особенные, непростые, мы все внесли серьезный вклад в мировое искусство, но понимают нас немногие, это обычная участь гениев. Марксон родился ровно за сорок лет до меня и ровно через десять лет после создания ВЧК (20 декабря 1917 года). Я же говорю, мы люди особенные. Мы рождаемся в одну из самых длинных и темных ночей, чтобы тем ярче озарять мир.
Марксон написал десяток романов (четыре из них — в своем личном жанре, как он это называл, «это записки старика, сидящего в своей спальне наедине со всем, что он за свою жизнь прочитал»), книгу стихов и исследование творчества Малькольма Лаури, чей роман «Под вулканом» многими считается самым влиятельным авангардным опусом после «Улисса». Человек он был очкастый, насмешливый, скромный. Воннегут, чей «Завтрак для чемпионов» написан в манере, довольно близкой к поздним сочинениям Марксона, говорил: «Вряд ли Дэвиду стоит благодарить судьбу за позднюю славу. Она явилась тогда, когда роман, даже очень хороший, никого уже не волнует».
Волнует, волнует. Русская действительность все для этого делает.
Дмитрий Быков
Любовница Витгенштейна
Посвящается Джоан Семмел
Сколь поразительная происходит трансформация... когда сознание впервые сталкивается с тем фактом, что все зависит от наших мыслей о вещах и когда в результате мысль в своей неограниченности заменяет видимую реальность.
Кьеркегор
Все еще сомневаясь в его способностях, я спросил Дж. Э. Мура. Мур ответил: «Я действительно очень высокого мнения о нем». Когда я поинтересовался причиной такого мнения, он объяснил, что Витгенштейн — единственный, кто на его лекциях выглядел озадаченным.
Бертран Рассел
Я хорошо понимаю, почему детям нравится песок.
Витгенштейн
Вначале я иногда оставляла послания на улице.
Кто-то живет в Лувре, гласили некоторые из них. Или в Национальной галерее.
Разумеется, так в них могло говориться лишь тогда, когда я была в Париже или Лондоне. Кто-то живет в Метрополитен-музее, говорилось в них, когда я все еще находилась в Нью-Йорке.
Естественно, никто не приходил. Затем я перестала оставлять послания.
Честно говоря, я написала, наверное, всего три или четыре.
Понятия не имею, как давно это было. Если бы мне пришлось сказать наугад, я бы сказала, что лет десять назад.
Хотя, возможно, это происходило несколькими годами раньше.
И, конечно, тогда я какое-то время была совсем не в своем уме.
Не знаю, как долго, но был такой период.
В незапамятные времена. Подозреваю, что эту фразу я, пожалуй, никогда не понимала до конца.
Незапамятные времена — в смысле без ума и памяти или попросту забытые? Но, так или иначе, в сумасшествии сомневаться не приходилось. Например, когда я отправилась в дальний уголок Турции, чтобы оказаться на месте древней Трои.
И почему-то особенно хотелось посмотреть там на реку, о которой я тоже читала, текущую мимо крепости в море.
Я забыла название реки, которая на самом деле была просто грязным ручьем.
И, в любом случае, я имею в виду не море, а пролив Дарданеллы, ранее называвшийся Геллеспонт.
Название «Троя» тоже изменилось, разумеется. Гиссарлык — так теперь она зовется.
Мой визит во многом оказался разочарованием: место выглядело поразительно маленьким. Практически как заурядный городской квартал высотой в несколько этажей.
И все же с этих руин открывался вид на гору Ида — такую далекую.
Даже поздней весной на горе лежал снег.
Кто-то вроде бы отправился туда умирать в одной из старых легенд. Парис, наверное.
Я, конечно, имею в виду Париса, который был любовником Елены. И которого ранили почти в самом конце войны.
Собственно говоря, именно о Елене я думала больше всего, находясь в Трое.
Я собиралась добавить, что даже мечтала о греческих кораблях, вытащенных на берег и все еще стоящих там.
Что ж, мечтать о таком было бы вполне безобидно.
От Гиссарлыка до воды примерно час пешком. Затем я планировала взять простую лодку, добраться до противоположной стороны пролива и отправиться в Европу через Югославию.
То есть, возможно, Югославию. В любом случае на той стороне пролива есть памятники солдатам, погибшим в Первой мировой войне.
На стороне Трои можно найти монумент, где был похоронен Ахиллес гораздо, гораздо раньше.
Ну, то есть говорят, что там похоронен Ахиллес.
Все равно я нахожу удивительным, что юноши умирали там на войне давным-давно и потом умирали в том же самом месте три тысячи лет спустя.
Но, как бы то ни было, я передумала пересекать Геллеспонт. Под которым я имею в виду Дарданеллы. Вместо этого я выбрала моторный баркас и отправилась в сторону греческих островов и Афин.
Даже имея всего лишь вырванную из атласа страницу вместо морских карт, я не спеша добралась до Греции за два дня. Многое об этой древней войне явно сильно преувеличено.
И все-таки некоторые вещи могут тронуть до глубины души.
Например, когда днем или двумя позже я увидела Парфенон в лучах заходящего солнца.
Думаю, что как раз в ту зиму я жила в Лувре. Жгла артефакты и картинные рамы, чтобы согреться, в зале с плохой вентиляцией.
Но затем, с первыми оттепелями, меняя машины, когда заканчивался бензин, я устремилась обратно, через центральную Россию, чтобы вернуться домой.
Все это, бесспорно, происходило, хотя и, как я говорю, давно. И несмотря на то, что, как я уже сказала, я могла быть безумна.
Впрочем, я вовсе не уверена, что была безумна, когда ехала в Мексику, перед этим.
Возможно, перед этим. Чтобы навестить могилу ребенка, которого я потеряла еще раньше, по имени Адам.
Почему я написала, что его звали Адам?
Саймон — так звали моего мальчика.
Незапамятные времена. В том смысле, что человек может на мгновение забыть имя своего единственного ребенка, которому теперь было бы тридцать?
Едва ли тридцать. Скажем, двадцать шесть или двадцать семь.
То есть мне пятьдесят?
Есть только одно зеркало, здесь, в доме на пляже. Пожалуй, что пятьдесят, судя по зеркалу.
Мои руки говорят о том же. Заметно по тыльной стороне ладоней.
Однако же у меня пока бывают менструации. Нерегулярно, и порой длятся неделями, а потом не наступают так долго, что я о них вовсе забываю.
Быть может, мне не больше сорока семи или сорока восьми. Уверена, что когда-то я пыталась отсчитывать месяцы или, по крайней мере, сезоны уж точно. Но я уже даже не помню, когда именно осознала, что давно сбилась со счета.
Но кажется, мне должно было вот-вот исполниться сорок, когда все это началось.
Те послания я писала белой краской. Огромными печатными буквами, на перекрестках, где их увидел бы любой прохожий.
Я жгла артефакты и некоторые другие предметы, когда жила в Метрополитен-музее, тоже, естественно.
Да, огонь там горел постоянно, зимой.
Тот костер отличался от костра в Лувре. В Метрополитен я разожгла костер в огромном зале, там, где все входят и выходят.
Вообще-то я даже соорудила над ним высокую жестяную трубу. Так, чтобы дым поднимался прямо к стеклянной крыше.
Что мне пришлось сделать, так это прострелить отверстия в стеклах, после того как я построила трубу.
Это я сделала при помощи пистолета, очень аккуратно, под углом, с одного из балконов, чтобы дым выходил, а дождь не попадал.
Дождь все равно попадал. Хотя и немного.
Ну, со временем он начал попадать и через другие окна, когда те разбились сами по себе. Или из-за погоды.
Окна до сих пор разбиваются. Несколько разбиты здесь, в этом доме.
Сейчас, однако, лето. Да и против дождя я не возражаю.
Со второго этажа можно увидеть океан. Здесь внизу дюны, которые загораживают вид.
Вообще-то это мой второй дом на этом пляже. Первый я сожгла дотла. Я до сих пор не уверена, как это случилось, хотя, возможно, я готовила еду. Я ненадолго отошла к дюнам помочиться, а когда обернулась, все уже пылало.
Эти пляжные дома все деревянные, конечно. Я могла лишь сидеть среди дюн и смотреть, как он горит. Он горел всю ночь.
Я до сих пор замечаю сгоревший дом по утрам, когда гуляю по пляжу.
То есть, само собой, я замечаю не дом. Я замечаю то, что осталось от дома.
Однако все равно человек склонен думать о доме как о доме, даже если от него не очень много осталось.
Что же до нынешнего, то он, между прочим, держится весьма неплохо. Грядущие снега будут третьими по счету, если не ошибаюсь.
Вероятно, мне следует составить список мест, где я побывала, хотя бы к собственному сведению. То есть начиная с моего старенького лофта в Сохо, еще до Метрополитен-музея. И моих путешествий затем.
Хотя, признаюсь, сейчас я многие из них уже тоже не вспомню.
Зато я помню, как сидела однажды утром в автомобиле с правым рулем и наблюдала, как Стрэт- форд-на-Эйвоне утопает в снегу, что наверняка редкость.
Ну и еще однажды той же зимой меня едва не сбила машина без водителя, которая катилась по склону холма около Хемстедской пустоши.
Можно было объяснить, почему машина катилась вниз по холму без водителя.
Объяснялось это холмом, разумеется.
Та машина тоже была с правым рулем. Хотя, наверное, это не особенно важно.
И, в любом случае, я могла ошибиться раньше, когда сказала, что оставила послание на улице о человеке, живущем в Национальной галерее.
Где я жила в Лондоне, так это в галерее Тейт, где очень много картин Джозефа Мэллорда Уильяма Тёрнера.
Я совершенно уверена, что жила в Тейт.
Этому тоже есть объяснение. Объяснение состоит в том, что оттуда видно реку.
Живя один, предпочитаешь иметь вид на реку.
Однако и Тёрнером я всегда восхищалась. Более того, его картины вполне могли повлиять на мое решение.
Однажды Тёрнер привязал себя к мачте корабля на несколько часов во время яростного шторма, чтобы позже нарисовать шторм.
Разумеется, Тёрнер собирался нарисовать не шторм как таковой. Он собирался нарисовать изображение шторма.
Язык часто содержит такого рода неточности, как я обнаружила.
Вообще говоря, история о Тёрнере, привязанном к мачте, напоминает мне о чем-то, хотя я не могу вспомнить, о чем она мне напоминает.
Также я, кажется, не помню, что за костер у меня был в Тейт.
Между прочим, в Рейксмюсеуме, в Амстердаме, я вынула «Ночной дозор» из рамы, когда грелась там.
Я вполне уверена, что также собиралась добраться до Мадрида примерно в то самое время, поскольку там, в Прадо, есть картина Рогира Ван дер Вейдена «Снятие с креста», которую мне хотелось увидеть снова. Но по какой-то причине в Бордо я пересела в машину, которая смотрела в другую сторону.
Хотя возможно, что на самом деле я пересекла испанскую границу и добралась аж до Памплоны.
Что ж, я часто поступала необдуманно в те дни, как я уже говорила. Однажды, стоя на вершине Испанской лестницы в Риме, я без всякой причины, не считая того, что наткнулась на целый микроавтобус «фольксваген», полный ими, спустила вниз сотни теннисных мячиков, которые прыгали друг за другом к подножию во все стороны.
Глядя, как они ударяются о крошечные неровности или потертости в камнях и меняют направление, или гадая, как далеко каждый из них проскачет по пьяцца внизу.
Некоторые пропрыгали наискосок и даже докатились до дома, в котором умер Джон Китc.
На доме есть табличка, в которой говорится, что здесь умер Джон Китc.
Табличка, естественно, на итальянском. Джованни Китc — так написано его имя.
Река у Гиссарлыка называется Скамандр — теперь я вспомнила.
В «Илиаде» Гомер пишет о ней как о могучей реке.
Что ж, возможно, она и была такой когда-то. Многое меняется за три тысячи лет.
Но все равно, сидя над ней на развалинах стен и глядя на пролив, я была почти уверена, что на другом берегу можно увидеть греческие сигнальные костры.
Что ж, как я говорила, возможно, я не позволяла себе так думать.
И все-таки о некоторых вещах можно думать без всякого вреда.
Например, следующим утром, когда занялся рассвет, я с удовольствием подумала о нем как о розовоперстой заре. Пусть даже небо было пасмурным.
Между тем я нашла время, чтобы испражниться. Для этого я хожу не в дюны, а к самому океану, где прилив все смывает.
По дороге туда я сначала зашла в лес возле дома, чтобы нарвать листьев.
А затем пошла за водой из ручья, до которого примерно сто шагов по тропе в противоположную сторону от пляжа.
Ручей у меня тоже есть. Пусть даже это и далеко не Темза.
В Тейт, однако, я приносила воду из реки. Так уже довольно давно можно делать.
Да, из Арно, во Флоренции, можно было пить, еще когда я жила в Уффици. Или из Сены, когда я брала с собой к причалу кувшин из Лувра.
Вначале я пила только бутилированную воду, естественно.
Вначале у меня было еще и снаряжение. Например, генераторы — для электрических обогревателей.
Вода и тепло были, конечно, основными благами.
Я не помню, что было раньше: научилась ли я следить за костром и поэтому избавилась от соответствующих устройств или обнаружила, что теперь снова можно пить любую воду.
Пожалуй, сначала я стала экспертом по кострам. Пусть даже я за несколько лет сожгла дотла два дома.
Более поздний пожар, как я упоминала, был случайностью.
О том, почему сгорел первый дом, я бы предпочла не распространяться. Однако его я спалила намеренно.
Это было в Мексике, утром после моего посещения могилы бедного Саймона.
Так вот, это был дом, в котором мы все жили. Я искренне верила, что собираюсь остаться там на какое-то время.
Что я сделала, так это расплескала бензин по старой комнате Саймона.
Почти все оставшееся утро я могла наблюдать, как дым поднимается и поднимается, в зеркале заднего вида.
Теперь у меня два огромных камина. Здесь, в доме у моря, я имею в виду. А в кухне — антикварная пузатая печка.
Я очень полюбила эту печку.
Саймону было семь, между прочим.
Неподалеку растет множество ягод. А в нескольких минутах ходьбы за моим ручьем есть разные овощи, в полях, которые раньше возделывались, но теперь, конечно, заросли сорняками.
За окном, у которого я сижу, ветерок шуршит тысячами листьев. Лучи солнца пробиваются сквозь деревья мозаикой ярких пятен.
Цветы здесь тоже растут, в чрезвычайном изобилии.
Такой день вообще-то просит музыки, однако включить ее у меня нет возможности.
Годами, где бы я ни находилась, я обычно как-то умудрялась ее слушать. Но когда я начала избавляться от устройств, пришлось расстаться и с музыкой.
Багаж — вот, в сущности, от чего я избавлялась. То есть от вещей.
Однако время от времени человек слышит музыку в своей голове.
Ну, во всяком случае, хотя бы фрагмент чего- нибудь. Скажем, Антонио Вивальди. Или песню Джоан Баэз.
Не так давно я даже услышала пассаж из оперы «Троянцы» Берлиоза.
Когда я говорю «услышала», я выражаюсь фигурально конечно же.
Тем не менее, возможно, багаж все-таки есть, хотя я и считала, что оставила его позади.
Своего рода багаж. Тот, что остается в голове, в смысле остатки того, что знал раньше.
Например, дни рождения таких людей, как Пабло Пикассо или Джексон Поллок, которые я наверняка все еще могла бы назвать, если бы захотела.
Или телефонные номера, с тех давних лет.
Вообще-то телефон есть прямо здесь, всего в трех или четырех шагах от меня.
Естественно, я говорила о номерах телефонов, которые работают.
На самом деле есть второй телефон наверху, у подоконника с подушками, сидя на котором я наблюдаю, как заходит солнце, почти каждый вечер.
Подушки, как чуть ли ни всё здесь, на пляже, пахнут плесенью. Даже в самые жаркие дни чувствуется сырость.
Книги от нее приходят в негодность.
Книги — тоже багаж, от которого я избавилась, между прочим. Пусть даже в этом доме осталось еще много тех, что были здесь, когда я поселилась.
Стоит, пожалуй, отметить, что в доме восемь комнат, хотя я пользуюсь только двумя или тремя.
Вообще-то я читала время от времени все эти годы. Особенно когда я была не в себе, я читала довольно много.
В одну из зим я прочла почти все древнегреческие пьесы. Больше того, я прочла их вслух. И при этом, заканчивая читать страницу с обратной стороны, я вырывала ее из книги и бросала в огонь.
Эсхил, Софокл, Еврипид — всех их я превратила в дым.
В известном смысле так это можно себе представить.
В другом же смысле можно утверждать, что так я поступила с Еленой, Клитемнестрой и Электрой.
Хоть убейте, я понятия не имею, зачем я это делала.
Если бы я понимала зачем, то явно не была бы сумасшедшей.
Если бы я не была сумасшедшей, то явно не стала бы этого делать вовсе.
Я не вполне уверена в том, что последние два предложения имеют особый смысл.
В любом случае я не помню, где конкретно находилась, когда читала эти пьесы и жгла страницы.
Возможно, это было после посещения древней Трои, которая как раз и могла навести меня на мысль о пьесах.
Или это чтение пьес навело меня на мыль о том, чтобы посетить древнюю Трою?
Оно действительно развивалось, это безумие.
Не факт, однако, что я была безумна, когда поехала в Мексику. Несомненно, не только сумасшедший может решить навестить могилу своего малыша.
Но я точно была безумна, когда проехала всю Аляску до Нома, а затем направила лодку через Берингов пролив.
Пусть даже я и разыскала карты на этот раз.
Да и с лодками уже была знакома. Но все равно.
Однако после этого я, как ни парадоксально, устремилась на запад через всю Россию почти совсем без карт. Выезжая с солнцем за спиной каждое утро и ожидая, что оно после полудня появится впереди, просто следуя за ним.
Размышляя в дороге о Федоре Достоевском.
Честно говоря, я глядела в оба, высматривая Родиона Романовича Раскольникова.
Останавливалась ли я в Эрмитаже? Почему я не помню, останавливалась ли я в Москве вообще?
Что ж, вполне возможно, что я проехала мимо Москвы, совершенно не отдавая себе в этом отчета, ведь я совсем не говорю по-русски.
То есть я имею в виду, что и не читаю по-русски, разумеется.
И зачем я написала ту претенциозную строку о Достоевском, если сейчас не имею понятия, задумывалась ли я о нем хоть на мгновение?
Значит, еще больше багажа. Как минимум, здесь и сейчас, пока я печатаю, если не тогда, раньше.
Вообще говоря, когда я пришвартовала катер, оставив позади последний остров, и снова отправилась искать автомобиль, я, наверное, даже удивилась, что на номерных знаках был русский шрифт. По моим представлениям я должна была быть в Китае.
Хотя меня только сейчас осенило, что человек несет также и кое-какой китайский багаж, разумеется.
Немного. Нет смысла иллюстрировать данный факт.
Даже если я пью чай сушонг, пока говорю это.
Да и вообще, Эрмитаж, возможно, находится в Ленинграде.
Тогда опять же очевидно, что я искала Раскольникова.
Если использовать Раскольникова как символ, то можно с определенностью сказать, что я искала Раскольникова.
Хотя, с таким же успехом можно сказать, что я искала Анну Каренину. Или Дмитрия Шостаковича.
В Мексике я тоже искала, конечно.
Вряд ли Саймона, ведь я прекрасно знала, что Саймон лежит в могиле. Значит, возможно, искала Эмилиано Сапату.
Опять же, символически искала Сапату. Или Бенито Хуареса. Или Давида Альфаро Сикейроса.
Искала кого угодно, где угодно.
Даже будучи безумной, искала — или чего еще ради я бы скиталась по всем тем, другим местам?
И искала на каждом перекрестке в Нью-Йорке перед этим, естественно. Даже до того, как уехала из Сохо, я искала по всему Нью-Йорку.
И поэтому все еще искала той зимой в Мадриде тоже.
Я не уверена, упоминала ли о своем пребывании в Мадриде.
В Мадриде я жила не в Прадо, как оказалось. Возможно, я намекнула, что думала так, однако там было слишком мало света.
Я имею в виду естественное освещение, ведь тогда я уже принялась избавляться от большинства своих вещей.
Лишь когда солнце особенно беспощадно, начинаешь видеть картину Рогира Ван дер Вейдена так, как полагается.
Я могу засвидетельствовать это со всей категоричностью, ведь я даже вымыла окна рядом с ней.
Где я жила в Мадриде, так это в отеле. Выбрав тот, что назван в честь Веласкеса.
Искала там Дон Кихота. Или Эль Греко. Или Франсиско Гойю.
Как поэтично звучат большинство испанских имен. Их можно произносить снова и снова.
Хуана Инес де ла Крус. Марко Антонио Монтес де Ока.
Хотя на самом деле оба эти имени, возможно, мексиканские.
Поиски. Боже правый, как же настойчиво я искала.
Не помню, где именно я перестала искать.
В Адриатическом море, по пути из Трои в Грецию, я вдруг увидела, как ко мне стремительно приближается двухмачтовая яхта — ее высокий треугольный парус гудел под напором ветра.
Только представьте, как это меня испугало и что я почувствовала.
Секунду назад я плыла в привычном одиночестве, и тут, внезапно, эта яхта.
Но она просто дрейфовала. Все это время, надо полагать.
Могло ли к тому моменту пройти целых четыре года или пять лет? Я почти уверена, что провела в Нью-Йорке как минимум две зимы, прежде чем начала искать где-то еще.
Рядом с Лесбосом — вот где я видела ту яхту. Или, может, у Скироса.
Скирос точно греческий остров?
Такое забывается. Бывает, что багаж теряешь ненамеренно.
Честно говоря, теперь я думаю, что мне следовало сказать «Эгейское», а не «Адриатическое», несколькими абзацами выше. Конечно, там ведь Эгейское море — между Троей и Грецией.
Этот чай — тоже своего рода багаж, я полагаю. Впрочем, в этом случае я специально его отыскала после того, как сгорел тот, другой, дом на пляже. Сколь бы малым я ни обходилась, хотелось чаю.
И сигарет тоже, хотя теперь я курю совсем мало.
Ну и других благ цивилизации тоже, естественно.
Я курю сигареты из жестяных коробочек. Те, что в бумажных пачках, давно выдохлись.
Это случилось почти со всеми вещами, которые так упакованы. Они не обязательно испортились, но высохли.
Между прочим, мои сигареты, оказывается, русские. Однако это всего лишь совпадение.
Здесь все всегда сырое.
Я уже говорила.
И моя одежда, когда я достаю ее из ящика, холодная и влажная на ощупь.
Как правило, летом, как сейчас, я совсем ничего не надеваю.
У меня есть трусы и шорты, и несколько джинсовых юбок с запахом, и два или три трикотажных свитера. Я все стираю в ручье, а затем развешиваю и сушу на кустах.
Ну, есть и другая одежда. С зимой не поспоришь.
Однако не считая заблаговременного сбора хвороста, я привыкла беспокоиться о зиме, когда зима приходит.
Когда она приходит, то надолго. После того, как листья опадают, лес обычно какое-то время стоит голый, пока не ляжет снег, и мне видно все до самого ручья или даже до того места, где моя тропа выходит на шоссе.
Нужно, наверное, минут сорок, чтобы добраться по шоссе до города.
Там есть магазины, несколько, и заправка.
На последней все еще можно найти керосин.
Однако я редко пользуюсь своими лампами. Даже когда пропадают последние, казалось бы, лучи заката, его отсветы все еще освещают комнату наверху, в которой я сплю.
Через другое окно на противоположной стороне меня будит розовоперстая заря.
На самом деле, бывают такие утра, что эта фраза оказывается уместна.
Между прочим, дома вдоль этого пляжа тянутся, кажется, бесконечно. В любом случае, намного дальше, чем мне случалось пройти в ту или другую сторону, пока я не поворачивала обратно, чтобы успеть вернуться до темноты.
Где-то у меня есть фонарик. В перчаточном ящичке в пикапе, наверное.
Пикап стоит на шоссе. Подозреваю, что я уже давно не проверяла батарейку.
Несомненно, на заправке все еще есть неиспользованные батарейки.
Сестра Хуана Инес де ла Крус. Я уже понятия не имею, кто это такая, честно говоря.
Честно говоря, мне так же сложно было бы узнать Марко Антонио Монтеса де Оку.
В Национальной портретной галерее в Лондоне, где я не жила, я не смогла узнать восемь из десяти лиц на портретах. Или даже почти столько же имен, указанных под ними.
Я не имею в виду таких людей, как Уинстон Черчилль, или сестры Бронте, или английская королева, или Дилан Томас, разумеется.
И все равно, это меня опечалило.
И почему мне в голову приходит мысль о том, что я хотела бы сообщить Дилану Томасу, что нынче можно встать на колени и напиться воды из Луары, или По, или Миссисипи?
Или Дилан Томас умер еще до того, как делать это стало невозможно, а значит, посмотрел бы на меня так, словно я опять сошла с ума?
Ахиллес бы точно так посмотрел. Или Шекспир. Или Эмилио Сапата.
Я не помню даты рождения и смерти Дилана Томаса. Да и вообще, никакой точной даты загрязнения определенно не было.
Один один восемь шесть — последние четыре цифры чьего-то телефонного номера, возможно.
Вообще-то к Миссисипи я тоже никогда не ездила. Однако по пути в Мексику и обратно пила из Рио-Гранде.
Почему я так говорю? Очевидно же, что мне приходилось пересекать Миссисипи в обоих направлениях за время одной поездки.
Тем не менее, похоже, я не помню этого. Или тогда я тоже была безумна?
Что за странная подборка книг, которые я читала в тот период, о боже! Практически каждая из них об одной и той же войне.
Но часто я сама придумывала новые варианты историй, собственные причудливые личные импровизации.
Например, о Елене, скрывающейся с поля боя и тайком встречающейся с Ахиллом у реки Скамандр.
Или о Пенелопе, занимающейся любовью со всеми воздыхателями подряд, пока Одиссей странствует.
Разве она бы не стала? Ну правда, при стольких-то ухажерах вокруг? И если действительно прошло десять лет войны, а потом еще десять лет, прежде чем этот ее муж материализовался?
Почему-то мне всегда нравилась та часть, где Ахиллес обряжается в девушку и прячется, чтобы его не заставили воевать.
Есть картина с Пенелопой, ткущей полотно, в Национальной галерее, кого-то по имени Пинтуриккьо.
Не очень-то хорошо я выразилась, пожалуй.
Не в том смысле, что Пенелопа ткала полотно в Национальной галерее. Она делала это на острове Итака, разумеется.
Итака, которая находится ни в Адриатическом и ни в Эгейском море, между прочим, а в Ионическом.
Надо же, какие вещи остаются в голове, несмотря ни на что.
Мне следует, наверное, отметить, что Национальная галерея и Национальная портретная галерея — разные музеи, хотя оба они находятся в Лондоне.
Более того, они являются разными музеями, даже хотя расположены в одном здании.
И наоборот, я не знаю почти ничего о Пинтуриккьо, хотя раньше я знала кучу фактов о многих художниках.
Ну, я знала кучу фактов о многих художниках по той же причине, по которой Ахиллес наверняка многое знал о Гекторе, например.
Однако все, что я помню о картине с Пенелопой, так это то, что на ней есть кошка, играющая с клубком пряжи.
Несомненно, включение кошки вряд ли было новаторством со стороны Пинтуриккьо. И все же, пожалуй, приятно думать о Пенелопе с домашним питомцем, особенно если я ошибаюсь насчет нее и ухажеров.
Также, наверное, давно следовало сказать, что меня терзают сомнения насчет того, что эта война длилась десять лет
Или что Елена стала ей причиной.
Одна спартанка, как кто-то назвал ее. Так-таки.
Но о чем я здесь, в сущности, думаю, так это о том, сколь разочаровывающе невзрачными оказались руины Трои.
Практически как заурядный городской квартал, несколько этажей в высоту.
Хотя люди жили и за пределами крепости, на равнинах.
Но все же.
В «Одиссее» Елена с возрастом обретает блистательное лучезарное величие. Я дважды или трижды перечитала эти страницы, где приезжает сын Одиссея Телемах.
А это значит, что я не могла вырывать их и бросать в огонь, как я делала, когда читала пьесы.
Между тем я только что снова наведалась в дюны. Почему-то, писая, я думала о Лоуренсе Аравийском.
Ну, вряд ли можно сказать, что я о нем думала, ведь я знаю о Лоуренсе Аравийском немногим больше, чем о Пинтуриккьо. Однако же вспомнился именно Лоуренс Аравийский.
Не представляю себе связи между нуждой пописать и Лоуренсом Аравийским.
Все еще дует этот игривый бриз. Сейчас, наверное, начало августа.
На мгновение, прогуливаясь обратно, я, кажется, услышала Брамса. Я бы сказала, что это «Рапсодия для альта», но вряд ли я помню «Рапсодию для альта».
Без сомнения, в Национальной портретной галерее был портрет Лоуренса Аравийского.
И теперь в голове засело имя Т. Э. Шоу. Но это еще одна из таких смутных личностей, которые от меня ускользают.
Ничто из этого меня не волнует, кстати говоря.
Меня вообще мало что волнует, как я, возможно, очевидно или не слишком очевидно продемонстрировала.
Что ж, как нелепо было бы в сложившихся обстоятельствах позволить чему-либо меня взволновать.
Иногда я переживаю, если это подходящее слово, из-за артрита в плече. Левом, которое временами несколько сковывает мои движения.
Солнце, впрочем, помогает.
Мои зубы же, наоборот, молчат вот уже пятьдесят лет. Надо постучать по дереву насчет зубов.
Я не могу ничего вспомнить о зубах матери. Или отца.
В любом случае мне, возможно, не больше сорока семи лет.
Не могу себе представить Елену троянскую с проблемными зубами. Или Клитемнестру с артритом.
Был, конечно, Сезанн.
Хотя, нет, не Сезанн, а Ренуар.
Теперь, между прочим, я уже совершенно не представляю, куда подевались мои личные художественные принадлежности.
Вообще-то один раз за минувшие годы я даже натянула холст. Грандиозный холст на самом деле, как минимум девять на пять футов. Более того, я даже загрунтовала его по меньшей мере в четыре слоя.
А потом я не могла оторвать от него глаз.
Месяцами, наверное, я смотрела на этот холст. Возможно, я даже зачем-то выдавила немного краски на палитру.
Вообще-то говоря, я думаю, что это было, когда я снова отправилась в Мексику. В доме, где я когда-то жила с Саймоном и Адамом.
Я, в сущности, убеждена, что моего мужа звали Адам.
А затем, после месяцев созерцания, как-то утром облила этот холст бензином, подожгла и уехала прочь.
Через широкую Миссисипи.
Однако тогда давно я почти увидела на этом холсте разные вещи.
Почти. Например, Ахиллеса, раздавленного горем после смерти друга, когда он посыпал голову пеплом. Или Клитемнестру после того, как Агамемнон принес в жертву их дочь, чтобы вызвать ветер для греческих кораблей.
Ума не приложу, почему мне всегда нравилась та часть, в которой Ахиллес одевается в женское платье.
Если уж на то пошло, то «Одиссею» написала женщина, как однажды кто-то сказал.
Будучи в Мексике, я всю зиму не могла избавиться от старой привычки каждое утро переворачивать туфли на тот случай, если внутрь залез скорпион.
Все привычки отмирали с трудом. Так, я в течение нескольких лет продолжала непроизвольно запирать двери.
Да, и еще в Лондоне. Часто старалась вести машину по левой стороне дороги.
Погоревав, Ахиллес отомстил, убив Гектора, хотя Гектор бежал со всех ног.
Я собиралась добавить, что так поступали именно мужчины. Но также и безутешная Клитемнестра убила Агамемнона.
Не без чужой помощи. Но все же.
Что-то подсказывает мне, смутно, что это могло быть одной из идей для моего холста. Агамемнон у своей купальни, опутанный покрывалом и заколотый сквозь него.
Бог знает, однако, зачем кому-то понадобилась бы столь кровавая тема.
На самом деле кого я действительно могла бы захотеть нарисовать, так это Елену. У одного из сгоревших на берегу кораблей, после снятия осады, во время которой она была пленницей.
Но с блистательным величием при этом.
Честно говоря, я установила тот холст прямо под центральной лестницей в Метрополитен-музее. Под теми окнами в потолке, в которых я прострелила отверстия.
Кровать же я поставила на одном из балконов, с видом на это место.
Саму кровать я взяла в одной из мемориальных комнат, возможно американского колониального периода.
Что я сделала с той самостоятельно смастеренной трубой, так это прикрепила ее проволокой к балкону, чтобы она не кренилась.
Хотя я все еще пользовалась всевозможными устройствами в те дни. И электрическими обогревателями тоже.
Ну и множеством ламп, особенно около холста.
Девятифутовую ярко освещенную Электру, возможно, нарисовала я, если подумать.
Я не задумывалась об этом до сих пор.
Бедная Электра. Каково это, желать смерти собственной матери.
Да и все те люди. Увязнешь во всем этом, если начнешь разбираться.
Ирен Папас была бы эффектной Электрой, однако.
Вообще-то она была эффектной Еленой в «Троянках» Еврипида.
Возможно, я не сказала, что также посмотрела несколько фильмов, пока еще владела устройствами.
Ирен Папас и Кэтрин Хепбёрн в «Троянках» — это один. Мария Каллас в «Медее» — другой.
У мамы все-таки была вставная челюсть, теперь я помню.
Ну, в том стакане возле ее кровати, в последние недели в больнице.
О боже.
Хотя я смутно припоминаю, что проектор, который я принесла в музей, перестал работать уже на третий-четвертый раз, а я не потрудилась его заменить.
Когда я все еще жила в лофте, в самом начале, я натаскала не меньше тридцати переносных радиоприемников и настроила каждый на свою частоту.
Вообще-то они работали от батареек, а не от сети.
Очевидно, что они работали именно так, ведь едва ли я могла научиться справляться с генератором так рано.
Моя тетя Эстер умерла от рака. Хотя Эстер была сестрой отца, если точнее.
Здесь хотя бы всегда есть шум моря.
И прямо в этот самый момент отклеившийся кусок липкой ленты на разбитом окне в соседней комнате издает шуршащий звук из-за моего бриза.
По утрам, когда на листьях капли росы, некоторые из них похожи на драгоценные камни, там, где в них искрятся первые лучи рассвета.
Кошка скребется — вот что, возможно, издает тот звук, а не кусок липкой ленты.
Где же это я читала все те чертовы рассказы вслух?
Я почти уверена, что еще не побывала в Европе, когда носила свои последние наручные часы, если это имеет хоть какое-то значение.
Сомневаюсь, что информация о тринадцати или четырнадцати часах на руке особенно важна.
Ну и еще, в какой-то период, было несколько золотых карманных часов на шнурке на шее.
Вообще-то кто-то носил будильник точно таким же способом в романе, который я когда-то читала.
Я бы сказала, что это было в «Признаниях» Уильяма Гэддиса, вот только вряд ли я читала «Признания» Уильяма Гэддиса.
В любом случае скорее уж я думаю про Таддео Гадди, хотя Таддео Гадди был художником, а не писателем.
Что же я делала с теми часами, интересно знать?
Носила их.
Да. Но на каждых при этом был установлен свой будильник.
Обычно я устанавливала будильники так, чтобы каждый из них звонил в свой час.
Так я делала некоторое время. Весь день каждый час срабатывал то один, то другой будильник.
Вечером я устанавливала все четырнадцать заново. Только теперь так, чтобы они звонили одновременно.
Это, несомненно, было прежде, чем я научилась вставать с рассветом.
Они все равно редко звонили таким образом. Одновременно, я имею в виду.
Даже когда это происходило, можно было привыкнуть ждать тех, которые еще не начали звонить.
Когда я говорю, что они звонили, на самом деле я хочу сказать, что они жужжали — так точнее.
В городе под названием Коринф, в штате Миссисипи, но вовсе не рядом с рекой Миссисипи, припарковав машину на небольшом мосту, я сняла с себя все часы.
Наверное, в Коринфе. Нужен атлас, чтобы развеять сомнения.
Вообще-то в доме есть атлас. Где-то. Возможно, в одной из тех комнат, куда я перестала заходить.
Целый день я сидела в машине и ждала, когда настанет очередь звонить следующим часам.
А затем бросала их в воду. Не знаю, что это был за водоем.
Одни или двое не сработали. Я переустановила их и заснула в машине, а затем избавилась и от них, когда они зазвонили утром.
Звонили точно так же, как все остальные, когда я их выбрасывала.
Если честно, я сделала это в каком-то городе в Пенсильвании. Это был город Литиц, штат Пенсильвания.
Все это происходило немногим раньше того, как я спустила теннисные мячики вниз по Испанской лестнице в Риме, между прочим.
Я нахожу связь между избавлением от часов и сбросом теннисных мячиков по Испанской лестнице, поскольку убеждена, что избавление от часов также произошло прежде, чем я увидела кота, а это тоже случилось, скорее всего, в Риме.
Когда я говорю, что видела кота, я имею в виду, что думаю, что видела его, естественно.
А причина, по которой я уверена, что это случилось в Риме, заключается в том, что это случилось у Колизея, который, бесспорно, находится именно в этом городе.
Где именно я вроде бы видела кота, так это в одной из арок Колизея, довольно высоко.
Так мне показалось. В разгар всех этих поисков.
И поэтому бросилась в супермаркет за консервами.
Как только поняла, что больше не смогу застать кота.
И затем каждое утро всю неделю открывала целую коробку банок и расставляла их на каменных сиденьях.
Банок было, наверное, практически столько же, сколько римлян наблюдали расправы над христианами.
Но затем я сообразила, что кот, возможно, снова появится лишь ночью, из-за испуга, и потому подключила еще один генератор и даже прожекторы.
Хотя, конечно, я не могла знать, притрагивался ли кот к еде за моей спиной, ведь, если на то пошло, большинство банок с самого начала не выглядели совершенно полными.
И все же мне казалось, что их безусловно следует проверять, несколько раз в день.
Кота я назвала Нерон.
Сюда, Нерон, звала я его.
Ну, не исключено, что я также пробовала звать его Юлий Цезарь, и Геродот, и Понтий Пилат, в разные моменты.
Имя Геродот для кота в Риме было, пожалуй, напрасной тратой времени, если подумать.
Без сомнения, банки все равно до сих пор там, выставлены стройными рядами на сиденьях.
Дожди совершенно опустошили их сейчас, всенепременно.
Определенно, никакого кота в Колизее не было.
Хотя я также звала кота Кальпурния, позже, когда меня осенило проверить все варианты.
Несомненно, что чайки тоже не было.
Чайка, которая привела меня на этот пляж, — вот о чем я говорю сейчас.
Высоко-высоко на фоне облаков просто маленькое пятнышко, которое вдруг метнулось в сторону моря.
Буду честна: в Риме, когда я думала, что увидела кота, я была явно безумна. И поэтому решила, что видела кота.
Здесь же, когда я думала, что увидела чайку, я не была безумна. Поэтому я знаю, что не видела чайку.
Вещи горят, то одно, то другое. Я имею в виду, не только тогда, когда я их сама поджигаю, но по естественным причинам. И поэтому разные кусочки и остатки иногда разлетаются на большие расстояния или поднимаются до потрясающих высот.
Я наконец привыкла к ним.
И все же, я бы с радостью предпочла верить, что видела чайку.
Вообще-то, что привело меня сюда, так это, скорее, мысль о закатах.
Ну, или о шуме морского прибоя.
То есть теперь, определившись с этим, я могу и прекратить поиски.
Я упоминала о том, что искала в Дамаске, Сирия, или в Вифлееме, или в городе Трой, штат Нью-Йорк?
Однажды у озера Комо, на каменных ступенях, чем-то напоминавших Испанскую лестницу, я сунула несколько монеток, что валялись в моем джипе, в телефон-автомат, собираясь позвонить Джованни Китсу.
Вообще-то я понятия не имела, бывал ли Китc когда-нибудь на озере Комо.
Несколько недель в Мексике я тоже ездила на джипе. И поэтому могла срезать путь прямо по холму, а не объезжать его всякий раз, когда отправлялась на кладбище.
Сколько разных автомобилей я использовала, вдруг стало мне интересно, с тех пор как все это началось?
Ну, только на пути в Куэрнаваку и обратно их было больше, чем можно запомнить, это точно. Ведь мне приходилось менять машины очень часто из-за препятствий, не говоря уже о том, что в них заканчивался бензин.
Под препятствиями я подразумеваю в основном другие машины, естественно. В каких только досадных местах они не преграждали мне путь.
А в довершение ко всему, в те дни я глупо тратила силы на то, чтобы перетаскивать весь свой багаж.
Кроме, конечно, того случая, когда мне пришлось пройти приличное расстояние от одной машины до другой.
Но все равно вскоре я снова стала раз за разом изматывать себя тем же самым образом.
Здесь у меня есть три джинсовые юбки с запахом и несколько трикотажных свитеров.
Большинство из них сейчас развешано на кустах и сохнет на солнце.
За руль я теперь сажусь редко.
Честно говоря, одежда у ручья высохла еще несколько дней назад.
Осенью, когда на деревьях нет листьев, я, наверное, могла бы увидеть ее прямо отсюда, где сейчас сижу.
Кот в Колизее был рыжий, между прочим.
Чайка была самая обычная.
Вообще-то это был кусок пепла, поднявшийся поразительно высоко и метавшийся на ветру.
Все эти юбки и свитера выцвели, потому что я почти всегда забываю о них, как сейчас.
На мне трусы, но лишь потому, что на стуле нет подушки.
А еще я только что принесла чернику из кухни.
Действительно ли мне так не терпелось найти другого человека, когда я занималась этими поисками, или я просто не могла вынести одиночества?
Скитаясь в этом бесконечном небытии. Время от времени, когда мой рассудок прояснялся, я вдруг становилась поэтичной. Я действительно позволяла себе думать о вещах в такой манере.
Вечная тишина этих бескрайних пространств пугает меня. Так, например, я думала о них.
В некотором роде я думала о них так.
Вообще-то я подчеркнула это предложение в книге, называвшейся «Мысли», когда училась в колледже.
Несомненно, я подчеркнула предложение про бескрайнее небытие в чьей-то чужой книге тоже.
Кошка, которую Пинтуриккьо поместил на картине рядом с ткущей Пенелопой, могла быть серой, как мне кажется.
Однажды мне приснилось, что я знаменита.
В общем и целом даже тогда я была одинокой.
Позже сегодня я, наверное, буду мастурбировать.
Я не имею в виду сегодня, потому что уже наступило завтра.
Ну, завтра уже наступило в том смысле, что я уже наблюдала закат и спала после того, как начала печатать эти страницы. А начала я вчера.
Пожалуй, мне следовало это уточнить.
Когда лес стал погружаться в тень и этот угол потемнел, я переместилась в кухню, съела еще черники, а затем поднялась наверх.
Вчерашний рассвет был абстрактным экспрессионистским рассветом. Прошло уже около недели с тех пор, как я последний раз наслаждалась Тёрнером.
Я не часто мастурбирую. Хотя вообще-то временами я делаю это, практически не осознавая.
В дюнах, наверное. Когда просто сижу, убаюкиваемая прибоем.
Сейчас отлив, вот и все.
Подозреваю, однако, что за рулем я тоже это делала.
Я вполне уверена, что однажды мастурбировала по дороге в Ла-Манчу, недалеко от замка, который я видела столько раз, но к которому так и не подъехала.
Почему я не подъехала к замку, можно объяснить.
Объясняется это тем, что замок был построен на холме, а дорога шла широким кольцом вокруг подножия холма, на котором был построен замок.
Весьма вероятно, что вокруг этого замка можно было ехать бесконечно, так и не добравшись до него.
Пока я его не увидела, я думала, что воздушные замки — просто расхожая фраза про Испанию.
Замки там есть.
Где-то рядом с Савоной, которая не в Испании, а в Италии, я однажды съехала с дороги.
Часть набережной обвалилась. Это на морском побережье — то, о чем я рассказываю, поэтому если съезжаешь с набережной, то оказываешься в воде.
Я смотрела не на замок, а на воду, несомненно.
Вообще-то машина перевернулась.
Болело только плечо, спустя несколько мгновений.
Да, то самое плечо, что сейчас поражено артритом, между прочим. Я никогда не прослеживала эту связь раньше.
Возможно, никакой связи и нет.
Так или иначе, машина начала заполняться водой.
Интересно, что я ничуть не испугалась. Или, возможно, я просто осознала, что не сильно поранилась, и это меня успокоило.
Тем не менее я понимала, что открыть дверь и выбраться будет разумным решением в сложившихся обстоятельствах.
Открыть дверь я не могла.
Все это время я была на крыше машины, кстати.
То есть с внутренней стороны крыши, само собой. А на мне лежал упавший с пола резиновый коврик.
Не помню, машину какой марки я тогда водила.
Ну, в любом случае, в тот момент я уже ее не вела.
Что я делала, так это пыталась выползти через противоположную дверь.
Вода поднялась только до верхних ремешков моих сандалий.
Тем не менее этот опыт привел меня в ужас.
Я осознаю, что ранее сказала, что ничуть не испугалась.
Дело в том, что я не испугалась, когда это случилось.
Как только я выбралась обратно на набережную и увидела перевернутую машину в воде, это напугало меня очень сильно.
Не могу с уверенностью сказать, мастурбировала ли я, когда не заметила обрушившейся набережной.
А также ехала ли я в сторону Савоны или уже миновала ее.
Вполне определенно можно сказать, что я ехала в Италию, а не из нее, потому что если ехать в Италию вдоль побережья, то море будет справа, а именно в эту сторону я и упала в него.
Даже если я совершенно не помню, что когда-то ехала в Италию в том направлении, о котором я говорю.
Несомненно, отчасти это из-за возраста, который стирает такие нюансы.
В конце концов, мне вполне может быть далеко за пятьдесят.
Опять же зеркало мало помогает. Тут нужен какой-то критерий, поле сравнения.
На том столике у кровати моей матери в последние недели лежало крошечное карманное зеркальце.
Ты даже не представляешь себе, как много для меня значит то, что ты художница, Кейт, сказала она однажды вечером.
В этом доме нет художественных принадлежностей.
На самом деле был один холст на стене, когда я приехала. Прямо над и чуть сбоку от того места, где сейчас стоит печатная машинка вообще-то.
На картине этот самый дом, хотя мне понадобилось несколько дней, чтобы это осознать.
Не потому, что это было неадекватное его изображение, но потому, что мне тогда еще не довелось посмотреть на дом с той точки.
Я уже перенесла картину в другую комнату к тому моменту, как узнала его.
И все же я считала, что нарисован этот дом.
Решив, что это так или что так кажется, я не возвращалась в ту комнату, чтобы подтвердить свой вывод.
Я не часто захожу в другие комнаты и поэтому закрыла двери в них.
Ничего странного в том, что я их закрыла, не было. Возможно, я закрыла их лишь потому, что не хотела подметать.
Залетавшие в них листья и тополиный пух.
Эта комната довольно большая. Снаружи есть терраса, окружающая дом с обеих сторон и смотрящая одновременно на лес и на дюны.
Из пяти закрытых дверей две наверху.
Это не считая ванной, где есть зеркало.
Более того, в тех других комнатах тоже могут быть картины. Я могла бы проверить.
В закрытых комнатах нет картин. По крайней мере, в тех трех комнатах, что на первом этаже.
Хотя я только что перенесла картину, изображающую дом.
Приятно иметь на стенах живопись.
В гостиной моей матери, в Бейонне, Нью-Джерси, было несколько моих собственных картин. Две из них были портретами — ее и моего отца.
У меня так и не хватило храбрости спросить ее, не хочет ли она убрать это зеркало.
Однако в один прекрасный день зеркало пропало.
По правде говоря, я редко писала портреты.
Портреты матери и отца теперь находятся в Метрополитен-музее, в одной из главных картинных галерей на втором этаже.
Ну, вообще-то все мои картины сейчас в галереях Метрополитен.
Что я сделала, так это расставила их между холстами постоянной экспозиции, везде, где хватало места.
Некоторые чуть перекрыли те другие, но в основном только в нижнем углу.
Очень вероятно, однако, что мои с тех пор сильно покоробились.
Это оттого, что они столько лет были прислонены к стенам, а не висели на них.
Ну и часть из них даже никогда не имели рам.
Но опять же, когда я говорю о своих картинах, я имею в виду лишь те, что не были проданы, естественно.
Хотя некоторые были на групповых выставках или в аренде.
Одну из них я увидела совершенно случайно в Риме, кстати говоря.
Я даже почти забыла об этом. А еще, в окне муниципальной галереи рядом с виа Витторио-Венето был плакат с моим именем.
Честно говоря, мое внимание сначала привлекло имя Луизы Невельсон. Но все равно.
Сидя в автомобиле с английскими номерами и правым рулем, всего лишь днем спустя, я смотрела, как пьяцца Навона утопает в снегу, что наверняка большая редкость.
На заре эпохи Возрождения, но тоже в Риме, Брунеллески и Донателло бродили по руинам, измеряя их с такой тщательностью, что люди сочли их безумцами.
Но после этого Брунеллески вернулся в родную Флоренцию и создал крупнейший с античных времен купол.
Да, это и было одной из причин, почему тот период назвали Возрождением, разумеется.
Джотто построил прекрасную колокольню рядом с тем собором.
Однажды, когда Джотто попросили представить образец своей работы, он представил круг.
Ну, суть в том, что это был идеальный круг.
И что Джотто начертил его от руки.
Когда умер мой отец, чуть меньше чем через год после матери, я наткнулась на то самое крошечное зеркальце в ящике со старыми фотографиями.
Настоящий снег выпадает в Риме не чаще одного раза за несколько лет, между прочим.
Примерно так же редко Арно выходит из берегов во Флоренции. Впрочем, возможно, никакой связи тут нет.
Хотя не исключено, что Леонардо да Винчи, Андреа дель Сарто или Таддео Гадди за всю жизнь ни разу не видели, как мальчишки играют в снежки.
Если бы они родились позже, то смогли бы увидеть это на картинах Брейгеля, по крайней мере.
Кстати, я склонна верить в историю о Джотто и круге. В некоторые истории приятно верить.
Я также верю, что однажды встретила Уильяма Гэддиса. Он не был похож на итальянца.
Напротив, я не верю ни в единое слово о том, что я написала несколькими строками выше о Леонардо да Винчи, Андреа дель Сарто и Таддео Гадди, которые якобы никогда не видели снега, ведь это просто смешно.
Также я уже не помню, наткнулась ли я на плакат со своим именем до или после того, как увидела кота в Колизее.
Кот в Колизее был рыжим, если я еще не уточняла, и одноглазым.
На самом деле этот кот был далеко не красавец, и все равно мне не терпелось увидеть его снова.
У Саймона был кот когда-то. Которому мы никак не могли придумать имя.
Кот — только так мы его и звали.
Здесь, когда выпадает снег, деревья вырисовывают странные узоры на фоне белизны. Само небо часто белое, и дюны скрыты, и пляж тоже белеет до самой кромки воды.
Поэтому в некотором смысле все, что я вижу, напоминает тот мой трехметровый холст с четырьмя слоями грунтовки.
Время от времени, однако, я развожу костры на пляже.
Чаще всего я склонна делать это осенью или ранней весной.
Однажды, разведя костер, я начала вырывать страницы из книги, поджигать их и бросать по ветру, чтобы посмотреть, не заставит ли он их взлететь.
Большинство страниц упали прямо рядом со мной.
Книгой была биография Брамса, кособоко стоявшая на одной из полок и непоправимо испорченная сыростью. Впрочем, она была напечатана на чрезвычайно дешевой бумаге, если уж на то пошло.
Между прочим, когда я говорю, что иногда слышу музыку в голове, то часто я даже знаю, чей голос звучит, если музыка вокальная.
Я не помню, однако, кто пел вчера «Рапсодию для альта».
Я не читала биографию Брамса. Но думаю, что в этом доме есть одна книга, которую я прочла с тех пор, как приехала.
На самом деле, можно сказать, две книги, поскольку это был двухтомник древнегреческих пьес.
Хотя, где я действительно читала ту книгу, так это в другом доме, дальше по пляжу, который я спалила дотла. Единственной книгой, в которую я заглядывала в этом доме, был атлас. Хотела проверить, где находится Савона.
Честно говоря, я сделала это не больше десяти минут назад, когда решила вернуть сюда картину, изображающую дом.
Вот только я теперь не уверена, является ли она картиной этого дома или просто какого-то дома, очень похожего на этот.
Атлас стоял на полке, прямо за картиной, которая была к ней прислонена.
И рядом с биографией Брамса, напечатанной на чрезвычайно дешевой бумаге, стоящей кособоко и непоправимо испорченной.
По-видимому, то была совсем другая книга, из которой я вырывала и поджигала страницы, чтобы воспроизвести чайку.
Если только, конечно, в этом доме не было двух биографий Брамса, напечатанных на дешевой бумаге и поврежденных сыростью.
Кэтлин Ферриер — вот кто пел «Рапсодию для альта».
Полагаю, не обязательно объяснять, что любая версия музыки, звучащая в моей голове, будет той версией, что лучше всего мне знакома.
В Сохо у меня была старая пластинка «Рапсодии для альта» с Кэтлин Ферриер.
А сейчас кусок липкой ленты снова пытается оторваться от окна соседней комнаты и шуршит, словно кошка.
Чайке имя не дают.
Однажды, когда я вслух читала греческие пьесы, некоторые строки звучали так, будто были написаны под влиянием Уильяма Шекспира.
Любой бы пришел в недоумение, как это Эсхил или Еврипид могли читать Шекспира.
Я вспомнила анекдот об одном греческом авторе, заметившем, что будь он уверен в жизни после смерти, то охотно повесился бы, чтобы встретиться с Еврипидом. По сути, однако, анекдот этот был ни к чему.
Наконец меня осенило, что переводчик наверняка читал Шекспира.
В иных обстоятельствах я бы не сочла это знаменательным озарением, не считая того факта, что я была определенно безумна, когда читала пьесы.
По правде говоря, я лишь сейчас осознала, что, возможно, вовсе не готовила, когда спалила дотла тот, другой, дом, а как раз бросала в огонь лист за листом из «Троянок», прочитав их с обеих сторон.
В то же время я понятия не имею, зачем сказала, что сожгла биографию Брамса, ведь и десяти минут не прошло, как я указала, что биография Брамса стоит рядом с атласом, за картиной.
Некоторые вопросы остаются без ответа.
Такие, как, например, о чем мог думать мой отец, глядя на старые фотографии, а затем в зеркало рядом с маминой кроватью.
Или можно ли было добраться до замка или нет, продолжая ехать по той дороге.
Ну, что касается последнего примера, то там в конце был съезд.
К замку — так, наверное, было написано на знаке.
На джипе можно было бы направиться прямиком вверх по холму, а не держаться дороги.
Между тем в Ла-Манче, если смотришь на замки, нельзя не вспомнить о Дон Кихоте, конечно же.
Точно так же как невозможно не вспомнить об Эль Греко в Толедо, пусть даже Эль Греко не был испанцем.
Однако слишком часто можно услышать, что о нем говорят как об испанце.
Знаменитые испанские художники, например Веласкес, Сурбаран или Эль Греко... — примерно такого рода фразы приходится слышать.
И напротив, крайне редко можно услышать, что о нем говорят как о греке.
Знаменитые греческие художники, например Фидий, Феофан Грек или Эль Греко... — такого рода фразы почти никогда не услышишь.
И все же нетрудно представить, что Эль Греко является прямым потомком кого-то из тех, других греков, если хорошенько подумать.
Конечно, можно было легко потерять нить, за столько-то лет. Но кто возразит, что она не уходит еще дальше в прошлое, скажем, к Ахиллесу, почему нет?
Я почти уверена, что у Елены был хотя бы один ребенок, по меньшей мере.
А на картине все-таки изображен этот дом.
Более того, в нем даже есть кто-то — у самого окна, наверху, через которое я наблюдаю закат.
Я совсем не замечала ее прежде.
Если это она. Мазки довольно абстрактны в том месте, так что это скорее намек на фигуру.
Тем не менее мне вдруг стало интересно, кто мог притаиться в окне моей спальни, пока я печатаю прямо тут, внизу.
Да, в то же самое время — на стене сверху, наискосок от меня.
Все это не стоит понимать буквально, разумеется.
Хотя я только что закрыла глаза и поэтому могла бы вдобавок сказать, что в этот самый момент фигура находится не только на втором этаже и на стене, но еще и в моей голове.
Если бы я вышла из дома, встала там, откуда видно окно и проделала то же самое снова, то расстановка могла бы стать намного сложнее.
Если на то пошло, я только сейчас заметила на картине кое-что еще.
Дверь, через которую я обычно вхожу в дом и выхожу на террасу, открыта.
Не ранее как две минуты назад я эту самую дверь закрыла.
Разумеется, никакое мое действие, вроде этого, ничего не меняет в картине.
Тем не менее я снова только что закрыла глаза, пытаясь представить дом на картине с закрытой дверью.
В этой версии картины в своей голове мне не удалось закрыть дверь.
Если бы у меня остались краски, я могла бы сама нарисовать закрытую дверь на картине, начни это тревожить меня всерьез.
В этом доме нет художественных принадлежностей.
Однако когда-то здесь, без сомнения, должны были быть всевозможные принадлежности такого рода.
Ну, за исключением тех, что она отнесла в дюны — где еще художнице их хранить?
Теперь я вдобавок сделала художника женщиной. Наверняка это из-за моего стойкого ощущения, что в окне женщина.
Но, так или иначе, можно предположить, что в доме на картине должны иметься какие-нибудь художественные принадлежности, пусть даже их и не видно на самой картине.
На самом деле столь же вероятно и то, что в доме есть также другие люди — выше и за спиной женщины у моего окна.
Впрочем, другие люди вполне могут быть на пляже, ведь на картине летний вечер, но не позже четырех часов.
Таким образом, далее приходится задаться вопросом, почему женщина в окне сама не пошла на пляж, если уж об этом зашла речь.
Хотя, поразмыслив, я решила, что женщина запросто может быть ребенком.
Поэтому ее, возможно, оставили дома в наказание за проступок.
Или, быть может, она даже заболела.
Не исключено, что у окна на холсте вообще никого нет.
В четыре часа я попытаюсь определить, с какого именно места в дюнах художница взяла перспективу, а затем посмотрю, как там падают тени.
Пусть даже мне придется угадывать, когда наступит четыре часа, ведь в этом доме нет ни настенных, ни наручных часов.
Однако все, что нужно сделать, это сравнить реальные тени на доме с теми, что изображены на картине.
Хотя, возможно, реальные тени у окна, когда я выйду, ничего не прояснят насчет картины.
Возможно, я не стану выходить.
Кстати говоря, однажды я думала, что видела кого-то у настоящего окна.
Это было в Афинах, когда я все еще искала, так что произошло, можно сказать, целое событие.
Да. Куда большее событие, чем даже кот в Колизее.
На самом деле Акрополь тоже был виден из того окна.
А окно выходило на улицу с множеством таверн.
Тем не менее, когда солнце доходило до такого угла, под которым Фидий брал перспективу, Парфенон казался почти сияющим.
Вообще-то лучшее время наблюдать за этим — тоже четыре часа дня.
Несомненно, что дела лучше шли у тех таверн, из которых открывался этот вид, хотя все они располагались на одной и той же улице.
Если только, конечно, им не покровительствовали люди, которые жили в Афинах так давно, что уже устали от его созерцания.
Подобное случается. Как, например, в случае с Ги де Мопассаном, который каждый день обедал в ресторане на первом этаже Эйфелевой башни.
Ну, в том смысле, что это было единственное место в Париже, где он мог ее не видеть.
Хоть убейте, но я не представляю, откуда мне это известно. Точно так же как не представляю, откуда я знаю, что Ги де Мопассану нравилась гребля.
Когда я сказала, что Ги де Мопассан каждый день обедал в ресторане в Эйфелевой башне, потому что тут он мог ее не видеть, я имела в виду, что он не хотел смотреть на башню, разумеется.
Язык часто оставляет место для подобных неточностей, как я обнаружила.
Впрочем, у меня самой, оказывается, есть шлюпка.
Время от времени я сажусь за весла и преодолеваю немалое расстояние.
За бурунами течения берут на себя почти всю работу.
А вот грести назад может быть тяжело, если окажешься слишком далеко.
Вообще-то это моя вторая шлюпка.
Первая исчезла.
Несомненно, я плохо ее закрепила на берегу. Однажды утром или, возможно, днем ее просто там не оказалось.
Несколькими днями спустя я прошла по пляжу намного дальше обычного, но так и не нашла ее.
Вряд ли это единственная дрейфующая лодка, конечно же, если она все еще дрейфует.
Вспомнить хотя бы тот кеч в Эгейском море.
Порой, однако, мне нравится думать, что ее уже унесло на другую сторону океана. Скажем, к Канарским островам, Кадисскому заливу или побережью Испании.
Да и вообще, кто может утверждать, что кеч не добрался до самого Скироса?
Не могу вспомнить название улицы с теми тавернами.
Не исключено, что я никогда и не знала названия ни одной афинской улицы, ведь я совсем не говорю по-гречески.
Это, впрочем, значит, что я и не читаю по-гречески тоже, естественно.
Хочется, конечно, считать, что греки в этом деле проявляли изобретательность.
Проспект Пенелопы — вот, например, приятное название. Или улица Кассандры.
Во всяком случае, бульвар Аристотеля должен быть точно. Или площадь Геродота.
Почему я предположила, что Парфенон построил Фидий, хотя это сделал некто по имени Иктин?
Хотя я часто подчеркивала предложения в книгах, которые нам не задавали, я на самом деле хорошо успевала в колледже.
Настолько, что даже могла на итоговых экзаменах назвать материал полов в таких сооружениях.
Но о каком же стихе тогда я сейчас думаю, в котором певчих птиц сладость, на прилавках магазинов, людям в пищу?[1]
Кажется, так: на прилавках магазинов на улице Глупости?
Едва ли я уже упоминала Кассандру на этих страницах, если подумать. Назову-ка я улицу с тавернами улицей Кассандры.
Так или иначе, это явно подходящее название для улицы, на которой я, кажется, видела кого-то в окне.
Ну, тем более если кто-то за ним прятался.
Или, возможно, я выстроила эту связь из-за одной лишь мысли о том, что кто-то мог затаиться у моего окна на картине?
Тем не менее, на самом деле, именно затаившейся у такого вот окна легко нарисовать в воображении Кассандру, которую Агамемнон привез среди своих трофеев из Трои.
Даже когда Клитемнестра приветствует Агамемнона и предлагает ему приятную горячую ванну, легко представить ее именно так.
Да, причем Кассандра еще и все провидит. Поэтому даже без окна, у которого можно было бы затаиться, она все равно бы знала о тех мечах рядом с купальней.
Впрочем, никто никогда не обращал внимания на то, что говорила Кассандра.
Ну, в этих своих безумных трансах.
Да и улицы в ее честь в Афинах быть не могло, разумеется. Точно так же как не могло там быть улицы, названной в честь Гектора или Париса.
Хотя, с другой стороны, не исключено, что отношение людей изменилось, после стольких лет.
На перекрестке улиц Кассандры и Эль-Греко, в четыре часа пополудни, я увидела, что кто-то затаился у окна.
Никого не было в том окне, которое оказалось окном магазина художественных принадлежностей.
То был небольшой натянутый холст, покрытый грунтовкой, в котором отразилась моя фигура, когда я проходила мимо.
Но все равно, я едва не почувствовала себя! В разгар всех этих поисков.
Хотя, по правде сказать, свое отражение я вполне могла увидеть в витрине книжного магазина.
В любом случае эти два магазина примыкали друг к другу. Я предпочла зайти в книжный.
Все книги в магазине были на греческом, естественно.
Возможно, некоторые из них я даже читала по-английски, хотя, разумеется, я не могла знать, какие именно.
Возможно, одна из них даже была греческим изданием пьес Шекспира. Переведенных кем-то, кто очень вдохновлялся Еврипидом.
«Грунтовка» — такое глупое слово, подумала я сейчас, печатая его.
Мои холсты, очевидно, не покоробило бы, если бы я не прострелила дырки в стеклянной крыше.
Однако если бы дым застаивался, то жить зимой в Метрополитен-музее было бы тяжело.
Вообще-то не мудрено и загрустить, если зашел в магазин, полный книг, ни одну из которых невозможно узнать.
Книжный магазин на улице вниз от Акрополя опечалил меня.
Хотя теперь я категорически решила, что эта картина не является изображением моего дома.
Несомненно, это изображение другого дома, дальше по пляжу, который сгорел.
Сказать по правде, я теперь уже совсем не могу вызвать в памяти образ того, другого, дома.
Хотя, возможно, этот и тот дом были одинаковы. Или очень похожи, во всяком случае.
С домами на пляже часто так бывает, ведь их строят люди с очень близкими вкусами.
Хотя на самом деле я не вполне уверена, что та картина по-прежнему на стене возле меня, ведь я сейчас не смотрю на нее.
Не исключено, что я отнесла ее обратно в комнату с атласом и биографией Брамса. Я отчетливо ощущаю, что она именно для этого всплыла в моем сознании.
Картина все-таки на стене.
И, по крайней мере, мы выяснили, что это была не биография Брамса, а какая-то другая книга, из которой я вырывала и жгла страницы на пляже.
Если только, как я предположила, кто-то в этом доме не владел двумя биографиями Брамса, и обе были напечатаны на дешевой бумаге и испортились от сырости.
Или они принадлежали двум разным людям, что, пожалуй, более вероятно.
Возможно даже, что эти два человека не очень- то дружили. Однако их обоих интересовал Брамс.
Возможно, один из них был художником. Да, а другой — тем человеком в окне, почему бы и нет?
Возможно, что художница, будучи пейзажистом, не хотела изображать другого человека. Но, возможно, другой настоял на том, чтобы позировать в окне.
Очень даже возможно, что именно это заставило их разозлиться друг на друга, если уж на то пошло.
Если бы художница закрыла глаза или просто отказалась смотреть, был бы там другой человек у окна?
Можно также спросить: был бы там сам дом?
И зачем я снова закрыла глаза?
Я все равно осязаю печатную машинку, естественно. И слышу стук клавиш. А также я осязаю этот стул сквозь трусы.
Делая это в дюнах, художница ощущала бы бриз. И чувствовала солнечный свет.
Ну, и еще она бы слышала прибой.
Вчера, когда я слушала, как Кирстен Флагстад поет «Рапсодию для альта», что именно я слышала?
Зима, когда все покрывается снегом, и остаются только странные закорючки голых деревьев, немного похожа на то, когда закрываешь глаза.
Конечно же, реальность меняется.
Однажды утром вы просыпаетесь, а цвета больше не существует.
И тогда все, что можно видеть, напоминает тот мой девятифутовый холст, с его непроницаемыми четырьмя белыми слоями штукатурки и клея.
Я это сказала.
Тем не менее чувство практически такое, как если бы можно было раскрасить весь мир, в какой угодно манере.
Позволив своей кисти немного абстракции в окне или нет.
Хотя, возможно, что это Кассандру я намеревалась изобразить на тех сорока пяти квадратных футах, а не Электру.
Пусть даже мне всегда нравилась та часть, в которой Орест наконец возвращается после стольких лет, а Электра не узнает собственного брата.
Чего ты хочешь, странный человек? Так, я думаю, говорит ему Электра.
Да, подозреваю, что сейчас я думаю об опере.
На пересечении авеню Рихарда Штрауса и улицы Иоганна Брамса в четыре часа дня кто-то окликнул меня по имени.
Ты? Неужели это ты?
Представьте себе! Именно здесь!
Это был всего лишь Парфенон, я совершенно уверена, такой красивый в лучах полуденного солнца, затронувший мои душевные струны.
Не где-нибудь, а в Греции, откуда вышли все искусства и все истории.
Тем не менее какое-то время мне почти хотелось рыдать.
Может быть, я и рыдала, в тот самый день.
Хотя, возможно, это была еще и усталость, за завесой безумия, которая защищала меня, но испарилась в тот день.
Однажды после полудня вы видите Парфенон, и этого взгляда оказывается достаточно, чтобы ваше безумие моментально испарилось.
Рыдая, вы ходите по улицам, названия которых не знаете, а кто-то выкрикивает ваше имя.
Я забежала в переулок, который был на самом деле тупиком.
Это точно ты!
У меня и оружие имелось. Мой пистолет, для стеклянной крыши.
Ну, когда я искала, я почти всегда носила его с собой.
Искала в отчаянии, как я уже говорила.
Но все-таки, опять же, никогда не зная, кого найдешь.
До самых сумерек я не выходила из переулка.
И смотрела на свое отражение в окне магазина художественных принадлежностей, выделявшееся на фоне маленького натянутого холста.
Честно говоря, одна книга в магазине по соседству все-таки оказалась на английском языке.
Это был атлас — определитель птиц южного Коннектикута и Лонг-Айленда.
Спала я в машине, которой пользовалась в то время. То есть в фургоне «фольксваген» с музыкальными инструментами.
Кэтлин Ферриер, вполне возможно, умерла еще до того, как я купила ту старую пластинку, так мне теперь кажется.
Не помню, однако, что я собиралась этим подтвердить.
Завеса безумия — ужасно претенциозное для меня выражение, между прочим.
На следующее утро я поехала против часовой стрелки, горными дорогами, в сторону Спарты, которую хотела посетить перед отъездом в Грецию.
Не подумав заглянуть в книгу про птиц, в которой могло говориться о чайках.
На полпути к Спарте у меня начались месячные.
Сколько я живу, моим месячным всегда удается застать меня врасплох.
Даже несмотря на то, что я, как правило, в течение нескольких дней до их наступления находилась в плохом настроении, которое я почти неизменно приписывала другим причинам.
Так что, без сомнения, разрыдаться меня заставил все-таки не Парфенон.
И даже, определенно, не временное ослабление моего безумия.
Новое, очевидно, уже было на подходе.
Итак, кто-то окликнул меня по имени.
Я до сих пор менструирую, между прочим, хотя и нерегулярно.
Или оставляю пятна. На протяжении целых недель подряд.
А потом менструаций может не приходить несколько месяцев.
В «Илиаде» или любой другой пьесе нет, естественно, ни слова о менструации.
В «Одиссее» тоже. Так что, без сомнения, ее все-таки писала не женщина.
Перед тем как я вышла замуж, моя мать узнала, что мы с Терри спали вместе.
Кто-нибудь еще был, до Терри? Так звучал один из первых вопросов, которые тогда задала мне моя мать.
Я сказала ей, что был.
Знает ли Терри?
Я и на это ответила утвердительно.
Ах ты дура малолетняя, сказала моя мать.
Шли годы, и я часто ощущала сильную грусть, на протяжении большей части жизни, которую прожила моя мать.
Однако что хоть кто-то из нас действительно когда-либо знает?
Я не знаю, почему это напоминает мне о том случае, когда из-за месячных я упала с центральной лестницы в Метрополитен-музее и сломала лодыжку.
На самом деле, возможно, она была не сломана, а только вывихнута.
Тем не менее на следующее утро она распухла и стала вдвое больше своего нормального размера.
Вот я была на полпути вверх по лестнице, а вот уже представляю себя Икаром.
Что я делала — несла этот монструозный холст, который был чрезвычайно громоздким.
Такого монстра следует нести, взяв за внутренние перекладины с оборотной стороны каркаса, а это означает, что вы никоим образом не можете видеть, куда ступаете.
Тем не менее я полагала, что справлюсь. До тех пор, пока эта штуковина не выскользнула у меня из рук.
Возможно, что причиной этого стал ветер, ведь в музее к тому времени было много других разбитых окон, помимо тех, что я продырявила нарочно.
Кроме того, по всей видимости, это был ветер снизу, ведь холст, казалось, приподняло передо мной. А затем подняло еще выше.
Примечательно, однако, что вскоре он уже был подо мной.
Боль была мучительная.
Из меня хлещет — вот, однако, что я подумала сначала. А у меня даже нет трусов под этой юбкой.
Честно говоря, на самом деле я думала об этом двумя секундами раньше.
И поэтому, естественно, чуть изменила позу, чтобы сомкнуть бедра.
Забыв на то же самое мгновение, что несу сорок пять квадратных футов холста, на каркасе, вверх по каменной лестнице.
Оглядываясь назад, можно сказать, что отсутствие ветра все-таки не кажется маловероятным.
И опять же, все это произошло, разумеется, без какого-либо предупреждения.
Хотя, без сомнения, я чувствовала себя не в своей тарелке уже несколько дней, что неизменно объясняла другими причинами.
В музее, конечно, имелись костыли и даже инвалидные кресла, как раз для таких чрезвычайных ситуаций.
Ну, возможно, не совсем для таких.
Так или иначе, все они находились на первом этаже, наряду с другими предметами первой помощи.
Мне было бы намного проще доползти до верха лестницы, чем спускаться вниз.
Впрочем, большая часть моих личных вещей тоже находилась внизу. Кажется, я уже упоминала, что на тот момент еще не избавилась от личных вещей.
Очень скоро я на удивление ловко научилась маневрировать своей коляской.
Даже носилась с одного конца главного этажа до другого, когда появлялось настроение.
От греческих и римских древностей к египетским, или — вжих! — и вот уже я еду вокруг храма Дендур.
Часто даже под музыку Берлиоза или Игоря Стравинского.
Время от времени меня беспокоит боль в одной лодыжке.
Если точнее, то это происходит, как правило, только из-за погоды.
С другой стороны, я никак не могу вспомнить, зачем я пыталась поднять тот холст вверх по лестнице.
Чтобы рисовать на нем — было бы естественным предположением.
Хотя опять, за несколько месяцев так ничего и не нарисовав на нем, я, возможно, хотела отнести его туда, где он не напоминал бы мне постоянно о том, чего я не сделала.
Холст размером девять на пять футов не так-то просто игнорировать.
Несомненно, я что-то имела в виду, так или иначе.
Здесь, в пикапе, есть кассетная магнитола, как я сейчас помню.
Однако, кажется, нет ни одной кассеты.
Однажды, сменив транспортное средство у каких-то теннисных кортов в Байонне, во Франции, я повернула ключ зажигания и услышала «Четыре строгих напева» Брамса.
Хотя я, возможно, думаю о «Четырех последних песнях» Рихарда Штрауса.
В любом случае, это не было пение Кэтлин Ферриер.
На самом деле довольно большой процент транспортных средств, попадающихся на пути, оснащен кассетными магнитолами, многие из которых застыли в таком же включенном положении.
Однако мне редко приходило в голову обратить на это хоть какое-то внимание.
Очевидно, что в такие моменты человека больше всего интересует, функционирует ли до сих пор аккумулятор.
При условии, что человек уже определил, что в транспортном средстве есть ключ и бензин.
Кирстен Флагстад пела в городе Байонне. То есть на самом деле в Бордо.
Честно говоря, обычно ты настолько доволен, если автомобиль завелся и поехал, что далеко не сразу замечаешь, играет магнитола или нет.
Или, по крайней мере, ты успеваешь перед этим преодолеть все те препятствия, из-за которых и пришлось менять транспортное средство.
Часто это приходится делать на мостах. Один жалкий автомобиль может сделать среднестатистический мост непреодолимым.
Вдобавок я несколько лет привычно мучилась со своим багажом, перенося его из одного автомобиля в другой. В некоторых поездках я даже возила с собой ручную тележку.
Пока я жила в Метрополитен-музее, я в конце концов расчистила несколько подъездных путей.
Ну, или иногда садилась в «ленд-ровер» и ехала прямиком через газоны Центрального парка.
Сейчас уже нет никаких проблем в связи с фамилией мужа, кстати. Даже если я и не видела его после расставания из-за смерти Саймона.
Вообще-то тележка есть и в подвале этого дома.
Она не моя собственная, так как теперь я редко пользуюсь такими приспособлениями. Скорее всего, она уже была здесь, когда я приехала.
А еще в подвале есть восемь или девять картонных коробок с книгами, в дополнение к многочисленным книгам в разных комнатах.
Ручная тележка сильно проржавела, как и несколько велосипедов.
В подвале еще сырее, чем в остальной части дома. Я держу эту дверь закрытой.
Вход в подвал находится в задней части дома, ниже песчаной насыпи, так что его не видно на картине.
Перспектива картины взята с близкого расстояния, если я это еще не уточнила.
Кроме того, в подвале есть несколько бейсбольных мячей, на полке.
Еще там хранится газонокосилка, хотя есть только один участок травы, совсем маленький, сбоку от дома, который, как можно себе представить, когда-то стригли.
Этот участок, впрочем, действительно кажется различимым на картине.
Теперь я понимаю, что его и правда стригли в тот период, когда художница писала картину.
Вот ведь какие вещи со временем начинаешь осознавать.
Кстати, я вспомнила, что, по моему убеждению, предложение, которое пришло мне в голову вчера или позавчера, о скитании по бескрайнему небытию, написал Фридрих Ницше.
Пусть даже, также по моему убеждению, я не прочла ни слова, написанного Фридрихом Ницше.
Я уверена, однако, что когда-то читала «Грозовой перевал», и упоминаю об этом, поскольку я, кажется, в состоянии вспомнить о нем лишь то, что люди постоянно смотрят в окна или из окон.
Между прочим, книгу под названием «Мысли» написал Паскаль.
Также я вроде бы не упоминала, что печатаю уже на другой день, поэтому и выразила неуверенность относительно того, цитировала ли я Фридриха Ницше вчера или позавчера.
Я не делала никаких пометок, где прервалась, а просто оставила этот лист в машинке.
Возможно, я прервалась на том, что подошла к бейсбольным мячикам в подвале, так как тема бейсбола всегда казалась мне скучной.
Затем я пошла на прогулку по пляжу, до другого дома, который сгорел.
Вчерашний закат был закатом Винсента Ван Гога, с известной долей тревожности в нем.
Может быть, я просто думаю о потеках краски.
Вообще-то я не раз задавалась вопросом, почему те книги лежат в подвале, а не наверху вместе с остальными.
Места достаточно. Многие из полок здесь наверху наполовину пусты.
Хотя, несомненно, когда я говорю, что они наполовину пусты, я должна была бы сказать, что они наполовину заполнены, так как, вероятно, они были совершенно пусты, прежде чем кто-то заполнил их наполовину.
Впрочем, опять же не исключено, что они когда-то были заполнены полностью и стали наполовину пусты только тогда, когда кто-то убрал половину книг в подвал.
Я нахожу этот второй вариант менее вероятным, чем первый, хотя его нельзя совсем отбросить.
В любом случае, нынешнее состояние полок объясняет то, почему так много книг в доме стоят завалившись или криво. И, таким образом, оказались непоправимо деформированы.
«Бейсбол, когда трава была настоящая»[2] — так, кажется, называлась одна из них.
В этом случае, надо признать, значение названия вызывает, как минимум, легкое любопытство.
Не то чтобы это чрезвычайно любопытно, ведь бейсбол есть бейсбол, но, по крайней мере, слегка любопытно.
Вообще-то я, пожалуй, начну косить свою траву, которая, несомненно, реальна, хотя и непомерно высока.
Я не могу косить траву. Не этой газонокосилкой, которая проржавела так же сильно, как пикап и велосипеды.
У меня есть другие велосипеды вообще-то.
Один из них точно находится рядом с пикапом. Другой может быть на заправке, в городе.
Был еще велосипед в тупике у Акрополя, как помнится.
Возможно, книги в подвале являются запасными.
То есть как две биографии Брамса. Даже если обе они хранились наверху.
Кстати, у окна дома на картине никого нет.
Теперь я пришла к выводу, что пятно, казавшееся мне человеком, является тенью.
Если это не тень, то, возможно, занавеска.
На самом деле это могло быть просто попыткой намекнуть на глубину там, внутри комнаты.
Хотя, так сказать, все, что есть в том окне, — лишь пятнышко жженой сиены. И немного желтой охры.
Более того, самого окна тоже нет, если выражаться в том же духе, а есть только форма.
Так что все предположения, которые я сделала о человеке в окне, теперь, очевидно, становятся бессмысленными.
Если только, конечно, мне впоследствии не придется убедиться в том, что в окне все же кто-то есть, снова.
Я выразилась неудачно.
Я хотела сказать, что, возможно, у меня снова появится убеждение, что в окне кто-то есть, а не в то, что кто-то был в окне и ушел, но может вернуться.
В любом случае, очевидно, что мое собственное измененное восприятие вроде этого ничего не меняет в картине.
Так что, возможно, мои предыдущие рассуждения все-таки остаются в силе.
Я очень слабо представляю, что имела в виду.
Едва ли можно рассуждать о человеке, которого нет.
Однако нельзя отрицать, что такие рассуждения имели место быть.
Два дня назад, когда я слушала Кэтлин Ферриер, что именно я слышала?
Вчера, когда я рассуждала о человеке у окна на картине, о чем именно я рассуждала?
Я только что вернула картину в комнату с атласом и биографией Брамса.
Вообще-то я проспала еще одну ночь.
Я упоминаю об этом сейчас только потому, что в некотором смысле теперь можно сказать, что послезавтра наступило очень быстро.
Некоторые вопросы, однако, так и будут казаться неразрешимыми.
Такие как, например: если я пришла к выводу, что на картине нет ничего, кроме форм, делаю ли я также вывод о том, что на этих страницах нет ничего, кроме букв алфавита?
Если бы человек понимал только греческий алфавит, что было бы на этих страницах?
Определенно, в России я проехала мимо Санкт-Петербурга, не зная, что это Санкт-Петербург.
В сущности, Анна Каренина тоже могла проехать мимо, не зная, что это был Санкт-Петербург.
Видя указатель на Сталинград, как бы Анна Каренина могла его понять?
Тем более что знак, вероятнее всего, указывал бы на Ленинград?
Очевидно, что теперь я совсем потеряла ход мысли.
Однажды Роберт Раушенберг стер большую часть рисунка Виллема де Кунинга, а затем назвал его «Стертый рисунок де Кунинга».
Я совершенно не уверена, с чем это связано, но подозреваю, что это имеет больше связей, чем я считала раньше.
Вообще-то Роберт Раушенберг в один прекрасный день пришел в мой лофт в Сохо. Не помню, стер он что-нибудь или нет.
Причина, по которой один из моих велосипедов находится на заправке, заключается в том, что иногда, прокатившись куда-нибудь, я решаю добраться до дома пешком.
Хотя в тот день, на самом деле, я решила принести домой керосин, с которым было трудно ехать на велосипеде.
Я говорю «было трудно», а не просто «трудно», так как давно не ношу домой керосин, потому что перестала пользоваться этими лампами.
Я перестала ими пользоваться после того, как опрокинула лампу, из-за которой загорелся тот, другой, дом, хотя, несомненно, я уже упоминала об этом.
Помню, как я настраивала пламя, а уже через мгновение всю спальню охватил огонь.
Эти пляжные домики полностью деревянные, конечно. Мне оставалось только сидеть в дюнах и смотреть, как он горит.
Большую часть ночи все небо было гомеровским.
Моя шлюпка исчезла в ту же ночь, хотя, наверное, это не важно.
Трудно заметить пропажу шлюпки, когда догорает твой дом.
Тем не менее так вышло, что на пляже ее уже не было.
По правде сказать, иногда мне хочется верить, что к настоящему времени ее уже унесло на другую сторону океана.
К острову Лесбос, например. Или даже к Итаке.
Часто на берег выбрасывает разные предметы, которые, вообще говоря, вполне могли проделать такой же долгий путь в противоположном направлении.
Например, моя палка, которую я иногда беру с собой на прогулку.
Несомненно, эта палка когда-то служила другой цели, чем быть просто палкой для прогулки. Сейчас, однако, уже невозможно догадаться, какой именно другой цели, потому что волны сильно ее потрепали.
Вообще-то время от времени я также использую эту палку, чтобы писать на песке.
Кстати, я даже писала на греческом.
Ну, или на том, что выглядело, как греческий, хотя на самом деле я это просто воображала.
Честно говоря, писала я такие же послания, как те, что я иногда оставляла на улицах.
Кто-то живет на этом пляже, говорилось в них.
Разумеется, к тому времени не имело никакого значения, что это были послания на выдуманном языке, который никто не смог бы прочесть.
Вообще-то ничто из написанного все равно не сохранялось на пляже до моего возвращения, а смывалось прибоем.
Тем не менее если я пришла к выводу, что на картине нет ничего, кроме форм, делаю ли я также вывод, что на песке не было даже выдуманных надписей, а были лишь следы от моей палки?
Несомненно, эта палка изначально являлась ничем не примечательной ручкой от щетки для чистки ковров.
Однажды я отставила ее в сторону, чтобы вытащить на пляж корягу, и забеспокоилась, что, возможно, потеряла ее.
Однако, когда я оглянулась, она стояла в вертикальном положении там, куда я ее дальновидно поместила, даже не обратив на это внимания.
Впрочем, вполне вероятно, что возможность потери не пришла мне в голову, пока я не начала оглядываться, то есть палка уже не была потеряна в тот момент, когда я заволновалась о том, что могла ее потерять.
По правде сказать, я не особенно рада этой новой привычке говорить вещи, о смысле которых я имею очень слабое представление.
Некто по имени Ральф Ходжсон написал стихотворение о птицах, которые продаются в магазинах в качестве еды.
Не помню, чтобы я когда-либо читала другое стихотворение Ральфа Ходжсона.
Зато я помню, что Леонардо да Винчи покупал таких птиц во Флоренции, а затем выпускал их из клеток.
И что у Елены Троянской была по крайней мере одна дочь, по имени Гермиона.
И что Леонардо также придумал способ, как предотвратить выход реки Арно из берегов, который никто явно не принял во внимание.
Если на то пошло, Леонардо как минимум однажды нарисовал снег на одной из своих картин, но я не могу вспомнить, делали ли это когда-нибудь Андреа дель Сарто или Таддео Гадди.
Кроме того, ученики Рембрандта рисовали на полу его студии золотые монеты, настолько похожие на настоящие, что Рембрандт наклонялся, чтобы поднять их, хотя я не уверена, почему это снова напоминает мне о Роберте Раушенберге.
Я всегда искренне сомневалась в том, что Елена была причиной той войны, между прочим.
Одна спартанка, в конце концов.
На самом деле, определенно, все дело было в коммерции. Все эти десять лет — только чтобы посмотреть, кто кому будет платить за возможность пользоваться проливом.
Другой поэт, по имени Руперт Брук, умер в Дарданеллах во время Первой мировой войны, хотя не думаю, что я вспомнила об этом, когда посещала Дарданеллы, под которыми я имею в виду Геллеспонт.
Тем не менее я нахожу удивительным то, что молодые люди умерли там на войне, которая была давным-давно, а потом умирали в том же месте три тысячи лет спустя.
А если подумать, то золотые монеты, которые ученики Рембрандта рисовали на полу его студии, — это именно то, о чем я говорила, когда говорила о Роберте Раушенберге.
Или, вернее, это то, о чем я говорила, когда говорила о человеке, которого нет у окна на картине, изображающей этот дом.
Монеты оставались монетами лишь до тех пор, пока Рембрандт не нагнулся, чтобы их поднять.
Что, однако, не помешало мне подключить генератор и прожекторы в Колизее.
Или проницательно назвать кота Кальпурния, не получив отклика на имена Нерон и Калигула.
Тем не менее кот, если бы он был у Рембрандта, прошел бы мимо этих монет, даже не взглянув на них.
Что не означает, что кот Рембрандта был умнее самого Рембрандта.
Даже, кстати, если бы Рембрандт продолжал попадаться на эту удочку раз за разом, сколько бы его ни обманывали.
Жизнь, конечно же, полна историй об учениках, разыгрывающих своих учителей.
Леонардо однажды подшутил на Верроккьо, проработав часть картины, над которой они вместе трудились, так искусно, что Верроккьо решил завязать с живописью.
С другой стороны, трудно представить Аристотеля, подшучивающего над Платоном.
Или даже представить Аристотеля, делающего уроки.
Зато можно легко вообразить за уроками Елену.
Можно даже увидеть, как она грызет карандаш.
Если предположить, что у греков были карандаши, разумеется.
На самом деле даже Архимед иногда занимался своей геометрией, чертя на песке. Палкой.
Я принимаю тот факт, что это, несомненно, не та самая палка.
Даже хотя волны вполне могли носить ее долгие годы. Туда и обратно сколько угодно раз, если на то пошло.
Елена оставила Гермиону дома, когда бросила Менелая и убежала с Парисом, и это единственный поступок Елены, который ей лучше было бы не совершать.
Хотя не исключено, что древним писателям нельзя вполне доверять, когда речь идет о таких темах, ведь почти все они были мужчинами.
Чего бы действительно хотелось, так это чтобы Сапфо написала несколько пьес.
Хотя вообще-то есть и другие версии.
Такие, например, как на картине Тьеполо, где Елену увозят против ее воли.
«Похищение Елены» — так на самом деле называется картина Тьеполо.
Вообразить Медею грызущей карандаш немного сложнее.
Быть может, в семь или восемь лет. После она бы уже походила на Жермен Грир.
Хоть убейте, я не могу вспомнить, когда в последний раз думала о Жермен Грир. Возможно, однако, что в этом доме есть какие-то ее книги.
Хотя я все равно до сих пор не могу себе представить, что может означать то другое название, о траве, которая перестала быть настоящей.
Не исключено, что моя палка была когда-то бейсбольной битой.
Возможно, ученики Рембрандта когда-то играли в бейсбол.
Кассандра тоже была похищена, конечно, после того как пала Троя.
Разумеется, нет никакой возможности проверить, происходил ли Эль Греко от Гермионы, ведь прошло почти три тысячи лет.
Ближе к концу жизни Тициан стал наносить краски на холст не только кистью, но и пальцами, чему Джованни Беллини его определенно не учил.
Естественно, что я никак не могла знать, ел ли кот в Колизее что-нибудь у меня за спиной, так как большинство банок выглядели не совсем полными с самого начала.
Несомненно, Брамс тоже когда-то был учеником.
Пусть даже, когда ему было всего двенадцать лет, он уже играл на пианино в танцевальном зале, который, скорее всего, служил публичным домом.
Что интересно, Брамс всю оставшуюся жизнь ходил к проституткам.
Тем не менее не так уж трудно представить Брамса разучивающим гаммы.
Ну, и, возможно, что проститутки в то время, когда ему было еще только двенадцать, все-таки были танцовщицами.
Такими, как Жанна Авриль, например.
Я понятия не имею, посещал ли Брамс в те годы Париж, когда там танцевала Жанна Авриль.
Тем не менее по какой-то причине мне приятно думать, что у Брамса был роман с Жанной Авриль.
Или, по крайней мере, с Клеопатрой, Газелью или мадмуазелью Эглантин, которые тоже были парижскими танцовщицами.
Как запоминаются такие факты, уму непостижимо.
Возможно, Ги де Мопассан сидел в лодке, когда Брамс был в Париже.
Однажды Бертран Рассел пригласил своего ученика Людвига Витгенштейна в Кембридж посмотреть, как работает веслами Альфред Норт Уайтхед. Витгенштейн очень рассердился на Бертрана Рассела за то, что они потратили на это целый день.
Мало того, что вспоминаются факты, неизвестные больше, кажется, никому, так вдобавок вспоминаются еще и такие факты, которые и вовсе непонятно откуда тебе известны.
Хотя, возможно, Тулуз-Лотрек однажды пользовался моей палкой, если уж Архимеду не довелось, поскольку ходил с тростью.
Хотя, с другой стороны, один из римских пап приказал людям сжечь большую часть того, что действительно написала Сапфо.
Несомненно, я лишь вывихнула лодыжку. Хотя она и распухла вдвое против обычного своего размера.
Как знать, возможно, тот человек по имени Т. Э. Шоу был бейсболистом?
И что из сказанного мной сейчас опять навело меня на мысль об Ахиллесе?
Так или иначе, «сейчас» — это, пожалуй, неподходящее слово.
Под этим я подразумеваю то, что я определенно думала об Ахиллесе в тот момент, когда начала строить эту фразу, но уже перестала думать о нем к тому времени, как закончила.
Конечно, такие предложения невольно хочется закончить. Даже если ты сумел показать, что думаешь об одном, ты вообще-то уже начал думать о другом.
Когда я начала писать об Ахиллесе, я в середине фразы подумала вместо него про кота.
Кот, о котором я подумала, сидел у разбитого окна в соседней комнате, которое заклеено липкой лентой, часто шуршащей на ветру.
Иначе говоря, о коте я тоже на самом деле не думала, так как нет никакого кота, кроме как в том смысле, что этот шуршащий звук напоминает мне о нем.
Так же как не было и никаких монет на полу студии Рембрандта, за исключением тех случаев, когда сочетание красок обманывало глаза Рембрандта.
Так же как не было или нет никого у окна на картине, изображающей этот дом.
Если уж на то пошло, нет даже и дома на картине, изображающей этот дом.
К сожалению, некоторые темы, кажется, заходят слишком далеко, желаем мы того или нет.
Хотя, возможно, это как раз и есть предмет той, другой, книги, если подумать. Не исключено, что книга, принятая мной за книгу о бейсболе, в действительности содержит какие-то научные размышления об отсутствии травы там, где люди играли в бейсбол, за исключением тех случаев, когда играющие в бейсбол люди считали, что она там есть.
Также с первых страниц трудно предположить, что «Грозовой перевал» — книга об окнах.
Хотя факт остается фактом: когда-то тут росла вполне реальная трава, которую косили сбоку от этого дома.
В чем легко убедиться, взглянув на все ту же картину.
Хотя, очень вероятно, что сейчас я сама себе противоречу.
Как бы то ни было, липкая лента уже перестала шуршать.
Да и о коте я больше не думаю.
Впрочем, мне, конечно, наверняка пришлось подумать о нем, когда я печатала это предложение, даже если в самом предложении сказано обратное.
Разумеется, невозможно напечатать предложение, в котором утверждается, что ты не думаешь о некой вещи, не задумавшись при этом о той самой вещи, о которой ты якобы не думаешь.
Пожалуй, я только сейчас заметила это. Или что-то очень похожее.
Возможно, мне следует оставить эту тему.
На самом деле все, о чем я думала в связи с Ахиллесом, была его пятка.
Хотя сама я не страдаю какой-либо хромотой, даже если иногда я, возможно, производила такое впечатление.
А между тем сейчас я также задумалась и о самой липкой ленте, ведь я никак не могу вспомнить, чтобы наклеивала ее.
Несомненно, однако, что я это сделала, ведь я вполне отчетливо помню, когда разбилось окно.
О боже, ветер разбил одно из окон в одной из комнат на первом этаже. Я даже помню свою мысль тогда.
Это, должно быть, случилось сразу после того, как я услышала звон стекла, естественно.
И в ветреную ночь.
Однако хоть убейте, я не вспомню, как заклеивала окно.
Более того, я почти уверена, что в этом доме никогда не было клейкой пленки.
Последний раз, насколько помню, я видела какую-либо пленку в тот день, когда съехала на фургоне «фольксваген», полном медикаментов для оказания первой помощи, в Средиземное море.
Между прочим, в фургоне был пленочный магнитофон, хотя это, конечно, никоим образом не связано с той пленкой, о которой я говорю.
Магнитофон в фургоне играл «Времена года» Вивальди.
Даже после того, как я вскарабкалась обратно на набережную, магнитофон продолжал играть. В моей перевернутой вверх тормашками машине, наполнявшейся морской водой.
Кстати говоря, играл он «Троянцев» Берлиоза.
Это меня особенно заинтересовало, надо сказать, ведь незадолго до того я побывала в Гиссарлыке. Некоторое время я сидела на набережной и слушала.
Хотя, честно говоря, после Гиссарлыка я уже успела побывать в Риме.
И в Римини, и в Перудже, и в Венеции.
Так что, возможно, магнитофон играл нечто совсем другое.
Как ни стараюсь, не могу вспомнить, зачем я пыталась затащить тот чудовищный холст вверх по лестнице.
Пусть даже этот вопрос достаточно скоро стал несущественен, учитывая то, как именно я не затащила его наверх.
И что из сказанного мной навело меня теперь на мысль о матери Брамса?
На этот раз я могу сделать обоснованное предположение, ведь бедная женщина была хромой.
Ни за что в жизни я бы не поверила, что биография Брамса была той самой книгой, которую я прочла в этом доме.
Очевидно, однако, что не каждый вопрос попадает в категорию вопросов, которые вроде бы остаются без ответа.
Но сейчас меня особенно удивляет то, что я потрудилась прочесть книгу, столь сильно испорченную и напечатанную на такой дешевой бумаге.
Множество книг в этом доме находятся в значительно лучшем состоянии, хотя все они поражены сыростью.
Такие, как атлас, например. Впрочем, у атласа было преимущество — он лежал горизонтально, как правило, а не стоял в наклон.
На самом деле не прошло и пары дней, как я вернула его в то самое положение, после того как решила вспомнить, где находятся Литиц, штат Пенсильвания, и Итака, штат Нью-Йорк.
Между прочим, у книги о бейсболе зеленая обложка, что, пожалуй, уместно.
С другой стороны, в этом доме нет, похоже, ни одной книги об искусстве.
Я заметила это не по личным соображениям. Скорее я нахожу это необычным просто потому, что когда-то здесь, кажется, жила другая художница.
Впрочем, другая художница могла быть всего лишь гостьей. В этом случае картина, изображающая дом, вполне могла быть написана в качестве своего рода подарка за ее пребывание здесь.
Хотя, предполагая такое, я, конечно, забываю о других картинах в некоторых из здешних комнат, в которые я не вхожу и двери которых закрыты.
Возможно также, что те, другие картины написаны той же самой художницей.
На самом деле я уверена, что так и оно есть, хотя я и не видела ни одну из них с тех пор, как закрыла двери, то есть уже довольно давно.
Единственная из закрытых дверей, которую я пока еще открываю, ведет в ту комнату, где хранятся атлас и биография Брамса, да и то лишь в последнее время.
Однако едва ли это слишком смелое предположение — допустить, что все три картины на стенах одного и того же дома написаны одной художницей.
Тем более что на всех трех картинах изображены дома на пляже или около него, как я сейчас помню.
Хотя, естественно, у меня имеются и более проверенные способы это установить, если возникнет такая необходимость.
В любом случае сейчас мне пришло в голову, что художница точно не была гостьей в этом доме, а скорее жила поблизости. Так проще объяснить, почему три ее картины хранятся в доме, где непомерное количество книг, но ни одной книги об искусстве.
Будучи хорошо знакомы с сюжетами картин, люди, жившие в этом доме, наверняка с радостью выставляли их напоказ.
Вопросы эстетического понимания тут вообще не должны были возникать.
Если уж на то пошло, то, возможно, во всех домах на этом берегу или во многих из них есть и другие работы той же художницы.
Быть может, даже в том самом доме, который я спалила дотла, имелись такие, хотя сейчас, очевидно, их бы там не оказалось, ведь это больше не дом.
Ну, то есть это все еще дом.
Даже если от него не так много осталось, я до сих пор склонна думать о нем как о доме, проходя мимо него во время прогулок.
Вон там дом, который я спалила дотла, может думаться мне. Или: скоро я буду подходить к дому, который я спалила дотла.
Ни одна из трех картин в этом доме не подписана, между прочим.
Вообще-то не помню, чтобы я смотрела, но уверена, что посмотреть — как раз то, что я вполне могла сделать.
Даже в музеях это как раз то, что я часто делаю.
Я делаю это даже с картинами, которые мне знакомы много лет.
Я вряд ли делаю это с целью найти какую-либо ошибку в атрибуции картины.
На самом деле я понятия не имею, почему я это делаю.
Модильяни часто подписывал работы других художников.
Это делалось для того, чтобы они могли продать свои картины, которые иначе остались бы непроданными.
Несомненно, мне не следовало говорить «часто». Несомненно, Модильяни делал это лишь несколько раз.
Тем не менее это было любезно со стороны Модильяни, так как некоторые из его друзей питались не очень хорошо.
В действительности Модильяни и сам часто плохо питался, правда в основном из-за того, что предпочитал пить.
Однажды, в галерее Боргезе, в Риме, я расписалась на зеркале.
Я сделала это в одной из женских уборных, помадой.
Подписывала я образ самой себя, естественно.
Однако если бы это видел кто-нибудь еще, то моя подпись располагалась бы под изображением другого человека.
Разумеется, я бы его не подписала, если бы на него смотрел кто-нибудь еще.
Хотя на самом деле я подписалась именем Джотто.
Кстати, в этом доме только одно зеркало.
То, что отражает это зеркало, — тоже образ меня самой, конечно же.
Хотя, если честно, то время от времени оно также отражает и образ моей матери.
Происходит это так, что я бросаю взгляд в зеркало и какое-то мгновение вижу мою мать, которая смотрит на меня.
Естественно, я вижу и себя тоже, в тот же самый момент.
Иными словами, все, что я в действительности вижу, это образ моей матери в моем собственном.
Я предполагаю, что такая иллюзия вполне заурядна и приходит с возрастом.
Точнее говоря, это даже не иллюзия, ведь наследственность есть наследственность.
Тем не менее это нечто такое, что может заставить задуматься.
Пусть даже теперь я вдруг осознала, что я, возможно, почти так же стара сейчас, как моя мать была тогда.
Моей матери было только пятьдесят восемь.
Хотя ей было ровно пятьдесят, когда я нарисовала ее портрет.
Я сделала в подарок на ее день рождения.
Хотя я редко писала портреты.
Были, впрочем, времена, когда я жалела, что так и не написала портрет Симона.
А бывало, я думала, что не хочу видеть подобное напоминание.
И, возможно, это было на годовщину их свадьбы, когда я нарисовала портреты отца и матери.
На самом деле это было тридцатилетие со дня свадьбы.
Я написала оба портрета со слайдов, чтобы подарок оказался сюрпризом.
Что пришлось сделать, так это повесить в студии брезент, чтобы затенить угол, в котором я могла бы использовать проектор.
В общем и целом я, пожалуй, тратила больше времени, бродя в потемках, чем рисуя картину.
Честно говоря, больше всего времени я тратила, просто сидя, причем всякий раз, когда рисовала.
Время от времени можно сидеть бесконечно, прежде чем встанешь, чтобы добавить единственный мазок на холст.
Известно, что Леонардо проделывал полпути до Милана, дабы добавить такой мазок к «Тайной вечери», хотя кто угодно решил бы, что она уже закончена.
Однако же это не спасло «Тайную вечерю», которая была испорчена еще при жизни Леонардо из-за глупого эксперимента, поставленного им с масляной темперой на штукатурке.
В известном смысле можно даже сказать, что «Тайная вечеря» начала разрушаться уже тогда, когда ее создавали.
Мысль об этом почему-то всегда печалила меня.
Кроме того, меня часто удивляло, что столь многие люди, похоже, не знали, что «Тайная вечеря» изображает ужин в честь Песаха.
В любом случае я не остановилась в Милане на пути из Венеции в Савону.
Если уж на то пошло, я вряд ли намеревалась останавливаться в Савоне.
Набережная не выдержала. Понятия не имею, как долго она разрушалась, прежде чем я добралась туда.
Леонардо писал в своих тетрадях задом наперед, справа налево, чтобы их можно было прочесть только в зеркальном отражении.
В некотором смысле образ тетрадей Леонардо был бы более реальным, чем сами тетради.
Леонардо также был левшой. И вегетарианцем. И незаконнорожденным.
Те слайды моей матери и отца, по-видимому, до сих пор существуют.
По-видимому, старые слайды Симона тоже все еще существуют.
Пожалуй, есть некая ирония в том, что я знаю так много о Леонардо, но не знаю, сохранились ли слайды с моими матерью и отцом или моим маленьким мальчиком.
А если сохранились, то где.
Незапамятные времена.
У меня, конечно, есть фотографии Саймона. Некоторое время одна из них стояла в рамке на столике рядом с моей кроватью.
Но совершенно неожиданно я чувствую, что больше не хочу все это печатать, пока что.
Я не печатала, наверное, часа три.
Вообще-то все, что я собиралась сделать, это сходить к роднику за водой. Но наполнив кувшин, я решила прогуляться до города.
Этот кувшин — на самом деле стеклянная банка. По дороге домой я забыла, что оставила ее, и поэтому мне снова придется выйти.
Это не тяжело. К тому же там дует игривый ветерок.
В городе я смотрела на яхтенные причалы.
Будучи там, я также поняла, что, без сомнения, существует объяснение тому, почему столь многие люди забывают, что «Тайная вечеря» изображает Песах.
Это объясняется тем, что они, в действительности, забывают о том, что все люди на этой картине евреи.
В галерее Боргезе я довольно долго стояла перед сандриком со сценой поругания Кассандры. Ее волосы выглядят замечательно растрепанными, для резьбы по камню неизвестного автора.
Кассандра и Елена, обе они предупреждали троянцев о греках в деревянном коне. Никто не прислушался ни к одной из них, естественно.
Вполне возможно, я не упоминала яхтенный причал прежде. Здесь их несколько, неподалеку.
Очень немногие из лодок кажутся надежными для путешествия по морю.
Впрочем, и соответствующих стремлений у меня теперь почти не появляется.
Как-то раз, однако, я плавала в Византию. Под которой я имею в виду Стамбул.
Хотя вообще-то добиралась я туда, после Берингова пролива, на разных автомобилях через всю Сибирь. Далее я следовала вниз по Волге на юг, пока не повернула к Трое.
Таким образом, Константинополь оказался почти на моем пути.
С другой стороны, время от времени я жалею, что не добралась до Москвы и Ленинграда. Тем более что я никогда не бывала в Эрмитаже.
И, честно говоря, я никогда не ходила под парусом, если разобраться.
У каждой лодки, которую я использовала, был двигатель.
Это, разумеется, не считая моих шлюпок.
В которых я, в любом случае, чаще всего просто дрейфовала.
Хотя я всерьез думала о том, чтобы сесть на весла и загрести за буруны в ту ночь, когда горел мой дом, потому что мне пришло в голову проверить, как далеко видно пламя.
Несомненно, я бы не смогла грести так долго, даже если бы решилась, так как мне, конечно, пришлось бы грести до самого горизонта.
Если на то пошло, можно было бы даже оказаться там, где уже совсем не видно пламени, но все равно видеть свечение на фоне облаков.
То есть в этом случае я видела бы огонь вверх тормашками, так сказать.
И даже не огонь, а лишь образ огня.
Возможно, однако, что никаких облаков и не было.
Да и вообще, шлюпки у меня тогда уже не было.
Теперь каждый раз, когда я иду на пляж, я проверяю, на месте ли новая шлюпка.
Вообще-то последний раз я проверяла всего несколько минут назад, когда вернулась из города.
Возможно, я не упоминала, что вернулась из города по пляжу, а не так, как отправилась туда, то есть по дороге.
Что объясняет, почему я не принесла свой кувшин, который я оставила рядом с источником.
Я часто думаю об этой банке как о кувшине. Несомненно, это только потому, что «кувшин» звучит приятнее, его больше хочется взять к источнику.
Хотя, возможно, еще одна причина, по которой я его забыла, состоит в том, что я чувствую себя немного уставшей.
На самом деле я не устала. Скорее мне как-то не по себе.
Да, пожалуй, правильнее будет сказать, что я испытываю своего рода депрессию. Все это довольно абстрактно в данный момент.
В любом случае нет сомнений, что я уже чувствовала себя так, когда перестала печатать. Несомненно, что решение прекратить печатать было сильно связано с тем, как я себя чувствовала.
Я уже забыла, что именно печатала, когда начала чувствовать себя так.
Конечно, я могла бы вернуться к тем строкам. Определенно, они были напечатаны не так уж давно.
Если поразмыслить, я не буду возвращаться. Если нечто из того, что я печатала, спровоцировало это мое ощущение, то, несомненно, оно может спровоцировать его снова.
Я не часто так себя чувствую, на самом деле.
Обычно я чувствую себя достаточно хорошо, учитывая обстоятельства.
Тем не менее бывает и по-другому.
Это пройдет. Пока же с этим мало что можно сделать.
Тревога — фундаметнальное настроение существования, как кто-то сказал, или, безусловно, должен был бы сказать.
Хотя, если честно, я бы поверила, что давно избавилась от большинства таких чувств, когда избавилась от большей части другого своего багажа.
Когда зима приходит, это надолго.
Даже если, с другой стороны, вам кажется, что вы никогда не избавитесь от багажа в своей голове.
Такого, например, как дни рождения известных людей, скажем, Пабло Пикассо или Дилана Томаса, которые я наверняка могла бы назвать, если бы захотела.
Или имя сестры Хуаны Инес де ла Крус, даже если я до сих пор не имею ни малейшего представления о том, кем она была.
Я также не знаю, кем могла быть Марина Цветаева, хотя в этом случае ее имя, по крайней мере, не пришло мне в голову меньше часа назад, когда я была у яхтенного причала.
Очевидно, что я думала о другой марине.
На самом деле имя, которое привлекло мое внимание на том плакате недалеко от виа Витторио-Венето, было Элен Франкенталер. Я не помню, чтобы когда-либо участвовала в шоу с Джорджией О’Кифф.
Хотя на самом деле возможно, что это Кьеркегор говорил о тревоге как основополагающем настроении.
Если это был не Кьеркегор, то Мартин Хайдеггер.
В любом случае, я подозреваю, есть некая ирония в том, что я смогла догадаться, что это было сказано Кьеркегором или Мартином Хайдеггером, хотя я определенно не прочла ни единого слова, написанного Кьеркегором или Мартином Хайдеггером.
Изрядная доля багажа даже не кажется собственным, как я, возможно, уже отмечала раньше.
Анна Ахматова — вот еще один автор, которого я никогда не читала, хотя, несомненно, она каким-то образом связана с Мариной Цветаевой.
Опять же не исключено, что в этом доме есть книги всех этих людей.
Я заметила путеводители по нескольким национальным паркам. А также птицам южной части Эгейского моря и Кикладских островов.
Кстати, есть объяснение тому, почему атлас, как правило, лежит плашмя, а не стоит в наклон.
Объяснение это заключается в том, что атлас попросту слишком высок для полок.
И так или иначе я только сейчас решительно определила, где именно я прочла биографию Брамса.
Где я прочла биографию Брамса, так это в Лондоне, в книжном магазине недалеко от Хемстедской пустоши, утром, когда меня чуть не сбила машина.
Кажется, я уже упоминала, что меня чуть не сбила машина, катившаяся с холма.
Может быть, она и не сбила бы меня. И все же представьте, вот я читаю биографию Брамса, а миг спустя — вжих! — эта страшная штуковина проносится мимо меня.
Только вообразите, как это поразило меня и что я чувствовала.
Всего лишь днем ранее я сидела в автомобиле с правым рулем и смотрела, как улица под названием Мэйден-лейн, недалеко от Ковент-Гарден, утопает в снегу, что наверняка большая редкость.
Естественно, что автомобиль, который скатился с холма, тоже был с правым рулем, ведь я все еще находилась в Лондоне.
Я подчеркиваю это просто потому, что та же сторона автомобиля оказалась стороной, ближайшей ко мне, и, естественно, моей первой реакцией было посмотреть, кто же, во имя всего святого, за рулем.
Естественно, за рулем никого не было.
Тем не менее мое состояние ошеломленности длилось довольно долго.
Несомненно, оно все еще сохранялось, пока я осознавала, что этот автомобиль вот-вот врежется в машину, которую еще недавно вела я и которая была припаркована чуть ниже по склону.
Вместо этого он врезался в нечто совсем другое.
По сути дела, он не врезался ни во что из того, что я видела, но продолжил катиться прямо вниз по склону и выехал за пределы моего поля зрения.
Когда я говорю, что он врезался во что-то другое, я лишь предполагаю, что, несомненно, на его пути должны были возникнуть и другие препятствия, рано или поздно.
Определенно он должен был врезаться в дорожный знак или, возможно, даже в английский дом, если не в другой автомобиль.
С другой стороны, если разобраться, я не слышала звука столкновения.
Впрочем, вполне возможно, что я не очень внимательно слушала, ведь я так долго была ошеломлена.
Откровенно говоря, все, что я делала, так это продолжала стоять перед книжным магазином, который располагался по соседству с мексиканским рестораном.
В витрине ресторана были репродукции картин Давида Альфаро Сикейроса.
Кстати, автомобиль, о котором идет речь, был лондонским такси.
Я до сих пор понятия не имею, что могло заставить его скатиться вниз по холму в то утро, когда мне довелось оказаться в том же самом районе.
Определенно, что-то, на что он опирался, не выдержало.
На самом деле несомненно, что за все эти годы множество других транспортных средств скатились вниз по холмам.
Вполне вероятно даже, что некоторые из них катятся вниз в этот самый момент.
Невозможно сказать, сколько именно, но некоторое количество, это уж точно.
Впрочем, у многих автомобилей сдулись шины, что, бесспорно, должно было быть существенным фактором.
Но, как бы то ни было, в конце концов я прошла мимо своего собственного автомобиля дальше, чтобы увидеть, в какие из возможных препятствий врезалось то такси.
Такси я так и не увидела.
На холме был поворот, как оказалось.
Тем не менее в итоге я бы, конечно, нашла его, если бы захотела довести дело до конца.
И, конечно, при условии, что я не перепутала бы это разбитое такси с каким-нибудь другим.
Однако в тот момент меня больше интересовал мексиканский ресторан, который я прежде не замечала.
Хотя вообще-то ради чего я зашла в ресторан, так это ради бутылки текилы.
Ну, все это случилось в тот период, когда я еще искала, если я еще не упоминала об этом. Так что, конечно, выпивка была кстати.
К тому же я, без сомнения, вспомнила также, что меня столь же сильно поразил тот кеч, появившийся передо мной у горы Ида.
На самом деле, оглядываясь назад, можно сказать, что в том кече меня больше всего удивил треугольный парус, который как-то уцелел за минувшие годы.
Хотя, возможно, кеч был пришвартован в каком-нибудь укрытии и начал плыть по течению лишь совсем недавно.
Прямо как такси, которое покатилось не раньше, чем в то самое утро, когда я зашла в книжный магазин и прочла биографию Брамса.
Между прочим, заходя в книжный магазин, я и близко не имела в виду ничего похожего на биографию Брамса. Все, что я сделала, это взяла первую попавшуюся мне на глаза книгу, которая лежала на прилавке.
И которая на самом деле была вовсе не биографией Брамса, а историей музыки. Для детей.
Но которая была открыта на главе о Брамсе.
Книга была напечатана чрезвычайно крупным шрифтом. Вдобавок глава о Брамсе не могла быть длиннее шести страниц.
Несомненно, в ней также не было бы ничего про танцовщиц.
Тем не менее, если бы я не решила прочесть эту главу, то, конечно, была бы в другом месте в тот момент, когда такси скатилось по склону.
Но нет, я стояла там, вынужденная думать: боже мой! вот едет машина, а секунду спустя, ах, ну конечно, это не машина.
Думая последнее, я имела в виду только то, что это был не автомобиль, которым кто-то управлял, естественно.
Само собой, такси никогда не найдешь, когда оно тебе нужно.
Но опять же, все это случилось во время всех этих поисков, как бы то ни было.
Не говоря уже обо всей этой тревоге.
Хотя вообще-то я заметила такси как раз сегодня, у яхтенного причала.
Однако это конкретное такси стоит на одном и том же месте с тех пор, как я пришла на этот пляж.
Да оно и не уедет никуда, ведь все его четыре шины спущены.
Вдобавок его колеса утопают в глубоком песке.
Шины на пикапе в порядке. Хотя, естественно, их я проверяю.
В любом случае, под сиденьем есть насос.
Впрочем, подозреваю, что я уже какое-то время пренебрегаю тем, чтобы подзарядить аккумулятор.
Я только что вышла из пикапа.
На самом деле куда я шла, так это к источнику, рядом с которым стоит пикап. Я шла за кувшином, под которым я имею в виду банку.
Прежде чем вернуться с ним, я опустошила его и наполнила снова, так как вода уже нагрелась на солнце.
Вода в самом источнике, однако, всегда прохладная.
А еще я принесла сирень.
Джоан Баэз — вот, наверное, кому я хотела бы сообщить, что теперь можно встать на колени и напиться из Луары, или из По, или из Миссисипи.
Зимой, когда приходят снега, а деревья вычерчивают свои странные иероглифы на белом фоне, единственной другой линией порой оказывается мой путь к источнику.
Ну, и в обратном направлении тоже — линия тропы, которой я хожу через дюны к пляжу.
Хотя я совершенно забываю о третьем пути, сразу за дюнами, который тоже бывает видно в такие времена.
Этот третий путь — путь к дому, который я демонтирую.
Возможно, я не упоминала о том, что я демонтирую дом.
Я демонтирую дом.
Это утомительная работа, но необходимая.
С другой стороны, я не делаю из нее крупного проекта. В сущности, я отношусь к ней примерно так же, как я отношусь к вопросу приносимого морем леса.
Может быть, я не упоминала, как я отношусь к вопросу приносимого морем леса.
Все, в общем, очень просто: время от времени я прохожу мимо дома, и какая-нибудь доска попадается мне на глаза, я ее отдираю и отношу домой.
При условии, что я уже не несу достаточное количество хвороста, естественно.
На самом деле здесь было достаточно дров для моей первой зимы.
Ну, почти достаточно. Позже я сожгла некоторые предметы мебели.
Так получилось, что все они были из комнат, которыми я больше не пользуюсь и двери которых закрыты.
Если подумать, очень даже возможно, что именно поэтому я начала закрывать те двери, хотя я не могу взять в толк, почему не замечала этой связи раньше.
В любом случае, дом, который я демонтирую, не содержит почти никакой мебели вообще. Более того, он и построен-то весьма безразлично.
Единственный инструмент, который мне понадобился для такой работы, это лом, который я взяла под тем же сиденьем пикапа.
Ну, есть еще пила, на которую я наткнулась в самом доме.
Впрочем, я не считаю пилу инструментом для демонтажа. Скорее я считаю ее инструментом для превращения демонтированных пиломатериалов в дрова.
После того, как они были демонтированы.
Хотя, возможно, это различие не более чем семантическое.
Как бы то ни было, я понятия не имею, отчего дом построили с таким безразличием.
Можно только предположить, что он был построен, скажем, для сдачи в аренду, ведь такое не редко имеет место в случае домов на пляже.
Мир есть все то, что имеет место.
Кстати, я не представляю, что подразумевалось в этом предложении, которое только что напечатала.
По какой-то причине, однако, оно, кажется, вертелось в моей голове весь день, хотя я совершенно не представляю себе, откуда оно взялось.
Такие вещи случаются. Однажды утром, не так давно, я не могла перестать думать о слове «бриколаж», которое, я полагаю, является французским, хотя я совсем не говорю по-французски.
Ну, может быть, я вовсе и не думала о нем, в обычном понимании слова «думать».
Тем не менее когда я прогуливалась по пляжу или собирала ракушки, что я иногда делаю, я мысленно произнесла слово «бриколаж», наверное, раз сто.
В конце концов я перестала его произносить. Поэтому сегодня вместо него я говорю, что мир есть все то, что имеет место.
Ох, ну ладно.
Между тем я также задаюсь вопросом, можно ли чтение шести страниц из истории музыки, написанной для детей и напечатанной чрезвычайно большим шрифтом, действительно считать чтением биографии Брамса?
Или же при этом я прочла и несколько страниц из более серьезной биографии Брамса, например о танцовщицах, когда поджигала те страницы, пытаясь воспроизвести чайку?
Не зная, что в доме есть вторая копия той же самой книги, со всеми страницами?
Без сомнения, это несущественные беспокойства. Однако несущественные беспокойства, как известно, время от времени становятся основополагающим настроением существования, как можно предположить.
Мир есть все то, что имеет место.
Хмм.
Но я только что провела еще одну связь, о которой никогда прежде не задумывалась.
Станет ли дом, который я демонтирую, вторым домом на этом пляже, который я сожгу дотла?
Даже принимая во внимание, что я сжигаю тот дом доска за доской и что пройдет немало времени, прежде чем я разберу его полностью и смогу считать его сожженным дотла, все равно тот факт, что я делаю именно это, кажется бесспорным.
Однажды тот дом тоже будет выглядеть так, будто до него добрался Роберт Раушенберг.
Вот дом, который я разобрала доска за доской и стерла до основания, буду думать я, проходя мимо.
Несомненно, к тому времени я уже буду стирать другой дом.
Между прочим, естественно, что я не учитывала такие вещи, как каменные дымоходы, когда говорила о домах, которые все еще остаются домами, даже хотя они уже ими не являются.
Ну, и еще сантехнику.
Вообще-то на втором этаже дома, в котором я опрокинула керосиновую лампу, все еще можно увидеть прикрепленный к трубам унитаз.
Даже хотя самого второго этажа уже нет.
Вот туалет на втором этаже дома, что я спалила дотла, — так, вероятнее всего, я буду думать, проходя мимо. Или, что скоро я пройду мимо туалета на втором этаже того дома, который я спалила дотла.
В Сохо, еще вначале, как я теперь вспоминаю, я выливала бутилированную воду в бачок, чтобы можно было смывать.
Вот так долго не проходят разные привычки. Подобным же образом я некоторое время продолжала носить с собой водительские права и другие документы.
С другой стороны, разумеется, я перестану ходить той тропой к пляжу, как только он станет по-настоящему заснеженным.
Надо сказать, что я все-таки до сих пор иногда пользуюсь туалетом, даже если это означает, что я вынимаю доску из пола ванной комнаты.
Возможно, я не упоминала, что вынула доску из пола ванной комнаты.
Я вынула доску из пола ванной комнаты.
В некотором смысле, без сомнения, можно было бы сказать, что я разбираю и этот дом тоже.
Хотя я не сжигала ту конкретную доску, которая вообще-то обычно оказывается в том самом месте, откуда я ее взяла.
Довольно часто по мере необходимости я разгребала лопатой часть берега снаружи.
Разумеется, я шла на схожие гигиенические ухищрения в том доме, который я спалила дотла в ночь, когда исчезла моя шлюпка.
На самом деле моя шлюпка не исчезла в ту ночь, когда я спалила дом дотла.
Это было в ту ночь, когда мне стало известно об исчезновении шлюпки, что совсем не одно и то же.
Вполне возможно, что шлюпка пропала несколькими днями ранее, поскольку тогда я еще не привыкла приглядывать за ней, как сейчас.
Я не стану утруждаться и снова объяснять, как язык допускает такого рода неточности.
Помню, однажды утром я так же была убеждена, что все семнадцать моих часов исчезли.
Получилось так, что я проснулась в машине рядом с Пон-Нёф в Париже и поняла, что не слышала будильников.
Почему меня разбудило солнце, светящее сквозь лобовое стекло, а не мои семнадцать одновременно звенящих будильников, удивилась я?
Прошло несколько мгновений, прежде чем я вспомнила, что избавилась от часов на совсем другом мосту, чуть раньше, кажется в Бетлехеме, штат Пенсильвания.
Хотя мне представляется интересным, что я почти всегда могу различить периоды, когда я была безумна, и периоды, когда не была, если до этого доходит.
Например, когда я читала некоторые книги вслух, скажем Эсхила и Еврипида в Лувре, что всегда было главным признаком.
Кстати, Лувр находится практически прямо рядом с Пон-Нёф.
Обратное утверждение столь же верно, разумеется.
В любом случае, нет никаких сомнений, что я еще не жила в Лувре тем утром, когда проснулась в машине практически прямо рядом с ним.
Естественно, у меня не было бы никаких причин спать в машине, если бы я уже начала жечь артефакты и картинные рамы в самом музее, что я, безусловно, в конечном итоге стала делать.
Взять, к примеру, раму от «Джоконды» Леонардо, старый лак которой придавал дыму терпкий аромат.
Хотя солнце вообще-то будило меня в автомобилях гораздо чаще, чем тот один раз, честно говоря.
А еще я нередко наблюдала из машин, как садится солнце.
Последнее было особенно актуально в России, конечно же, где я продолжала ехать на запад день за днем.
Почти каждую книгу о древней Трое я читала вслух, если подумать.
Почему-то мне всегда нравилась та часть, где Одиссей притворился сумасшедшим, чтобы его не заставили идти воевать.
Как он притворялся, так это распахивал землю и сеял в нее соль.
Кто-то, однако, очень хитроумно посадил маленького сына Одиссея в одну из борозд, и он, естественно, не стал проходить плугом по своему маленькому сыну.
Тьеполо написал эту картину, если не ошибаюсь. «Безумие Уаисса» — так он ее назвал.
На самом деле я совершенно уверена, что эта картина находится в том же музее, что и «Похищение Елены», хотя и не могу вспомнить, в каком именно.
Возможно, мне следует отметить, что Одиссей и Уаисс — один и тот же человек. По какой-то причине римляне изменили его имя.
Ну, без сомнения, они сделали это по той же причине, по которой испанцы изменили имя Эль Греко. Даже хотя произнести имя Одиссей вроде бы гораздо проще, чем Доменикос Теотокопулос.
«Джоконда» — таково другое название «Моны Лизы », разумеется.
В «Одиссее», ожидая возвращения Улисса, тот самый маленький мальчик отправляется навестить Елену и Менелая в Спарте, а Елена блистает лучезарным величием.
Впрочем, маленький мальчик к тому времени был уже не так мал, ведь прошло десять лет войны и еще десять, пока Одиссей странствовал.
Это, конечно, те самые двадцать лет, в течение которых Пенелопа, как говорят, ткала, если вам в это верится.
Лично я сомневаюсь, что верю хоть единому слову из всего этого.
Пенелопа и Елена были двоюродными сестрами, между прочим.
Чего только нет в голове.
Да, это, конечно, делает ее двоюродной сестрой Клитемнестры тоже, ведь Елена и Клитемнестра были сестрами.
Хотя сейчас я думаю о сцене, в которой Одиссей привязал себя к мачте своего корабля, чтобы слушать пение сирен, но оставаться на месте.
По какой-то причине эта история напоминает мне о чем-то, хотя я не могу вспомнить, о чем именно она мне напоминает.
Телемах — так зовут маленького мальчика, между прочим. Хотя мне кажется, что я упоминала об этом много страниц назад.
Друга, которого оплакивает Ахиллес, зовут Патрокл, о чем, как я совершенно уверена, я, напротив, не говорила.
Моего последнего любовника звали Люсьен. Я также нахожу интересным, что я не написала имени ни одного из моих любовников на этих страницах.
Возможно, эти картины Тьеполо находятся в Эрмитаже, в котором я провела несколько дней перед отъездом домой через Россию в противоположном направлении.
На самом деле они находятся в Милане, где я видела их в тот самый день, когда меня так опечалила «Тайная вечеря».
Где я чаще всего наблюдала закат солнца на том обратном пути, так это, естественно, в зеркале заднего вида.
Что делает их образами закатов, а не закатами как таковыми, если подумать. А левая сторона была правой, или наоборот, хотя, несомненно, это менее очевидно с закатами, чем с записями Микеланджело.
Как бы то ни было, в то время я определенно гораздо больше переживала о том, чтобы не пропустить Анну Каренину.
Я упоминала о том, что искала в Амстердаме, Нью-Йорке, или в Сиракузах, или в Толедо, штат Огайо?
Между тем я понятия не имею, почему зеркала заднего вида напоминают мне о том, что я чувствовала некоторую депрессию вчера.
На самом деле я, возможно, опустила подробность о том, что это было вчера.
Во вчерашнем закате было какое-то спокойствие, как будто его раскрашивал Пьеро делла Франческа.
Что меня разбудило сегодня утром, так это сирень, я вдыхала ее запах по всему дому.
Позже я умылась водой, которую принесла от родника.
Однако на мне до сих пор те же трусы, которые я носила вчера.
Это потому, что, хотя я ходила к роднику дважды, оба раза я прошла мимо своего белья, которое сушилось на кустах.
Честно говоря, я до сих пор чувствую легкий налет той самой депрессии.
Возможно, о чем я думала вчера, так это о крошечном карманном зеркальце, которое хранилось рядом с маминой кроватью, хотя я не помню, чтобы размышляла об этом вчера.
Необходимо, кстати, провести различие между этим видом депрессии и той депрессией, которую я обычно ощущала во время поисков, ведь последняя гораздо больше напоминала своего рода тревогу.
Хотя я, кажется, уже упоминала об этом.
В любом случае однажды я как будто наконец-то перестала искать.
Возможно, это было на пересечении улицы Анны Ахматовой и проходного двора Родиона Романовича Раскольникова.
Несомненно, это также должно было происходить примерно в то самое время, когда я перестала читать вслух. Или, по крайней мере, вырывать страницы, закончив читать их с обратной стороны, чтобы иметь возможность бросить их в огонь.
Что я делала позже со страницами из биографии Брамса, так это пускала их по ветру в надежде, что пепел взлетит.
В Кадисе, где он когда-то писал свои стихи, живя некоторое время у воды, Марко Антонио Монтес де Ока каждое утро кормил чайку, которая прилетала к его окну.
Вообще-то об этом мне рассказал Люсьен. Люсьен также был когда-то знаком с Уильямом Гэддисом, кажется.
Хотя, возможно, это Уильям Гэддис жил некоторое время у воды в Кадисе и подкармливал чайку.
Кот в Колизее был черным, я почти уверена, и приподнимал одну лапу, как будто на ней была рана.
Ничто из того, что я пишу в эти моменты, не должно продлевать мое ощущение подавленности, думается мне.
Хотя я, возможно, просто слишком обеспокоена этими трусами, из-за чего они стали своего рода отвлекающим фактором.
Я только что вышла из дома за чистыми трусами.
Если точнее, то я переоделась, пока была там. Всегда приятно надевать вещи, еще теплые от солнца.
Что, возможно, объясняет, почему я оставила все остальные вещи висеть на кустах.
Опять же некоторые из них, вполне возможно, будут оставаться там неопределенно долго, ведь летом я обычно вовсе ничего не надеваю.
Однажды я и правда забыла несколько вещей, которые замерзли, когда меня застали врасплох ранние морозы.
К тому времени, как я о них вспомнила, мои джинсовые юбки уже можно было поставить вертикально, прямо на землю.
Кто-то счел бы их юбками-скульптурами.
И не может быть никаких сомнений в том, что к тому моменту я избавилась от беспокойства, ведь эта мысль меня даже позабавила.
По-видимому, однажды я искала, а затем перестала, как я уже говорила.
Хотя, весьма вероятно, что это вряд ли было настолько просто.
Определенно, какое-то время я даже не осознавала, что произошли перемены.
Какое-то время я каждый вечер без тревоги наблюдала закат солнца — вот о чем я, наверное, в итоге подумала однажды вечером.
Или о том, что вечное молчание этих бескрайних пространств больше не заставляет меня чувствовать себя, как Паскаль.
Я очень сильно сомневаюсь, что подумала именно так.
Скульптура есть искусство отсечения лишнего материала — сказал однажды Леонардо, если это имеет хоть какое-то отношение к делу.
Хотя, это сказал не Леонардо, а Микеланджело.
А если еще подумать, то Леонардо все-таки не рисовал снег ни на одной из своих картин. Какие-то белесые скалы в тумане — вот что я имела в виду.
Вполне возможно, что Тьеполо тоже не писал ни одной из тех двух картин, если уж на то пошло, хотя на этот раз я лишь имею в виду, что у Тьеполо в его мастерской было множество помощников, поэтому не исключено, что он просто сделал несколько черновых эскизов.
Хотя в действительности он также написал или не написал картину, на которой Агамемнон приносит в жертву бедную Ифигению, чтобы вызвать ветер для греческих кораблей.
Живопись — не мое ремесло, также сказал однажды Микеланджело. Сказал он это, когда папа заметил, что Сикстинская капелла могла бы выглядеть лучше, будь она расписана в верхней части.
Возможно, это был тот же самый папа, который однажды предложил Микеланджело свой трон, в знак уважения. Это очень важный момент в истории искусства, ведь раньше ничего подобного с художниками не случалось.
Я служу тому, кто мне платит, — так, напротив, сказал Леонардо, а не Микеланджело. Несомненно, что этот момент тоже по-своему повлиял на историю искусства.
Вообще-то Тинторетто однажды угрожал застрелить критика, что многие художники могли бы счесть более важным моментом, чем оба предыдущих вместе взятых.
И возможно, это лишь один из Медичи предложил Микеланджело сесть. Тем не менее было бы приятно, если бы это оказался не тот папа, который заставлял людей сжигать стихи Сапфо.
Кстати, когда я утверждаю, что вышеперечисленное было сделано или сказано, в действительности я, кончено, имею в виду, что так гласит легенда.
Как, например, легенда гласит, что Джотто однажды нарисовал идеальный круг от руки.
Хотя я решительно склонна верить в правдивость истории о круге, большинство таких легенд в любом случае совершенно безвредны.
Да, и я также не вижу никаких оснований сомневаться в том, что Пьеро ди Козимо спрятался под столом, испугавшись молнии. Или в том, что Хуго ван дер Гус мог писать религиозные картины в церкви, только если монахи пели псалмы, чтобы он не рыдал весь день напролет.
Кстати, Пьеро ди Козимо не следует путать с вчерашним закатом Пьеро делла Франчески, а Хуго ван дер Гуса не следует путать с Рогиром ван дер Вейденом, чье «Снятие с креста» так плохо освещено в галерее Прадо.
Ну, или с Винсентом Ван Гогом, чей закат был за несколько дней до Пьеро.
Что это за симфония Шостаковича, в которой можно практически услышать, как танки сходят с конвейера?
Так или иначе, все эти истории, как можно заметить, свидетельствуют лишь о том, что очень многие люди в этом мире, а не только я одна, не нашли в себе сил избавиться от определенного багажа.
Конечно, пройти полпути до Неаполя ради того, чтобы добавить один мазок к картине на стене, — тоже своего рода багаж.
Несомненно, что и отрезать собственное ухо — багаж, как ни парадоксально.
И обедать каждый день на Эйфелевой башне. Или даже прятаться у окна.
Тем не менее в моем случае правда заключается в том, что в один прекрасный день весь мой багаж исчез.
Хотя весьма вероятно, что и это тоже было не так просто.
Снаряжение — от него я избавилась. От вещей.
И наоборот, я могу даже сейчас все еще вызвать в памяти последние четыре цифры телефонного номера Люсьена, после всех прошедших лет.
Или поведать слухи о том, что Ахиллес и Патрокл были больше чем просто близкими друзьями.
На самом деле, я даже только что процитировала Фридриха Ницше.
В действительности я почти час назад процитировала Фридриха Ницше, а точнее, Паскаля.
Где я снова была, так это у родника. На этот раз я решила, что можно принести всё.
Между прочим, я больше не испытываю депрессии, от которой, как я теперь понимаю, я и не страдала с самого начала, а лишь была не в духе.
То есть надо сказать, что я переоделась в те чистые трусы минут на пятнадцать раньше, чем собиралась, а теперь мне пришлось переодеваться снова, потому что у меня только что начались месячные.
Я не намерена проверять, что именно я написала о несущественных беспокойствах, которые время от времени становятся основополагающим настроением существования. Или о том, как вопросы, на которые было невозможно ответить, получают ответы.
Ну да ладно.
Во всяком случае все, что было постирано, теперь находится в моей спальне наверху.
Мгновение или два, прежде чем вернуться вниз, я смотрела в заднее окно.
Я не часто смотрю в него, ведь это не то окно, через которое я наблюдаю за закатом солнца.
На что я смотрела, так это на другой дом, который находится глубоко в лесу на некотором расстоянии отсюда.
Не думаю, что я когда-либо упоминала другой дом.
Что я могла упоминать, так это дома вообще, стоящие вдоль берега, но такое обобщение не включало бы этот дом, ведь он совсем не рядом с водой.
Все, что от него можно увидеть через то заднее окно наверху, так это угол крыши.
На самом деле я вообще не знала о другом доме, когда впервые пришла сюда.
Узнав об этом, я сразу же поняла, что где-то должна также быть дорога, ведущая к нему, разумеется.
Однако мне никак не удавалось найти эту дорогу, причем очень долго.
Пытаясь отыскать ее, я села в пикап и сначала двинулась по дороге к городу, сворачивая везде, где только могла.
Все подъездные дороги вели к домам на пляже, однако, как я уже говорила, тот дом не на пляже.
Мне, наверное, следует добавить, что, когда я говорю «двинулась по дороге к городу», я выражаюсь фигурально, ведь я делала совсем не это.
Дорога к городу одновременно является, естественно, и дорогой из города, а именно в этом противоположном направлении тот дом видно из моего заднего окна на верхнем этаже.
Возможно, мне не обязательно было делать такое уточнение.
Так или иначе, неспособность отыскать дорогу постепенно стала совершенно новым видом беспокойства в моем существовании.
Определенно должна быть дорога, ведущая к этому дому, неоднократно говорила я себе.
Тем не менее, сколько бы раз я ни ездила туда- сюда, я не могла ее отыскать.
Однажды утром я решила превратить все это в большой проект, несмотря на то что раньше убедила себя завязать с крупными проектами.
Сегодня я отыщу дорогу, ведущую к тому дому, что бы ни случилось, наконец решила я.
До сих пор я искала за рулем пикапа, как уже говорила. Тем утром, однако, я решила искать, отправившись к дому пешком через лес.
И, естественно, в результате этой процедуры я также должна была выйти прямо к дороге, вот что, очевидно, было у меня на уме.
В самом деле, этот план настолько меня увлек, что логика самой идеи приводила меня в восторг.
Более того, вдобавок я сказала себе, что, добравшись до того дома, я сразу же двинусь к началу дороги и тем самым уничтожу все остатки тайны.
Эта дорога привела к дороге, по которой уезжают из города.
Ну, когда я говорю «привела», я имею в виду «ведет», ведь она, разумеется, по сей день остается там, где была все это время.
Боже правый. И как долго я позволяла себе переживать из-за того, что не могла отыскать эту дорогу?
Определенно, я проезжала мимо того поваленного дерева не меньше шести или восьми раз.
Между тем, едва разгадав эту загадку, я, конечно же, поняла, что больше не питаю ни малейшего интереса к этой дороге.
Да и сам дом меня не слишком интересует, если честно.
Не считая того, что иногда, случается, я глазею на угол его крыши, прямо как сейчас.
Очень вероятно, между прочим, что теперь я буду менструировать несколько недель. Или, как минимум, оставлять пятна все это время.
Это проблема гормонов, несомненно, и смены образа жизни.
Мои руки, кажется, намекают на то, что время пришло. Будучи художником, научаешься читать по тыльной стороне ладоней.
Даже хотя я редко писала портреты.
Тот, другой дом совершенно заурядный, между прочим.
Ну, не считая того, что это единственный дом поблизости, построенный для людей, предпочитавших вид на лес, а не на воду, разумеется.
Кажется, я могу понять такое предпочтение. Вряд ли я его разделяю, но, кажется, могу понять.
Хотя опять же оттуда можно увидеть лишь отсвет заката в лучшем случае, даже из верхних окон.
Ну, я смотрела. Что не запрещено.
Хотя, если быть до конца честной, то я смотрела, не виден ли оттуда мой собственный дом.
Что тоже не запрещено.
Мой дом оттуда не виден.
Очевидно, что это всего лишь следствие того, как расположены окна. И все же, это тоже легко может стать своего рода беспокойством, если иметь соответствующую склонность.
В конце концов, почему, черт возьми, человек может видеть один дом из другого, но не наоборот? Очевидно же, что нет никакой разницы в расстоянии между этим домом и тем — или тем и этим.
Однажды я принесла в Рейксмюсеум новые колонки для своего проигрывателя. Инструкция предписывала мне убедиться в том, что обе колонки равноудалены друг от друга.
Конечно, пришлось задуматься над тем, что имел в виду человек, писавший эту инструкцию.
Ну, или человек, переводивший инструкцию с японского.
Где бы вы их ни размещали, как можно расположить два предмета иначе, кроме как на равном удалении друг от друга?
Даже если бы, например, имелся некий волшебный способ переместить этот дом, он определенно оказался бы в точности на таком же расстоянии от другого дома, как другой от этого.
Впрочем, в последнем случае этот дом хотя бы мог оказаться там, где его наконец-то стало бы видно из другого дома.
Вообще-то однажды я все-таки видела этот дом из того дома, если подумать.
Дело в том, что в моей пузатой печке горел огонь в тот день, когда я решила прогуляться по лесу. Оглянувшись, я увидела дым над деревьями.
Вон там мой дом, подумала я, когда посмотрела.
Я, кажется, уже отмечала устойчивость такого рода мышления раньше.
Несомненно, я бы выразила идентичную мысль в ночь, когда мой прежний дом превращался в перевернутое огненное марево на фоне облаков, если бы у меня была шлюпка, в которой я могла бы выразить ее в тот момент.
Пожалуй, все подобные мысли вполне укладываются в ту же категорию, что и мысль о человеке у окна на картине, на которой в действительности никого нет, поскольку я, кажется, уже констатировала, что картины, в сущности, никогда не являются тем, что мы о них думаем.
Впрочем, не факт, что я констатировала нечто подобное.
Главное, продолжая размышлять в таком ключе, можно также усомниться, действительно ли я ходила к другому дому.
Бесспорно, я ходила к другому дому, ведь я отчетливо помню афишу, приклеенную к стене гостиной комнаты.
На афише изображена Жанна Авриль и еще три парижские танцовщицы. Более того, на ней перечислены имена всех танцовщиц, в том числе и ее.
Среди других имен на афише есть Клеопатра, Газель и мадемуазель Эглантин.
Да, я смутно припоминаю, что, возможно, уже даже говорила об этом раньше.
С другой стороны, конечно, никак нельзя узнать, была ли афиша нарисована до или после того, как Тулуз-Лотрек, возможно, ходил с моей палкой.
Кроме того, оказывается, в выражении лица Жанны Авриль нет ничего, что бы намекало на ее роман с Брамсом.
Тем не менее можно вспомнить другие картины, на которых она выглядит более чем достаточно чувственной, чтобы привлечь его.
К сожалению, в другом доме нет биографии Брамса, из которой я могла бы больше узнать об этом.
Биография Бетховена тут бы никак не помогла, надо полагать.
Кстати, биография Бетховена в другом доме называется «Бетховен».
Биография Брамса, в которую я однажды заглянула, называлась, насколько я помню, «Жизнь Брамса».
Ну, без сомнения, в этом я могла бы легко убедиться, ведь второй экземпляр биографии Брамса по-прежнему имеется здесь, где нахожусь я.
Впрочем, теперь, пожалуй, возникает вопрос, называлась бы биография Брамса «Жизнь Брамса», если бы у меня под рукой не оказалось второго экземпляра.
Иначе говоря, если бы нигде не осталось больше ни одного экземпляра «Анны Карениной», называлась бы она по-прежнему «Анной Карениной»?
Я, наверное, не вполне уверена, что имею в виду этим вопросом.
Тем не менее невозможно спорить с тем, что я, похоже, неоднократно думала о жизни Брамса, не видя биографию Брамса.
Кстати говоря, я неоднократно думала о «Признаниях» Уильяма Гэддиса, хотя не видела ни экземпляра «Признаний» Уильяма Гэддиса двенадцать или пятнадцать лет.
Я даже думала о самом Уильяме Гэддисе, хотя не видела Гэддиса двенадцать или пятнадцать лет тоже.
На самом деле я, возможно, никогда не видела Гэддиса.
Более того, я также думала о Т. Э. Шоу, а я даже не знаю, кто такой Т. Э. Шоу.
Зато вспомнив наконец-то, что Марко Антонио Монтес де Ока писал стихи, я, наверное, хотя бы могу смело предположить, что сестра Хуана Инес де ла Крус делала то же самое.
Но по какой-то причине о чем я сейчас на самом деле думаю, так это о сцене из «Троянок», в которой греческие солдаты сбрасывают бедного сына Гектора с городской стены, чтобы тот, повзрослев, не отомстил за своего отца и за Трою.
Боже, чего только мужчины не делали.
Ирен Папас, однако, была эффектной Еленой в «Троянках».
Кэтрин Хепбёрн тоже была эффектной в роли Гекубы.
Гекуба была матерью Гектора. Другими словами, разумеется, она была также бабушкой маленького мальчика.
Только представьте, как должна была чувствовать себя Кэтрин Хепбёрн.
Весьма вероятно, что мимо того упавшего дерева можно было ездить бесконечно, я полагаю, так и не заметив дороги. Тем более что эта дорога сразу же резко поворачивала.
Хотя теперь я вспомнила, что посмотрела еще несколько фильмов до того, как проектор, который я принесла в свой лофт, перестал работать.
Возможно, в одном из них Питер О’Тул играл роль Лоуренса Аравийского.
А в другом, кажется, Марлон Брандо играл Сапату.
Между тем я только что съела тарелку сардин.
Большая часть продуктов в банках все еще кажутся съедобными, кстати. Я перестала доверять только еде, упакованной в бумагу.
Хотя я бы почти все отдала за два жареных яйца.
Если серьезно, то я бы, честное слово, почти все отдала за то, чтобы понять, каким образом моему мозгу иногда удается вот так перескакивать с одного на другое.
Например, сейчас я снова думаю о том замке в Ла-Манче.
И по какой такой причине я помню также, что именно Одиссей нашел Ахиллеса, когда Ахиллес скрывался среди женщин, чтобы его не заставили идти воевать?
Допустим, Одиссей наверняка считал, что если сам он должен идти воевать, то и всем остальным следует делать то же.
Но все равно.
Вообще-то я собиралась добавить, что это еще один эпизод, который написал или не написал Тьеполо, но это был Ван Дейк.
Даже хотя Ван Дейк редко писал что-либо, кроме портретов.
В любом случае, о чем Одиссей, вероятно, не догадывался, так это о том, что от Ахиллеса забеременела одна из женщин.
Интересно, знал ли об этом Патрокл?
К замку — так, наверное, было написано на знаке.
А еще я, кажется, чисто случайно посмотрела интересный русский фильм об Андрее Рублеве и Феофане Греке.
Это были два русских живописца.
Пусть даже Феофан на самом деле не был русским, естественно.
Все это никак не связано с тем фактом, что в другом доме нет биографии Брамса, уверена я, каким бы ни было ее название, если бы она находилась там.
Вдобавок к биографии Бетховена, которая называется «Бетховен», есть также книга под названием «Бейсбол, когда трава была настоящей».
Как я уже упоминала, в этом доме есть экземпляр точно такой же книги.
Кстати, я все-таки решила, что это не академические размышления в духе Кьеркегора или Мартина Хайдеггера.
Хотя, вполне возможно, что она как-то связана с метеорологией.
В этой связи меня интересует вопрос о том, в какое время года, предположительно, играли в бейсбол.
Тогда, однако, книга кажется поразительно плохо отредактированной, и ее определенно следовало было назвать «Бейсбол, когда трава настоящая».
На самом деле название «Бейсбол, когда трава растет», было бы еще более подходящим.
В чем явно можно быть уверенным, с другой стороны, так это в том, что автор был другом людей, живших в этих двух домах. Или, возможно, даже сам жил неподалеку.
Определенно, два разных человека в двух таких близких домах не стали бы оба тратить деньги на одну и ту же книгу о бейсболе.
Впрочем, если бы в каждом из этих домов хранилось по экземпляру «Грозового перевала», вряд ли бы я предположила, что кто-то из жильцов знал Эмили Бронте.
Или что Эмили Бронте когда-то жила на этом пляже.
Кстати, есть объяснение того, почему, говоря о Кьеркегоре, я обычно пишу Кьеркегор, а говоря о Мартине Хайдеггере — Мартин Хайдеггер.
Объяснение это заключается в том, что имя Кьеркегора — Søren, и, написав его, мне бы все время приходилось возвращаться, чтобы допечатать наклонную черту.
Однако избежать двух точек в фамилии Bronte не представляется возможным.
Так или иначе, ни одна из нескольких других книг, которые я заметила там, не вызывает у меня особенного интереса.
Хотя я, пожалуй, забываю об однотомном сборнике греческих пьес — издании, которое я никогда прежде не видела.
С другой стороны, у меня больше нет намерения открывать «Истоки застольного этикета», равно как и читать книгу о траве.
Еще одна и вовсе называется «Эйфелева башня» — надо же было выбрать столь вздорный предмет.
Между прочим, ни в одной из пьес, естественно, нет ни слова о менструации.
Хотя если как следует разобраться, то можно сделать обоснованное предположение о чем-то подобном, несмотря на умолчание.
Так, например, есть весьма прозрачные намеки на то, когда у Кассандры происходили месячные.
Кассандра снова не в духе, так, можно себе представить, время от времени говорят Троил и некоторые другие троянцы.
Впрочем, у Елены они могли происходить даже несмотря на ее лучезарное величие, ведь это же Елена.
Лично у меня во время месячных опухает лицо.
С другой стороны, можно с уверенностью утверждать, что Сапфо не стала бы ходить вокруг да около, случись с ней такое.
Этим вполне может объясняться, почему некоторые из ее стихов использовались для наполнения мумий, еще раньше, чем монахи добрались до того, что от них осталось.
Честное слово, фрагменты утраченных произведений Сапфо были обнаружены разрезанными на полоски внутри мертвых египтян.
Кстати, я упоминала, что отца Сапфо звали Скамандроним, в честь реки возле Гиссарлыка, посмотреть на которую я однажды ездила?
Я вовсе не хочу сказать, что в этом есть что-либо значительное, просто данный факт показался мне очень любопытным, и мне захотелось его включить.
Однажды в Национальной портретной галерее в Лондоне, глядя на групповой портрет кисти Бренуэлла Бронте, запечатлевшего на нем трех своих сестер, я решила, что Эмили Бронте выглядела в точности, как должна была выглядеть Сапфо.
Даже несмотря на то, что трудно предположить двух более непохожих друг на друга женщин, разумеется, ведь Эмили Бронте, по всей вероятности, даже никогда не имела любовника.
Что, надо полагать, объясняет, почему столь многие люди в «Грозовом перевале» постоянно заглядывают в окна или выглядывают из них.
Или даже залезают в них и вылезают из них.
Тем не менее мысль о такого рода жизни всегда печалила меня.
Однако что хоть кто-то из нас когда-нибудь по-настоящему знает?
Маленького сына Гектора звали Астианакт, между прочим.
На самом деле это было лишь прозвище. В действительности его звали Скамандрий.
Я не хочу ни на что намекать в связи с этим совпадением.
Однако такие связи, кажется, продолжают появляться. Например, несколько дней назад, когда я заметила, что Аристотель когда-то учился у Платона, я также вспомнила, что Александр Македонский позже был учеником Аристотеля.
Это напомнило мне о том, что Париса, любовника Елены, в действительности звали Александр. И, если на то пошло, Кассандру часто называли Александрой.
Кажется, не было никакого смысла упоминать что-либо из этого. Даже если Александр Македонский всегда держал экземпляр «Илиады» рядом со своей кроватью и вообще верил, что он прямой потомок Ахиллеса.
Или что Ахиллес однажды чуть не утонул в Скамандре.
Хотя сейчас я также вспомнила, что Жанна Авриль тоже хранила некую книгу рядом со своей кроватью, но я забыла, какую именно.
А теперь я вдобавок вспомнила, что опять-таки именно Одиссей убедил других греков не оставлять выживших мужчин в Трое.
Боже, чего только не делали мужчины.
Я только что это сказала, я знаю.
И все-таки меня особенно огорчает в данном случае то, как быстро Одиссей забыл о плуге и о своем маленьком сыне.
По крайней мере, можно порадоваться тому, что у Сапфо тоже был ребенок. Да, дочь, как Елена.
То есть многие более поздние греки также могли быть прямыми потомками Сапфо, даже хотя их родословные не удалось бы проследить после определенного количества лет.
Но кто возьмется утверждать, что их потомком не могла быть даже сама Ирен Папас?
Учителем Платона был, конечно, Сократ, если я еще об этом не сказала.
Между тем я вдруг начала подозревать, что та биография Брамса вполне могла называться все- таки The Life of Brahms, а не A Life of Brahms.
Бесспорно, что вариант The Life of Brahms кажется более подходящим, ведь у этого человека была только одна жизнь.
Тем не менее, пожалуй, остается еще вероятность, что она называлась просто «Брамс».
Или что в другом доме имеется биография Шостаковича под названием «Шостакович. Биография».
Кстати, на стене гостиной в другом доме нет афиши с Жанной Авриль и еще тремя парижскими танцовщицами.
Где эта афиша находится, так это на полу гостиной другого дома.
После столь пространных обсуждений, когда я вчера вышла на прогулку, я решила прогуляться по лесу, а не по пляжу.
То есть снова наступило завтра. И это, как мне представляется, не требует дополнительных пояснений, на данном этапе.
За исключением, возможно, того, что все здесь до сих пор пахнет сиренью.
Я хочу отметить, однако, что афиша определенно упала некоторое время назад, так как она была покрыта листьями. И пушистыми семенами тополя.
Причина, по которой я хочу это отметить, заключается в том, что все это время в моих мыслях афиша висела на стене.
Более того, как я смогла подтвердить, что вообще бывала в другом доме, несколькими страницами выше, так это упомянув, что я отчетливо помню афишу.
На стене.
Где была афиша, когда она находилась на стене в моих мыслях, но не на стене в другом доме?
Где был мой дом, когда я могла видеть лишь дым, думая: вон там мой дом?
Кое-что из этого почти начинает меня беспокоить, если сказать по правде.
Я понятия не имею, что именно, но кое-что точно.
Вообще-то я хорошо успевала в колледже, несмотря на то что часто подчеркивала предложения в книгах, которые не входили в программу.
Теперь, однако, приходится задаваться вопросом, могло ли подчеркивание предложений в книгах Кьеркегора или Мартина Хайдеггера быть свидетельством прозорливости.
Или могли ли некоторые из этих самых вопросов получить ответы еще тогда, когда Александр Македонский тянул руку в классе.
Возможно, это были в точности такие же вопросы, о каких предпочел бы размышлять Людвиг Витгенштейн в тот день, когда Бертран Рассел заставил его напрасно тратить свое время, наблюдая за греблей Ги де Мопассана.
Хотя, если подумать, я однажды где-то читала, что сам Людвиг Витгенштейн не прочел ни одного слова Аристотеля.
На самом деле я не один раз утешалась осознанием этого факта, ведь есть так много людей, ни одного слова которых ты никогда не читал.
Таких, как Людвиг Витгенштейн.
Пусть даже считается, что Витгенштейна все равно слишком трудно читать.
И, по правде говоря, однажды я все-таки прочла одно его предложение, которое не показалось мне трудным ни в малейшей степени.
Более того, мне очень понравилось то, что в нем говорилось.
Не нужно много денег, чтобы купить хороший подарок, но нужно много времени — таким было это предложение.
Честное слово, именно так Витгенштейн однажды сказал.
Тем не менее если бы вчера он слушал, как танки сходят с конвейера в шестой симфонии Чайковского, что именно слышал бы Витгенштейн?
Когда люди впервые услышали первую симфонию Брамса, большинство из них смогли сказать лишь то, что она звучит очень похоже на девятую симфонию Бетховена.
Это любому ослу понятно, сказал им в ответ Брамс.
Думаю, что мне бы понравился Брамс.
Ну и я, конечно, с удовольствием призналась бы Людвигу Витгенштейну, как мне понравилось его предложение.
С другой стороны, я сильно сомневаюсь, что мне бы понравился Джон Рёскин, хотя я понятия не имею, что из сказанного мной навело меня на мысль о Джоне Рёскине.
Ну, Рёскин определенно был еще одной темой, которую я пропустила.
И что я действительно испытываю по отношению к Джону Рёскину, так это сочувствие.
Дело в том, что этот глупый человек столько лет разглядывал многочисленные древние статуи, что практически пережил шок в брачную ночь, ведь никто никогда не говорил ему, что у живых женщин есть лобковые волосы.
Вообще-то человеком, вызывающим сочувствие, при таких обстоятельствах должна была бы стать миссис Рёскин. Вот только она оказалась достаточно разумна, чтобы вскоре сбежать с Джоном Эвереттом Милле.
Кстати, когда я замечаю, что она была разумна, я подразумеваю: не только потому, что она сбежала, а еще и из-за того, что она сбежала с Милле, который в детстве был одаренным ребенком. То есть что он рисовал обнаженных моделей с одиннадцати лет.
Между прочим, Сапфо, как говорят, преподавала музыку.
Ну и Ахиллес также играл на музыкальном инструменте.
Мне доставляет удовольствие то, что я знаю оба этих факта.
Впрочем, я также знаю, что в Трое у Ахиллеса была любовница по имени Брисеида. Местами это начинает немного сбивать с толку, в конце концов.
Вообще-то очень жаль, что Джон Рёскин не дружил с Робертом Раушенбергом, который, вероятно, мог бы придумать способ все исправить.
Людвиг выглядит так глупо в качестве имени, когда его печатаешь.
Несомненно, если бы я сама писала биографию, то остановилась бы на простом названии «Бетховен».
Впрочем, что я теперь, с опозданием, хотела бы, возможно, сделать, пока была в другом доме, так это посмотреть, были ли какие-то пьесы в том однотомном сборнике переведены тем же переводчиком, благодаря которому Еврипид звучал так, будто вдохновлялся Уильямом Шекспиром.
Кстати, несмотря на это, есть довольно прозрачный намек на то, когда у Медеи приходят месячные.
И если правда то, что Одиссей двадцать лет провел вдали от Итаки, то у Пенелопы они бы за этот период случились примерно двести пятьдесят раз.
Не то чтобы я собираюсь продолжать эту тему, хотя время от времени зацикливаешься.
Особенно сидя здесь с опухшим лицом.
Но в действительности я снова имею в виду лишь ту красноречивую тишину, которая, несомненно, доказывает, что Сэмюэль Батлер был неправ, считая, будто «Одиссею» могла написать женщина.
Как странно. Даже когда я уже начала набирать эту фразу, я могла бы поклясться, что до сих пор понятия не имею, кто именно выдвинул такое предложение.
Так что теперь я вдобавок вспоминаю, что переводчика, слишком много читавшего Шекспира, звали Гилберт Мюррей.
В остальном же я не имею ни малейшего представления о том, кем был Сэмюэль Батлер, если только, как знать, это не тот самый Сэмюэль Батлер, который написал «Путь всякой плоти».
Хотя, в свою очередь, о «Пути всякой плоти» я знаю лишь то, что была бы рада услышать, что Людвиг Витгенштейн не прочел из нее ни слова.
Тем временем можно предположить, что Гилберт Мюррей был человеком, который переводил греческие пьесы.
Когда не читал Шекспира.
Кстати, Рубенс тоже написал картину, на которой Ахиллес прячется среди женщин.
Также существует его рисунок, где Ахиллес убивает Гектора копьем в горло.
Одна из вещей, которые часто восхищают людей в Рубенсе, даже если они не всегда знают об этом, заключается в том, что на его картинах всегда все всех касаются.
Ну, очевидно, не считая того, как Ахиллес прикасается к Гектору.
Тем временем я, возможно, допустила выше ошибку, сказав, что Руперт Брук умер во время Первой мировой войны в Геллеспонте, под которым я имела в виду Дарданеллы.
Где он на самом деле умер, я думаю, так это на острове Скирос, хотя последний находится лишь немногим южнее в Эгейском море.
Я поднимаю эту тему только потому, что Скирос — тот же самый остров, на котором скрывался Ахиллес.
Впрочем, я, однако, вовсе не хочу сказать, что в таких совпадениях есть какое-либо значение.
Пусть даже ребенок родился на Скиросе у женщины, забеременевшей от Ахиллеса, и ее ребенок вырос и стал тем самым солдатом, который сбросил маленького сына Гектора с городской стены.
А впоследствии стал мужем дочери Елены — Гермионы.
Что, в любом случае, никак не проясняет того, откуда я знаю о Сэмюэле Батлере.
Хотя, без сомнения, я прочла о нем в сноске в одной из книг о греках, на которую я обратила внимание.
Во всяком случае я, несомненно, обратила достаточно внимания, чтобы удостовериться, что сын Ахиллеса был бы слишком молод, чтобы находиться в Трое в предполагаемое время. И что Гермионе было бы столько лет, что она практически годилась бы ему в матери.
С другой стороны, я почти никогда не читаю сносок.
Хотя однажды я все же прочла прекрасную поэму Руперта Брука о стареющей Елене.
На самом деле в поэме она кажется ворчуньей.
Кроме Брисеиды я также помню имя другой пассии, Жанны Эбютерн, родившей ребенка от Модильяни. Хотя эта история одна из самых печальных, что я знаю.
Дело в том, что Жанна Эбютерн выбросилась из окна наутро после смерти Модильяни.
Будучи вновь беременной.
Чего только не делали женщины, почти хочется добавить.
Однако что хоть кто-то из нас действительно когда-либо знает?
И, по крайней мере, слово «пассия» наконец-то вышло из моды.
Между тем Сэмюэл Батлер, автор «Пути всякой плоти», предположил, что «Одиссею» написала женщина — так, я полагаю, говорилось бы в сноске.
Хотя, несомненно, это далеко не все, ведь можно весьма уверенно предположить, что нельзя после трех тысяч лет превратить Гомера из мужчины в женщину без какого-нибудь интересного объяснения.
Однако я понятия не имею, в чем могло бы заключаться такое объяснение.
Даже хотя очень многие люди могли бы настаивать на том, что никакого Гомера и вовсе никогда не существовало, а были лишь всевозможные певцы.
Карандашей там тоже не было — так бы объяснялась эта настойчивость.
Опять же возможно, что сноска была в какой-то другой книге, не имевшей вообще ничего общего с греками.
Многие книги нередко содержат вещи, которые связаны с другими вещами, связей между которыми вы никогда не ожидали.
Например, даже вот на этих самых страницах, которые пишу я, едва ли можно ожидать, что Т. Э. Шоу окажется как-то связан с чем-либо, хотя я только сейчас вспомнила, что еще одна книга в другом доме является переводом, выполненным кем-то с точно таким же именем.
Это перевод «Одиссеи», на самом деле.
Впрочем, демонстрация того, что теперь я знаю о Т. Э. Шоу примерно столько же, сколько о Гилберте Мюррее, является, возможно, не самым впечатляющим способом, каким можно было бы донести мою мысль.
В любом случае, несомненно, что сноска никак не связана с оперой о Медее, даже хотя она тоже в моей голове.
Однажды во Флоренции, сидя в ленд-ровере с правым рулем и глядя, как площадь под куполом Брунеллески утопает в снегу, что наверняка редкость, я слушала Марию Каллас, поющую об этом.
Я всего несколькими минутами ранее сменила транспортное средство, перетащив несколько чемоданов по одному из мостов через Арно, и поэтому даже не сразу заметила, что магнитола в салоне была включена.
«Медею» написал Луиджи Керубини, если я еще не упоминала.
В принципе это не исключено, ведь я часто путаю Керубини с Винченцо Беллини, который писал «Норму» — еще одну оперу, которую часто исполняла Мария Каллас.
Хотя время от времени я путаю Винченцо Беллини, в свою очередь, с Джованни Беллини, даже хотя Джованни Беллини — один из тех художников, которыми я всегда наиболее глубоко восхищалась.
Ну, даже Альбрехт Дюрер, которым я восхищаюсь почти в такой же мере, однажды сказал, что Беллини все еще лучший из живых художников.
Я говорю «все еще», поскольку Дюрер посещал Венецию в то время, когда Беллини был уже довольно стар.
С другой стороны, это, по-видимому, должно было происходить раньше, чем сам Дюрер практически сошел с ума, как Пьеро ди Козимо. Или как Хуго ван дер Гус.
Ну или как Фридрих Ницше, несмотря на то что я когда-то обожала одно из предложений у Фридриха Ницше тоже.
Вообще-то еще одного человека, чье предложение я когда-то обожала, имея в виду Паскаля, несомненно, можно добавить в этот список, тем более что он отказывался сидеть на стуле, если по обеим сторонам от него не стояло еще по стулу, чтобы он не упал в пространство.
На самом деле сейчас мне пришлось призадуматься, не перепутала ли я те два предложения и действительно ли именно Паскаль написал о блуждании по бескрайнему небытию.
Кстати, я никак не могу объяснить, почему обычно называю Паскаля Паскалем, а Фридриха Ницше — Фридрихом Ницше.
Однако вопрос о двух точках над фамилией Dürer, казалось бы, в сущности такой же, как вопрос о двух точках над Bronte.
В любом случае замечание насчет Джованни Беллини тоже, естественно, должно было быть сделано до смерти Дюрера от лихорадки, которую он подхватил на голландских болотах, где смотрел на выброшенного на берег кита.
Хотя, с другой стороны, несомненно, что оно было сделано много позже того, как сам Беллини стал зятем Андреа Мантеньи.
Сейчас я, пожалуй, хвастаюсь.
Но где я действительно слушала «Медею» в исполнении Марии Каллас, если подумать, так это в полном открыток фургоне фольксваген возле города под названием Савона, который находится на некотором расстоянии от Флоренции, но тоже в Италии.
Кроме того, так случилось, что я не заметила магнитолу в фургоне, потому что она не играла, пока я вела его.
Лишь когда фургон съехал с набережной и упал, перевернувшись, в Средиземное море, магнитола начала играть.
Я не могла придумать этому какого-либо объяснения.
Да и сейчас не могу.
Вообще-то магнитола заиграла не ровно тогда, когда фургон перевернулся.
На самом деле я уже выбралась и стояла по пояс в Средиземном море, когда она начала играть.
Что я делала, так это пыталась вытрясти грязь из волос, попавшую в них с резинового коврика, который упал на меня с пола.
Делая это, я поняла, что у меня болит плечо.
На самом деле несомненно, что я услышала Марию Каллас, лишь убедившись, что мое плечо не сильно пострадало.
Таким образом, можно, наверное, сказать, что она все-таки пела и до того.
Боже мой, только что я вела автомобиль, который теперь лежит вверх тормашками в Средиземном море, а я почти не поранилась, думала я, что наверняка тоже должно было помешать мне сразу услышать ее пение.
Кроме того, я определенно была огорчена тем, насколько сильно я промокла.
Может быть, я не упоминала, насколько сильно промокла.
Ну, без сомнения, я просто предположила, что излишне об этом говорить, ведь я уже упоминала, что стояла по самую попу в Средиземном море.
Кроме того, я никогда прежде не стояла на четвереньках на внутренней стороне крыши автомобиля — вот о чем еще я, несомненно, думала.
Хотя, возможно, что к тому времени я также заметила указатель с надписью «Савона».
Я не помню, однако, означал ли тот указатель, что Савона находится впереди или позади меня.
На самом деле, я вообще не помню, чтобы я ехала через какой-либо город с таким названием, будь то в транспортном средстве, которое упало с набережной, или в том, в которое я затем пересела.
Если бы я проехала через него в том автомобиле, который упал с набережной, то я должна была уже побывать в нем прежде, разумеется.
Впрочем, учитывая то, как долго, по-видимому, разрушалась набережная, не исключено, что раньше существовал некий старый объезд вокруг Савоны.
Однако чаще всего я старалась избегать объездов.
Это говорит лишь о том, что мое умение ориентироваться иногда отнюдь не замечательное.
Если бы у меня был выбор: например, сразу поехать по дороге, уводящей прочь от набережной, или пойти пешком, чтобы убедиться в безопасности движения прямо, я бы пошла пешком.
Хотя вообще-то совсем рядом от того места, где я стояла, был точно такой же фургон фольксваген.
Он был полон футбольного снаряжения.
Часть этого снаряжения оказалась футболками, как выяснилось, с названием «Савона» спереди.
Будучи промокшей, как я уже говорила, я переоделась в одну из них.
Я даже подложила еще несколько свернутых футболок на сиденье, по той же причине.
Не то чтобы в тот момент у меня не нашлось другой собственной одежды, разумеется, ведь тогда я еще не избавилась от багажа.
Однако вся она лежала там, вверх тормашками в Средиземном море.
Вместе с открытками.
На большинстве этих открыток, между прочим, были одинаковые виды галереи Боргезе в Риме.
Хотя на некоторых была изображена виа Витторио-Венето, которая находится почти прямо под галереей Боргезе.
Обратное утверждение является столь же верным, разумеется.
Кстати, Модильяни было всего лишь тридцать пять лет.
Теперь я думаю, что, возможно, проносила ту футболку, пока не добралась до самого Парижа.
Несомненно, однако, что я убрала из-под себя футболки, на которых сидела, после того, как высохла остальная часть моей собственной одежды.
На самом деле я ждала, пока она частично высохнет, прежде чем поехать.
Что я сделала, пока ждала, так это сняла свою джинсовую юбку с запахом, хлопковый джемпер и трусы и оставила их на солнце, а затем надела футболку с надписью «Савона».
Пока я ждала, я также продолжала слушать «Медею» в исполнении Марии Каллас.
Футболка, кстати, была слишком большая и доходила чуть ли не до колен.
Тем не менее по какой-то причине мне нравилось носить ее.
Вообще-то на футболке также был номер, на спине, хотя я забыла, какой именно.
Разумеется — ведь номер был на спине.
Надпись же «Савона» растянулась на моей груди.
Хотя на самом деле где она растянулась, так это от одной подмышки до другой из-за того, насколько большой была футболка.
Между тем из всего сказанного так и не ясно, проехала ли я через Савону или нет.
Тот факт, что я не помню, как делала это, ни в коей мере не подтверждает, что я этого не делала, считаю я.
Можно проехать через множество городов, не зная их названий.
Ну, особенно в России, о чем я, возможно, уже говорила, где даже Федор Достоевский мог проехать мимо Санкт-Петербурга, не зная, что это Санкт-Петербург.
Если на то пошло, то я сама когда-то хотела остановиться в Коринфе, в Греции, но только спустя некоторое время обнаружила, что уже миновала Коринф и уехала дальше.
Это было тем утром, когда я ехала против часовой стрелки, среди гор, от Афин к Спарте, как оказалось.
То есть это было как раз наутро после того, как мне показалось, что кто-то окликнул меня по имени у Акрополя, и совсем недалеко от перекрестка авеню Кэтрин Хепбёрн и улицы Архимеда.
Как я почти почувствовала, в разгар всех этих поисков.
Однако это был лишь Парфенон, такой красивый под полуденным солнцем, что затронул мои душевные струны.
И все же некоторое время мне почти хотелось разрыдаться.
Но потом я заглянула в справочник по птицам южного Коннектикута и Лонг-Айленда узнать, что в нем может говориться о чайках.
Почему я хотела остановиться в Коринфе, так это из-за самой Медеи, если честно, даже хотя опера была в то время ни при чем.
Хотя, так или иначе, можно усомниться в наличии каких-либо доказательств существования могил ее маленьких сыновей.
С другой стороны, весьма вероятно, что там была, по крайней мере, аптека или кинотеатр с названием «Савона», а я просто не обратила внимания.
Хотя теперь я почти уверена в том, что на спине футболки была цифра семь.
Или семнадцать.
На самом деле это была цифра двенадцать.
Однажды я была на сто процентов уверена, что нахожусь в городе под названием Литиц в Пенсильвании, не имея совсем никакой веской причины быть в этом уверенной.
Вообще-то я была в равной степени уверена, всего лишь несколькими мгновениями ранее, что нахожусь в городе Ланкастер, штат Пенсильвания, пока меня не разубедило название какой-то аптеки или кинотеатра.
Но даже тогда я понимала, что в городе Ланкастер легко может оказаться аптека под названием «Литиц», так же как в Савоне может обнаружиться кинотеатр под названием «Римини». Или «Перуджа».
Тем не менее я была на сто процентов уверена, что нахожусь именно в Литице, штат Пенсильвания.
Я также думаю, что все-таки время от времени я носила одну и ту же футболку в галерее Тейт в Лондоне, в прохладные утра, когда ходила за водой к Темзе.
Или когда любовалась картинами Тёрнера, на которых была изображена вода.
Я, однако, не имела при себе каких-либо других футболок, когда бросила тот фургон фольксваген, что только теперь, с опозданием, кажется мне легкомысленным.
Очевидно, что, раз уж мне так нравилось носить ту футболку, обычный здравый смысл должен был подсказать мне сохранить еще несколько.
Впрочем, в то время я решительно не догадывалась, что проникнусь к ней такой нежностью.
Если уж на то пошло, вполне могло случиться так, что я бы ждала, пока моя собственная одежда полностью высохнет, в случае чего я бы и вовсе никогда не прониклась подобными чувствами к той футболке.
Что могло помешать мне слушать «Медею» в исполнении Марии Каллас даже совершенно без одежды, пока я ждала?
Вообще-то было довольно тепло, как я сейчас помню.
Ох, боже мой.
Очевидно, что речь не о Марии Каллас, поющей без одежды, а обо мне, слушающей ее в таком виде.
Что за нелепости все время изобретает язык.
И в любом случае, к тому моменту я уже надела футболку.
И, кстати, слушала достаточно долго, чтобы понять, что Мария Каллас все-таки пела не «Медею» Луиджи Керубини, а «Лючию ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти.
Поняла я это благодаря знаменитой сцене безумства в последней.
Гаэтано Доницетти — еще один человек, которого я могла бы перепутать с Винченцо Беллини. Или с Джентиле Беллини, который также был зятем Андреа Мантеньи, поскольку являлся братом Джованни Беллини.
Ну вот, я его все же спутала. С Луиджи Керубини.
В музыке я не сильна.
Хотя от этой конкретной сцены в исполнении Марии Каллас у меня всегда мурашки бегут по спине.
Когда Винсент Ван Гог сошел с ума, он даже пытался съесть свои краски.
Ну а Мопассан питался и того хуже, бедняга.
Этот список становится удручающе длинным.
Даже Тёрнер, в некотором смысле, со своей фобией, из-за которой он никому не разрешал смотреть, как он работает.
Вообще-то говорят, что Еврипид жил в пещере по этой же причине.
Хотя Гюстав Флобер однажды написал Мопассану письмо, призывая его не тратить столько времени на греблю.
Честное слово, Флобер однажды написал об этом Мопассану.
На самом деле в письме также говорилось, чтобы он не проводил столько времени с проститутками.
Более того, если бы Флобер захотел, он мог бы написать аналогичное письмо Брамсу, хотя мне об этом ничего не известно.
Вообще-то он мог бы даже написать лишь часть такого письма Брамсу, а предыдущую часть — Альфреду Норту Уайтхеду.
Когда Гертруда Стайн познакомилась с Альфредом Нортом Уайтхедом, она сказала, что в ее голове словно прозвенел маленький колокольчик, сообщивший ей, что он гений.
Второй раз Гертруда Стайн слышала этот колокольчик, когда познакомилась с Пикассо.
Несомненно, однако, что, как правило, гораздо сложнее вот так запросто определить, кто сумасшедший, а кто нет.
В Санкт-Петербурге, когда он наконец выяснил, как туда добраться, Достоевский, видимо, считал, что все встречавшиеся ему люди принадлежат к этой категории, или во всяком случае такое возникает впечатление.
Мужчины столь непременно безумны, что для них не быть безумным составляет особую форму безумия, и это еще одно предложение, которое, как я теперь вспоминаю, я когда-то подчеркнула.
Его я подчеркнула в книге, идентичной той, в которой подчеркнула одно из других предложений и которая на самом деле также была книгой, всегда лежавшей возле кровати Жанны Авриль.
Ведь это были «Мысли» Паскаля.
Я считаю, что мне бы понравилась Жанна Авриль.
Ну и я, конечно, с удовольствием сказала бы Паскалю, как я обожаю два его предложения.
Пожалуйста, не вставайте, даже радостно настаивала бы я.
Вообще-то Еврипиду в итоге пришлось отправиться в изгнание.
Это, впрочем, случилось не потому, что ему не хватало уединенности в своей пещере, а из-за сказанных им слов, которые некоторые люди не одобрили.
Аристотелю тоже пришлось отправиться в изгнание.
А Сократ между тем вынужден был принять яд.
Я полагаю, можно изумиться, вспомнив, что все это происходило в Греции, откуда вышли все искусства и все свободы.
Хотя некоторые фрески Андреа Мантеньи были уничтожены бомбами во время Второй мировой войны, в Италии.
Тем не менее многие списки, кажется, становятся длиннее.
Двадцать пятого октября был день рождения Пикассо.
Пусть даже у меня нет возможности определить, когда именно наступает двадцать пятое октября.
Или какая-либо другая дата.
Саймон родился тринадцатого июля.
В любом случае не думаю, что я слышала Марию Каллас еще хотя бы раз после того дня.
Да, и я почти не меняю транспортных средств в последнее время.
С другой стороны, я снова слышала Джоан Баэз. И Кэтлин Ферриер. И Кирстен Флагстад.
Всех этих людей я слышала, в сущности, примерно так же, как Гертруда Стайн слышала тот маленький колокольчик.
Хотя Кирстен Флагстад я также слушала на кассетной деке у теннисных кортов.
Возможно, я не упоминала о теннисных кортах.
Теннисные корты находятся рядом с дорогой, ведущей в город. Причина, по которой я не упоминала о них, состоит в том, что у меня не было никаких оснований упоминать о них.
Также у меня не было бы никаких оснований упоминать о них сейчас, если бы не мои объяснения насчет Кирстен Флагстад.
Получилось так, что однажды днем я решила поиграть в теннис.
Я не решила поиграть в теннис.
Что я решила сделать, так это ударить по нескольким теннисным мячам.
Теннисные мячи, по которым я решила ударить, были не те теннисные мячи, которые я когда-то спустила вниз по Испанской лестнице, между прочим. Возле теннисных кортов есть небольшой сарай, и эти я обнаружила там.
Теннисные мячи, которые я спустила вниз по Испанской лестнице, находились в коробке в багажнике джипа, кажется.
Эти теннисные мячи были в банках. Если бы не банки, то, как я совершенно уверена, они потеряли бы прыгучесть некоторое время назад, и поэтому, несомненно, я бы не решила ударить по ним.
Едва ли можно ударять по теннисным мячам, которые потеряли прыгучесть, что я поняла уже тогда, когда эта идея впервые пришла мне в голову.
Также в сарае были ракетки. Струны на большинстве из них растянулись, но я выбрала ту, на которой они растянулись меньше, чем на других.
Наверное, около часа я открывала банки и запускала теннисные мячи над одной из сеток.
Сеток там не было, ведь они тоже испортились из-за погоды некоторое время назад.
Ну, там были обрывки сеток.
Можно притвориться, что они не совсем обрывки.
Или что одна из них не совсем обрывки, а ведь большего и не требуется, чтобы запускать над ней теннисные мячи.
Многие из теннисных мячей отскакивали не очень хорошо, хотя и хранились в банках.
Или, возможно, это происходило из-за травы, проросшей сквозь покрытие кортов.
Честно говоря, я все равно никогда не была искусна в теннисе.
На самом деле я почти никогда не играла в теннис.
Все эти мячи до сих пор на обочине дороги, между прочим. Я часто замечаю их, когда еду в город или обратно.
Ну, я заметила их буквально на днях.
Вон теннисные мячи, по которым я ударяла в тот день, подумала я.
К счастью, это не то же самое, что заметить дым и подумать: вот мой дом, ведь то, что я замечаю в таких случаях, это всегда настоящие теннисные мячи.
Приятно быть уверенным в том, что говоришь, по крайней мере время от времени.
Я не забыла о Кирстен Флагстад.
Когда я закончила ударять по теннисным мячам, я была сильно потная.
Рядом было припарковано несколько автомобилей.
Часто в некоторых автомобилях все еще функционирует кондиционер.
Если бы я была на пляже, я бы вошла в океан.
Не будучи на пляже, я завела один из автомобилей.
Кирстен Флагстад пела «Четыре последние песни» Штрауса.
Такое случается. Поворачиваешь ключ зажигания, думая только о том, как запустить автомобиль или, в данном случае, как запустить кондиционер, и совсем не замечаешь, что кассетная дека находится во включенном положении.
Между прочим, я часто недоумевала, почему их назвали «Четыре последние песни».
Ну, без сомнения, их назвали «Четыре последние песни» потому, что именно таковыми они и являлись.
Тем не менее трудно представить композитора, который усаживается и говорит себе: сейчас я напишу свои последние четыре песни.
Или даже ложится и говорит такое.
Хотя, возможно, такое не исключено. Это кажется весьма сомнительным, но, пожалуй, не невероятным.
Так или иначе, может оказаться, что пела Кэтлин Ферриер.
А песни могли называться «Четыре серьезные песни» Брамса.
С тех пор, как я ошиблась насчет «Лючии ди Ламмермур», я решила не делать поспешных выводов в таких вопросах.
Кстати, Брамс никогда не был моим любимым композитором.
Несмотря на то что Брамс много раз упоминался на этих страницах.
Хотя на самом деле Брамс упоминался не так уж и много раз на этих страницах.
Что чаще упоминалось, так это биография Брамса, которая, возможно, называется «Жизнь Брамса» или, возможно, «Брамс».
Не считая прочих вариантов.
На самом деле что упоминалось, так это несколько биографий Брамса.
Биографии Бетховена и Чайковского тоже упоминались.
Как и история музыки, написанная для детей и напечатанная чрезвычайно крупным шрифтом.
Кроме того, я упоминала о том, что слушала Игоря Стравинского, когда каталась от одного конца Метрополитен-музея до другого в своем инвалидном кресле.
Все это было чистой случайностью.
Тот факт, что я также упоминала книгу о бейсболе, конечно, не следует считать подтверждением того, будто бы мне свойственен некий энтузиазм по отношению к бейсболу.
Честно говоря, я не считаю, что у меня есть любимый композитор.
Любопытно, однако, что в течение некоторого периода, не так давно, я могла слышать только «Времена года» Вивальди.
Даже когда я была уверена, что имею в виду нечто иное, «Времена года» были именно тем, что я слышала.
Такое случается.
С живописью такое случается ничуть не реже.
Например, время от времени я бываю уверена, что имею в виду определенную картину, но затем оказывается, что мне в голову пришла совсем другая картина.
Недавно утром такое случилось со «Снятием с креста» Рогира ван дер Вейдена.
Прямо сейчас я вижу эту картину.
Что, несомненно, вполне естественно, так как я снова думаю о ней.
Более того, даже если бы я не думала о ней, мне, конечно, пришлось бы задуматься, когда я печатала эти последние несколько предложений.
Тем не менее когда я думала о ней в то утро, я вовсе не видела «Снятие с креста».
Что я видела, так это картину Яна Вермеера, на которой молодая женщина спит за столом, в Метрополитен-музее.
Ну вот опять.
Разумеется, молодая женщина не спит за столом в Метрополитен-музее, так же как и Мария Каллас не была раздета на той набережной возле Савоны.
Молодая женщина спит на картине Метрополитен-музея.
Конечно, с этим предложением тоже что-то не так.
Ведь молодой женщины тоже не было, а было только ее изображение.
Вот почему, повторюсь, я в общем и целом с восторгом смотрю на теннисные мячи.
Но, в любом случае, я лишь начала говорить, что я не думала об этой конкретной картине вообще, даже хотя это была та самая картина, что пришла мне в голову.
Впрочем, если точнее, то разобраться я пыталась в том, почему я продолжала слышать «Времена года» Вивальди, даже когда думала, скажем, о «Троянцах» Берлиоза. Или о «Рапсодии для альта».
Если на то пошло, почему сейчас я вдруг вижу некое полотно Яна Стена, хотя я могла бы поклясться, что думала об одной картине Рогира ван дер Вейдена и еще одной Яна Вермеера?
Между прочим, вся музыка Вивальди, в том числе «Времена года», была совершенно забыта на долгие годы после того, как он умер.
Да, а Вермеером пренебрегали еще дольше.
Более того, никто ни разу не купил ни одной картины Вермеера, пока он был жив.
А у Вивальди тоже были рыжие волосы.
Как и у Одиссея.
Чего только нет в голове.
Даже хотя, с другой стороны, я не могу вспомнить ни одной маленькой детали о Яне Стене.
Или хотя все, что я могу категорически заявить о Рогире ван дер Вейдене, сводится к тому, что оригинал «Снятия с креста» до сих пор нельзя увидеть так, как полагается.
Несмотря на вымытые окна.
Или даже если я только теперь понимаю, что, вероятно, все на ней — евреи, как и на «Тайной вечере».
На картине под названием «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена нет никого независимо ни от какого вероисповедания.
Изображения не имеют религии.
И, несомненно, это был кто-то другой, позже, кто решил назвать их «Четыре последние песни».
На самом деле мой любимый композитор — Бах, которого, кажется, я еще совсем не упоминала на этих страницах.
Я только что осознала кое-что еще.
На переднем сиденье того автомобиля, в котором я включила кондиционер, вспотев от ударов по теннисным мячам, лежал экземпляр «Пути всякой плоти» Сэмюэля Батлера в мягкой обложке.
Что, вероятно, объясняет, где я наткнулась на сноску о Сэмюэле Батлере, утверждавшем, что «Одиссею» якобы написала женщина.
Или, возможно, в той книге имелось некое предисловие о жизни Сэмюэля Батлера, которое и заставило меня упомянуть этот факт.
Я, однако, с полной уверенностью могу заявить, что никогда в жизни не читала Сэмюэля Батлера, даже в форме предисловия, ведь я знаю о Сэмюэле Батлере даже меньше, чем о «Пути всякой плоти», которую я тоже никогда не читала, как я могу заявить с не меньшей уверенностью.
И, без сомнения, я все равно едва ли открыла бы книгу в тот конкретный день.
Хотя бы даже только из-за поджигания страниц из биографии Брамса незадолго до этого, в попытке воспроизвести чаек, я, разумеется, скорее желала уделить свое внимание кассетной деке.
Даже если где-то в этом доме есть еще одна биография Брамса.
Не представляю, почему я сказала «где-то», когда я точно знаю где.
Жизнь Брамса находится в той самой комнате, где я оставила картину, изображающую дом, которая еще несколько дней назад висела на стене прямо над и немного в стороне от печатной машинки.
Дверь в ту комнату закрыта.
Морской воздух поспособствовал этой деформации.
Хм. Я, кажется, что-то упустила, совсем недавно.
О, я лишь хотела сказать, в чем я вполне уверена, что биография Брамса стоит криво и сильно деформировалась.
Несомненно, я отвлеклась на минуту, а затем решила, что уже вставила эту часть.
На самом деле я прикуривала сигарету.
Морской воздух должен был повредить и теннисные ракетки тоже, если задуматься.
Впрочем, считается, что струны на ракетке, как правило, в любом случае ослабевают.
Когда я говорю «считается», я, разумеется, имею в виду, что так считалось.
Вообще-то люди часто собирали самую разную подобную информацию о предметах, которые были им не слишком сильно интересны.
Маловероятно даже, что я могла бы назвать хоть нескольких бейсболистов, если бы захотела.
Я не могу себе представить, что захотела бы этого.
Бейб Рут и Лу Гериг.
Сэм Узуал.
На самом деле немало мужчин в моей жизни чрезвычайно восхищались бейсболом.
Когда моя мама умирала, мой отец бесконечно смотрел игры.
Ну, возможно, тогда я это и поняла.
Я поняла это, когда однажды вечером он забрал крошечное карманное зеркальце, всегда стоявшее у ее кровати, разумеется.
С другой стороны, трудно представить себе Баха, увлеченного бейсболом.
Хотя, возможно, во времена Баха бейсбол еще не изобрели.
Тогда Винсента Ван Гога.
Один черный игрок в Бруклине. Ну и еще один черный.
И Стэн Узуал — вот кого я, возможно, имела в виду.
Между тем ничто из этого не объясняет, как можно думать об одном музыкальном произведении, а слышать целиком и полностью другое.
Кстати, когда я говорю, что можно слышать целиком и полностью другое музыкальное произведение, я вряд ли имею в виду, что кто-то слышит все это произведение. В действительности я, разумеется, имею в виду, что кто-то слышит совершенно другую композицию.
Возможно, мне не обязательно было это объяснять.
Как бы то ни было, сейчас в моей голове снова картина Яна Вермеера.
Хотя, если точнее, то я думаю о предложении, напечатанном мной всего несколько страниц назад, в котором я сказала, что молодая женщина спит в Метрополитен-музее.
Несомненно, что молодая женщина спит в Делфте, который находится в Голландии и в котором писал Ян Вермеер.
Ну, вообще-то его и называют обычно Ян Вермеер Делфтский.
Тем не менее сейчас меня поразило то, что, несомненно, в каком-то смысле молодая женщина все-таки также спит и в Метрополитен-музее.
Если только, по какой-то причине, сама картина уже не в музее, относительно чего можно искренне усомниться.
Даже если бы у меня не было рамы, я бы гвоздями прибила эту картину на место.
Кстати, я никогда не жалела времени, чтобы сделать это. Как бы холодно ни было в тот момент.
Однажды в Национальной галерее я оставила трещину в полотне Карела Фабрициуса, но не настолько большую, чтобы не суметь затереть ее воском и заклеить с обратной стороны.
Но, как бы то ни было, если я могу искренне усомниться в том, что та, другая, картина уже не находится в Метрополитен-музее, то невозможно отрицать тот факт, что молодая женщина спит также и в Метрополитен-музее.
Как невозможно отрицать и тот факт, что на картине Рогира ван дер Вейдена Иисуса снимают с креста на Голгофе, но одновременно его также снимают и на верхнем этаже Прадо, в Мадриде.
Прямо рядом с окнами, которые я вымыла.
Я не вижу никакой возможности опровергнуть какое-либо из этих утверждений. Даже хотя, как я уже говорила, с первым из них, когда я напечатала его раньше, что-то оказалось не так.
Я не намерена беспокоиться об этом, хотя вполне понимаю, как кто-то мог бы об этом беспокоиться.
Ну, возможно, я уже говорила, что на самом деле беспокоюсь.
Хотя я только что съела салат.
Пока я ела салат, я думала о том, как Ван Гог сошел с ума, снова.
Господь всемогущий.
Ван Гог не сходил с ума во второй раз. Это я подумала о нем снова.
Да и вообще, если быть более точной, то я снова думала о том, как Ван Гог пытался съесть свои краски.
Возможно, об этом мне напомнил тот факт, что я сама ела, хотя я ела разные виды салата, а также грибы.
Когда Фридрих Ницше был безумен, он однажды начал плакать, потому что кто-то хлестал лошадь.
И Джеки Робинсон — на какой же позиции он играл за Бруклин?
А еще Кэмпи — кого так звали?
На самом деле в жизни Ван Гога тоже были проститутки, хотя мне не известно о том, чтобы Гюстав Флобер писал Ван Гогу.
Я не хочу придавать особого значения этому вопросу о проститутках, между прочим, даже если иногда я, кажется, это делаю.
Некоторые темы просто всплывают, будучи связаны с обсуждаемым предметом.
Например, то, что я вспотела после ударов по теннисным мячам, вряд ли представляется связанным с темой Рихарда Штрауса, который лег в постель, чтобы умереть, хотя это оказалось связано с данной темой.
В самом деле даже столь тривиальная мелочь, как то, что Ги де Мопассан каждый день обедал на Эйфелевой башне, с большой долей вероятности связана с чем-то еще.
Даже если забыть, что я только что съела свой собственный обед или что Мопассан был даже более безумен, чем Ван Гог.
На самом деле я была бы почти готова держать пари, что каким-то образом Мопассан связан даже с футболкой с надписью «Савона», если бы у меня было желание разобраться в этом вопросе.
Я не могу себе представить, зачем кому-то захотелось бы разобраться в таком вопросе.
И вообще, я никогда толком не знала, что было такого в ношении этой футболки.
Хотя гребля Мопассана теперь снова в моей голове тоже.
Если бы я сохранила футболку, то, без сомнения, могла бы надевать ее, когда садилась на весла в своей собственной лодке.
Более того, жаль, что я не сохранила их все, ведь тогда я могла бы надевать новую футболку всякий раз, когда садилась на весла.
Что я нахожу интересным в этой идее, так это то, что спереди я бы всегда выглядела так, будто на мне одна и та же футболка.
Савона — так бы на ней всегда было написано.
От одного рукава до другого.
Однако, разумеется, цифры на спине каждой футболки были бы разными.
Так что, возможно, я даже могла бы менять их последовательно.
Хотя, пожалуй, я не учитываю проблему с размерами.
Ведь даже та, что я носила, уже была слишком велика, и, несомненно, многие другие были бы еще больше.
Однако никому не захочется вернуться в Савону, чтобы это проверить.
И, в любом случае, я практически никогда не носила футболку, сидя на веслах.
По правде сказать, вполне вероятно, что на мне совсем ничего не было в тот день, когда я играла в теннис.
Кстати, у меня все еще месячные.
Месячные — вот еще одна тема, которой я не хочу придавать большого значения.
В данном случае это просто то, что происходит.
Хотя вообще-то я потеряла счет дням и уже не знаю, как долго они идут.
Несомненно, я могла бы просмотреть то, что написала, и попытаться вычислить это. Но я вполне уверена, что отметила не все дни.
Иногда я их отмечаю, а иногда нет.
В последнее время я часто просто переставала печатать, а затем начинала снова, не указывая при этом, что уже наступило завтра.
Я также не упоминала о том, что выбросила сирень, а это случилось не позже, чем вчера.
И, без сомнения, если бы даже я просмотрела написанное, я бы все равно отвлеклась на другие вещи, о которых писала.
Более того, даже не возвращаясь к написанному, а просто думая об этом, я теперь вспоминаю, что проститутку, с которой когда-то жил Ван Гог, звали Син.
Что я, несомненно, вставила где-то выше, так это то, что раньше я очень много знала о разных художниках.
Ну, я много знала о разных художниках по той же причине, по которой, скажем, Менелай наверняка должен был много знать о Парисе.
Даже если я, кажется, пропустила Рогира ван дер Вейдена и Яна Стена.
Однако я почему-то также знаю, что у Баха было одиннадцать детей.
Или, возможно, их было двадцать.
Впрочем, возможно, что это у Вермеера было одиннадцать детей.
Хотя, не исключено, что я путаю, и Вермеер оставил всего двадцать картин.
Леонардо оставил еще меньше, вероятно только пятнадцать.
Все эти цифры могут оказаться неверными.
Пятнадцать картин — кажется, не очень-то много, особенно при том что некоторые из них даже не закончены.
Или разрушаются.
С другой стороны, это, пожалуй, довольно много для Леонардо.
На самом деле Вермеер оставил после себя сорок картин.
У Брамса вообще не было детей, хотя он был известен тем, что носил конфеты в кармане, чтобы угощать детей, когда посещал дома, в которых были дети.
И, по крайней мере, мы наконец ответили на вопрос о том, какую биографию Брамса я читала.
Конечно, в истории музыки, написанной для детей и напечатанной чрезвычайно крупным шрифтом, будет делаться упор на том факте, что кто-то, о ком написано в этой книге, был известен тем, что носил в кармане конфеты, чтобы угощать детей.
Даже если Брамс делал это не очень часто, в книге это наверняка бы особо подчеркивалось.
Более того, не исключено даже, что Брамс вообще никогда не носил в кармане конфеты для детей.
Очень возможно, что Брамс сделал это лишь однажды в жизни и вся легенда была основана на этом единственном случае.
Елена сбежала с любовником только один раз в своей жизни, но за три тысячи лет никто об этом не забыл.
Вот вам конфеты, дети, наверняка однажды сказал Брамс.
Брамс давал детям конфеты, написал кто-то.
Последнее утверждение ни в коей мере не является ложным. Ни в большей степени, чем утверждение о том, что Елена была изменницей.
Хотя, если уж на то пошло, кто возьмется спорить с тем, что Брамс, возможно, вовсе не любил детей?
Или даже ненавидел их до крайности?
На самом деле, возможно, единственная причина, по которой Брамс давал кому-то из них конфеты, хотя бы однажды, сводилась к желанию, чтобы они ушли.
Вообще-то у Леонардо тоже не было детей, хотя в его случае, по-видимому, о конфетах ничего не говорилось.
Тем не менее вот вам и классическая легенда.
Вот вам еще и решение вопроса о том, какую биографию Брамса я читала, ведь теперь я также вспомнила о романе, который, возможно, был у Брамса с Кларой Шуман.
Я говорю «возможно», так как похоже, что на этот вопрос тоже никто еще не ответил.
Тем не менее в истории музыки, написанной для детей, не могло быть и намека на это.
Несомненно, что Ван Гог хотел перевоспитать Син, когда предложил ей с ним жить.
Это было прежде, чем он отрезал себе ухо, я полагаю.
Часто, когда читаешь о Ван Гоге, создается впечатление, будто он первым поздоровался с Достоевским в Санкт-Петербурге.
На самом деле мне весьма приятно думать, что Брамс имел роман с Кларой Шуман.
Однажды, когда я была девочкой, я посмотрела фильм о венской музыке под названием «Любовная песня».
Все, что я могу вспомнить о фильме, так это то, что в нем все по очереди играли на пианино.
А также то, что Кэтрин Хепбёрн получила роль Клары Шуман.
Поэтому, возможно, идея о том, что Брамс имел роман с кем-то вроде Кэтрин Хепбёрн, мне кажется приятной.
Особенно если его роман с Жанной Авриль не продлился долго.
И даже если я понятия не имею, что из сказанного мной ранее напомнило мне о том, что Бах почти ослеп перед смертью.
Это случилось потому, что он слишком часто переписывал партитуры по ночам, если я правильно помню.
Гомер тоже был слеп, разумеется.
Хотя, возможно, так просто говорили, насчет Гомера.
Кажется, я уже упоминала, что тогда еще не изобрели карандашей.
То есть когда люди говорили, что Гомер слеп, это могло объясняться тем, что они не хотели говорить, что Гомер не умеет писать.
Эмили Бронте была еще одним человеком, не имевшим детей.
Ну, несомненно, было бы чрезвычайно интересно, если бы у Эмили Бронте были дети, ведь она, весьма вероятно, даже никогда не имела любовника.
Тем не менее мне, пожалуй, было бы трудно представить человека, от которого я бы больше предпочла происходить, чем от Эмили Бронте.
Не считая Сапфо, конечно же.
Ну, или Елены.
Честно говоря, однажды я, возможно, даже поверила, что я и есть Елена.
В Гиссарлыке — вот где это случилось. Я глядела на равнины, которые когда-то были Троей, и представляла себе, что греческие корабли все еще стоят там.
Или что даже можно увидеть вечерние костры, горящие вдоль берега.
Ну, поверить в это было бы вполне безобидным.
Даже хотя сама Троя была разочаровывающе крохотной. Практически как заурядный городской квартал высотой всего в несколько этажей.
Хотя теперь я вспоминаю, что в доме Уильяма Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне тоже все было поразительно крохотным. Как будто там жили лишь воображаемые люди.
Или, может быть, дело в самом прошлом, которое всегда оказывается меньше, чем представлялось.
Мне бы хотелось, чтобы это последнее предложение имело хоть какой-то смысл, ведь оно определенно едва не впечатлило меня на мгновение.
Между прочим, в «Илиаде» все равно довольно много печали.
Ну, все эти смерти. Сколько их там, увязших в смертях и утратах.
Но опять же, все это было так давно и навсегда минуло.
На пути к очередным своим завоеваниям Александр Македонский однажды остановился у самой Трои, чтобы возложить венок на могилу Ахиллеса.
Та старая война казалась намного ближе к той эпохе, чем к современности, разумеется.
Тем не менее даже ко времени Александра прошла уже почти тысяча лет.
Я почти не могу этого себе представить, если подумать.
Юлий Цезарь тоже возложил венок к могиле Ахиллеса. Хотя это случилось всего лишь лет через триста после Александра.
Когда я говорю «всего лишь», я, наверное, имею в виду, что это почти так же близко, как, например, Шекспир и наши дни.
В коем случае я, бесспорно, совсем потеряла нить той мысли, которую пыталась сформулировать.
Бертран Рассел родился за пятнадцать лет до Руперта Брука и был жив еще пятьдесят с лишним лет после смерти Брука на Скиросе, если это с чем-либо связано.
Кстати, если я раньше не упоминала о том, что бывала в Стратфорде-на-Эйвоне, то лишь потому, что я полагаю само собой разумеющимся, что каждый, кто едет в Лондон, рано или поздно отправляется в Стратфорд-на-Эйвоне.
Лондон и Стратфорд-на-Эйвоне всегда остаются равноудаленными друг от друга, между прочим.
Как бы ни считали люди, написавшие инструкцию на японском о расположении колонок проигрывателя.
А между тем я, похоже, пропустила еще один день, не написав о нем.
На самом деле я вообще не сидела здесь вчера.
По какой-то причине что мне хотелось делать вчера, так это демонтировать.
Хотя затем я отправилась прокатиться в пикапе аж до самой свалки отходов.
Шины на пикапе немного сдулись.
Я говорила, что иногда по утрам, когда листья влажные от росы, некоторые из них похожи на драгоценные камни, там, где в них блестят ранние солнечные лучи?
Это то, что у меня случается вместо розовоперстой зари, быть может.
Возможно, что о свалке отходов я тоже никогда раньше не упоминала.
Однако для упоминания о ней едва ли были причины, ведь она не представляет собой ничего особенного, будучи просто дырой в земле.
Это совершенно огромная дыра, но все же.
Нужно ехать по знаку, чтобы попасть туда.
К свалке отходов — написано на знаке.
Ехать по знаку — это если выражаться образно.
На самом деле едут, конечно же, по дороге.
Возможно, мне не нужно было объяснять это.
Кстати говоря, мой собственный мусор всегда достаточно скуден, и от него легко избавляться, просто закапывая на пляже.
Я делаю это во время прогулок, возможно, каждый третий раз.
И конечно, само собой разумеется, что весь тот мусор, когда-то закопанный в дыру, уже давно разложился.
Так что дыра — это просто дыра, как я уже сказала.
Хотя рядом огромная куча разбитых бутылок.
Возможно, последнее обстоятельство все-таки несколько необычно.
Определенно, эти бутылки необычайно красивы, поскольку разноцветны.
К тому же они блестят гораздо более эффектно, чем мои влажные утренние листья.
На самом деле весь этот холм из бутылок иногда похож на сверкающую скульптуру.
Микеланджело бы так не подумал, но я думаю именно так.
Скульптура есть искусство отсечения лишнего материала, сказал однажды Микеланджело.
Он также сказал, что живопись, напротив, есть искусство прибавления.
Хотя, несомненно, он бы не подумал, что пополнившаяся куча бутылок похожа на картину.
Однако она не на сто процентов лишена сходства с картиной Ван Гога, если уж на то пошло.
Если немного прищуриться, то она очень даже похожа на картину Ван Гога.
Несомненно, я имею в виду все те завитки в духе Ван Гога. Например, на его картине «Звездная ночь».
По правде говоря, именно ночью Ван Гог, скорее всего, предпочел бы запечатлеть такие бутылки.
При условии наличия луны, разумеется.
Эль Греко тоже любил рисовать ночью, но только в помещении.
И, в любом случае, очень сомнительно, что Эль Греко вдохновился бы свалкой мусора.
Вообще-то бутылки можно было бы успешно запечатлеть и при свете костра.
Даже хотя понадобился бы довольно большой костер.
Время от времени я развожу костры на берегу, между прочим.
Это всегда приятное развлечение.
Не считая тех случаев, когда я разводила иного рода костры на берегу. Например, из целых домов.
Несомненно, что первые я обычно разводила, когда летом выдавались неожиданно прохладные вечера.
Или в те первые вечера, когда чувствуешь, что зима наконец почти заканчивается.
На песке появляются игривые тени, которые танцуют и прячутся.
Или, если лежит снег, пламя выписывает странные иероглифы на белом фоне.
Хоть убейте, я не могу вспомнить, зачем пыталась затащить тот девятифутовый холст вверх по главной лестнице в Метрополитен-музее.
Несомненно, я лишь растянута лодыжку. Хотя она распухла вдвое против своего нормального размера.
Честно, невозможно сказать, что такого в наблюдении за огнем.
Хотя, пожалуй, где мне следует развести свой следующий костер, так это все же на свалке отходов.
Раньше нельзя было создать картину, просто чиркнув спичкой, а затем прищурившись.
Между прочим, Эль Греко не очень любил Микеланджело как художника.
Если на то пошло, то Пикассо тоже не особо его любил.
Более того, многие картины Микеланджело напоминали Пикассо о Домье.
Сомнительно, что тот колокольчик Альфреда Норта Уайтхеда зазвонил бы, если бы он услышал, как Пикассо сказал такое.
Между прочим, Домье тоже был тем, кто ослеп.
Ну, как и Дега. И Моне.
И Пьеро делла Франческа.
Хотя Пьеро делла Франческа, опять-таки, не следует путать с Пьеро ди Козимо, который прятался под столом, когда раздавался гром.
На самом деле другой Пьеро имел еще более неприятную фобию, чем Тёрнер, не позволявший никому наблюдать за своей работой.
И часто готовил до пятидесяти яиц за раз, в том же горшке, в котором варил клей, чтобы не беспокоиться о еде.
Когда Морис Утрилло сошел с ума, он попытался совершить самоубийство, многократно стуча головой о стену в тюрьме.
И в тот же период, когда пытался перевоспитать Син, Ван Гог раздавал всю свою одежду бедным. Или начинал плакать перед церквями.
Хотя у Пьеро ди Козимо был один ученик, который стал Андреа дель Сарто. Так что, несомненно, он хотя бы иногда соглашался поделиться частью яиц.
«Не утруждайтесь вставать», — наверняка говорил ему Андреа, если во время обеда шла гроза.
Чем Син поделилась с Ван Гогом, так это своей венерической болезнью.
Тёрнер рос сыном цирюльника. На улице Мейден-лейн, недалеко от Ковент-Гарден.
Отцом Утрилло мог быть Ренуар.
Хотя им вполне мог быть и Дега.
Сюзанна Валадон, мать Утрилло, очевидно, никогда этого не знала.
Если Ренуар или Дега знали, то они, очевидно, так никогда и не сказали.
Имя Андреа дель Сарто звучит так поэтично, когда его произносишь.
Хотя вообще-то оно означает лишь то, что его собственный отец был портным.
Andrea senza errori — так его еще называли. Это означает, что он не совершал ни единой ошибки, когда рисовал.
Естественно, это я тоже должна была где-то вычитать, прежде чем мне случилось это запомнить.
Мне грустно также знать, что Андреа умер во время чумы, в бедности и забвении.
Хотя Тициан тоже умер во время чумы. Правда уже в возрасте девяноста девяти лет.
Джексон Поллок врезался на машине в дерево, не более как в десяти минутах езды на пикапе от того места, где я сижу прямо сейчас, одиннадцатого августа 1956 года.
С другой стороны, я не помню день рождения Поллока. Хотя, несомненно, это не из разряда того, что я когда-либо знала.
Я также забыла об артрите Ренуара.
Мое левое плечо, однако, совсем не беспокоит меня в последнее время.
Гоген был еще одним живописцем, страдавшим сифилисом.
Даже хотя, живи он в эпоху Ренессанса, он принадлежал бы к гильдии аптекарей.
Как все художники. Это потому, что они смешивали краски.
Честное слово, так все и обстояло в те времена.
Так что, возможно, та аптека, которую я забыла заметить в Савоне, вовсе не называлась «Савона», а имела название в честь Гогена.
В Мадриде я однажды жила в отеле « Сурбаран».
Если только, быть может, он не носил имя Гойи.
И не находился в Памплоне.
Хотя что мне сильнее хотелось бы знать, так это почему все это напоминает мне о чайках.
Ага. Чайки являются падальщиками, разумеется.
Когда я говорю «являются», я имею в виду «являлись», естественно.
Но, в любом случае, это было всего лишь предположение о том, что когда-то над свалкой отходов наверняка летало сколько-то чаек.
Никто не знает, сколько, но, безусловно, значительное количество.
Несомненно, другие существа тоже приходили и уходили, разумеется.
Например, собаки и кошки, как можно себе представить.
Впрочем, возможно, что даже крупные собаки опасались бы чаек.
Кошки уж точно.
Если только, конечно, там не было бы значительного количества кошек, в сущности, примерно равного значительному количеству чаек, что очень сомнительно.
На самом деле я лишь имела в виду одну или двух домашних кошек, которых выставили из дому на ночь.
Как-то, когда я рисовала в Коринфе, штат Нью- Йорк, летом, я каждый вечер выставляла своего кота за дверь.
Я помню это, потому что кот был городским и его никогда прежде не выставляли.
Каждую ночь, на протяжении нескольких недель, я беспокоилась за этого кота.
Вообще-то я также чувствовала себя виноватой, хотя никогда не была уверена, в чем я чувствовала себя виноватой.
Наверняка кот, который всю жизнь провел взаперти на чердаке в Сохо, сочтет приятным находиться снаружи ночью, — пыталась убедить себя я.
Возможно, он даже найдет других кошек, чтобы пообщаться, чего он тоже никогда раньше не делал, — дополнительно успокаивала себя я.
Тем не менее мое чувство вины не проходило тогда дольше всего.
Даже после того, как я убедилась, что кот всегда возвращается, из-за чего я часто забывала про него до самого полудня, мое чувство вины сохранялось.
С той лишь разницей, что к тому времени я чувствовала себя виноватой уже в том, что забыла впустить кота обратно.
Часто я подозревала, что кот все равно мало что делал, кроме как спал всю ночь под крыльцом.
Я также не имею ни малейшего понятия, как это может быть связано со свалкой отходов, ведь я не помню никакой свалки отходов в то лето, когда я рисовала в Коринфе, штат Нью-Йорк.
В то лето мусор складывался у двери.
Кстати, также нет никакой связи между котом, о котором я говорю, и тем котом, которого я видела в Колизее.
Кот, которого я видела в Колизее, был серым и, казалось, играл с чем-то, например с клубком пряжи.
Мой же кот был рыжей окраски и, чаще всего, ленился.
Очевидно, нет никакой связи между моим рыжим котом и тем котом, что скребет здесь у разбитого окна.
Пусть даже я, хоть убейте, не помню, как наклеивала эту липкую ленту.
Возможно, что никакого кота в Колизее тоже не было.
Если достаточно сильно захотеть увидеть кота, то, несомненно, увидишь его.
Хотя, возможно, кот там был. Вероятно, просто прожекторы, когда я включила прожекторы, сделали его подозрительным.
Естественно, я никак не могла знать, не съел ли он что-нибудь у меня за спиной, ведь большая часть банок, которые я расставила, были наполовину опустошены дождем в мгновение ока.
Пока я не увидела один из них, я считала, что воздушные замки — всего лишь расхожая фраза про Испанию.
Действительно ли был этот другой человек, которого мне не терпелось найти, когда я занималась всеми этими поисками, или я просто не могла вынести собственного одиночества?
В любом случае, люди, постоянно выглядывающие из окон и заглядывающие в них, — это, несомненно, все же не такая уж нелепая тема для книги.
Даже хотя Эмили Бронте однажды так сильно ударила свою собаку, что покалечила ее, просто потому, что та залезла на ее кровать после того, как она запретила ей залезать на кровать, это единственное из сделанного Эмили Бронте, что ей не следовало было делать.
Даже если, как я, возможно, уже говорила, есть и такие вещи, которые Эмили Бронте не делала, а хотелось бы, чтобы делала.
Впрочем, это может и вовсе никого не касаться, наконец осенило меня.
А между тем я, кажется, совершенно забыла имя своего рыжего кота.
Зато имя, которым я назвала кота в Колизее, как я теперь абсолютно уверена, было Пинтуриккьо, в честь малоизвестного художника из Перуджи, который написал несколько фресок в Сикстинской капелле, перед тем как Микеланджело добавил к ней части, напоминающие Домье.
Возможно, я придумаю имя и для кота за моим разбитым окном.
С другой стороны, я опять же должна, наверное, отметить, что нет никакой связи между этими котами и тем котом, который был когда-то у Саймона в Куэрнаваке и для которого мы, кажется, никак не могли придумать имя.
Кот — только так мы его и звали.
Ну и, кроме того, все они никак не связаны с тем котом, который был достаточно умен, чтобы игнорировать золотые монеты, нарисованные учениками Рембрандта на полу его студии.
Хотя получается, что, сделав это утверждение, я одновременно ответила наконец на вопрос о кличке моего рыжего кота.
На самом деле теперь, когда это вспомнилось, оно не могло бы вспомниться ярче.
Например, практически каждый день в Коринфе, когда я не забывала впустить кота обратно в дом, я желала ему доброго утра.
Доброе утро, Рембрандт, — именно так я говорила практически каждый раз.
Разумеется, это было связано с рыжим цветом, который автоматически ассоциируется с Рембрандтом.
Даже если рыжий — это, возможно, не цвет.
В любом случае это, безусловно, не тот цвет, который имеет какое-либо отношение к живописи, хотя, надо признать, это может быть цвет, который имеет отношение к покрывалам. Или обивочной ткани.
Хотя, не являясь живописью, кот тоже может быть рыжим.
И, будучи рыжим, он заслуживает клички Рембрандт.
Которую даже такой видный авторитет, как Виллем де Кунинг, счел вполне подходящим именем в тот день, когда мой кот залез ему на колени.
Возможно, я не упоминала, что мой рыжий кот залез на колени Виллема де Кунинга.
Мой рыжий кот однажды залез на колени Виллема де Кунинга.
Кот сделал это в тот день, когда Виллем де Кунинг зашел в мой лофт в Сохо.
Я забыла дату этого визита, но думаю, что это было вскоре после того дня, когда меня навещал Роберт Раушенберг и я поспешно спрятала свои рисунки.
С другой стороны, если подумать, то причина, по которой Виллем де Кунинг одобрил кличку кота, могла в действительности быть связана не столько с рыжим цветом, сколько с тем, что Рембрандт был голландцем.
Сам будучи голландцем, де Кунинг, естественно, должен был чувствовать определенную связь с Рембрандтом.
Разумеется, речь идет не о семейных узах, поскольку о таковых наверняка было бы известно, если бы они существовали.
Виллем де Кунинг — потомок Рембрандта, можно было бы часто услышать.
С другой стороны, кто станет утверждать, что он не мог быть потомком кого-то, кто хотя бы раз встречался с Рембрандтом, о чем даже сам де Кунинг наверняка не знал бы?
Или даже кого-то, кто был учеником Рембрандта?
Конечно, немудрено было бы потерять след, после стольких-то лет.
Сколько людей могли бы догадаться, например, что родословную Марии Каллас можно проследить вплоть до Гермионы?
Собственно, нечто подобное могло бы быть тем более вероятным, если бы ученик, от которого происходил де Кунинг, сам так и не стал знаменитым, а ведь именно так обычно и происходит.
Более того, многие ученики не только не становятся знаменитыми, но даже, в конечном итоге, принимаются за совершенно другую работу.
Почему Виллем де Кунинг не мог быть потомком ученика Рембрандта, решившего, что у него нет будущего в качестве художника, и вместо этого ставшего, допустим, пекарем?
Естественно, что со временем потомки этого человека утратили бы всякое представление о том, что кто-то из их семьи когда-то был учеником Рембрандта.
Отец был учеником Рембрандта до того, как мы открыли кондитерскую лавку, — такие слова можно себе представить. Или даже: дедушка был учеником Рембрандта.
Однако, конечно, так бы перестали говорить задолго до того, как родился сам Виллем де Кунинг.
Вообще-то Клод Лоррен был кондитером, который решил стать художником, и можно биться об заклад, что вряд ли кто-нибудь из его потомков смог бы назвать человека, который научил его печь.
С другой стороны, то, что я говорила об учениках, не обязательно случается.
Взять хотя бы людей, упомянутых на этих страницах: ученик Сократа Платон, ученик Платона Аристотель и ученик Аристотеля Александр Македонский — эти трое, несомненно, стали знаменитыми.
Пусть даже кто-то нет-нет да задумается, как именно мог Аристотель называть Александра в те дни.
Сегодня утром мы занимаемся географией. Не соблаговолите ли подойти к карте и показать, где находится Персеполь, Александр Великий?
Кто прочтет для нас из «Илиады» отрывок об Ахиллесе, который на своей колеснице тащит по земле тело Гектора? Я вижу, ты тянешь руку, Алекс?
Но, как бы то ни было, меня также поражает, что Андреа дель Сарто был еще одним известным учеником, который упоминался совсем недавно.
Ну, и еще ученик Бертрана Рассела, тоже.
Вообще-то намного больше учеников, чем предполагалось, могли стать такими же известными, как их учителя.
Или даже более известными.
Например, у Гиберти был ученик по имени Донателло.
А Чимабуэ однажды взял в ученики мальчика, которого он заметил рисующим овец на пастбище, и этот мальчик превратился в Джотто.
Более того, у Джованни Беллини был ученик по имени Тициан и еще один по имени Джорджоне.
Хотя, честно говоря, некоторые учителя не слишком-то радовались подобным вещам.
После того, как Тициан стал таким же знаменитым, как Джованни Беллини, он взял себе ученика, но затем вышвырнул его, когда оказалось, что ученик может стать таким же знаменитым, как он.
Что все равно не помешало Тинторетто стать таковым.
Между прочим, я верю в историю про Джотто и овец.
А еще я вдруг, кажется, вспомнила, что у Рогира ван дер Вейдена был ученик по имени Ганс Мемлинг, хотя раньше я могла бы поклясться, что не знаю ничего такого о Рогире ван дер Вейдене.
В любом случае, почти каждый из них является таким учеником, от которого, я уверена, Виллем де Кунинг счел бы приятным происходить.
Ну, несомненно, что он также счел бы приятным происходить от Винсента Ван Гога, пусть даже и родился меньше чем через пятнадцать лет после того, как Ван Гог застрелился.
Я не совсем уверена, как вторая часть этого предложения связана с первой его частью.
Возможно, я лишь думала о том, что Ван Гог тоже был голландцем.
Одна из причин, по которой люди в общем и целом восхищались Ван Гогом, хотя и не всегда будучи в курсе этого, состоит в том, что он, похоже, мог заставить излучать тревогу даже стул. Или пару ботинок.
С другой стороны, Сезанн однажды сказал, что он рисовал как сумасшедший.
Тем не менее я, возможно, назову кота, который шуршит у моего разбитого окна, Ван Гогом.
Или Винсентом.
Однако нельзя дать имя куску липкой ленты.
Есть кусок ленты, шуршащий за моим окном. Есть Винсент, шуршащий за моим окном.
Ну, это не невозможно. Я подозреваю, что это маловероятно, но это не невозможно.
Доброе утро, Винсент.
Между прочим, Ван Гог продал только одну картину за всю свою жизнь.
Хотя это не помешало ему опередить, по крайней мере, Яна Вермеера.
В то же время я понятия не имею, сколько картин продал Ян Стен.
Я знаю, что Боттичелли к концу жизни охромел и ему приходилось жить за счет благотворительности.
Франс Халс тоже вынужден был жить за счет благотворительности.
Ну и Домье опять же.
А еще Паоло Уччелло умер в бедности и забвении.
Как и Пьеро, который не прятался под столами.
Многие списки продолжают пополняться, и это печально.
Хотя сама работа, конечно, остается.
Или же когда размышляешь о работе, зная подобные вещи, это печалит еще сильнее?
Даже Рембрандт обанкротился в конце концов.
Это случилось в Амстердаме, о чем я упоминаю, потому что это произошло буквально в нескольких кварталах от того места, где Спинозу отлучили от церкви, причем в том же самом месяце.
Я полагаю, подразумевается само собой, что вряд ли мне известно об этом, потому что я что-то знаю о Спинозе.
Разумеется, об этом я когда-то прочла в сноске.
Хотя что я осознаю только в этот момент, так это, конечно, почему Рембрандта всегда так легко было обмануть теми монетами.
Разумеется, если бы я сама была на грани банкротства, то все время нагибалась бы за каждой монетой, попадавшейся мне на глаза.
В таких обстоятельствах вы вряд ли бы вспомнили, что ваши ученики уже придумывали раньше подобные иллюзии.
Боже милосердный, вон золотая монета, наверняка бы подумали вы. Прямо на полу моей студии.
Только бы она не принадлежала какому-нибудь смутьяну, который кинется требовать ее назад, подумали бы вы в тот же момент.
Несомненно, учеников Рембрандта это не переставало забавлять.
Конечно же — ведь иначе они вряд ли продолжали бы разыгрывать одну и ту же шутку.
Определенно, ни один из них ни разу не задумался о проблемах Рембрандта, например, об упомянутом банкротстве.
Я нахожу это печальным, пусть даже помешать школьникам оставаться школьниками невозможно.
Очень вероятно, что Ван Дейк тоже разыгрывал Рубенса. А Джулио Романо — Рафаэля.
Хотя в случае Рембрандта это могло бы, по крайней мере, объяснить, почему его ученики, как правило, не становились знаменитыми или даже принимались за совсем другую работу, ведь многие из них были так бесчувственны.
Более того, с моей стороны было, несомненно, не менее бесчувственно предположить, что Виллем де Кунинг мог являться потомком кого-нибудь из подобной компании.
Я просто не подумала как следует, когда сделала такое предложение.
Ой.
Карел Фабрициус был учеником Рембрандта.
Допустим, Карел Фабрициус едва ли был так же знаменит, как сам Рембрандт. Тем не менее он был знаменит достаточно, чтобы Виллем де Кунинг все-таки не возражал быть его потомком.
По правде говоря, мне кажется, что я даже упоминала Карела Фабрициуса, по крайней мере один раз, в связи с чем-то.
Полагаю, теперь можно лишь надеяться, ради самого Виллема де Кунинга, что Карел Фабрициус не был в числе тех учеников, которые разыгрывали своего учителя.
Да и, пожалуй, он вообще не смог бы стать лучшим учеником Рембрандта, если бы тратил свое время таким образом.
С другой стороны, вполне возможно, что, являясь лучшим, он был единственным учеником, находившим на это время.
Вполне возможно, например, что всякий раз, когда Рембрандт давал им задание, первым всегда заканчивал Карел Фабрициус, который затем принимался проказничать, пока все остальные еще трудились, пытаясь за ним поспеть.
К сожалению, многие такие вопросы в истории искусства остаются без ответа.
На самом деле у Карела Фабрициуса, возможно, был свой ученик по имени Ян Вермеер, но никто не подтвердил этого наверняка.
Однако Карел Фабрициус умер в Делфте, что и дало повод для подобных измышлений.
Полагаю, что где-то выше я уже упоминала о связи самого Вермеера с Делфтом.
Но, как я также отмечала, должно было бы пройти почти двести лет, прежде чем кто-нибудь заинтересовался Вермеером настолько сильно, чтобы начать разбираться в подобных вопросах, и, таким образом, многое уже было бы утеряно.
Ну, я уже не раз говорила, как легко это может произойти.
Однако есть действительно хорошо известный факт, что Вермеер был еще одним живописцем, который разорился.
Хотя вообще-то разорилась его жена, вскоре после смерти Вермеера.
По правде говоря, она задолжала значительную сумму местному пекарю.
Этот пекарь, конечно, тоже жил в Делфте, поэтому следует предположить, что это не тот пекарь, который сам когда-то был учеником Рембрандта.
Хотя, с другой стороны, это, возможно, не такое уж бесспорное предположение.
Учитывая то, что Карел Фабрициус незадолго до этого переехал из одного города в другой, кто возьмется утверждать, что его бывший однокашник тоже не мог так поступить?
Вдобавок две картины Вермеера даже были переданы тому самому пекарю в качестве своего рода залога.
Разумеется, обычный пекарь не сильно бы обрадовался такому раскладу, особенно в случае с клиентом, который за всю свою жтизнь не продал ни одной картины.
Если только, конечно, пекарь сам не был кем-то, кто что-то понимал в искусстве.
Или, во всяком случае, понимал достаточно, чтобы обратиться за советом к кому-то, кто все еще занимался живописью.
Скажи мне, Фабрициус, что мне делать с твоим учеником, который продолжает покупать выпечку для своих одиннадцати детей? Как долго мне ждать, пока какая-нибудь из этих картин вырастет в цене?
К сожалению, нет никаких свидетельств об ответе Карела Фабрициуса.
Как вообще-то нет таковых и насчет связей между Рембрандтом и Спинозой, что я, кстати, не собиралась оставлять без упоминания.
Даже если между Рембрандтом и Спинозой не было никаких связей.
Единственная связь между Рембрандтом и Спинозой заключалась в том, что оба они были связаны с Амстердамом.
Хотя, с другой стороны, Рембрандт, возможно, написал портрет Спинозы.
В любом случае, люди часто делали так называемое обоснованное предположение о том, что он написал такой портрет.
Естественно, большинство моделей на портретах Рембрандта неизвестны.
Таким образом, все, что эти люди делали, так это предполагали, что одним из них вполне мог оказаться Спиноза.
В конце концов, это еще один из тех вопросов в истории искусства, который навсегда останется без ответа.
С другой стороны, можно, пожалуй, с уверенностью предположить, что Рембрандт и Спиноза наверняка хотя бы проходили мимо друг друга на улице, время от времени.
Или даже довольно часто сталкивались друг с другом, пускай всего лишь в какой-нибудь лавке.
И, конечно же, через некоторое время они бы обменялись любезностями.
Доброе утро, Рембрандт. Доброе утро и вам, Спиноза.
Мне было очень жаль слышать о вашем банкротстве, Рембрандт. Мне было очень жаль слышать о вашем отлучении, Спиноза.
Хорошего вам дня, Рембрандт. И вам того же, Спиноза.
Кстати, все это было бы сказано на голландском языке.
Я упоминаю об этом просто потому, что, как известно, Рембрандт не говорил ни на каком другом языке, кроме голландского.
Даже хотя Спиноза, возможно, предпочитал латынь. Или еврейский.
Если подумать, то Виллем де Кунинг, возможно, тоже говорил в тот день с моим котом на голландском.
Хотя вообще-то что я сейчас вспомнила о моем коте, так это то, что он забирался и на другие колени, а не только к де Кунингу.
Более того, однажды он забрался на колени Уильяма Гэддиса в тот раз, когда Люсьен привел Уильяма Гэддиса в мой лофт.
По-моему, был случай, когда Люсьен привел Уильяма Гэддиса в мой лофт.
Так или иначе, я почти уверена, что однажды он привел кого-то, кто напомнил мне о Таддео Гадди.
Таддео Гадди едва ли является такой личностью, о которой часто думаешь, ведь он был относительно малоизвестным живописцем.
О Кареле Фабрициусе, например, думаешь гораздо чаще, чем о Таддео Гадди.
Даже хотя и о том и о другом задумываешься редко.
Не считая, пожалуй, такого момента, когда слегка портишь картину первого из них в Национальной галерее.
Которая, кстати, была делфтским пейзажем.
Ну, конечно, слава сама по себе в любом случае относительна.
Художник по имени Торриджано когда-то был гораздо более знаменитым, чем многие другие художники, по той простой причине, что сломал нос самому Микеланджело.
Ну, или спросите Вермеера.
И, честно говоря, Уильям Гэддис был не так чтобы чрезвычайно знаменит, хотя и написал роман под названием «Признания», о котором хорошо отзывалась масса людей.
Несомненно, я бы сама о нем говорила хорошо, если бы прочла, ведь это роман о человеке, который носил будильник на шее.
Хотя что я сейчас пытаюсь вспомнить, так это спрашивала ли я Уильяма Гэддиса о том, известно ли ему о художнике по имени Таддео Гадди.
Как я предположила, естественно, многие люди никогда не слышали о нем.
Впрочем, если бы человека звали Уильямом Гэддисом, он бы, несомненно, прожил жизнь, осознавая это.
На самом деле люди, наверное, годами доводили Уильяма Гэддиса до умопомрачения, спрашивая его, знает ли он о художнике по имени Таддео Гадди.
Возможно, я была достаточно благоразумна, чтобы не спросить его об этом.
Более того, я надеюсь, что не спросила его даже, известно ли ему, что Таддео Гадди был учеником Джотто.
Ну, разумеется, я бы не спросила его, ведь я даже не подозревала, что помнила об этом, пока не начала печатать это предложение.
И, в любом случае, возможно, что кот все-таки не залезал на колени к Уильяму Гэддису.
Чем больше я об этом думаю, тем больше, как мне кажется, вспоминаю, что Рембрандт редко оказывался рядом с незнакомцами.
Пусть даже он и Уильям Гэддис временами, конечно, оставались равноудаленными друг от друга.
Ну, как и всякий другой кот и всякий другой человек.
Или даже как кот, которого я видела в Колизее, и каждая из тех банок с кормом, которые я там расставила, тоже.
Даже если банок там было практически столько же, сколько римлян смотрело на казни христиан.
Кстати говоря, каждый христианин и каждый лев всегда оставались бы равноудаленными друг от друга.
За исключением тех случаев, когда львы съедали христиан, естественно.
Хотя теперь я могу придумать еще одно исключение из этого правила.
Я сама и тот кот, что сейчас скребет за моим разбитым окном, могут, как правило, также считаться равноудаленными друг от друга.
За исключением случаев, когда липкая лента перестает шуршать, ведь в этот момент кот исчезает.
И, разумеется, невозможно быть равноудаленным от чего-то, что не существует, точно так же как и то, что не существует, не может быть равноудаленным от того, что, как предполагается, должно быть равноудалено от него.
Или это понятно любому ослу?
Между прочим, легче считать, что не существует кота, чем Винсента.
И вместе с тем мне почему-то очень приятно вспоминать об этом касательно Таддео Гадди и Джотто.
Да, и это также создает интересную связь между Чимабуэ, и Джотто, и Таддео Гадди.
Вроде той связи между Перуджино, Рафаэлем и Джулио Романо.
Даже если я, возможно, не упоминала, что Рафаэль был учеником Перуджино. Или, если уж на то пошло, что Перуджино, в свою очередь, был учеником Пьеро, который не прятался под столами, что создает еще более далеко идущие связи.
Более того, я сейчас неожиданно нашла ответ на вопрос, чьим потомком был Виллем де Кунинг.
Виллем де Кунинг не был ни чьим потомком. Им был учитель Виллема де Кунинга.
О, боже мой. Или мне следует перестать тратить силы на исправление подобной чепухи и просто позволить языку выражаться тем образом, на котором он настаивает?
На самом деле еще до того, как я написала, что Виллем де Кунинг не был ни чьим потомком, чего я, очевидно, не имела в виду, мне снова пришла в голову мысль о «Троянцах».
Что бы я написала о «Троянцах», если бы нашла время упомянуть о них, так это то, что в опере никто никогда не обращает внимания на слова Кассандры, равно как и в пьесах.
Вот только если никто никогда не обращает внимания на слова Кассандры, то как вообще кто-либо может знать, что никто не обращает внимания на ее слова?
Теперь мне кажется, что здесь я тоже выразилась неудачно.
Впрочем, некоторые вещи иногда почти невозможно выразить.
Однажды, когда я училась в седьмом классе, учитель рассказал нам о парадоксе Архимеда про Ахиллеса и черепаху.
Парадокс заключался в том, что если Ахиллес пытается догнать черепаху, но черепаха на старте имеет преимущество, то Ахиллес не может ее догнать.
Это связано с тем, что к тому времени, когда Ахиллес наверстывает расстояние, разделявшее их в момент старта, черепаха, естественно, проходит еще некоторое расстояние. И хотя каждое новое расстояние, которое проходит черепаха, становится все меньше и меньше, Ахиллес всегда будет отставать на это новое расстояние.
Так вот, я знала, знала, что Ахиллес наверняка сможет догнать эту черепаху.
Однако, как демонстрировал на доске учитель, даже когда Ахиллес оказывается всего лишь в крошечном отрезке позади, а черепаха может пройти лишь крошечную часть этого отрезка, между ними все равно всегда остается еще множество других отрезков.
В итоге это едва не заставило меня расплакаться.
Поэтому теперь я знаю, что никто никогда не обращает внимания на слова Кассандры в опере, но я также знаю, знаю, что мне известно это именно благодаря тому, что я обратила внимание.
Философия — не мое ремесло.
И вообще, данный парадокс сформулировал не Архимед, а Зенон.
Архимед был убит солдатами во время войны в Сиракузах, когда чертил свои геометрические фигуры. Палкой.
Или я снова повторяю ту же ошибку?
Ах да, я полагаю, нельзя совсем исключать вероятность того, что Архимед был убит той самой палкой, которой он чертил на песке, вот что я пытаюсь сказать.
Я не забыла об учителе Виллема де Кунинга.
Однако об учителе Виллема де Кунинга я хотела написать не из-за кого-то, от кого он произошел, а из-за кого-то, с кем он был связан.
Как и в случае связи Рембрандта с Карелом Фабрициусом и Вермеером, это очевидно.
Вот только сейчас я думаю о человеке, который был следующим в очереди, об ученике Вермеера. И далее — о человеке, который был учеником ученика Вермеера.
А потом еще дальше, вплоть до того момента, когда предпоследний ученик ученика обзавелся собственным учеником по имени Виллем де Кунинг.
Не правда ли, это гораздо более вероятно, чем то, что сам Виллем де Кунинг произошел от человека, который учил Клода Лоррена готовить печенье?
Ральф Ходжсон родился на пятнадцать лет раньше Руперта Брука и был еще жив почти пятьдесят лет спустя после того, как Брук умер на том же острове, где от Ахиллеса забеременела одна из женщин.
А когда Бертрану Расселу было девяносто с лишним лет, он все еще помнил, как его дедушка рассказывал о том, что он помнил о смерти Джорджа Вашингтона.
В самом деле, предположим, что однажды, когда Виллем де Кунинг был учеником, его учитель рассказал ему что-то.
Предположим, это было что-то совсем простое, например что рыжий — это не название цвета.
Но предположим также, что, когда учитель Виллема де Кунинга сказал это, он в сущности повторил то, что рассказывали ему, когда он сам был учеником.
И предположим, что учителю, рассказавшему об этом учителю Виллема де Кунинга, говорили то же самое, когда он сам был учеником.
И так далее.
Поэтому, кто станет утверждать, что когда-то не могло случиться так, что Рембрандт стоял рядом с мольбертом Карела Фабрициуса, а Карел Фабрициус сказал, что собирается нарисовать что-то рыжее, а Рембрандт ответил ему, что рыжий — это слово, которое годится для постельного покрывала?
Таким образом, в некотором смысле Виллем де Кунинг был одним из учеников Рембрандта.
Я, конечно, не намекаю на то, что именно Виллем де Кунинг нарисовал золотые монеты на полу студии Рембрандта.
Хотя кто вдобавок возьмется утверждать, что он не смог бы выполнить то задание еще быстрее, чем Карел Фабрициус?
Однако если подумать, разве не возможно, что все это уходит еще дальше в прошлое?
Почему с такой же легкостью, например, Чимабуэ не мог быть тем, кто сказал Джотто о покрывалах, задолго до того, как Гилберт Стюарт случайно упомянул об этом Джорджу Вашингтону?
Это, разумеется, не означает, что Виллем де Кунинг мог находиться где-то поблизости, когда Джотто нарисовал идеальный круг от руки.
Если только, с другой стороны, я вдруг не решу вообразить, что так оно и было.
Очевидно, что именно такого рода воображение является привилегией художника.
Ну, это как раз то, чем занимаются художники.
В Национальной галерее есть знаменитая картина с Пенелопой, ткущей полотно, и никто не помешал художнику обрядить всех жителей Итаки в одежду, которую люди стали носить почти три тысячи лет спустя, в эпоху Возрождения.
Более того, так же поступил и Леонардо, сделавший стол в «Тайной вечере» слишком маленьким для всех тех евреев, которые, как предполагается, за ним едят.
Или Микеланджело, отсекший у «Давида» лишний материал, но оставивший слишком большими руки и ноги.
Теперь и я решила представить Виллема де Кунинга в студии Джотто.
Что любопытно, Джотто одет по моде эпохи Возрождения, но на Виллеме де Кунинге какой-то свитер.
На самом деле я только что превратила этот свитер в футболку. С надписью «Савона» на груди.
Джотто и Виллем де Кунинг равноудалены друг от друга, разумеется.
Ну, и от круга тоже.
Более того, все точки на окружности этого круга равноудалены от центра круга, как доказал Зенон.
А теперь в студии также появились Чимабуэ, Рембрандт, Карел Фабрициус и Ян Вермеер.
Конечно, нет ничего удивительного в моей способности все это устроить, хотя в некотором смысле она, пожалуй, интересна.
Что особенно интересно, так это то, что я понятия не имею, как выглядят Джотто, или Чимабуэ, или Ян Вермеер.
Что касается Рембрандта и Карела Фабрициуса, то я видела их автопортреты. Даже если у меня, кажется, нет необходимости представлять, какие именно детали автопортретов Рембрандта подходят в данный момент.
Виллем де Кунинг — также особый случай, ведь он однажды посетил мой лофт.
На самом деле теперь я поместила в студию Джотто и своего рыжего кота.
Даже если рыжий — непринятое название цвета.
Думаю, я еще добавлю к ним кота, который скребет за моим разбитым окном.
Оба кота теперь находятся в студии Джотто.
Однако, подозреваю, я предпочла бы, чтобы Рембрандт не узнал, как зовут первого из этих котов.
Хотя вообще-то Виллем де Кунинг знает его кличку.
Никак нельзя сказать наверняка, может ли Виллем де Кунинг упомянуть при Рембрандте кличку этого кота.
Даже если это я воображаю Виллема де Кунинга и Рембрандта в одной студии, я, кажется, не имею над ними ни малейшего контроля.
С другой стороны, вполне возможно, что Виллем де Кунинг все равно не помнит имя этого кота, ведь прошло уже сколько-то лет с тех пор, как этот кот залез или не залез на его колени или на колени Уильяма Гэддиса.
Сейчас в студии Джотто находится Винсент Ван Гог.
Это художник Винсент Ван Гог, разумеется, ведь кот Винсент Ван Гог уже там.
Ухо этого нового Винсента перевязано.
Я только что решила добавить в студию еще и Эль Греко.
Вот почему, наверное, все сейчас кажется слегка вытянутым и даже астигматическим.
Однако на спине футболки Виллема де Кунинга, похоже, виден номер одиннадцать.
Если только это не семнадцать.
Вообще-то Виллем де Кунинг сейчас очень похож на Джексона Поллока.
А еще я только что придумала заставить Рембрандта нагнуться, будто бы подбирая что-то с пола, чтобы Карел Фабрициус нашел это чрезвычайно забавным, но я не уверена, сработало ли это.
По правде говоря, все становятся несколько суматошным.
Особенно сейчас, когда там появились овцы.
Тем не менее любая из этих фигур остается явно равноудаленной от любой другой.
Ну, так же как, в свою очередь, и я сама от любой из них.
Хотя, возможно, я не равноудалена ни от одной из них, если подумать, ведь все они существуют только у меня в голове.
Что, опять же, чем-то напоминает христиан после того, как их съели львы, несомненно.
С другой стороны, это, несомненно, вовсе не так.
Между тем художница, написавшая картину, изображающую этот самый дом, мгновение назад вытеснила в моей голове все перечисленное, и на этот раз я не только не представляю, как она выглядит, но даже не знаю ее имени.
Если на то пошло, то и сама ее картина теперь тоже в моей голове, хотя я не думала о ней уже неделю или даже больше.
Кстати, причина, по которой я не думала о ней уже неделю или даже больше, заключается в том, что она находится в одной комнате с биографией Брамса и атласом, дверь которой закрыта.
Но в результате она также привнесла в мою голову биографию Брамса и атлас.
Хотя о чем я далее задумалась, так это о том, что может случиться, если я решу, что у меня в голове сам Брамс.
Будет ли это настоящий Брамс или Брамс из биографии Брамса?
И который из них в таком случае написал «Рапсодию для альта» ?
Или, возможно, я даже не представляю, что подразумеваю под их различием?
По крайней мере, мне вдруг пришло в голову, что тот Ахиллес из седьмого класса, который не мог догнать черепаху, это тот же самый Ахиллес, о котором я писала все это время.
Ну, просто раньше это не осеняло меня вот так, и все.
Пусть даже теперь я понимаю, что, следовательно, та черепаха была также быстрее Гектора, ведь Ахиллес в конченом итоге поймал Гектора, хотя Гектор бежал со всех ног.
С другой стороны, я сомневаюсь, что это была та же самая черепаха, которую, как говорили, орел сбросил на лысую голову Эсхила, что послужило причиной его смерти.
Кстати, есть объяснение тому, почему орел сделал это.
Объяснение заключается в том, что орел, по-видимому, хотел разбить панцирь черепахи и перепутал лысину Эсхила с камнем.
Честное слово, говорили, что Эсхил именно так и умер.
Между прочим, когда Эсхил описывал всю эту кровавую бойню в купальне с Агамемноном, Клитемнестрой и сетями-покрывалом, он вставил в свой рассказ ужасно печальную часть о том, как Кассандра ожидает собственной смерти.
О чем размышляет Кассандра, так это о том, как все было прекрасно, когда она была маленькой девочкой в Трое, где она часто сидела и играла.
У берегов Скамандра.
Это еще одна вещь, которой занимаются художники.
С другой стороны, в «Троянцах» Кассандру вообще не забирают в Грецию.
Вместо этого Берлиоз заставляет ее убить себя сразу же после падения Трои.
Если подумать, возможно, Гектора Берлиоза назвали в честь того самого Гектора.
С другой стороны, я не помню ничего такого в опере о людях, прячущихся у окон.
Хотя это Геродот написал ту строчку о том, что война якобы началась из-за одной спартанки, о чем я, наверное, и пыталась вспомнить довольно много дней назад.
Кстати, Рафаэль и Джулио Романо были еще двумя художниками, которые представили свои варианты похищения Елены, так же как Рубенс и Ван Дейк представили свои варианты Ахиллеса, прячущегося среди женщин.
Мне кажется интересным, когда это делают учителя и ученики.
Хотя вообще-то Рубенс порой был не намного больше доволен Ван Дейком, чем Тициан — Тинторетто.
Пусть даже он не выгнал Ван Дейка, но он всегда задавал ему рисовать только лица, чтобы самому продолжать оставаться лучшим в тех фрагментах, где люди прикасаются друг к другу.
А еще Рубенс говорил на пяти языках, о чем я упоминаю лишь потому, что ранее упоминала о Рембрандте, который мог говорить только на одном языке.
Я уже говорила, что сегодня утром принесла целую охапку красных роз?
Или что Утрилло писал некоторые холсты, просто копируя сцены с художественных открыток?
Тем временем, по правде говоря, меня, возможно, по-прежнему немного беспокоит вопрос о вещах, существующих только в голове.
В сущности, это происходит потому, что мне лишь сейчас вспомнилось, что костер, который я, возможно, собираюсь развести на свалке, чтобы посмотреть, как он сверкает в разбитых бутылках, — это тоже нечто, существующее только в моей голове.
Вот только в данном случае это существует в моей голове, даже хотя я еще не развела костер.
На самом деле это существует в моей голове, даже хотя я, возможно, никогда не разведу костер.
Более того, то, что в действительности находится в моей голове, это не костер, а та картина Ван Гога, на которой изображен костер.
Точнее говоря, картина Ван Гога, которую можно увидеть, если немного прищуриться. Со всеми этими завитками, как в «Звездной ночи».
И даже с характерной для нее тревожностью.
Даже если это беспокойство в некоторой степени может объясняться, конечно, просто вероятностью того, что картина не будет продана.
Хотя вообще-то что сейчас вдруг произошло, так это то, что я в действительности вижу не саму картину, а ее репродукцию.
Вдобавок репродукция даже сопровождается подписью, в которой говорится, что картина называется «Разбитые бутылки».
И выставлена она в Уффици.
Так вот, очевидно, что в Уффици нет картины Ван Гога под названием «Разбитые бутылки».
Нет такой картины Ван Гога, которая бы называлась «Разбитые бутылки», даже в моей голове, потому что, как я уже говорила, у меня в голове есть только репродукция картины.
Похоже, я начинаю путаться.
Наверное, я просто пыталась сказать, что вижу картину, которую Ван Гог не писал, которая теперь стала репродукцией этой картины и на которой, ко всему прочему, изображен костер, который я не разводила.
Хотя я совершенно не учла того, что на этой картине, по сути, изображен не костер, а отражение костра.
Итак, другими словами, что я в конечном итоге вижу, это не просто картина, являющаяся не настоящей картиной, а лишь репродукцией, но также картина костра, который является не настоящим костром, а всего лишь отражением.
Вдобавок саму эту репродукцию вряд ли можно назвать настоящей репродукцией, точно так же как и это отражение не является настоящим отражением по той же самой причине.
Не удивительно, что Сезанн однажды сказал, что Ван Гог рисовал, как сумасшедший.
Такими темпами следующее, что я спрошу, это будут ли мои розы по-прежнему красными после наступления темноты.
Хотя, если подумать, я не стану спрашивать, будут ли мои розы по-прежнему красными после наступления темноты.
Или даже говорил ли Сезанн хоть раз с кем-нибудь о Ван Гоге лично, прежде чем сказал это.
Что, разумеется, сделало бы его догадку гораздо менее примечательной.
Я имею в виду, если Гоген, например, отвел Сезанна куда-то в угол и прошептал ему кое-что на ухо.
Или если это сделал Достоевский.
Между прочим, собаку, которая залезла на кровать Эмили Бронте, звали Хранитель.
А Еврипид, говорят, умер из-за нападения собак, хотя я упоминаю об этом только потому, что ранее упоминала об Эсхиле и орле.
Но о чем мне это напоминает, так это о смерти Елены, которая, как гласит одна старая легенда, умерла, будучи повешенной на дереве ревнивыми женщинами.
Впрочем, в другой истории утверждается, что она и Ахиллес стали любовниками и вечно жили на волшебном острове.
Хотя точно такую же историю иногда рассказывали о Медее и Ахиллесе.
Ну, несомненно, обе эти истории возникли, поскольку людей огорчала та версия, что Ахиллес пребывает в царстве Аида, например, когда Одиссей встречает его там, в «Одиссее».
Это происходит, разумеется, только после того, как Ахиллеса убивает Парис, попавший ему стрелой в пятку.
Более того, сам Парис к тому времени уже отправился на гору Ида, чтобы умереть от другой стрелы.
Даже хотя узнать об этом можно, лишь прочитав книги авторов с такими именами, как Диктис Критский, или Дарет Фригийский, или Квинт Смирнский, ведь «Илиада» не заходит так далеко.
Страницы из этих книг я тоже бросала в огонь, прочтя их с обеих сторон, насколько я помню.
Это было в Лувре, что, наверное, в трех мостах от Пон-Нёф.
Однажды, той же зимой, я подписала зеркало. В одной из дамских комнат, губной помадой.
Естественно, что я подписывала, так это изображение самой себя.
Однако если бы в зеркало взглянул кто-нибудь еще, то моя подпись оказалась бы под чужим отражением.
Даже в конце весны с руин в Гиссарлыке все еще можно увидеть снег на горе Париса.
Между прочим, в Лувре есть картина с Еленой и Парисом, кисти Жака-Луи Давида, являющаяся, пожалуй, единственным убедительным образом Елены, который я когда-либо видела.
Вообще-то сама картина глупая, поскольку Елена полностью одета, тогда как на Парисе только сандалии и шляпа.
Тем не менее на лице Елены читается томление, и это говорит о том, что она думает об очень многих вещах.
Меня весьма пленяет идея о том, что Елена думала об очень многих вещах.
С другой стороны, я бы определенно не подписала то зеркало, если бы кто-нибудь еще мог в него взглянуть.
Хотя на самом деле имя, которое я написала, было Жанна Эбютерн.
Я все еще оставляю пятна, между прочим.
Навскидку, я бы сказала, что сейчас девятый или десятый день.
Похоже, что еще довольно много из них я забыла отметить.
Даже если это не имеет никакого отношения к пятнам, которые, как я уже говорила, не так уж удивительны.
Не больше, чем ожидание очередных месячных на протяжении нескольких месяцев.
Хотя мне снова пришлось пойти к ручью, чтобы постирать свежие трусы.
Ох, ну что же я.
Естественно, я не стирала свежие трусы. Естественно, трусы не были свежими, пока я их не постирала.
Так или иначе, я вновь оставила все снаружи, ведь всегда есть что-то приятное в том, когда переодеваешься в одежду, еще теплую от солнца.
Вместе с тем я, честно говоря, не очень рада этой своей новой привычке так часто пропускать дни, даже если я не вполне уверена почему.
Хотя, возможно, это как-то связано с тем вопросом, о котором я писала вчера.
То есть я имею в виду, возможно, позавчера или три дня тому назад.
К тому же, я не уверена, что ясно помню сам вопрос.
Или, может быть, я его не очень четко сформулировала.
Хотя, несомненно, я лишь имею в виду, что если столь многие вещи существуют только в моей голове, то, поскольку я сижу здесь, они также, оказывается, существуют и на этих страницах.
Вероятно, они существуют на этих страницах.
Если бы на эти страницы посмотрел кто-то, кто понимает только русский язык, то я понятия не имею, что существовало бы на этих страницах.
Однако, не говоря ни слова по-русски, я, пожалуй, могу категорически заявить, что вещи, существовавшие только в моей голове, теперь существуют также и на этих страницах.
Ну, некоторые из этих вещей.
Едва ли можно изложить все, что существует в голове.
Или даже начать осознавать все это, разумеется.
На самом деле я наверняка не раз писала то, о чем я даже не помнила, что помнила, пока этого не написала.
Ну, вот я и прокомментировала это.
Хотя вообще-то есть и такие вещи, о которых вспоминаешь, когда пишешь, которые не помнил, что помнил, но которые при этом не упоминаешь.
Например, когда я писала о том, что Рембрандт и Спиноза одновременно жили в Амстердаме, о чем я узнала из сноски, я вдруг вспомнила из совсем другой сноски о том, что, когда Эль Греко жил в Толедо, там жили также св. Тереза и св. Иоанн Крестный.
Однако вспомнив об этом, я все же не стала это записывать.
В принципе, я могла не сделать этого по той причине, что я не знаю ни единого факта ни о св. Терезе, ни о св. Иоанне Крестном.
За исключением того, разумеется, что они оба были в Толедо, когда там находился Эль Греко.
Хотя то, о чем я говорю, совсем не так просто.
Еще одним человеком, жившим в Толедо, когда в Толедо жил Эль Греко, был Сервантес, вот только у меня была другая причина не упоминать о Сервантесе, когда я упомянула о св. Терезе и св. Иоанне Крестном.
Когда я упомянула св. Терезу и св. Иоанна Крестного, это произошло потому, что, как я уже говорила, я думала о них в связи с Эль Греко в то время, когда я думала о Рембрандте в связи со Спинозой.
Однако, как я также говорила, тот факт, что Эль Греко мог знать св. Терезу и св. Иоанна Крестного, был чем-то таким, чего я не помнила, что помнила, вплоть до того момента, как принялась писать то, что я написала о Рембрандте и Спинозе.
С другой стороны, тот факт, что Эль Греко тоже мог знать Сервантеса, является чем-то таким, чего я не помнила, что помнила, вплоть до всех этих более поздних страниц, когда я наконец написала о том, что я вспомнила об Эль Греко раньше, но не изложила.
На самом деле это не так сложно, как может показаться.
Все это, в сущности, значит, что даже когда кто- то вспоминает о чем-то таком, чего он не помнил, что помнит, он, возможно, все равно только лишь коснулся поверхности тех вещей, которые он не помнит, что помнит.
Хотя на самом деле я думаю, что все-таки помнила о Сервантесе и раньше, даже если это и было лишь в связи с тем замком.
Впрочем, возможно, что я помнила о Дон Кихоте, ведь замок находился в Ла-Манче.
Книга о Дон Кихоте называется, конечно же, «Don Quixote de La Mancha».
Все, что Эль Греко и Сервантес могли сказать друг другу в Толедо, было бы сказано на языке этого названия, надо полагать.
Даже если Эль Греко предпочитал греческий. Или какой-либо другой язык, на котором говорили на Крите, откуда он в действительности был родом.
Это, конечно, при условии, что, даже если Эль Греко и Сервантес не очень хорошо знали друг друга, они бы, по крайней мере, начали кивать друг другу через некоторое время.
И, естественно, обмениваться любезностями.
Buenos dias, Сервантес.
Buenos dias a usted, Теотокопулос.
Ну, и, несомненно, они бы в конце концов также обменялись аналогичными любезностями со св. Терезой и св. Иоанном Крестным.
Возможно, все это произошло бы в какой-нибудь местной лавке, например в ближайшей аптеке.
Пусть даже сомнительно, конечно, чтобы к кому-либо из последних двух обращались «святой».
Ну, или что св. Иоанна Крестного называли бы Крестным.
В любом случае, Buenos dias, святая Тереза, или Buenos dias, Иоанн Крестный — несомненно, звучало бы немного неуклюже для встречи в аптеке.
Или в очереди к сигаретному прилавку, конечно же, тоже.
Тем не менее все эти люди, разумеется, всегда оставались такими же равноудаленными друг от друга, как и все, кто находился в студии Таддео Гадди.
Вот только они теперь, бесспорно, равноудалены и от меня тоже, поскольку находятся на этих страницах, а не только в моей голове.
Я думаю.
Таким образом, позволю себе сказать, что, даже если бы я неожиданно подумала о ком-то еще, о ком я не думала дольше всего, например об Артемизии Джентилески, это правило все равно бы действовало.
Хотя я только что случайно осознала, что, вероятно, ошиблась некоторое время назад, сказав, что это Зенон доказал то, другое, правило о гипотенузе круга.
Возможно, его доказал Архимед. Или Галилей.
Хотя сейчас меня, по правде говоря, больше удивляет то, что я смогла бы написать столько страниц, вовсе не упомянув Артемизию Джентилески.
Или что любая художница смогла бы.
Вообще-то Артемизия, пожалуй, как раз такой человек, которого можно было бы назвать святым у сигаретного прилавка или где-либо еще, без малейшей тени неловкости.
Естественно, она тоже была изнасилована.
Всего в пятнадцать лет.
Но боже, что за художница. Несмотря на то, с каким миром ей пришлось столкнуться — много-много лет назад.
Да, и несмотря на то что ее пытали, дабы проверить ее слова, когда дело об изнасиловании дошло до суда.
Хотя, конечно, так же один из пап заставил Галилея отказаться от каждого сказанного им слова.
Между тем мои месячные и я все еще остаемся, по всей видимости, на нулевом расстоянии друг от друга.
Ну, как и боль в моем левом плече и я тоже.
Возможно, я не упоминала боль в левом плече.
Я упоминала о ней.
Однако, когда я делала это раньше, то она была всего лишь еще одним воспоминанием, ведь в последнее время я ее вообще-то не ощущала.
Иначе говоря, это был бы еще один пример того, что существовало только в моей голове или на тех страницах, где я писала об этом.
Хотя теперь она, похоже, существует не только в упомянутых двух местах, но еще и в моем плече.
Даже хотя меня, пожалуй, несколько озадачивает то, как боль может существовать в двух других местах, а также там, где она действительно ощущается.
Однако, кажется, было приложено немало усилий для проверки этой самой вероятности.
Так или иначе, я проснулась с ней сегодня утром.
Так бывает. Это случается не часто, но так бывает.
В сущности, я считаю, что эта боль — артрит.
С другой стороны, у меня иногда возникал соблазн связать ее с тем днем, когда я съехала на полном открыток ленд-ровере в Средиземное море, хотя в тот момент я и не думала, что получила сильную травму.
Кстати, на многих открытках в ленд-ровере были репродукции некоторых знакомых картин.
Главным образом Мориса Утрилло.
Почему-то у меня такое чувство, будто я хотела бы прокомментировать это, но какой это мог бы быть комментарий, от меня ускользает.
Хотя, если еще раз подумать, то второй вопрос может быть никак не связан с моим артритом или с той аварией рядом с Савоной.
По крайней мере, в данном случае.
Я делаю это предположение, потому что вчера я, вполне возможно, потянула кое-какие мышцы.
Я могла сделать это, передвигая ржавую газонокосилку, когда была в подвале.
Возможно, я не упоминала, что спускалась в подвал.
Я спускалась подвал. Вчера.
Естественно, я делала еще кое-что, а не только двигала ржавую газонокосилку. Вряд ли кто-то станет спускаться в подвал, куда редко наведывается, лишь для того, чтобы передвинуть ржавую газонокосилку.
Однако перемещение газонокосилки было самым напряженным действием, которое я совершила, находясь там.
Я не двигала ни ручную тележку, ни один из велосипедов.
Кажется, я уже упоминала, что в подвале есть несколько велосипедов, а также ручная тележка.
А еще там есть сколько-то бейсбольных мячей, на полке.
Я не трогала ни один из бейсбольных мячей, хотя я совершенно уверена, что вряд ли можно травмировать плечо, передвигая их.
Вообще-то с моей стороны было глупо упомянуть о том, что я не трогала бейсбольные мячи.
Впрочем, возможно, что перемещение газонокосилки тоже никак ни с чем не было связано.
Подвал этого дома очень влажный, даже в это время года, о чем я, возможно, тоже упоминала.
Можно даже почувствовать запах сырости.
И, честно говоря, я пробыла там довольно долго.
Так что, возможно, эта боль все-таки вызвана артритом, и ее усугубила сырость в подвале.
Хотя, если взглянуть с еще одной стороны, то все это действительно могло начаться весной, когда я стирала свои трусы за день до того, как я подумала о подвале.
В любом случае, как правило, мудрее всего перечислить все возможности, если речь идет о травме.
Между тем путь к подвалу лежит через песчаную насыпь позади дома, и я не помню, упоминала я о ней или нет.
Причина, по которой я упоминаю об этом сейчас, состоит в том, что я наверняка прохожу мимо той части дома, возвращаясь с ручья, что, несомненно, и навело меня на мысль о подвале.
Даже хотя я множество раз оказывалась напротив той самой части дома, совершенно не думая о том, чтобы спуститься в подвал.
Так что, честно говоря, я не очень представляю себе, почему я вчера туда спустилась, если разобраться как следует.
Что я сделала, попав туда, так это осмотрела восемь или девять коробок книг.
Однако то, что мы делаем, оказавшись где-то, часто имеет очень мало общего с тем, зачем мы туда пришли.
Так что, возможно, у меня не было никакой причины спускаться вчера в подвал.
Хотя уверена, я упоминала восемь или девять коробок книг.
Эти восемь или девять коробок книг не раз озадачивали меня тем, что находились в подвале, а не в доме, тем более что здесь наверху для них предостаточно места.
Более того, многие полки здесь наверху наполовину пустые.
Хотя, разумеется, когда я говорю, что они наполовину пустые, мне вообще-то следовало бы сказать, что они наполовину заполнены, так как, судя по всему, они были совершенно пусты, пока кто-то наполовину их не заполнил.
С другой стороны, не исключено, что когда-то они были совсем заполнены, а затем опустели наполовину, когда кто-то отнес половину книг в подвал.
Я нахожу второй вариант менее вероятным, чем первый, хотя им нельзя совсем пренебречь.
В любом случае, нынешнее состояние полок даже объясняет, почему так много книг в доме сильно испорчены.
Например, биография Руперта Брука. Или стихи то ли Анны Ахматовой, то ли Марины Цветаевой.
Возможно, если бы на полках было больше книг и многим бы не пришлось стоять в наклон, морскому воздуху было бы сложнее испортить столько книг, сколько он испортил.
Однако человек, оставивший прочие книги в подвале, об этом, похоже, не подумал.
Впрочем, возможно, нашлась не менее важная причина, по которой те прочие книги были оставлены там.
Более того, не исключено, что именно мое любопытство насчет этой самой причины вынудило меня вчера спуститься в подвал и осмотреть восемь или девять коробок.
Даже если на самом деле я не осмотрела восемь или девять коробок книг.
Я осмотрела одну из восьми или девяти коробок.
Хотя вообще-то я понятия не имею, почему я продолжаю говорить о восьми или девяти коробках.
В подвале одиннадцать коробок с книгами.
Разумеется, такого рода ошибку в оценке можно допустить во многих подобных ситуациях.
И она затем остается в голове на некоторое время, даже когда человек уже знает о ней.
Ну, как я только что продемонстрировала.
Между прочим, все книги в подвале имеют свой особый запах сырости.
Я понятия не имею, как можно это описать, но это запах сырости, свойственный именно книгам.
Во всяком случае, это касается тех книг в одной коробке, которую я открывала раньше — той же самой, что я снова открыла вчера.
Вероятно, я не упоминала, что открывала одну из картонных коробок раньше.
Однако вряд ли кто-то стал бы говорить, что в одиннадцати картонных коробках в подвале дома на пляже находятся книги, если бы не выяснил этого, открыв по крайней мере одну из них.
На самом деле, несомненно, нужно было открыть все одиннадцать коробок, прежде чем говорить о них подобным образом.
Следовательно, я все еще исхожу из крайне ограниченных данных.
Хотя, честно говоря, весь этот вопрос никогда не интересовал меня особенно сильно.
На самом деле перемещение ржавой газонокосилки с целью открытия хотя бы даже и той же самой одной коробки могло быть всего-навсего способом скоротать вчера время.
Как только я оказалась в подвале без всякой причины для того, чтобы оказаться там, как я уже отмечала.
Будь я в ином расположении духа, я могла бы все-таки переместить бейсбольные мячи.
И в этом случае очень вероятно опять же, что мое плечо не болело бы так, как оно болит сейчас.
На этот раз, однако, я даже полистала книги, чего не сделала в первый раз, когда открыла ту же коробку.
Ну, в тот раз я вообще не двигала газонокосилку, так что было трудно пролистать книги, даже если бы я захотела это сделать.
Однако все, что мне хотелось сделать в тот раз, это узнать содержимое коробки.
Вчера я вынула книги из коробки.
За исключением одной, все они были на иностранных языках.
Большинство — на немецком языке, хотя и не все.
Единственная книга не на немецком или каком-либо другом иностранном языке была переводом «Троянок» Еврипида с греческого на английский.
Гилберта Мюррея.
Я думаю, что переводчика звали Гилберт Мюррей.
На самом деле сейчас я не уверена, что проверяла.
Однако можно обнаружить, что многие греческие пьесы переводил Гилберт Мюррей.
Более того, кажется, я даже однажды уже обсуждала эту тему.
Впрочем, возможно, все-таки удивительно, что я не уделила больше внимания переводу, ведь это была единственная из той коробки книга, в которой я смогла прочесть хоть что-то.
Хотя вообще-то я также умею читать по-испански.
Или, пожалуй, мне следовало бы сказать, что я когда-то умела читать по-испански, но не пробовала делать это уже много лет.
И, честно говоря, даже когда я делала это, я читала по-испански не особенно хорошо.
Две книги из коробки были на испанском.
Одна из них была переводом «Пути всякой плоти».
Вообще-то, если подумать, мне было не так-то просто ее узнать.
В сущности, оттого, что в названии использовалось слово carne, и я поначалу думала о carne в значении мяса.
Конечно, название «Путь всякого мяса» не показалось мне подходящим для книги.
Трудность, однако, сохранялась лишь до тех пор, пока я не заметила, что книгу написал Сэмюэл Батлер.
Естественно, было очень сомнительно, что известный тебе автор, уже написавший книгу под названием «Путь всякой плоти», мог также написать книгу под названием «Путь всякого мяса».
Или же предположить высокую вероятность обратного утверждения.
Тем не менее должна признать, что путаница имела место быть, пусть и недолго.
Другая книга на испанском языке не являлась переводом, а была написана на этом языке. Ею оказался томик стихов Хуаны Инес де ла Крус.
Ну, Хуана Инес де ла Крус — это еще один человек, которого я, кажется, упоминала ранее.
Причина, по которой мне так кажется, состоит в том, что Хуана Инес де ла Крус была мексиканкой, а я совершенно определенно уже писала о том, что когда-то жила в Мексике.
Живя в Мексике, немудрено познакомиться с именами некоторых мексиканских поэтов, даже если не очень хорошо читаешь на том языке, на котором они писали.
Вообще-то если плохо читаешь на каком-либо языке, то, как правило, стихи на этом языке читаешь еще хуже.
Хотя однажды я вроде бы постаралась прочесть некоторые стихи Марко Антонио Монтеса де Оки, пусть даже главная причина, по которой я это сделала, была, возможно, связана только с тем, как мне понравилось его имя.
Безусловно, оно запоминается своей звучностью, когда произносишь его вслух.
Марко Антонио Монтес де Ока.
Гусиные горы — вот что, как это ни удивительно, означает его вторая половина.
Хотя имя Хуана Инес де ла Крус, конечно, тоже звучное.
Сор Хуана Инес де ла Крус. Сестра Иоанна Инес Крестная — так оно переводится, разумеется.
Сестринская часть, конечно, также делает ее монахиней. Пусть даже я не думала о какой-либо другой связи вплоть до настоящего момента.
Я имею в виду связь между сестрой Иоанной Инес Крестной и св. Иоанном Крестным.
Ну, не исключено, что связь есть. Впрочем, возможно, самых разных людей, имевших какое-либо отношение к католической церкви, называли Крус, и то, что я вдруг подумала о двух из них, — всего лишь совпадение.
Несомненно, если бы меня больше интересовали такие вопросы, я бы думала о многих из них.
Если на то пошло, я понятия не имею, что из сказанного мной вновь напомнило мне об Артемизии Джентилески.
Даже если, как я уже говорила несколько страниц назад, я была удивлена, что смогла написать столько страниц, не подумав о ней намного раньше.
Ну, пожалуй, Артемизия была как раз таким человеком, ради встречи с которым с радостью удавилась бы почти любая женщина-художница, верящая в жизнь после смерти.
Даже если никто никогда не учил ее читать или писать.
Или, возможно, самих картин было достаточно для Артемизии?
Что за нелепый вопрос я задала.
Тем не менее это, возможно, показывает, какие чувства вызывает Артемизия Джентилески.
Артемизия Кисти.
Хотя я, хоть убейте, теперь даже не знаю, почему я вдруг вспомнила, что Галилей был еще одним человеком, который ослеп.
В случае Галилея это могло объясняться тем, что он слишком часто смотрел на солнце в свои телескопы, ну или так говорили.
Но каким образом это, боже правый, в свою очередь напомнило мне о том потрескавшемся старом стеклянном овале, который я называла палитрой, столько лет назад в Сохо, и который прежде был столешницей кофейного столика моей тети Эстер?
Или что даже некую болезнь назвали в честь одного из тех бейсболистов?
Конечно, можно было бы почти все отдать за то, чтобы понять, каким образом мозгу иногда удается вот так перескакивать с одного на другое.
Кстати, Эстер была родственницей со стороны отца.
Я только что заварила немного чая сушонг.
Прежде чем вернуться к пишущей машинке, я поднялась наверх и на мгновение достала фотографию в рамке из ящика стола рядом со своей кроватью.
Однако я не поставила ее обратно на стол.
Книги Марко Антонио Монтеса де Оки в коробке тоже не было, если я не прояснила это раньше.
С другой стороны, там было по меньшей мере семь книг Мартина Хайдеггера.
У меня, разумеется, нет возможности указать их названия, если только я не вернусь в подвал и не перепишу их немецкие заглавия, но это занятие, конечно, представляется мне бесполезным.
Когда я говорю, что оно представляется мне бесполезным, я, само собой, имею в виду, что я все равно не пойму ни одного слова по-немецки.
Однако одно слово, Dasein, определенно привлекло мое внимание, поскольку оно, казалось, появлялось практически на каждой странице, которую я открывала.
С другой стороны, сам Мартин Хайдеггер остается тем, о ком я знаю не больше, чем я знаю о Хуане Инес де ла Крус.
За исключением того, разумеется, что теперь мне известно, что он, несомненно, был небезразличен к слову Dasein.
Впрочем, как я уже, кажется, говорила, в книгах часто натыкаешься на такое имя, как Мартин Хайдеггер, даже если вряд ли склонен читать какие- либо книги самого Мартина Хайдеггера.
По крайней мере, это справедливо, если человек вообще когда-нибудь читает, что, как я уже тоже говорила, я перестала делать.
Я даже не могу вспомнить последнюю прочитанную книгу, даже если иногда мне кажется, что это была биография Брамса.
Однако, учитывая все обстоятельства, я все же не считаю, что мое прочтение биографии Брамса было достоверно установлено.
На самом деле меня только сейчас осенило, что все известные мне о Брамсе факты можно было узнать с конвертов грампластинок.
Возможно, я еще не упоминала, что я читала конверты грампластинок.
Однако такое случается.
Ну, точнее, случалось, так как теперь можно с достаточной уверенностью утверждать, что я не читала конвертов грампластинок уже почти столько же лет, сколько я не читала книг.
Тем более что в этом доме нет грампластинок.
Ну, проигрывателя тоже нет, если уж на то пошло.
На самом деле это могло удивить меня, когда я впервые оказалась в доме, хотя это не то, о чем я всерьез думала с тех пор, как я, возможно, впервые подумала об этом.
Да, как я вдобавок говорила, я все равно не включала никакой музыки с тех пор, как избавилась от багажа, содержавшего, естественно, такие вещи, как генераторы для обеспечения работы таких вещей, как проигрыватели.
С другой стороны, ничто из этого не учитывает ту музыку, которую я слушала в своей голове.
Ну, или даже в некоторых автомобилях, когда я включала зажигание, а кнопка пуска кассетной деки оказывалась нажатой.
Услышать в таких обстоятельствах Кэтлин Ферриер, исполняющую оперу Винченцо Беллини, это, разумеется, совсем не то же самое, что принять сознательное решение послушать Кэтлин Ферриер, исполняющую оперу Винченцо Беллини.
Хотя сейчас мне все-таки вдруг пришлось задуматься, действительно ли то, что я знаю о Брамсе, было написано на оборотной стороне конвертов грампластинок.
Например, о его отношениях с Жанной Авриль или, скажем, с Кэтрин Хепбёрн.
Или, если уж на то пошло, откуда я знаю, что Бетховен иногда исписывал нотами стены своего дома, если не мог быстро отыскать бумагу?
Или что Георг Фридрих Гендель однажды пригрозил сопрано выбросить ее из окна, потому что она отказывалась петь арию так, как он ее написал?
Или что, когда Чайковский впервые дирижировал оркестром, он был уверен, что у него отвалится голова, и потому держался за голову одной рукой в течение всего концерта?
Ну, или, если взять совсем другой пласт, то стал бы кто-нибудь, составляющий тексты для таких конвертов, упоминать о том, что Брамс, как известно, носил в кармане конфеты, чтобы раздавать их детям, когда он посещал дома, в которых были дети?
Разумеется, человек, составлявший такие тексты, ни за что не написал бы, что одним из детей, которым Брамс иногда давал конфеты, вполне мог оказаться Людвиг Витгенштейн.
Возможно, я не упоминала, что одним из детей, которым Брамс иногда давал конфеты, вполне мог оказаться Людвиг Витгенштейн.
Но, честное слово, Брамс часто бывал в доме Витгенштейнов в Вене, когда Людвиг Витгенштейн был ребенком.
Итак, если правда, что Брамс был известен тем, что носил в кармане конфеты, чтобы раздавать их детям, когда он посещал дома, в которых были дети, то вполне вероятно, что Людвиг Витгенштейн был одним из детей, которым он давал конфеты.
Более того, вполне возможно, что именно это было на уме у самого Витгенштейна спустя все эти годы, когда он сказал, что не нужно много денег, чтобы подарить хороший подарок, но нужно много времени.
Я имею в виду, что если человек, которому Витгенштейн хотел подарить подарок, был ребенком, то он, естественно, мог решить этот вопрос в точности так, как это обычно делал Брамс.
Однако никто не прогуливается по Кембриджу с конфетами в кармане, чтобы дать их Бертрану Расселу или Альфреду Норту Уайтхеду.
Впрочем, сейчас можно было бы пожалеть, что вчера Витгенштейн не пришел в подвал помочь мне с этим словом Dasein.
Ну или даже с тем другим словом, «бриколаж», которое крутилось в моей голове, когда я проснулась в то утро.
Или же с целым предложением, которое я повторила про себя, наверное, раз сто, чуть позже, о мире, который представляет собой все, что имеет место быть.
Разумеется, если Витгенштейн действительно был так умен, как считалось, то он наверняка смог бы сказать мне, имело ли это какой-либо смысл.
С другой стороны, как я опять-таки читала однажды о Витгенштейне, он размышлял так напряженно, что можно было увидеть, как он это делает.
И, конечно, я бы не хотела настолько сильно утруждать человека.
Хотя о чем это сейчас почему-то напомнило мне, так это о том, что я все-таки действительно знаю одну вещь о Мартине Хайдеггере.
По правде говоря, я понятия не имею, откуда знаю ее, хотя, несомненно, это тоже из какой-то сноски. Я знаю, что когда-то Мартин Хайдеггер владел парой ботинок, которые прежде принадлежали Винсенту Ван Гогу, и надевал их, когда отправлялся гулять по лесу.
Между прочим, я ни секунды не сомневаюсь в этом факте. Тем более что именно Мартин Хайдеггер, возможно, сделал то самое заявление, довольно давно упомянутое мною, о том, что тревога является основополагающим настроением существования.
Поэтому что его наверняка восхитило бы в Ван Гоге, так это то, как Ван Гог мог заставить даже пару ботинок излучать тревожность.
Даже если была лишь мизерная вероятность того, что та пара ботинок, которую когда-то носил Ван Гог, была той же самой парой, которую он однажды нарисовал, разумеется.
Если только, конечно, в тот день он не рисовал в одних носках.
Или не позаимствовал у кого-нибудь вторую пару ботинок.
А если поразмыслить как следует, то, возможно, это были ботинки Кьеркегора, о которых я думала и которыми когда-то владел Ван Гог.
На самом деле я редко читаю сноски.
Хотя, безусловно, это отчасти из-за возраста, который иногда стирает некоторые различия.
А к настоящему времени вполне уже могла возникнуть и проблема гормонов, а также климакса.
Более того, вся эта история могла быть как-то связана с тем, что кто-то сидел на одном из стульев Паскаля.
А что я на самом деле собиралась теперь сказать, так это то, что мне были знакомы имена писателей и на обложках некоторых других книг из коробки, а не только тех семи книг Мартина Хайдеггера.
Например, Йоханнес Китс.
Хотя там был также перевод «Анны Карениной», увидев который, я распознала само название.
Это просто потому, что данное название на немецком языке, кажется, практически идентично названию на английском.
Но в связи с этим я нахожу интересным, что если бы экземпляр той книги был самим оригиналом, а не переводом, то я вообще не смогла бы понять смысл названия.
Когда говоришь, что не способен прочесть ни слова по-русски, в твоих словах даже больше правды, чем когда признаёшься, что не способен прочесть ни слова по-немецки, разумеется.
Несмотря на то, что практически каждое второе слово в немецком языке похоже на Bronte. Или Dürer.
Хотя в коробке также было несколько вещей, которые я никоим образом не могла идентифицировать.
Я имею в виду, что там было несколько книг, на обложке которых я не могла разобрать ни названий, ни имен авторов.
Однако все те книги определенно не были переведены с английского языка, на котором писало большинство знакомых мне авторов, а были изначально напечатаны на немецком.
С другой стороны, это едва ли следует понимать так, что я не знакома с некоторыми немецкими писателями.
Разумеется, я знакома, например, с Фридрихом Ницше.
Ну, или с Гёте.
Хотя, говоря, что я знакома с кем-то из этих авторов, я не обязательно имею в виду, что я особенно хорошо знакома с ними.
На самом деле, говоря, что я знакома с ними, я даже не обязательно имею в виду, что прочла хотя бы одно слово, написанное кем-либо из них.
Вообще-то суть этого знакомства сводится, возможно, просто к тому, что я читала оборотные стороны конвертов грампластинок.
Например, оборотную сторону конверта пластинки «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса.
Или пластинки «Рапсодия для альта».
Вероятно, упоминание конверта пластинки «Рапсодия для альта» представляется менее значимым, чем упоминание конверта пластинки «Так говорил Заратустра».
Конечно, если бы я не прочла оборотную сторону конверта пластинки «Рапсодия для альта», я бы не знала о том факте, что при написании рапсодии Брамс вдохновлялся поэмой Гёте.
С другой стороны, я не забываю и об «Осуждении Фауста» Берлиоза.
Или о «Фаусте» Гуно.
Или о «Фауст-симфонии» Листа.
Даже хотя сейчас я, пожалуй, снова хвастаюсь.
В любом случае я определенно не хотела унизить немецких писателей, заметив, что я не узнаю их имен.
Возможно, многие из этих писателей были довольно известны в Германии, и новости о них просто не успели дойти до меня к тому моменту, когда я перестала читать.
Несомненно, я бы услышала о многих из них в течение нескольких лет.
Впрочем, возможно, что некоторые писатели, чьи книги я взяла из коробки, вовсе не были немецкими. Вполне возможно, что среди них было ничуть не меньше французских писателей, чьи имена я не узнала. Или итальянских.
Более того, это точно так же может касаться некоторых писателей, писавших на испанском языке.
Вообще-то это наверняка всего лишь случайность, что я когда-то услышала такие имена, как Хуана Инес де ла Крус. Или Марк Антонио Монтес де Ока.
Более того, даже услышав их, я вполне могла бы совершенно забыть о них вновь, если бы эти имена не были весьма звучными.
Поэтому, возможно, что все-таки мне не обязательно было извиняться перед немецкими писателями.
Между прочим, Ференц Лист тоже появлялся в фильме «Любовная песня», вместе с Бахом и Кларой Шуман.
Я вспоминаю об этом просто мимоходом.
Ну, или из-за того, что только что упомянула Листа.
А Райнер Мария Рильке был еще одним немецким писателем, который, как я могла бы сказать, если бы захотела, также был мне известен.
Хотя о чем я действительно все еще думаю, так это о том, как можно было и вправду увидеть, как размышляет Витгенштейн.
Даже если, с другой стороны, размышление — это, разумеется, именно то, чем философы занимаются.
Поэтому вполне вероятно, что все они были такими. Не исключено, что каждый философ еще со времен Зенона расхаживал, позволяя людям смотреть, как он размышляет.
Более того, возможно, они делали это даже тогда, когда их ум занимали лишь самые несущественные недоразумения.
Не то чтобы несущественные недоразумения не могут порой становиться основополагающим настроением существования, разумеется.
Тем не менее я лишь предполагаю, что, вполне возможно, сам Витгенштейн мог запросто думать всего лишь о чайке, когда люди считали, будто он напряженно размышляет.
Я имею в виду чайку, которая каждое утро прилетала к его окну, чтобы ее покормили. В то время, когда он жил недалеко от залива Голуэй в Ирландии.
Может быть, я не упоминала, что у Витгенштейна была ручная чайка, каждое утро прилетавшая к его окну, чтобы ее покормили.
Или даже что он когда-то жил в Ирландии.
Или скорее, осенило меня сейчас, я, возможно, говорила, что это у кого-то другого была ручная чайка. И совсем в другом месте.
На самом деле это был Витгенштейн. В заливе Голуэй.
Между прочим, Витгенштейн также играл на инструменте.
И иногда лепил скульптуры.
Мне приятно знать оба этих факта о Витгенштейне.
Более того, мне также приятно знать, что он когда-то работал садовником в монастыре.
И унаследовал немало денег, но все их раздал.
На самом деле я думаю, что мне бы понравился Витгенштейн.
Тем более что, решив отдать деньги, он организовал помощь другим писателям, у которых денег не было.
Таким, например, как Райнер Мария Рильке.
Вообще-то в следующий раз, когда я окажусь в городе с книжным магазином, я, возможно, все же попытаюсь найти какую-нибудь книгу Витгенштейна.
Между прочим, название залива Голуэй звучит гораздо приятнее, когда произносишь его вслух, чем когда просто видишь его на странице.
Ну, разумеется, у него вообще нет звука, когда его просто видишь на странице.
Более того, если подумать, то даже такие слова, как Мария Каллас, вообще не звучат, когда их просто видишь на странице.
Или «Лючия ди Ламмермур».
Хм. Так какого же цвета были мои красные розы, когда я печатала те слова?
В любом случае, раньше мне никогда не приходило в голову, что можно дать имя чайке, думаю, нет.
Залив Голуэй. Кадис. Озеро Комо. Памплона. Лесбос. Бордо.
Шостакович.
Ну что ж. Тем временем я только что сходила в дюны.
Писая, я думала о Лоуренсе Аравийском.
Однако это вряд ли значит, что существует какая-либо конкретная связь между мочеиспусканием и Лоуренсом Аравийским.
На самом деле причина, по которой я подумала о Лоуренсе Аравийском, заключалась просто в том, что в коробке была только одна другая книга, которую я смогла узнать, и ей оказалась биография Лоуренса Аравийского.
Причина, по которой я ее узнала, состоит в том, что имя Лоуренс Аравийский осталось в названии на английском языке, в кавычках.
Вообще-то я в любом случае могла бы понять, что это биография Лоуренса Аравийского, поскольку в книге также имелось несколько фотографий Лоуренса Аравийского, но я предположила, что это биография Лоуренса Аравийского, еще до того, как заметила их.
Как бы то ни было, едва заметив те фотографии, я с радостью сочла их подтверждением своего предположения.
Между прочим, Лоуренс Аравийский не слишком походил на Питера О’Тула, хотя на некоторых фотографиях он был одет, как Питер О’Тул.
Имеется в виду, естественно, Питер О’Тул, одетый для роли в фильме о Лоуренсе Аравийском.
Думаю, я упоминала о том, что видела Питера О’Тула в фильме о Лоуренсе Аравийском.
Хотя, с другой стороны, когда я говорю, что Лоуренс Аравийский не очень похож на Питера О’Тула, мне, возможно, также следует сказать, что я совсем не уверена в том, как именно выглядел Лоуренс Аравийский.
Пусть даже чуть выше я сказала, что только вчера видела несколько фотографий Лоуренса Аравийского.
Все-таки когда я говорю, что фотографии, которые я видела вчера, были фотографиями Лоуренса Аравийского, это само по себе может оказаться всего лишь еще одним предположением.
Естественно, я не могла понять подписей, которыми сопровождались фотографии.
Следовательно, я строила свое предположение на том факте, что человек на фотографиях был на некоторых из них одет, как Питер О’Тул в фильме о Лоуренсе Аравийском.
Тем не менее все-таки нельзя исключать вероятность того, что на фотографиях был вовсе не Лоуренс Аравийский.
Или даже того, что сама книга, возможно, не была биографией Лоуренса Аравийского.
Сомнительно, что хоть одна из этих вероятностей сколько-нибудь существенна, но тем не менее они остаются вероятностями.
Разумеется, если учесть, что и оставшаяся часть названия, и каждое слово в той книге были на немецком, то нет сомнений в том, что небольшая вероятность ошибки все-таки существует.
Хотя если поразмыслить, то окажется, что не каждое слово в той книге было на немецком.
Кроме имени Лоуренса Аравийского появлялись и другие имена на английском.
Хотя, несомненно, когда я говорю, что имена появлялись на английском, я выражаюсь фигурально.
Разумеется, если кто-то читает книгу на немецком языке и натыкается на имена вроде «Уинстон Черчилль» или «Т. Э. Шоу», он же не говорит себе: книга, которую я читаю, написана на немецком, но имена Уинстон Черчилль и Т. Э. Шоу написаны по-английски.
Хотя забавно думать о том, что Уинстон Черчилль не английское имя.
Тем не менее мало кто стал бы так делать.
Не больше, чем я сама, когда читала перевод какой-нибудь греческой трагедии и натыкалась на имена, скажем, Клитемнестры или Электры: я не думала про себя, хм, эта пьеса написана языком Гилберта Мюррея, но имена Клитемнестра и Электра написаны по-гречески.
Пусть даже на каком-то совершенно ином уровне то, другое, имя, естественно, снова начало меня беспокоить.
Во всяком случае в такой мере, что, поскольку я столь часто думала о человеке по имени Т. Э. Шоу, то мне бы хотелось, чтобы он не только перевел «Одиссею», но сделал нечто большее.
Хотя теперь можно с уверенностью предположить, что он как-то связан с Лоуренсом Аравийским.
Если бы его имя упоминалось в подписях к фотографиям, я бы, по крайней мере, знала, как он выглядит, пусть даже это вряд ли помогло бы.
Но на всех фотографиях был только Лоуренс Аравийский.
Тем не менее совпадение, бесспорно, интересное: думать о ком-то малоизвестном, а вскоре после этого заметить его имя в книге, даже если понять что-нибудь из той книги, в которой отыскалось это имя, не представляется возможным.
И, по крайней мере, теперь я почти уверена, что он не бейсболист, как я, возможно, когда-то думала.
Конечно, между Лоуренсом Аравийским и бейсболом точно нет ничего общего, во всяком случае в фильме.
Учитывая все обстоятельства, Т. Э. Шоу, скорее всего, был кем-то, с кем Лоуренс Аравийский сражался в Аравии, о чем я помню по многим сценам из фильма.
Хотя, когда я говорю «сражался с», я, наверное, должна уточнить, между прочим, что они сражались на одной стороне.
Часто, когда говорят, что кто-то с кем-то воевал, легко понять это так, что один воевал против другого.
Так что, когда Марлон Брандо и Бенито Хуарес были в Мексике, в еще одном фильме, который я когда-то смотрела, можно было сказать, что один сражался с другим, имея в виду прямо противоположное тому, что подразумевают, когда говорят, что Т. Э. Шоу, скорее всего, сражался в Аравии с Лоуренсом Аравийским.
Как это ни странно, в таких случаях, как правило, всегда понятно, что имеется в виду.
Кстати, естественно, что Лоуренса Аравийского прозвали Аравийским уже после того, как он достаточно пробыл в Аравии.
И мне только что пришло в голову, что когда читаешь переводные книги, то и дело натыкаясь на имена вроде «Родион Романович», то, пожалуй, действительно останавливаешься и все-таки ловишь себя на мысли о том, что это имя не английское.
Ну, или когда люди, переводящие книги, пишут имена по-особенному. Например, Кlytaеmnaestra.
Или Elektra.
Между тем, когда я упоминала, что биография Лоуренса Аравийского была той самой второй книгой из коробки, которую я смогла узнать, я забыла упомянуть, что она была на самом дне коробки.
Я решила это отметить, поскольку если сказать, что какая-то книга была на дне коробки, то в большинстве случаев это также значит, что она была первой книгой, которую положили в коробку.
А причина, по которой какую-то книгу кладут в коробку первой, чаще всего заключается в том, что эта книга еще и самая большая из тех, что собираются туда положить.
На самом деле это можно взять за правило. Почти категорически можно утверждать, что если сперва засунуть в коробку остальные книги, то для самой большой книги просто-напросто не останется места.
Поэтому что на самом деле стоит отметить, так это то, что я вообще никогда этого не понимала.
Несомненно, свободного места в коробке остается ровно столько же вне зависимости от того, в каком порядке класть туда книги.
Однако попробуйте разместить в коробке книги, не положив на ее дно самую большую из них.
Более того, теперь, когда я подумала об этом, мне кажется, что Архимед или Галилей доказали нечто замечательное на этот счет, даже хотя почему-то вместо коробки использовалась ванна.
Ну, без сомнения, причина, по какой использовалась ванна, а не коробка, состояла в том, что их издание биографии Лоуренса Аравийского тоже не влезало в коробку последним, что, вероятно, и натолкнуло Архимеда или Галилея на этот эксперимент.
С другой стороны, я понятия не имею, сколько воды нужно налить в ванну, чтобы повторить этот опыт.
К сожалению, когда становишься старше, физика забывается одной из первых.
И наоборот, я только сейчас запоздало понимаю, почему те восемь или девять коробок с книгами в конце концов очутились в подвале, и я определенно уже упоминала, что это не раз озадачивало меня.
Почти наверняка дело в том, что тогда никто из обитателей дома не знал большинства иностранных языков сколько-нибудь лучше, чем я сейчас.
Боже, как же мне надоело смотреть на слово Dasein и гадать, что оно означает, — решил в итоге один из тех людей, как легко себе представить.
Или: о боже, как же мне надоело натыкаться глазами на дурацкую книжку под названием «Путь всякого мяса».
Вниз их, с глаз долой, все до единой.
Допустим, это не объясняет, почему туда же попало и переводное издание «Троянок», хотя, полагаю, просто по недосмотру.
В конечном счете есть вещи, сделать которые легче, чем наполнить книгами восемь или девять коробок.
Более того, заполнение книгами одиннадцати коробок к таковым не относится.
Однако это допущение может тем не менее ответить на вопрос о том, должны ли книжные полки в доме считаться наполовину пустыми или наполовину полными, и, если одной причиной для беспокойства станет меньше, уже поэтому оно заслуживает одобрения.
Даже хотя это сразу же напоминает мне об атласе, а что делать с ним, я до сих пор ума не приложу.
Определенно, я даже не упоминала об атласе в последнее время.
Что, однако, не значит, будто я о нем не думала.
Причина, по которой я думала о нем, заключается главным образом в том, что ему все время приходилось лежать на боку, поскольку, как я однажды обратила внимание, он был слишком высоким для полок.
Разумеется, в этом мире всегда были люди, которые упорно не брали в расчет такие высокие книги, когда делали книжные шкафы.
Но к чему я веду в данном конкретном случае, так это к тому, что этот же самый просчет, возможно, объясняет, почему в доме нет ни одной книги об искусстве, о чем я тоже говорила как о еще одном вопросе, ставящем меня в тупик.
Очевидно, что среднестатистическая книга об искусстве довольно высокая.
Таким образом, кто теперь станет спорить с тем, что когда-то на полках было не меньше книг об искусстве, чем книг на иностранном языке, до тех пор, пока кому-то не надоело жить в доме, полном книг, которые приходится класть плашмя, ровно настолько же, насколько ему надоело жить в доме, полном книг, которые невозможно прочесть.
Вниз их, с глаз долой, все до единой.
То есть вполне возможно, что книг об искусстве в коробках было примерно столько же, сколько книг на немецком языке, а я всего лишь открыла не ту коробку, так откуда мне было знать.
Вообще говоря, не исключено, что остальные книги в тех коробках, все до единой, были книгами об искусстве.
И к тому же простое совпадение, что я не нашла таковых в той единственной открытой мною коробке, уж точно не исключает этой возможности.
Вообще-то я прямо сейчас могла бы спуститься вниз и проверить.
И мне не пришлось бы даже двигать газонокосилку, если подумать, ведь я не вернула ее на место после того, как передвинула ее раньше.
Я вовсе не собираюсь спускаться вниз, чтобы проверить.
Ни сейчас, ни, скорее всего, когда-либо еще.
В особенности потому, что я даже не приблизилась к ответу на вопрос, почему я вчера спускалась вниз, начнем с этого.
Даже если я не спускалась в подвал вчера.
Сказать по правде, сейчас уже вообще-то наступило послезавтра.
Или, вероятнее, послепослезавтра.
Более того, идет дождь.
В действительности он идет с того утра, как я выбросила свои красные розы, о чем я тоже не писала.
Говоря «тоже», я имею в виду, что о тех днях я не писала.
Тоже.
Ну, кажется, я упоминала некоторое время назад, что иногда я отмечаю дни, а иногда нет.
Возможно, дождь начался на следующий день за тем, после которого я спускалась в подвал.
За день до того дня, который последовал за тем днем, когда я спускалась в подвал, я еще печатала на машинке.
Я думаю.
Так или иначе, я еще не писала о том, что в первый день дождь разбил окно.
Или скорее это сделал ветер, причем ночью.
Такое случается.
О боже, кажется, ветер разбил окно в одной из комнат на первом этаже, — наверняка именно так я подумала.
Разумеется, это случилось после того, как я услышала звон стекла.
И пока я была наверху.
На самом деле дождь все еще попадает внутрь. Уже не очень много, но сколько-то попадает.
Вообще-то ветер утих достаточно быстро, как оказалось.
Так что сейчас мысль о теплом затяжном дожде кажется весьма приятной.
Даже хотя я окончательно убедилась, что плечо болит от артрита.
Вероятно, лодыжка болит по той же причине.
Наверное, про лодыжку я какое-то время не упоминала.
Я говорю о той самой лодыжке, которую я сломала, когда несла трехметровый холст вверх по центральной лестнице Эрмитажа и упала.
На самом деле, возможно, она была не сломана, а только вывихнута.
Тем не менее на следующее утро она распухла вдвое больше своего нормального размера.
В какой-то момент я была на полпути вверх по лестнице, а через мгновение уже представляла себя Икаром.
Возможно, что причиной этого тоже стал ветер, ведь в музее к тому времени было много других разбитых окон.
Хотя все, что я сделала, это чуть изменила позу, просто сомкнула бедра.
Забыв на то же самое мгновение, что несу сорок пять квадратных футов холста, на каркасе, вверх по каменной лестнице.
Оглядываясь назад, можно сказать, что отсутствие ветра все-таки не кажется маловероятным.
И опять же все это произошло, разумеется, без какого-либо предупреждения.
Хотя, несомненно, я чувствовала себя не в своей тарелке уже несколько дней, что постоянно объясняла другими причинами.
В любом случае это та самая лодыжка.
И если бы не она, то я совершенно не возражала бы против того дождя, как я начала говорить.
Ну, не считая того, что я, пожалуй, скучала бы по закатам.
Хотя что я, в сущности, делаю по отношению к дождю, так это игнорирую его, по правде говоря.
А делаю я это, просто гуляя под ним.
Между прочим, от моего внимания не ускользнуло то, что два последних предложения могут показаться противоречащими друг другу.
Хотя это вовсе не так.
Можно совершенно спокойно не обращать внимания на дождь, гуляя под ним.
Вообще-то именно если не выходить гулять из-за дождя, то как раз и не сможешь не обращать на него внимания.
Например, если говорить про себя: боже, если я выйду под этот дождь, то промокну до нитки, — то ни в коем случае не сможешь не обращать на него внимания.
Опять же мне особенно легко не обращать на дождь внимания, ведь я в свойственной мне манере порой выхожу под него без одежды.
Ну, или в одних трусах.
Хотя на самом деле их я тоже сняла еще на веранде, собираясь гулять.
Ну, вообще-то я в любом случае уже успела промокнуть, находясь там.
Поэтому к тому времени стало совершенно неважно, есть на мне трусы или нет.
Хотя, скорее всего, этим я признаю, что я вполне могла в то же самое время осознавать, что мне пора помыться. По крайней мере, в первом из тех двух случаев.
Обычно я купаюсь в ручье, конечно же. Ну, во всяком случае летом, как сейчас.
О! Между прочим, у меня также наконец-то перестала идти кровь, которая, казалось, шла целую вечность.
И в любом случае это было забавным развлечением: намылиться и гулять в таком виде, пока тебя не омоет дождь.
Пусть даже на минуту мне показалось, что я потеряла свою палку, занимаясь этим.
Однако когда я обернулась, то она была на месте и даже стояла прямо.
То есть палка уже не была потеряна даже до того, как я начала гадать, где она может быть.
Если можно так выразиться.
С другой стороны, нельзя сказать, что имело бы смысл пытаться написать что-нибудь ею в такой дождь, начнем с этого.
Ну, впрочем, в любом случае далеко не все, что я писала, сохранялось, когда я возвращалась.
Опять же, наверное, любопытно было бы посмотреть, как надписи, которые ты решил оставить, начинают исчезать еще до того, как ты их закончил.
Должно быть, при этом чувствуешь себя Леонардо да Винчи, пишущим «Тайную вечерю».
Ну, сомнительно, конечно, что прямо как Леонардо.
Даже если писать левой рукой.
Или задом наперед, так, чтобы надпись можно было прочесть только в зеркальном отражении.
То есть отражение надписи было бы более реальным, чем сама надпись.
Так сказать.
Кстати, я уже упоминала, что Микеланджело почти ни разу в жизни не принимал ванну?
И даже в кровать ложился, не разуваясь?
Честное слово, это общеизвестный факт из истории искусств: рядом с Микеланджело вряд ли было приятно сидеть.
И вообще-то, если подумать, тот факт, что все эти Медичи дозволяли ему не вставать при их появлении, теперь предстает в ином свете.
Хотя, с другой стороны, даже сам Уильям Шекспир был ужасно маленького роста, о чем я однажды уже упоминала.
Я имею в виду, раз уж об этом зашла речь.
Ну, и если на то пошло, Галилей отказывался пожимать людям руку, после того как открыл микробы.
При том что ни единая живая душа не верила в такие вещи. Даже хотя Галилей настаивал, что видел их.
В какой-то воде, если я не ошибаюсь.
И все-таки они движутся, снова и снова твердил людям Галилей.
Это вообще-то стало значимым фактом в истории науки, точно так же как и то, что Микеланджело избегал иметь дело с водой, — в истории искусства.
С другой стороны, я уже не припомню, была ли та самая вода, в которой он обнаружил микробы, использована им для доказательства того, что биографию Лоуренса Аравийского надо было класть в коробку первой.
И, как я сейчас припоминаю, человеком, который не подавал другим людям руку, мог быть Луи Пастер.
Или Левенгук.
Что кажется мне самым любопытным в версии, что это мог быть Левенгук, так это то, что он был родом из Делфта.
Поэтому можно с уверенностью предполагать, что одним из тех, кому он отказывался жать руку, почти наверняка был Ян Вермеер.
К сожалению, однако, в той сноске, где шла речь о Левенгуке в связи с Делфтом, не уточнялось, обижался ли на это Вермеер или нет.
Про то, обижался ли Карл Фабрициус, тоже не упоминается.
У Эмили Бронте однажды неплохо получилось нарисовать акварелью Хранителя, которого я, кстати, видела, пусть даже и не припомню, что из того, о чем я говорю, натолкнуло меня на это воспоминание.
Как не припомню и того, что теперь заставило меня вспомнить, что Паскаль изобрел арифмометр.
Или даже того, откуда мне это известно.
Это все моя голова, с ней такое случается, без сомнения, другого объяснения я, как обычно, не вижу.
Хотя один из моих закатов перед дождем наконец-то оказался очередным закатом в духе Джозефа Мэллорда Уильяма Тёрнера.
Пусть даже это также напомнило мне еще об одной вещи, которой был знаменит Джон Рёскин, не считая той, другой вещи, о которой я уже упоминала: он наблюдал за закатами.
Хотя истинная причина, по которой я вспомнила эту деталь про Джона Рёскина, заключается в том факте, что он велел своему дворецкому всякий раз напоминать ему, что пора смотреть на закат.
Честное слово, Джон Рёскин однажды велел своему дворецкому объявлять ему о закатах.
Закат, мистер Рёскин! — так говорил дворецкий.
Пусть даже мне только что пришло в голову, что в последнее время я необычайно часто говорю «честное слово».
Однако всякий раз, когда я так говорю, это значит, что я озвучиваю нечто достоверно известное.
Например, то, что никто вроде Фидия не удосужился удалить кое-где у миссис Рёскин избыток материала.
Пусть даже я, хоть убейте, не помню, зачем мне понадобилось тащить тот монструозный холст по лестнице, с другой стороны.
Ну, или куда делся мой пистолет, по правде говоря.
Тот самый, из которого я прострелила дырки в застекленной крыше музея, разумеется, чтобы дым уходил в нее из трубы.
Ну, об этом я только что упомянула. Или, возможно, я упоминала какие-то другие разбитые окна.
Однако я припоминаю, кажется, что последний раз, когда пистолет был при мне, случился, по какой-то причине, в Риме.
В общем, однажды днем я забежала на ту улочку, скорее даже в тупичок. На полной баров улице чуть дальше Галереи Боргезе, на пересечении авеню Кальпурнии и улицы Геродота.
Увидев собственное отражение в обрамлении небольшого натянутого и загрунтованного холста в витрине магазина, торгующего товарами для художников, мимо которого я шла.
Однако тут я почти почувствовала, во время всех этих поисков.
Поисков в отчаянии, как я уже говорила.
При том что я никогда не знала, кого найду.
Хотя на самом деле я вполне могла хотеть написать Кассандру на тех сорока пяти квадратных футах.
Или, быть может, ее имя пишется иначе?
Пусть даже мне всегда нравилась та часть, в которой Орест возвращается спустя много лет, а Электра не узнает родного брата.
Чего тебе, странник? Думаю, так она спрашивает его.
Хотя, подозреваю, что теперь я думаю про оборот конверта пластинки с записью оперы.
Ну, или я просто представила, что кто-то действительно мог назвать кого-то по имени.
Ты?. Неужели это ты? И не где-нибудь, а здесь!
Это все Пьяцца Навона, я совершенно уверена, столь красивая под полуденным солнцем, вызвала такие воспоминания.
Тем не менее я вышла из тупичка лишь на закате.
В Италии, представьте себе, откуда вышла вся живопись.
Так почему сейчас я ни с того ни с сего размышляю о стенных росписях Давида Альфаро Сикейроса?
И, сказать по правде, я также понятия не имею, что случилось с моими тридцатью молчащими радиоприемниками, теми, которые я когда-то всё слушала и слушала.
Бедная Электра. Желать смерти собственной матери!
Да все они там, в этих мифах. По локоть в крови, все, без исключения.
Без сомнения, радиоприемники остались в моем старом лофте в Сохо, на самом-то деле.
Тем не менее. Где же тогда мои семнадцать наручных часов?
Оно не заканчивалось, это безумие.
Гуляя под дождем, я забрела не дальше того места, откуда был виден прикрепленный к трубам унитаз на втором этаже дома, где я случайно опрокинула керосиновую лампу.
Пусть даже у него сейчас нет второго этажа.
Хотя о чем я действительно вспоминаю сейчас в связи с переломом лодыжки, так это о том, как ловко я научилась управляться с креслом-каталкой, когда обнаружила его.
Даже носилась с одного конца первого этажа на другой, когда было настроение.
От буддистских и индуистских реликвий к византийскому искусству или — вжих! — к иконам Андрея Рублева.
Но это, в свою очередь, заставляет меня задуматься: если сегодня у меня болит сразу в двух местах, что несомненно, то может ли это значить, что на самом деле у меня болит в четырех местах?
Вот только теперь я совершенно забыла, какие еще два места я могла иметь в виду, к сожалению.
Кстати, Андрей Рублев был учеником Феофана Грека. Более того, он был кем-то вроде русского Джотто.
Ну, возможно, не совсем Джотто. Тем не менее он был первым великим русским художником, вот что, наверное, имеется в виду.
А про Геродота почти всегда говорят, что он был первым, кто записывал подлинную историю, между прочим.
Пусть даже я не особенно рада стать ее частью.
Вообще-то мне очень жаль, что я это сказала.
Опять же это как раз такие мысли, от каких особенно желают избавиться вместе с остальным багажом, естественно.
Ох, ну ладно. По крайней мере, можно порадоваться тому, что в последнее время они приходят довольно редко.
Я когда-нибудь упоминала, что Тёрнер однажды велел привязать себя к мачте, чтобы позже нарисовать шторм?
Что вечно напоминает мне, конечно же, о той сцене, в которой Одиссей просил сделать с ним то же самое, чтобы послушать пение сирен, но при этом не сдвинуться с места.
О боже, ну вот.
Сколько я тут сижу, а только сейчас припомнила самую важную вещь, которую хотела сказать о подвале, когда начала говорить о нем.
Человек, написавший ту книгу о бейсболе, все-таки не допустил смешной ошибки в ее названии, как оказалось.
Честное слово, в подвале есть коробка, а в ней ничего, кроме травы, которая ненастоящая.
Клянусь, я до этого вообще ничего слышала об искусственной траве. Так что, без сомнения, я и представить не могла бы, что это вообще такое, не будь на коробке этикетки.
Опять же, если бы на коробке не было этикетки, я, несомненно, обратила бы внимание на то, как сильно ее содержимое похоже на траву.
Такие вещи осознаёшь не сразу.
Пусть даже теперь, когда я об этом знаю, это осознание навевает на меня грусть.
Трава, которой просто предполагалось быть травой, вот и все.
Ну, или, вполне вероятно, та книга была грустной по этой же самой причине, чего я совершенно не понимала до настоящего момента, конечно.
Более того, вполне возможно даже, что те люди, которых звали Кэмпи и Стэн Узуал, тоже бы не особенно обрадовались, если бы услышали, что им больше не придется играть на настоящей траве.
Хотя, разумеется, даже у тех, кто играет в бейсбол, есть более веские причины для беспокойства, или так хотелось бы думать.
Определенно, что такая причина была у того человека, в честь которого назвали болезнь.
Кстати, инструментом, на котором играл Людвиг Витгенштейн, был кларнет.
Который он, по странной причине, носил в старом чулке, а не в чехле.
Так что всякий, кто встречал его на улице, мог подумать: вот идет человек со старым чулком.
Не имея ни малейшего понятия о том, что из него можно было извлечь Моцарта.
Более того, А. Э. Хаусман, несомненно, тоже решил, что это всего лишь человек с чулком, в тот день, когда у Витгенштейна случился понос и он попросил разрешения воспользоваться туалетом, а А. Э. Хаусман отказал ему.
Честное слово, однажды Витгенштейну особенно срочно понадобилось в туалет возле какого-то дома в Кембридже, оказавшегося домом Хаусмана, но Хаусман не впустил его.
Вообще, чаще всего из чулка извлекался, видимо, Франц Шуберт, любимый композитор Витгенштейна.
Пусть даже я понятия не имею, почему это напомнило мне о том, что друзья Брамса часто смущались, когда проститутки здоровались с ним на улицах.
Или, прости господи, о том, что Гогена однажды арестовали за то, что он мочился на публике.
Или что Авраам Линкольн и Уолт Уитмен часто кивали друг другу в знак приветствия, встречаясь на улицах Вашингтона во время Гражданской войны.
Вероятно, этот последний факт, по крайней мере, делает не столь невероятной мысль о том, что люди вроде Спинозы и Эль Греко делали то же самое.
Пусть даже и не в Вашингтоне, округ Колумбия.
Вообще-то Клара Шуман однажды побывала дома у Витгенштейна в Вене с Брамсом, если я об этом еще не писала.
И это, быть может, стало еще одной причиной, по которой Брамсу хотелось, чтобы дети ушли.
К сожалению, у Шуберта, в свою очередь, тоже был сифилис. Из-за чего он и не закончил свою «Незаконченную симфонию», поскольку умер в тридцать один год.
А Генделя, думаю, можно занести в список тех, кто ослеп.
Но кто же такая Карен Силквуд, которой, вдруг чувствую я сейчас, мне бы тоже хотелось рассказать, что нынче уже можно встать на колени и напиться воды из Дуная, Потомака или Аллегейни?
И почему я лишь секунду назад догадалась, что, когда родился Шостакович, Ленинград еще назывался Санкт-Петербургом?
Я только что обмотала голову полотенцем.
Сходив за зеленью для салата, вот почему.
Между тем чем больше я думаю об этом, тем больше сожалею о сказанном.
Я имею в виду, о Микеланджело, не о Геродоте.
Уверена, мне было бы очень приятно пожать Микеланджело руку, и не важно, что бы об этом подумали папа или Луи Пастер.
Более того, я бы даже была рада увидеть руку, отсекавшую от мрамора лишний материал так, как это удавалось только Микеланджело.
Вообще-то я бы также с удовольствием сказала Микеланджело, как мне понравилось его предложение, которое я однажды подчеркнула.
Наверное, я не упоминала, что однажды подчеркнула предложение, написанное Микеланджело.
Однажды я подчеркнула предложение, написанное Микеланджело.
Это было предложение, написанное Микеланджело в письме, когда ему было уже семьдесят пять лет.
Можешь думать, что я сумасшедший старик, — писал Микеланджело, — но нет лучшего способа сохранить здравый ум и перестать беспокоиться, чем сумасшествие.
Честное слово, Микеланджело так и написал.
В сущности, я практически уверена, что Микеланджело бы мне понравился.
Я до сих пор ощущаю печатную машинку. И слышу клавиши.
Хм. Кажется, я что-то упустила в тот самый момент.
А, очевидно, я лишь собиралась написать, что я закрыла глаза.
Есть объяснение, почему я решила это сделать.
Это объяснение заключается в том, что я, похоже, сильнее расстроилась из-за коробки с ненастоящей травой, чем мне сначала казалось.
Под этим, я, видимо, имею в виду, что, если ненастоящая трава все же была настоящей, а это несомненно, тогда в чем разница между тем, как ненастоящая трава является настоящей, и тем, как настоящая трава является настоящей?
Если на то пошло, в каком городе все-таки родился Дмитрий Шостакович?
Немало вещей такого рода могут иногда почти начать меня беспокоить, по правде говоря.
Даже если, с другой стороны, не осталось, похоже, никаких свидетельств о том, какое имя Витгенштейн выбрал для своей чайки.
Ну, причина, по какой я снова об этом говорю, заключается в том, что именно из-за той чайки я, оказывается, и пришла на тот пляж.
Высоко-высоко на фоне облаков, не больше пятнышка, но потом резко спикировавшей к морю.
Вот только та чайка уж точно была вовсе не настоящей чайкой, а лишь пеплом.
Я хоть раз упоминала, что искала в Савоне, штат Нью-Йорк? Или в Кембридже, штат Массачусетс?
И что во Флоренции я не сразу вошла в галерею Уффици, а какое-то время жила в отеле, названном в честь Фра Филиппо Липпи?
И, кстати, то, что я пишу своей палкой, вовсе не всегда послания.
Однажды я написала по-гречески «Елена Троянская».
Ну, во всяком случае, буквами, похожими на греческие, хотя я их придумала сама.
Даже если «Елена Троянская» было бы лишь вымышленным именем на настоящем греческом, если подумать, ведь вряд ли в то время ее звали именно так.
Я решил спрятаться среди женщин, чтобы мне не пришлось сражаться за Елену Троянскую. Вряд ли кто-нибудь вообразит подобный ход мыслей Ахилла, например.
Или: я решил притвориться сумасшедшим и засеял поля солью, чтобы не сражаться за Елену Троянскую. Вряд ли кто-нибудь вообразит, что Одиссей думал нечто подобное.
Более того, несомненно, все так привыкли звать ее Спартанской, что все равно не стали бы что-то там менять.
Даже приплыв к берегам Трои на тысяче ста восьмидесяти шести кораблях.
То есть именно на таком количестве кораблей, по словам Гомера, ахейцы прибыли к берегам Трои.
Даже если сам ты почти на сто процентов уверен в том, что греки никак не могли приплыть на тысяче ста восьмидесяти шести кораблях.
Несомненно, у греков было всего лишь двадцать или тридцать кораблей.
Ну, поскольку, как я, кажется, уже упоминала, Троя была, в сущности, практически как заурядный городской квартал, высотой всего в несколько этажей.
Вне зависимости от того, насколько невероятным может показаться то, что юноши умирали там на войне давным-давно, а затем снова умирали в том же самом месте три тысячи лет спустя.
Хотя в чем приходится сомневаться еще сильнее, так это, конечно же, в том, что Елена была главной причиной той войны.
Всего лишь одна спартанка, как однажды назвал ее Уолт Уитмен.
Пусть даже Еврипид в «Спартанках» позволяет всем злиться на Елену.
В «Одиссее», где она блистает лучезарным величием, нет и намека ни на что подобное.
И даже в «Илиаде», когда война еще идет, о ней в общем-то говорится уважительным тоном.
Так что, без сомнения, лишь позднее люди решили, что виновата была Елена.
Ну, Еврипид, разумеется, выступил со своим мнением намного позже Гомера.
Не помню, насколько позже, но намного.
Собственно говоря, настолько позже, что прошло вдвое больше времени, чем с момента встречи дедушки Бертрана Рассела и Джорджа Вашингтона.
И конечно, каких-то вещей спустя столько лет уже не отследишь.
Так что, когда Еврипиду пришло в голову написать пьесу о войне, ему, естественно, пришлось придумать для нее интересную причину.
Ведь он не знал, что в действительности все началось со споров о том, кто должен кому платить пошлину за пользование проливом, как я уже упоминала.
Хотя, с другой стороны, вполне возможно, что Еврипид попросту солгал.
Вполне возможно, Еврипид знал истинную причину войны, но решил, что для пьесы Елена будет интереснее.
Разумеется, писатели время от времени делают нечто подобное, как можно себе представить.
Так что если как следует разобраться, то столь же вероятно и то, что Гомер тоже просто солгал.
Очень даже может быть, что Гомер знал истинное количество кораблей, но решил, что в поэме будет куда интереснее смотреться число «тысяча сто восемьдесят шесть».
Ну, это определенно так, уже хотя бы потому, что я помню это число.
Без сомнения, если бы я подчеркнула слова о двадцати или тридцати кораблях, когда вырывала страницы из «Илиады» и бросала их в огонь, то я бы не запомнила этого вовсе.
Более того, если бы Гомер сказал, что было всего двадцать или тридцать кораблей, я бы, несомненно, вообще не стала ничего подчеркивать.
Это, пожалуй, означает, что некоторые писатели иногда умнее, чем кажется.
Впрочем, Райнер Мария Рильке однажды написал роман «Признания» о человеке, который носил на шее будильник, что кажется скорее не ложью, а лишь попросту дурацкой темой для книги.
Вот только в данном случае я помню это, даже хотя не читала «Признаний».
И вдобавок это теперь убеждает меня, что не обвини Еврипид Елену в Троянской войне, то я бы и Елену не запомнила.
Так что, без сомнения, с моей стороны было опрометчиво критиковать и Райнера Марию Рильке, и Еврипида.
Даже хотя, если подумать еще раз, теперь не отделаться от мысли, что число кораблей в «Илиаде» могло быть указано неверно по совершенно иной причине.
В том смысле, что если Гомер не умел писать, то складывать числа он тоже, скорее всего, не мог.
Особенно если учесть, что Паскаль тогда еще не родился.
Но как бы то ни было, мне также пришло в голову упомянуть о том, что меня часто раздражает и то, как обвиняют Клитемнестру, не меньше, чем то, как обвиняют Елену, скажем прямо.
Это касается, конечно же, того, как Клитемнестра убила Агамемнона в купальне после того, как он вернулся с той самой войны.
Не без помощи. Но тем не менее.
Правда, хочу я сказать, разве у нее не было причин, боже мой?
Ну, особенно после того, как Агамемнон принес в жертву их собственную дочь, чтобы кораблям дул попутный ветер, имею я в виду, естественно.
Боже, чего только не делали мужчины.
Особенно цари и военачальники, даже если это никудышное оправдание.
Но кроме того, надо сказать, что я вообще-то сама добралась морем из Греции в Трою.
Ну, или наоборот. Суть в том, что даже с выдранной из атласа страницей вместо морских карт, я без особой спешки проделала этот путь за два дня.
Несмотря на то даже, что до смерти напугалась того кеча у берегов Лесбоса, чей треугольный парус так шумел под порывистым ветром.
Но в любом случае это вряд ли настолько далекий путь, чтобы требовалось приносить кого-то в жертву, разумеется.
Не говоря уже о собственном ребенке.
И, кстати, сыграют ли хоть какую-то роль один или два лишних дня плавания, раз уж твоя дурацкая война все равно будет длиться целых десять лет.
Ну и в довершение всего этот герой, когда вернулся назад, ни много ни мало привез себе наложницу.
Однако же пьесы пишут так, что даже Электра с Орестом рассердились на Клитемнестру за то, что ее терпение в итоге лопнуло.
Опять же ругать прославленных драматургов рискованно, но кто-то же должен где-то провести черту.
Папа убил нашу сестру, чтобы вызвать попутный ветер для своих дурацких кораблей, — так любой человек в здравом уме мог бы представить себе мысли Ореста и Электры.
Но вместо этого в пьесах они лишь думают, что мама убила папу.
Более того, в данном случае есть также пьесы Эсхила и Софокла, написанные еще до Еврипида.
Тем не менее читателя заставляют поверить, будто Электра и Орест не чувствовали ничего подобного.
Более того, я неоднократно подозревала, что вся эта история о мстящих Клитемнестре двух ее детях — просто еще одна ложь. Вполне вероятно, что все трое решили бы: туда ему и дорога.
Уж по крайней мере как только отмыли купальню, точно.
А потом все они и вовсе зажили счастливо.
Поэтому на самом деле я заподозрила, что Клитемнестра вряд ли так уж сильно расстроилась бы по поводу наложницы, особенно когда разобралась с более насущной проблемой.
Ну, или когда она выяснила, что этой наложницей была не кто иная, как бедняжка Кассандра, несомненно.
В одной из пьес Клитемнестра убивает Кассандру вместе с Агамемноном.
Определенно, в реальной жизни она бы сразу же поняла, что Кассандра безумна, и уже только по этой причине наверняка засомневалась бы.
Она бы узнала об этом в ту же минуту, когда Кассандра вошла бы в дом и стала прятаться возле окон, разумеется.
Хотя, когда я говорю «дом», я имею в виду, конечно же, дворец.
Боже, как эта бедняжка прячется возле окон нашего дворца, совершенно точно подумала бы Клитемнестра.
Так что, вполне возможно, ее следующим решением было бы оставить Кассандру жить с ними после похорон в качестве воспитанницы.
Конечно же, у этой бедняжки совсем не осталось дворцовых окон, за которыми можно было бы прятаться, среди руин Трои, вот что еще ей, очевидно, пришлось осознать.
Если на то пошло, то Клитемнестра почти наверняка узнала бы, что над Кассандрой к тому же надругались, что, без сомнения, дополнительно усилило бы вероятность такого решения.
На самом деле сейчас я совершенно готова биться об заклад, что не только Клитемнестра, Орест и Электра зажили счастливо, но что и Кассандру постепенно стали считать членом семьи.
Более того, я даже могу себе представить, как все четверо охотно навещали Елену после того, как все улеглось.
Естественно, Клитемнестре в любом случае захотелось бы увидеть родную сестру после десяти лет разлуки. Но что я лишь сейчас припоминаю, так это то, что Кассандра с Еленой были давними подругами.
Ну конечно же, ведь Кассандра была сестрой Париса.
То есть как только Елена попала в Трою, она практически стала ее невесткой.
Говоря «практически», я подразумеваю, что официально-то Елена, естественно, оставалась женой Менелая.
Но тем не менее и в этом случае десять лет есть десять лет. Поэтому, без сомнения, Кассандра охотно возобновила бы эти отношения.
Доброе утро, дети и Кассандра. Я тут подумала: почему бы нам не съездить в Спарту навестить тетю Елену?
О, давайте! Какая хорошая мысль, Клитемнестра!
А дядя Менелай тоже там будет, мамочка?
Упс.
А вот этот момент мы, очевидно, упустили из виду.
А именно: после того, как он устроил большую войну, чтобы отвоевать жену, Менелай вряд ли был бы счастлив видеть в своем доме сестру человека, с которым она сбежала.
Говоря «дом», я снова имею в виду дворец, конечно же.
Впрочем, легко себе представить и то, что Елена, без сомнения, немного попилила бы мужа.
Ах, ну право, дорогой, что плохого в том, если мы выделим ей пару окон, за которыми она сможет прятаться?
Ну, и, вполне вероятно, Кассандра также привезла бы подарки, чтобы подмазаться.
Известно же, что у троянцев был обычай приносить с собой дары всюду, куда бы они ни направлялись.
Вообще-то с ее стороны было бы разумно подарить кота. Пусть даже кот, наверное, лучше подошел бы Елене, чем Менелаю.
Не припомню, однако, говорилось ли в «Одиссее» что-нибудь про кота Елены.
Я сказала «в “Одиссее”», а не «в “Илиаде”», потому что «Илиада», разумеется, заканчивается до того, как Кассандра могла бы привести в подарок животное.
Что опять же подтверждает неправоту Гюстава Флобера, утверждавшего, будто бы эту книгу написала женщина, ведь женщина, скорее всего, додумалась бы написать про кота Елены.
В действительности же там упоминается пес, принадлежавший Одиссею.
Вообще-то момент, когда упоминался пес, грустный, ведь именно пес первым узнаёт Одиссея, когда тот возвращается на Итаку спустя десять лет после Трои, но затем умирает.
Ох, ну что же я. Ладно, по крайней мере, предыдущий раз я это сделала, кажется, довольно много страниц назад.
Или, как минимум, заметила, что сделала это.
Очевидно, я вряд ли имела в виду, что это Одиссей умер, когда вернулся на Итаку. Разумеется, это пес умер после того, как его узнал.
С другой стороны, Пенелопа, кстати сказать, и вовсе не узнаёт Одиссея.
И это еще одно доказательство того, что эту часть писала не женщина.
Ну, конечно, если уж женщина целых двадцать лет добросовестно выдерживала натиск многочисленных женихов, ожидая возвращения супруга, то она бы точно узнала его по возвращении.
Хотя вообще-то более справедливо обратное утверждение.
А именно: если бы это написала женщина, то весьма сомнительно, что жена отбивалась бы от ухажеров все двадцать лет.
Полагаю, я уже озвучивала схожие сомнения насчет Пенелопы.
В конце концов.
Хотя, если подумать, Пенелопа вовсе не обязательно провела все эти двадцать лет на Итаке.
Или уж точно могла навещать Елену в Спарте сама, будучи ее двоюродной сестрой.
Имеется в виду опять же: только тогда, когда все вернулись домой.
Так что ее собственный визит имел бы целью, в сущности, узнать новости.
Да, да, я тоже рада тебя видеть, кузина. Но вот что меня действительно интересует, честно говоря, так это слышал ли кто-то хоть что-нибудь о моем благоверном?
В действительности же, если подумать, то такой визит в «Одиссее» совершает ее сын Телемах, чтобы расспросить об отце.
Более того, именно в той самой сцене Елена и показана во всем своем блистательном лучезарном величии.
Но так или иначе, даже если она не слышала никаких новостей об участи Одиссея, у нее, безусловно, нашлись бы и другие интересные темы.
Ну и тем более Итака представляла собой остров, поэтому любой, кто прибывал оттуда, часто совсем не имел связи с внешним миром.
Силы небесные, Пенелопа. Ты что, правда не слыхала о том, что моего зятя прирезали в купальне?
Впрочем, как знать, визит Пенелопы мог совпасть с приездом Клитемнестры. Или, если Елена пригласила всю родню на праздник или еще что-то в этом роде, подобное вполне могло произойти.
В таком случае именно Клитемнестра, скорее всего, рассказала бы об этом Пенелопе.
Пусть даже, как можно себе представить, ей пришлось бы проявить осторожность и кое о чем умолчать до тех пор, пока из-за стола не вышли Орест и Электра.
Что, правда ? Сначала покрывалом? Ну ты даешь, кузина Кли.
Упс.
Тут мы тоже, очевидно, кое о чем забыли.
А именно о том, что Клитемнестре пришлось бы помалкивать до тех пор, пока из-за стола также не вышел бы и Менелай.
Если, конечно, Менелай вообще позволил бы ей сидеть за этим самым столом.
Ведь Менелай же брат Агамемнона, разумеется.
Некоторые из этих связей такие запутанные, что всего не упомнишь, к сожалению.
Но бесспорный факт заключается в том, что двое братьев женились на двух сестрах.
И это также позволяет предположить, что бедные Электра и Орест все-таки не слишком часто виделись со своей тетушкой.
Видишь ли, Елена, пусть сегодня и день зимнего солнцестояния, все равно мне кажется, что это уже слишком — позволить этой женщине переступить порог моего дворца.
О, но, Менелай, милый.
Перестань. Это не поможет.
Пусть даже ничто из этого, с другой стороны, не помешало бы приезду Пенелопы.
Так что теперь мы вынуждены подозревать, что кота Елене подарила именно она, а не Кассандра.
Ну и, без сомнения, это было бы очень похоже на Пенелопу — подарить домашнее животное, ведь она привыкла, что дома есть собака.
Хотя на самом деле кот у нее тоже был. Даже если я чуть не забыла еще одну вещь, а именно его изображение на картине некоего Пинтуриккьо.
Я совершенно уверена, что уже упоминала картину Пинтуриккьо, на которой изображен кот Пенелопы.
Я даже совершенно уверена и в том, что упоминала о рыжем цвете кота.
Пусть даже, как я много позже заметила, рыжий не является названием цвета.
Полагаю, что первым это правило вообще-то установил Рембрандт, хотя позднее самым большим его поборником стал Виллем де Кунинг.
Впрочем, оглядываясь назад, я припоминаю, что, возможно, рассказывала про своего кота, который был рыжим, несмотря на это.
Однако это было исключительно по недосмотру.
Как бы там ни было, ни одного из этих котов ни в коем случае не следует путать с котом Рембрандта, которого я упоминаю только потому, что можно подумать, будто кот Рембрандта тоже был рыжим, пусть даже по той лишь причине, что рыжий цвет автоматически ассоциируется с Рембрандтом.
На самом деле кот Рембрандта был серым. И одноглазым.
Вообще-то этим вполне можно объяснить, почему он всегда проходил мимо тех золотых монет на полу его студии, даже не взглянув на них, хотя я никогда раньше не задумывалась об этом.
То есть несомненно то, что он, как правило, проходил мимо монет не с той стороны и поэтому их не замечал вовсе.
Между прочим, многие люди также не одобряли кличку того кота, которого звали Аргус.
Разумеется, этому тоже было объяснение.
Объяснение это заключалось в том, что самый первый Аргус был псом.
В действительности первый Аргус был тем самым псом, о котором я говорила чуть выше, так что это даже можно считать небольшим совпадением, если разобраться.
В конце концов, как часто случается поговорить о псе, который узнаёт Одиссея, когда тот наконец возвращается в Итаку после столь долгих странствий, но затем умирает?
Или к которому Пенелопа так привыкает, что это наводит ее на мысль брать с собой других животных в качестве даров, когда она навещает кого- нибудь?
Тем не менее люди выражали свое неодобрение по поводу того, что Рембрандт назвал так своего кота.
Ну как можно было быть настолько глупым, чтобы называть кота в честь пса? Вот так примерно выражалось их неодобрение.
И это вновь приводит нас к Карелу Фабрициусу, пусть даже лишь потому, что нет, видимо, никаких записей о том, являлся ли Карел Фабрициус одним из причастных к этому людей.
Можно, однако, предположить, что в то время, когда он все еще был учеником, он, скорее всего, держал бы свое мнение при себе.
Хотя, несомненно, многие местные торговцы поступили бы в этой ситуации примерно так же.
Ну, торговцы, в отличие от большинства людей, вообще менее склонны выражать неодобрение, поскольку опасаются потерять клиентуру.
Ты слышал? Рембрандт завел кота и назвал его в честь пса. Скорее всего, примерно так сформулировал бы это местный аптекарь, поскольку такое простое утверждение не обязательно будет истолковано как неодобрение.
В самом деле, аптекарь, скорее всего, именно так рассказал бы об этом Спинозе, когда Спиноза в очередной раз пришел бы купить выписанные ему лекарства.
Или сигареты.
С другой стороны, ничуть не менее вероятно, что Спиноза мог услышать об этой кличке от самого Рембрандта.
Ну, скажем, стоя в очереди в той самой лавке, куда оба они часто захаживали. Конечно, будучи не более чем случайными знакомыми, они сочли бы это совершенно безобидной темой для разговора, чтобы скоротать время.
Любопытно, а вы уже придумали кличку для своего нового кота, Рембрандт?
По правде сказать, Спиноза, я зову его Аргус.
О, так вы назвали своего кота в честь пса из «Одиссеи», не так ли?
Можно предположить, что Спиноза ответил бы примерно таким вот образом и тоже просто из вежливости. Однако надо признать, что позже он наверняка взглянул бы на это в другом свете.
Ну как можно было быть настолько глупым, чтобы назвать кота в честь пса? Наверняка примерно в таком свете он взглянул бы на это позже.
Но между тем также весьма вероятно, что сам Рембрандт совершенно не был бы в курсе всего этого.
Ну, конечно, человек, столкнувшийся с банкротством, в любом случае не стал бы тратить время на размышления о коте.
Поэтому как только животное обрело бы имя, он, несомненно, снова с головой ушел бы в другие дела.
Например, в завершение «Ночного дозора».
Интересно, кстати, что я никогда не понимала, что такого особенного в «Ночном дозоре», пока видела только репродукции картины.
Однако когда я наконец пришла в галерею Тейт в Лондоне и увидела сам холст, то у меня мурашки по спине побежали.
Казалось, что краски практически светятся изнутри.
Так что, подозреваю, я была даже более осторожна с ней, чем с другими картинами, которые я вынимала, чтобы использовать раму.
И особенно, когда приколачивала их на место.
Даже хотя мой костер почти погас, когда я закончила, как я помню.
Мне до сих пор не удается понять, как Рембрандту удалось это осуществить.
Ну, вот поэтому, видимо, он и был Рембрандтом.
Между прочим, я когда-нибудь говорила, что у моего пикапа английские номера и правый руль?
Только Богу известно, что он делал у одного из здешних причалов. Но с тех пор я езжу на нем по округе.
Хотя есть еще одна вещь, которую я хотела бы отметить в связи с темой кота Рембрандта, прежде чем я оставлю ее.
А именно то, каким образом людей, знакомых с трудами Гомера, в те дни было настолько больше, чем впоследствии.
Вот мы видим, что Карел Фабрициус, и аптекарь, и Спиноза сразу же узнали кличку пса. Ну, не говоря уже о Рембрандте, который ее и выбрал.
Но если на то пошло, то нет сомнений, что и Ян Вермеер узнал бы ее так же быстро, после того, как, в свою очередь, стал учеником Карела Фабрициуса, а Карел Фабрициус объяснил ему про рыжий цвет и покрывала.
Ну, и так же нет сомнений относительно Левенгука и Галилея, ведь они вдобавок еще и бывали в Делфте.
И напротив, если бы я назвала Аргусом своего рыжего кота, то, почти уверена, ни один из моих знакомых не нашел бы тут никакой связи с псом Одиссея.
В самом деле, единственным человеком, проследившим такую связь, которого я лично помню, был Мартин Хайдеггер.
Возможно, я выразилась неудачно.
Сказав, что я лично помню Мартина Хайдеггера, проследившего такую связь, я, скорее всего, подразумевала, что однажды говорила с Мартином Хайдеггером.
Мартин Хайдеггер не входит в число тех, с кем я однажды говорила.
На самом деле из того заявления следует, что я смогла бы понять такой разговор, если бы он имел место.
Но я, разумеется, не могла бы его понять, поскольку совсем не говорю по-немецки.
Нельзя, конечно, утверждать, что Мартин Хайдеггер не говорил по-английски, хотя я его об этом не спрашивала.
Ох, ну что же я.
Пожалуй, мне лучше начать заново.
Итак, начинаю заново.
Случилось так, что я однажды написала Мартину Хайдеггеру письмо.
Именно в ответе на мое письмо Мартин Хайдеггер упомянул о том, что знаком с «Одиссеей».
Даже хотя мое собственное письмо не имело ничего общего с этой темой.
Хотя вообще-то сейчас я думаю, что мне следует начать все это заново еще раз.
Я начинаю все это заново еще раз.
В действительности дело было так, что однажды я написала письма многим известным людям.
Так что, честно говоря, Мартин Хайдеггер даже не был самым известным человеком, которому я написала.
Конечно, Уинстон Черчилль считался бы более знаменитым, чем Мартин Хайдеггер.
Вообще-то я уверена, что Пикассо тоже считался бы более знаменитым, чем Мартин Хайдеггер.
И то же самое можно было бы с уверенностью сказать о королеве Англии.
Ну и поскольку еще известность, в любом случае, является вопросом предпочтений, нет никаких сомнений в том, что, с точки зрения людей, восхищавшихся музыкой, Игорь Стравинский и Мария Каллас тоже были бы более известными.
Как, без сомнения, для людей, восхищавшихся фильмами, это было бы справедливо в отношении Кэтрин Хепбёрн, или Марлона Брандо, или Питера О’Тула.
А для людей, восхищавшихся бейсболом, это могло бы даже касаться Стэна Узуала.
Но, как бы то ни было, я написала письма каждому из них.
И вообще-то я написала не только им.
Среди других людей, которым я, возможно, также написала, были Бертран Рассел, и Дмитрий Шостакович, и Ральф Ходжсон, и Анна Ахматова, и Морис Утрилло, и Ирэн Папас.
Более того, подозреваю, что я могла написать даже Гилберту Мюррею и Т. Э. Шоу.
Хотя когда в отношении этих последних имен я говорю, что подозреваю, то это оттого, что на их счет я уже не могу быть уверена на сто процентов.
Главная причина, по которой я уже не могу быть уверена, заключается в том, что я написала все те письма много лет назад.
Но кроме того есть и другая причина, состоящая в том, что некоторые из упомянутых людей на самом деле уже могли умереть к тому моменту, как я написала те письма.
И в этом случае я, естественно, вряд ли им писала.
Ну, именно такая ситуация сложилась с людьми вроде Джексона Поллока, Гертруды Стайн и Дилана Томаса, которым я, естественно, тоже не писала.
Поэтому я лишь имею в виду, что после стольких лет я забыла даты жизни этих людей.
То есть даже хотя я думаю о них сейчас как о людях, которым я могла в то время захотеть написать, они, очевидно, все-таки могли и не быть такими людьми, которым я захотела бы написать.
Это на самом деле не так сложно, как может показаться.
И, честно говоря, у меня все равно не было особых посланий ни для кого из них в отдельности.
Все те письма до единого были совершенно одинаковыми.
Более того, они были ксерокопиями одного и того же письма.
Во всех них говорилось, что я только что завела кота.
Ну, естественно, в письмах говорилось не только об этом.
Едва ли кто-нибудь стал бы ксерокопировать письмо для Пикассо или королевы Англии просто ради того, чтобы сказать, что завел кота.
В письме также говорилось, что я ужасно затрудняюсь с выбором клички для кота, и спрашивалось, нет ли у них на этот счет идей.
Все это было придумано просто ради шутки, конечно же.
Пусть даже факт в том, что те письма были вполне правдивыми.
За исключением, возможно, того факта, что кот в действительности был не котом, а всего лишь котенком.
Однако когда у тебя есть кот, ты, как правило, говоришь о нем как о коте, даже если имеешь в виду тот период, когда он еще не стал котом.
Даже если он, несомненно, не был ни тем, ни другим.
Дело в том, что бедняжка все еще слонялся по моей студии без имени, которым кто-нибудь мог бы его звать.
На самом деле почти до тех пор, пока он не перестал быть котенком и не начал становиться настоящим котом.
Почти кот — так я стала о нем думать.
Хотя, несомненно, мне лучше обратиться за помощью в этом сложном вопросе, — была я в итоге вынуждена признать.
Как Джоан Баэз назвала бы недокота? А Жермен Грир?
Несомненно, у меня появились такого рода мысли.
Ну, у меня определенно появились такого рода мысли еще и потому, что иначе мне бы вряд ли пришло в голову написать те письма.
Даже хотя я, наверное, забыла упомянуть о том, что Джоан Баэз и Жермен Грир были еще двумя людьми, которым я написала.
И даже если написать те письма было, в любом случае, не моей идеей.
Вообще-то случилось так, что однажды вечером в моей студии оказались кое-какие люди, и один из этих людей спросил меня, как зовут моего недокота.
Ну, когда находишься в гостях у кого-то в студии, а на колени к тебе запрыгивает недокот, то вполне естественно задать такой вопрос.
На самом деле на чьи колени запрыгнул недокот, так это на колени Марко Антонио Монтеса де Оки.
Даже хотя я уже не имею совершенно никакого представления о том, что мог делать в моей студии Марко Антонио Монтес де Ока. Если только это не Уильям Гэддис его привел.
Хотя, несомненно, я также не упоминала, что Уильям Гэддис когда-либо посещал мою студию.
Уильям Гэддис время от времени посещал мою студию.
И в некоторые из тех дней, когда он приходил, он также приводил с собой других писателей.
В принципе такого рода вещи не были редкостью.
Ну, я имею в виду, что если бы Уильям Гэддис был аптекарем, то, несомненно, другие люди, которых он приводил с собой, тоже были бы аптекарями.
При условии, что он вообще приводил с собой кого-либо, так я, очевидно, хочу сказать.
Поэтому в тот раз он, возможно, привел с собой Марко Антонио Монтеса де Оку, который, так или иначе, спросил меня, как зовут моего недокота.
Итак, сразу же вслед за этим поступило множество интересных идей о том, как решить проблему с выбором клички.
Написать письма знаменитостям, где бы спрашивалось об их идеях, как оказалось, было одной из таких идей.
И это тотчас вызвало отклик у всех присутствовавших в комнате.
Поэтому передо мной моментально появился лист бумаги, на котором было написано столько имен знаменитостей, что и не перечесть.
Все это, как я уже говорила, было придумано шутки ради.
Даже хотя это меня огорчало.
Ну, из-за того, что я, по правде сказать, никогда не слышала и половины упомянутых имен.
Хотя, конечно, это не было для меня каким-то абсолютно новым опытом, если хорошенько подумать.
На самом деле иногда мне казалось, что это происходит каждый второй раз.
Едва привыкнув к какому-нибудь имени, скажем, Жак Леви-Стросс, я вдруг обнаруживала, что все уже говорят о Жаке Барте.
И через три дня — уже о другом Жаке.
А между тем все, что я в действительности пыталась сделать, так это догнать Сьюзен Зонтаг.
И, конечно, примерно в то же самое время обнаружилось, что люди, писавшие заурядные обзоры произведений искусства в ежедневных газетах, перестали называть себя обозревателями и сделались искусствоведами.
Что, естественно, заставляло задаться вопросом, а как же тогда называть Э. Г. Гомбриха или Мейера Шапиро.
Ну, или Эрвина Панофского, или Милларда Мейса, или Генриха Вёльфлина, или Рудольфа Арнхейма, или Гарольда Розенберга, или Арнольда Хаузера, или Андре Мальро, или Рене Юига, или Уильяма Гонта, или Вальтера Фридлендера, или Макса Якоба Фридлендера, или Эли Фора, или Эмиля Маля, или Кеннета Кларка, или Уайли Сайфера, или Клемента Гринберга, или Герберта Рида.
Или, если уж на то пошло, Вильгельма Воррингера, или Роджера Фрая, или Бернарда Беренсона, или Клайва Белла, или Уолтера Патера, или Якоба Буркхардта, или Эжена Фромантена, или Бодлера, или Гонкуров, или Винкельмана, или Шлегеля, или Лессинга, или Ченнини, или Аретино, или Альберти, или Вазари, или даже Джона Рёскина.
Хотя, несомненно, я снова хвастаюсь.
Однако на минуту я почувствовала, что на этот раз мне это действительно было нужно.
И, как бы то ни было, все настаивали на том, чтобы я написала всем тем упомянутым людям.
Пусть даже я не включила еще некоторых художников, которых в итоге вспомнили.
Ну, скажем, Джорджию О’Киф, Луизу Невельсон и Элен Франкенталер.
Просто я бы чувствовала себя глупо, отправляя такое письмо людям, вместе с которыми участвовала в групповых выставках.
Хотя, разумеется, не я включила в тот список Кампи Стенгель.
О, боже.
Магритт.
Которого я вообще-то самостоятельно включила в список.
Да, но теперь я вдруг осознала, что Магритт оказывается в точности как Артемизия Джентилески.
То есть, как и в ее случае, кажется практически невозможным, чтобы я могла написать столько страниц, не упомянув о Магритте раньше.
Разумеется, с другой стороны, я думала о Магритте время от времени, вне зависимости от того, упоминала я о нем или нет, чего, если честно, нельзя с уверенностью сказать об Артемизии.
Более того, я думала о Магритте практически так же часто, как задавала себе некоторые вопросы.
И это не те вопросы, которые я задавала себе лишь изредка.
Ну, скажем, на каком этаже находится тот унитаз, расположенный на втором этаже дома, у которого нет второго этажа?
Или, где находился мой собственный дом, когда я могла видеть лишь дым от своей пузатой печки, но думала, что вон там мой дом?
Разумеется, оба этих вопроса легко могут навести на мысль о Магритте.
И вообще-то теперь я даже вспомнила, что, когда я наконец нашла дорогу к дому в лесу за этим домом, после того как я долго не могла найти дорогу к дому в лесу за этим домом, то практически сразу же сказала себе: ну вот, я стою на пересечении авеню Упавших Деревьев и улицы Магритта.
Даже хотя, если подумать, я, возможно, не включила Магритта в тот список.
То есть даже хотя сейчас я думаю о Магритте как о человеке, которому я могла бы тогда захотеть написать, он, возможно, вовсе не был таким человеком, которому мне захотелось бы тогда написать.
Кстати, во всех случаях, когда я в последнее время говорила о своей студии, я говорила о своем лофте.
Ведь я работала там же, где жила, если я еще не уточняла.
Ну, или наоборот.
Хотя между тем мне только что пришла в голову весьма любопытная мысль.
На самом деле это необычайно любопытно.
Не ранее как шестьдесят секунд назад я вошла в кухню, чтобы выпить воды из своего кувшина.
Идя обратно, я услышала в голове фрагмент «Бразильской бахианы» Вила-Лобоса.
Я имею в виду арию сопрано, которая была широко известна.
Тем не менее я почти уверена, что никогда прежде не упоминала о «Бразильской бахиане» Вила- Лобоса.
Пусть даже я одновременно поняла, что не первый раз слышу этот музыкальный фрагмент, неважно, упоминала я о нем или нет.
Более того, я слышала его практически столько же раз, сколько я думала о Магритте.
Вот только всякий раз, когда я его слышала, я говорила себе, что слышу «Рапсодию для альта».
И это, очевидно, означает, что всякий раз, когда я упоминала «Рапсодию для альта», мне на самом деле следовало упоминать «Бразильскую бахиану».
И более того, всякий раз, когда я упоминала Кэтлин Ферриер, исполняющую Брамса, мне следовало упоминать Биду Сайан, исполняющую Вила-Лобоса.
Даже если это мог быть голос Кирстен Флагстад.
И в некотором смысле, я вообще не слышала ни одной из этих трех певиц.
Хм.
Однажды кто-то попросил Роберта Шумана объяснить смысл какого-то музыкального произведения, которое он только что сыграл на пианино.
Что сделал Роберт Шуман, так это снова сел за пианино и сыграл то же произведение еще раз.
Мне было бы очень приятно почувствовать, что это разрешило хоть какой-то из тех вопросов, о которых я только что говорила.
О чем бы именно я только что ни говорила.
На самом деле я бы даже с радостью согласилась не совсем забыть, на чем я остановилась.
Я не совсем забыла, на чем я остановилась.
На чем я остановилась, так это на том, что кто- то рядом позаимствовал еще один лист бумаги и начал диктовать мне письмо.
На самом деле это мог сделать сам Уильям Гэддис.
Или один из аптекарей.
Хотя примерно в это же время появилась идея о том, чтобы я приложила к письмам открытки, адресованные мне самой, чтобы людям, получившим письма, труднее было мне не ответить.
Ну, ведь обычное письмо такого рода легко оставить без ответа, разумеется.
Тогда как приложенная к письму открытка с адресом отправителя заставит человека испытывать более сильное чувство вины, если он или она так поступит.
Пусть даже это, в свою очередь, вызвало вопрос о почтовых марках, ведь марки США, очевидно, мало пригодны в какой-либо другой стране, из которой должна была вернуться открытка.
Вообще-то на это указала, кажется, Сьюзан Зонтаг.
Или кто-то из аптекарей.
Тем не менее я все же последовала совету насчет открыток.
Просто делая вид, будто я забыла про марки.
И в итоге оказалось, что это было к лучшему, по крайней мере в плане экономии расходов.
Ведь как бы то ни было, из всех, кому я отправила письма, лишь один человек потрудился вернуть мне открытку.
Им оказался Мартин Хайдеггер.
И он, между прочим, удивительно хорошо говорил по-английски.
И даже, замечу, пользовался сослагательным наклонением.
Хотя, конечно, мне следовало сказать не «говорил», а «писал».
Что бы мне хотелось предложить в качестве клички для вашей собаки, так это замечательное классическое имя Аргус из «Одиссеи» Гомера, — вот что было написано по-английски на открытке от Мартина Хайдеггера.
Какое-то время я была весьма раздосадована Мартином Хайдеггером.
Ну и ну.
Даже хотя я наконец осознала, что у философов, несомненно, есть более важные вещи на уме, чем клички для чужих домашних животных.
Ах, ну вот сидишь тут и размышляешь о таких важных вещах, как Dasein, — наверняка говорил себе Мартин Хайдеггер, — а этот человек из Америки просит придумать кличку для какого-то дурацкого питомца.
Так что в конечном счете Мартин Хайдеггер все же поступил весьма великодушно, найдя время для ответа, несмотря на допущенную им ошибку.
И даже несмотря на то, что прошло почти семь месяцев, прежде чем открытка вернулась.
Но именно этим, вполне возможно, и объяснялась ошибка Мартина Хайдеггера, если вдуматься.
Имеется в виду, что, быть может, Мартин Хайдеггер все это время трудился над одной из своих книг.
Весьма вероятно, что книга, которую он с таким усердием писал, была одной из тех самых книг в картонной коробке в подвале этого дома, и это лишь подтверждает, как поразительно тесен мир.
Но, так или иначе, лишь закончив писать свою книгу, Мартин Хайдеггер смог вновь найти мое письмо.
Или, скорее, что он нашел, так это лишь открытку, ведь он, несомненно, выбросил письмо, как только прочел его.
Разумеется, ничуть не сомневаясь, что вспомнит, что он собирался написать на открытке.
Ну, и, будучи знаменитым философом, он тем более не сомневался, что вспомнит разницу между котом и собакой, это уж точно.
Разве что, если как следует подумать, возможно, есть небольшая вероятность, что Мартин Хайдеггер все-таки не ошибся?
Оговорюсь, что это не сразу пришло мне в голову. Но все же, разве Мартин Хайдеггер не мог быть в курсе всей этой истории о Рембрандте и его коте?
И разве Сьюзан Зонтаг, диктуя мое письмо, не могла отметить, что я сама являюсь художницей?
Разумеется, если вы пишете совершенно незнакомым людям, то в любом случае следует проявить вежливость и представиться.
Поэтому, скорее всего, Мартин Хайдеггер думал примерно так: ах, ну ладно, скажу-ка я этой художнице из Сохо, чтобы назвала своего питомца так же, как Рембрандт назвал своего.
И из этого, разумеется, следует, что требуется совершенно другое объяснение, почему Мартин Хайдеггер все же написал слово «собака», а не «кошка».
Совершенно другое объяснение, очевидно, заключается в том, что английский язык Мартина Хайдеггера в действительности вряд ли был таким впечатляющим, как казалось.
Тем не менее в итоге мне почти жаль, что я так и не написала Мартину Хайдеггеру снова, чтобы поблагодарить его.
Ну и, кроме того, мне определенно было бы приятно сказать этому человеку, как я обожаю его предложение о несущественных недоразумениях, которые время от времени становятся основополагающим настроением существования.
Если только, как я уже говорила, это предложение не написал Фридрих Ницше.
Или Сёрен Кьеркегор.
И даже пусть я давно придумала коту совсем другое имя, разумеется.
Хм.
Вот только после всех этих разговоров я вдруг не могу вспомнить, какое имя я ему придумала.
Несомненно, это лишь потому, что я говорила о столь многих других котах.
Даже не считая кота Рембрандта, есть, например, кот, которого Медея отдала Елене, и есть кот, которого я видела в Колизее, а еще есть кот, который шуршит за моим окном.
Ну и потом есть все те кошки, которые остерегались бы ходить на свалку из-за множества кормящихся там чаек, и есть кот, которого когда-то нарисовал Таддео Гадди и затем называл его рыжим, пока Джотто не объяснил ему, что это цвет жженой сиены.
О чем Феофан Грек прежде рассказал Джотто.
Я полагаю, что кошки могли так или иначе упоминаться в связи с такими людьми, как сестра Хуана Инес де ла Крус, и Людвиг Витгенштейн, и Анна Каренина.
С другой стороны, я могу ошибаться насчет сестры Хуаны Инес де ла Крус, ведь я не знаю, разрешалось ли людям, жившим в обители, держать кошек.
Я предполагаю, что сестра Иоанна Инес Крестная жила в обители.
Но это значит, что у св. Терезы тоже не было кошки в Толедо.
Ну и теперь я также понимаю, что заблуждалась насчет Людвига Витгенштейна, так как любой кот Витгенштейна был бы столь же осторожен по отношению к его ручной чайке, как и все те другие кошки к чайкам на свалке.
Или, по крайней мере, так было бы в период пребывания Витгенштейна в заливе Голуэй.
Залив Голуэй.
Andrea senza errori.
С другой стороны, это не значит, что у Витгенштейна не могло быть кота задолго до того, например, когда он косил газоны при монастыре.
Разве что в монастырях действовали те же правила, что и в обителях.
В этом случае св. Иоанн Крестный все-таки тоже не мог бы иметь кота.
Однако Ян Стен владел пивоварней, на которой кот, возможно, был.
Бог знает, почему об этом мне напомнило то, что я написала о монастыре, хотя я все равно рада, что подумала об этом, поскольку долгое время считала, будто совсем ничего не знаю о Яне Стене.
Хотя сейчас я также вспоминаю, что однажды Фра Филиппо Липпи сбежал с монахиней, если это как-то с чем-либо связано.
Ну, возможно, это связано с тем, что если раньше монахине было запрещено иметь кошку, то теперь она могла ее завести.
Кошку Анны Карениной переехал поезд, если я правильно помню.
Я все еще немного расстроена тем, что неоднократно думала, будто слушала «Четыре последние песни» Штрауса, тогда как в действительности я слушала «Бразильскую бахиану № 5».
Даже если я опять же не помню, была ли кошка рядом с фортепьяно Роберта и Клары Шуман в «Любовной песне».
Однако я только прямо сейчас осознала, что в этом доме вообще-то есть книги, написанные Жаком Леви-Строссом и Жаком Бартом.
Вот только теперь меня беспокоит то, почему столь многие люди могли с энтузиазмом относиться к инструкциям о поведении за столом или к путеводителю по Эйфелевой башне.
Хотя, возможно, я путаю его с путеводителем по птицам южного Коннектикута и Лонг-Айленда.
В любом случае в последнее время, когда я говорила о своем кувшине, мне следовало более откровенно называть его банкой.
Просто кувшин по звучанию больше похож на такой предмет, с которым люди ходят к ручью, только и всего.
Даже если я, хоть убейте, не имею ни малейшего представления о том, что именно из ранее сказанного мной теперь снова навело меня на мысль о Марине Цветаевой.
Тем более что это одна из самых печальных историй, которые я знаю.
Дело в том, что русские позволили такому замечательному поэту практически умереть с голоду, в полном одиночестве и в изгнании.
Убив перед этим всю ее семью.
Поэтому она в конце концов повесилась.
И поэтому я, возможно, действительно проехала мимо ее могилы по пути через Россию, даже не зная, где она находится.
Пусть даже этого никто никогда не знал, если на то пошло.
Боже, чего только не делали мужчины.
Не то чтобы они могли отыскать могилу бедняка, в которой был похоронен Моцарт, после того как на следующий день дождь прекратился.
Пожалуй, это совсем другая история, но все- таки тоже грустная.
Я когда-нибудь говорила, просто чтобы специально сменить тему, что именно на свалке мусора Ван Гог написал свой знаменитый холст под названием «Разбитые бутылки»?
Который выставлен в Рейксмюсеуме, если мне не изменяет память.
Кстати, Ван Гог, кажется, мастерски умел иногда заставить свои краски светиться.
Вот только в случае Ван Гога обычно ловишь себя на мысли о том, что ты оборачиваешься и смотришь через плечо, пытаясь понять, откуда падает весь этот солнечный свет.
С другой стороны, похоже, нет никаких свидетельств о том, какие именно картины Ван Гог писал, надев старые носки, которые Альфред Норт Уайтхед носил во время прогулок по лесу недалеко от Кембриджа.
Впрочем, я, возможно, никогда не упоминала еще кое о чем, а именно что и сам Людвиг Витгенштейн вообще-то имел обыкновение таскать сахар в карманах, когда отправлялся гулять неподалеку от Кембриджа.
Причина, по которой он таскал с собой сахар, заключалась в том, что он любил давать его лошадям, которых мог повстречать в полях во время прогулки.
Честное слово, Витгенштейн имел обыкновение делать это.
По какой-то причине эта история тоже напоминает мне о чем-то, даже хотя в данный момент я понятия не имею, о чем именно.
Однако я наверняка придумаю кличку для своего кота через пару дней.
Между тем я решила сменить кличку кота, который скребется за моим окном.
Теперь я зову этого кота Магритт.
Ну, ведь имя Магритт гораздо больше подходит коту, который на самом деле не является котом, чем Ван Гог.
Даже если та картина Ван Гога, о которой я только что упоминала, изображает не огонь как таковой, а всего лишь отражение огня.
И которую я, возможно, даже не видела нигде, кроме как на репродукции, потому что, если как следует подумать, я все же не помню ее в Уффици.
Между прочим, Витгенштейн никогда не был женат. Ну а также никогда не имел любовницы, поскольку был гомосексуалистом.
Хотя, между тем, когда я чуть выше сказала «между тем», я действительно имела в виду между тем.
Сейчас прошла уже почти целая неделя с тех пор, как я сказала также, что наверняка придумаю кличку для своего кота через пару дней.
И это, в свою очередь, был самый длинный период, в течение которого я позволила себе ни разу не сесть за пишущую машинку.
Однако мое плечо и лодыжка уже не болят так сильно, как раньше.
Это не значит, что боли в плече или лодыжке имели какое-то отношение к тому, что я не сидела за пишущей машинкой.
Или что облегчение этих болей как-то связано с моим возвращением за машинку.
По какой-то причине некоторое время все, что мне хотелось делать, это лежать на солнце.
Очевидно, это также говорит о том, что дождь прекратился.
Ну, едва ли можно было бы лежать на солнце, если бы он не прекратился.
Естественно.
Более того, наконец-то даже вернулись розовоперстые рассветы.
Хотя, честно говоря, большую часть недели я была в депрессии.
По-моему, я говорила на этих страницах, что как минимум один раз ощущала депрессию раньше.
Хотя, возможно, если точнее, то я говорила, что ощущала некую неопределенную тревогу.
Которая, однако, в тот раз наверняка была вызвана всего лишь моими месячными.
Или гормонами.
И которая, таким образом, была на самом деле вовсе не тревогой, а только иллюзией.
Даже если, конечно, трудно объяснить разницу между иллюзией тревоги и самой тревогой.
Да и в любом случае, на этот-то раз я испытывала депрессию.
Даже хотя я понятия не имела, почему.
И даже хотя вдобавок непонимание причины депрессии может дополнительно усилить ее.
Я была вполне уверена, что все это не имело ничего общего с тем, что я не могла вспомнить кличку своего кота.
Ну и к тому же как только дождь закончился, а лес еще стоял влажный, все выглядело необычайно красиво, а мокрые листья блестели и блестели.
Так что с дождем это тоже вряд ли могло быть связано.
Тем более что я легко игнорировала его, гуляя под ним.
Наконец во вторник я поняла, почему чувствовала себя подавленной.
Это, кстати, был тот самый день, когда я заметила, что нужно вычерпать воду из моей лодки, если я хочу еще когда-нибудь ей воспользоваться.
Хотя, когда я говорю, что это был вторник, я лишь выражаюсь фигурально, естественно.
Ведь я, конечно, не имею ни малейшего представления о том, каким днем недели был любой из них на протяжении всех этих лет, и это, безусловно, еще кое-что, о чем я наверняка упоминала.
Тем не менее некоторые дни ощущаются как вторник.
И пусть даже я не могла бы вспомнить также, вычерпывала ли когда-то воду из другой своей лодки, хотя я определенно должна была это делать время от времени.
Разве только если за все время, пока у меня была другая лодка, дождь ни разу не шел.
Или у меня никогда не было другой лодки.
Разумеется, когда-то у меня была другая лодка.
Точно так же, на самом деле, как когда-то у меня был другой кот, помимо того кота, о котором я писала письма всем этим знаменитостям, из-за чего я и чувствовала себя подавленной.
Это был кот до того кота, и я совсем забыла о нем, когда составляла список из многих других котов на прошлой неделе.
Более того, я подозреваю, что есть некая ирония в том, что я вспомнила кота Елены из Спарты и даже кота Карела Фабрициуса цвета жженой сиены, но забыла про этого своего кота.
Тем более что этот кот был не мой, а Люсьена.
И даже хотя в то же самое время у меня был муж по имени Адам, которого я тоже не очень часто вспоминаю.
Что случилось с тем котом, так это то, что мы с Адамом предложили Люсьену выбрать ему кличку.
И тогда Люсьен подошел к этому делу с необычайной ответственностью.
Ну, поскольку ему было всего четыре года, он, несомненно, никогда прежде не сталкивался с ответственностью, будь она необычайной или нет.
Так что некоторое время Люсьен только и делал, что переживал насчет клички для кота.
Которого мы пока что называли просто Кот.
Доброе утро, Кот, говорила я, когда находила кота в ожидании завтрака.
Спокойной ночи, Кот, говорили Адам или я, когда мы выставляли кота на ночь.
Кстати, все это происходило в Мексике, в деревне недалеко от Оахаки.
И естественно, что в мексиканских деревнях принято на ночь выставлять котов на улицу.
Ну, конечно, чтобы это делать, деревня не обязательно должна быть мексиканской.
На самом деле я помню, что позже делала то же самое со своим котом Мартина Хайдеггера, когда рисовала в Риме, штат Нью-Йорк, летом.
Хотя на этот раз, поскольку кот был городским, я, возможно, в известной мере волновалась за него.
Даже если коту, всю жизнь просидевшему взаперти на чердаке в Сохо, должно было быть приятно провести ночь на улице, разумеется.
Но как бы то ни было, Люсьен, кажется, все не мог определиться с кличкой для того, более раннего, кота.
Или, во всяком случае, настолько долго, что в итоге его стало невозможно продолжать называть просто Котом.
Хотя вообще-то мы стали иногда называть кота Котом по-испански.
Buenos dias, Gato, бывало, иногда говорила я, когда находила кота в ожидании завтрака.
Buenas noches, Gato, бывало, иногда говорили Адам или я, когда мы выставляли кота на ночь.
Три года мы называли кота так, Gato или Кот, а затем я ушла из деревни неподалеку от Оахаки.
Хотя я и вернулась однажды, через много-много лет, как я, возможно, уже говорила.
И в джипе смогла проехать напрямик, по склону холма, к могиле, а не объезжать по дороге.
Я все еще пользовалась самыми разными транспортными средствами в те дни.
Ну, и я все еще искала в те дни.
Пусть даже, конечно, я была совершенно безумна очень долгое время.
Мексика, однако, казалась мне ничуть не менее подходящим местом для поисков, чем любое другое, независимо от того, была я сумасшедшей или нет.
Даже если я убеждена, что провела в Нью-Йорке по крайней мере две зимы, прежде чем начала искать где-либо еще.
И даже если, разумеется, вовсе не обязательно быть безумным, чтобы тебя тянуло к могиле твоего единственного ребенка.
Так что если действительно как следует разобраться, то, возможно, я была безумна лишь отчасти.
Или безумна, но не постоянно.
И могла понять, что Люсьену к тому времени все равно было бы почти двадцать лет, и он бы уже становился практически чужим.
Ну, или, может быть, не совсем двадцать.
И, возможно, он вовсе не становился бы чужим.
Есть вещи, которые никто никогда не узнает и даже никогда не сможет угадать.
Как, например, если уж на то пошло, зачем я разлила бензин по всей его старой комнате в то самое утро.
Естественно, сначала перевернув свои туфли подошвами вверх, опасаясь скорпионов, хотя никаких скорпионов больше не могло быть.
А затем наблюдая отражение дыма, поднимающегося все выше и выше, в зеркале заднего вида, пока я снова все ехала и ехала прочь.
Через широкую Миссисипи.
И при этом, кажется, ни разу не подумав про кота, которого мы в то время звали просто Кот.
Даже в том пустом доме, где с большим трудом умирало столько воспоминаний.
Хотя вообще-то, если разобраться, то едва ли я хоть раз подумала про этого кота, когда у меня был другой кот, для которого я тоже не могла выбрать имя.
Безусловно, любопытно, что я это сделала.
Или, точнее, не сделала.
То есть не вспомнила, что мой родной мальчик когда-то не мог определиться с кличкой для кота, тогда как я сама находилась в том же самом процессе и не могла выбрать имя для собственного кота.
Ну, возможно, это было не так уж и любопытно.
На свете, конечно же, есть масса вещей, о которых хочется забыть, не меньше тех, о которых хочется помнить.
Например, как сильно Адам напился в тот уикэнд и потому не удосужился вызвать врача, пока не стало слишком поздно.
Ну, или почему кое-кто сам не был в своем доме, в те же несколько дней.
В молодости иногда творишь ужасные вещи.
Даже хотя жизнь все-таки продолжается, конечно.
Впрочем, когда я говорю, что она продолжается, я в действительности имею в виду, что она продолжалась, естественно.
Теперь меня осенило, что я наверняка уже допустила массу подобных ошибок в грамматических временах.
Таким образом, во всех случаях, когда я делала такие обобщения в настоящем времени, они должны были быть сделаны в прошедшем.
Разумеется.
И даже хотя никто все-таки не был виноват в том, что Люсьен умер.
Однако раньше я, наверное, опустила эту часть, о том, что заводила любовников, когда еще была женой Адама.
Даже если легко забыть, стал ли муж пьяницей из-за этого, или же, наоборот, это случилось из-за того, что муж стал пьяницей.
С другой стороны, конечно, могло хватать и того и другого.
Так ведь обстоит дело с большинством вещей: в них хватает и того и другого.
И в любом случае, произошло вовсе не то, о чем я только что написала.
Поскольку мы оба были там в те выходные.
И ничего не могли сделать, вот и всё.
Потому что они тоже двигаются, твердил Пастер.
Вот только со временем, конечно, люди приписывают друг Другу больше вины, чем та, что их обременяет.
А жизнь продолжалась.
Даже если иногда ты, наверное, тратила слишком много времени, просто глядя в окно.
И никто не обращал ни малейшего внимания на твои слова.
Впрочем, ты, естественно, продолжала заводить других любовников.
А затем уходить от других любовников.
Листья залетали в дом и пушистые семена тополей.
Или опять же ты иногда просто трахалась с кем попало.
Незапамятные времена.
А затем умерла твоя мать, а за ней отец.
И ты даже убрала крошечное карманное зеркальце с прикроватного столика своей прекрасной матери, в котором она и ее отражение были равноудалены от грядущего.
Хотя, возможно, это твой отец больше не хотел, чтобы она ощущала это расстояние.
Даже если, между прочим, я видела образ своей матери в собственном отражении в одном из зеркал в этом доме.
Всегда предполагая, однако, в каждом таком случае, что подобные иллюзии вполне заурядны и приходят с возрастом.
Иначе говоря, они даже и не являются иллюзиями, ведь наследственность есть наследственность.
С другой стороны, я так и не написала ни одного портрета бедного Люсьена.
Хотя, конечно, в ящике рядом с моей кроватью на втором этаже хранится его фотография в рамке.
Стоящего на коленях и гладящего Gato.
И он явно в моей голове.
Но, впрочем, а что не в моей голове?
Так что она иногда напоминает чертов музей.
Или как будто меня назначили куратором всего мира.
Ну, теперь-то я, в некотором смысле, им и являюсь, бесспорно.
Хотя каждый экспонат в нем должен был вообще-то еще больше усилить мое удивление тем обстоятельством, что я не думала о Магритте, пока не подумала о нем.
И при этом даже то надгробие, которое Адам обещал установить на могиле, когда я уехала и не стала этим заниматься, находилось в моей голове все эти годы, пока я не вернулась туда.
Причем надгробия там даже не оказалось.
Боже, чего только не вытворяли мужчины.
Однако что хоть кто-то из нас когда-нибудь по-настоящему знает?
И, по крайней мере, когда я начала рассказывать, я, разумеется, наконец-то поняла, что вызывало во мне чувство подавленности.
Прошлый вторник.
Когда я просто лежала на солнце после того, как закончился дождь, и думала о котах, ну или так мне казалось.
Хотя, честно говоря, я не очень часто допускаю такие вещи.
Под этим я подразумеваю отнюдь не мысли о котах.
Я имею в виду, естественно, размышление о вещах, происходивших очень давно, еще прежде, чем я осталась одна.
Даже если вряд ли можно контролировать свое мышление таким образом, чтобы не допускать в него вещей, произошедших более десяти с лишним лет назад.
Например, я конечно же думала о Люсьене прежде.
Или о некоторых своих любовниках, таких как Саймон, или Винсент, или Людвиг, или Терри.
Или даже о том, что случилось еще в седьмом классе, когда я почти хотела разрыдаться, потому что знала, знала, что собака Одиссея наверняка сможет догнать ту черепаху.
Ну и, несомненно, я также думала о том времени, когда моя мать спала, а я не хотела ее будить и поэтому написала, что люблю ее, своей помадой на том самом крошечном зеркальце.
Собираясь подписаться Артемизией, но затем выбежав из комнаты.
Ты никогда не узнаешь, как много для меня значит то, что ты художница, Елена, говорила моя мать буквально днем раньше.
Но правда в том, что я вообще-то не собиралась сейчас повторять совсем ничего из этого.
Более того, когда я наконец разобралась в том, почему чувствовала себя подавленной, я сказала себе, что в случае необходимости я просто никогда больше не позволю себе записывать ничего подобного.
Как будто, так сказать, я больше не способна произнести ни слова о Давнем Прошлом.
Поэтому даже если бы я только прямо сейчас впервые вспомнила, что, скажем, писала Жаку Леви-Строссу, я бы, соответственно, не упомянула ничего подобного.
Очевидно, что едва ли можно было писать Жаку Леви-Строссу или любому другому человеку после того, как остался в полном одиночестве.
С таким же успехом Виллем де Кунинг мог находиться в студии, чтобы диктовать такие письма.
Или Роберт Раушенберг мог бы быть там же для исправления ошибок в них.
Точнее, в нем, поскольку на самом деле было только одно письмо.
С ксерокопиями.
Для всех прочих людей.
Которые, очевидно, все же где-то находились.
Вот только, принимая такое решение, я также поняла, что оно, конечно, оставило бы мне совсем небольшой выбор тем, о которых можно было бы написать.
Тем более что, даже рассуждая на такие безобидные темы, как домашние животные, я могла бы докатиться, скажем, до размышлений о менингите. Или раке.
По крайней мере, чувствуя себя так, как тогда.
Поэтому я практически одновременно также поняла, что мне, вполне возможно, придется начать с самого начала и написать нечто совсем другое.
Такое, как, скажем, роман.
Хотя, пожалуй, в тех нескольких предложениях есть подтекст, которого я не предполагала.
Ну, то есть что люди, которые пишут романы, пишут их только тогда, когда писать им почти не о чем.
На самом же деле масса людей, которые пишут романы, несомненно, относятся к своей работе вполне серьезно.
Хотя, когда я говорю «пишут» или «относятся», мне в действительности следует говорить «писали» или «относились», разумеется.
Ну, как я только что объяснила.
Но в любом случае несомненно: когда Достоевский писал о Райнере Марии Раскольникове, он относился к Райнеру Марии Раскольникову вполне серьезно.
Ну или, бесспорно, как Лоуренс Аравийский, писавший о Дон Кихоте.
Или, например, просто посмотрите, сколько людей могли всю жизнь прожить, считая, что воздушные замки — всего лишь расхожая фраза про Дамаск.
Тем не менее вслед за этим я столь же быстро осознала, что написание романа все равно не станет ответом.
По крайней мере, не в том случае, когда от обычного романа, как правило, ожидается, что в нем пойдет речь о людях, разумеется.
Точнее говоря, явно не об одном человеке, а о гораздо большем количестве людей.
Более того, даже не читав ни слова из того романа Достоевского, я легко готова была бы поспорить, что Райнер Мария Раскольников вряд ли единственный человек в нем.
Или что Анна Ахматова — единственный человек в «Анне Карениной».
Поэтому, одним словом, вот и плакал мой роман, практически еще до того, как у меня появилась возможность задуматься о нем.
Разве что, с третьей стороны, ситуация не изменится кардинальным образом, если я сделаю его совершенно автобиографическим романом?
Хм.
Потому что сейчас я думаю, что это и правда мог бы быть совершенно автобиографический роман, начинающийся, естественно, лишь после того момента, как я осталась одна.
И таким образом, очевидно, никто бы и не смог ожидать, что в нем будет больше одного человека.
Даже хотя мне, конечно, все-таки пришлось бы все время помнить о том, что я не должна лезть в свою голову, работая над ним.
Но все равно.
На самом деле это даже мог бы получиться по-своему интересный роман.
А именно роман о ком-то, кто проснулся в среду или в четверг, чтобы обнаружить, что во всем мире не осталось, видимо, ни одного другого человека.
Ну, и даже ни одной чайки.
А вот разные овощи и цветы, наоборот, остались.
Определенно, это было бы интересное начало, как минимум. По крайней мере, для определенного типа романа.
Только представьте себе, как чувствует себя героиня и сколько в ней тревоги.
В ее случае это вдобавок всегда была бы настоящая тревога, а не всевозможные иллюзии. Вызванные, скажем, гормонами. Или старостью.
Хотя вся ее ситуация, конечно, зачастую может сама казаться иллюзией, как это ни парадоксально.
Так что очень скоро она, естественно, станет совершенно безумной.
Тем не менее следующая часть романа была бы о том, как она безустанно ищет других людей в самых разных местах, независимо от того, безумна она или нет.
Ну и одновременно сбрасывая сотни и сотни теннисных мячей один за другим по Испанской лестнице, или семнадцать часов подряд ожидая, как прозвонят каждые из ее семнадцати наручных часов, прежде чем бросить их все в Арно, или открывая без счету консервные банки с кошачьим кормом в Колизее, или опуская мелочь в неработающие телефоны-автоматы, чтобы позвонить Модильяни.
Или, если на то пошло, даже протыкая мумий в разных музеях, чтобы посмотреть, не окажется ли одна из них набита потерянными стихами Сапфо.
Вот только легко догадаться, что такой роман, скорее всего, невозможно было бы закончить.
Особенно после того, как героиня наконец убедится, что она запросто может совсем перестать искать, а следовательно, и перестать сходить с ума.
Это оставит ей очень мало возможностей для действий, за исключением, пожалуй, той, чтобы спалить дотла какой-нибудь дом.
Или писать палкой на песке воображаемые греческие слова.
Что вряд ли будет особенно захватывающим чтением.
Хотя, между прочим, одна любопытная мысль, рано или поздно пришедшая бы в голову этой женщины, заключалась бы в том, что она, как это ни парадоксально, была практически столь же одинокой до всех этих событий, как и сейчас.
Ну, поскольку это автобиографический роман, то я могу категорически заявить, что рано или поздно такая мысль действительно посетила бы ее.
В конце концов она бы просто решила, что это всего лишь другая разновидность одиночества, отличная от первой.
Это значит, что даже если телефон все еще работает, можно быть таким же одиноким, как если бы он был неисправен.
Или что, даже если ты слышишь, как на некоторых перекрестках тебя окликают по имени, можно быть таким же одиноким, как если бы ты всего лишь вообразил, что это происходит.
Так что, вполне возможно, весь смысл романа состоит в том, что можно одинаково легко спросить Модильяни как по работающему, так и по неработающему телефону.
Или даже, пожалуй, что можно одинаково легко попасть под колеса катящегося вниз по холму такси, вне зависимости от того, управляет им кто-нибудь или нет.
Даже хотя сейчас мне также стало очевидным, что я все-таки не смогла бы не залезать в голову своей героини.
Так что на самом деле я уже снова начинаю чувствовать себя наполовину подавленной.
Несомненно, это лишь доказывает, что писать романы в любом случае не мое призвание.
Ну, нечто подобное говорил Леонардо.
Хотя в действительности Леонардо говорил, что лучший способ сохранить здравомыслие и не поддаться тревоге — быть сумасшедшим.
И теперь из-за этого у меня появилось любопытное ощущение, что большинство вещей, о которых я пишу, часто будто бы каким-то образом становятся равноудаленными от самих себя.
Впрочем, бог знает, что я хотела этим сказать.
Однажды, когда Фридрих Ницше сошел с ума, он начал плакать, потому что кто-то хлестал лошадь.
Но затем он вернулся домой и сыграл на пианино.
Честное слово, Фридрих Ницше часами играл на пианино, когда был безумен.
К тому же сочиняя на ходу все то, что играл.
Между тем Спиноза часто искал пауков, а затем заставлял их драться друг с другом.
Вовсе не будучи сумасшедшим.
Хотя когда я говорю «драться друг с другом», я имею в виду драться друг против друга, естественно.
Даже хотя по какой-то странной причине смысл таких фраз все равно обычно понимается правильно.
Кстати, имело бы это какой-нибудь смысл, если бы я сказала, что женщина в моем романе однажды привыкла к миру без людей больше, чем она могла бы привыкнуть к миру без такой вещи, как «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена?
Или без «Илиады»? Или без Антонио Вивальди?
Я просто спросила.
На самом деле я спросила об этом по крайней мере семь или восемь недель назад.
Сейчас навскидку начало ноября.
Дайте подумать.
Да.
Ну, во всяком случае, первый снег выпал и растаял.
Пусть даже вообще-то это был не очень сильный снегопад.
Тем не менее на утро после того, как он прошел, деревья выписывали странные иероглифы на белом фоне.
Если на то пошло, небо тоже было белым, дюны укрылись белым покрывалом, а пляж белел до самой кромки воды.
Поэтому все, что я могла видеть, напоминало тот мой старый потерянный трехметровый холст с четырьмя слоями белой грунтовки.
При этом практически казалось, что можно собственноручно заново разрисовать весь мир, так, как захочется.
То есть при условии, что вообще захочется рисовать на открытом воздухе в такую холодную погоду.
Хотя, естественно, к тому времени холод наступал уже довольно долго.
Поэтому я уже несколько раз съездила в город на пикапе.
Ну, поскольку, разумеется, мне не хотелось остаться без припасов, когда я, в сущности, окажусь здесь взаперти.
И это также значит, что я довольно сильно продвинулась в демонтаже соседнего дома.
Теперь, когда я иду на прогулку по пляжу, мне видны два унитаза, прикрепленные к трубам на вторых этажах домов, которые больше не имеют вторых этажей.
Кстати, время от времени, когда я прикидывала, какую следующую доску смогу подцепить своим ломом, я вспоминала о Брунеллески и Донателло.
На заре эпохи Возрождения, когда Брунеллески и Донателло измеряли древние руины в Риме, они занимались этим с таким усердием, что люди думали, будто они ищут сокровища.
Но после этого Брунеллески вернулся домой во Флоренцию и возвел крупнейший со времен Античности купол.
А Джотто построил красивейшую колокольню по соседству.
Хотя, с другой стороны, в истории искусства нет сведений о том, сделал ли это Джотто до или после того, как нарисовал идеальный круг от руки.
И вообще-то колокольня Джотто квадратная.
Хотя, между прочим, во Флоренции практически нет места, с которого не было бы видно хотя бы одного из этих сооружений.
Ну, как и в Париже практически нет места, с которого не было бы видно Эйфелеву башню.
Что определенно может испортить вам обед, если вы не хотите смотреть на Эйфелеву башню за обедом.
Если только вы, скажем, как Ги де Мопассан, не ползаете по полу, поедая собственные экскременты.
Боже, бедный Мопассан.
Ну, и бедный Фридрих Ницше тоже вообще-то.
Не говоря о бедном Вивальди, раз уж зашла речь, ведь теперь я вспомнила, что он умер в богадельне.
И, если на то пошло, бедная вдова Баха Анна Магдалена, которой позволили сделать то же самое.
Вдова Баха. Со всеми своими детьми. Некоторые из которых были даже успешнее в музыке, чем сам Бах в их годы.
Ну а также и бедный Роберт Шуман, закончивший жизнь в сумасшедшем доме и преследуемый демонами. Одним из которых был призрак Франца Шуберта.
Призрак бедного Франца Шуберта, если уж на то пошло.
Бедный Чайковский, который однажды посетил Америку и провел первую ночь в гостиничном номере, плача от тоски по родине.
Хотя, по крайней мере, его голова не отвалилась.
Бедный Джеймс Джойс, который тоже ползал под мебелью во время грозы.
Бедный Бетховен, так и не научившийся простейшим операциям умножения.
Бедная Сапфо, прыгнувшая с высокого утеса в Эгейское море.
Бедный Джон Рёскин, которого, конечно, сначала одолевали все те глупые неприятности, но который в конце жизни видел змей.
Змеи, мистер Рёскин.
Бедный А. Э. Хаусман, не разрешавший философам пользоваться своей ванной.
Бедный Джованни Китc, в котором было всего пять футов и один дюйм роста.
Бедный Аристотель, который шепелявил и имел ужасно тонкие ноги.
Бедная сестра Хуана Инес де ла Крус, тоже умершая, как я сейчас вспомнила, от чумы. Но в данном случае заботясь о других монахинях, которые болели тяжелее, чем она сама.
Бедная Карен Силквуд.
Ну, и бедные юноши, погибшие в таких местах, как Геллеспонт, под которым я имею в виду Дарданеллы, а потом снова погибшие через три тысячи лет.
Пусть даже я вряд ли имею в виду одних и тех же юношей.
Но зато я имею в виду, скажем, бедного Гектора и бедного Патрокла, а вслед за ними и бедного Руперта Брука.
Ах, ну что же я. Нельзя не добавить бедного Андреа дель Сарто, и бедную Кассандру, и бедную Марину Цветаеву, и бедного Винсента Ван Гога, и бедную Жанну Эбютерн, и бедного Пьеро ди Козимо, и бедную Ифигению, и бедного Стэна Герига, и бедных певчих птиц сладость, и маленьких сыновей бедной Медеи, и пауков бедного Спинозы, и бедного Астианакса, и бедную мою тетю Эстер тоже.
Ну, и всех тех бедных подростков, что играли в снежки на картине Брейгеля, которые выросли и чем-то занимались, но никогда больше не играли в снежки.
Так что, если на то пошло, бедным можно считать практически весь мир, как правило.
И, конечно, не говоря уже про то утро среды или четверга.
Пусть я и не представляю себе, хоть убейте, почему я сейчас говорю обо всем этом. Хоть о чем-то из этого.
Ведь я лишь собиралась сказать, что никак не могу объяснить, почему я ничего не написала за эти последние семь или восемь недель.
Даже если я уже упоминала несколько причин, например, то, что я ездила за припасами или тратила больше времени, чем обычно, разбирая тот дом.
Хотя, честно говоря, еще одна причина может состоять в том, что я, кажется, часто устаю в последнее время.
На самом деле мне, пожалуй, следовало сказать не то, что я никак не могу объяснить, почему я ничего не написала за последние семь или восемь недель, а то, что я не могу объяснить, почему так часто уставала в этот период.
Вообще-то я чувствую усталость прямо сейчас.
Возможно, я чувствовала усталость, когда провела ту неделю, лежа на солнце, до того, как в последний раз села за машинку, если как следует подумать.
Поэтому на самом деле я не вполне уверена, что привезла столько припасов на зиму, сколько мне понадобится.
Или также что я достаточно поработала над демонтажем.
Тем более что, оказывается, сколько-то досок все еще ждут, когда их распилят.
Хотя, между прочим, я никогда не считала распил досок частью процесса демонтажа.
Скорее это вопрос превращения демонтированного пиломатериала в дрова.
После того, как он демонтирован.
Даже если такое различие, несомненно, всего лишь семантическое.
И в любом случае, возможно, я еще поработаю над этим сегодня.
Возможно, сегодня я также найду картину, которую потеряла.
Хотя, несомненно, я не упоминала о том, что потеряла картину.
Да, определенно, я не упоминала о том, что потеряла ее, ведь я не написала ни единого слова с тех пор, как это произошло некоторое время назад.
Речь о картине, изображающей этот самый дом, и она, как минимум, до прошлого августа висела прямо над и чуть сбоку от пишущей машинки.
Я думаю, что та картина является картиной, изображающей этот самый дом.
Более того, я полагаю, что на ней даже есть изображение человека, прячущегося за окном моей спальни, даже хотя невозможно утверждать это наверняка.
Ну, в основном потому, что мазки в этом месте довольно абстрактные.
Тем не менее все это время я была уверена, что отнесла картину в одну из комнат, которой я не часто пользуюсь и дверь которой обычно закрыта.
На самом деле это комната, о которой я, несомненно, должна была упомянуть, ведь раньше я точно так же была уверена, что именно в этой самой комнате я не раз замечала биографию Брамса и атлас.
Первая книга окончательно деформировалась из-за сырости, тогда как вторая лежала на боку.
Поскольку не помещалась на полке вертикально из-за своей высоты.
Кроме того, это была та же самая полка, к которой была прислонена картина.
Тем не менее картины в этой комнате нет.
И я, хоть убейте, не могу найти ни биографию Брамса, ни атлас, хотя я осмотрела также все другие комнаты в этом доме, в том числе те несколько дополнительных комнат, двери которых обычно закрыты.
Более того, я также сходила к дому в лесу, что расположен за этим домом, подозревая, что, возможно, я перепутала местонахождение всех трех предметов, но ни картины, ни биографии Брамса, ни атласа в нем не обнаружилось.
На самом деле единственным предметом в этом доме, на который я точно бросала взгляд хотя бы дважды, не считая репродукции картины Сюзанны Валадон, приклеенной к стене гостиной, была футболка с названием «Савона» на груди.
Которую я недавно постирала в ручье и теперь ношу, пока печатаю.
Вообще-то я ношу эту футболку уже несколько дней.
Хотя я даже не знаю, что такого особенного в этой футболке.
И даже хотя я нахожусь в полной растерянности насчет той картины.
Которую я, возможно, написала или не написала сама, между прочим, если я еще не говорила.
На самом деле у меня нет воспоминаний о том, что я написала эту картину.
Тем не менее с тех пор, как она потерялась, у меня складывается любопытное ощущение, что я вполне могла это сделать.
Или, по крайней мере, что я определенно когда-то представляла себе, что могла бы написать такую картину, а затем не стала этого делать.
Конечно, именно это художник время от времени делает.
Или, чаще всего, не делает.
Но в таком случае я, разумеется, едва ли могла потерять картину.
Или это также означало бы, что, возможно, ни биографии Брамса, ни атласа тоже не существовало?
Но если никакого атласа не существовало, то как я могла найти в нем город Литиц, штат Пенсильвания, в тот раз, когда мне стало интересно узнать о Литице, штат Пенсильвания?
И если бы не существовало никакой биографии Брамса, то как я могла однажды поджечь на пляже несколько вырванных страниц, а затем подбросить их в воздух, чтобы посмотреть, сможет ли ветер подхватить их, словно птиц?
Когда я пыталась воспроизвести чаек?
Хотя на самом деле большинство страниц упали у моих ног.
Из-за того, что были напечатаны на чрезвычайно дешевой бумаге, разумеется.
Поэтому биография Брамса в этом доме непременно должна была быть.
И в ней мне всегда нравилась та часть, когда Клара Хепбёрн дала Людвигу Витгенштейну сахар.
Хотя, по правде говоря, что мне действительно хотелось бы найти даже больше, чем картину, так это моего пропавшего кота.
Даже если в действительности это не кот и он не пропадал.
Ну, ведь это только Магритт, который раньше был Винсентом.
Иначе говоря, липкую ленту, кажется, сдуло с внешней стороны того разбитого окна, вот и все.
Тем не менее я уже успела проникнуться этим игривым шуршанием.
Впрочем, просто снова увидеть парящий в небе пепел тоже было бы приятно.
Даже если, с другой стороны, вряд ли кто-нибудь стал бы придумывать имя парящему в небе пеплу.
Кстати, на спине футболки есть цифра.
Возможно, это цифра девять. Или девятнадцать.
На самом деле это два ноля.
Между прочим, я уже упоминала, что я теперь часто занимаюсь разведением костров у воды, после моих закатов?
Я теперь часто занимаюсь разведением костров у воды, после моих закатов.
Кроме того, время от времени, глядя на них издалека, я ненадолго представляю себе, будто вернулась в Гиссарлык.
Я имею в виду, конечно, когда Гиссарлык был Троей, много-много лет назад.
Поэтому, если точнее, я представляю себе, будто эти костры — греческие сигнальные огни, зажженные вдоль берега.
Ну, это ведь совершенно безобидно — представить себе такое.
Ой. А еще в эти дни я снова слышу «Рапсодию для альта».
Точнее, на этот раз речь о настоящей «Рапсодии для альта», ведь я наконец-то разобралась со всем этим.
Пусть даже она все равно вряд ли настоящая, естественно, ведь она по-прежнему звучит лишь в моей голове.
Но тем не менее.
И в любом случае сегодня слишком холодно, чтобы беспокоиться о столь несущественных недоразумениях.
Вообще-то здесь слишком холодно даже для того, чтобы печатать.
Если только я не захочу каким-то образом передвинуть пишущую машинку поближе к своей пузатой печке.
Впрочем, по правде говоря, что мне действительно следует перед этим сделать, так это снова сходить к ручью.
Ведь я совсем забыла об остальном белье, которое развешано по кустам.
Так что теперь там запросто могли появиться новые скульптуры из юбок.
Пусть даже Микеланджело не подумал бы о них так, но я именно так о них и думаю.
И даже хотя я, скорее всего, не стану забирать остальное белье, пока не почувствую себя менее уставшей.
Несомненно, что и пишущую машинку я перемещать не стану, если уж на то пошло.
Однажды я мечтала о славе.
В сущности, даже тогда я была одинока.
К замку — так, вероятно, было написано на знаке.
На этом пляже кто-то живет.
Дэвид Фостер Уоллес. Пленум[3] пустоты: «Любовница Витгенштейна» Дэвида Марксона
Но какой еще философ нашел противоядие иллюзии в таком скромном деле, как тщательное и монотонное припоминание и отслеживание употребления малозаметных слов, философски устремляя взгляд нам под ноги, а не поверх наших голов?
Стэнли Кавелл
Кстати, у окна дома на картине никого нет. Теперь я пришла к выводу, что пятно, казавшееся мне человеком, является тенью. Если это не тень, то, возможно, занавеска. На самом деле это могло быть просто попыткой намекнуть на глубину там, внутри комнаты. Хотя, так сказать, все, что есть в том окне, — лишь пятнышко жженой сиены. И немного желтой охры. Более того, самого окна тоже нет, если выражаться в том же духе, а есть только форма. Так что все предположения, которые я сделала о человеке в окне, теперь, очевидно, становятся бессмысленными.
Если только, конечно, мне впоследствии не придется убедиться в том, что в окне все же кто-то есть, снова.
Я выразилась неудачно.
«Любовница Витгенштейна»
Передайте им, что я прожил замечательную жизнь.
Витгенштейн на смертном одре, 1951
Некоторые романы не только требуют критических интерпретаций, но даже пытаются их направлять. Это, наверное, похоже на то, как музыкальное произведение — скажем, вальс — одновременно и побуждает слушателя к движениям, и задает их. Кроме того, романы, направляющие свое критическое прочтение, зачастую тематически связаны с вопросами, которые могут показаться заумными, слишком интеллектуальными, с тонкостями искусства, инженерного дела, античной литературы, философии и т. д. Подобные романы прорезают для себя узкую нишу между явной беллетристикой и этаким странным и непростым roman à clef[4]. Когда они не удаются, как мое собственное первое длинное произведение, то оставляют весьма жуткое впечатление. Однако когда они получаются, как, смею утверждать, получилась у Дэвида Марксона «Любовница Витгенштейна», то играют исключительно необходимую и редкую роль, напоминая нам о безграничных возможностях художественной литературы, способной дотянуться и захватить, заставить мозг биться, словно сердце, освятить союзы мысли и чувства, абстракции и правды жизни, трансцендентного поиска истины и повседневной ерунды, союзы, которые в наш счастливый век вездесущих технологий и агрессивного маркетинга в сфере развлечений все чаще заключаются не в реальности, а в воображении. Книги, с которыми я связываю такой вот ОБЪЯСНИ-МЕНЯ феномен, это, например, «Кандид» Вольтера, «Космос» Витольда Гомбровича, «Игра в бисер» Гессе, «Тошнота» Сартра, «Посторонний» Камю. Эти пять произведений гениальны по-особенному: они кричат о своей гениальности. Марксон в «Любовнице Витгенштейна» скорее шепчет, но его гениальное произведение не менее успешно и не менее важно, особенно учитывая яростный антиинтеллектуализм современной художественной сцены. Во всяком случае для меня эта книга стала важной. Я ничего не слышал о Марксоне до 1988 года. И до сих пор не читал у него ничего другого. Я заказал его книгу в основном из-за ее заглавия; мне нравится считать себя поклонником работ человека, которым вдохновился автор. Очевидно, что книга была/есть в некотором роде «о» Витгенштейне, принимая во внимание название. Один из тех способов, при помощи которых ОБЪЯСНИ-МЕНЯ литература намекает читателю- критику, как следует рассматривать книгу на третичном уровне «о чем», — это название: структурно подобное карте странствий Одиссея/Телемаха «Улисс» (успешное), «The Mind-Body Problem» («Проблема ума и тела») Ребекки Гольдштейн (совсем ужасное), «Игра в классики» Кортасара (успешное ровно в той мере, в какой читатель устоит перед соблазном попрыгать), «Гомосек» и «Джанки» Берроуза (успешно-провальное?). В случае подобных романов часто трудно уловить разницу между названием и эпиграфом, разве что эпиграф длиннее, яснее и приписан какому-нибудь автору. Другой способ поощрить некую аналогию-интерпретацию заключается в том, чтобы разбросать по тексту, словно кирпичи, упоминания имени реального человека, как сделал Брюс Даффи в своей так называемой вымышленной биографии Витгенштейна — отвратительной книге 1988 года «World as I Found It» («Мир, каким я его нашел»), в которой, несмотря на красноречивые дисклеймеры «все это выдумано», Даффи пускает в ход такой арсенал исторических фактов и аллюзий, что читатель-критик невольно путает гомосексуально одержимого вымышленного «Витгенштейна» с настоящим и гораздо более сложным и интересным Витгенштейном. Еще один способ задать линию прочтения романа — сделать так, чтобы интеллектуальный речевой код выполнял повторяющуюся нарративную функцию: так, в «Кандиде» настойчивое «все, что ни делается, все к лучшему в этом лучшем из миров» служит неоновой вывеской на фасаде того, что, не считая финала, является попросту язвительно-смешной пародией на метафизику Лейбница[5].
Кейт — одинокая рассказчица «Любовницы Витгенштейна» — тоже понимает многие из высказываний последнего неправильно: наиболее известные слова и идеи философа разбросаны, нередко в искореженном виде, по всей книге, от эпиграфа про песок до фразы «Мир есть все то, что имеет место» из «Логико-философского трактата» и напоминающих «Философские исследования» размышлений о клейкой и магнитной «пленке», которые явно отсылают к рассматриваемым в поздних трудах Витгенштейна вопросам о «семейном сходстве» слов друг с другом. Однако, когда Марксон заставляет Кейт неверно вспоминать строки и идеи, ее ошибки служат не забавной пропаганде, как это было у Вольтера, но оригинальному искусству и одновременно оригинальной интерпретации. Дело в том, что «Любовница Витгенштейна»[6] по отношению к своему одноименному «любовнику» не просто причудливо цитирует его работы или пытается как-то инсценировать занимавшие и угнетавшие его интеллектуальные проблемы. Книга Марксона рисует — изобретательно и конкретно — тот самый унылый математический мир, в котором «Трактат» Витгенштейна произвел философский переворот посредством привлечения абстрактной аргументации. «ЛВ » представляет собой, если угодно, колоризацию очень старого фильма. Хотя философские труды Витгенштейна вовсе не мертвы и не бесцветны, все-таки «ЛВ» удается наделить интеллектуальные головоломки Витгенштейна пикантными свойствами жизненного — хотя и диковинного — опыта. Этот роман оживляет ранние работы Витгенштейна, вылепляет для читателя их лицо, чего философия не делает и не способна сделать... в основном потому, что сочинения Витгенштейна настолько сложны и требуют так много времени, чтобы понять их даже на буквальном уровне, что необходимая для этого умственная гимнастика практически не оставляет шанса прочувствовать тот серьезный эмоциональный подтекст, который характерен для ранней метафизики Витгенштейна. Его любовница тем не менее задает вопрос, которого не найти в книгах ее любовника: что, если кому-то действительно пришлось бы жить в трактатизованном мире?
Я не имею в виду, что достижение Марксона состоит лишь в «популяризации» абстрактной философии для стороннего читателя или что «ЛВ» сама по себе проста. В действительности, хотя его проза и монотонность навязчиво заурядны, используемая в романе система преломленных аллюзий на всевозможные вещи от Античности до искусственных газонов — та еще стерва, а концентрическая зацикленность вместо линейного движения в качестве «развития» сюжета превращает усвоение текста «ЛВ» в дело трудное и долгое. Книга Марксона далеко не попсовая, она не является ни вываренной философией, ни скандальной доку-драмой в духе Даффи. Скорее, по моему мнению, этот роман акцентирует на художественном и эмоциональном уровне политико-этический подтекст абстрактной математической метафизики Людвига Витгенштейна, заставляет то, что задумывалось как механизм, пульсировать, дышать, страдать, жить и пр. При этом он эмоционально воздает должное философу, по всем свидетельствам искренне мучившемуся теми вопросами, которые слишком многие из его ученых последователей превратили в пустые затейливые экзерсисы. Таким образом, «ЛВ» Марксона добивается успеха в том, что удается постичь лишь немногим философам и что не способны передать ни тонны биографических очерков, ни сенсационный ревизионизм Даффи: а именно последствия, которые сулит человеку осуществление теории на практике; разницу между, скажем, приверженностью «солиспизму» как метафизической «позиции» и пробуждением после личной потери, когда апокалиптичная, буквально вековая скорбь оставляет вас последним живым существом на земле, так что ваше сознание служит вам не только единственной компанией, но также средой, а мир сжался до узкой полосы пляжа, сползающей в страшное море. Иначе говоря, книга Марксона, по моему мнению, выходит далеко за рамки навязанного ей рецензиями статуса «интеллектуального трюка» или «экспериментального достижения»: то, что она живописует в рамках непосредственного исследования депрессии и одиночества, слишком трогательно, чтобы быть объектом экзерсисов или экзорцизма. То, как именно трогает эта книга, и формальная оригинальность превращения метафизики в экзистенциальную тревогу, доказывающая, что философия от начала до конца касается духа, — для меня сейчас достаточные основания, чтобы считать роман Марксона одним из лучших в США за последнее десятилетие, а также сетовать на его относительное забвение и тот факт, что такой журнал, как New York Times Book Review, поручил написать о нем юной любительнице Реймонда Карвера[7]. Но добавьте к достоинствам романа его мрачно-великолепное оживление интеллектуальной истории (ту убедительность, с какой «ЛВ» демонстрирует, как один из умнейших и значительнейших мыслителей современности мог при всем этом быть таким лично несчастным сукиным сыном) — и он становится, если вы бессильный неудачник, чьи убеждения зависят от состояния желудка, совершенно особенной замечательной книгой, которая отличается литературной глубиной и, вероятно, со временем станет тихой классикой.
Это нашептывание «ЛВ» о себе и как о своеобразной классике, и как о заданной интерпретации следует отчасти из того, что ее прелести и ходы очень опосредованы. Это не просто непрерывный монолог человека противоположного автору пола; он структурирован на балансе между абсурдной шуткой и совершенно серьезной аллегорией. Конкретным примером того, как работает такая проза, может служить второй эпиграф выше. Такие приемы, как повторы, навязчивая зацикленность, свободные/ несвободные ассоциации, затягивают вас в состояние беспокойного ожидания на всем протяжении книги. Однако они еще и говорят. Продуманная уклончивость, многократные ошибки, едва не приводящие к неверной оценке, — так Кейт убеждает нас, что если она безумна, то и мы тоже: контекстный эмоциональный вектор, скрытый за беспорядочным буйством коротких обособленных абзацев, за скачками мысли, за непрестанной борьбой с зыбучими песками языка и темной водой самосознания (соблазнительный порядок не только внутри, но и посредством хаоса), склоняет к полному и тревожному согласию. Эта техника действенна, словно песня, слова которой никак не получается вспомнить. Ее можно было бы назвать «глубокой нелепицей», имея в виду, наверное, лингвистическое струение нитей, прядей, петель и зацепок, которые самой своей формальной конструкцией попирают простую идею «здравого смысла» и посредством отрицания границ смысла каким-то образом умудряются «показать» то, что обычно невозможно «выразить». Хорошая комедия часто работает схожим образом[8]. Как и хорошая современная реклама[9]. Как и на удивление большое количество философских работ. Как и великая художественная литература, правда чаще всего гораздо менее явно, чем «ЛВ».
В начале «ЛВ» Кейт пишет краской послания на опустевших улицах: «Кто-то живет в Лувре» и т. п. Послания предназначены для всех, кто сможет их увидеть. «Естественно, никто не приходил. Затем я перестала оставлять послания». Финал романа содержит использование (не упоминание[10]) такого послания: «Кто-то живет на этом пляже». Но использование чем и/или кем? Возможно, не совсем верно называть этот роман монологом, как я назвал его выше[11]. Кейт печатает его. Он написан, а не произнесен. Правда, это не дневник и не журнал. И не письмо-послание. Потому что, разумеется, кому может быть адресовано письмо, если никого больше нет? Так или иначе, роман пишется самосознанием. Лично мне уже надоела проза, повествующая от имени самосознания как написанное, как тексты. Но «ЛВ» отличается от самореферентных произведений в духе Барта или пост-Деррида. Здесь сознательная подача не только звучит искренне, но и выполняет важные функции. Кейт — не «писательница». По призванию она художница, ее работа за пишущей машинкой совершенно и ужасно любительская. Она кричит в пустоту листов бумаги. Ее повествование — производная функция от нужды, а не искусства, нечто вроде послания в большой бутылке. Здесь я должен признаться, что смотрю на письмо этого романа странным, как бы зеркальным взглядом. Я сам пытаюсь писать и сейчас все чаще ощущаю потребность писать каждый день, не особенно надеясь, что результат окажется прибыльным или хотя бы привлекательным, но, возможно, он хотя бы будет воспринят, прочтен, увиден. И «ЛВ», с ее глубоко нелепым подходом, гораздо более эффективным, чем могли бы быть аргументы или аллегории, подтверждает возникающее у меня чувство, что большинство людей, которым хочется писать, должны писать. Потребность сочинять, излагать, будь то для радости, или временного облегчения, или, чаще всего, ни для того ни для другого, объясняется той двусторонней паникой, которую испытывают большинство людей, проводящих много времени в собственной голове. С одной стороны (ее философ назвал бы «радикально-скептической» или «солипсистской») — ощущение того, что твоя голова является в некотором смысле всем миром, когда воображение становится не просто более приятной, но и более реальной средой, чем Большой Пейзаж жизни на земле. Первый эпиграф в книге Марксона, взятый из «Заключительного ненаучного послесловия к “Философским крохам”» Кьеркегора, вызывает и навязывает эту первую интерпретацию положения Кейт и его связи с ее «машинописью»[12]. Потребность вывести слова и голоса не только вовне (наружу черепной коробки, которая одновременно порождает и запирает их), но и на бумагу, не доверяя их ни хрупкому пространству разума, ни мимолетному взаимодействию связок, воздуха и ушей, кажется Кейт (и всякому от Флобера до ведущего дневник или графомана) необходимым подтверждением существования мира снаружи, с которым ее записи могут не только коммуницировать, но в котором они могут обитать. Пикассо, внимавший Веласкесу, как Марксон — Кьеркегору и Витгенштейну, развивал идею о произведениях изобразительного искусства не просто как о «репрезентациях», но собственно вещах, объектах... но мне не приходит на ум ни один литератор (в противоположность теоретикам неокритицизма или постструктурализма), который бы смог ухватить текстуальный зуд, эмоциональную неотложность текста и как знака, и как вещи лучше, чем это сделал Марксон[13]. Другая сторона вышеупомянутой паники (открывающаяся в начале и в финале «ЛМ») связана с тем, почему пишущему необходимо то, что он делает, как форма коммуникации. Р. Д. Лэйнг называет это «онтологической неуверенностью» — именно из-за нее мы подписываем свои сочинения, предлагаем почитать их своим друзьям, отправляем почтой в коричневой оберточной бумаге, надеясь, что их напечатают. «Я СУЩЕСТВУЮ» — вот тот импульс, что оживляет всякое добровольное писательство, любой хороший текст. «Я СУЩЕСТВУЮ» — таким стало бы название романа Марксона в моих неловких редакторских руках. Но окончательный выбор Марксона, намного более удачный, чем рабочее название «Хранитель призраков» (глубокое, но не абсурдное), — пожалуй, лучше моего. Текст Кейт — одно большое послание о том, что кто-то живет на этом пляже, — сам по себе одержим и практически задан той вероятностью, что он не существует, что Кейт не существует. А название романа, если задуматься, выполняет задачи не только тематические, но и иносказательные. Витгенштейн был геем. У него никогда не было любовницы[14]. У него, однако, был учитель и друг — Бертран Рассел, который, при одобрении своего ученика, к 1920-м годам отправил на свалку когито-тавтологию, с помощью которой Декарт триста лет успокаивал интеллектуалов-невротиков, сомневавшихся в своем существовании. Рассел указал на то, что принцип когито «я мыслю, следовательно, существую» в действительности некорректен: истина «я мыслю» предполагает лишь существование мышления, как истина «я пишу» подразумевает лишь существование текста. Постулировать, что Я осуществляет мышление/письмо, — значит голословно утверждать то, на чем прокололся Декарт... Но, как бы то ни было, положение Кейт в «ЛВ» является вдвойне одиноким. После многолетних «поисков» людей[15] ее буквально выбрасывает на берег, и вот она сидит голая и перепачканная менструальной кровью перед пишущей машинкой, печатая слова, которые — и для нее и для нас — даруют «онтологическую уверенность» только лишь самим этим словам; вера в то, что они могут обрести читателя или (мета) физическое присутствие, требует такого донкихотства, которое Кейт давно утратила или отбросила.
Название романа не воспринимается как претенциозное или чрезмерно тяжелое, потому что Кейт действительно является любовницей Витгенштейна, призрачным куратором мира истории, артефактов и воспоминаний (которые, словно телевизионные образы, можно увидеть, но не сделать своими), а также фактов — фактов о (бывшем) мире и ее собственных ментальных привычках. Она выражается сухим языком фактов, и кажется, будто не мастерством, но каким-то неизбежным чудом вынужденного письма Марксон направляет нашу ошибочную оценку, наделяя утверждения, имеющие форму грубой передачи информации[16], подлинной и глубинной эмоциональной сутью.
Скудный апокрифический стиль письма Кейт, ее прямое и точное цитирование фразы «Мир есть все то, что имеет место»[17] и ее навязчивое желание обуздать факты, ставшие внешним и внутренним содержанием ее жизни, — все это заставляет читателя не просто пойти за «Логико-философским трактатом»[18] Людвига Витгенштейна 1921 года, а побежать за ним. Причина, по которой я, человек, не являющийся критиком и склонный относиться к книгам, которые меня восхищают, с нерешительностью слепца перед стенами, уверенно рассуждаю о судьбе Кейт, состоит в том, что «ЛВ» явно отсылает к «Трактату» за критическим «разъяснением». Это не слабость романа. Хотя то, что это не слабость, — тоже своего рода чудо. И это не значит, что «ЛВ» просто написана «на полях» « Трактата» — в том смысле, в каком «Кандид» делает на своих полях отсылки к «Монадологии» или в каком «Тошнота» драматизирует третью часть «Бытия и ничто». Нет, если уж сводить «ЛВ» в какую-то одну категорию, то для меня она — своего рода философская научная фантастика. То есть вымышленная картина того, каково было бы фактически жить в логике и метафизике, постулируемой в «Трактате» Витгенштейна. Такого рода мир начинался для Витгенштейна как логический рай. Заканчивается же он (я полагаю) метафизическим адом; а то, как сильно его философская картина не сочеталась с жизнью и мировоззрением, представлявшимися Витгенштейну-человеку достойными, стало (я утверждаю) важным мотивом для отречения от «Трактата» в его капитальном труде 1953 года «Философские исследования»[19].
В сущности, «Трактат» — первая настоящая попытка исследования ныне модной взаимосвязи языка и «реальности», которую язык должен ухватывать, очерчивать и представлять — такова его номинальная функция. Основной вопрос «Трактата» очень кантианский: каким должен быть мир, чтобы язык вообще был возможен? Ранний Витгенштейн[20], сильно очарованный Расселом и его «Принципами математики», перевернувшими современную логику, смотрел на язык как на математику с ее логическим базисом, видя парадигматическую функцию языка в отображении или «изображении» мира. Из этого убеждения вытекает все содержание «Трактата», подобно тому как пристрастие Кейт к картинам, зеркалам и ментальным образам вроде воспоминаний, ассоциаций и представлений формирует тот холст, на котором вырисовываются ее мемуары. В «Трактате» Витгенштейн выбрал в качестве образцового языка истинностно-функциональную логику «Принципов» Рассела и Уайтхеда. Такой выбор имел практический смысл: если вы пытаетесь выстроить объяснение мира из человеческого языка, то лучше всего избрать его наиболее четкий и точный тип (подкрепляющий веру Витгенштейна в то, что задача языка — излагать факты) и самую прямую и непротиворечивую связь между языком и миром определяемых им объектов. Последняя, я повторяю и подчеркиваю, есть просто связь зеркала и отражения; а критерием оценки точности высказывания оказывается исключительно и полностью его верность той данности мира, которую оно обозначает: ср. «высказывание есть образ факта»[21]. Так вот, строго говоря, логика Рассела, охватывающая Общую Картину языка, состоит всего из трех вещей: простых логических связок типа «и», «или», «не»; пропозиций, или предложений, высказываний; а также взгляда на эти предложения как «атомарные», в том смысле что истинность или ложность сложного предложения типа «Людвиг учтив, а Бертран элегантен» целиком зависит от истинности образующих его атомарных предложений: вышеупомянутая молекулярная пропозиция истинна, если — и только если — истинно то, что Людвиг дружелюбен и что Бертран щеголь. Атомарные пропозиции, служащие строительными блоками языка, являются для Рассела и Витгенштейна «логически зависимыми» друг от друга: они не влияют на истинность друг друга, а лишь на истинность тех логических молекул, в которые соединяются: например, «Л весел, или Б состоятелен», «Неверно, что если Б богат, то Л весел» и т. д. Но вот что самое интересное: поскольку язык есть «зеркало» мира, то мир метафизически состоит целиком и исключительно из тех «фактов», которые обозначены в языке высказываниями. Или, говоря словами из первой и главной строки «Трактата», «мир есть все то, что имеет место»; мир не что иное, как огромная масса данных, логически дискретных фактов, не имеющих имманентной связи друг с другом. Ср. «Трактат»: 1.2 «Мир распадается на факты...»; 1.2.1 «Любой факт может иметь место или не иметь места, а все остальное останется тем же самым».
Томас Пинчон, сделавший для паранойи в литературе примерно то же, что Захер-Мазох сделал для плеток, объясняет в «Радуге тяготения», почему параноидальные идеи о полной и злонамеренной связи, несмотря на всю их бредовость и неприятность, как минимум предпочтительнее противоположной им убежденности в том, будто ничто не связано ни с чем другим и ничто, по сути, не имеет отношения к тебе. Обратите внимание, что эта пинчоновская контрпаранойя оказалась бы вполне подходящей метафизикой для любого жителя того мира, что описывает «Трактат». Героиня Марксона живет как раз в таком мире, и ее беспредметное письмо прекрасно это «отражает», передавая психический колорит и солипсизма, и философии Витгенштейна посредством простой, безэмоциональной, но сюрреалистичной прозы и коротких афористичных абзацев, которые тоже явственно напоминают «Трактат». Текстуальная одержимость Кейт обусловлена просто поиском связей между вещами[22], любых нитей, сплетающих исторические факты с эмпирическими данными, а ничего другого в ее мире и нет. При этом подлинные связи всегда — неизбежно — ускользают от нее. Все, что ей удается обнаружить, это случайная синхронность: так, некоторые имена достаточно схожи, чтобы вызвать глубокое замешательство, — например, Уильям Гэддис и Тадео Гадди, а некоторые жизненные пути и события пересеклись в пространстве и времени. И даже эти весьма слабые связи оказываются не «реальностью», а свойствами ее воображения, и даже как таковые они обособлены, заперты внутри самих себя своим статусом фактов. Например, когда Кейт вспоминает, что Рембрандт разорился, а Спинозу отлучили от церкви, и, принимая во внимание биографические данные, предполагает, что их пути вполне могли пересечься где-нибудь в Амстердаме в 1650-е годы, весь разговор, который ей удается вообразить, сводится к следующему:
«Мне было очень жаль слышать о вашем банкротстве, Рембрандт».
«Мне было очень жаль слышать о вашем отлучении, Спиноза».
Основной пафос здесь в том, что, опираясь на каноничную атомистическую метафизику и преобразуя ее в искусство, Марксон достиг чего-то вроде каноничной антимелодрамы. Он сделал факты грустными. Само существование Кейт — атомарный факт, ее одиночество — метафизическая крайность. Ее мир «пуст», в нем ничего, кроме данных, покрывающих его, словно дырами, сетчатым узором; он одновременно сформирован и ограничен теми эпистемологическими нитями, которые лишь она одна может сплести. Что Кейт и делает — постоянно, будучи не в силах остановиться, сознательно подражая древнегреческой Пенелопе, которая не выходит у нее из головы. Но Кейт, в отличие от законной любовницы Одиссея, не способна ни связать подобающий узор, ни распутать то, что выдумало ее сознание. С этой точки зрения она предстает уже не Пенелопой, а одновременно Клитемнестрой и Агамемноном; Клитемнестрой, которую Кейт описывает убивающей Агамемнона, «безутешной»; Агамемноном — «у своей купальни, опутанным покрывалом и заколотым сквозь него». А поскольку никакие из присутствующих вещей не связаны ни друг с другом, ни с Кейт, мемориальный проект Кейт в «ЛВ» осмыслен и неизбежен даже несмотря на то, что он закрепляет тот смутный солипсизм, который стал ее бременем. При помощи своего мемориального проекта Кейт превращает «внешнюю» историю в свою собственную. То есть переписывает ее как личную. Поедает ее, как сумасшедший Ван Гог «пытался съесть свои краски». Не случайно роман Марксона открывается наречием зарождения: «Вначале...» То, что «непочтительные размышления» рассказчицы простираются от классических поэм до голландской живописи, барочных квартетов, французского реализма XIX века и бейсбола на искусственной траве, — это не украшательство и не претенциозность автора. Это не случайность (но аллюзия), что Кейт увлеченно бросает обрывки трагической истории в огонь, — она последний историк, она ее трагик и разрушитель, кремирующий страницу за страницей Геродота (первого историка!) по мере чтения. Также нет никакой жеманности или небрежности в том, что ей кажется, будто ее «назначили куратором всего мира», и что она живет в музеях и развешивает свои картины рядом с шедеврами. Работа куратора — вспоминать, выбирать, размещать, то есть устанавливать порядок и одним лишь этим передавать значение, — может служить замечательной метафорой жизни солипсиста или стратегий выживания, подходящих для существования монады в мире преломленных фактов.
Вот только остается важный вопрос: откуда факты, если мир пуст?
На суперобложке «ЛВ», выпущенной издательством Dalkey Archive Press, солипсизм «любовницы» назван «явной метафорой абсолютного одиночества». И Кейт действительно ужасно одинока, хотя ее бесхитростные заявления («В сущности, даже тогда я была одинока») гораздо менее эффектны , чем глубоко нелепые факты, посредством которых она передает смысл изоляции: «Одна из вещей, которые часто восхищают людей в Рубенсе, даже если они не всегда знают об этом, заключается в том, что на его картинах всегда все всех касаются»; «Позже сегодня я, наверное, буду мастурбировать»; «Паскаль... отказывался сидеть на стуле, если по обеим сторонам от него не стояло еще по стулу, чтобы он не упал в пространство». Хотя для меня самым трогательным изображением ситуации Кейт стали печально-забавные описания ее попытки сыграть в теннис без партнера[23] — возможно, наиболее сгущенный символ того, что Кейт проклята пребывать в мире, логически атомизированном в его рефлективном отношении к языку, поскольку передача голых данных связана с (замечательно американской) одержимостью рассказчицы имуществом, удобствами и домами. Следующий фрагмент сокращен:
Не думаю, что я когда-либо упоминала другой дом.
Что я могла упоминать, так это дома вообще, стоящие вдоль берега, но такое обобщение не включало бы этот дом, ведь он [в отличие от дома Кейт] совсем не рядом с водой.
Все, что от него можно увидеть через то [мое] заднее окно наверху, так это угол крыши...
Узнав об этом, я сразу же поняла, что где-то должна также быть дорога, ведущая к нему, разумеется.
Однако мне никак не удавалось найти эту дорогу, причем очень долго...
Так или иначе, неспособность отыскать дорогу постепенно стала совершенно новым видом беспокойства в моем существовании (с. 112-113).
Разумеется, учитывая критическое присутствие в книге Витгенштейна как объекта ссылки, модели и любовника, заманчиво трактовать одиночество Кейт как интеллектуальную метафору саму по себе, как попросту функцию радикального скептицизма, задаваемого логическим атомизмом «Трактата». Ведь опять же откуда и для чего столь важные «факты», на которые — для Витгенштейна и для Кейт — «мир распадается»[24], но которые он в себе не заключает? Являются ли факты — реально существующие — неотъемлемой принадлежностью Внешнего? Позволяют ли они увидеть себя только через бренность чувств-данных и индуктивное мышление? Или, что гораздо хуже, возможно, они являются противоестественно дедуктивными продуктами той самой головы, которая принимает их за Внешние факты, подлинно онтические? Эта последняя возможность (если она усвоена и действительно принята на веру) представляет собой маршрут с остановками в скептицизме, затем в солипсизме и с конечной станцией в безумии. Именно эта последняя возможность наполняет неврастенией «Размышления» Декарта и таким образом порождает современную философию (а вместе с ней — отчетливо современное «отчуждение» индивидуума от любых совокупностей, будь то природных или общественных). Кейт неоднократно заигрывает с этим картезианским кошмаром, например:
Когда я начала писать об Ахиллесе, я в середине фразы подумала вместо него про кота[25].
Кот, о котором я подумала, сидел у разбитого окна в соседней комнате, которое заклеено липкой лентой, часто шуршащей на ветру.
Иначе говоря, о коте я тоже на самом деле не думала, так как нет никакого кота, кроме как в том смысле, что этот шуршащий звук напоминает мне о нем.
Так же как не было и никаких монет на полу студии Рембрандта, за исключением тех случаев, когда сочетание красок обманывало глаза Рембрандта (с. 81).
Дело в том, что одурачившие Рембрандта нарисованные монеты, а также сам Рембрандт, и Ахиллес тоже, ничем не отличаются здесь от «кота»: у рассказчицы Марксона не осталось ничего, кроме «шуршащих звуков» (то есть памяти, воображения и языка), для построения какого-либо Внешнего. Его поток бурлит в голове самой Кейт; то, что оно противится упорядочению и наполнению, объясняется тем отчаянием, с которым Кейт старается его упорядочить и наполнить: лихорадочный пафос ее поиска гарантирует неудовлетворенность. Заметьте, что к странице 81, когда блеск метафизической педантичности померк, Кейт вновь начинает говорить о нереальном коте как о «реальном». Важный эмоциональный момент заключается в том, что независимо от того, расходится ли с реальностью ее отношение к лингвистическим конструктам как существующим, или же оно является неизбежной реакцией на реальность романа, солипсическая природа этой реальности, по мнению Кейт, остается неизменной. Это двойная связь, вполне в духе Кьеркегора, Шекспира и Витгенштейна.
Тем не менее, пока я читаю и оцениваю «ЛВ», для Кейт в ее примирении с вероятностью того, что лишь ее собственные «ошибки» сохраняют мир, на кону стоит нечто большее, чем проблемы метафизики или даже безумия. Кейт весьма оптимистично относится к возможности сумасшествия — она шутит о том, что была безумна временами, в «незапамятные времена». На самом деле в конечном итоге на кону здесь стоят вопросы этики, вины и ответственности. Одна из проблем, которые предположительно так мучили Витгенштейна в течение двадцати лет, разделивших «Трактат» и «Исследования», заключалась в том, что логически атомистическая метафизика не сообщает решительно ничего об этике, или нравственной ценности, или о том, что значит быть человеком. Что делало вещи благими, правильными или достойными, так это история, к которой был небезразличен Витгенштейн-человек. Он, например, записался добровольцем в австрийскую пехоту в 1918 году, хотя мог бы и должен был быть признан негодным к службе, а еще раздал все свое имущество другим людям (в том числе Рильке). Став самым что ни на есть аскетом, Витгенштейн провел зрелые годы в пустой комнате, где не было даже лампы или комфортного кресла. Однако не случайно «Трактат», являвшийся в значительной мере продуктом той самой Вены, что породила «два из наиболее мощных и симптоматичных движений мировой культуры: психоанализ и атональную музыку — два голоса, говорящих о бесприютности современного человека»[26], в свою очередь, сам породил на свет «Венский кружок» и философскую школу логического позитивизма. При этом, надо отметить, главный принцип позитивизма состоял в том, что смыслом обладают только ясно сформулированные высказывания, научные предложения, имеющие целью передачу данных, поэтому суждения о «ценностях», свойственные этике, эстетике или нормативной морали, оказываются всего лишь смешением научных наблюдений и эмоциональных выражений, так что сказать «Убийство — это неправильно» равнозначно высказыванию «Убийство — фу!». Тот факт, что метафизика «Трактата» не только не учитывала, но и во многом отрицала органическую возможность этики, духовных ценностей, ответственности и тому подобного, привел «Витгенштейна, этого ясно мыслящего и интеллектуально честного человека, к безнадежному конфликту с самим собой»[27]. Дело в том, что Витгенштейн был странным аскетом. Он действительно пренебрегал своим телом и держал в голоде свои чувства, однако не для того, чтобы, как монахи, просто наслаждаться последующим укреплением духа. Похоже, что для него важнее всего было отречение от своей сущности через отречение (в работах на тему философской истины) от наиболее важных для него вещей. Он так ничего и не написал о тонких противоречиях между атомизмом и сопутствующим солипсизмом, с одной стороны, и неоспоримыми человеческими ценностями и качествами, с другой. Но, заметьте, именно это и делает Марксон в «ЛВ»; и, таким образом, там, где Витгенштейн молчит, говорит роман Марксона, блистательно сплетая одержимость Кейт с ее ответственностью (за пустоту мира), вычерчивая мандалу из ментальных головоломок и духовной нищеты.
Из многочисленных зеркальных позиций, которые предлагает «ЛВ», Кейт в первую очередь идентифицирует себя с таким историческим персонажем, как Елена из Трои/Гиссарлыка — «этот лик, что тысячи судов гнал в дальний путь»[28] и тело, лежащее под впечатляющей горой павших в Троянской войне[29]. Средством этой идентификации с Еленой является отчетливо женское чувство «ответственности»: как Елене из «Илиады», Кейт не дает покоя пассивное чувство, что «во всем виновата она». И неоднократные попытки Кейт защитить Елену от обвинений в подстрекательстве к войне, унесшей жизни ионийских мужей, чрезвычайно настойчивы и пронзительны, что свидетельствует о яростном протесте:
Я всегда искренне сомневалась в том, что Елена была причиной той войны, между прочим.
Одна спартанка, в конце концов.
На самом деле, определенно, все дело было в коммерции. Все эти десять лет[30] — только чтобы посмотреть, кто кому будет платить за возможность пользоваться проливом...
Тем не менее я нахожу удивительным то, что молодые люди умерли там на войне, которая была давным-давно, а потом умирали в том же месте три тысячи лет спустя (с. 76-77).
Вопросы, встающие в связи с Еленой, женской сущностью и виной, маркируют некое переключение в этом романе и в его прочтении. Я уже упоминал, что примечательной особенностью «Любовницы Витгенштейна», написанной мужчиной, является то, что роман состоит целиком из слов женского персонажа? И я считаю, что именно сквозь призму гендера и аутентичности книга Марксона незамедлительно предстает наименее ошлифованной и наиболее интересной. Наиболее соответствующей 1988 году. Наиболее важной не просто как литературная транспозиция философской позиции, но и как выход за пределы общепринятой доктрины. Здесь Декарт, Кант и Витгенштейн из явных критических ориентиров превращаются в инициаторов небезупречного, но трогательного размышления об одиночестве, языке и половой идентичности.
Понимаете, Гомерова Елена «виновата» в конечном итоге не тем, что она сделала, а тем, кем она является, что собой представляет, как выглядит; своим воздействием — гормональным/эмоциональным — на мужчин, готовых убивать и умирать ради возникшего в них чувства. Кейт, как и Елену, преследует невысказанное, но гнетущее ощущение того, что «во всем виновата она [сама]». В чем именно? Как близка она к Елене, о которой пишет?[31] Ну, во-первых, легко заметить, как радикальный скептицизм — ад Декарта и адово преддверие Кейт — порождает одновременно всемогущество и нравственный гнет. Если мир всецело является производной функцией фактов, которые не только находятся внутри, но и сыплются градом из головы, то человек ответствен за этот мир не меньше, чем мать — за свое дитя или за саму себя. Это кажется вполне очевидным. Но что менее ясно и гораздо более ценно, так это тот особый уклон, который такое всемогущество приобретает, когда ответственная монада исторически пассивна, воспринимается и осмысляется как объект, а не субъект, то есть когда монада- женщина, способная вызвать перемену и катаклизм не как агент, но лишь как воспринимаемая сущность... воспринимаемая исторически активными тестостероидами, чьи железы прямо-таки извергают деятельность. Быть объектом желаний (волосатых персонажей), размышлений (волосатого автора), быть самой «продуктом» мужских голов и копий — значит быть почти классически феминизированной, не столько как Ева, сколько как Елена, «ответственная» без свободы выбирать, действовать или уклоняться. В [моей] слишком обобщенной трактовке в общепринятом западном представлении о женщинах как о носителях моральной ответственности можно выделить «эллинскую» и «эвинскую» ответственности; я готов поддержать тех, кто считает, что Марксон, несмотря на свои худшие намерения, умудряется взять верх над более чем 400-летней постмильтоновской традицией и изобразить эллинский вариант как более трогательную (и определенно более уместную) ситуацию женщины в любой системе, где внешность остается «картиной» или «картой» онтологии. Такое представление не кажется мне ни до-, ни постфеминистским: оно просто чертовски изобретательно, даже гениально; и поэтому (несмотря на некоторые просчеты авторского замысла и смелости) роман воспаряет или падает сам по себе.
О мере успеха, с которым Марксону удалось запечатлеть голос, психику и тяжелое положение женщины, хоть постпозитивистской, хоть нет, можно спорить. Иногда я тоже пытаюсь писать женским голосом и считаю себя очень восприимчивым к техническим/ политическим проблемам «кросс-писательства», но мне женская персона «ЛВ» показалась интригующей и реальной. Некоторые женщины, которым я подсунул «ЛВ», не вполне разделили мое мнение. Они возражали не столько против голоса и синтаксиса (и то и другое — сильные стороны «ЛВ», но продемонстрировать это можно было бы, только процитировав слово в слово страниц двадцать), сколько против некоторых смелых деталей, при помощи которых Марксон то и дело напоминает читателю, что Кейт — женщина. Например, постоянные упоминания о ее месячных показались им «корявыми». Тема менструации действительно всплывает часто и с нарративной точки зрения без очевидных причин; и если это не корявая аллюзия страсти или мученичества, тогда это не менее корявое (ибо грубое и лишнее) напоминание о гендере: да, женщины — это такие люди, чьи вагины регулярно кровоточат, но повторение и заострение внимания на этом наводит на мысли о плохой научной фантастике, где инопланетяне постоянно упоминают о головных антеннах, которые — будь и они, и голос рассказчика действительно инопланетными — представляли бы собой неоспоримый и заурядный жизненный факт, как уши, носы или волосы[32]. Лично я нейтрально отношусь к менструальной теме. Что мне не нравится, так это конкретная стратегия, которую задействует Марксон, пытаясь объяснить переполняющие Кейт «женские» чувства крайней вины и крайнего одиночества. Реалистичное или характерное объяснение не сводится (слава богу!) к тому, что Кейт потерпела эмоциональный крах из-за разных объективировавших и бросавших ее мужчин, от мужа (которого она называет то Саймон, то Терри, а иногда Адам) до последнего любовника, неизменно называемого Люсьен. Скорее это объясняется тем, что в далекие безмятежные дни, когда мир населяли люди, Кейт изменяла мужу с другими мужчинами, а затем ее маленький сын (то Саймон, то — ох! — снова Адам) умер в Мексике, возможно от менингита, после чего муж от нее ушел, примерно десять лет назад, в «незапамятные времена», в тот же психоисторический момент, когда мир Кейт опустел и начался ее поиск хоть кого-то живого, приведший ее на пустой пляж, где она теперь пребывает и разглагольствует для никого. Ее измены, и смерть сына, и уход мужа (аллюзии на которые, пусть робкие, встречаются снова и снова) являют собой «эвинский» диагноз ее греха и метафизического проклятия; они представляются — с настойчивостью, которую невозможно игнорировать, — как грехопадение Кейт[33], переносимое на весь гендер, как падение из сообщества, в котором она одновременно деятель и объект[34], в постромантический витгенштейновский мир крайней субъективности и патологической ответственности, в специфическую интеллектуальную/эмо- циональную/моральную изоляцию, ассоциируемую американским читателем 1988 года с мужчинами, где мужчины отчуждены действием от Внешнего, которое нам приходится объективировать, использовать, сжигать страницами, чтобы остаться субъектами, онтологически защищенными и щитом, и копьем. Все это кажется мне изобретательным и интригующим, полным смысла союзом древнегреческих и христианских традиций принижения женщин. Но смерть ее сына и расставание с мужем также представлены в «ЛВ» как очень конкретное эмоциональное «объяснение» психического «состояния» Кейт — это своеобразное принижение от самого Марксона, с которым я, пожалуй, не согласен. Хотя изображение личной истории в качестве такого объяснения, грозящее превратить «ЛВ» в очередной монолог сумасшедшей в духе Офелии / Джин Рис, иносказательно и даже искусно, оно все равно слишком бросается в [мои] глаза, чтобы не заметить его интенции:
Впрочем, я вовсе не уверена, что была безумна... перед этим. [Когда я отправилась на юг] Чтобы навестить могилу ребенка, которого я потеряла... по имени Адам.
Почему я написала, что его звали Адам?
Саймон — так звали моего мальчика.
Незапамятные времена. В том смысле, что человек может на мгновение забыть имя своего единственного ребенка, которому теперь было бы тридцать? (с. 17-18).
Вообще-то говоря, я думаю, что это было [в Мексике], где я [загрунтовала холст, а затем долго смотрела на него и наконец сожгла]. В доме, где я когда-то жила с Саймоном и Адамом.
Я, в сущности, убеждена, что моего мужа [Сай- мона/Терри] звали Адам (с. 35).
Сейчас уже нет никаких проблем в связи с фамилией мужа, кстати. Даже если я и не видела его после расставания из-за смерти Саймона (с. 69).
Однако раньше я, наверное, опустила эту часть, о том, что заводила любовников, когда еще была женой Адама (с. 274).
Говорят, шиитские женщины скрывают под строгой одеждой тело и лицо, чтобы оставаться невидимыми и, таким образом, не гневить бедных, едва сводящих концы с концами мужчин демонстрацией своей сексуальности. Я обнаруживаю в «ЛВ» аналогичную сложную и страшную смесь эллинской и эвинской мизогинии, где, по сути, Елена виновна как объект, а Ева — как субъект, искусительница. Хотя лично я нахожу эллинский компонент более интересным и актуальным в свете современной политики, колебание Марксона между этими двумя моделями кажется мне оправданным в данном нарративе и психологически ловким. А вот когда он, похоже, задерживается на варианте Евы, используя его и в качестве архетипа, и для нарративного объяснения (что показывают примеры выше), его «Любовница Витгенштейна» становится в наибольшей степени традиционной как художественная литература. Кроме того, именно здесь, с моей точки зрения, роман обнаруживает технический изъян, выдавая совершенно мужское авторское начало, стоящее за персонажем Кейт и/или женским полом в целом. Как и в большинстве других авангардных экспериментальных произведений, такой технический изъян к тому же серьезно разжижает тематику. Мне кажется чрезвычайно интересным, что Марксон создал некую Кейт, столь правдоподобно обитающую в аду крайнего субъективизма, но в итоге сам же не смог избежать ее объективации, то есть, «объясняя» ее метафизическое состояние как эмоци- ональное/психическое и сводя ее «послание в бутылке» к безумному монологу эрудированной женщины, сведенной с ума последствиями заслуживающих порицания сексуальных действий, Марксон, в сущности, относит Кейт к одной из весьма шаблонных категорий, в которых мы, мужчины, видимо, должны организовывать и осмыслять женскую тайну, феминистический пафос, «бессильный и женственный плод». Падение Кейт, сначала якобы в жуткую духовную манифестацию маскулинной, логически строгой метафизики двадцатого века, под пристальным взглядом превращается почти что в (неизбежное?) оскальзывание в отчуждение героини от своей роли (от своей сути) матери, жены, любовницы, возлюбленной. При таком прочтении пустому солипсизму Кейт не суждено перерасти в некую мрачную независимость от объективации: Кейт попросту сменила роль реальной жены реального мужчины на роль несуществующей любовницы безусловного гения объективации[35], не расположенного к гетеросексуальному союзу. И мне видится странным, что многие из читавших эту книгу женщин, жаловавшихся, скажем, на упоминания менструации в «ЛВ» как на нечто искусственное, спокойно приняли предложенную Марксоном мнимую «мотивацию». Хотя готов признать, что это поразительно стандартное критическое замечание по отношению к современной американской художественной литературе: читатель ждет историй о вполне конкретных людях с вполне конкретными качествами во вполне конкретных обстоятельствах, происхождение которых на каком-то уровне должно быть личностно-историческим и психологическим, а не «просто» интеллектуальным, или политическим, или духовным, общечеловеческим. «Успешная» история «выходит за рамки» своей скрупулезной индивидуальности/ идиосинкразии, подводя особенности персонажей и обстоятельств под определенные широкие архетипы и мифы, унаследованные от Юнга, Шекспира, Гомера, Фрейда, Скиннера или из Ветхого Завета. Конкретика зачинает форму; сближение порождает содержание[36]. Редко где еще наше некритическое наследование моделей раннего Витгенштейна и логических позитивистов проявляется столь очевидно, как в академических и эстетических предрассудках о том, что успешная художественная литература скорее нечто заключает в себе, чем вскрывает, скорее организует факты, чем подрывает их, скорее диагностирует, чем преклоняется. Античные мифы, действительно, являлись своего рода «объяснениями». Однако не случайно, что великий миф возник в той же культуре, которая породила на свет великую историю, или что Кейт читает/сжигает попеременно то классические трагедии, то классических историков. В той мере, в какой миф обогащает факты и историю, он выполняет позитивистскую и фактологическую функцию. Но американский опыт мифотворчества и мифопоклонения (от Вашингтона и вишни, Джексона и гикори, Линкольна и бревен, десятицентовых романов, Запада как лона и театра души и прочего и прочего до Пресли, Дина, Монро, Уэйна и Рейгана), влияющий на саму физику чтения сегодня, подтверждает, что миф в конечном итоге притягателен исключительно в противопоставлении истории, данным и требовательной фразе «Только факты, мэм». Лишь в такой оппозиции рассказ способен обогатить, преобразить и превзойти объяснение. Дело не в том, что специфическое/стереотипное «реальное» прошлое Кейт в «ЛВ» слабо как объяснение; мне оно кажется слабым и разочаровывающим, потому что это объяснение. Как было бы досадной слабостью «объяснять» и конкретизировать мучающие Кейт чувства одиночества и неволи не через идею о том, что ее печатающие руки, простираемые в надежде на общение, образуют тот самый барьер между Я и Миром, который сами же и пытаются проломить, а, скажем, путем помещения ее на необитаемый остров в духе телесериала «Остров Гиллигана», или школьников Голдинга, или песни группы Police «Message in a Bottle».
Пожалуй, так многотрудно я стараюсь донести как раз то, что несовершенство, идущее от маскулинных предрассудков, лишь подчеркивает, насколько важна и амбициозна «ЛВ» в качестве экспериментального литературного произведения конца 1980-х годов. Мне, человеку с писательскими претензиями, нравится то, как этот роман переворачивает общепринятую формулу успешной художественной литературы, достигая наименьшего успеха как раз там, где он больше всего на нее равняется: исполинская мощь романа ослабляется здесь ровно в той мере, в какой Кейт изображается уникальной в плане обстоятельств и истории. Когда же Кейт наименее конкретизирована, наименее «мотивирована» некоей искусно представленной, но стандартно удобоваримой травмой (эвинской/валентиновой/постфрейдистской), ее героиня и ее судьба особенно э/а/ффектны. Ведь (пусть это покажется очевидным) покуда Кейт не уникальна по своей мотивации, она может быть кем угодно из нас, и преломление мира Кейт способно спроецировать или изобразить десакрализованный и парадоксальный солипсизм американцев в стадной культуре, поклоняющейся лишь Очевидному Я, виновато-пассивных солипсистов и скептиков, пытающихся согреть нежные руки у электронного костра данных в информационный век, когда стандартные образы и принудительный эрос подменяют активное сопереживание или сакральную тайну в качестве целей, ценности, значения и пр. Это знакомое нытье, которое роман Марксона обещает и — почти — преображает, драматизирует, мифологизирует через сухой, голый факт.
Пожалуй, в конце концов, я не одобряю стремление придать одиночеству Кейт конкретную «мотивацию» через приобретенную женскую травму потому, что это попросту излишне, ведь Марксон в этой книге уже добился успеха на всех действительно важных уровнях художественного убеждения. Он воплотил абстрактные наброски доктрины Витгенштейна в конкретном театре человеческого одиночества. При этом его роман гораздо лучше, чем псевдобиография, ухватил то, что сделало Витгенштейна трагической фигурой и жертвой той самой преломленной современности, открытию которой он содействовал. Эрудит Марксон написал поразительно умный роман с прозрачным текстом, завораживающим голосом и финалом, от которого на глазах наворачиваются слезы. Вдобавок он создал (будто бы невольно) мощное критическое размышление о связи одиночества с самим языком.
Хотя, конечно, истинная мотивация писателя всегда остается тайной и предметом в лучшем случае разумных предположений, можно с уверенностью отметить, что постатомистические метафизические перипетии, коими являются «Философские исследования» позднего Витгенштейна, формулируют философские проблемы и допущения столь отличные от раннего «Трактата», что « ФИ » представляются скорее даже не отречением, а этаким оглушительным детоубийством. В отношении Марксона все три смертельных удара, которые «поздний» Витгенштейн наносит по «раннему», связаны с постоянной одержимостью Витгенштейна вопросами языка и реальности. Первое: « ФИ » принимают в качестве образцового языка, которым следует заниматься философам, не идеальную абстракцию математической логики, а обыденный повседневный язык со всей его путаницей и очарованием[37]. Второе: в «ФИ» Витгенштейн тратит массу сил и чернил, выстраивая аргументы против идеи так называемого «индивидуального языка». Этот термин придумал прагматик Уильям Джеймс, которого Витгенштейн упрекал в том, что тот вечно ищет «артишок среди листьев». Однако стремление Витгенштейна показать в «ФИ » невозможность индивидуального языка (что ему в общем и целом удается) свидетельствует также и о сильнейшем беспокойстве по поводу солипсических последствий использования математической логики как образцового языка. Как вы помните, истинностно-функциональная схематика математической логики и отдельные факты схематической картины существуют независимо от говорящих, знающих и почти от всех слушателей. Настойчивое утверждение «ФИ» (в рамках отступления этой книги от вопроса о мире, в котором способен существовать язык, к идее о том, каким должен быть язык, учитывая реальное состояние мира со всей его болтовней, очарованием и нелепицей), что существование и даже сама идея языка зависят от некоего общающегося сообщества[38]... стало, пожалуй, самым сильным философским выпадом против базового сочетания скептицизма/солипсизма со времен Декарта, чью когито-тавтологию Витгенштейн критиковал раньше. Третье: последнее важное отличие заключается в нетривиальном и беспристрастном сосредоточении на почти никсоновской хитрости обыденного языка. Установка «ФИ» такова, что глубокую философскую работу можно осуществить, выяснив, почему лингвистические конструкции используются в том или ином виде, и что множество/большинство ошибок «метафизики» или «эпистемологии» вытекают из уязвимости ученых и людей вообще перед всевозможными хитростями, обманами и изобретениями. У позднего Витгенштейна масса отличных примеров того, как люди то и дело становятся жертвами метафизического «зачаровывания» обыденным языком, теряются в нем. Например, обороты типа «течение времени» порождают нечто вроде онтологического двоения, манят нас возможностью каким-то образом увидеть само время, будто реку, не просто «текущую», но делающую это за пределами нас, вне тех процессов и перемен, которым в действительности время всего лишь служит мерилом[39]. Или обыденные предикаты «игра» и «правила», применяемые одновременно, скажем, к «камешкам», кункену, софтболу и Олимпиаде, морочат нам голову обманчивым платоническим универсализмом, в котором якобы есть некое трансцендентно существующее свойство, присущее каждому члену этого ряда «игр» или «правил», благодаря которому каждый такой член является «игрой» или «правилом», тогда как, по Витгенштейну, есть лишь зыбкая паутина «семейных сходств»[40], прекрасно оправдывающая соединение будто бы однозначных предикатов не более и не менее чем человеческим поведением, а вовсе не каким-то трансцендентальным отображением реальности. К концу жизни Витгенштейн считал осмысленную деятельность человеческого мозга (то есть философию) не чем иным, как «борьбой против зачаровывания нашего интеллекта средствами нашего языка» («ФИ», I, 109)[41]. В «ФИ » утверждается, что люди должны жить или, во всяком случае, живут в своеобразной лингвистической мечте, опьяненные и опутанные обыденным языком и той обманчивой «метафизикой», которую налагает на людей (или которой им стоит) использование языка и коммуникация.
Вышеприведенное резюме вышло довольно сырым.
Но таковым же, внешне, является использование в «Любовнице Витгенштейна» основополагающей новой теории из «Философских исследований». Неприкрытое отношение любовника/любовницы здесь снова содержит схожесть-как-аллюзию [sic]. Такие строки в романе, как «Со второго этажа можно увидеть океан. Здесь внизу дюны, которые загораживают вид» являются сознательным эхом утверждения из «ФИ»: «Философская проблема имеет форму: “Я в тупике”»[42]. Также отягощены аллюзиями (а иногда и просто тяжелы) раздумья Кейт по поводу онтологического статуса называемых вещей: она продолжает называть (как делали бы мы все) сожженный ею дом домом, но задается вопросом, в какой мере разрушенный дом является «домом», если не иметь в виду языковые привычки, оставшиеся с незапамятных времен. Или, например, рассуждает о том, «где находится картина, если она в моей голове, а не на стене?», и о том, называлась бы книга «Анна Каренина», если бы нигде не осталось ни одного целого (несгоревшего) экземпляра. Или изумляется тому, что «можно проехать через множество городов, не зная их названий».
Немного подобного нарциссического эха оказывается вполне достаточно, и Марксон иногда, на первый взгляд, утомителен со своими аллюзиями. Однако же любовница, как и любовник, приглашают вас/меня вниз: кажущееся сперва скучным раскрывается позже. Особенно интересны в качестве таких приглашений маленькие «приманки» вроде процитированных выше, которые кажутся не столько аллюзиями на гения, сколько тонкими предвестниками собственных рассуждений Марксона относительно и вокруг некоторых основных тем «ФИ». Что поначалу отталкивает своей тяжеловесностью или нудностью, со временем превращается в зыбкую ноту обреченности — Weltschmerz [мировая скорбь] в противовес наивности или надменности — в большинстве рассуждений Кейт о том, как имя «создает» объект или свойство[43]; даже несмотря на приступы зависти, охватывающие ее, когда она сталкивается с возможностью существования вещей без названия или без предикации. То, почему эта борьба так занимает Кейт и увлекает читателя, отчасти объясняется настоящей этической болью, вероятно наполнявшей продолжительное молчание между «Трактатом» и «ФИ», но это также можно отнести на счет оригинального и чрезвычайно умного исследования Марксоном чего-то, что можно было бы назвать «феминизацией скептицизма».
Пожалуй, это не тот термин, которым стоило бы разбрасываться под конец, ведь он требует определения и прочего, а эссе и так уже порядком затянулось.
Но вспомните в связи с этой абстракцией, что говорилось выше о Елене и Еве, Кассандре и «Трактате», а также подробно обсуждавшуюся вторую половину двойной связи, опоясывающей солипсизм: радикальное сомнение не только в существовании предметов, но и в самом субъекте, Я. Текст Кейт, признаваемый внутри самого себя письмом, является отчаянной попыткой воссоздать и таким образом оживить мир при помощи его наречения. Отчаянность попытки обусловливает ее почти патологическую зацикленность на именах — людей, персонажей, изображений, книг, симфоний, сражений, городов и дорог — и объясняет то, что Марксон столь удачно передает при помощи повторений и интонации: Кейт крайне расстроена, когда не может вспомнить — «вызвать в памяти», «воссоздать» — названия настолько хорошо, чтобы они подчинялись. А ее усилия по части онтологии-через-наречение являются трогательной синекдохой практически всей истории интеллектуальных свершений на белом мужском Западе. Она не в меньшей степени, чем Витгенштейн, Кант, Декарт или Геродот, творит мир письмом. Неординарная острота достижения Марксона здесь в том, что современно-женская точка зрения Кейт и то самое отчаяние, что лежит в основе ее попыток миросозидания[44], делают ее проект вдвойне обреченным. Первая обреченность — это то, что спроецировано на поверхности: скептицизм и солипсизм. Уже то, что отсутствие какого-либо «мира» отражено в тексте Кейт, достаточно трагично; но в «ЛВ» сами мемуары Кейт «написаны на песке», они «портятся»[45] и гниют — образы распада доминируют и часто повторяются в ее воспоминаниях и мысленных конструкциях.
Пояснением этой идеи я и закончу. Я вполне уверен, что «Любовница Витгенштейна» — несовершенная книга. Однако проблемы голоса, чрезмерные аллюзии и «объяснительность» можно отодвинуть в сторону ради потрясающего эмоционального, политического/ литературного и теоретического достижения романа — он выявляет следующую истину, вокруг да около которой ходили столь многие книги и эссе до него: (по меньшей мере) для современной женщины (то есть такой, которая видит себя и женщиной, и современной) обе стороны солипсической связи: если я существую, то ничто не существует вне меня, но если что-то существует вне меня, то я не существую[46] — сводятся к одному и тому же — проклятию призрачности среди призраков, курированию пленума статуй, принятию отзвуков за голоса. И, кроме того, здесь обе стороны склоняют субъекта к тому же, к чему склоняет Кейт ее драматичное положение, — к своего рода пародийной маскулинизации, при которой Романтический Поиск Отсутствующего Объекта, желание достижения, по отношению к которому недостижимость является самой сутью этого желания, приходит на смену способности быть-в-мире, но не его центром и не его пустотой, не всеответственным и не бессильным, а частью одной большой Семьи Сходств. Свойственная Кейт резкая потеря интереса к дорогам, которые она нашла, и данным, которыми она «овладела» (!!), кажется столь же корявой, несовершенной, человеческой и реальной, как, скажем, стремление Стендаля поскорее закончить «Пармскую обитель», как только Фабрицио овладевает Клелией... И наконец, тот факт, что Кейт ценит лишь несказанное, непрочитанное (она сжигает страницы после прочтения, бросает семью, как только становится «ответственной» за нее; вероятно, даже поддерживает свое письмо обреченным/сладостным осознанием его тщетности), в очередной раз в точности вторит страшной и трогательной финальной установке «Трактата» ее любовника: «Мои предложения поясняются тем фактом, что тот, кто меня понял, в конце концов уясняет их бессмысленность, если он поднялся с их помощью — на них — выше их (он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как он взберется по ней наверх). Он должен преодолеть эти предложения, лишь тогда он правильно увидит мир»[47]. Этот пассаж, как и почти весь Витгенштейн, лишь косвенно говорит о том, о чем он в действительности говорит. Он шепчет и играет. Он на самом деле о наполненности пустоты, важности молчания в рамках речи. С этой идеей Марксон попал в самое яблочко (с моей мужской точки зрения); монография Кейт пронизана бессловесностью сна, холодной тишиной напряжения, душевным заиканием. Ее лестница и правда никуда не ведет, но правда также и в том, что никто не отбросит ни ту, ни другую книгу.
Примечания
1
См. стихотворение Ральфа Ходжсона «Stupidity Street»: I SAW with open eyes / Singing birds sweet / Sold in the shops /For the people to eat/ Sold in the shops of/ Stupidity Street — «Я видел своими глазами / Певчих птиц сладость / На прилавках магазинов / Людям в пищу / На прилавках магазинов / На улице Глупости». — Примеч. пер.
(обратно)2
«Baseball When the Grass Was Real: Baseball from the Twenties to the Forties, Told by the Men Who Played It» — книга Дональда Хонига (1975).
(обратно)3
Пленум — от позднелат. plenum (plenus): полный, наполненный, многолюдный. — Примеч. ред.
(обратно)4
Роман с ключом (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)5
...И при этом, между прочим, такой, которая допускает характерную для многих пародий ошибку и неверно истолковывает лейбницевское «Все, что ни делается, все к лучшему».
(обратно)6
Далее сокращенно — «ЛВ».
(обратно)7
Речь об обзоре Эми Хемпел (Amy Hempel) в New York Times Book Review от 22 мая 1988 года.
(обратно)8
Ср. « Кто на первой базе » («Who’s on First ?»).
(обратно)9
Ср. слоган Audi для печатной рекламы 1989 года: «Устанавливает стандарт, игнорируя его».
(обратно)10
Это различие Фреге, выдающегося философа эпохи Витгенштейна: упомянуть слово или фразу — значит говорить о них, как минимум, с подразумеваемыми кавычками (например, «Кейт» — это имя из четырех букв); использовать слово или фразу — значит упоминать обозначаемое ими (например, Кейт является по умолчанию главным действующим лицом «Любовницы Витгенштейна»...).
(обратно)11
Если только вы не выбросите из головы все коннотации и не переведете это слово с аттического диалекта греческого языка буквально, ведь тогда оно обретает характерную для Марксона остроту, не свойственную никакому другому термину.
(обратно)12
Этот эпиграф из «Послесловия» (глава «Становление субъективным») звучит так: «Сколь поразительная происходит трансформация... когда сознание впервые сталкивается с тем фактом, что все зависит от наших мыслей о вещах и когда в результате мысль в своей неограниченности заменяет видимую реальность». Пожалуй, следует заметить, что в датском издании существительное «трансформация» употреблено в винительном, а не именительном падеже, и что вместо слова «поразительная», как у Марксона, в некоторых переводах Кьеркегора фигурируют прилагательные «ужасная» и «страшная».
(обратно)13
Возможно, это удалось Беккету в романс «Моллой».
(обратно)14
Кроме того, слово «любовница» передает идею изысканного одиночества, состоящего в том, чтобы быть лингвистической возлюбленной мужчины, который, с точки зрения эмоциональной практики, не мог наделить женщину идентичностью через «любовь».
(обратно)15
...Хотя она так и не признается, что сперва искала конкретного человека, своего мужа, и лишь затем хоть кого-нибудь...
(обратно)16
(Информации, передаваемой ей самой, или ее самосознанию, или кому-либо, кто может появиться в будущем, или одновременно себе и кому-то другому, или никому, а быть может, все это должно остаться лишь песчинками языка, ожидающими прилива.)
(обратно)17
Здесь и далее «Логико-философский трактат» цит. в пер. И. С. Добронравова и Д. Г. Лахути. — Примеч. ред.
(обратно)18
Далее я буду называть его просто «Трактат», а не менее знаменитые «Философские исследования» 1953 года — «ФИ» или просто «Исследования», как принято у философов.
(обратно)19
Так, в 1946 году, работая над «Исследованиями», Витгенштейн писал одному американскому студенту: «Что толку изучать философию, если она лишь позволяет вам с некоторым правдоподобием рассуждать о мудреных вопросах логики и прочего, но ничуть не помогает вам мыслить о важных вопросах повседневной жизни?»
(обратно)20
Ученые склонны видеть признаки шизофрении в творчестве Витгенштейна, противопоставляя «раннего» В с его «Трактатом» «позднему» В с его «Исследованиями», «Голубой и коричневой книгами» и «Философской грамматикой».
(обратно)21
См. «Трактат», 2.1512-1514.
(обратно)22
Эта зацикленность на связях более фундаментальна и страшна, чем гуманистический сироп романа «Говарде Энд» с его «только соединить»: в последнем случае подразумеваются отношения между людьми, тогда как в первом — возможность существования вообще любой вселенной за пределами черепной коробки...
(обратно)23
К этому можно добавить неоднократное упоминание прыгающих повсюду теннисных мячей — отличного макроскопического символа потока атомарных фактов...
(обратно)24
«Трактат», 1.2.
(обратно)25
Поскольку я не могу найти более подходящего места, куда бы это вставить, то предлагаю вам рассмотреть на примере этой строки еще одну классную форму расширения горизонта, которую Марксон применяет в «ЛВ»: его способ повествования здесь не столько «поток сознания», сколько «поток сознательных высказываний»; техника Марксона имеет тут немало общих ассоциативных качеств с техникой потока сознания Джойса, но отличается своей «направленностью»; то, на кого или на что она направлена, становится для романа имплицитным сюжетом, анти сюжетом, и ложится в основу «движения нарратива», которое делается не линейным и даже не круговым, а спиральным.
(обратно)26
См. Barrett, W. Wittgenstein the Pilgrim // The Illusion of Technique. Doubleday, 1978.
(обратно)27
Доктор Джеймс Д. Уоллес (отец Дэвида Фостера Уоллеса. — Примеч. пер.) в неопубликованном ответе на просьбы сына помочь с «Любовницей Витгенштейна» и «Логико-философским трактатом».
(обратно)28
Цитата из «Трагической истории доктора Фауста» К. Марло в пер. Н. Н. Амосовой. — Примеч. ред.
(обратно)29
Также верно и то, что Кейт идентифицирует себя с Пенелопой, Клитемнестрой, Евой, Агамемноном и особенно Кассандрой — безумной прорицательницей, предупреждавшей о вооруженных людях внутри пустых даров. Но мне кажется, что значение Кассандры скорее в том, что это функция самосознания Кейт, идентифицирующей себя с Еленой, и женского чувства вины, о чем пойдет речь далее.
(обратно)30
(Столько же времени Кейт потратила на свои блуждания по древнему и современному пустым мирам, ночуя в музеях и «разыскивая» людей.)
(обратно)31
Очевидно, весьма близка для читателей: больше половины рецензентов ошибочно назвали рассказчицу «ЛВ» Еленой.
(обратно)32
Это не мое сравнение, но ничего лучше я придумать не могу, пусть даже оно и не очень удачное; но суть тут очевидна, и вам, надеюсь, тоже: это один из звоночков, сигнализирующих о том, что голос рассказчика явно о чем-то сообщает читателю, хотя делает вид, будто ничего такого не делает, как в следующем диалоге: «Господи, Кремон, эта твоя алая татуировка МАТЬ выглядит еще более зловеще на фоне пепельно-бледной кожи, теперь, когда кровь снова прилила к твоим ногам, которые ты расколошматил, пытаясь обогнать 74-вагонный товарняк в Декейтере той благоуханной, но почему-то одновременно холодной ночью в 1979 году», — определение «корявый» вполне подходит для подобного текста.
(обратно)33
Ср. в этой связи:
И осознав, что выпал, вовне и вниз, из Полноты, он попытался вспомнить, что же была Полнота.
И вспомнил, но обнаружил, что нем и не способен рассказать о ней другим.
Ему хотелось сказать им, как она устремилась к отдаленнейшим пределам и воспылала страстью вне его объятий.
Она мучилась великой мукой, и сладость поглотила бы ее, не достигни она предела и не остановись.
Но страсть длилась помимо нее и нарушала предел.
Иногда ему казалось, что он вот-вот заговорит, но молчание длилось.
Ему хотелось сказать: «Бессильный и женственный плод». (Фрагмент из пролога к «Страху влияния» Хэролда Блума цит. в пер. С. Никитина. — Примеч. пер.)
Этот фрагмент (с моим курсивом) из «Плеромы» Валентина 199 года н. э. представляет собой неоплатонический гностицизм, который послужил метафизическим контрапунктом для антиидеализма в «Трактате» и удачно демонстрирует амбивалентность Марксона в отношении того, является ли положение Кейт в конечном итоге подобным Елене или Еве.
(обратно)34
Это сообщество — не что иное, как сексуальное общество, изображенное мужчинами, писавшими священные книги и эпосы, причем эти мужчины, в свою очередь, интерпретируются и преображаются Марксоном...
(обратно)35
« Мир есть все то, что имеет место... Мир распадается на факты ».
(обратно)36
В оригинале — каламбур, отсылка к поговорке «фамильярность порождает презрение». — Примеч. пер.
(обратно)37
Очень классные рассуждения по этому поводу прослеживаются в книгах «How То Do Things with Words» («Как делать вещи/ дела при помощи слов») Джона Остина и «Must We Mean What We Say?» («Должны ли мы иметь в виду то, что говорим?») Стэнли Кавелла.
(обратно)38
Ср. «ФИ», 1,23...
(обратно)39
Тахионы, нарушения причинно-следственных связей и принцип суперпозиции существенно осложняют позицию Витгенштейна, к тому же в профессиональных журналах начинают появляться очень интересные материалы о тесной связи между временными идиомами обыденного языка и передовыми квантовыми моделями... но, в общем, вы понимаете, о чем речь.
(обратно)40
Знаменитое и пресловутое Familienabänlicbkeiten (без шуток). См. «Голубая книга» (17, 87 и 124), «Философская грамматика» (75) или «ФИ» (1,67). Не менее знаменитые высказывания об играх и правилах есть в «ФИ» (1,65-88).
(обратно)41
Здесь и далее «Философские исследования» цит. в пер. М. Козловой. — Примеч. ред.
(обратно)42
«ФИ», I, 123. Это маленькое глубокое предложение означает приблизительно то, что мы сейчас и навсегда «здесь внизу» в языке, внутри него, на уровне первого этажа, и поэтому видим картину в целом не лучше, чем кто-то приземленный, в отличие от кого-то в воздухе, кто может посмотреть вниз на приземленного человека и землю вокруг него, различить формы на фоне других, более крупных форм, увидеть их как формы чего-то большего, а не просто как рельеф, лабиринт, мир, целое... приземленного человека.
(обратно)43
Заметим мимоходом, что темы наречения-как-освобождения, присутствия-как-привилегии также сквозят во многих феминистических теориях, с которыми автор романа определенно знаком...
(обратно)44
То есть она делает это ради ментального выживания, а не из интереса, надежды на признание или выгоды.
(обратно)45
Я все жду, когда теоретики феминизма заговорят о разложении как текстуальном феномене; это была бы ироничная шутка с долей правды: «разложение» есть, в сущности, пассивная «деконструкция», которую скорее наблюдают, нежели осуществляют, и при этом читатель становится последним «отсутствующим» в постструктуральном тотеме отсутствия: одно из откровений повествования Кейт — это потрясающая сила писателя-как-свидетеля, крайне пассивного, неслышимого — возможно, именно это в большей степени, чем все остальное в моем последнем абзаце, составляет феминистическую вишну [vishna] скептицизма.
(обратно)46
Я не стану тратить ваше время, расписывая, какая это превосходная инверсия когито и онтологического аргумента.
(обратно)47
«Трактат», 6.54.
(обратно)


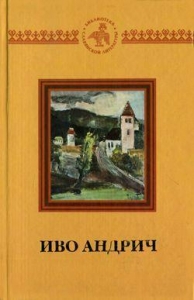
Комментарии к книге «Любовница Витгенштейна», Дэвид Марксон
Всего 0 комментариев