Фрэнсис Брет Гарт ПРЕДКИ ПИТЕРА ЭЗЕРЛИ
Приходится признать, что знакомство Скороспелки с цивилизацией не ознаменовалось каким-либо решительным улучшением ее нравов. После открытия знаменитой жилы «Эврика» можно было видеть, как обычно в таких случаях, наплыв игроков и содержателей кабачков, — но это принималось как нечто само собой разумеющееся. Досадно было другое — после постройки церкви и нового здания школы возникла необходимость запирать двери, вместо того чтобы держать их открытыми для любопытства и соблазна проезжих. Движимое имущество уже нельзя было оставлять ночью на улице, полагаясь, как прежде, на взаимное доверие граждан. Появление большего количества денег в стане и установление процентов положили конец обычаю брать друг у друга взаймы. Люди победнее либо воровали все необходимое, либо добывали его другим столь же нескромным способом. На единственной улице поселка, длинной и неровной, можно было увидеть людей побогаче, но в большинстве своем они утратили суровое достоинство первых поселенцев, а хорошенькие личики гуляющих барышень почти все были нарумянены. Во время перемен, происходивших в Скороспелке, ее юная неиспорченная натура, можно сказать, боролась со зрелыми пороками цивилизации, а через два года исчезло даже самое название поселка. Особым постановлением местной законодательной власти растущий город был переименован в Эзерли, по имени Питера Эзерли, владельца прииска «Эврика». Питер Эзерли принес в дар городу «Водокачку» и «Водочную мельницу», как теперь называли новую гостиницу с ее барами, отделанными позолотой. Однако даже в самый последний момент новое название оставалось под сомнением. Романтически настроенная дочь пастора высказала соображение, что мистера Эзерли теперь следует называть «Эзерли из Эзерли». Этот аристократический титул находился в таком противоречии с демократическими принципами, что оппозиция только тогда отступила, когда кто-то скромно заметил, что каждый может называть Питера Эзерли «Эзерли из бывшей Скороспелки».
Возможно, что именно этот случай впервые пробудил в Питере Эзерли мысль о значении его имени и породил некоторое беспокойство относительно его происхождения. Откровенно говоря, отец Питера Эзерли был просто приверженным к сельской жизни эмигрантом из Миссури, а его мать стирала на поселенцев. На пути в Калифорнию Эзерли очень страдали от жажды и голода, к тому же они были захвачены индейцами, которые десять месяцев продержали их в плену. Мистер Эзерли-старший уже не смог оправиться от лишений, перенесенных в плену; он умер вскоре после того, как миссис Эзерли родила близнецов — Питера и Дженни. Этих сведений Питеру Эзерли было маловато для того, чтобы прославить свое имя с помощью ближайших предков; однако «Эзерли из Эзерли» звучало приятно и, как выразилась молодая особа, напоминало о феодальных временах и почестях. Считалось вполне достоверным (и это отмечалось даже в кратких записях о знаменательных событиях в жизни семьи на первом листке библии), что прадед Питера Эзерли был англичанин, который переселился со своим единственным сыном во владения его величества в Виргинию. Однако неизвестно, был ли он осужден на изгнание за религиозные или политические убеждения или просто принадлежал к числу «новичков», отданных на выучку, которые составляли большую часть американской иммиграции в те времена. И все-таки «Эзерли» было, несомненно, английское имя, оно даже внушало мысль о почтенных и владетельных предках, и Питер им гордился. Он косился на своих сограждан — ирландцев и немцев — и любил поговорить о «породе». Но два обстоятельства огорчал его: внешностью он совсем не походил ни на англичанина, которого можно было увидеть на сцене театра в Сан-Франциско, ни на старателя приискового района, а акцент у Питера Эзерли был, несомненно, юго-западный. Он был высокого роста, смуглый, с глубоко посаженными глазами на неподвижном лице; в тридцать с лишним лет у него была все еще прямая, во гибкая и мускулистая фигура. Его легко можно было бы принять за обычного американца, если бы не одна особенность — нос у Питера был явно римский, что придавало ему аристократический вид. Чем-то он походил на Авраама Линкольна, а рост, меланхолическая фигура, длинные руки и ноги напоминали Дон-Кихота; ничто не выдавало в нем англичанина.
Вскоре после того, как город получил имя Эзерли, произошло событие, которое вначале поколебало, а затем еще более укрепило тихую мономанию Питера. Его мать в течение двух последних лет находилась в частной больнице для алкоголиков, куда попала из-за некоторых привычек, усвоенных в первый год вдовства, когда она стирала белье для поселка. Это всегда вызывало откровенное сочувствие Питеру в Скороспелке, но в городе Эзерли такое положение стало причиной скрытого упрека, хотя все знали, что богатый сын не жалел денег на содержание матери и что он и его сестра Дженни Эзерли часто ее навещали. Благодаря щедрости сына вдова подкупила одного из служителей и стала предаваться тайному пьянству. Однажды Питера Эзерли телеграммой вызвали в больницу. Он застал мать в бреду. Когда сознание на минуту возвращалось к ней, она звала сына и таинственным лихорадочным голосом говорила о «высоких связях» и утверждала, что он и его сестра «благородной породы». В сильных выражениях, усвоенных еще в те дни, когда вдову называли «старая мэм Эзерли» или «тетушка Сэлли», она заявляла, что они не какие-нибудь «болтуны из Индианы», или «мужланы из Кентукки», или «накипь с севера» и что она еще доживет до того, что увидит детей своих «снова хозяевами на собственных землях и на землях своих предков». Снотворное несколько успокоило миссис Эзерли, но ее состояние едва ли стало менее плачевным. Она снова узнала сына и, чувствуя, что силы ей изменяют, насмешливо поблагодарила его за то, что он пришел «проводить ее», и поздравила: скоро он будет избавлен от необходимости тратить из гордости деньги на содержание матери и лгать, что таким образом пытается «вылечить» ее. Она знала, что Сэлли Эзерли из Скороспелки, по мнению его новых «благородных» друзей, неподходящее общество для «Эзерли из Эзерли»! В ее плаксивом голосе звучала горькая обида, а налитые кровью слезящиеся глаза блестели зловещим блеском. Питеру стало не по себе: он почувствовал, что в упреках матери есть доля правды, но любопытство и волнение от ее слов пересилили угрызения совести. Он быстро сказал:
— Вы говорили про отца, его семью, его земли и владения. Скажите еще раз!
— Что тебе надо? — воскликнула она хриплым голосом, подозрительно глядя на него своими крохотными глазками. Пелена смерти уже застилала в ее глазах отблеск земных желаний.
— Скажите про отца, про его семью, про его прадеда, про семью Эзерли, моих родственников. Как мне про них узнать?
И это все? И только за этим ты пришел к старой прачке? — в голосе ее послышалось отчаяние и отвращение. — Ну, нет! Спроси лучше о чем-нибудь другом!
— Но, мама, а предания, которые вы знаете? А семейная библия? Вы как-то говорили нам — мне и Дженни!
Из ее горла вырвался звук, похожий на хихиканье. С трудом переводя дух, она яростно воскликнула:
— Не было никаких преданий, не было никакой семейной библии! Все это вранье, слышишь? Твой Эзерли, твоя гордость, был просто озорник англичанин: семья выперла его из дому и послала шляться по Америке. Он подъехал ко мне, Сэлли Мак-Грегор, в Канзасе, а ведь его семье было далеко до моей. Он меня увез, но это был законный брак, это я могу доказать. Об этом было в газетах в Сент-Луисе; одна газета до сих пор лежит целехонька у меня в сундучке. Да ты слушай! Я кричу? Но он, этот Эзерли, не был старый поселенец в Миссури, и предки его не были поселенцы. Он был новый человек, из Англии, попал в силки и запутался. И он своим ухаживанием одурачил меня — дочь почтенной семьи, которая жила на правом берегу Миссури еще до того, как Дэниел Бун приехал в Кентукки. Потом мы перебрались в Калифорнию, тут Эзерли разорился и бросил меня, и мне — Сэлли Мак-Грегор — пришлось стирать белье на Скороспелку! А ведь у моего отца были свои собственные негры! Вот какой твой Эзерли — бери его себе! Мне он больше не нужен — с меня хватит! Я с ним расквиталась задолго до того... до того... — кашель помешал ей договорить, но слова, казалось, застряли у нее в горле.
Питер слушал только ее слова и почти не замечал страданий матери. Он нетерпеливо наклонился над постелью, но доктор грубо оттолкнул его, приподнял больную и посадил ее в постели. Больше она ничего не сказала.
Ей сразу дали сильно действующее лекарство, но она не пришла в сознание и еле дышала.
— Умирает? — в волнении спросил Питер. — Неужели нельзя привести ее в чувство хоть на минутку, доктор?
— Я полагаю, — ответил доктор, старый шотландский военный врач, холодно и презрительно глядя на богатого мистера Эзерли, — что ваша мать больше не будет стирать для меня и ей не придется больше жертвовать всем ради своих детей. А возвращать ее к страданиям из-за каких-то разговоров я не стану.
И в самом деле она так и не пришла в себя, неоконченная фраза застыла у нее на губах. Как только покойницу обмыли и одели, Питер бросился к сундучку, о котором говорила мать, чтобы найти газету. Выцветшая и пожелтевшая газетная вырезка лежала в рабочей шкатулке, среди мотков бумажных ниток, пуговиц и воска. Он вспомнил, что видел все это на коленях у матери, когда она пришивала пуговицы к рубашкам, которые стирала на поселенцев. Когда он читал заметку, на его смуглых, впалых щеках выдал огонь удовлетворенного тщеславия.
«С глубоким прискорбием мы узнали о смерти Филиппа Эзерли, эсквайра, из Скороспелки (Калифорния). Некоторые наши читатели помнят мистера Эзерли как героя романтического побега мисс Сэлли Мак-Грегор (дочери полковника „Боба“ Мак-Грегора), который наделал столько шума в высших кругах нашего общества около тридцати лет тому назад. Ходили слухи, что молодая пара отправилась на Запад, в район тогда еще малоизвестный, но после жестоких лишений и столкновений с дикарями на границе молодожены переселились в Орегон, а затем, когда разразилась золотая лихорадка, — в Калифорнию. Однако для многих будет неожиданностью — это только что стало известно, — что мистер Эзерли был вторым сыном сэра Эшли Эзерли, английского баронета, и в случае смерти брата мог бы наследовать его состояние и титул».
Несколько минут Питер пристально смотрел на газету, пока эта обычная заметка не врезалась ему в память лучше, чем какой-нибудь афоризм мудреца или поэта, затем он сложил газету и засунул в карман. Он был так взволнован, что даже почувствовал уважение к матери, которую никогда не любил, — ведь она была женой его отца! Но наряду с этим в душе его росло негодование против матери — за ее презрительные намеки об отце и за полную неспособность понять положение сына. Он боялся, что мать и в самом деле была низкого происхождения! Но он сын своего отца! Тем не менее мистер Эзерли устроил матери похороны, надолго запомнившиеся своим богатством и показной роскошью. Тридцать экипажей, которые за большую сумму удалось достать в Сакраменто, были великодушно предложены друзьям Питера Эзерли, чтобы они присоединились к пышной процессии. Привезенный из Сан-Франциско превосходный гроб из железа и серебра сокрыл в себе останки бывшей прачки из Скороспелки. Но самым интересным и неожиданным из всех украшений гроба была настоящая королевская корона. Питер имел весьма смутное представление о геральдике, — в Сакраменто тогда для него не было возможности узнать, что за герб был у рода Эзерли. Королевская корона, казалось, дала Питеру достаточное представление о том, какой может быть верхняя часть гербового щита; простому же человеку это говорило о том, что покойница была англичанка. Таким образом удалось счастливо избежать замечаний политического характера. Миссис Эзерли похоронили на маленьком кладбище, недалеко от могил с грубо сколоченными деревянными крестами — могил бродяг, чьи настоящие имена даже не были известны. Со временем над могилой поставили мраморный обелиск. Но когда на следующий день местная газета, помимо описания похорон, на полутора столбцах поместила сообщение о смерти «миссис Сэлли Эзерли, супруги покойного Филиппа Эзерли, второго сына сэра Эшли Эзерли из Англии», начались всяческие толки. Старые поселенцы Скороспелки чувствовали себя обманутыми — ведь в течение всех этих долгих лет они были жертвами злой шутки старой прачки! В глубине души она, конечно, злорадствовала, потому что они не знали, кто она такая, — в этом никто не сомневался. «Да, я помню, я с ней поругался, когда она перепутала мое белье с бельем доктора Симонса и прислала мне старое тряпье пьяницы Дика, а она еще завизжала, повернулась и убежала в кусты. Я тогда подумал: наверно, она хватила лишку или обиделась, и простить себе не мог, что обидел старуху. А теперь-то я знаю, что эта баронетова невестка в кустах потешалась надо мной! Нет, сэр, из года в год она разыгрывала наш стан вовсю. А мы-то попались на удочку, прямо круглые идиоты! И сейчас ведь она лежит на кладбище и все подшучивает над нами — хохочет там во все горло под своим мрамором»-
Даже те, кто позднее поселился в Эзерли, питали неприязнь к старой Сэлли, но совсем по другим причинам. Они никогда не сомневались в том, что ее склонность к алкоголю и богатый лексикон были результатом аристократических связей. И хотя это еще ярче оттеняло их собственную добродетельную республиканскую уравновешенность, они чувствовали себя обманутыми — ведь с ними сыграли злую шутку, когда убедили участвовать в этих пышных похоронах. Питер Эзерли стал понимать, что его не любят в собственном городе. И трезвенники, которые пили воду из его бесплатной «Водокачки», и любители выпить, которые пили вино в его «Водочной мельнице», одинаково недолюбливали его. Он не мог этого понять: раньше, когда его особый интерес к своей родословной был основан только на предположениях, жители города с ним мирились — так почему же они не мирятся с ним теперь, когда его предположения подтвердились? Сам-то он ничуть не изменился со дня похорон! Однако неприязнь к нему возрастала, — правда, она стала менее назойливой, зато более распространенной. Над ним стали подсмеиваться. В его собственной гостинице, построенной на его собственные деньги, какой-то бесцеремонный завсегдатай бара отказался от предложенного прохладительного напитка под тем предлогом, что «пьет только со своими титулованными родственниками». А у окошка почтовой конторы местный юморист под рукоплескания восхищенной толпы открыто обвинил почтмейстера, что тот скрывает от него письма его единственного оставшегося в живых брата «герцога Развевынезнайского». «Старый герцог ни одной почты не пропускает, чтобы не дать мне знать, что творится в отчем доме, — заметил насмешник, — а тут ваш чертов осел-чиновник задерживает письма». Видные граждане Скороспелки получили по почте письма, содержащие вынутые из сигарных ящиков подстилки с вычурными золотыми гербами. Особенно усердствовал в насмешках неисправимый соседний поселок Рыжая Собака. Выходившая в Рыжей Собаке газета «Страж» поместила следующую заметку о смерти Тома-Канатника, пьяного матроса с английского военного корабля:
«Вероятно, не всем известно, что наш товарищ, о котором мы все скорбим, во время своей службы на корабле британского флота „Боксер“ был тайно обвенчан с Кикалу, королевой Островов Товарищества. Но он, не в пример некоторым нашим процветающим соседям, никогда не хвастался своим родством с королями и с непоколебимым английским мужеством отказывался от всех приглашений разделить престол. Всякое упоминание о такой возможности глубоко огорчало его. Среди нас есть люди, которые помнят прекрасный портрет царственной супруги, вытатуированный на его левой руке, с королевским гербом и скрещенными флагами обоих государств».
Только Питер Эзерли и его сестра поняли язвительный намек, заключенный, случайно или с умыслом, в последней фразе. У Питера и у Дженни были выжжены на левой руке какие-то странные знаки, — может быть, это была память об их жизни в прериях в плену у индейцев. Но отношение окружающих к Питеру и его сестре нельзя было не заметить. Неприязнь маленького городка может стать невыносимой. Питер решил воспользоваться первым удобным случаем и уехать на неопределенный срок. Он был богат, имущество его застраховано — незачем было оставаться там, где препятствовали его стремлениям принадлежать к высокому роду. И еще одно обстоятельство ускорило его решение.
Питер Эзерли ждал сестру в новом доме, на холме, который возвышался над городом. К тому времени, как умерла мать, Дженни была пансионеркой монастыря Сердца господня в Санта-Клара, откуда ее и вызвали на похороны. На следующий же день она вернулась обратно. Мало кто заметил в карете Питера Эзерли скрытое вуалью лицо, которое могло быть лицом монахини, и они совсем уж не помнили смуглую, худенькую, с густыми бровями девушку, которую в прошлом иногда видали на улицах Скороспелки, ибо она была так же флегматична, как и брат, и еще более молчалива. После обучения в монастыре Дженни по доброй воле продолжала уединенно жить под его материнской кровлей, не постригаясь в монахини. Все подозревали, что она либо религиозная сумасбродка, либо считает для себя унизительным жить в золотоискательском городке, и это отнюдь не способствовало популярности ее брата. В своей полной отрешенности от земных желаний Дженни, однако, не разделяла претензий брата на знатное происхождение. Брат дал ей средства для независимого существования, и, как полагали, она имела долю в их состоянии. Но внезапно она заявила о своем намерении вернуться в Эзерли, чтобы посоветоваться с Питером о важных делах. Питер был удивлен и с нетерпением ждал ее. Они не питали особой привязанности друг к другу, но он был занят только мыслью о своем происхождении и был уверен, что она хочет поговорить с ним о семье.
Питер был ошеломлен, огорчен и даже смущен, ибо в светской, элегантной, но чересчур нарядной даме нельзя было узнать Дженни Эзерли, скромную затворницу из Санта-Клара, приезжавшую на похороны в темном платье. Несмотря на крупные черты лица и характерный, как и у Питера, римский нос, Дженни была очень мила, когда оживлялась. Она оставила монастырь, ей надоело жить там, она убедилась, что призвание монахини не для нее! Короче говоря, она хочет наслаждаться жизнью, как другие женщины. Если, он действительно гордится своим именем, ему следует вывозить ее, как ото делают другие братья, он должен «показать ее». Он может сделать это и здесь, если захочет, а она будет вести его хозяйство. Если он не хочет, он должен дать ей достаточно денег, чтобы вести светский образ жизни в Сан-Франциско. Она хочет встряхнуться. Она хочет бывать на балах, в театрах, на приемах, и она добьется своего! Голос ее звенел, а смуглые щеки пылали от какого-то неизведанного волнения.
Питер был огорошен и уступил. «Будет лучше, — рассудил он, — если она даст волю своим невозможным капризам здесь, под его крышей. Ведь недопустимо, чтобы сестра одного из Эзерли дала повод для сплетен». Питер устраивал приемы, пикники и вечера, а Дженни Эзерли предавалась этим развлечениям с восторгом школьницы. Она могла с упоением танцевать целую ночь, а наутро оседлать лошадь (она была бесстрашной наездницей) и обогнать самого превосходного ездока. Она была метким стрелком, в ходьбе неутомима, как койот, а по лесу пробиралась с чутьем настоящего искателя. Питер наблюдал за нею со смешанным чувством удивления и страха. Ведь не в школе же она этому научилась? Это было совсем не то, чему учили добрые сестры! Однажды он решился спросить о подобной ее привычке.
— В душе я всегда была такая, — ответила она резко, — но скрывала. Иногда я чувствовала, что не могу больше выдержать, что должна бросить все и на что-то решиться, — горячо говорила Дженни. — Но, — продолжала она, боязливо глядя на него с внезапной робостью дикой лани, — я боялась! Я боялась, что я похожа на мать. Мне казалось — это ее кровь бурлит во мне, и я сдерживала себя, я не хотела быть похожей на нее. Я молилась и боролась. А ты? — спросила она, внезапно схватив его за руку. — С тобой было что-нибудь подобное?
Нет, с Питером ничего подобного не было. Его меланхолическая уверенность в благородном происхождении отца не оставляла места для мысли, что в нем течет и кровь матери.
— Допустим, — сказал он медленно, — что это так, но почему же ты так изменилась?
— Потому, что я не могла больше выдержать. Я бы сошла с ума. Иногда мне хотелось схватить некоторых из этих кротких монахинь, бледных, голубоглазых девиц с белокурыми локонами, и задушить. Там я не могла больше ни бороться, ни молиться, ни противиться... Поэтому я и пришла сюда, чтобы дать себе волю. Я думаю, когда я выйду замуж, — а с моими деньгами это не так трудно, — все изменится. Ты не думаешь, — спросила она все с той же робостью дикой лани, — ведь это что-то отцовское, от этих Эзерли?
Но у Питера и мысли не было о том, что в крови Эзерли могло быть что-либо, кроме добродетели. Он слышал, что высшие круги европейцев очень любят спорт и охоту; странно, что не он, а сестра унаследовала эту склонность. Из-за этого явного признака ее благородного происхождения Питер стал добрее к сестре.
— Ты думаешь выйти замуж? — как бы невзначай спросил он, хотя как брат несколько сомневался, может ли кто-нибудь по-настоящему полюбить Дженни, даже с ее деньгами. — Разве здесь кто-нибудь может тебе понравиться? — осторожно добавил он.
— Что ты, я их всех ненавижу! — вспыхнула она. — Всех — до одного — презираю за тошнотворный, фатоватый, женоподобный вид.
Несмотря на это, было очевидно, что некоторых мужчин привлекали ее оригинальность и простота в обращении. Однажды во время прогулки верхом Питер заметил, что один красивый белокурый молодой адвокат обращает особое внимание на его сестру. Когда кавалькада растянулась при подъеме на гору, молодой человек подъехал вплотную к Дженни. Постепенно расстояние между участниками прогулки увеличилось, и наконец они остались совсем одни. Тропа в этом месте терялась в чаще леса, и Питер потерял из виду свою сестру и ее спутника. Вскоре он и сам сбился с дороги, и тогда они снова показались далеко впереди. Питер с удивлением остановился — обе лошади шли совсем рядом, а молодой человек обнимал его сестру.
Будь Питер наделен чувством юмора, он бы улыбнулся при виде такой слабости его сестрицы-амазонки. Но он видел только серьезную, практическую сторону дела: как это отразится на его главной цели? У молодого адвоката была хорошая практика, и он годился в мужья любой другой девушке. Но был ли подходящей партией для дочери рода Эзерли? Что скажут об этом пока еще неизвестные могущественные родственники? В то же время, зная необузданный нрав сестры, Питер не мог не понимать, что этим родственникам было бы так же трудно принять Дженни с ее девическими экстравагантностями, как и ему самому. Если бы она развязала ему руки, он мог бы с большей свободой посвятить себя поискам титулованных родичей. Ведь, в конце концов, мезальянсы случались во всяких семействах, к тому же она как женщина не входила в прямую линию рода. Поэтому вместо того, чтобы пришпорить лошадь и догнать их, он помедлил, пока они не скрылись из виду, а к нему сзади подъехал один из участников прогулки. Питер нарочно задержал его. Они ехали медленно, давая отдых своим мустангам, как вдруг его спутник в испуге вскрикнул и соскочил с лошади. Перед ними на тропинке лежал без сознания молодой адвокат, а его лошадь щипала свежую травку. Очевидно, он был оглушен падением, но на лице у него была синевато-багровая полоса, как будто его хлестнула упругая ветка молодого деревца или его ударили хлыстом — к счастью, последнее предположение мелькнуло только у Питера. Пока его поднимали, молодой человек постепенно пришел в себя. Сначала он был растерян и ошеломлен, но, едва начал говорить, краска залила его лицо. Он пробормотал, что не может понять, что случилось: он ехал с мисс Эзерли, и, вероятно, лошадь поскользнулась на сосновых иглах и сбросила его! Гримаса боли внезапно исказила его лицо, и он схватился за темя. Не ранен ли он в голову? Нет, но, может быть, его длинные вьющиеся волосы зацепились за ветки — как у Авессалома! Он постарался улыбнуться, даже попросил помочь ему сесть на лошадь, чтобы он мог пуститься вдогонку за своей прелестной спутницей. Она, должно быть, недоумевает, куда он девался. Но Питер, убедившись, что адвокат не получил серьезного ранения, поспешно попросил его подождать, — он сам съездит за сестрой. Он пришпорил лошадь и, несмотря на скользкую тропинку, уже у самой вершины горы догнал сестру. Услышав цокот копыт, Дженни быстро повернула лошадь, стремительно поскакала навстречу брату и остановилась, только когда услышала его голос. Она так и застыла в той же позе и с тем же выражением лица, которое смутило и встревожило Питера. Ее высокая гибкая фигура почти прильнула к спине лошади, распущенные волосы развевались по плечам, черные глаза блестели загадочным блеском, как у нимфы. Она узнала его и засмеялась, сверкнув ослепительными зубами, но смех был издевательский и жуткий.
Питер был вне себя от возмущения.
— Что случилось? — спросил он резко.
— Этот дурак хотел меня поцеловать! — сказала она просто. — И я — я дала волю рукам, совсем как мама!
И все-таки она бросила на брата один из тех робких, пугливых взглядов, которые он замечал и раньше, и стала что-то накручивать на палец с застенчиво-смущенным видом, который совсем не вязался с мужской независимостью ее тона.
— Ведь ты же могла его убить, — сердито бросил Питер.
— Может быть! Должна я была убить его, Питер? — спросила она беспокойно, но с той же обаятельной робкой улыбкой. Не будь она его сестра, он бы решил, что она прямо красавица.
— И без того, — сказал он порывисто, — ты устроила ужасный скандал.
— Ведь он не станет об этом говорить? — боязливо спросила Дженни, все еще продолжая крутить что-то вокруг пальца.
Брат ничего не ответил; может быть, этот адвокат и в самом деле любит ее и будет хранить тайну! Но Питер был раздражен, а в непрерывном движении ее пальцев было что-то маниакальное.
— Что это у тебя? — раздраженно спросил он.
Она со смехом встряхнула чем-то в воздухе.
— Только прядь его волос, — весело ответила она, — но я ее не отрезала!
— Брось это и поехали! — сказал он сердито.
Но она засунула белокурый локон за пояс и покачала головой. Питер двинулся в путь, а Дженни повернула свою лошадь и понеслась прочь, и только смеялась, видя, что он гонится за ней. Она ездила лучше, чем он, и легко ускользала, когда он подъезжал слишком близко. Так они въехали в город гораздо раньше своих спутников. Дженни намного обогнала брата: она уже успела слезть с лошади и с детским ликованием спрятала свой трофей, прежде чем Питер подъехал к дому.
Она была права, когда сказала, что ее злополучный кавалер не станет ни о чем рассказывать, и происшествие сошло за случайность. Но Питер не мог не замечать, что сестра в значительной степени разделяет его непопулярность. Почтенные дамы в Эзерли считали ее легкомысленной и назойливее, чем когда-либо припоминали дурные привычки ее матери. В том, что со временем она будет пить, они нисколько не сомневались. Ее манера танцевать считалась возмутительной по своей неограниченной свободе, а робкие девицы, у которых она отбила поклонников, считали ее необыкновенную выносливость чисто мужским качеством. Она, в свою очередь, относилась свысока к этим кисейным барышням и не скрывала своего презрения к их интересам. Она признавала только общество мужчин и обращалась с ними с бесстрашной и в то же время презрительной фамильярностью. Питер понял, что противиться сестре бесполезно; мисс Эзерли, казалось, не поощряла возобновление ухаживаний молодого адвоката, хотя было ясно, что он все еще увлечен; не стремилась она и привлекать внимание других. Ему надо уехать, и ее придется взять с собой. Правда, казалось нелепым, что тридцатилетней женщине с мужским характером нужен сопровождающий в лице брата одних с ней лет, но Питер хорошо знал это странное сочетание детского неведения с гордой независимостью амазонки. Он отдал необходимые распоряжения на время своего отсутствия, года на три-четыре, и уехал вместе с сестрой. Белокурый адвокат пришел в контору дилижансов проводить их. Питер не мог заметить даже намека на какую-то симпатию в непринужденном прощании Дженни с ее несчастным поклонником. В Нью-Йорке они, однако, решили, что Дженни останется у новых знакомых, с которыми они подружились в дороге, а если захочет, то сможет потом приехать в Европу и встретиться с братом в Лондоне.
Освободившись таким образом от сестры, Питер Эзерли из Эзерли начал заветные поиски других, более отдаленных родственников.
Питер Эзерли уже четыре месяца жил в Англии, но впервые он ясно осознал это однажды летом, когда его экипаж катился по прекрасной дороге от станции Нонингсби к Эшли Грейндж.
За эти четыре месяца он советовался со сведущими людьми, изучал архивы, заходил в Коллегию геральдии, писал письма и кое с кем подружился. Богатый американец, выясняющий свое генеалогическое древо, даже в те дни не был новинкой в Лондоне, но в поведении Питера было что-то оригинальное и наивное, а сам он был так не по-американски серьезен и сдержан, что возбуждал общий интерес. В нем узнавали иностранца, но его национальность повсюду вызывала сомнения. Вначале это его больно задевало, но постепенно он примирился с этим. Как раз к этому времени его английские знакомые отказались от своей сдержанности и осторожности перед еще более молчаливым меланхоликом-американцем и сами стали осыпать его вопросами. Теперь поиски родственников были восприняты как свидетельство его благородства. Предложения о помощи посыпались со всех сторон.
В этих условиях сэр Эдуард Эшли оказался в весьма затруднительном положении, когда однажды утром сидел со своим семейным поверенным в библиотеке Эшли Грейндж.
— Гм, и вы говорите, что его поиски не преследуют никакой иной цели? — спросил сэр Эдуард.
— Решительно никакой, — ответил поверенный, — он готов даже подписать отречение от любых прав, которые мог бы получить в результате своих поисков. Это совершенно исключительный случай — но он, по-видимому, человек богатый и вполне в состоянии удовлетворять свои невинные капризы.
— А вы в самом деле уверены, что он сын Филиппа?
— Совершенно. Это ясно из бумаг, которые он мне предъявил. Конечно, я ему сказал, что, даже если ему удастся установить законность брака его родителей, он не может ни на что рассчитывать в качестве ближайшего родственника, ибо у вас есть собственные дети. По-видимому, он это уже знал и подтвердил, что его единственное желание — самому узнать правду.
— Наверно, он хочет доказать свое родство с нами, чтобы получить доступ в общество.
— Не думаю, — сухо возразил поверенный. — Я предложил ему поговорить с вами, но он, кажется, считает, что в этом нет никакой необходимости, если я смогу дать ему нужные сведения.
— Ах, вот оно что! — быстро ответил сэр Эдуард. — Пригласим-ка мы его сюда. Леди Эзерли может даже позвать кое-кого из знакомых посмотреть на него. Он... Гм! Каков он из себя? Наверно, обыкновенный американец?
— Совсем нет! Типичный иностранец — смуглый и похож скорее на итальянца. Никакого сходства с мистером Филиппом, — сказал поверенный, взглянув на портрет белокурого ребенка, ласкающего борзую собаку под вязами Эшли-парка.
— А! Да, да! Вероятно, его мать была южная креолка или мулатка, — произнес сэр Эдуард со снисходительностью англичанина к причудам людей другой национальности. — Говорят, эти женщины довольно привлекательны.
— Думаю, что вы хорошо сделаете, если будете с ним вежливы, — заметил поверенный. — Он интересуется своим происхождением, он богат и, видимо, только тем и озабочен, чтобы поднять престиж своего рода. Вам надо познакомиться с ним. Теперь насчет этих закладных на Эпплби Фарм, если бы вы могли…
— Да, — прервал его сэр Эдуард, — мы пригласим его сюда, и вы тоже приходите.
Поверенный поклонился.
- Между прочим, — продолжал сэр Эдуард, — ведь там была еще девушка? По-моему, у него есть сестра.
— Да, но он оставил ее в Америке.
— Ну, что ж, очень хорошо! Да, конечно! Мы пригласив лорда Грейшота, сэра Роджера и старую леди Эвертон — она-то уж знает все про сэра Эшли и про его семью. Да, кстати, он молодой или пожилой?
— Ему лет тридцать, сэр Эдуард.
— Хорошо. Мы пригласим леди Элфриду из Тауэрса.
Знай Питер обо всех этих приготовлениях, он, вероятно, сразу же после посещения старой церкви в Эшли-парке (ему сказали, что здесь покоятся его предки) вернулся бы назад в Нонингсби. Эти четыре месяца приучили его к мысли, что он иностранец и не имеет ничего общего со всем здешним. Он мог заметить некоторое сходство в обычаях и привычках этих людей и тех, которых он знал на Западе и на берегу Атлантического океана, но не с собой. Он полагал, что испытает прилив родственных чувств, а ощущал себя еще более чужим, чем на Западе. Он принял приглашение ныне здравствующего Эзерли ради Эзерли, давно умерших и забытых. Когда среди зелени парка выросло большое увитое плющом четырехугольное каменное здание, Питер с тоской обратил свой взор на квадратную башенку, которая выглядывала из гущи придорожных тисов. Когда экипаж подкатил к резной арке, под которой прошло не одно поколение рода Эзерли, Питер не мог поверить, чтобы кто-нибудь из его родных проходил здесь раньше. Вступив в этот огромный дом, он почувствовал себя пленником. Он долго блуждал по длинным коридорам, пока добрался до своей комнаты. Даже величественные деревья за окнами казались ему совсем не похожими на те, которые он видел раньше.
Нет сомнения в том, что Питер удивил всех в Эшли Грейндж не только своим необычным родством, но и своей поразительной личностью. И хозяева и гости были очарованы и открыто выражали свое восхищение. Самая его оригинальность, не допускавшая сравнений с каким-либо английским или американским образцом совершенств, вселяла в них приятную уверенность в том, что их восхищение вполне обосновано. Его сдержанность, серьезность, простота, совсем не похожая на их собственную и чем-то напоминавшая тонкую лесть, — все это говорило в его пользу. Помогала ему и наивная откровенность в вопросе о его положении в семье; она проявилась в немногих словах приветствия сэру Эшли и в непринужденных признаниях о днях его безвестной юности, прежней бедности и нынешнем богатстве. Он ничем не хвастался; он ничем не смущался. Впервые в жизни он находился в обществе таких знатных, титулованных людей; чужой, он и виду не подавал, что чувствует себя чужим. Впервые он был окружен вещами, которых не мог бы купить ценою всего своего состояния, и проявлял к ним самое безошибочное равнодушие — равнодушие темперамента. Дамы соперничали друг с другом в попытках расшевелить этого бесчувственного человека, неуязвимого ни для каких соблазнов. Они следовали за ним повсюду, заглядывали в его темные меланхолические глаза. «Невозможно, — удивлялись они, — чтобы он всегда так великолепно разыгрывал роль». Взгляд, улыбка, порыв искреннего доверия, обращение, как бы невзначай, к его рыцарским чувствам еще застанет его врасплох. Однако первое чувство, которое испытывали присутствующие при виде этих меланхолических глаз, равнодушно созерцавших сокровища Эшли Грейндж и пышное довольство гостей, было удивление. Леди Элфрида, которая вместе со всеми откровенно восхищалась Питером, чувствовала к нему легкую ненависть — первый шаг на пути к более сильному чувству.
На следующий день Питер заявил, что намерен посетить церковь в Эшли, и откровенно признался, что ему хотелось бы пойти туда одному. После обеда он выскользнул из дома и пошел по направлению к увитой плющом квадратной башенке, которую заметил еще вчера. На всей спокойной и ровной поверхности парка было одно-единственное место — кладбище, где, как ни странно, покрытая травой земля вздымалась небольшими волнами, которые словно говорили о бурной земной жизни тех, кто лежал под ними. Каждый уголок парка был облюбован гостями, арендаторами или браконьерами. Тем приятнее было наткнуться на полуразвалившиеся и расшатанные надгробные камни, обсаженные терновником, или обнаружить, что они глубоко погружены в зеленое море забвения. Это вносило некоторое разнообразие в привычную монотонность прекрасно распланированного парка. И это, и протоптанные сельскими жителями дорожки к месту празднеств поразили Питера тем, что здесь больше чувствовалось присутствие человека, чем в Эшли Грейндж.
Питер вошел в заросший плющом вход и уставился на полуофициальное объявление прихода на дубовой двери — первое неоспоримое свидетельство единства действий церкви и государства. Питер стоял в нерешительности. Он не ожидал, что это последнее пристанище его предков имеет какое-то отношение к налогам и церковной десятине и что его посвящение сопровождает чье-то материальное благополучие. Бог и царствующий монарх сочетались в королевском гербе, который красовался над официальными объявлениями. Питер осторожно толкнул дверь и вошел в придел. На какое-то мгновение ему показалось, что лесной мрак, оставшийся позади, опять возник перед ним в темном приделе под сводчатым потолком. Кругом стоял густой запах земли, как будто сама церковь выросла из плодородной почвы, пустив глубокие корни. Квадраты света от потускневших окон с цветными стеклами падали на пол, как мелькающий свет сквозь листву. Питер помедлил перед холодным алтарем — и вздрогнул: перед ним лежала фигура рыцаря, изголовьем ему служил шлем, а рядом покоились принадлежности рыцарского облачения. Внезапно воспоминания детства пронеслись перед глазами Питера — воспоминания о необозримых равнинах Запада и о похоронах индейских вождей: их носилки поднимали на шестах над раскаленными прериями прямо к слепящему небу. Там лежало и оружие усопшего вождя и верный пес — здесь было изображение собаки крестоносца. Удивительнее всего, что эти неожиданные воспоминания в тот момент взволновали его больше, чем фигура, которая лежала передним. Здесь они покоились — Эзерли нескольких столетий: они лежали в доспехах или в священническом облачении, стояли в париках или с длинными локонами; надписи на мраморе повествовали об их деяниях и добродетелях. Некоторые надписи были на латыни — языке, не известном Питеру, другие — на странном, почти столь же непонятном английском, но ни один из этих языков не был так чужд Питеру, как сами мертвецы. Их стяги реяли у него над головой, их голоса наполняли безмолвную церковь, — но Питер ничего не видел и не слышал. Он был чужой среди них.
Вскоре он услышал шаги, такие робкие, такие тихие, точно шаги блуждающего призрака. Он быстро оглянулся и увидел, что у колонны близ алтаря стоит леди Элфрида, не то осмелевшая, не то напуганная. Но в ней не было ничего потустороннего, она вся излучала безграничную свежесть английской девушки. Щека её была столь же осязаема, как дикая роза в живой изгороди, а чистые голубыё глаза спокойнее, чем летнее небо. Силой, здоровьем и свободой веяло от всей ее фигуры — от пряжек на туфлях до каштановых волос, прикрытых матросской шапочкой. Уверенность в себе, удовлетворение налаженной жизнью, прочное положение в обществе, свобода от тревог и тщетных ожиданий — все это сквозило в каждой черточке утонченного, нежного и спокойно-умиротворенного лица. Но леди Элфрида впервые в юности чувствовала некоторое волнение.
С Питером она была откровенна, как человек, которому и в голову не приходит, что его могут неправильно понять. Она сказала, что пришла из любопытства посмотреть, как у него пойдут дела с предками. Она наблюдала за ним из-за алтаря с тех пор как он вошел — и была разочарована. В отношении чувств он, по ее мнению, мог сравниться с самыми каменными, давно умершими предками. Может быть, они ему не понравились? Но он должен быть осмотрителен в выражениях — ведь здесь и ее предки: очевидно, вот этот (леди Элфрида коснулась носком туфельки того крестоносца, на которого Питер только что смотрел) или вот тот другой — в углу. Так что она так же, как и он, имеет право приходить сюда — и она может стать его гидом! Вот де Бреси, рыцарь короля Иоанна; он взял жену из дома Эзерли. (Она склонилась над фигурой рыцаря, подобрала прямую короткую юбку над хорошенькими ножками и заглянула в мрачное лицо Питера.) Значит, выходит, что они в некотором роде родственники? Завтра он непременно должен навестить их в Бентли Тауэрсе и обозреть в их часовне остальных де Бреси. Может быть, там окажется кто-нибудь; кто ему больше понравится и кто больше похож на него. Ведь ни здесь, ни в Эшли Грейндж никто нисколько на него не похож.
Он согласился с ее замечаниями, в тоне его звучала обезоруживающая учтивость и в то же время удивление по поводу того, что она разговаривает с незнакомым человеком более свободно, чем американские девушки. Она сразу же отпрянула от крестоносца и с весьма смиренным видом обошла с Питером вокруг церкви; вдруг она слабо вскрикнула и остановилась.
Они стояли перед надписью на могиле одного из более поздних Эзерли, офицера сотого пехотного его величества полка. Этот офицер был убит при поражении Брэддока. Надгробие поддерживали с одной стороны плачущая Слава, с другой — североамериканский индеец в кандалах. Леди Элфрида, запинаясь, сказала:
— Вот видите, есть и другие Эзерли, которые поехали в Америку еще раньше вашего отца, — тут она внезапно умолкла, поняв, что допустила бестактность.
Дикая, непонятная злоба за это невольное оскорбление его прошлого овладела Питером. Он знал, что эта ярость совсем не вяжется с его обычным спокойствием, но ничего не мог с собой поделать! Смуглые щеки его пылали, темные глаза сверкали, он почти дрожал от волнения, когда поспешно напомнил леди Элфриде, что индейцы были победителями в этом злополучном походе британских войск, а пленный индеец — лживая аллегория. Его волнение было такое порывистое и убедительное, что девушка, не понимая в чем дело, да и не заботясь об этом, разделила его негодование. С тревожным взором она следила за словами Питера, и на мгновение их руки встретились в невинном благородном порыве. И вдруг — Питер не знал как и отчего — ему пришла в голову еще более дикая и ужасная мысль. Он понимал, что это безумие, но в течение какого-то мгновения он молча стоял, затаив дыхание, стараясь побороть в себе эту мысль. Ему хотелось схватить эту молоденькую наивную девушку, свидетельницу его разочарования, эту самодовольную красавицу — средоточие всего того, что здесь ценили, — и умчать ее отсюда пленницей или заложницей — он не знал зачем — на скакуне в пыль прерий, далеко за моря! И тут Питер увидел, что щеки леди Элфриды то краснеют, то бледнеют, он увидел ее беспомощные, испуганные, но очаровательные глаза — глаза птицы, трепещущей перед магнетической силой гремучей змеи. Питер с облегчением вздохнул и в смущении отвернулся.
В тот вечер леди Элфрида с наивной простотой говорила сестре:
— Знаешь, дорогая, хоть он и американец (а ведь все говорят, что они нисколько не заботятся об этих бедных индейцах), он был так великодушен в своем негодовании, что я подумала — он больше похож на какого-нибудь героя Купера, чем на человека из рода Эзерли. Это было так глупо с моей стороны — показывать ему могилу майора Эзерли, знаешь, который сражался с американцами, — это тот самый, или тот был позднее? Я совсем забыла, что он американец.
С этими мыслями, в благородном раскаянии леди Элфрида воздержалась от своих обычных насмешек и покорно следовала за Питером, в духовных кандалах, как аллегорическая фигура, которую они только что видели. Так они дошли до входа в церковь и расстались,, чтобы встретиться завтра. Но это завтра так и не наступило.
К вечеру пришла телеграмма из Калифорнии. Питера Эзерли просили вернуться, чтобы выставить кандидатуру в конгресс от своего округа. Это определило его решение, которое на миг было поколеблено у входа в церковь ослепительным взором леди Элфриды. Он сообщил телеграммой о своем согласии, поспешно попрощался с родственником, который честно сокрушался о его отъезде, и последовал за своей телеграммой в Лондон. Через несколько дней он был уже в Атлантике.
Как Питера приняли в Калифорнии, как он нашел свою сестру замужем за белокурым адвокатом, как снова завоевал популярность и добился победы на выборах — все это детали, которые не имеют отношения к истории его поисков. Эти поиски, казалось, навсегда прекратились, когда он прибыл Вашингтон, чтобы занять свое место в конгрессе.
В этот вечер в Белом доме был прием. В восточном зале, где собирались гости, можно было встретить изысканно одетых столичных мужчин и дам и простодушных законодателей из отдаленных штатов в старомодной одежде, офицеров в мундирах и дипломатический корпус, поблескивающий орденами. Виновник этого блистательного собрания в простом вечернем костюме стоял у дверей — без сопровождающих, не скованный никакими формальностями. Он сердечно пожал руку новому члену конгресса, поздравил его, назвав по имени, и с улыбкой обратился к следующему гостю. Вскоре у дверей возникло какое-то оживление, толпа расступилась и пропустила на середину зала пять величественных фигур. Это главные вожди резервации апашей прибыли с данью уважения к Великому Отцу, президенту. Их костюмы являли собой смешение живописного с гротескным, безвкусицы с великолепием, мишуры с пышными царскими охотничьими трофеями, детского тщеславия с дикой гордостью. И, однако, перед всем этим блестящие ордена и ленты дипломатов потускнели и утратили свое значение, мундиры офицеров казались теперь лишь рабскими ливреями. Раскрашенные, неподвижные лица вождей и увенчанные перьями головы с гордым достоинством возвышались над толпой. Их загадочные глаза оставляли без ответа робкие взоры, обращенные на них. Вожди стояли одинокие и бесстрастные; тем не менее их присутствие сообщало залу какое-то царственное величие. Скромный, простой республиканский двор, казалось, вдруг стал царским. Даже переводчик, который находился между этим далеким вековым достоинством и близким цивилизованным миром, приобрел осанку придворного камергера.
Когда Великий Отец, по-видимому особа менее важная, с улыбкой принял их, один из политических деятелей подошел к Питеру и тронул его за руку.
— Серый Орел хочет с вами поговорить. Пойдемте. Не упускайте случая! Может быть, вас включат в комитет по индейским делам и вы соберете кое-какие факты. Помните, нам нужна твердая политика — никаких разговоров о Великом Отце и никаких одеял и ружей! Вы ведь знаете, что мы всегда говорили на Западе? «Индеец хорош, когда мертв». Идите послушайте, что скажет этот старый колпак.
Питер дал подвести себя к этой живописной группе. В этот самый момент он вспомнил фигуру индейца на могиле в Эшли Грейндж и почувствовал удовлетворение от того, что Серый Орел выше всех ростом и держится с достоинством.
— Хау, — сказал Серый Орел.
— Хау, — сказали остальные четверо вождей.
— Хау, — инстинктивно повторил Питер.
По знаку Серого Орла переводчик сказал:
— Пусть ваш друг отойдет в сторону. Серому Орлу нечего ему сказать. Он хочет говорить только с вами.
Тот неохотно отошел, но бросил на Питера предостерегающий взгляд.
— Ух, — сказал Серый Орел.
— Ух, — сказали остальные вожди.
Серый Орел сказал несколько гортанных слов переводчику, тот повернулся к Питеру с полной бесстрастностью, которую перенял от вождей, произнес:
— Он говорит, что знал вашего отца. Он был Великим вождем, у него было много коней и много жен. Он умер.
— Мой отец был англичанин — Филипп Эзерли, — возразил Питер, но им овладело странное беспокойство.
Переводчик повторил эти слова Серому Орлу, который после гортанного «ух» что-то ответил на своем языке.
— Он говорит, — продолжал переводчик, слегка пожав плечами, но снова впадая в прежнюю бесстрастность, — что ваш отец был Великим вождем, а ваша мать — бледнолицая женщина, или белая женщина. Она была захвачена в плен вместе с каким-то англичанином, но в плену стала женой вождя. Ее освободили только перед тем, когда у нее родились дети, но года через два она пришла с детьми, чтобы отец — Великий вождь — увидел их и поставил детям клеймо их племени. Он говорит, что у вас и у вашей сестры есть такое клеймо на левой руке.
Тогда Серый Орел произнес свои первые английские слова:
— Его отец, Великий индеец, взял в жены простую белую женщину! Ребенок никудышный — слишком много от белой матери и мало от Великого индейца — отца! Смотрите! Взрослый мужчина, а не может вынести боли. Ух!
Переводчик обернулся и едва успел подхватить Питера, — тот лишился чувств.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


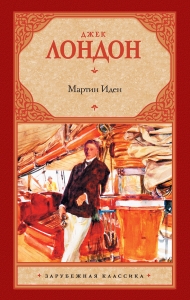
Комментарии к книге «Предки Питера Эзерли», Фрэнсис Брет Гарт
Всего 0 комментариев