Анри Барбюс Ад
I
Хозяйка, госпожа Лёмерсье, оставила меня одного в моей комнате, напомнив в нескольких словах все материальные и моральные преимущества пансиона семьи Лёмерсье.
Я стою перед зеркалом, посредине этой комнаты, где собираюсь прожить некоторое время. Я смотрю на комнату и разглядываю самого себя.
Комната была серая и таила в себе запах пыли. Я вижу два стула, на одном из которых покоился мой чемодан, два кресла с тонкими подлокотниками и с засаленной обивкой, стол с зелёным шерстяным верхом, восточный ковёр, бесконечно повторяемые арабески которого старались привлечь взгляды. Но в этот вечерний момент ковёр имел цвет земли.
Всё это было мне незнакомо; однако я как будто бы знал всё это: и кровать из фальшивого красного дерева, и безличный туалетный стол, и традиционное расположение мебели, и пустоту между этими четырьмя стенами.
*
Комната обшарпанная; кажется, что сюда уже бесконечно приходили. От двери до окна ковёр протёрт до верёвочной основы; изо дня в день его вытаптывала толпа. Резной орнамент стен на высоте рук деформирован, истёрт, весь в неровностях, а мрамор камина вытерт на углах. При контакте с людьми вещи безнадёжно медленно уничтожаются.
Они также меркнут. Постепенно потолок помрачнел как грозовое небо. На белёсых панелях и розовых обоях стали тёмными места, которых больше всего касались: створка двери, окружность покрашенной замочной скважины стенного шкафа и, справа от окна, стена на том месте, где дёргают шнуры штор. Все представители человеческого рода прошли через это место как копоть. Лишь окно осталось белым.
…А я? Что касается меня, то я такой же человек, как другие, а этот вечер такой же, как другие вечера.
*
С этого утра я путешествую; спешка, формальности, багаж, поезд, испарения различных городов.
Вот и кресло; я падаю в него; всё становится спокойнее и приятнее. Моё окончательное прибытие из провинции в Париж знаменует важный этап в моей жизни. Я нашёл место в одном банке. Моё существование скоро изменится. Именно в связи с этим изменением я в этот вечер отвлекаюсь от своих обычных мыслей и размышляю о самом себе.
Мне тридцать лет; они исполнятся в первый день следующего месяца. Я потерял отца и мать восемнадцать или двадцать лет тому назад. Это событие настолько отдалённое, что кажется незначительным. Я не женат; у меня нет детей и не будет их. Бывают моменты, в которые это меня беспокоит: когда я размышляю о том, что со мной закончится потомство, продолжающееся со времени существования человеческого рода.
Счастлив ли я? Да; у меня нет ни скорби, ни сожалений, ни осложнённого желания; стало быть, я счастлив. Я вспоминаю, что в ту пору, когда я был ребёнком, у меня бывали озарения сознания, мистические чувствительные настроения, болезненная любовь к затворничеству наедине с моим прошлым. Я придавал самому себе исключительное значение; я приходил к мысли, что являлся кем-то более значительным, чем любой другой человек! Но всё это постепенно растворилось в позитивном ничтожестве повседневности.
И вот я в данный момент.
Я наклоняюсь из моего кресла, чтобы быть ближе к зеркалу, и внимательно смотрю на себя.
Довольно-таки небольшого роста, сдержанный на вид (хотя я могу быть и возбуждённым в своё время); костюм очень приличный; внешне в моей личности нет ничего достойного порицания, ничего примечательного.
Я рассматриваю вблизи мои зелёные глаза, о которых, по необъяснимому заблуждению, обычно говорят, что они чёрные.
Я беспорядочно думаю о многих вещах; прежде всего о существовании Бога, но не о догмах религии; ведь она оказывается необходимой для обездоленных и для женщин, мозг которых меньше, чем мозг мужчин.
Что же касается философских споров, то я считаю, что они абсолютно бесполезны. Невозможно ничего проверить, ничего доказать. Что же именно можно назвать истиной?
Я осознаю хорошее и плохое; я не совершу бестактности, даже будучи уверенным в безнаказанности. Я не смог бы тем более допустить малейшую чрезмерность в чём бы то ни было.
Если бы каждый был таким, как я, всё шло бы хорошо.
*
Уже поздно. Больше ничего не буду делать сегодня. Я продолжаю сидеть тут, после потерянного дня, напротив угловой части зеркала. В обрамлении наступающих сумерек я замечаю рельеф моего лба, овал моего лица и, под прищуренными веками, мой взгляд, которым я вхожу в себя как в могилу.
Усталость, хмурая погода (я ожидаю дождь вечером), сумрак, усиливающий моё одиночество и облагораживающий меня, несмотря на моё напряжённое состояние, и кроме того кое-что другое, не знаю, что именно, меня печалят. Мне тоскливо быть грустным. Я содрогнулся. Что же имеется? Нет ничего. Есть только я.
*
Я не настолько одинок в жизни, насколько одинок этим вечером. Любовь для меня обрела лицо и движения моей возлюбленной Жозетты. Мы уже давно вместе; прошло много времени с тех пор, как в комнате за магазином мод, где она работает в городе Тур, я, увидев, что она мне улыбалась с особой настойчивостью, обхватил её голову и поцеловал Жозетту взасос, — и вдруг обнаружил, что я её любил.
Теперь я больше не вспоминаю отчётливо то необычайное счастье, которое мы испытывали, раздеваясь. Правда, бывают моменты, когда я её желаю так же безумно, как в первый раз; главным образом тогда, когда её нет рядом. Когда же она есть, наступают моменты моего к ней отвращения.
Мы вновь встретимся там на отдыхе. Дни, когда мы опять увидимся прежде, чем умереть, мы сможем их сосчитать… если отважимся.
Умереть! Мысль о смерти определённо самая важная из всех мыслей.
Однажды я умру. Размышлял ли я когда-либо об этом? Я задумываюсь. Нет, об этом я никогда не думал. Я этого не могу делать. Ведь больше невозможно ясно представить себе участь, подобную солнцу, которая, однако, оказывается серостью.
И наступает вечер, как наступят все другие вечера, вплоть до того, который будет особенно значительным.
Но вдруг я сразу вскочил, шатаясь, из-за сильного биения моего сердца, напоминающего взмах крыльев…
В чём же дело? На улице раздался звук рога, охотничий мотив… Вероятно, какой-то охотничий псарь-доезжачий из богатого дома, расположившийся около стойки в кабачке, с надутыми щеками, с энергично сжимающимся ртом, со свирепым выражением лица, восхищает и заставляет молчать присутствующих.
Но дело не только в этом, в этих трубных звуках, которые раздаются среди камней города… Когда я был маленьким, в деревне, где я воспитывался, я слышал этот сигнал издали, на лесных дорогах и дорогах замка. Тот же мотив, совершенно то же самое; как это может быть до такой степени похожим?
И, вопреки моей воле, совершив медленное и трепещущее движение, моя рука оказалась на моём сердце.
Прежде… сегодня… моя жизнь… моё сердце… я! Я размышляю обо всём этом, вдруг, без причины, как если бы я обезумел.
*
…С прежних времён, за всё это время, что же я сотворил из себя? Ничего, а ведь я уже на склоне жизни. Оттого, что этот мотив напомнил прошлое время, мне кажется, что для меня всё кончено, что я не жил, и что мне хочется чего-то вроде утраченного рая.
Но напрасно я стану умолять, напрасно я стану возмущаться, больше ничего не будет для меня; отныне я не буду ни счастливым, ни несчастным. Я не могу возродиться. Я буду стареть так же безмятежно, как нахожусь сегодня в этой комнате, где столько существ наследили, но где ни одно существо не оставило свой собственный след.
Такая комната обнаруживается на каждом шагу. Это комната для всех. Считается, что она закрыта, нет: она открыта на все четыре стороны пространства. Она затеряна среди похожих комнат подобно свету в небе, дню среди дней, подобно мне повсюду.
Я, я! Я вижу теперь лишь бледность моего лица, с глубокими глазницами, погребёнными в вечернем сумраке, и мой рот, полный молчания, которое медленно, но верно душит и уничтожает меня.
Я приподнимаюсь на своём локте как на рудименте крыла. Хотелось бы, чтобы со мной случилось нечто бесконечное!
*
Я не обладаю гениальностью, не имею миссии для выполнения, не проявляю великодушие. Я не имею ничего и не заслуживаю ничего. Но я хотел бы, несмотря на всё, какой-нибудь награды…
Любви; я мечтаю о небывалой идиллии, единственной, с женщиной, вдали от которой я до сей поры потерял всё своё время, черты которой я не вижу, но представляю себе её в виде тени, которая находится на пути рядом с моей тенью.
Бесконечное, новое! Путешествие, необычайное путешествие, в которое я погружусь, в котором я буду всюду поспевать. Пышные и суетливые отъезды, сопровождаемые услужливостью обездоленных, замедленные позы в вагонах, с громовым грохотом катящихся изо всех сил среди взбудораженных пейзажей и городов, вдруг возникающих будто из воздуха.
Морские суда, мачты, приказы, отдаваемые на варварских языках, высадки на берег на золотых пристанях, затем экзотические и любопытствующие лица на солнце и, головокружительно похожие, памятники, изображения которых известны и которые, в соответствии с горделивым представлением о путешествии, оказались рядом с вами.
Мой мозг пуст; моё сердце истощено; нет никого в моем окружении. я никогда ничего не нашел, даже друга; и жалкий неудачник. находящийся сейчас в этой гостиничной комнате, куда все приходят, откуда все уходят, но однако я хотел бы славы! Славы, соединенной со мной наподобие удивительной и чудесной раны, которую я бы чувствовал и о которой все бы говорили: мне хотелось бы толпу, в которой я буду первым, единодушно приветствуемым моим именем, звучащим как новый клич иод небосводом.
Но я чувствую, как ниспадает мое величие. Мое ребяческое воображение напрасно забавляется этими несоразмерными образами. Ничего нет для меня: есть только я. который возносится до крика, лишившись оболочки этим вечером.
В настоящий момент я стал почти слепым. Я скорее угадываю себя в зеркале, чем вижу. Мне видны моя слабость и моя неволя. Я протягиваю вперед, но направлению к окну, свои руки с напряжёнными пальцами, свои руки, похожие на нечто растерзанное. Из своего мрачного угла я обращаю лицо к небу. Мне приходится опуститься вперёд и опереться о кровать, этот большой предмет с расплывчатой формой некоего существа, напоминающего умершего. Боже мой, я погиб. Пожалейте меня! Я считал себя разумным и довольным своей судьбой; я считал, что я избавлен от инстинкта воровства: увы. увы. это не так. ибо мне бы хотелось завладеть всем, что мне не принадлежит.
II
Звуки рога прекратились уже давно. Улица, дома успокоились. Тишина. Я кладу свою руку на лоб. Этот приступ растроганности окончен. Тем лучше. Усилием воли я вновь обретаю равновесие.
Я сажусь за стал и достаю из лежашей на нём папки документы. Нужно их прочитать, привести в порядок. Кое-что меня подбадривает: я скоро заработаю немного денег. Смогу их отправить моей тёте, которая меня воспитала и которая всегда ждёт меня в комнате с низким потолком, где после полудня раздаётся звук её швейной машинки, такой же монотонный и назойливый, как звук стенных часов, и где по вечерам рядом с ней горит лампа, которая, не знаю почему, на неё похожа.
Документы… Части доклада, позволяющие судить о моих способностях и сделать окончательным мой прием в банк Бертона… Господин Бертон, тот самый, могущий сделать всё для меня, которому стоит лишь сказать одно слово, господин Бертон, бог моей нынешней жизни…
Я собираюсь зажечь лампу. Чиркаю спичкой. Она не загорается, фосфор шелушится, спичка ломается. Я бросаю её и, слегка устав, жду…
В это время я слышу очень тихое пение совсем близко от моего уха.
Мне кажется, что кто-то, склонившись на моё плечо, поёт для меня, для одного меня, доверительно.
А! галлюцинация… Вот мой мозг и заболел… Это наказание за то, что я сейчас слишком много размышлял.
Я стою, вцепившись рукой в край стола, весь в напряжении от ощущения сверхъестественного; пытаюсь наугад определить происходящее, мои веки нервно взмаргивают, я чутко и с подозрением прислушиваюсь.
Пение всё ещё продолжается; не могу от него отделаться. Моя голова поворачивается… Оно доносится из комнаты рядом… Почему оно настолько отчётливо, столь невероятно близко, почему оно до меня так доносится? Я смотрю на стену, которая отделяет меня от соседней комнаты, и подавляю возглас удивления.
Вверху, рядом с потолком, над заколоченной дверью имеется мерцающий свет. Пение доносится с этой звезды.
Перегородка в этом месте продырявлена, и через эту дыру свет соседней комнаты проникает во мрак моей комнаты.
Я взбираюсь на мою кровать. Становлюсь на ней, прижав руки к стене, достаю лицом до дыры. Сгнившая деревянная обшивка стены, разъединившиеся два кирпича; отвалившаяся штукатурка; перед моими глазами возникает отверстие, широкое как ладонь, но невидимое снизу из-за лепного орнамента.
Я смотрю… я вижу… Соседняя комната предстаёт передо мной полностью открытой.
Она простирается передо мной, эта комната, которая мне не принадлежит… Певший голос ушёл; после этого ухода дверь осталась открытой, ещё движущейся. В комнате есть лишь зажжённая свеча, свет которой дрожит на камине.
В отдалении стол кажется островом. Расположенные там голубоватые, красноватые предметы мебели представляются мне некими расплывчатыми органами, непонятными существами.
Я рассматриваю слегка поблескивающий шкаф с его строгими формами, с ножками, скрытыми во мраке; потолок, отражение потолка в зеркале, а также бледное окно, кажущееся лицом на фоне неба.
Я вернулся в мою комнату, — как если бы в самом деле выходил из неё, — весьма удивлённый, с мыслями, спутанными настолько, что можно было забыть, кто я такой.
Я сажусь на свою кровать, слегка вздрагивая, второпях размышляю о гнетущем меня будущем…
Я господствую в той комнате и я ею владею… Мой взгляд входит в неё. Я в ней нахожусь. Все, кто в ней будут присутствовать, будут в ней находиться вместе со мной, не ведая об этом. Я их увижу, я их услышу, я буду всецело присутствовать вместе с ними, как если бы дверь была открыта!
*
Через мгновение, с лёгким содроганием, я вознёс своё лицо до пресловутой дыры и снова заглянул в неё.
Свеча потушена, но кто-то там есть.
Это горничная. Конечно, она вошла, чтобы убрать комнату, затем остановилась.
Она одна. Она совсем близко от меня, однако я не различаю чётко движущееся живое существо, возможно, потому, что нахожусь под ослепляющим впечатлением того, что вижу столь явно: лазурносиний фартук почти ночного цвета, который к тому же ниспадает перед ней как бы вечерними лучами; белые манжеты, более тёмные из-за работы руки. Лицо неясное, затуманенное, но однако привлекательное. Глаза её скрыты, однако они лучатся; скулы выступают и блестят; изгиб шиньона сияет над её головой как корона.
Только что, на лестничной площадке, я видел эту девушку, которая, согнувшись, натирала перила лестницы, приблизив разгорячённое лицо к своим крупным рукам. Мне она показалась отталкивающей из-за её чёрных рук и той пыльной работы, при которой она нагибается и приседает… Также я заметил её в коридоре. Она шла передо мной, неуклюжая, с растрёпанными волосами, оставляя вслед за собой пресный запах, исходящий от всей её личности, которая вызывала ощущение серости и упакованности в грязное бельё.
*
И вот теперь я смотрю на неё. Вечер осторожно устраняет некрасивость, сглаживает нищету, отвращение; превращает, вопреки моей воле, пыль в тень, как превращается проклятие в благословение. От неё остаётся лишь цвет, туман, форма; но не только это: также трепет и биение её сердца. От неё остаётся лишь только она.
Это в самом деле она в одиночестве. Событие небывалое, немного божественное, но она воистину одна. Она в этом простодушии, в этой полной непорочности: в одиночестве.
Глазами я нарушаю её одиночество, но она об этом ничего не знает и это её не подвергает насилию.
Она идёт к окну, с прояснённым взором, опустив руки, в небесного цвета фартуке. Её лицо и вся она сверху как бы озарены: кажется, что она будто на небесах.
Она садится на канапе, важная, невысокая, тёмно-красного тона, занимая глубинную часть комнаты около окна. Её метла прислонена рядом с ней.
Она вынимает из кармана письмо, читает его. Это письмо в сумерках является самым белым из имеющихся предметов. Двойной лист шевелится между осторожно держащими его пальцами, — как голубь в пространстве.
Она подняла ко рту трепещущее письмо, поцеловала его.
От кого это письмо? Не от её семьи; девушка, когда она становится женщиной, не сохраняет настолько сильного дочернего почитания, чтобы целовать письмо от родителей. Скорее, от любовника, жениха… Я не знаю имени этого возлюбленного, которое, возможно, известно многим; но я таким способом присутствую при выражении ею любви, каким не пользовался никто из живущих. И это простое действие — когда она целует письмо, это тайное действие в некой комнате, это действие, выявленное и выставленное напоказ сумерками, создаёт впечатление чего-то величественного и пугающего.
Она встала и подошла прямо к окну, держа в своей сереющей руке сложенное белое письмо.
Вечер сгущается повсюду, и мне кажется, что я больше не знаю ни её возраста, ни её имени, ни чем она случайно занимается на этом свете, ничего о ней, совсем ничего… Она вглядывается в тускнеющую необъятность, растроганная ею. Её глаза сияют; они будто плачут, но нет, они преисполнены только светом. Глаза сами по себе не являются светилом; они лишь представляют собой весь свет. Кем бы стала эта женщина, если бы реальность процветала на земле?
Она вздохнула и медленно подошла к двери. Дверь снова закрылась как нечто ниспадающее.
Она ушла, всего лишь прочтя письмо и поцеловав его.
*
Я вернулся в свой угол, одинокий, в гораздо большей степени одинокий, чем ранее. Простота этой случайной встречи меня божественно взволновала. Итак, там было лишь живое существо, такое же живое существо, как я. Но ведь нет ничего более приятного и более волнующего, чем наблюдать вблизи живое существо, какое бы оно ни было, не правда ли?
Эта женщина интересна для моей внутренней жизни, она принимает участие в моей сущности. Как, почему? Я не знаю… Но какую важность она приобрела!.. Не сама она: я её не знаю и не собираюсь с ней знакомиться; её важность для меня заключается в самой ценности её существования, обнаруженного в определённое мгновение, в ней как в примере, в признаках её реального существования, в настоящем звуке её шагов.
Мне кажется, что сверхъестественное мечтание, какое я только что пережил, осуществилось, и что то, что я называл бесконечным, наступило. То, что предложила мне, не подозревая об этом, женщина, существовавшая только что на пределе чувств перед моими глазами, показавшая мне свой искренний поцелуй, может ли всё это представлять собой разновидность господствующей красоты, отсвет которой покрывает вас своим ореолом?
*
В гостинице раздался звонок к обеду, Это возвращение к повседневной реальности и к обычным заботам моментально меняет течение моих мыслей. Я надеваю пёстрый жилет, тёмный костюм. Втыкаю жемчужину в мой галстук. Но вскоре останавливаюсь и напрягаю слух, надеясь опять услышать рядом — издали — звук шагов или человеческий голос.
После всех необходимых движений, меня продолжает навязчиво преследовать воспоминание о произошедшем событии: об увиденном мною явлении.
Я спустился вместе с теми, кто живёт со мной в этом доме. В столовой, оформленной в каштановых и золотистых тонах, полной света, я сел за общий стол. Здесь царят повсеместный блеск, шум голосов, большая пустопорожняя суета перед началом еды. Многие уже тут, они садятся за стол, проявляя сдержанность, принятую в обществе хорошо воспитанных людей. Улыбки повсюду, шум отодвигаемых стульев, гул из случайного набора громко произнесённых отдельных слов, голоса, старающиеся встретиться друг с другом и вновь установить контакт, намечающиеся диалоги… Затем происходит концерт, исполняемый столовыми приборами и тарелками, ритмичный и возрастающий.
Мои два соседа разговаривают, каждый со своей стороны. Я слышу их говор, который меня изолирует. Поднимаю глаза. Передо мной выстраиваются в ряд блестящие лбы, сияющие глаза, галстуки, корсажи, занятые руки, вытянутые вперёд на столе, сверкающем от белизны. Всё это привлекает моё внимание и в то же время отвлекает его.
Я не знаю, о чём думают эти люди; я не знаю, кто они; они прячутся одни за другими, будучи настороже. Я наталкиваюсь на исходящее от них свечение, на их лбы как на преграды.
Браслеты, колье, кольца… Искрящиеся движения драгоценностей меня отталкивают так же далеко, как это сделали бы звёзды. Одна молодая девушка смотрит на меня своим голубым неопределённым взором. Что я могу против этой разновидности сапфира?
Вокруг разговаривают, но этот шум оставляет каждого с самим собой и оглушает меня, как свет ослепил меня.
Однако эти люди, оттого что, ведя случайный разговор, они думали о вещах, беспокоивших их, в некоторые моменты проявляли себя так, как если бы они оказались в одиночестве. Я распознал эту самую истину и побледнел от своего воспоминания.
Говорили о деньгах; разговор на эту тему стал всеобщим, ибо присутствующих расшевелило ощущение идеала. Мечта о том, чтобы уловить момент и взять деньги, будучи очевидной, отразилась в их глазах, подобно тому, как некоторая толика обожания с поклонением мелькнула в глазах служанки, когда она почувствовала себя в одиночестве: став бесконечно спокойной и освобождённой.
Торжественно вспомнили военных героев; некоторые мужчины подумали: «Это и обо мне!» и пришли в возбуждение, тем самым выказывая свои мысли, несмотря на смешное несоответствие этим мыслям их социального положения и его рабскую сущность. Мне показалось, что лицо одной девушки выразило восхищение. Она не смогла сдержать восторженный вздох. Под воздействием какой-то неразгаданной мысли она покраснела. Я увидел, как по её лицу волной распространилась яркая краснота; я увидел как бы сияющую от радости её сущность.
Обсудили явления оккультизма, запредельного, сказав: «Кто знает!»; затем говорили о смерти. Пока об этом шла речь, двое сотрапезников, сидящих на разных концах стола, мужчина и женщина, — которые друг другу не сказали ни слова и имели вид не знакомых друг с другом людей, — обменялись взглядами, что было замечено мной. И, видя одновременно произошедшее своего рода искрение этих взглядов под шокирующим влиянием мысли о смерти, я понял, что эти создания любили друг друга и принадлежали друг другу в интимной сути ночей жизни.
*
Обед закончился. Молодые люди прошли в салон.
Один адвокат рассказал своим соседям дело, рассматривавшееся в суде днём. Он высказывался сдержанно, почти конфиденциально, по причине темы этого дела. Речь шла о мужчине, который зарезал девочку в то время, когда он её насиловал, и который пел во всё горло, чтобы не были слышны крики маленькой жертвы. На судебном заседании этот скот заявил: «Однако её бы услышали, столь сильно она кричала, если бы, к счастью, она не была такой юной».
Один за другим рты замолкли, и все лица, стараясь не показывать этого, стали прислушиваться, а те, кто находился далеко, стремились подойти как можно ближе к рассказчику.
Наподобие грозного отклика в душах, тишина распространялась по кругу в пространстве, окружающем этот появившийся образ, этот ужасающий пароксизм наших робких инстинктов.
Затем я услышал смех одной из женщин, порядочной женщины: смех надтреснутый, отрывистый, который она, возможно, считает невинным, но он ласкает её целиком, фонтанируя: взрыв смеха, являющийся как бы творением плоти, будучи созданным из ужасных инстинктивных криков… Она замолкает и замыкается в себе. А рассказчик, уверенный в производимом им эффекте, продолжает спокойным голосом как бы вываливать на этих людей признание изверга: «У неё была суровая жизнь, и она кричала, кричала! Я был вынужден вспороть ей живот кухонным ножом.»
Одна молодая мать, рядом с которой сидит её девочка, наполовину приподнялась, но она не может уйти. Она опять садится и наклоняется вперёд, чтобы скрыть своего ребёнка; она хочет слушать, испытывая чувство стыда.
Другая женщина сидит неподвижная, наклонив голову; но её рот сжат, как если бы она трагически защищалась, но я почти увидел, что за светским выражением её лица вырисовывается, как своего рода почерк, безумная улыбка мученицы.
А мужчины!.. Я отчётливо слышал, как прерывисто дышал вот этот, невозмутимый и простоватый. А вон тот, с безразличной физиономией типичного буржуа, с напряжением о чём-то говорит своей молодой соседке. Но он смотрит на неё взглядом, который хотел бы проникнуть до её плоти, и ещё гораздо дальше, более сильным взглядом, чем он сам, стыдящийся этого взгляда, ясность которого заставляет его моргать и тяжесть которого его раздавливает.
А что касается того изверга, я также видел его отвратительный взгляд и видел, как дрожит его рот, пытаясь приоткрыться; я застиг его за приведением в действие зубчатого колеса этой человеческой машины, судорожно нацелившейся на то, чтобы впиться в свежую плоть и кровь другого пола.
И все принялись высказываться против этого сатира, единодушно употребляя в его адрес наиболее резкие ругательства.
…Итак, в определённый момент они не солгали. Они почти признались, возможно, не сознавая этого, и даже не зная, что они признавались. Они были почти сами собой. Желание и влечение выступили наружу, и их отражение проявилось, — и стало видно то, что заключалось в тишине, замурованное губами.
Именно это, именно это намерение, этот живой призрак я бы хотел увидеть. Я встаю, будучи на подъёме, спеша увидеть, как естественность мужчин и женщин, несмотря на её безобразность раскроется на моих глазах в виде совершенства; и снова, вернувшись к себе, с распростёртыми руками, положив их на стену жестом объятия, я рассматриваю соседнюю комнату.
Она лежит там, у моих ног. Даже пустая, она более живая, чем люди, которые встречаются и с которыми живёшь рядом, люди, огромное количество которых их стирает, делает их забытыми, люди, имеющие голос, чтобы лгать, и лицо, чтобы быть скрытым.
III
Ночь, глубокая ночь. Мрак, плотный как бархат, со всех сторон обволакивает меня.
Всё вокруг меня погрузилось во тьму. Посреди этой темноты я облокотился на мой круглый стол, освещённый лампой. Я расположился здесь, чтобы работать, но на самом деле я ничем не занят, лишь слушаю.
Только что я смотрел в соседнюю комнату. Там никого нет, но несомненно, что кто-нибудь скоро придёт.
Кто-нибудь скоро появится, возможно, этой ночью, завтра, на днях; кто-нибудь неизбежно скоро придёт, потом ещё люди будут следовать друг за другом. Я жду, и мне кажется, что я теперь гожусь только для этого.
Я долго ждал, не решаясь отдохнуть. Потом, очень поздно, когда тишина царила столь долго, что она парализовала меня, я превозмог себя. Снова я добрался по стене до пресловутой дыры. Я с мольбой обратил туда мои глаза. Комната была темна, в ней всё слилось, она была полна ночи, неизвестности, любых возможных вещей. Я опять спустился в мою комнату.
*
На следующий день я увидел соседнюю комнату во всём её естестве при свете дня. Я увидел, как рассвет распространяется по ней. Постепенно она начала вырисовываться из своих руин и стала проявляться.
Она расположена и меблирована так же, как моя комната: в глубине, напротив меня, камин с зеркалом над ним; направо кровать; налево, рядом с окном, канапе… Комнаты одинаковые, но моя кончилась, а другая скоро начнётся…
Позавтракав кое-как, я возвращаюсь точно к тому месту, которое меня притягивает, к трещине в перегородке. Ничего. Я вновь спускаюсь.
Здесь душно. Часть кухонного запаха проникает даже сюда. Я останавливаюсь в безграничном просторе моей пустой комнаты.
Приоткрываю, затем распахиваю свою дверь. В коридорах видны двери других комнат, выкрашенные в коричневый цвет, с номерами, выгравированными на медных пластинках. Всё закрыто. Я делаю несколько шагов, которые лишь одни мне слышны, слишком слышны в этом доме, представляющем собой большую недвижимость.
Лестничная площадка длинная и узкая, стена обита имитацией ковровой ткани с тёмно-зелёными разводами, на ней сияет медью газовое бра. Я облокачиваюсь на перила. Один слуга (тот, кто прислуживает за столом, а в данный момент на нём синий фартук и его трудно узнать с этими растрёпанными волосами) спускается, подпрыгивая, с верхнего этажа, держа газеты подмышкой. Дочка госпожи Лёмерсье поднимается, осторожно держась рукой за перила, вытянув вперёд шею наподобие птицы, и я сравниваю её маленькие шаги с фрагментами шагов других людей, которые уходят. Какие-то господин с дамой проходят передо мной, прерывая свой разговор, чтобы я их не слышал, как будто они отказывали мне в милостыне, состоящей из того, что они замышляют.
Эти незначительные события исчезают как сцены комедии при падающем занавесе.
Я двигаюсь сквозь послеполуденное время в омерзительном настроении. У меня впечатление, что я один против всех и что сейчас я брожу внутри этого дома и в то же время за его пределами.
На моём пути в коридоре одна дверь быстро закрылась, приглушив смех захваченной врасплох женщины. Люди сбегают, защищаются. Худший, чем тишина, шум, не имеющий смысла, сочится сквозь тёмные стены. Из-под дверей выползает раздавленный, погубленный луч света, худший, чем тень.
Я спускаюсь по лестнице. Вхожу в салон, куда меня призывает шум разговора.
Несколько мужчин, в группе, произносят фразы, которые я не помню. Они выходят; оставшись один, я слышу, как они спорят в коридоре. Наконец их голоса исчезают.
Потом вдруг появляется элегантная дама, от которой исходит шелест шёлка и аромат цветов и ладана. Она занимает много места из-за своего аромата и своей элегантности.
Эта дама слегка наклоняет вперёд своё красивое удлинённое лицо, украшением которого является очень нежный взгляд. Но я не вижу её как следует, ибо она не смотрит на меня.
Она садится, берёт книгу, листает её, и книжные страницы придают её лицу отблеск белизны и мысли.
Я украдкой рассматриваю её грудь, которая приподнимается и опускается, и её неподвижное лицо, а также живую книгу, которая едина с этой дамой. Цвет её лица столь яркий, что её рот кажется почти чёрным. Её красота меня печалит. Я созерцаю эту незнакомку, с ног до головы, с возвышенным сожалением. Она ласкает меня своим присутствием. Женщина всегда ласкает мужчину, когда приближается к нему и когда она одна; несмотря на множество разновидностей расставаний, между ними всегда происходит жуткое начало счастья.
Но она уходит. С ней покончено. Ничего не было, и однако с этим покончено. Всё это слишком просто, слишком сильно, слишком искренне.
Это приятное отчаяние, которого я не испытывал раньше, меня беспокоит. Со вчерашнего дня я изменился; человеческая жизнь, живая истина, я её знал, как мы все её знаем; я её соблюдал с моего рождения. Я верю в неё со своего рода страхом теперь, когда она появилась передо мной божественным образом.
*
Я вновь поднялся в свою комнату, где длится послеполуденное время, но всё же наступает вечер.
Из своего окна я смотрю на вечер, который поднимается к небу, и это вознесение столь неторопливо, что его видно и одновременно не видно: я смотрю на толпу, мельтешащую на улицах.
Прохожие возвращаются в дома, о которых они думают. Я представляю себе, через эти стены, такой дом, который я, вдали, всё наполняю легкомысленными гостями, едва слышным шумом.
Какой-то звук раздался с другой стороны перегородки… Я карабкаюсь по стене и смотрю в соседнюю комнату, уже всю в серых тонах. Там находится женщина, смутно различимая.
*
Она направилась к окну, так же, как и я только что подходил к моему окну. Это, несомненно, вечное движение тех, кто находится в одиночестве в какой-либо комнате.
Я её вижу всё яснее; по мере того, как мои глаза привыкают, она всё чётче вырисовывается; мне кажется, что она идёт туда из своего рода снисхождения ко мне.
Сейчас, в начале осени, она носит один из тех светлых нарядов, благодаря которым женщины как бы озаряются, ибо ещё имеется достаточно солнца. Блеклое сияние окна покрывает её почти погасшим отсветом. Её платье цвета безграничных сумерек, цвета времени, как в сказках о феях.
До меня доносится веяние исходящего от неё благоухания, аромат ладана и цветов, и по этому благоуханию, представляющему её истинное имя, я её узнаю: это молодая женщина, которая только что находилась возле меня, потом ускользнула. Теперь она там, за своей закрытой дверью, находясь во власти моих взглядов.
Её губы зашевелились; я не знаю, говорит ли она совсем тихо или напевает… Она там, около грустной белизны окна, около отражения окна в зеркале, посреди этой смутно видимой комнаты, которая постепенно блекнет; она там, со своими тёмными глазами и своей тёмной плотью, с ясностью своего лица, которое ласкали столько взглядов с тех пор, как она существует.
Её белая шея, пугающе драгоценная, склоняется вперёд; профиль, совсем близко от окна, к которому она прислонилась лбом, сливается с голубоватой тенью, и кажется, что её мысль была тоже голубой; а колеблющийся над тёмной массой волос слабый ореол показывает, что они белокурые.
Её рот тёмный, как если бы он был приоткрыт. Её рука лежит на оконном стекле вроде птицы. Её корсаж бледного цвета, но достаточно определённого, зелёного или голубого.
Я ничего не знаю о ней, и она столь далека от меня, будто нас разделяли миры или века, будто она была мертва.
Однако нас ничто не разделяет: я около неё, я с ней, я расцветаю на ней, трепеща.
… Мои руки протягиваются, чтобы обнять её. Я такой же мужчина, как другие, всегда готовый восхититься первой появившейся женщиной. Она является наиболее чистым образом женщины, которую любят: той, которую ещё не знают всю, той, которая раскроется, той, которая является единственным живым чудом, существующим на земле.
*
Она оборачивается и проскальзывает в уже ночную комнату как облако, с её округлыми и убаюкивающими формами. Я слышу проникающий вглубь шелест её платья. Ищу её лицо как звезду; но мне больше не видно как её лицо, так и её намерение.
Я стараюсь понять смысл её движений; но они скрыты от меня. Я так близко от неё, но я не знаю, что она делает! Существа, на которых смотрят, когда они не подозревают об этом, кажутся не ведающими, что именно они делают.
Она запирает свою дверь на ключ, и это ещё больше её обожествляет. Она хочет быть одна. Несомненно, она вошла в эту комнату, чтобы раздеться.
Я не пытаюсь себе объяснить обстоятельства её присутствия, тем более я не собираюсь требовать у себя отчёта в преступлении, которое я совершаю, обладая этой женщиной посредством глаз. Я знаю, что мы соединены, и всем моим сердцем, всей моей душой, всей моей жизнью я умоляю её показаться мне.
Кажется, что она размышляет, колеблется. Даже не знаю, за какое искреннее прощение со стороны её личности в целом, но я представляю себе, что она с давних пор ждёт, когда же она останется в одиночестве, чтобы снять с себя покров. Да, она ещё чувствует себя подавленной атмосферой, находящейся снаружи, из-за множества случайных прикосновений к ней прохожих, из-за откровенно разглядывающих её напряжённых лиц мужчин; и, найдя убежище между этих стен, она предполагает, что освободилась от соприкосновений извне, и теперь может снять своё платье.
Я нахожу удовольствие в том, что читаю в ней невинные и плотские мысли; у меня ощущение, что, несмотря на стену, моё тело клонится к её телу.
*
Она подошла к окну, подняла руки, и, вся в сиянии, задёрнула шторы. Полная темнота установилась между нами.
Я её терял!.. Эго была острая боль для моего существа, будто свет вырвался из меня… Я замер с разинутым ртом, подавляя стон, пытаясь различить тень, которая смешивалась с её дыханием…
Она действовала на ощупь, брала предметы. Я догадался, я заметил спичку, которая загоралась на кончиках её пальцев. Медленно проявился её облик. Видно, как едва показывается слабая белизна её рук, её лба и шеи, и её лицо предстало передо мной как лицо феи.
Я не различал контуры черт этого женского лица во время нескольких секунд, когда вдруг возник передо мной слабый источник света в её руках. Она опустилась на колени перед камином, держа пальцами пламя. Я услышал и увидел, как чётко потрескивает сухое дерево в тёмной и холодной влажности. Она бросила спичку не зажигая лампы, и в комнате не было другого освещения, кроме этого света, идущего снизу.
Очаг пламенел, в то же время она ходила туда и обратно перед ним, с шелестом лёгкого ветерка, как перед заходящим солнцем. Видно было, как двигаются силуэт её высокой стройной фигуры, её тёмные руки и золотые с розовым ладони. Её тень стлалась у её ног, дёргалась на стене и летала над ней на охваченном заревом потолке.
Она была окружена вспышками пламени, которое будто поворачивалось к ней. Но она оставалась в своей тени, была ещё спрятанной, ещё скрытой и серой; платье грустно ниспадало вокруг неё.
Она села на диван передо мной. Её взгляд с осторожностью как будто порхал по комнате.
В какой-то момент он встретился с моим взглядом. Она, не ведающая этого, и я посмотрели друг на друга.
Затем её взгляд стал более глубоким, выражающим более пылкое чувство, при мыслях о чём-то либо о ком-то её губы разомкнулись; она улыбнулась.
Рот является на обнажённом лице чем-то оголённым. Кроваво-красный рот, будто постоянно кровоточащий, сравним с сердцем: оно есть рана, и когда видишь рот женщины, он кажется чем-то вроде раны.
И меня охватила дрожь перед этой женщиной, которая приоткрывалась и чья улыбка кровоточила. Диван слегка вдавливался под нажимом её широких бёдер; её стройные колени были сдвинуты, и вся середина её тела имела форму сердца.
… Наполовину растянувшись на диване, она придвинула свои ступни к огню, слегка приподняв юбку двумя руками, и этим движением она открыла свои ноги, выпукло объятые чёрными чулками.
И моя плоть вскричала, ярко выраженная, подобная раскалённому железу, на пределе сладострастия, которое, возрастая, исчезало во мраке, терялось в необычайных глубинах.
Мои пальцы судорожно впились в ладони, взгляд пронзительный, так вот какова она там, почти целиком предлагающая себя, зияющая, доступная — со лбом, погружённым в темноту, в то время как кровавый отсвет, влачащийся по полу, безнадёжно возносился на неё, в неё, подобно человеческому напору!
Подол её юбки опущен как покров. Женщина опять стала такой, какой была. Нет, она сейчас другая. Потому что я мельком видел немного её защищённой плоти, я подстерегаю эту плоть в смешанном сумраке наших двух комнат. Она приподняла подол своего платья, она выполнила великий простой жест, которому мужчины поклоняются, как любой религии, о котором они умоляют, даже если нет какой-нибудь надежды, даже вопреки здравому смыслу, жест замечательный и иногда ослепляющий!
Она снова ходит, и теперь шелест её юбок подобен как бы шелесту крыльев в моей утробе.
Мой взгляд, отвергающий её наивное лицо с застывшей на нём рассеянной улыбкой; отвергающий и напрочь забывающий её душу и мысли, резко выделяет только её формы и хочет её крови, подобно окружающему её и не отстающему от неё огню: но мои взгляды могут лишь упасть к её ногам и слегка коснуться её платья, как языки пламени в очаге, пламени яркого и умоляющего, пламени растерзанного, языки которого возносятся к небу!
Наконец она показала себя до глубины своего естества.
Чтобы разуться, она положила ногу на ногу очень высоко, приоткрыв передо мной пучину своего тела. Она показывала мне свою изящную стопу, заключённую в блестящий ботинок, и, в более матовом шёлковом чулке, своё стройное колено, икры своих ног, просторно расширяющиеся, как изящные амфоры, на хрупких лодыжках. Над подколенной впадиной, в месте, где чулок кончался как бы в белой туманной чаше, возможно, видно немного самого тела: я не отличал бельё от кожи в перемежающемся сумраке и при окружающих её трепещущих вспышках огня. Что это — тонкая ткань исподнего или плоть? Это ничто или это всё? Мои взгляды оспаривали эту наготу в сумраке и при свете пламени. Прислонившись лбом и грудью к стене, опершись ладонями о стену с такой пылкостью, будто я стремился эту стену разрушить и проникнуть через неё, я мучил свои глаза этой неопределённостью, пытаясь, хитростью или силой, смотреть лучше, увидеть больше.
И я всецело погрузился в великую ночь её естества, под нежное, горячее и жуткое крыло её приподнятого платья. Панталоны с вышивкой приоткрывали широкую тёмную щель, полную мрака, и мои взгляды бросались туда, становясь безумными. И они получали почти то, чего они хотели, в этом раскрытом мраке, в этом обнажённом мраке, в самой её сердцевине, среди тонких покровов, которые, воздушно лёгкие и всецело благоухающие ею, являются лишь облаком ладана вокруг середины её тела, — в этом мраке, который в сущности является плодом.
Всё это продолжалось целую минуту. Я был распростёрт на стене перед этой женщиной, которая недавно — я вспоминал её жест — боялась своего отражения, и которая теперь, в безупречном целомудрии своего одиночества, приняла позу девки, которая ластится к разглядывающему её мужчине, завлечённому ею… Будучи чистой, она предлагала себя и как бы извлекала из себя своё естество.
Яркое пламя камина гасло, и я её больше почти не видел, когда она начала раздеваться: именно в ночи скоро произойдёт этот грандиозный праздник с её и моим участием.
Я увидел, как высокая фигура, расплывчатая, безжалостная ко мне, чья красота почти померкла, осторожно двигается, в окружении звуков приятных, ласкающих и негромких. Я заметил, как её руки размашисто двигаются и, при изысканном освещении одного её жеста, проявившего их округлость и гибкость, я понял, что они голые.
То, что только что упало на кровать в виде тонкого шелковистого лоскута, лёгкого и как бы парящего, было её корсажем, который осторожно сжимал её на шее и сильно на талии… Туманная юбка приоткрылась и, опадая к её ногам, выставила напоказ её всю, очень бледную, среди глубин её естества. Мне показалось, что я видел, как она освобождалась от этой блеклой одежды, которая вне её была ничем, и я различал формы её обеих ног.
Я так подумал, быть может, потому, что мои глаза почти ничего больше не видели, не только из-за плохого освещения, но и поскольку я был ослеплён мрачным напряжением моего сердца, пульсированием моей жизни, всем коварством моей крови… Это были не мои глаза, которые настойчиво преследовали возвышенное создание, это скорее была моя тень, которая совокуплялась с её тенью.
Я был будто целиком охвачен воплем: Её живот!
Её чрево! Мне нет никакого дела до её груди, до её ног! — Они меня заботили столь же мало, как её мысли и её лицо, от которых я уже отрёкся. Моим желанием было её чрево, которого я старался достичь как спасения.
Моим взглядам, которые мои сведённые судорогой руки обременяли своей силой, моим взглядам, тяжёлым как плоть, нужно было её чрево. Всегда, несмотря на законы и на одежды, взгляд самца стремится проложить дорогу и проникнуть в сексуальное естество женщин, как пресмыкающееся стремится в свою нору.
Она для меня представляла лишь её секс. Она была лишь таинственной раной, которая открывается подобно рту, кровоточит как сердце и вибрирует как лира. И из неё распространялось благоухание, которое доверху наполняло меня, не искусственное благоухание, пропитывающее её наряды, не окутывающее её благоухание, но исходящий из её глубин аромат дикой природы, обильный, сравнимый с запахом моря — являющийся запахом её уединения, её пыла, её любви, и секретом её чрева.
С вытаращенными и пылко взирающими глазами, похожими на два тусклых отверстия, я торопливо стремился к этому неистовому видению, безудержно влекущему меня. Я становился ожесточённым в моём торжестве. Лее рот представлял собой долгий поцелуй, который постепенно ослабевает, и я сложил мои губы в виде долгого бесплодного поцелуя.
В то время она оставалась неподвижной, — необъяснимая, обезличенная.
В неистовом порыве я хотел реально её коснуться… Разрушить эту стену или выйти из моей комнаты, выбить дверь, броситься на неё…
Нет, нет, нет! Интуиция меня безоговорочно вернула к здравомыслию… Я едва ли бы успел её коснуться. Меня бы обуздали — испорченная репутация, тюрьма, позор, беспросветная нищета, всё. Жуткий страх охватил меня, настолько всё это было близко; содрогание пригвоздило меня к тому месту, где я стоял.
Но быстро возникла другая мысль, одна мечта терзала мою плоть: когда пройдёт первый испуг, она, может быть, не станет сопротивляться: ей передастся заразительность моих действий, она, как некоторые другие, воспламенится от моего прикосновения, предавшись признательному распутству…
Нет, ещё раз нет! Ибо тогда это была бы девка, а девок можно найти столько, сколько пожелается. Легко заиметь в руках женщину и делать с ней что угодно: это кощунство, на которое установлены расценки. Существуют даже дома, где, заплатив, можно, через двери, смотреть, как занимаются любовью. Если бы это была девка, то это больше не была бы она — которая ангельски одинока.
Необходимо, чтобы я вбил себе в голову и в тело: я воспринимаю её столь совершенной лишь потому, что она отделена от меня и что мы оторваны друг от друга. Одиночество придаёт ей сияние, но также торжествующе её защищает. Её разоблачение заключается в её девственной подлинности, во всеобъемлющем одиночестве, царицей которого она является, и в живущей в ней уверенности в этом одиночестве. Издали она проявляет себя через свою добродетель и не даёт себе волю: она подобна шедевру; она остаётся такой же отдалённой, такой же незыблемой, в стороне от бездны и безмолвия, как статуя и музыка.
И всё, что меня привлекает, мешает мне к ней приблизиться. Надо, чтобы я был несчастным, надо, чтобы я был одновременно вором и жертвой… У меня нет иного средства, чем лишь желать, как превзойти самого себя силой моего желания, мечты и надежды, желать и управлять своим желанием.
Настолько сильно действующая и жестокая обдумываемая мною альтернатива, что я на минуту отвернулся, и в безгранично зияющей перед моими глазами дыре мне пришлось упустить слабые шумы, производимые ею… Неужели я схожу с ума? Нет, это истина является безумной.
Всем моим телом, всей моей мыслью я преодолеваю моё плотское изнеможение, моя плоть умолкает и больше не мечтает, и поверх моих тяжёлых руин я начинаю смотреть.
Она снова одевается, снова вся скрыта.
Теперь она зажгла лампу. Снова надела платье; она прячет от меня все свои прекрасные секреты, которые скрывает от всех; она вернулась в траур своей стыдливости.
Она меня одаряет ещё несколькими разрозненными движениями. Вот она измеряет себе талию; накладывает немного румян у кромки уха, затем стирает их; улыбается себе в зеркале дважды по-разному и даже на мгновение принимает разочарованную позу. Она изобретает тысячу небольших движений, как бесполезных, так и полезных… У неё обнаруживаются кокетливые жесты, которые, как жесты целомудрия, приобретают своего рода строгую красоту, будучи исполненными в одиночестве.
… Затем, в момент, когда она, будучи готовой и чудесным образом как бы окружённой защитной оградой, тут же внимательно осмотрела себя последним критическим взором — наши взгляды снова встречаются.
Она опёрлась одной рукой на стол, где горит лампа без абажура… Её лицо и руки блестят, и свободное лучеиспускание лампы омывает более ярким сиянием её подбородок, овал её лица, её глаза снизу.
Я совсем её не узнаю, когда она возникает из тени с этой солнечной маской; но я никогда не видел тайны столь близко… Я замираю на месте, весь окутанный её сиянием, весь в волнении от неё, весь потрясённый её открытым присутствием, как если бы я был в неведении до сих пор, что же такое женщина.
Так же, как и недавно, она улыбается, прежде чем её взгляд расстаётся со мной, и я чувствую необыкновенную ценность этой улыбки и великолепие этого лица…
Она уходит… Я ею восхищаюсь, я её почитаю, я её обожаю: я по отношению к ней что-то вроде любви, которая ничего реального не разрушит и которая не имеет никакого основания ни для того, чтобы надеяться, ни для того, чтобы покончить с этим. Нет, в действительности я не знал, что же такое женщина.
Она не присутствовала на ужине. Она уехала из этого дома на следующий день.
Я её вновь увидел в тот момент, когда она уехала. Я находился в самом низу лестницы, в полусвете вестибюля, когда перед ней предупредительно усердствовал персонал. Она спускалась; её рука, такая изящная, в белой перчатке, вспархивала над чёрными блестящими перилами как бабочка. Её ступня тянулась вперёд, маленькая и блестящая. Она мне показалась менее высокой, чем накануне, но во всём похожей на ту, которую я впервые заметил. Её рот был таким маленьким, что казался уменьшенным ею. Она была одета в серо-жемчужные тона, в шелестящее платье… Она проходила, она уходила, она исчезала, благоухающая…
Она слегка коснулась меня; она могла бы меня видеть в этот момент, но, конечно, не видела — и однако, в тени наших комнат, у нас обоих была единая улыбка! Она опять стала как закрытый источник света, безжалостной, какими являются люди, которых встречаешь среди других. Между нами не было стены; было бесконечное пространство и вечное время; были все силы мира.
Такой я её воспринял при моём последнем взгляде — будучи в этот момент без чёткого понимания ситуации, ибо никогда не понятен любой уход. Я её больше не увижу, Столько прелестей скоро потускнеют и рассеются; столько красоты, нежной слабости, столько счастья были утрачены. Она медленно уходила вдаль, к неопределённой жизни, затем к определённой смерти. Какими бы ни были её дни, она направлялась к своему последнему дню.
Это всё, что я мог сказать о ней…. Этим утром, когда дневной свет окружает меня, придав каждой детали пустынную чёткость, моё сердце бьётся и стонет. Всюду пустое пространство. Когда что-то в самом деле закончилось, не оказывается ли, что всё кончено?
Я не знаю её имени… Она отправится в свою судьбу, как я в свою. Если бы наши оба существования соединились, они бы совсем не познали друг друга; теперь же что за ночь! Но я никогда не забуду несравненный вечер, когда мы были вместе.
IV
Этим утром я думаю о позавчерашнем столь замечательном видении. Но я уже вспоминаю о нём менее эмоционально; оно уже немного удалилось из моего сердца, ибо прошёл целый день. Неужели она умрёт, а я так ничего для неё и не сделаю?
Меня охватывает одно желание: написать ей, окончательно зафиксировать все подробности того, что я ощущал, чтобы с течением времени они бы не рассеялись походя, как пыль.
Но тотчас белизна бумаги вызывает у меня забвение того, что я собираюсь высказать, лёгкое помрачение, в котором расплывается точность моих воспоминаний.
Благодаря напряжённому и без конца восстанавливаемому вниманию, несмотря на возрастающую усталость позади глаз, я пишу, пишу всё. Я прихожу в возбуждение. Полагаю, что излагаю всё точно как было на самом деле. Затем я перечитываю, — и это всего лишь слова, распростёртые передо мной.
Чрезвычайное стеснение в груди, трагическое простодушие, напряжённая и душераздирающая гармония — где всё это? Моя писанина не является живой. Это решётка из слов о том, как всё было, вот фразы, чёрные и равномерные, через весь лист бумаги, подобные звеньям цепи.
Как сделать так, чтобы из этих мёртвых знаков возникла истина?
Я попытался обойти эту трудность. Искал подробности типичные, выразительные… Вспоминая впечатление, произведённое ею на меня, когда я её с самого начала увидел в свете окна, я хотел этого добиться: «На ней было нечто в голубых, зелёных, жёлтых тонах.» Такого никогда не было; эта детская пачкотня не есть истина, я её уничтожаю… Очень важно описать её тело. Я со всей тщательностью погружаюсь в это, делаю сравнения с античной статуей. Перечитав написанное мною, я в гневе одним росчерком уничтожаю эту мазню.
Я пытаюсь употреблять резкие выражения, более энергичные, как мне кажется, и постепенно дохожу до того, что выдумываю подробности для достижения остроты восприятия: «Она принимала похотливые позы…».
Нет! нет! Это неправда!
Всё это инертные слова, которые допускают существование величия того, что было, не соприкасаясь с ним; это бесполезные и напрасные звуки; это как лай собаки, шум ветвей при дуновении ветра.
Я раскрыл ладонь, выпустив из неё покатившуюся ручку, будучи подавленным бессилием, поражением, мрачным безумием.
Как это случилось, что невозможно рассказать об увиденном? Как это случилось, что истина проносится мимо нас, словно это не была истина, и что, несмотря на свою искренность, невозможно быть искренним? В памяти не воскрешается что-либо, когда оно названо своим именем. Слова, слова, напрасно их знают с детства, неизвестно, что же это такое.
Мой трепет, моя меланхолия, моё отчаяние утрачены. Я приговорён к забвению. Передо мной будут проходить, не глядя на меня или не видя меня. Никого не будет заботить то, что я мог бы таить в себе. Мне придётся быть на земле лишь верующим.
*
Несколько дней я пребывал, ничего не видя. Эти дни были жаркими. Вначале небо было серым и дождливым; теперь сентябрь пламенел, завершая пятницу… И вот уже целую неделю я в этом доме!
Однажды после плотного завтрака, сидя на стуле, я, в полудреме, всецело предавался ощущению сказки о феях.
… Опушка леса; в лесной чаще, на ковре тёмно-изумрудного цвета, солнечные круги; там, у края равнины, холм, а над курчавящейся листвой, жёлтой и тёмно-зелёной, виднеются часть поверхности стены и башенка, и всё это расположено в шахматном порядке, как на стенном ковре… Приближался паж, одетый как птица. Жужжание мух. Это был отдалённый шум охоты Короля. Скоро произойдёт нечто необычайно приятное.
*
Назавтра, после полудня, опять было солнечно и знойно. Я вспомнил, как было так же после полудня много лет тому назад, и мне показалось, что я живу в это исчезнувшее время, — как если бы разразившаяся жара стирала время, душила всё остальное под своим покровом.
Соседняя комната была почти тёмной… Там закрыли ставни. Через двойные шторы, сшитые из тонкой ткани, я видел окно, расчерченное поперечными блестящими линиями, наподобие решётки угольной топки.
В знойной тишине дома, в замкнутой всеохватывающей дремоте, тщетно раздавались один за другим отдельные смешки; голоса невозможно было расслышать, как вчера, как всегда.
Из этого отдалённого шума чётко выделился звук шагов. Они направлялись ко мне. Я прислушался к этому нарастающему звуку… Дверь открылась, произведя ослепляющее впечатление, будто сам поток света её распахнул, и появились две щуплые тени, как бы подточенные светом.
Казалось, что их кто-то преследует. Они заколебались на пороге, совсем маленькие, в то же время будто бы вставленные в раму, затем вошли.
Я услышал, как закрылась дверь; комната была живой. Я вглядывался в пришельцев; различал я их слабо сквозь красное и тёмно-зелёное сияние, которым наполнила мои глаза вспышка света при их входе; девочка и мальчик двенадцати или тринадцати лет.
Они сели на канапе и, с их почти одинаковыми лицами, молча смотрели друг на друга.
*
Послышался голос одного из них, прошептавший:
«Видишь, никого нет».
И рука указала на кровать без постельного белья, на пустые вешалки для одежды, на пустой стол: тщательная пустота незанятых комнат.
Затем, на моих глазах, эта рука начала дрожать как лист. Я услышал биение моего сердца. Раздались голоса.
«Мы одни… Нас не видели.
— Подумать только, мы впервые одни.
— Однако мы всё время знаем друг друга…»
Раздался тихий смешок.
Казалось, что для них необходимо было это уединение, первый этап тайны, к которой они шли вместе. Они скрылись от других; они освободились от окружавших их других. Они создали защищённое уединение. Но было ясно видно, что, однажды найдя это уединение, они не знали, чего же ещё добиваться.
*
Тогда я услышал лепет, произнесённый со значительным содроганием, почти отчаянием, почти рыдание:
«Мы очень любим друг друга…»
Потом раздалась произнесённая с трепетом, подбирая слова, нежная фраза, неуверенная, напоминающая очень маленькую птичку:
«Мне хотелось бы любить тебя больше».
Видя их настолько приближенными друг к другу в этом тёплом окружающем их сумраке, который скрывал их возраст, отражённый на их внешности, можно было подумать, что видишь двух любовников, которые льнут друг к другу.
Два любовника! Они и мечтали стать ими, не зная, что это такое.
Одним из них было произнесено это слово: впервые. Впервые им представлялось, что они были одни, хотя они жили рядом.
Это, возможно, даже несомненно, впервые, когда два друга детства хотели выбраться из дружбы и из детства. Эго впервые, когда жажда желания удивляла и тревожила два сердца, которые спали вместе…
*
В какой-то момент они поднялись, и тонкий луч солнца, тянувшийся над ними и падающий к их ногам, осветил их внешность, залил светом их лица и волосы таким образом, будто их присутствие осветило комнату.
Собирались ли они уйти, покинуть меня? Нет, они снова сели; всё опять впало в сумрак, в тайну, в истину.
… Созерцая их, я ощущал смутную смесь моего прошлого и прошлого рода людского. Где они были? Повсюду, потому что они были… Они были на берегу Нила, Ганга или реки Кидн[1], на берегу вечного течения эпох. Это Дафнис и Хлоя около миртового куста, при греческом рассвете, все освещённые зелёным блеском листвы, и их лица отражаются друг в друге. Их пространный небольшой диалог шелестит как два пчелиных крыла вблизи прохлады фонтанов, при жаре, истребляющей поля, в то время как вдали движется повозка, гружёная снопами и лазурью.
Открывается новый мир; трепещущая истина здесь. Они в смятении, они боятся внезапного появления какого-либо божества, они несчастны и счастливы; они в такой близи, какая возможна, принеся друг другу столько, сколько смогли. Но они не догадываются о том, что они приносят. Они слишком малы, слишком молоды, они ещё недостаточно существуют; каждый из них для самого себя является подавляемым секретом.
Как все существа, как я, как мы, они хотят того, чего у них нет, они выпрашивают подаяние. Они просят милосердия у самих себя, они просят помощи у своей сущности и у своей личности.
Он, уже мужчина, уже истощённый этим спутником женского рода, обращённый к ней, влачащийся за ней, протягивает к ней свои еле различимые и неловкие руки, даже не осмеливаясь на неё посмотреть.
Она, уже женщина, запрокинула голову назад, на спинку канапе, откуда виднелось её лицо с сияющими глазами, она слегка полновата и вся порозовевшая, её сердце вогнало её в краску и остудило; кожа её шеи, атласная и напряжённая, трепещет между её лицом и грудью, это драгоценное и нежное место её пульсации. Полузакрытая, внимательная, немного сладострастная, в той мере, в какой из неё уже исходит сладострастие, она кажется розой, которая вдыхает собственный аромат. Из-под платья, охватывающего её тело, превращаемое таким образом в своего рода букет, видны до колен её стройные ноги, в нитяных жёлтых чулках.
Я же не мог оторвать глаза от их движений и упивался этим зрелищем, представляя собой фигуру, присосавшуюся к их группе как вампир.
*
После длительного молчания, он прошептал:
«Ты хочешь, чтобы мы говорили друг другу «вы»?.
— Почему?…»
Казалось, что он погрузился в усиленное размышление.
«Чтобы снова начать», — сказал он наконец.
Он повторил:
«Вы хотите?»
Услышав эту новую форму его речи, она явно вздрогнула при слове: «вы», как при своего рода первом поцелуе.
Она отважилась:
«Как будто это что-то прикрывавшее нас, и что снимают…»
Теперь он больше не осмеливался:
«Вы хотите, чтобы мы поцеловались в губы?»
Со стеснённым дыханием, она не смогла полностью улыбнуться.
«Я хочу», — сказала она.
Они схватились за руки, за плечи и протянули друг к другу губы, назвав друг друга совсем тихо, будто их рты были птицами.
«Жан…
— Элен…»
Это первое, что они придумали. Поцеловать того, кто целует, — не это ли самая нежная небольшая ласка, которую можно найти, и наиболее тесное слияние? И потом, это настолько запретно!..
Мне во второй раз показалось, что их группа больше не имела возраста. Они были похожи на всех любовников, когда держались за руки, с тесно прижатыми друг к другу лицами, трепещущие и ослеплённые, во мгле поцелуя.
Однако, они остановились, оторвались от ласки, пользоваться которой они ещё не умели.
Они разговаривали, и их рты продолжали оставаться такими невинными. О чём? О прежнем, об этом прежнем, столь близком, столь коротком.
Они выходили из рая детства и неведения. Они говорили о доме и о саде, где оба жили.
Этот дом их всецело занимал. Он был окружён стеной сада; причём таким образом, что с дороги виднелся лишь верх его крыши, не видно было, что в нём делалось.
Они пробормотали:
«Комнаты, когда мы были маленькими, казались такими большими…
— Шагать там было менее утомительно, чем в любом другом месте.»
Если им поверить, то между теми стенами имелось нечто спасительное и невидимое, распространённое повсюду; нечто вроде доброго Бога прошлого… Она вполголоса напела музыкальную мелодию, слышанную там, и сказала, что музыка вспоминается лучше, чем люди.
Они опять впали в прошлое из-за естественной нежности их физической крепости; они хладнокровно копались в памяти.
«Недавно, накануне отъезда, со свечой в руке, совсем один, я прошёл по квартире, которая едва просыпалась, чтобы посмотреть, как я иду…»
В саду, столь ухоженном и столь разумном, думали только о цветах и лишь о них. Всматривались и видели пруд, крытую аллею, и вишнёвое дерево, которое зимой, когда лужайка белая, кажется покрытым цветами.
Ещё вчера они были в этом саду, как брат и сестра. Теперь же казалось, что жизнь вдруг стала серьёзной, и что они больше не умели играть. Было видно, что они хотели убить прошлое. В старости прошлому позволяют умереть, когда же молоды и сильны, прошлое убивают…
Она выпрямилась, сказав:
«Я больше не хочу вспоминать.»
Он добавил:
«Я больше не хочу, чтобы мы были похожими. Я больше не хочу, чтобы мы были как братья.»
Постепенно у них открываются глаза:
«Трогать друг друга только руками! — прошептал он с дрожью.
— Быть братьями, это ерунда.»
Пришло время превосходных волнующих решений и запретных плодов. Прежде ни он, ни она не принадлежали друг другу; пришло время, когда они принялись отрекаться от всего, чтобы сделать из себя то, что им хотелось.
Они уже немного стыдились и осознавали самих себя.
Несколько дней тому назад, к вечеру, они испытали огромное удовольствие неповиновения, выйдя из сада вопреки запрету своих родителей.
«Бабушка пришла, чтобы с высоты нашего серого крыльца позвать нас обратно…
«Но мы ушли вместе; мы проникли за ограду в том месте, где обычно кричит птица и где имеется проход. Птица улетела вместе со своим криком. Нет ветра и почти нет света. Ветви деревьев молчали, несмотря на их чувствительность. Пыль на земле была неподвижной. Тень нас обволокла собой так нежно, что мы почти разговаривали с ней. Мы были испуганы, видя, как наступает ночь. У предметов больше не было цвета, лишь немного светлого в темноте; цветы, дорога, даже колосья были серебряными… И это был тот раз, когда мой рот ближе всего придвинулся к вашему рту.
— Ночью, — сказала она, — душа возвышена в излиянии красоты, ночь лелеет ласки…
— Я взял вас за руку и понял, что вы вся живая.
«Прежде я говорил «моя кузина Элен», но я не знал, что я имею в виду, говоря так. Теперь, когда я скажу: она, это будет всё…»
Они снова соединили губы. Их рты и их глаза были как у Адама и Евы. Я воскресил в памяти бесконечный прародительский пример, из которого святая история и человеческая история вытекают как из фонтана. Они бродили в пронизывающем свете рая, ничего не зная; они существовали так, будто их не было. Когда же, — в результате триумфа любопытства, запрещённого, однако, самим Богом, — они узнали секрет, открыли несущее ласки разделение полов и смутно осознали великую жажду плоти, небо померкло. Уверенность в горестном будущем снизошла на них; ангелы, подобно грифам-санитарам, их изгнали; они скитались по земле, день за днём, но они создали любовь, заменили божественное изобилие бедностью существования друг с другом.
Эти два ребёнка заняли определённую позицию в вечной драме. Они поговорили между собой и возвратили обращению на «ты» всю его вновь завоёванную важность:
«Я бы хотел любить тебя больше… особенно хотелось бы любить тебя сильнее, но я не знаю, как… Я хотел бы сделать тебе больно, но я не знаю, как.»
Они больше ничего не говорят, как если бы у них больше не было слов. Они довели друг друга до предела, и видно между ними их дрожащие руки.
Они повинуются этому вдохновению их рук; они идут наощупь к странному и трагическому счастью, к счастливой ошибке, совершаемой в то же время, к сплетению, которое ведёт к тому, что два существа возобновляют жизнь, будучи в интимном смешении, подобными единому бесформенному существу.
Я не видел это отчётливо… мне показалось, что он возложил свои руки на неё, в то время как она, с сияющими глазами, ждала. Мне показалось, что в жгучем сумраке, который их прятал, он был наполовину раздет, и что среди развороченной, раздвинутой одежды выступала её нагота… Цветок странный, глубокий, который то же самое, что её чрево, что вся её плоть и что её сердце, и который существует между ними как живая тайна, как чудо, как дитя.
…Несомненно, он приподнял её платье, ибо я воспринял эти совсем тихо излившиеся из него слова, сбивчивые, приглушённые, благоговейные, произнесённые в необыкновенной тишине:
«Это твой настоящий рот.»
*
Я же был весь охвачен трепетом, глядя на них, в то время как эта пугающая любовь, поразительная любовь, истинная, терзала моё тело на стене… Им было страшно, как будто эта захватывающая дух безудержность их сжигала, сводила с ума, и они поднялись. С этим было покончено. Мучительно-сладостное приключение, прелюдия к которому была случайно разыграна на моих глазах, должно было как продолжиться, так и закончиться в другом месте.
Лишь только они поднялись, открылась дверь. Входит и наклоняется над ними их старая бабушка. Она приходит из серопризрачного прошлого. Она ищет их, будто они заблудились. Она зовёт их вполголоса… По необычайному совпадению, гармонирующему с их состоянием, она придала своей интонации бесконечную нежность, почти — о чудо! — грусть.
«Вы здесь, мои дети?»
Она говорит с лёгкой усмешкой, без задней мысли:
«Что это вы здесь делаете?… Пойдёмте, вас ищут…»
Она старая, увядшая; но у неё ангельский облик в этом её платье, закрытом до шеи. Рядом с ними, готовящимися к необъятной жизни, она отныне стала как ребёнок: бездеятельная, бесполезная…
Они бросаются ей в руки, поднимают свои лбы к её покинутому святому рту. Кажется, что они прощаются с ней навсегда.
*
Она уходит. И через мгновение уходят они: соединённые невидимой и величественной связью зла; настолько соединённые, что они больше не держатся за руки, как при входе. Но на пороге они смотрят друг на друга.
И пока комната как своего рода убежище была пуста, я думал об их взгляде, об их первом любовном взгляде, который я увидел.
Никто до меня не смог увидеть этот первый взгляд. Я был рядом с ними, но далеко от них. Я понимал и читал его, не будучи ни вовлечённым в головокружительное действие, ни растерянным от впечатления. Именно потому я видел этот взгляд. Они же не знают ни когда он начался, ни что он именно первый; потом они его забудут; важные успехи развития их сердец скоро разрушат эти прелюдии. Больше невозможно знать свой первый взгляд, как невозможно знать свой последний взгляд.
Я буду помнить, когда они больше не вспомнят.
Мне же не помнится мой первый взгляд, мой первый любовный дар. Однако это было. Это божественное простодушие исчезло из меня. Боже мой, что же, однако, равноценное ему я сохраняю у себя! Маленькое существо, которым я был, полностью умерло на моих глазах. Я его пережил, но забвение меня мучило, затем победило, печаль жизни меня погубила, и я не знаю ничего из того, что оно знало. Я вспоминаю что бы то ни было, наобум, но самое прекрасное и самое нежное ушло в небытие.
Ну что же, этот слишком нежный гимн, который я только что прослушал, весь полный бесконечного и бьющий через край новыми улыбками, эту драгоценную песнь я беру, я имею, я сохраняю. Он бьётся в моём сердце. Я украл, но я спас истину.
V
В течение дня комната оставалась пустой. Дважды у меня была большая надежда, затем разочарование.
Ожидание стало моей привычкой, моим ремеслом. Я откладывал свидания; отсрочивал мероприятия, старался выиграть время с риском поставить под угрозу моё положение; я организовывал свою жизнь как для новой любви. Я покидал мою комнату лишь для того, чтобы спуститься к общему столу, где ничто меня больше не развлекало.
На следующий день я увидел, что комната была приготовлена для приёма нового постояльца; она была в ожидании. Я сделал тысячу предположений насчёт того, кем мог бы быть этот гость, в то время как она хранила свой секрет, как некто мыслящий.
Наступили сумерки, затем вечер, который её увеличил, ничего в ней не меняя, и я уже начал приходить в отчаяние, когда во мраке приотворилась дверь, и я заметил на пороге силуэт человека.
*
Он был плохо различим на фоне вечера.
Чёрная или с чёрным оттенком одежда; будто обтрёпанные манжеты молочной бледности, откуда свешивались серые ладони; белый воротник, немного более яркий, чем всё остальное. На его круглом и сероватом лице словно вырыты тёмные углубления глазных впадин и рта; под подбородком тенистая выемка; лоб золотистого цвета смутно блестел; скула подчёркивалась тёмной чертой. Можно было сказать, что это скелет. Кем было это существо, облик которого представлял собой такую чрезмерную простоту?…
Он приблизился, стал более живым. Я увидел, что он был красив.
Он имел привлекательное и серьёзное лицо, окружённое небольшой чёрной бородой, блестящие глаза и высокий лоб. Его размеренные движения были отмечены высокомерной грацией.
Он продвинулся вперёд на два шага; затем обернулся к двери, оставшейся приоткрытой. Тень от двери подрагивала, обрисовался некий силуэт, который стал более объёмной фигурой; маленькая рука в чёрной перчатке вцепилась в створку двери, и вопросительно глядящая женщина проникла в комнату.
Она, судя по всему, на улице шла за ним в нескольких шагах позади. Они не хотели войти вместе в эту комнату, где они оба укрывались, чтобы избежать какого-то преследования.
Она толкнула дверь, налегла всем телом на закрывшуюся створку, чтобы замкнуть её плотнее, словно во имя своей жизни. И медленно повернула к нему голову, будучи, как мне показалось, на минуту парализованная страхом, что это был не ом… Они пристально посмотрели друг на друга; и между ними пронёсся страстный и продолжительный возглас, почти безмолвный, прокатившийся от одного к другому, которым будто вновь открылась их общая рана.
«Это ты!
— Это ты!»
Она была почти в обмороке. Она рухнула ему на грудь, словно повергнутая на него бурей. У неё было как раз столько сил, чтобы упасть ему на руки. Я увидел две большие бледные руки мужчины, раскрытые, слегка сжатые, поддерживающие спину женщины. Что-то вроде отчаянного трепетания овладело им, будто в комнате находился огромный ангел, который бесконечно бился и тщетно пытался бежать; и мне казалось, что эта комната, переполненная вечером, слишком мала для этой пары.
«Нас не видели!»
Это была та же фраза, которая на днях произнесена двумя детьми.
Он сказал ей: «Иди сюда». Повёл её к дивану около окна. Они сели на красный бархат. Были видны их руки, соединяющие их как оковы. Они остались там, как бы погружённые вглубь дивана, собрав вокруг себя всю тьму мира, возрождаясь там, вновь начиная существовать, вновь обретя друг друга в их стихии ночи и уединения.
Какое начало, какое начало! Какой натиск проклятия!
Когда замысел супружеской измены предстал перед моими глазами, с появлением на пороге женщины, очевидно преследуемой на пути к нему, я подумал, что буду присутствовать при безмятежной радости, не без красоты в её изобилии, при дикой и животной радости, значительной как сама природа. Напротив, это свидание походило на душераздирающее прощание.
«Мы так и будем всегда бояться?…»
Она была с трудом им немного успокоена, и сказала это, глядя на него, как если бы он в самом деле вскоре ответил.
Она вздрогнула, объятая тьмой, сжимая и лихорадочно массируя своей ладонью руку мужчины, — её бюст приподнят, обе руки напряжены. Видно было, как её грудь поднималась и опускалась подобно морю. Они держались друг за друга, соприкасались друг с другом; но остаток страха устранял у них мысль о ласках.
«Всегда страх… всегда страх… всегда… Вдали от улицы, вдали от солнца, вдали от всего… Я же так хотела светлой участи и яркого дневного света!» — сказала она, глядя на небо; и её профиль наполовину озарился, пока звучали эти слова.
Они боятся. Страх влияет на них, их пронизывает. Их глаза, их нутро, их сердца охвачены страхом. Особенно боится их любовь.
… Хмурая улыбка скользнула по лицу мужчины; он внимательно посмотрел на свою подругу и пробормотал:
«Ты думаешь о нём…»
Прижав к щекам руки, облокотившись на колени, с выступающим вперёд напряжённым лицом, она теперь не ответила.
Да, будучи пылкой, повинующейся, как малое дитя, она смотрела вдаль, в направлении того, кого здесь не было,
Она сгибала плечи перед этим образом, как если бы она его умоляла, отводя глаза, и получала от него божественный отсвет. Тот, которого нет здесь, тот, которого обманывают и который существует. Оскорблённый, раненый, господствующий. Тот, который повсюду, за исключением того места, где находятся они, который занимает необъятность внешнего мира и имя которого заставляет их согнуть шею; тот, из-за которого они терзаются.
Будто их стыд и страх были из тьмы, ночь опускалась на этого мужчину и эту женщину, которые скоро тщательно скроют своё объятие в этой комнате как в могиле, где обитает потусторонний мир.
*
Он сказал ей: «Я люблю тебя!»
Мне были отчётливо слышны эти великие слова. Я люблю тебя! Я вздрагивал всю мою жизнь, встречая такие замечательные слова, которые высказывались этими двумя уже почти соединившимися существами. Я люблю тебя! Слова, предлагающие сердце и плоть, полностью откровенный клич сотворённого существа и процесса сотворения: Я люблю тебя! Я видел любовь лицом к лицу.
Затем мне показалось, что искренность исчезала в торопливых бессвязных словах, которые он произнёс потом, подойдя и вплотную прильнув к ней. Можно было предположить, что он хотел отделаться от необходимых фраз и что инстинктивно он торопился, как мог, приступить к ласкам.
«Видишь ли, мы рождены друг для друга… Между нашими душами имеются узы братства, которое неизбежно должно победить. Невозможно больше нам мешать познать друг друга и принадлежать друг другу, как невозможно будет помешать нашим губам соединиться в момент, когда они приблизятся друг к другу. Какое нам дело до моральных условностей, социальных разделений… Наша любовь создана из бесконечности и вечности.»
Она сказала: да, будучи убаюканной его голосом.
Но я, который их слушал внимательно, я точно услышал, что он лгал либо он запутался в словах… Любовь становилась идолом, вещью. Он кощунствовал, напрасно ссылался на бесконечность и вечность, которую он презрительно чтил, с повседневной совершенно заурядной молитвой
Они прекратили изрекать банальности… После пребывания в задумчивости, женщина подняла голову и ею были произнесены слова извинения, восхваления; более того: слова истины:
«Я была слишком несчастной…»
*
«Вот уже давно…», — начала она.
Это было её произведение искусства, это её поэма и её молитва — снова и снова повторять эту историю, тихо и торопливо, как в исповедальне… Чувствовалось, что это удавалось ей естественно, без перехода, настолько это её всю переполняло в моменты, когда они были одни.
… Она была одета просто. Сняла свои перчатки, жакет и шляпу. На ней была тёмная юбка, красная блузка, на которой сверкала позолоченная цепочка.
Это была женщина лет тридцати, с правильными чертами лица, с тщательно уложенными шелковистыми волосами; мне казалось, что я её уже знал или что я её бы не узнал.
Она громким голосом стала говорить о себе, вспоминать крайне тяжёлое прошлое.
«Что за жизнь я вела! какое однообразие, какая пустота! Маленький городок, дом, салон, тут и там расставленная в определённом порядке мебель, которая никогда не меняла места, подобно надгробным камням… Однажды я попыталась иначе расположить стол в середине. Я не смогла.»
Её лицо побледнело, стало светлее.
Он слушал её. На его столь утончённом лице блуждала терпеливая смиренная улыбка, которая скорее походила на слегка мучительную усталость. Ах! он был в самом деле красив, хотя и немного озадачивающим, с его большими глазами, которые, как чувствовалось, были обожаемы, с его висячими усами, с его томной отрешённой наружностью. Он казался одним из этих приятных личностей, которые слишком много думают и которые причиняют зло. Казалось, что он считал себя выше всего и был способен на всё… Немного рассеянно он слушал то, что она говорила, но однако, возбуждённо желая её, он смотрел на неё с выжидательным видом.
… И внезапно с моих глаз спала пелена, действительность обнажилась передо мной: я увидел, что между этими двумя людьми имелось огромное различие, представляющее собой бесконечное разногласие, воспринимаемое мной с возвышенным чувством по причине его глубины, но столь хватающее за душу, что это мне терзало сердце.
Его побуждения заключались лишь в том, что он желал её, её же побуждением была единственная потребность выбраться из своей жизни. Их чаяния не были одинаковыми; их пара, на вид вроде бы единая, на деле таковой не являлась.
Они не говорили на одном языке; когда они разговаривали об одних и тех же вещах, то совершенно не слышали друг друга, и, на моих глазах, их союз оказался таким разобщённым, словно они никогда не знали друг друга.
К тому же он не говорил то, что думал; это чувствовалось по звучанию его голоса, даже по обаянию его интонации, по его манере произносить нараспев слова: он считал, что нравится ей, и он лгал. У него было явное превосходство над ней, но она его превосходила своего рода гениальной искренностью. В то время как он был хозяином своих слов, она своими словами приносила себя в жертву.
… Она описывала окружающую действительность своей прошлой жизни.
«Из окна спальни и из окна столовой я видела площадь. В центре фонтан с тенью у его подножья. Я там смотрела целый день на эту маленькую площадь, белую и круглую как циферблат.
«… Почтальон регулярно бездумно проходил через неё; перед воротами арсенала солдат ничего не делал… И больше никого не было, когда звонили в полдень, наподобие похоронного звона. Я особенно помню этот похоронный полуденный звон: середина дня, высшая степень тоски.
«Ничто, ничто со мной не случалось. Ничто со мной не происходило. Будущее больше не существовало для меня. Если мои дни должны были так продолжаться, то ничто не отделяло меня от моей смерти — ничто! Ах! ничто!.. Тосковать это значит умереть. Моя жизнь была мертва, но однако следовало её прожить. Это было самоубийство. Другие убивают себя из оружия или ядом; я же убивала себя минутами и часами.
— Любимая! — воскликнул мужчина.
— Тогда, благодаря тому, что я видела, как дни рождаются утром и поглощаются вечером, мне было страшно умирать, и этот страх был моей первой страстью… Часто, во время моего пребывания в гостях, либо ночью, либо когда я возвращалась к себе после прогулок, вдоль стены женского монастыря, я была охвачена трепетом от надежды по причине этой страсти!
«Но кто бы меня вытащил оттуда? Кто бы меня спас от этого невидимого крушения, которое я сама замечала лишь время от времени? Вокруг меня был своего рода заговор, состоящий из зависти, из злобы и из необдуманности… Всё, что я видела, всё, что я слышала, пыталось меня подтолкнуть на правильный путь, на мой жалкий правильный путь.
«… Госпожа Марте, ты знаешь, моя единственная немного мне близкая подруга, старше меня лишь на два года, говорила мне, что надо довольствоваться тем, что имеешь. Я ей отвечала: «Тогда это конец всего, если следует довольствоваться тем, что имеешь. Смерти больше нечего делать. Разве вы не понимаете, что эти слова заканчивают жизнь?… Вы в самом деле верите в то, что вы говорите?» Она ответила: да. Ах! гнусная женщина!
«Но было недостаточно бояться, мне следовало ненавидеть эту тоску. Как произошло, что я заимела эту ненависть? Я не знаю.
«Я больше себя не узнавала, я больше не была собой, столь велика была у меня потребность в чём-то ином. Я даже больше не ведала, как меня звали.
«День тому назад, я помню (однако я не злая), когда я с наслаждением мечтала, чтобы мой муж умер, мой бедный муж, который мне ничего не сделал, и чтобы я стала свободной, свободной, такой же замечательной, как всё в целом!
«Это не могло продолжаться. Я не могла долго до такой степени ненавидеть однообразие, опустошение, привычку. Ох! привычка, это самая истинная из всех теней, а ночь не является ночью, сравнительно…
«Религия? Не с религией заполняют пустоту своих дней, а со своей собственной жизнью. Мне следовало бороться не с верованиями, с идеями, а именно с самой собой.
«Тогда я нашла лекарство!»
Она почти кричала, резким хриплым голосом, будучи восхитительной
«Зло, зло! Преступление против тоски, предательство, чтобы разрушить привычку. Зло, чтобы быть новой, чтобы быть другой, чтобы ненавидеть жизнь сильнее, чем она меня ненавидела, зло, чтобы не умереть!
«Я встретила тебя; ты творил стихи и книги; ты отличался от других, у тебя был голос трепещущий и создающий впечатление красоты, и тем более, что ты был тут, в моём существовании, передо мной; мне стоило лишь протянуть руки. Тогда я полюбила тебя изо всех моих сил, и это можно назвать словом «любить», мой бедный мальчик!»
Она говорила теперь тихо и торопливо, со стеснённым дыханием и воодушевлением, и теребя кисть руки своего спутника как какую-нибудь вещицу.
«А ты также меня, естественно, любил… И когда мы проскользнули однажды вечером в гостиницу — в первый раз, — мне показалось, что дверь туда сама открылась, и я поблагодарила себя за то, что я взбунтовалась и разорвала свою судьбу как платье.
«И с тех пор! Ложь — от которой иногда страдают, но которую больше не ненавидят, когда подумают, — риски, опасности, которые добавляют вкуса к часам жизни, осложнения, которые умножают жизнь, эти комнаты, эти тайники, эти мрачные тюрьмы, которые придали взлёт имевшемуся внутри меня солнцу!
«Ах!» — добавила она.
Мне показалось, что она вздохнула так, как если бы после этого вздоха перед ней не было больше ничего столь красивого.
Она собралась с мыслями и сказала:
«Вот что мы такое… О! Возможно, я также верила в то время во что-то вроде любви с первого взгляда, в сверхъестественное и фатальное влечение, из-за твоей поэзии. Но на самом деле я пришла к тебе — теперь мне это ясно — сжав кулаки и закрыв глаза.»
Она добавила:
«Много лгут по поводу любви. Она почти никогда не является тем, что о ней говорят.
«Возможно, имеются превосходные силы притяжения между мужчинами и женщинами. Я не говорю, что такая любовь не может быть между двумя существами. Но как раз мы не являемся этими двумя существами. Мы всегда думали лишь о самих себе. Я прекрасно знаю, что я люблю себя с тобой. С твоей стороны то же самое. У тебя имеется влечение, которое не существует для меня, потому что я не ощущаю удовольствие. Видишь, мы заключаем сделку, мы взаимно доставляем друг другу один — мечту, другая — наслаждение. Всё это не есть любовь.»
Он сделал жест, — сомнения, протеста; он не хотел говорить. Однако, едва слышно произнёс:
«Так происходит всегда; даже при самой чистой любви, невозможно выйти за пределы самого себя.»
«О!» — ответила она, повысив голос с благоговейным протестом, горячность которого меня удивила, — «это, однако, не то же самое; не говори так, не говори так!»
Мне показалось, что в её интонации преобладало сожаление, в её взгляде была мечта о новой мечте.
Она отвлеклась от этого, с сомнением качнув головой.
«Как я была счастлива! Я чувствовала себя помолодевшей, новой. Я испытывала возобновление душевной чистоты. Помню, что я больше не осмеливалась показать мысок моей ноги из-под платья: я доходила до заботы о благопристойности моего лица, моих рук, моего имени…»
Тогда мужчина перехватил это воспоминание с того места, на котором она остановилась, и стал говорить о времени начала их союза. Он хотел приласкать её этими словами, постепенно увлечь её фразами, заключить её в объятия благодаря воспоминаниям.
«Первый раз, когда мы были одни…»
Она посмотрела на него.
«Это было на улице вечером», — сказал он. — «Я взял тебя за руку. Ты всё больше опиралась на меня. Я постепенно почувствовал весь вес твоего тела, я почувствовал твою возрастающую плоть. Мир кишел вокруг, но казалось, что наше одиночество расширяется. Всё вокруг нас превращалось в простую, естественную пустыню… Мне казалось, что мы оба принялись шагать по морю.»
«Ах!» — сказала она. — «Как ты был хорош! В этот наш первый вечер у тебя не было того лица, которое ты имел потом, даже в лучшие моменты…»
— Мы разговаривали о том и о сём, и пока я держал тебя перед собой, крепко прижав, как цветы, ты мне что-то говорила о людях, которых мы знали, о дневном солнце и о свежести вечера. Но в действительности ты мне говорила, что ты добивалась меня… В твоих словах я чувствовал слова признания, и, если ты их мне не говорила, ты мне их выказывала.
«Ах! каким значительным всё кажется в самом начале! Начало никогда не имеет мелочей…»
«Однажды, когда мы оказались в саду, и когда я провожал тебя обратно в конце дня через предместья… Дорога была такой спокойной и тихой, что казалось, будто наши шаги тревожили всю природу. Неподвижная нежность замедляла наш путь. Я нагнулся и поцеловал тебя».
«Сюда», — сказала она.
Она положила свой палец на шею. Этот жест осветил её шею как луч.
«Постепенно поцелуй стал более глубоким. Он устремился к твоим губам, потом остановился: в первый раз он ошибся, во второй сделал вид, что ошибся… Постепенно я почувствовал под моим ртом…»
Он сказал еле слышно:
«Что твой рот расцветает и расширяется…»
Она опустила голову, и было видно её рот, подобный розовом) бутону и очень нежный.
«Всё это, — вздохнула она, постоянно возвращаясь к своей патетической и нежной озабоченности, — было так прекрасно, посреди держащего меня взаперти надзора!..»
Как она нуждалась, бессознательно или нет, в возбуждении воспоминанием! Воскрешение в памяти прошлых драм и опасностей высвобождало её движения, восстанавливало её любовь. Именно для этого она всё вновь пересказала себе.
И он её подталкивал к нежному безрассудству. Первый восторг вновь возрождался, и теперь их слова искали самые проникновенные воспоминания, прежде чем превратиться в конкретное нечто.
«Это было грустно, когда на следующий день после того, как ты была у меня, я опять увидел тебя в твоём доме во время приёма — недоступную, среди людей. Превосходная хозяйка дома, одинаково любезная как с одними, так и с другими, немного неуверенная, ты расточала перед каждым банальные слова, ты напрасно будто ссужала всем — мне как и другим — красоту своего лица.»
«Ты была в том зелёном платье такого яркого цвета, что по его поводу над тобой подшучивали… Пока ты проходила и я не осмеливался следовать за тобой глазами, я вспоминал, насколько мы были безудержными в нашем первом исступлении; я говорил себе: «У меня вокруг шеи было грандиозное колье из её обнажённых ног; я держал в своих руках её гибкое и напряжённое тело; я ласкал его до крови.» Это было внушительное торжество, но это не было спокойное торжество, ибо в этот момент я желал тебя, но я не мог тебя иметь. Объятие было, несомненно будет, но его не было именно тогда, и хотя всё твоё сокровище предназначалось мне, я был беден в этот момент. И потом, когда чего-то не имеешь, кто знает, будешь ли это иметь опять!»
— Ах! нет, — вздохнула она, объятая возрастающей красотой своих воспоминаний, своих мыслей, всей своей души, — любовь вовсе не есть то, что о ней говорят! Я также была надломлена страхами. Ибо стало необходимым, чтобы я скрытничала, утаивая любой признак счастья, наспех его пряча в своём сердце! Первое время я не осмеливалась заснуть, из страха произнести во сне твоё имя, и часто, воспрянув от охватывавшего меня сонного забытья, я опиралась на локти и оставалась в этом положении, с открытыми глазами, героически заботясь о своём сердце.
«Я боялась, что меня узнают. Я боялась, что увидят чистоту, в которую я была погружена. Да, чистоту. Когда, в разгаре жизни, пробуждаешься от этой жизни, когда всё снова создаётся, я это называю чистотой.»
*
«Ты помнишь безумную поездку в фиакре, в Париже — в тот день, когда он решил, что издали узнал нас, и торопливо сел в другой экипаж, который бросился преследовать наш фиакр?»
Ею овладел взрыв эмоций, экстаза.
«О! да, — прошептала она, — это был потрясающий случай!»
Он рассказывал голосом, полным трепета, голосом, тесно связанным с биением его сердца, и его сердце говорило:
«Стоя на коленях на сидении, ты смотрела в заднее окошко, между тем как я ласкал твоё тело своими ладонями, а ты мне кричала: «Он приближается! Он удаляется… Он исчез… Ах!»
И одинаково единым движением их губы соединились.
Она произнесла на одном дыхании:
«Это единственный раз, когда я получила наслаждение.»
— Мы всегда будем бояться» — сказал он.
Их голоса приближались друг к другу, сливались в объятиях, слова превращались в поцелуи, нашёптываемые всей плотью. Он жаждал её, он привлекал её к себе, его рот призывал её изо всех сил. Их руки были бездеятельны, вся их живость восходила к их губам. И всё отодвигалось в сторону перед этим желанием, восстановленным духом зла.
Да, им было необходимо воскресить их прошлое, чтобы любить друг друга; им непрерывно требовалось собирать его по фрагментам, чтобы помешать их любви исчезнуть в обыденности, — как будто в тени и в пыли, в леденящем замедлении, им приходилось претерпевать старческое подавление, сопровождаемое отпечатком смерти.
Они прижимались друг к другу. Бледные пятна их лиц соединялись друг с другом. Я больше не отличал их одного от другой, но казалось, что я их видел всё лучше и лучше, ибо я замечал значительную глубинную движущую силу их спаривания.
Они замкнулись во тьме; они падали, падали во мрак, в эту бездну, к которой стремились; они увязали в этом демоническом сумраке, которого искали и о котором умоляли на земле.
Он пробормотал:
«Я буду тебя любить всегда.»
Но и она, и я, мы прекрасно понимаем, что он лжёт, как это делал только что; мы в этом не ошибались. Но так что же, не всё ли равно!
Когда её губы были на его губах, она прошептала, как бы придав пронзительной нежности своей ласке:
«Совсем скоро он будет здесь».
В сколь малой степени они смешались друг с другом! Будто в самом деле общим для них является лишь их страх, и, как я понимаю, они его отчаянно разжигают… Но их огромное усилие объединиться хоть в чём-то скоро закончится.
Женщину, с наступлением смутного празднества, начинало охватывать чувство возвышенной значительности, и её лицо, которое улыбалось и сожалело о мраке, наполнялось выражением смирения и самостоятельности.
Больше не имеется слов; они выполнили своё дело возрождения… Теперь это объятия и плоть, теперь вырисовывается великая церемония молчания и пыла; вздохи, неловкие движения, шелесты тканей, похожие на человеческие шумы.
Она теперь стоит; она наполовину раздета; она стала белой… Она ли раздевается, он ли сбрасывает с неё одежду?… Видны её широкие бёдра, её живот, серебрящийся в комнате как луна в ночи… Большая чёрная полоса пересекает этот живот; рука мужчины. Он её держит, сжимает, притиснув к дивану. А его рот находится около губ её половой плоти, и они сближаются для чудовищно нежного поцелуя. Я вижу тёмное тело, стоящее на коленях перед бледным телом — и она бросает на него вожделенные взгляды…
Затем она шепчет радостным голосом:
«Возьми меня… Возьми меня ещё раз после стольких других раз. Моё тело принадлежит мне, и я тебе его даю. Нет? Оно не принадлежит мне. Именно поэтому я его тебе отдаю с такой радостью».
Теперь она была на коленях, распростёртая им… Я думаю, что она была обнажённой; я не различал чётко линии и формы. Но её голова была запрокинута назад в отражении окна, и мне видно это вечернее лицо, где блестят глаза, где рот блестит как и глаза, это лицо, усеянное звёздами любви!
Он, обнажённый мужчина в сумраке, притиснул её к себе, водрузив на себя. Даже среди их взаимного согласия, там произошла своего рода борьба; царило необычайное возбуждение, сокровенное и дикое, и, хотя я этого не видел, я узнал мгновение, когда его плоть вошла в плоть женщины.
Моя продолжительная неподвижность будто расплющивала мне мускулы поясницы и плечей, но я оставался распростёртым на стене, припав своими глазами к отверстию; я распял себя, чтобы насладиться убийственным и торжественным зрелищем. Я старался охватить это видение всем своим лицом, оно было объято всем моим телом. И казалось, что стена мне возвращала удары моего сердца.
… Два притиснутых друг к другу существа трепетали как два слившихся дерева. Свыше законов, свыше всего, даже искренности любовников, сладострастие неудержимо готовило свой шедевр сладости. И это было столь пылкое, столь неистовое движение, что я признал, что Бог не смог бы, по крайней мере, убить этих существ, прекратить то, что ими свершалось. Ничего не смогло бы этого сделать, что заставляло усомниться в могуществе и даже в существовании Бога.
Он поднимал голову над сплетением их тел, запрокидывал её назад, и было как раз достаточно света, чтобы я мог видеть это лицо, рот, открытый для прерывистого и напевного стона, в ожидании наслаждения.
Оно пришло, бьющее через край, неслыханное. Я почувствовал его приход как наступление развязки.
Я сосчитал до четырёх. В этот момент я не отрывал глаз от лица находящегося там мужчины, одна из ладоней которого как бы развевалась в воздухе, а чрево выплёскивало брызги. Он гримасничает, улыбается, багровеет, подобно божественному мученику, архангелу, который одновременно был извалян в грязи и улетал в небеса. Он издаёт короткие изумлённые крики, будто восхищённый чем-то великолепным и неожиданным, как если бы он не подозревал, что это будет столь прекрасно, удивлённый чудом радости, которую содержит его тело.
Они находятся в единении в этот момент. Возможно, она и не ощущает наслаждения, но можно сказать, видно, чувствуется, что она радуется своей утехе; и в этом заключается невыразимое женское чудо.
«Ты счастлив?…»
У меня было удивительное впечатление, что она обращалась именно ко мне… Я был почти прав. Поскольку я находился рядом с её неприкрытым ртом, она разговаривала именно со мной.
Возведя глаза к небу, ещё будучи связанным с ней плотью, он прошептал:
«Я клянусь, что это главное на свете!»
Затем, сразу после этого, так как она чувствовала, что приступ счастья закончен и живёт уже только в воспоминании, что восторг, установившийся на мгновение между ними, ускользнёт, и что её собственная иллюзия изгладится и покинет её, она сказала почти жалобно:
«Слава Богу за то небольшое удовольствие, которое имеем!»
Жалкий возглас, первый сигнал большого грехопадения, богохульная молитва, но, божественным путём, молитва!
Мужчина машинально повторял:
«Главное на свете!..»
… Плотское соединение ослабло. Мужчина насытился. Постепенно я увидел своими глазами, что сожаление, угрызение совести его изнуряло, его отталкивало от такого бремени как эта женщина, которая не понимала своим нутром эту отчуждённость: она была не такой как он, сразу освободившийся от удовольствия и лишённый его.
Но она чувствовала, что он не стремится заглядывать дальше этого и что он завершал свою мечту…
Она, несомненно, уже думала, что это закончится также и для неё и что возобновлённая участь не будет ценнее прежней.
И в этот момент, когда, при моём упорстве обозревателя, почти творца, мне казалось, что я наблюдаю на их лицах исчезновение отчаяния, в атмосфере, ещё полной слов: «Это главное на свете», он простонал:
«А! это пустяки, это пустяки!»
Они были чужими друг другу, но их сопровождала одна и та же мысль.
… Пока она ещё целиком покоилась на нём, я увидел, как он, выворачивая шею, обращает свои взоры к стенным часам, к двери, к уходу. Потом, так как рот его любовницы был около его рта, он осторожно отодвинул своё лицо (я единственный это видел), слабо поморщившись от неудобства, почти отвращения: его слегка касалось дыхание, искажённое всеми поцелуями, только что вложенными в этот рот как в гроб.
Только теперь она изрекает своим бедным ртом ответ на то, что он сказал перед обладанием ею:
«Нет, ты не будешь меня любить всегда. Ты бросишь меня. Но, несмотря на это, я ни о чём не жалею и не буду жалеть. Когда, после нашего «мы», я вернусь к сильной грусти, которая больше меня не оставит на этот раз, я скажу себе: «У меня был любовник!» и я выйду на миг из моего бедственного положения.»
Он больше не хочет, не может больше ничего отвечать. Он бормочет:
«Почему ты во мне сомневаешься?…»
Но они поворачивают свои глаза к окну. Им страшно, им холодно. Они смотрят туда, в выемку между двумя домами, где смутный остаток сумерек уходит вдаль как гордый корабль.
Мне кажется, что окно, рядом с ними, выходит на сцену. Они созерцают его, бледное, огромное, рассеивающее всё вокруг себя. И после тошнотворного плотского напряжения и поганой краткости наслаждения, они пребывают подавленными, как перед видением, перед незапятнанной синевой и некровоточащим светом. Затем их взоры обращаются друг к другу.
«Смотри, мы находимся здесь, — сказала она, — глядя друг на друга как две бедные собаки, которыми мы и являемся.»
Руки разжимаются, ласки прекращаются и терпят крах, плоть ослабляется. Они отдаляются друг от друга. Одним движением его отбросило в сторону от дивана.
Сидя на стуле, с грустным лицом, с открытыми ногами, в небрежно натянутых брюках, он медленно тяжело дышит, весь осквернённый мёртвым и расхолаживающим наслаждением.
Его рот полуоткрыт, его лицо искажается, глазные впадины и челюсть резко очерчены. Можно сказать, что за несколько мгновений он похудел и что он похож на вечного скелета. Любое мучительное и тяжёлое усилие ему не под силу. Кажется, что он кричит и остаётся немым среди праха этого вечера.
И оба вместе наконец похожи друг на друга в этих обстоятельствах, как своим убожеством, так и своим человеческим образом!
… Я их больше не вижу в темноте. Они в ней наконец утонули. Мне даже удивительно, что я до сих пор их видел. Нужно было, чтобы бурный пыл их тел и их душ направлял на эту пару своего рода свет.
*
Где же Бог, где же Бог? Почему он не вмешивается в ужасный и регулярный кризис? Почему он не мешает посредством чуда тому ужасающему чуду, с помощью которого то, чему поклоняются, внезапно или медленно становится невидимым? Почему он не предохраняет человека от безмятежного низведения в траур всех его мечтаний, а также от невзгод этого сладострастия, которое расцветает из его плоти и падает на него как плевок?
Меня особенно приводит в ужас непреодолимое отступление плоти, может быть потому, что я такой же мужчина, как вот этот, как другие, может быть потому, что существующее скотское и неистовое сильнее захватывает моё внимание в этот момент.
«Это главное! Это пустяки!» Эхо этих двух возгласов раздаётся в моих ушах. Эти два возгласа, которые были не выкрикнуты, но изречены совсем тихим голосом, едва различимым, кто назовёт их значимость и расстояние, которое их разделяет?
Кто это назовёт; в особенности кто это узнает? Нужно находиться, как я, над человечеством, нужно находиться одновременно среди существующих и отъединённым от них, чтобы видеть, как улыбка превращается в агонию, радость становится пресыщением, а объятие распадается. Ибо, когда живут обычной жизнью, этого не видят и ничего об этом не знают; слепо движутся от одной крайности к другой. Тот, кто издал эти два возгласа, слышимые мной: «главное! пустяки!», забыл первый из них, когда его завлёк второй.
Кто это назовёт! Мне хотелось бы, чтобы это было сказано, Не следовало бы словам, приличиям, вековому навыку таланта и гениальности останавливаться на пороге этих описаний, как будто это им было запрещено. Нужно говорить об этом в поэме, в шедевре, говорить об этом по существу, до самого низменного, когда это будет делаться только для того, чтобы показать созидающую силу наших надежд, наших чаяний, которые, в самый блистательный их момент, преображают мир, переворачивают действительность.
Какую же милостыню побогаче подать этим двум любовникам, когда снова их радость умрёт между ними! Ибо эта сцена не последняя в их парной истории. Они опять возьмутся за своё, как все живущие. Снова они попытаются, один посредством другого, как смогут, защититься от жизненных поражений, возбудиться, не умереть: снова они будут искать в своих сплетённых телах облегчение и избавление… Их снова охватит великая смертная вибрация от неизбежного греха, который зависит от плоти, подобной плотскому обрывку. И снова в порыве как их мечты, так и таланта их влечения будет сильно встревожена их разлука, что заставит в ней сомневаться, возвысится низость, наполнится ароматом непристойность, освятятся наиболее гнусные и мрачные части их тел, которые также служат мрачным и гнусным функциям, и в один момент наступит конец всему утешению на свете.
Затем, когда они увидят, что напрасно ограничили бесконечность пределами своего влечения, они ещё и ещё будут наказаны за своё возвеличивание.
Ах! Я не сожалею о том, что раскрыл простой и ужасный секрет; возможно, моей единственной гордостью будет то, что я охватил и вместил в себя это зрелище во всём его масштабе, и понял из него, что живая действительность была грустнее и грандиознее, чем я до тех пор был способен предполагать.
VI
Всё замолкло. Они ушли; они спрятались в другом месте. Поскольку муж должен был появиться, как мне показалось. Я точно не понял. Ведь я точно не знаю, что было ими сказано!
Та комната в одиночестве… Я слоняюсь по моей комнате. Затем я обедаю как во сне, я выхожу, привлечённый человеческим родом. Снаружи отвесно стоящие дома, они закрыты. Прохожие отстраняются от меня; я вижу повсюду дома, лица.
Кафе передо мной. Яркое освещение, царящее в нём, приглашает меня войти. Это искусственное сияние мне нравится, меня успокаивает, и однако смущает непривычной обстановкой; сев, я наполовину прикрываю глаза.
Спокойные, простые, беззаботные люди, к тому же не имеющие, как я, своего рода задачи, которую нужно выполнить, они сидят тут и там.
Совсем одна, перед полным стаканом, поглядывая по сторонам, сидит девица с накрашенным лицом. На коленях она держит собачонку, голова которой торчит над краем мраморного стола и, будучи забавной, вымаливает для своей хозяйки взгляды прохожих и даже их улыбки.
Эта женщина рассматривает меня с интересом, Она видит, что я никого не жду, что я не жду ничего.
Один знак, одно слово, и она, ожидающая всех, подошла бы, улыбаясь всем своим телом… Но нет, это не то, чего я желаю. Я проще, чем это. Мне не нужна женщина. Если меня и тревожат любовные связи, то по причине важной мысли, а не инстинкта.
Она подходит ко мне. Она не знает, кто я есть! Я отворачиваюсь, Мне совершенно безразличен быстрый и грубый экстаз, сексуальная комедия! Я взглянул на человеческий род, на мужчин и женщин, и я знаю, что они делают.
Затхлый запах кофе и табака, смешанный с тепловатостью, образует расслабляющую атмосферу. Шумы — стук блюдца, звуки открываемой и закрываемой входной двери, восклицание игрока — постепенно исчезают. На лицах появился зеленоватый отсвет. Моё лицо должно быть более впечатляющим, чем другие лица. Оно должно казаться измождённым гордостью за увиденное мною и необходимостью видеть ещё.
… Только что он назвал её «Любимая». Я не знаю, это её имя или признание[2]. Я не знаю имён, я не знаю подробностей, я не знаю ничего об этом образе. Человеческий род показывает мне своё нутро; я читаю по слогам глубину жизни, но я чувствую себя затерянным на поверхности мира. Я должен был сделать усилие в ту же минуту, чтобы пробраться между прохожими, усесться в этом публичном месте и спросить, чего же я хотел.
… Мне показалось, что я узнал силуэт одного из постояльцев моей гостиницы, проходящего по улице, мимо большого окна кафе. Я откинулся назад. Я не в состоянии болтать о том, о сём; позднее у меня вновь появится эта угрюмая привычка. Я опускаю голову к столу, облокотившись и запустив руки в волосы, чтобы не быть узнанным знакомыми мне людьми, если они случайно здесь проходили.
*
И вот я шагаю по улицам. Идёт женщина. Я машинально следую за ней… На ней платье густосинего цвета; большая чёрная шляпа; у неё такой изысканный вид, что она кажется слегка несуразной на улице. Довольно неловко она подбирает подол платья, и видно её изящный ботинок, обхватывающий её тонкую голень в чёрном прозрачном чулке… Мне встречается другая женщина; я с пылкостью на неё уставился… Там некое женское создание в серых тонах пересекает улицу; моё сердце бьётся, как если бы оно пробуждалось.
Любопытство? Нет, влечение. Только что я не ощущал влечения, теперь оно не даёт мне покоя… Я останавливаюсь… Я такой же мужчина, как другие; у меня есть свои потребности, свои скрытые желания; и на серой улице, вдоль которой я иду неизвестно куда, мне хотелось бы приблизиться к женскому телу.
… Вот малышка, которая идёт, слегка касаясь стен, недалеко от меня, я представляю себе её полностью обнажённой… У неё маленькие ступни, совершенно незаметные. Она накидывает на плечи косынку. В руках у неё пакет. Она так спешит, что наклонилась вперёд, как если бы хотела, по-ребячески, перегнать саму себя. Под этой бедной тенью есть тело из света, которое проясняется на моих глазах в расплывчатую туманность, где она скрывается… Я думаю о звёздной красоте, которой она могла бы обладать, о сиянии её густых волос, с трудом запрятанных под жалкую шляпку, о замечательной улыбке, которую она прячет на своём очень серьёзном лице.
Секунду я стою как вкопанный, неподвижно, посреди мостовой. Призрак женщины уже далеко. Если бы я встретил её взгляд, это в самом деле могло бы стать болью. Я чувствую, как мои черты сводит судорога, которая меня искажает, преображает.
Там вверху, на империале трамвая, сидит молодая девушка; её немного приподнятое платье округляется… Снизу возможно было бы погрузиться в неё всю. Но нагромождение экипажей нас разделяет. Трамвай уезжает, рассеивается как наваждение.
Как в одном направлении, так и в другом улица полна платьев, которые покачиваются, которые предлагают себя, такие лёгкие, по краям наполовину улетающие: платья поднимающиеся и которые однако не поднимаются!
В глубине высокого и узкого зеркала витрины магазина я вижу приближающегося себя, немного бледного и с усталыми глазами. Мне бы хотелось не одну женщину, а их всех, и я их ищу, повсюду вокруг, по одиночке. Они идут, уходят, после того, как сделают вид, что приближаются ко мне.
Побеждённый, я подчинился случайности. Я последовал за женщиной, которая меня подстерегала из своего угла. Затем мы пошли рядом. Мы обменялись несколькими словами; она повела меня к себе. На лестничной площадке, когда она открыла дверь, я был потрясён содроганием идеала. Затем я перенёс банальную сцену. Это произошло быстро, как грехопадение.
Я снова на тротуаре. Я не успокоен, как надеялся. Безмерное расстройство меня дезориентирует. Можно сказать, что я больше не вижу вещи такими, как они есть; я вижу слишком далеко и я вижу слишком много вещей.
В чём же дело? Я сажусь на скамейку, утомлённый, доведённый до усталости моей собственной важностью. Опять начинается дождь. Прохожие спешат, их становится всё меньше, затем появляются зонты, с которых струится вода, водосточные трубы с выливающимися из них потоками воды, блестящие и чёрные мостовые и тротуары, распространяющаяся полутишина, вся скорбь дождя… Моя беда в том, что у меня есть мечта более обширная и более значительная, чем я мог бы выдержать.
Горе тем, которые мечтают о том, чего не имеют! Они правы, но они слишком правы, и поэтому они противоестественны. Простые люди, слабые, обездоленные, беззаботно проходят рядом с тем, что не предназначено для них; они слегка касаются всего, всех без разбора, не имея опасений (и ещё даже эти людишки ежеминутно желают каких-то пустяков!). Но как же другие, но как же я!
Хотеть взять то, чего не имеешь, украсть! Мне достаточно было увидеть, как несколько существ спорили о сущности их истины, чтобы проникнуться верой, что человек движется и вращается в этом направлении так же несомненно, как земля вращается в своём направлении.
Увы, увы, я не только узнал эту ужасающую простоту, я запутался в её механизме. Я перенёс заражение ею; моё собственное желание обостряется и расширяется; мне хотелось бы прожить все жизни, воздействовать на все сердца, и мне кажется, что непредназначенное для меня уходит от меня и что я существую один, я покинутый.
И съёжившись на этой скамейке, среди большой пустынной и будто движущейся от дождя улицы, потрёпанный шквалом, пытаясь уменьшиться, чтобы лучше укрыться, — я отчаялся, потому что я люблю всё, как если бы я был слишком добрым.
Ах! я смутно предвижу, как меня покарают за проникновение в животрепещущие секреты людей. Я буду наказан в том же отношении, в каком я грешил. Я испытаю бесконечность тайны, которую я читаю в других. Моё наказание будет в каждой тайне, которая замалчивается, в каждой женщине, которая проходит.
Бесконечность — это не то, что думают. Её охотно сопоставляют с поэтической душой какого-либо героя легенды или шедевра; ею украшают, как театральным костюмом, беспокойную исключительность какого-нибудь романтического Гамлета… Бесконечность тихо живёт в том человеке, неясное отражение которого только что мне посылало зеркало в магазинной витрине, то есть во мне, таком, каким меня обнаруживают, с моим банальным лицом и моим обычным именем, и какой хотел бы всё, чего я не имею… Ибо нет причины, чтобы это закончилось; таким образом я шаг за шагом иду по следу бесконечности, и это заблуждение без горизонта сравнимо со светилами на небесном своде. Я поднимаю свои опустошённые глаза вверх к ним. Я страдаю. Если я совершил ошибку, её искупает это большое несчастье, в котором скорбь невозможного. Но я не верю в искупление, в этот моральный и религиозный набор фраз. Я страдаю и, вероятно, у меня вид мученика.
Нужно мне вернуться, чтобы выполнить эту муку во всей её продолжительности, во всей её убогой продолжительности; нужно, чтобы я продолжал созерцать. Я теряю своё время в пространстве всего мира. Я возвращаюсь к той самой комнате, которая раскрывается как некое существо.
*
Я пропустил два пустых дня, когда смотрел, ничего не видя. Я наспех возобновил свои дела, и мне без труда удалось получить несколько новых дней передышки, чтобы я снова смог заставить себя забыться.
Я оставался среди этих стен, лихорадочно спокойный, и ничем не занятый как узник. Я ходил по моей комнате большую часть дня, притягиваемый отверстием в стене, больше не осмеливаясь от него удалиться.
Проходили долгие часы; и вечером я был доведён до изнеможения моей неустанной надеждой.
Ночью второго дня я вдруг проснулся. С содроганием я обнаружил себя вне узкого убежища в виде моей кровати; в моей комнате было холодно как на улице. Я вознёсся по стене, которая, под моими дрожащими руками, оказалась мёртвой и леденящей.
Я посмотрел. Отсвет луны проникал в соседнюю комнату, где, в отличие от моей комнаты, ставни не были закрыты. Я продолжал стоять на том же месте, ещё пропитанный сном, гипнотизированный этой голубоватой атмосферой, чётко воспринимающий лишь царящий холод… Ничего… Я ощущал себя таким же одиноким, как кто-либо молящийся.
Потом разразилась гроза, собиравшаяся с конца дня. Падали капли, низвергались порывы ветра, резкие и с длительными промежутками. Удары грома раскалывали небо.
Через минуту дождь усилился; ветер дул слабее и постоянно. Луна спряталась за тучами. Вокруг меня была полная темнота.
Заслонка камина дрожала, потом замолкла. И, не зная, почему я проснулся и почему оказался здесь, я всю ночь оставался в этой нескончаемой тьме, в этом мире, который был передо мной как стена.
*
Тогда, в тёмном пространстве, проскользнул лёгкий шум…
Вероятно, какой-то отдалённый шум бури. Нет… совсем близкий шёпот; шёпот или звук шагов.
Кто-то… кто-то был там… Наконец! он не ошибся, инстинкт, который вырвал меня из объятий моей кровати. Я безнадёжно напряг зрение; но темнота была непроницаемой. Окно едва голубело в плотной глубине, и я даже не ведал, была ли это она и не я ли её создавал.
*
Шум, немного более продолжительный, снова стал слышен…
Шаги — да, шаги… Он ходил — дыхание, передвигание предметов, непонятные, неразборчивые звуки, прерываемые тишиной, которые казались мне бессмысленными.
Через мгновение я засомневался… Я спрашивал себя, не была ли это шумовая галлюцинация, созданная ударами моего сердца.
Но звук человеческого голоса божественным путём донёсся до меня.
*
Какой он был тихий, и в особенности какой он был монотонный, этот голос! Казалось, что он читает молитву или поэму. Я задержал дыхание, чтобы не дать исчезнуть этому приближению жизни…
…Он разделился надвое… Это были два голоса, которые говорили друг с другом. Они были переполнены неизмеримой грустью, как все голоса, звучащие очень тихо; музыкальной грустью…
Вероятно, передо мной снова были двое влюблённых, укрывшиеся на несколько минут в безлюдной комнате. Два создания были там, привлечённые одно другим, в тесном уединении, в бесподобной пучине и, будучи бессильным их различить, я ощущал, как они волнуются, подобно моему сердцу в моей груди.
Я нашёл пропавшую пару. Всё моё внимание направлялось ощупью к этим двум телам. Напрасно. Темнота заполняла мои глаза и ослепляла меня; чем больше я смотрел, тем больше мрак причинял мне вреда. Однако в какой-то момент мне показалось, что я заметил вырисовывающуюся очень тёмную форму на тёмном окне… Она остановилась… Нет… темнота; неподвижный, как идол, мрак… Кто были эти живые существа, что они делали, где они были, где они были?
И сразу я услышал, как из скопления мрака раздалось отчётливое человеческое слово: «Ещё!».
«Ещё!» — этот возглас исходил из их плоти. Наконец они появились передо мной. Мне показалось, что их фигуры, выступающие из мглы, обнажались.
Затем, среди торопливого бормотания, чего-то вроде борьбы, раздалось другое слово, брошенное приглушённым и счастливым голосом:
«Если бы они знали! Если бы знали!»
И эти слова были повторены со сдерживаемой силой, всё тише и тише, до полного молчания.
Потом они, совсем громко, разразились неудержимым смехом. И послышался звук поцелуя, заглушивший всё. В глубине скопившейся тьмы этот поцелуй внезапно возник как привидение.
Сверкнула молния, преобразив за долю секунды соседнюю комнату в мертвенно-бледное убежище; потом вернулась тёмная ночь.
Электрический отблеск приподнял мои веки, которые я инстинктивно держал полузакрытыми, так как мои глаза были бесполезны. Я обшарил взглядами ту комнату, но не увидел ничего живого… Так прикорнули, что ли, оба гостя, которые в ней находились, в каком-нибудь углу и спрятались в самой глубине тьмы?
Казалось, что они не заметили эту вспышку молнии. С безнадёжной регулярностью меня атаковывали те же слова, но более медлительные, более редкие, с большей растерянностью:
«Если бы знали! Если бы знали!»
И я слушал этот возглас, склонившись над ними с сакральным вниманием, как над мёртвыми.
*
Почему это вечное опасение, которое их надламывало и которое подрагивало в их устах? Какая неудержимая потребность быть в уединении и прятаться имелась у них, — чтобы издать этот жалкий возглас гордости, напоминающий крик о помощи; какую гнусность они совершали, какой порок прятался в их объятии?
Я получил острый удар в сердце. Оба голоса слишком похожи. Я понимаю: это две женщины, две любовницы, которые приходят во тьму, чтобы соединиться странным способом!
*
Ах! я слушаю… Никогда я так не полагался на ночь, и действительно как никогда в жизни, с соединёнными ладонями и запавшими глазами, я вопрошаю гнусных любовников, которые пали там, в постели мрака…
Я чувствую, что их охватил трепещущий апофеоз…
«Да увидит нас Бог! Да увидит нас Бог!» бормочет один из ртов.
Им также необходимо быть увиденными Богом, чтобы приукраситься в их деянии; как безутешные, они зовут его себе на помощь!
*
…Я теперь сомневаюсь, что это две женщины. Мне показалось, что я уловил низкие звуки мужского голоса. Я слушаю, я сравниваю, я обрабатываю эти обрывки голоса, ещё раз пытаясь невероятным усилием освободиться от мрака.
Потом я отчётливо различаю страстную молитву, торопливые слова которой, произнесённые совсем тихо, начинают проявляться одно за другим, подавляемые двумя ртами, омытыми, затопленными кровью поцелуев!
«Ты хочешь, ты хочешь?»
И вопрос обретает большую трепетную важность, вопрос всякого отдающегося существа, приоткрытого или напряжённого.
Затем громкий голос поднимается как взмах крыла:
«Да.
— Ах!» — бормочет другое тело.
Каким таинственным и необузданным способом они стремятся познать друг друга и войти в тесную близость? какую форму имеет эта пара?
Какую форму? Не всё ли равно, какая форма у любви! Я освобождаюсь от этой заботы, и мне кажется, что я таким образом присутствую на любой трагедии любви.
Они любят друг друга; остальное ничего не значит. Являются ли они извращёнными или нормальными, являются ли они проклятыми или благословленными, они любят друг друга и обладают друг другом так, как это возможно на этом свете.
Они прячутся от всех после того, как взаимно привлекут друг друга; они катаются во тьме как в простынях или в саванах; они заключают себя в тюрьму; они ненавидят и избегают дневной свет так же, как наказание порядочностью и душевным спокойствием. «Если бы знали!» вскрикивали, плакали и смеялись они; они гордятся своим одиночеством, они себя за это бичуют, они себя за это ласкают. Они выброшены за пределы закона, за пределы естественности, за пределы нормальной жизни, состоящей из жертвоприношения и небытия. Они стремятся соединиться; их мраморные лбы ударяются друг о друга. Каждый занят своим телом, каждый чувствует, как он без размышления плотно связывает своё тело. О! что за важность представляет сексуальность их рук, ищущих наощупь спящее сладострастие, их двух ртов, которые захватывают друг друга, их двух сердец, таких слепых и таких немых.
Все любовники мира похожи: они случайно влюбляются; они видятся, и привязаны друг к другу чертами их лиц; они будто озаряются друг другом через страстное предпочтение, сравнимое с безрассудством; они подтверждают реальность иллюзий; моментально они переделывают ложь в правду.
И в этот момент я услышал несколько откровенно вырвавшихся у них слов:
«Ты для меня, ты принадлежишь мне. Я тобой владею, я тебя беру…
— Да, я для тебя!..»
Вот любовь вся целиком, вот она около меня, та, которая бросается мне в лицо наподобие фимиама, с её возвратно-поступательными движениями, запахом жара жизни, и которая выполняет свой тяжёлый труд доведения до слабоумия и бесплодия.
*
Диалог возобновляется, более тихо, более спокойно, и я слышу, как если бы обращались ко мне.
Сначала с трепетом, почти как во сне, произносится одна фраза:
«Я обожаю наши ночи, я не люблю наши дни.»
И разговор продолжается, с медленным монотонным перечислением доводов, рассеянно, с удовлетворённым убаюкиванием — с иногда смешивающимися и бесформенными словами, ибо два рта сближены, как пара губ:
«Днём всё рассеивается, теряется. Именно ночью нам можно по-настоящему проявить себя.
— Ах! — сказал другой голос, — мне хотелось бы, чтобы мы любили друг друга днём.
— Это будет, возможно… Позже, ах! позже.»
Слова резонируют в длительном и отдалённом эхе.
Потом тот же голос говорит:
«До скорого свидания…
— Боже мой!» — восклицает другой, с трепещущей надеждой.
Я уже слышал подобную жалобу; она настолько одинаковая, будто на земле имелось мало поводов для жалоб: «Я же так хотела светлой участи!» — пожаловалась женщина, нарушающая супружескую верность.
Потом фразами, начало которых я плохо слышу и которые у меня не соединяются одна с другой, они говорят о залитых солнцем грабовых аллеях, о парках с чёрными газонами, о больших золотых аллеях и о больших изогнутых водоёмах, таких искрящихся и сияющих в полдень, что невозможно больше на них смотреть, как на солнце.
Погружённые во тьму, сами являющиеся тенями, они несут свет; они думают о дневном свете, они берут его для себя, и это своего рода памятник синеве и лету, исходящий из них.
И чем больше они говорят о солнце, тем сильнее их голос понижается и стихает.
После более значительной и полной нежности тишины я услышал:
«Если бы тебе можно было представить, насколько тебя красит любовь, как тебя озаряет твоя улыбка!»
Всё остальное уходит на второй план, выделяется только эта улыбка.
Затем мелодия их мечты меняет образы без изменения света. Они упоминают о салонах, о зеркалах и о гирляндах из ламп… Они упоминают о ночных праздниках на податливой воде, полной лодок и цветных шаров, — красных, синих, зелёных, — сравнимых с женскими зонтиками под палящим солнцем в парке.
Снова тишина, затем кто-то из них продолжает разговор, умоляющим тоном, проявляя огромную одержимость, огромную потребность осуществить мечту, доходящую почти до безрассудства:
«У меня жар. Мне кажется, что у меня солнце в ладонях.»
*
И, мгновением позже, торопливо:
«Ты плачешь! Твоя щека мокрая, как твой рот.
— У нас никогда не будет этого, — прозвучала жалоба кого-то из умоляющих — мы никогда не будем иметь этот свет, кроме как в мечтах, которым мы предаёмся ночью, когда мы вместе.
— Он у нас будет! — воскликнул другой голос. — Однажды всё печальное закончится.»
Затем с пафосом добавил:
«Мы его почти имеем. Ты это прекрасно видишь!
— Ах, если бы знали! — вновь повторили они, со своего рода угрызениями совести, которые неведомы. — Все бы завидовали нам; даже самые влюблённые и даже счастливые!»
Потом они снова стали говорить, что Бог их видел…
Эта мрачная группа, которую ваяли во тьме, мечтала, чтобы Бог их бы обнаружил и их коснулся, как озарение, Тогда их сплетённые души существовали бы как более значительные и более возвышенные. Я извлёк нужное слово: «всегда!»
Подавленные, обращённые в ничто, эти существа, которые, о чём я догадывался, ползали под простынями одно по другому как личинки, говорили: всегда! Они изрекали сверхчеловеческое слово, сверхъестественное и необычное слово.
Все сердца одинаковы с момента их создания. Мысль, полная неведомого, ночная кровь, влечение, сравнимое с мраком, издают свой победный клич. Любовники, когда они обнимаются, борются каждый за себя, и говорят: «Я тебя люблю»; они ждут, плачут и страдают, и говорят: «мы счастливы»; они уже оставляют друг друга, утрачивая пыл, и говорят «всегда!» Словно на самом дне, куда они погрузились, они похитили небесный огонь, подобно Прометею.
И я старался к ним подобраться как можно ближе… Мне так хотелось их увидеть в этот момент! Мне хотелось этого так же сильно, как я хотел жить: обнаружить эти движения, этот мятеж, этот рай, эти облики, откуда всё изливалось. Но я не мог дойти до истины. Я едва видел окно, вдали, расплывчатое как млечный путь, в тёмной безмерности комнаты. Я больше не слышал слов, был только шёпот, из которого я не понимал, шла ли речь об их ещё раз достигнутых согласиях, которые налаживались, либо о жалобах, которые вырывались из раны их ртов.
Затем сам шёпот прекратился.
Возможно, постоянно прижатые друг к другу, они стали спать отдельно друг от друга; возможно, они ушли, чтобы обольщаться в другом месте своим сокровищем.
Показавшаяся мне смолкнувшей гроза снова началась и продолжалась.
*
Я долго борюсь с тьмой, но она сильнее меня, она меня погребает. Я валюсь на свою кровать, остаюсь в темноте и тишине. Облокачиваюсь, читаю по складам молитвы; я лепетал: Deprofundis[3]
De profundis… Почему этот возглас ужасной надежды, этот крик бедствия, мучения и страха поднимается этой ночью из моего нутра к моим губам?…
Это признание созданий. Какими бы ни были слова, произнесённые теми, участь которых я мельком видел, они кричали об этом из глубины себя — и после этих дней и этих вечеров, проведённых мной в подслушивании, я слышу именно это.
Этот призыв из пропасти к свету, это усилие скрытой истины, направленное к истине спрятанной, со всех сторон поднимается, со всех сторон ниспадает, и, из-за навязчивости человеческого рода, я это целиком озвучиваю.
Я же сам не знаю, что такое я есть, куда я иду, что именно я делаю, но я тоже взывал из глубины моей бездны к хотя бы малому количеству света.
VII
Соседняя комната находится в слегка влажном утреннем беспорядке. Та самая Любимая оказывается здесь со своим мужем. Они возвращаются из поездки.
Я не слышал, как они вошли. Вероятно, был слишком усталым.
Он сидит на стуле, рядом с кроватью, которая не разобрана, но именно здесь я различаю удлинённый отпечаток одного тела или одной пары.
Она одевается. Я только что видел, как она исчезла за дверью умывальной комнаты. Я смотрю на мужа, черты лица которого, как мне кажется, обнаруживают значительную правильность и определённое благородство.
Линия лба отчётливо вырисовывается; лишь рот и усы немного вульгарны. Он выглядит здоровее, крепче, чем её любовник. Рука, играющая с тростью, изящная, и этот персонаж в целом наделён некоей мощной элегантностью. Это тот самый мужчина, которого она обманывает и которого ненавидит. Это та самая голова, та физиономия, то выражение лица, которые испорчены и искажены в её глазах и смешиваются с её несчастьем.
Вдруг она уже здесь; она появляется прямо перед моими глазами. Моё сердце останавливается, затем стесняет моё дыхание и тянет меня к ней.
Она наполовину обнажена: сиреневая рубашка, короткая и лёгкая, натянутая и выпуклая на её груди, при её движениях мягко приникает к ней, к округлости её живота.
Она возвращается из умывальной комнаты, немного томная и усталая от тысячи пустяков, которые она уже проделала, с зубной щёткой в руке, с совершенно мокрым и ярко-красным ртом, с растрёпанными волосами. Её нога тонкая и красивая, маленькая ступня очень стройна на высоком заострённом каблуке туфли.
Комната, вся в беспорядке, в духоте затхлого утра полна смеси запахов: мыла, рисовой пудры, резкого благоухания одеколона.
Она скрылась; она вернулась тёпло-влажная; затем вся свежая, с порозовевшим лицом, вытирающая капельки воды.
Он, разглагольствуя, разъясняет одну сделку. Его ноги наполовину вытянуты. Он то ли смотрит на неё, то ли не смотрит.
«Ты знаешь, Бернары не согласились на сделку с вокзалом…»
На этот раз он следует глазами за ней, когда говорит, потом он смотрит в другое место, скользит взглядом по ковру, разочарованно щёлкает языком, весь погружённый в свои мысли, — в то время, как она ходит туда и обратно, показывая изгиб своих бёдер, свой энергичный крестец, свой бледный живот и густую тень низа своего живота.
У меня в висках стучит; вся моя плоть стремится к этой женщине, почти обнажённой и очаровательной утром, в прозрачной одежде, обволакивающей её нежный аромат… И ещё слышно, как в этой комнате, где она несёт свою наготу, раздаётся банальная фраза мужа, чуждая ей фраза, богохульная фраза.
Она надевает свой корсет, свои подвязки для чулок, свои панталоны, свою юбку. Мужчина остаётся в своём скотском безразличии; он вновь погружается в размышления.
…Она устроилась перед зеркалом камина с различными коробками и предметами. Зеркало умывальной комнаты, видимо, не кажется ей достаточным для того, что она хочет делать.
Полностью приступив к своему туалету, она разговаривает совсем одна, болтливая, весёлая, оживлённая, по причине того, что ещё только начало дня.
…Она старательно занимается всем этим и всё успевает; она тратит много времени, чтобы привести себя в порядок, но это важные часы, а не потерянные. К тому же, она торопится. Теперь она открывает шкаф, достаёт из него воздушное лёгкое платье, которое держит в руках перед собой как гнездо с птичьим выводком.
Она надевает это платье. Потом вдруг ей в голову приходит какая-то мысль, и её руки останавливаются.
«Нет, нет, нет, решительно», — говорит она.
Снимает это платье и начинает искать другое: тёмную юбку и блузку.
Она берёт шляпу, слегка взбивает на ней бант, затем перед зеркалом поправляет у своего лица украшение из роз на этой шляпе и, вероятно, удовлетворённая, напевает…
*
…Он не смотрит на неё, а когда он смотрит на неё, он её не видит!
Ах! это имеет значительную важность; это драма, драма томительная, но к тому же мучительная. Этот мужчина не является счастливым, и однако я завидую его счастью. Скажите мне, что же можно ответить на это, кроме того, что счастье находится в нас, в каждом из нас, и что это желание того, чего у нас нет!
Эти люди существуют вместе, но в действительности находятся в отсутствии по отношению друг к другу; они покинули друг друга, не расставаясь. Их отношения представляют собой что-то вроде интриги небытия. Они больше не сблизятся, поскольку между ними конченая любовь полностью заняла своё место. Эта тишина, это взаимное неведение являются тем, что есть наиболее жестокое на земле. Не любить больше друг друга это хуже, чем ненавидеть друг друга, ибо, что ни говорите, смерть хуже страдания.
Мне жаль тех, которые живут парой, но сцеплены безразличием. Мне жаль то бедное сердце, которое давно имеет столь мало из принадлежащего ему; мне жаль людей, у которых есть сердце для того, чтобы больше не любить.
И на мгновение, перед этой столь простой и столь причиняющей боль сценой, я как бы претерпел огромные несметные страдания тех, кто мучается больше.
*
Она закончила одеваться. Надела жакет цвета своей юбки, в самом начале полностью показав своё бельё в виде корсажа, верх которого прозрачный и розоватый, будто утренняя заря на её теле — и она нас покидает.
Он, в свою очередь, готовится уходить. Дверь снова открывается. Это она возвращается?… Нет, это горничная. Она делает вид, что уходит.
«Я собиралась убраться, но я мешаю господину…
— Вы можете остаться.»
Она трогает предметы, закрывает ящики… Он поднял голову, он следит за ней краем глаза.
Он встал, он подходит, неловкий, будто зачарованный… Топтание на месте, вскрик, который глушится громким смешком; она выпускает из рук свою щётку и платье, которое держала… Он хватает её сзади, его обе ладони сжимают через корсаж груди девицы.
«Ах, да нет, довольно же, вы что!»
Он не отвечает, в лицо ему бросилась кровь, взгляд неподвижный, ослеплённый; он лишь едва издал невнятный возглас: беззвучное слово, где лишь чрево думает; между его возбуждёнными губами, слегка вздёрнутыми на зубах, пыхтение машины… Он вцепился в эту плоть, животом на этом крестце, подобно обезьяне, подобно льву.
Она смеётся, всем своим большим красным лицом; её наполовину растрёпанные волосы спадают ей на лоб, её налитые груди сдавливаются впившимися в них пальцами, которые её тискают.
Он пытается снять с неё юбку, приподнять её. Она сжимает ноги и прикладывает руки к бёдрам, чтобы удерживать платье. Это ей удаётся лишь наполовину. Видны её чулки, которые морщатся на её круглых и объёмистых ногах, конец рубашки, её поношенные туфли. Они топчутся на платье Любимой, которое девица выронила из рук и которое плавно опустилось на пол.
Затем она полагает, что это достаточно продолжалось!
«Ах! нет! хватит! Чёрт возьми, говорю же вам!»
…Он покончил с этим, отпустив её, и уходит, смеясь как проклятый от стыда и цинизма, почти пошатывающейся походкой, под воздействием огромного внутреннего порыва.
Он уходит среди женщин, проходящих мимо, в его глазах неотступно присутствует кошмар, поднимающий платья им на головы.
Пыл кипит в нём и хочет выйти. Если то, что неотступно преследует его, не вырвется из него, оно ударит ему в голову, подобно молоку матери. Он там, этот так называемый мэтр среди мужчин, который действует наощупь, вытянув руки вперёд для объятия, терзаемый обидой, которая оканчивается с его неопределённым шараханием к постели, при его полной уверенности в своих силах.
Но это не один лишь чрезмерный инстинкт, так как только что перед ним прохаживалась очаровательная женщина (и свет, игравший в её воздушных покровах, показывал и окружал сиянием всё её тело), а он не испытывал к ней влечения.
Возможно, она была отвергнута, возможно, какой-то договор был заключён между ними… Но я прекрасно видел, что даже его глаза не хотели этого: его глаза загорелись, как только появилась та девица, та отвратительная Венера с грязными волосами и грязными ногтями, а его глаза изголодались по ней.
Потому что он её не знает, потому что она не такая, как та, которую он знает. Иметь то, что тебе не принадлежит… Следовательно, каким бы странным это ни показалось, перед нами идея, значительная вековая идея, которая управляет инстинктом. Это идея о том, что присутствие незнакомой женщины так напрягает мужчину, что он становится диким, подстерегая её, с обострённым вниманием, бросая на неё как бы царапающие взгляды, движимый столь трагическим неистовством, как если бы ему было необходимо убить её, чтобы жить.
Я понимаю, я, которому дано обуздывать эти человеческие кризисы, — столь неистовые, что Бог, находящийся рядом, кажется бесполезным, — я понимаю, что многое из того, которое мы считаем существующим вне нас, находится в нас самих, и что секрет именно в этом. Будто спадают покровы, будто появляются упрощения, будто появляется простота!
*
Завтрак за общим столом сначала имел для меня магическую привлекательность: я испытующе рассматривал все физиономии, чтобы постараться выявить те два существа, которые занимались любовью ночью.
Но я напрасно всматривался в лица попарно, старался выявить степень схожести, ничего меня не направило к цели. Я их наблюдал лишь когда они были погружены в темноту ночи.
…Имеются пять девушек, или молодых женщин. Одна из них, по крайней мере, сохраняет заключённое в её теле живое и жгучее воспоминание. Но воля, более сильная, чем у меня, скрывает её лицо. Это мне не ведомо, и я удручён очевидной неизвестностью.
Они ушли одна за другой, мне неизвестно… ах: мои обе ладони судорожно цепляются одна за другую в бесконечной неопределенности и сжимают пустоту между их фалангами; моё лицо тут, определённое, перед всем возможным, всем неопределённым, перед всем.
*
Эта дама! Я узнал Любимую. Она разговаривает с хозяйкой, — около окна. Сначала я её не заметил, из-за сотрапезников, находившихся между нами.
Она ест виноград, достаточно деликатно, слегка наигранными жестами.
Я поворачиваюсь к ней. Её зовут госпожа Монжерон или Монжеро. Это сочетание мне кажется забавным. Почему её так зовут? По моему мнению, эта фамилия ей не идёт или она ненужная. Искусственный характер слов, знаков меня поражает.
Это конец завтрака. Почти все ушли. Кофейные чашки, маленькие испачканные чем-то липким рюмки для ликёра беспорядочно расставлены на столе, где блестит солнечный луч, заставляющий муарово переливаться скатерть, искриться стеклянную посуду. Кофейное пятно, обширное, сухое, благоухающее.
Я вмешиваюсь в разговор госпожи Лёмерсье с ней. Она смотрит на меня. Я еле узнаю её взгляд, который я видел целиком.
Приходит камердинер и тихо говорит несколько слов госпоже Лёмерсье. Та поднимается, извиняется и покидает комнату. Я нахожусь рядом с Любимой, только что подойдя к ней. В столовой находятся два или три человека, которые обсуждают, чем будут заниматься во второй половине дня.
Я не знаю, что же ей сказать, этой даме. Разговор между ней и мною замирает, стихает. Она должна предположить, что она меня не интересует, — эта женщина, сердце которой я вижу и участь которой я знаю так же хорошо, как Бог мог бы её знать.
Она протягивает руку к газете, которая валяется на столе, погружается на минуту в чтение, затем складывает лист, встаёт в свою очередь и уходит.
Испытывая отвращение к банальности жизни и к тому же будучи удручённым только что произошедшим, я, заспанный, облокачиваюсь на залитый солнцем стол, на исчезающий стол — делая усилие, чтобы не расслабить мои руки, не опустить подбородок и не закрыть глаза.
И в этой полной беспорядка столовой, уже незаметно осаждённой прислугой, спешащей убрать со стола и привести всё в порядок для вечернего застолья, я нахожусь почти один, не зная, очень счастлив ли я или очень несчастлив, не зная, что есть реальность и что есть сверхъестественное.
Затем, я это понимаю, медленно, тяжело… Я бросаю взгляды вокруг себя, я рассматриваю любую простую и спокойную вещь, потом я закрываю глаза и говорю себе, будто избранный, постепенно отдающий себе отчёт в своём откровении:
«Но вот же она, бесконечность; это так, я не могу больше в этом сомневаться.» Это утверждение настоятельно необходимо: нет странных вещей: сверхъестественное не существует, или, скорее, оно есть повсюду. Оно есть в реальности, в простоте, в безмятежности. Оно есть здесь, между этих стен, которые находятся в ожидании всей своей тяжестью. Реальное и сверхъестественное есть одно и то же.
Это не может являться большей тайной в жизни, чем иное пространство в небе.
Я, который подобен другим, я переполнен бесконечностью. Но насколько всё это представляется мне незначительным и беспорядочным! И я мечтаю о себе, о себе, который не может ни хорошо познать меня, ни избавиться от меня; о себе, существующем как тяжёлая тень между моим сердцем и солнцем.
VIII
Их окружало то же самое убранство, их затемняли те же сумерки, что и в первый раз, когда я их увидел вместе. Любимая и её любовник сидели недалеко от меня, бок о бок.
Они, вероятно, разговаривали уже некоторое время, когда я добрался до них.
Она была позади него, на канапе, скрытая сумраком вечера и темнеющей фигурой мужчины. Он, бледный и неопределённый, с ладонями на коленях, наклонился вперёд в пустоту.
Ночь ещё была облачённой в серую и шелковистую нежность вечера; скоро она обнажится. Она вскоре охватит их как болезнь, от которой не известно, можно ли будет излечиться. Казалось, что они это предчувствовали, что они старались защититься, что против этой тьмы им хотелось бы принять меры предосторожности на словах и в мыслях.
Они торопились беседовать на те или иные темы; бессильно, без интереса. Я услышал названия местностей и имена людей; они говорили о вокзале, о народном гулянье, о торговце цветами.
Вдруг она остановилась, мне показалось, что она помрачнела, и спрятала своё лицо в ладонях.
Он взял её за запястья, с унылой медлительностью, указывавшей, насколько он привык к этим срывам — и он сказал ей, не зная, что же сказать, бормоча, приближаясь к ней, насколько он это мог.
«Почему ты плачешь? скажи мне, почему ты плачешь.»
Она не ответила; затем она убрала свои руки от глаз и посмотрела на него:
«Почему? Если бы я знала! — сказала она. — Слёзы не являются словами.»
*
Я глянул, как она плачет, утопая в слезах. Ах! это так важно — находиться в присутствии кого-либо благоразумного, кто плачет! Создание слишком слабое и слишком изнеможённое, которое плачет, производит то же впечатление, что и всемогущий Бог, которого умоляют; ибо в своей слабости и своём поражении оно превосходит человеческие силы.
Своего рода суеверное восхищение охватило меня перед этим женским лицом, омытым неиссякаемым источником, этим лицом, одновременно искренним и правдивым.
*
Она перестала плакать. Подняла голову. Хотя он не спрашивал на этот раз, она сказала:
«Я плачу от одиночества.»
«Невозможно выйти из себя; невозможно даже ни в чём сознаться; это от одиночества. И потом, всё проходит, всё меняется, всё убегает, и с момента, когда всё убегает, наступает одиночество. Имеются такие часы, когда я вижу это лучше, чем в другое время. И тогда что же может помешать мне плакать?»
В печали, где она ежеминутно тонула, у неё имелся небольшой всплеск гордости; на маске меланхолии я увидел слегка вымученную улыбку.
«Что касается меня, я более чувствительная, чем другие. Вещи, которые прошли бы незамеченными в глазах других людей, находят во мне значительный отклик. И в эти моменты просветления, когда я вглядываюсь в себя, я вижу, что я в одиночестве, совсем одна, совсем одна.»
Обеспокоенный зрелищем её растущего отчаяния, он попытался заставить её вернуться к жизни.
«Мы не можем так говорить, мы, которые переделали свою судьбу… Ты, которая совершила великий волевой акт…»
Но эти слова уносятся как лёгкие соломинки.
«К чему это? Всё бесполезно. Несмотря на то, что я попыталась сделать, я остаюсь в одиночестве. Вовсе не супружеская измена переделает лицевую сторону вещей, — хотя это слово столь сладко!
«Вовсе не со злом достигают счастья. Тем более и вовсе не с добродетелью. Тем более и не с этим священным огнём великих инстинктивных решений, которые не являются ни благом, ни злом. Вовсе не с ничтожеством всего этого достигают счастья; это никогда до сих пор не достигается.»
Она остановилась и сказала, как если бы чувствовала, что её участь вновь тяготела над ней:
«Да, я знаю, что я совершила зло; что все, кто меня больше всего любят, возненавидели бы меня по-всякому, если бы узнали… Моя мать, если бы узнала — она, которая столь снисходительна, — она бы стала такой несчастной! Я знаю, что наша любовь вызывает осуждение со стороны всего благонравного и праведного и вызывает слёзы моей матери. Но это бесчестье больше ни к чему не приведёт! Моя мать, если бы она знала, она сжалилась бы нал моим счастьем!»
Он тихо пробормотал: «Ты злая…»
Это прозвучало как незначительное пустословие.
Она погладила лоб мужчины лёгким прикосновением своей руки и сказала сверхъестественно уверенным голосом:
«Ты прекрасно знаешь, что я не заслуживаю этого слова. Ты прекрасно знаешь, что я говорю о понятиях, превосходящих нас.
«Ты знаешь хорошо, ты знаешь лучше меня о существовании в одиночестве. Однажды, когда я говорила о радости жить и когда ты был охвачен грустью, как я сегодня, ты сказал мне, посмотрев на меня, что ты не знал, о чём я думала, несмотря на мои слова; что ты не знал, была ли живой краской бросавшаяся мне в лицо кровь.
«Все наши мысли, как самые значительные, так и самые мельчайшие, относятся только к нам самим. Всё нас отбрасывает в нас самих и нас приговаривает к нам одним. Как раз сегодня ты сказал: «Есть вещи, которые ты скрываешь от меня, и я не узнаю их никогда — даже если ты мне их говоришь», ты мне показал, что любовь есть лишь своего рода праздник нашего одиночества, и ты закончил, прокричав мне, когда я погружалась в объятия твоих рук, «Наша любовь это я!» И я тебе ответила возражением, увы, неизбежным: «Наша любовь это я!»
Он хотел говорить. Дружеским и отчаянным жестом она положила свою ладонь ему на рот и сказала громче, созвучием более трепещущим и проникновенным: «Послушай… Возьми меня, сожми мои пальцы, приподними мои веки, прислонись всей своей грудью к моей груди; шарь по мне твоими ладонями или твоей плотью; целуй меня долго, долго, до тех пор, когда будешь дышать моим ртом, до тех пор, когда мы не смогли бы больше узнать наши рты; делай из меня то, что ты захочешь, чтобы тебе приблизиться, тебе приблизиться… И ответь мне: «Я тут для того, чтобы страдать. Ты «её чувствуешь», мою боль?»
Он ничего не говорит, и в сумеречном покрове, который их окутывал, напрасно их водружал друг на друга, я увидел, как она сделала головой бесполезный отрицательный жест… Я увидел всё убожество, исходящее из этой группы, которая однажды, случайно, в сумраке, не сумела больше молчать.
Это правда, что они тут и что они не имеют ничего, их объединяющего. Между ними пустота. Напрасно говорить, действовать, возмущаться, неистово вскакивать, бороться и угрожать, одиночество вас укрощает. Я вижу, что у них нет ничего, что их бы объединяло, ничего.
*
«Ах! — сказала он», — больше не говорим никогда о горе и радости; их разделение поистине слишком невозможное дело. Но даже взаимное проникновение умов друг в друга исключено. На свете нет двух существ, которые говорят на одном и том же языке. В некоторые моменты, без какой-либо причины, происходит сближение; потом, без достаточных оснований, происходит отдаление друг от друга. Люди сталкиваются друг с другом, ласкают друг друга, делают больно друг другу; смеются, когда следует плакать, никогда ни на что не способные. Пара всегда безрассудна. Ты сам так сказал, я не придумала эту фразу. Ты, имеющий столько ума и знаний, ты сказал мне, что два собеседника были как два слепых друг перед другом, и почти как два немых, и что двое любовников, которые сливаются вместе, остаются такими же чуждыми Друг другу, как ветер и море. Личный интерес или различная направленность чувств и мыслей, усталость или, напротив, острое проявление желания спутывают внимание, мешают ему быть поистине сознательным. Когда слушают, то ничего не слышат, когда слышат, то ничего не понимают. Пара всегда безрассудна.»
Казалось, что он привык к этим грустным монологам, декламируемым одним и тем же тоном, безмерно скучным до невозможности. Он больше не отвечал. Он её держал, слегка убаюкивал, осторожно и ласково нежил. Казалось, что он обращался с ней как с больным ребёнком, за которым ухаживают, не объясняя ничего ему… И, таким образом, он был настолько далёк от неё, насколько это было возможно.
Но соприкосновения с ней его волновали. Даже подавленная, ослабевшая и безутешная, она пылко трепетала в его руках; он страстно желал эту добычу, даже раненую. Я видел, как сияли глаза, направленные на неё, пока она предавалась грусти, с полным самопожертвованием. Он прижимался к ней. Он несомненно желал её. Слова, которые она говорила, отбрасывались им в сторону; они были ему безразличны, они его нисколько не затрагивали. Он желал её, именно её!
Они были очень схожи мыслями и душами, и, в этот момент, они существенно помогали друг другу. Но я прекрасно замечал в качестве зрителя, свободного от людей и обозревавшего всё это взглядом сверху, что они были чужими и что, несмотря на внешнюю сторону их отношений, они не видели друг друга и не слышали друг друга… Она, печальная и неопределённо оживлённая, возможно, гордостью за способность убеждать, он, возбуждённый и охваченный желанием, нежный и подобный животному. Они лучше всего соответствовали тому, что они могли, но они не были в состоянии уступить друг другу и пытались победить друг друга; и эта разновидность ужасной битвы терзала меня.
*
Она поняла его желание. Она сказала, жалобно, как уличённый ребёнок:
«Я больна…»
Потом на неё нашло мрачное исступление. Она отбросила, приподняла, раздвинула свои одежды, освободилась от них, как от живой тюрьмы, и предложила себя ему, вся обнажённая, приносящая себя в жертву, со своей женской раной и своим сердцем.
…Большая тёмная груда одежды открылась и закрылась.
Ещё раз произошло смешение тел и медленная ритмичная безграничная ласка. И ещё раз я посмотрел на лицо мужчины в тот момент, когда его охватывало наслаждение. А! я его хорошо видел, он был в одиночестве!
Он думал о самом себе! он любил себя; его лицо, с набухшими венами, переполненное кровью, любило само себя. Он приходил в восторг посредством женщины, плотского инструмента, равного ему. Он думал о нём, восхищённый. Он был счастлив всем своим телом и всей своей мыслью. Его душа, его душа била ключом, сияла, была вся на его лице… Он весь раздувался от радости… Он шептал слова обожания; обоготворённый ею, он её благословлял.
Они не едины оттого, что содрогаются и раскачиваются одновременно и что немногое от их плоти является общим. Наоборот, они в одиночестве до помрачения; каждый из них падает, они не знают, куда, с приоткрытыми ртами и руками. Наслаждаться вместе, какое разъединение!
Теперь они поднимаются, освобождаются от внезапно ослабевшей мечты, которая их опрокинула.
Он такой же хмурый, как и она. Я наклоняюсь, чтобы разобрать его слова, тихие как вздох. Он сказал:
«Если бы я знал!»
Кажется, что они оба, обессиленные, но более недоверчивые во отношению друг к другу, с преступлением между ними, в тяжёлом мраке, в грязи вечера, медленно тянутся к серому окну, которое чистит начинающийся рассвет.
Как они похожи на тех, какими они были как-то вечером! Это другой вечер. Никогда я не имел на этот счёт впечатления, что поступки напрасны и проходят как призраки.
Мужчина охвачен трепетом и сломлен, лишён всей своей гордости, всего своего мужественного целомудрия, у него нет больше сил сдерживать признание в постыдном сожалении.
«От этого нельзя удержаться, — бормочет он, опуская ниже голову. — Это рок.»
Они берут друг друга за руку, слегка вздрагивают, вздыхая, удручённые, мучимые их сердцами.
Рок!
Они видят дальше, чем плоть и чем совершённое деяние, если можно так сказать. Только одно сексуальное разочарование не сделало бы их подавленными до такой степени, не ввергло бы их в это низменное подчинение угрызениям совести и отвращению. Они видят дальше. Они заполнены впечатлением покинутой истины, чёрствости, возрастающего небытия, размышлениями о том, что они столько раз создавали, отвергали и вновь напрасно создавали свой хрупкий плотский идеал.
Они чувствуют, что всё проходит, что всё изнашивается, что всё кончается, что всё, не являющееся мёртвым, скоро умрёт, и что даже иллюзорные связи, существующие между ними, не являются долговременными. Эхо слов вдохновенной Любимой раздалось как воспоминание о великолепной музыке, которая остается: «С момента, когда всё убегает, наступает одиночество.»
Эта такая же самая мечта их не сближает. Наоборот. Они оба, одновременно, отступают в одном направлении… То же самое содрогание, случившееся от той же самой тайны, толкает их к той же самой бесконечности. Они со всей силой разделены в своих горестях. Страдать вместе, увы, какое разъединение!
И приговор самой любви выходит из неё, сочится и выпадает из неё в виде крика в агонии:
«О! наша великая, наша огромная любовь! Я точно чувствую, что постепенно я ею утешаюсь!»
*
Она вытянула шею вперёд, подняла глаза.
«О! первый раз!» — сказала она.
Она продолжила, пока они оба мысленно представляли этот первый раз, когда, среди людей и вещей, их обе ладони нашли друг друга:
«Я прекрасно знала, что всё это волнение может однажды умереть, и, несмотря на захватывающие обещания, мне не хотелось, чтобы время проходило.
«Но время прошло. Мы почти не любим друг друга…»
Он сделал движение, которое явилось новым промахом.
«Не только ты, мой дорогой, уходишь: я тоже. Сначала я думала, что это был ты один, потом я поняла своё больное сердце, которое, вопреки тебе, ничего не могло против времени.»
Она рассказывала медленно, глядя на него, потом отведя от него глаза, чтобы посмотреть позднее:
«Увы! возможно, однажды я тебе скажу: «Я тебя больше не люблю.» Увы! увы! возможно, однажды я тебе скажу: «Я тебя никогда не любила!»
*
«Вот в чём беда: это время, которое проходит и которое нас меняет. Разделение существ, которые выступают друг против друга, это по сравнению ничто. Однако можно было бы жить с этим. Но время, которое проходит! Стареть, думать иначе, умереть. Я же старею и я умираю. Представляешь, мне потребовалось много времени, чтобы это понять. Я старею; я не старая, но я старею. У меня уже есть несколько седых волос. Первый седой волос, какой удар! Однажды, склонившись к моему зеркалу, готовая к выходу, я увидела на своём виске два седых волоса. Ах! ведь это серьёзно; это предупреждение, чёткое, полное. Именно в этот раз, сидя в углу моей комнаты, я увидела полностью всё моё существование, с начала до конца, и я поняла, что я ошибалась всякий раз, когда смеялась. Седые волосы также и у меня! всё-таки и у меня! У меня, да, у меня! Я достаточно видела смерть вокруг себя, но моя смерть, именно моя, я в неё не верила. А теперь я её видела, я узнавала, что речь шла о ней и обо мне!
«Ах! вот бы избавиться от этого обесцвечивания, которое надвигается на вас, охватывает вас, как каких-то марионеток, сверху; от этого угасания цвета волос, которое покрывает вас бледностью савана, костных останков и надгробных плит…»
Она приподнялась и крикнула в пустоту:
«Вот бы убежать от сетки морщин!»
*
Она продолжала:
«Я сказала себе: «Совсем незаметно ты к этому идёшь, ты к этому приходишь. Твоя кожа высохнет. Твои глаза, которые улыбаются даже когда отдыхают, будут плакать сами по себе… Твои груди и твой живот увянут, как лохмотья твоего скелета. Усталость от жизни приоткроет твою челюсть, которая будет непрерывно зевать, и ты будешь непрерывно дрожать из-за сильного холода. Твоё лицо станет землистым. Твои слова, которые находили очаровательными, будут казаться отвратительными, когда они будут высказаны слабым дребезжащим голосом. Платье, которое тебя слишком прятало, в глазах мужских сборищ, не будет скрывать теперь в достаточной степени твою чудовищную наготу, и глаза будут отводиться, и не осмелятся даже подумать о тебе!»
Измученная, с поднесёнными ко рту ладонями, она задыхалась, она задыхалась от истины, как будто бы ей в самом деле нужно было слишком много сказать. И это было великолепно и ужасающе.
Он, растерявшийся, обхватил её руками. Но она была как в бреду, выведенная из себя всеобъемлющей скорбью. Будто она только что узнала погребальную истину как внезапную плохую новость, как новый траур.
«Я тебя люблю, но я люблю прошлое ещё больше, чем тебя. Я бы хотела его, мне бы хотелось его, я себя изнуряю для него. Прошлое! видишь ли, я буду плакать, я буду страдать, так как прошлого больше не будет.»
*
«Но напрасно его любить, оно больше не шевельнётся… Смерть повсюду: в уродстве того, кто был слишком долго красивым, в мерзости того, кто был ясным и чистым, в наказании лиц, которых нежно любили, в забвении того, кто отдалён, в привычке, этом забвении того, кто вблизи. Жизнь видится мельком: утро, весна, надежда; имеется лишь смерть, видеть которую в самом деле есть время… С тех пор, как этот свет стал светом, смерть является единственным, что может быть ощутимым. Именно над ней ходят и именно к ней идут. К чему быть красивой и целомудренной; над нами пройдут. В земле имеется гораздо больше мёртвых, чем живых на её поверхности; а мы сами имеем гораздо больше смерти, чем жизни. Это не только другие существа — наши существа — голоса все полностью когда-то бывшие вокруг нас, а теперь уничтоженные; это также, год за годом, наибольшая часть нас самих. И то, что ещё не уничтожено, умрёт также. Почти всё мертво.
«Наступит день, когда меня больше не будет. Я плачу, потому что я конечно умру.
«Моя смерть! Я спрашиваю себя, как можно жить, мечтать, спать, раз скоро придётся умереть: устаёшь, пьянеешь.
«Несмотря на огромное, терпеливое, вечное усилие и на большие решительные натиски энергии, слышна ложь рока в сделанных клятвах. Я это как раз слышу. Каждый раз, когда говорят: да, вмешивается нет, бесконечно более сильное и более истинное, возносится и забирает всё для себя.
«Ах! есть моменты, особенно вечером, когда кажется, что время колеблется, изношенное и смягченное нашими сердцами; мы имеем сладостный мираж неподвижности часов. Но это неправда. В целом существует непобедимое небытие я именно отравленные им мы скончаемся.
«Видишь ли, мой дорогой, когда думаешь об этом, извиняешься, улыбаешься, больше не сердишься ни на кого, вот это разновидность побеждённой доброты тяжелее всего прочего.»
*
Он целовал её ладони, нагнувшись к ней. Он её окутывал безразличной и благоговейной тишиной; но, как всегда, я чувствовал, что он был её хозяином…
Она говорила мелодичным и изменённым голосом:
«Я всегда думала о смерти. Однажды я призналась моему мужу в этой навязчивой идее. Он вскипел от ярости. Он сказал мне, что я неврастеничка и что нужно меня лечить. Он обязал меня быть такой, как он сам, который никогда не думал об этих вещах, поскольку был умственно здоровым и уравновешенным.
«Это неправда. Он как раз был болен спокойствием и безразличием: паралич, пьянство и его ослепление были недугом, и его мир был миром собаки, которая живёт, чтобы жить, животного с человеческим лицом.
«Что делать? Молиться? Нет; вечный диалог, всегда в одиночестве, является изнуряющим. Погрузиться в какое-нибудь занятие, работать? Это бесполезно: разве работа не является тем, что нужно всегда делать заново? Иметь и воспитывать детей? Это одновременно создаёт впечатление завершения и бесполезного самовозобновления. Однако, кто знает!»
Это был первый раз, когда она уступала.
«Усердие, покорность, смирение, свойственные матеря, у меня отсутствовали. Возможно, именно это и направляло меня в жизни? Я сирота из-за отсутствия малого ребёнка.»
Опустив глаза, высвободив свои ладони, позволив господствовать материнским чувствам своего сердца, она в течение минуты думала лишь о любви к отсутствующему ребёнку и сожалела о его отсутствии — и не догадывалась о том, что если она и считала его единственным возможным спасением, то лишь потому, что она его не имела…
«Благотворительность? Говорят, что она заставляет забыть всё.»
Она прошептала это, в то время как мы ощущали озноб от дождливого холода вечера и от всех зим, которые были и которые будут!
«О! да, быть доброй! Отправиться с тобой подавать милостыню на снежных дорогах, в большой меховой шубе.»
Она сделала усталый жест.
«Я не знаю.
«Мне кажется, что это неправильно. Всё это безрассудно; это ничего не меняет на самом деле, потому что это неправда… Кто же нас спасёт? Впрочем, мы всё же будем спасены! Мы умрём, мы скоро умрём!»
Она громко добавила:
«Ты прекрасно знаешь, что земля ждёт наших гробов и что она их получит. И до этого не так уж далеко.»
Она остановила свои слёзы, вытерла глаза, стала говорить утвердительным тоном, таким спокойным, что он создавал впечатление заблуждения:
«Я хотела бы задать тебе один вопрос. Ответь мне искренне. Осмеливался ли ты, мой дорогой, даже в скрытой глубине твоей души, сформулировать для себя дату, относительно отдалённую, но точную, абсолютную дату, с четырьмя цифрами, и сказать себе:
«— Каким бы старым я ни дожил до этой даты, я умру — в то время как всё будет продолжаться, и постепенно будут ли пустеющие после меня места уничтожены или заполнены?»
Его взволновала ясность этого вопроса. Но мне казалось, что он главным образом старался избежать такого ответа ей, который бы усугубил её одержимость. Очевидно, что он понимал все эти вещи (среди которых иногда получало отклик, как она сказала, эхо его слов), но он, как казалось, понимал это теоретически, в свете великих идей и философского или художественного пристрастия, отличного от его чувствительности; тогда как она была потрясена и подавлена собственным переживанием, и её рассудок кровоточил.
*
Она осталась внимательной, неподвижной; затем она продолжила, после колебания, тихим голосом, быстрее, с более безнадёжным беспокойством в этом значительном увлечении своей скорбью:
«Знаешь ли ты, что я сделала вчера? Не ругай меня. Я была на кладбище Пер-Лашез. Я пошла по аллеям, затем между могилами, до склепа моей семьи, того, где, отодвинув камень, спустят мой гроб на верёвках. Я сказала себе: именно сюда однажды прибудет моя похоронная процессия, однажды вскоре или нескоро, но однажды несомненно — к одиннадцати часам утра. Я устала, а была вынуждена прислониться к могиле; и вследствие своего рода заразительности тишины, мрамора и земли, у меня было видение моего погребения. Подъём по дороге шёл с трудом. Нужно было тянуть лошадей катафалка за поводья (я это видела несколько раз в том месте). Жаль, что по этой дороге нужно было так взбираться в подобных обстоятельствах. Все те, кто меня знал, кто меня любил, были там, в трауре; и присутствующие, разрозненно толпившиеся между плитами (это глупо, такие тяжёлые камни на мёртвых!), и памятники, которые закрыты как дома в тени этой могилы, имеющей форму часовни, слегка касающейся другой могилы, покрытой квадратом нового мрамора — он будет ещё достаточно новым, чтобы представлять такое же светлое пятно.
Я была там… в катафалке — или, скорее, это была не я. Она была там… И все, в этот момент, любили меня с ужасом; и все думали обо мне, думали о моём теле; смерть женщины имеет нечто бесстыдное, так как речь идёт о ней всей.
«И ты, ты тоже был там, твоя бедная небольшая съёжившаяся от горя и немой силы фигура — и наша огромная любовь была лишь тобой и моим образом, и ты совсем не имел права говорить обо мне… В конце ты ушёл, как если бы ты меня никогда не любил.
«И, возвращаясь, замёрзшая, я сказала себе, что этот кошмар был самый реальный из реальностей, что это была простая вещь, в высшей степени истинная, и что все деяния, происходившие, когда я жила полной жизнью, были побочным миражом.»
Она приглушённо вскрикнула, что заставило её всю долго содрогаться.
«В каком отчаянии я добрела до дома! Снаружи моя печаль всё омрачила, хотя солнце сняло. Опустошение всей природы, производимое вокруг себя, мир скорби, привносимый в этот мир! Нет продолжительной хорошей погоды, когда начинается наша грусть.
«Мне кажется, что злой гений истины, которую никогда не видят, всё сделал удручённым, обречённым.
«Дом представился мне таким, каким он есть на самом деле, по сути: пустынный, сквозящий, белеющий…»
*
И вдруг она вспоминает одну вещь, которую он ей сказал; она вспоминает её со своего рода невероятной находчивостью, с восхитительной ловкостью, чтобы заранее заставить его замолчать и мучить себя ещё больше.
«Ах! кстати, послушай… Ты помнишь… Однажды вечером, при свете лампы. Я листала книгу; ты смотрел на меня. Ты подошёл ко мне, опустился на колени. Ты обнял меня за талию, положил голову мне на колени, и заплакал. Я ещё слышу твой голос: «Я думаю, — говорил ты — что этого момента больше не будет. Я думаю, что ты скоро изменишься, умрёшь, что ты уйдёшь, — и что однако теперь ты здесь!.. Я думаю, с огромной убеждённостью в истине, насколько ценны эти моменты, насколько ценна ты, которой таковой, как ты есть, никогда больше не будет, и я умоляю о невыразимо обожаемом мною твоём присутствии с этого самого момента.» Ты посмотрел на мою ладонь, ты нашёл её маленькой и белой, и сказал, что это было необыкновенное сокровище, которое исчезало. Затем ты повторил: «Я тебя обожаю» таким трепещущим голосом, истиннее и прекраснее которого я никогда ничего не слышала, ибо ты был прав, подобно какому-то божеству.
«И ещё кое-что: однажды вечером, когда мы долгое время оставались вместе, и когда ничто не могло рассеять твои мрачные опасения, ты спрятал лицо в твоих ладонях и сказал мне эти ужасные слова, которые меня пронзили и которые остались в ране: «Ты меняешься; ты изменилась; я не осмеливаюсь на тебя смотреть, из страха тебя не «увидеть!».
«Знаешь, именно в этот вечер ты мне сказал о срезанных цветах: трупах цветов, как ты говорил, и ты их сравнивал с мертвыми птичками. Да, это был вечер того великого проклятия, которое я никогда не забуду, и которое ты разом выкрикнул, как будто ты очень сожалел по поводу срезанных цветов.
«Как ты был прав, когда чувствовал себя побеждённым временем, смирился, говорил, что мы были ничем, потому что всё проходит и все достигается».
*
Сумерки наполняли комнату и гнули как сильный ветер эту бедную группу, занятую рассмотрением причин страдания, раскапыванием бедствий, чтобы узнать, из чего они состояли.
«Пространство, которое всегда, всегда между нами; время, время, которое закреплено в нас как болезнь… Время более жестоко, чем пространство. Пространство имеет нечто мертвое, время имеет нечто убивающее. Видишь ли, все виды тишины, все могилы имеют во времени их могилу… Две столь невидимые и столь реальные вещи, которые сходятся на нас в определённом месте, где мы существуем! Мы распяты; не так, как господь Бог, который был распят телесно на кресте; но (она сжимала свои руки против своего тела, она съёживалась, она была совсем маленькая), мы распяты на времени и пространстве.»
И она мне показалась в самом деле распятой в двух направлениях своей молитвы и носящей на сердце кровоточащие стигматы великой муки — жить.
Она расцвела изо всех своих сил. Она была похожа на всех тех, кого я видел на том месте, где была она, и которые также хотели вырваться из небытия и жить больше, но именно её желание было полным спасением. Её смиренное гениальное сердце переходило в своём излиянии от полной смерти к полной жизни. Её глаза были направлены в сторону белеющего окна, и это была самая огромная возможная просьба, самое огромное из человеческих желаний, трепетавшее в этой манере вознесения её лица к небу.
«О! останови, останови проходящее время! Ты есть лишь бедняга, лишь немного существования и размышления, затерянных в глубине комнаты, и я тебе приказываю остановить время, и я тебе приказываю помешать смерти!»
Её голос затих, как если бы она не могла больше ничего сказать, полностью израсходовав, использовав вею свою мольбу; и она погрузилась в горестную тишину.
«Увы!» — сказал ей мужчина…
Он посмотрел на слёзы в её глазах, на её молчащий рот… Затем он опустил голову. Возможно, он предавался крайнему унынию; возможно, в нём пробуждалась значительная внутренняя жизнь.
Когда он поднял голову, у меня появилось смутное предчувствие, что он мог бы знать, как именно ответить, но что он ещё не знал, как это сказать — будто любое слово, видимо, становилось слишком незначительным.
«Вот что мы есть!» — повторила она, подняв голову, внимательно посмотрев на него, ожидая невозможного противоречия, — как ребёнок спрашивает звезду.
Он пробормотал:
«Кто знает, что мы есть…»
*
Сделав жест бесконечной усталости, который имитировал неосознанным величием удар косы смерти, она его перебила невыразительным голосом, с пустыми глазами:
«Я знаю, что ты сейчас скажешь. Ты мне скажешь о красоте страдания. Ах! я знаю твои прекрасные идеи. Мне они нравятся, мой любимый, твои прекрасные теории; но я в них не верю. Я бы поверила в них, если бы они меня утешали и устраняли смерть.»
С явным усилием, он, будучи также не совсем уверенным, пытался найти способ убеждения:
«Они бы её, возможно, устранили, если бы ты в это верила… — пробормотал он.
— Нет, они её не устраняют, это неправда. Ты это напрасно говоришь, один из нас умрёт раньше другого, и другой умрёт. Что ты ответишь на это, скажи, что ты ответишь? О! ответь мне! Не отвечай косвенно, но ответь именно на это. О! смути меня, измени меня ответом, который относится ко мне, лично, к такой, какая я есть здесь.»
Она повернулась к нему, он взял своими двумя ладонями одну из её ладоней. Она вся вопрошала его, с неумолимым терпением, потом она соскользнула на колени перед ним, подобно безжизненному телу, распростёрлась на полу, как потерпевшая крушение под спудом безнадёжности и полностью спустившаяся с небес, и стала умолять его:
«О! ответь мне! Я буду так счастлива, когда представлю, что та это можешь!»
Она протягивала руку, показывала пальцем навязчивое видение: горестная истина, формулу которой она нашла, самое обширное название зла: пространство, которое нас скрывает, время, которое нас терзает.
В этой комнате, превращенной сумерками в комнату с низким потолком и узкую, где скудное небо представляет пространство, где часы монотонно подтверждают и подтверждают время, он повторил, наклонившись над ней как над краем вопрошающей бездны.
«Известно ли, что мы такое? Все, что мы говорим, все, что мы думаем, всё, во что мы верим, является малоубедительным. Не известно ничего; нет ничего прочного.
— Напротив, — воскликнула она, — ты ошибаешься; увы, есть! есть совершенные, абсолютные, наша скорбь и наша нужда. Налицо имеется наша убогость: она видна и она осязаема. Пусть отрицается всё остальное, но кто смог бы отрицать нашу посредственность?
— Ты права, — сказал он, — это единственная абсолютная вещь, которая существует.»
Это была правда, что именно она существовала, это была правда, что её видели, что её осязали, судя по их широко открытым лицам.
*
Он повторил:
«Мы единственная абсолютная вещь, которая существует.»
Он хватался за это. Он почувствовал опору среди проносящегося времени. «Мы…» — говорил он, который нашёл клич против Смерти, он его повторял. Он его испробовал: «Мы… Мы…»
В сумерках, теперь без очертания комнаты, я рассмотрел мужчину, с женщиной у его ног, подобно грозовой туче и подобно пьедесталу… Его лоб, его руки, его глаза, весь он как мыслящее светило, возникали наподобие созвездия.
И это было величественно — видеть его начинающим сопротивляться.
«Мы есть те, кто длительно проживает.
— Те, кто длительно проживает! Мы, наоборот, есть то, что длится недолго.
— Мы есть те, кто видит длящееся недолго. Мы есть те, кто длительно проживает.»
Она пожала плечами, с видом протеста, разногласия. Её голос был почти злобным.
«Да… нет… Возможно, если хочешь… В конце концов, не всё ли мне равно? Это не утешает.
— Кто знает, не нуждаемся ли мы в грусти и во мраке, чтобы творить радость и свет.
— Свет мог бы существовать без мрака.
— Нет», — сказал он тихо.
Она повторно ответила:
«Это не утешает.»
*
Затем он вспоминает, что он уже думал о всех этих вещах…
«Послушай, — произнёс он трепещущим и немного торжественным голосом, как признание. — Однажды я представил себе два существа, которые находятся в конце их жизни и вспоминают всё, что они претерпели.
— Поэма! — заметила она, обескураженная.
— Да, — сказал он, — одна из тех, которые могли бы быть столь прекрасными!»
Странная вещь, но он, казалось, постепенно оживлялся; представлялось, что он впервые был искренним, в то время как он отказывался от трепещущего примера их судьбы, чтобы сделать своей целью вымысел своего воображения. Говоря об этой поэме, он вздрогнул. Чувствовалось, что он становился воистину самим собой и что он был предан вере. Она подняла голову, чтобы его слушать, терзаемая его стойкой потребностью в слове, хотя у неё не было доверия.
«Они там, — сказал он. — Мужчина и женщина. Это верующие. Они в конце их жизни, и они счастливы умереть, по тем причинам, которые привели их к усталости от жизни. Это своего рода Адам и своего рода Ева, которые мечтают о рае, куда они скоро вернутся.
— А мы, вернёмся ли мы в наш рай? — спросила Любимая: наш потерянный рай: невинность, начало, чистота! Увы! как я верю, в этот самый рай!»
*
«Чистота, вот именно, — сказал он. — Рай — это свет, земная жизнь — мрак: вот мотив моего поэтического сочинения, над которым я начал работать: Свет, которого они хотят, мрак, в котором они существуют.
— Как мы,» — заметила Любимая.
…С их мыслями и их невидимыми голосами, они ведь также были совсем близко от слегка зыбкого мрака, вялого стремления к почти стёртой бледности небес…
«Эти верующие просят смерти, как просят средства к существованию. В этот наиважнейший день слово наконец превратилось в ежедневную молитву; смерть вместо хлеба.
«Когда они узнают, что скоро умрут, они благодарят. Мне бы хотелось, чтобы это милостивое действие прежде всего просияло — как рассвет. Они показывают Богу свои тёмные руки и свои тёмные рты, свои мрачные сердца, свои взоры, лишённые света, и они умоляют его исцелить их от неизлечимого мрака.
«Элементарная мысль проявляется в их мольбе. Они хотят освободиться от мрака, потому что он преграждает путь божественному свету; через свою человеческую природу они от него восприняли лишь отблески и мимолётные вспышки, а они хотят во всей его совокупности этого Бога, от которого они видели лишь бледные вспышки на небесном своде: «Подай нам, — воскликнул он, — подай нам как милостыню луч, отсвет которого иногда покрывает нас как вуаль, и который, из бесконечности, ниспадает до звёзд!»[4].
«Они поднимают свои бледные руки как два жалких луча, неуклюжих и слишком маленьких.»
Что касается меня, то я спрашивал себя, не была ли эта группа, находившаяся перед моими глазами, уже во мраке смерти; или не была ли это их общая душа, которая, улетучиваясь с последним вздохом, могла бы поразить мой слух…
Поэзия их выражает, их обозначает; она по фрагментам извлекает их жизнь из тишины и неизвестности. Она точно приспосабливается к их внутреннему секрету. Женщина снова склонила шею, уже более блистательно подавленная. Она слушает его; он более значительный, чем она, он более красив, чем она, тоже красивая.
«Они возвращаются к размышлениям о своём существовании. На пороге вечного счастья они пересматривают на всём протяжении жизненное деяние, выполненное ими. Сколько скорби, сколько тоски, сколько ужаса! Они говорят обо всём, что было против них, не забывают ничего, не теряют ничего, не растрачивают ничего из страшного прошлого. Вот какова поэма о страдании во всей его полноте, которое сразу приходит на память!
«Сначала естественные потребности. Ребёнок рождается; его первый крик есть жалоба: неведение подобно знанию; потом болезнь, боль, все эти сетования, которыми мы насыщаем безразличную тишь природы; работа, с которой нужно бороться с утра до вечера, чтобы, когда больше почти нет сил, быть в состоянии протянуть руку к куче золота, обваливающейся как куча руин; всё, до дрянных отбросов, до грязи, до загрязнения пылью, которая нас подстерегает и от которой следует ежеминутно очищаться, — как будто земля без передышки пыталась нами обладать до окончательного погребения; и усталость, которая нас унижает, сгоняет с лиц улыбку, и которая вечером превращает домашний очаг в почти опустевший, с его призраками, всецело занятыми отдыхом!»
…Любимая слушает, соглашается. В этот момент она положила свою руку на сердце и сказала: «Бедные люди!» Потом она становится слегка взволнованной; она полагает, что это заходит слишком далеко; она не хочет столько мрачности — либо потому, что она устала, либо потому, что эта картина, представленная другим голосом, кажется ей преувеличенной.
И, путём замечательного объединения мечты и реальности, женщина из поэмы также протестует в этот момент.
«Женщина поднимает глаза и робко говорит, в качестве протеста: Ребёнок… «Ребёнок, который появился, чтобы нам помогать…» «Ребенок, которому дают жизнь и которому позволяют умереть!»[5] — отвечает мужчина… Он не хочет, чтобы скрывали страдание, и он находит в прошлом ещё больше несчастья, чем представлялось; имеется своего рода совершенство в его поиске; его суждение о жизни прекрасно как страшный суд: «Ребёнок, из-за которого человеческая рана ещё кровоточит. Создать, возобновить сердце — это заставить возродиться несчастье; родить: значит принести в жертву живое существо! Произвести на свет, с воплями, ещё одну жалобу! Боль при родах. Она больше не кончается; она безмерно возрастает в тревогах, в бессонных ночах…»[6] И это все страсти материнства, жертвоприношение, героизм у изголовья маленькой колеблющейся души, едва осмеливающейся жить, счастливый вид, когда тревожно до слёз, и струящиеся улыбки… И всегда неуверенность: «Вспомни конец работы и вечер, на закате, когда столь грустную сладость приносит возможность присесть… О! сколько раз, по вечерам, когда я глядел на своё непрестанно подрагивающее потомство, с трудом спасённое, мои ладони прикасались в изнеможении к головам любимых, затем я ронял обе свои безоружные руки, и там я, плачущий, был сражён слабостью моих родных!..»[7]
Любимая не смогла удержаться от жеста; мне показалось, что она собиралась сказать ему, что он был жесток…
«Они растут, и потом… Он говорит, с пылающим взором: «Каин!»; она продолжает рыдающим голосом: «Авель!». Она страдает при воспоминании о двух детях, которые ненавидели друг друга и были взаимно поражены злом. Они поразили злом и её, потому что они были в её сердце; это было так, будто они были в её плоти. Потом другое воспоминание совсем тихо её зовёт; она думает о своём малыше, который мёртв: «Малыш, самый лучший…Его больше нет, а я, я непрерывно на него смотрю!»[8] Она протягивает свои руки в невозможное, она стонет, терзаемая пустым объятием: «Его больше нет, а я всё его ласкаю!»[9] А мужчина бранится: «Смерть, злая выходка обожаемых, зловещая любезность, которая нас избавляет»[10], и она издаёт этот превосходящий всё вопль: «О! сколь бесплодно быть матерью!»[11]
Я был увлечён голосом поэта, который рассказывал, слегка поводя плечами, захваченный благозвучием. Я был увлечён до степени реализованной мечты…
«Потом они снова видятся, покинутые своими детьми, как только те выросли и полюбили. «Живой или мёртвый, ребёнок нас покидает, из-за того, что принято ненавидеть старость, когда сам ты молодой, и ты сильный, и ты понятный; что бурная весна хоронит зиму, что поцелуй бывает глубоким лишь на новых губах. Ты покинешь своего отца и свою мать и уклонишься от бесполезного и тяжкого объятия их рук…»[12]
Я подумал о сцене, которую я сам видел однажды вечером, такой же сцене, о которой говорил этот мужчина, об этой драме моей жизни. Да, это было именно так. Старая женщина окружила молодую пару, негласно освобождённую, бесполезным объятием, напрасным объятием. Он был прав, этот пространный рассказчик, этот пространный певец, этот мыслитель.
«Никакого средства против неустанного несчастья в жизни; даже в виде сна: «Спать… Ночью забывали… Нет, мечтали; отдых вспоминается, заполняется настоящими призраками; наш сон никогда не спит: он агонизирует… — Иногда он нас ласкает своими серыми формами, мечта, которую видят во сне. — Он всегда нам причиняет боль: грустный, он ранит наши ночи; сладкий, он ранит наши дни…»[13] «Однако мы бывали вдвоём», — шепчет супруга… И они рассуждают о любви. После тяжёлого труда они отправлялись вместе соединять на протяжении ночи отдых и нежность… «Но ночью мы принадлежали какое-то мгновение друг другу… Когда мы искали, среди всех дорог, нашу, и мы торопились, мрачные, к плохо закрытому жилищу, как к обломку судна после кораблекрушения среди всех волн, когда тень в глубине долины смешивалась с поношенным скромным платьем, будто подвергнутым бичеванию, мои глаза, под хором гаснущими лучами, видели почти открытое биение твоего сердца. Совсем одни, что мы говорили?… — Мы говорили друг другу: я тебя люблю…»[14]
«Но эти слова, увы! не имеют смысла, потому что каждый находится в одиночестве, и потому что два голоса, какие бы они ни были, шепчут друг другу непонятные секреты. И это предание анафеме одиночества, к которому они приговорены: «О, разделение сердец, земля, нагромождённая на каждого из них, ужасное молчание мысли! Любовники, любовники, мы старались встречаться до бесконечности; мы были там, мы не имели ничего, что нас объединяло, и, будучи близкими и трепещущими под властвующими светилами, с соединёнными перстами, мы были не чем иным, как двумя милостынями».[15]
— Ах! — сказала Любимая, — ты признаёшь это в твоей поэме! Ты не должен был… Это слишком искренне.
— …Потом приходил момент поцелуев и объятий. Но тела не проникают друг в друга больше, чем руки, несмотря на вольности мысли, и это было не соединение, а два исступления друг на друге.
— Я знаю, — сказала Любимая, всем своим существом содрогаясь от двойного стыда.
— И в часы безнадёжности нежность лишь увеличивала их два одиночества: «Погружённые в наши тела как в наши покровы, наши глаза соединяли свои плачи, наши сердца плакали в полном одиночестве; я это видела, хрупкая, бесконечная и трудно постижимая; ты плакал… Я почувствовала, что каждый представляет собой особый мир.»[16]
*
«Итак, нужда и зло появляются целиком при полном осознании, ничего не извиняющем. Проклятие окончено. К тому же, жизнь окончена. Они в последний раз возвращаются к этим вещам.
«Женщина смотрит вперёд, с любопытством, которое она имела, входя в жизнь. Ева кончает так же, как она начала. Вся её тонкая и пылкая женская душа возносится к секрету её жизни наподобие поцелуя, возносящегося к губам. Она хотела бы быть счастливой, уже…»
Любимая опять вмешивается в слова своего друга. Проклятие, как сестра её собственного проклятия, внушило ей доверие. Но мне кажется, что она как бы ещё уменьшилась перед нами. Только что она возвышалась над всем; теперь она слушает, она ждёт, она понимает.
«И мы также, не правда ли?» — сказала она в какой-то момент.
Это волнует, такой вид двойственного произведения жизни и искусства. Искусство лирическое, жизнь драматическая. Они одновременно творцы, актёры, жертвы. Больше не известно, чем же они являются. Имеется лишь великая истина, которая одинакова для слов и для судьбы. Где начинается драма, которую они играют, и где тот, кто с ними играет?
*
«Безмерная набожность терзает их надеждой: «Я верю в Бога, я больше не верю в себя!» Но вкрадывается неутомимое любопытство. Каким будет рай, как больше не будем страдать?…
«Рай, — говорит он, — мы его мельком увидели на земле. Надежды, волнения, прекрасные излияния и внутренние вознаграждения гордости — всё это было немного раем. Это было как краткие моменты Бога… Но это было быстро скрыто нашим бесчестьем, нашей человеческой гнусностью. Теперь наш скорбный путь скоро окончится, и это будет Бог без конца.» Женщина продолжает: «Чем же стану я?»
Любимая говорит: «Она права». Ибо, наконец, что же следует ему ответить?
«Он ей доказывает, что совершенное счастье есть сущность, природа которой от нас ускользает. Нельзя потрогать вечность, ещё менее возможно опробовать её. Нужно это предоставить Богу, а нам заснуть как детям в один из наших вечеров.
— Однако… — замечает Любимая.
— Но, будучи жертвой пророчества, которое постепенно ею завладело, женщина снова поставила неразрешимый животрепещущий вопрос: «Чем мы станем?».
«И тогда, снова, он ей отвечает, чем именно они не будут. Несмотря на то, что он хотел бы сказать что-нибудь положительное, истина овладевает им и направляет его к отрицанию: «Мы больше не будем нашими лохмотьями, нашими телами, нашими рыданиями…». И он углубляется в свою обездоленность, чтобы её отрицать. «Чем мы станем?» — восклицает она с содроганием. — Больше никакой обездоленности; больше не будет расставания, больше не будет страха, больше не будет сомнения. Больше никакого прошлого, больше никакого будущего, больше никакого желания. Больше никакой надежды.
— Больше никакой надежды?…
— Надежда приносит несчастье, потому что она надеется. Больше никаких молитв: молитвы также не будет, потому что это плач, который возносится и который нас покидает… Больше никаких улыбок: не есть ли улыбка всегда наполовину грустная? Улыбаются лишь своей меланхолии, своему беспокойству, заранее своему одиночеству, своей боли, которая быстро проходит; улыбка не длится, ибо если она будет длиться, её не станет; её свойство быть умирающей…
— «Но чем же стану я, именно я!» Этот крик: «Я!» постепенно занимает всё место, вибрирует, требует. И ещё раз он ей бросает призрачные слова, потому что его спрашивают о том, что будет, а он предлагает в ответ то, чего больше не будет. Он снова выставляет напоказ испытанные слова, наподобие пугала. Он их вытаскивает как зарытую в землю тайну. Он сознаётся в том, в чём никогда бы не сознался. «Имеется нечто, всегда скрывавшееся от тебя мною. Я тебе говорил кое-что, но я лгал.» Он стал бы почти выдумывать из-за необходимости найти, что же ответить на слишком простой вопрос. Он подробно рассказывает о своих желаниях, и каждый из его обрывков фраз вызывает в представлении ад. Он возжелал всего: чужой собственности, чужой судьбы, славы, бессмертной толпы. Он даже мельком показал всю драму, убитую в нём, сведённую судорогой, скованную, всю возможную большую поэму: «Ад более ужасный и ещё более жестокий: наша дочь, которая походила на твою зарю!»[17] Он не поддался своим желаниям, он их лишь более полно претерпел. Он пронёс в себе, с мотивами затишья, вечное искушение: «Пригвождённое во мне, но во всей полноте и очень сильное… О! притаившееся в моём сердце, мучающее и скрытое, постыдное зло непогрешимости!»[18]
«Он превыше всего желал прошлого, и он вспоминает это страдание, столь простое и столь неоспоримое — прошлое, которое мертво. Ему хотелось бы проникнуть в прошлое, как в будущее, как в любимое сердце. Но воспоминание неумолимо. Оно есть: ничто, оно есть: никогда больше, и тот, кто вспоминает, страдает и испытывает угрызение совести прежнего времени, будто злоумышленник. И также он, и они оба были одержимы мыслью о смерти, несмотря на их набожность, которая глубоко проникла в них со старостью. Мысль о смерти была повсюду. Ибо ужасна как раз не сама смерть, а именно мысль о смерти, которая разрушает любую жизнедеятельность, отбрасывая подземную тень. Мысль о смерти: смерть, которая живёт… «О!как я страдая… Как я должен был страдать!»
«Вот что было и чего, наконец, больше не будет. Вот все разновидности тьмы, которые нас предохраняли от продолжительности счастья. Всё сводится к захвату и к мраку, которых жизнь хочет избежать. «Мы есть те, — восклицает он, как в начале, — мы есть те, которые никогда не имели света, которых всеобъемлющий мрак вновь окутывал каждый вечер, те, чья живая кровь, кровь из глубины является чёрной, те, мрачная мечта которых марает всё, чего она касается, и наши глаза так же мрачны, как наши рты. Пустые и мрачные, наши глаза слепые, наши глаза потухшие: им нужна большая помощь небес… Ты помнишь, как, собравшись в тиши вечера при бурной погоде, мы сохраняли луч света над нашими головами, и мы долго хотели, чтобы тьма не настала. Твоя слабая рука, крепко лежащая на моей руке, трепетала… Подавляя наш ослабленный грустью порыв, тьма отнимала у нас похищенный свет…»[19]
«Мрак изливался из них как из раны на их боку; они в самом деле создавали мрак… И, будучи ограниченным, ослеплённым своим детским разумом, он восклицает: «Ночь поглотит себя; ты будешь светом!» Но жалкое безмерное обещание не оказывает никакого влияния на страх женщины, и она продолжает спрашивать, чем же станет она, именно она: ибо свет — это пустяк. Ничто, ничто… Она напрасно пытается бороться против этого слова.
«Он упрекает её в том, что она противоречит самой себе, требуя одновременно земного счастья и небесного счастья; она отвечает ему, из своей сокровенной сути, что противоречива не она сама, а противоречивы вещи, которых она желает.
«Тогда он хватается ещё за одну направленность спасения, и, с безнадёжным жгучим желанием, он объясняет, он кричит: Это нельзя знать! Как можно было бы это знать! Это безумие, это кощунство, пытаться это сделать! Речь идёт о порядке вещей, столь отличном от того, что мы понимаем! Божественное счастье не имеет ту же форму, что счастье человеческое. «Божественное счастье вне нас.»
Она встала, охваченная трепетом:
«Это неправда! Это неправда! Нет, моё счастье не есть вне меня самой, потому что это моё счастье…»[20] Весь мир есть мир Бога, но в моём счастье именно я есть Бог.» «Чего мне хочется, — добавляет она с бесповоротной простотой, — так это быть счастливой, мне, таковой, какая я есть, и таковой, какая я страдаю.»
Любимая вздрогнула: она, вероятно, думала о том, что она недавно сказала: «Ответ, который меня лично касается, меня, таковую, какая я здесь есть.» И она больше была похожа на эту женщину, чем на саму себя…
«Мне, таковой, какая я страдаю», — повторил мужчина.
«Важные слова! Они нас точно приводят к этому важному закону: счастье есть не предмет, не выражение расчёта; оно рождается из нужды и полностью зависит от неё, и больше невозможно разъединить радость и страдание, так же, как свет и тень. Разделяя их, мы убиваем обоих. «Мне, таковой, какая я страдаю!» Как быть счастливой в полном покое и при полной ясности, абстрактных как формула? Мы состоим из слишком многих потребностей и из слишком разнузданного сердца. Если бы у нас изъяли всё, что нам причиняет зло, что бы осталось! И счастье, которое наступило бы тогда, было бы не для нас, оно было бы для кого-то другого. Смутный зов, который, веря в следующее суждение, гласит: Мы имели отблеск счастья, стёртый мраком; при исчезновении мрака у нас будет самое полное счастье, — выдумка безумца. И также выдумкой безумца являются слова: у нас будет такое полное счастье, которое мы не можем постигнуть.
«И женщина сказала: «Боже мой, я не хочу «на небеса!»
— Полно! — сказала трепещущая Любимая, — значит, нужно было бы, чтобы имелась возможность быть несчастным в раю!
— Рай — это жизнь», — ответил он.
Любимая, с поднятой головой, замолкла, ограничившись сказанным, понимая наконец, что всеми этими словами он просто отвечал именно ей и что он восстановил в её душе мысль более возвышенную и более правильную.
*
«Мужчина теперь достиг единогласия, — продолжил он. — К тому же он чувствовал, в какую ошибку упирался его гнев. — И вот он подчёркивает, усовершенствует драматическую истину, едва замеченную во вспышке женщины. А Бог, Бог? — сказала она. — Бог не может ничего сделать для людей. Делать нечего. Он не бессильный. Он всего лишь Бог.
«И тогда что же они делают, эти два безутешных верующих, вопреки Богу? Они беспорядочно восстанавливают, воспоминание за воспоминанием, свою жизнь, и они её обожают, в её безотрадности, где имелось всё. Рядом с каждой из этих вспышек радости или гордости, которые они только что называли частицами Бога, они видят мрак, допускавший это, слабость, готовившую это, риск и сомнение, бдительно окружавшие это, трепет, который этому придавал жизнь… Облик их судьбы, столь реально восстанавливающийся в их глазах, постепенно исчезает в облике их любви, тем более замечательной, чем больше она перенесла мучений. Если бы он не был бедным, он не испытал бы всей полноты милосердия, которым она его щедро одарила, когда он приблизился к её свету, необходимому для него, и к её женским устам в зовущей тишине!
«Кажется, что они вновь переживают, подражают этому… Словно они плохо знают друг друга и постепенно вновь знакомятся, взаимно оценивают друг друга и начинают друг к другу привязываться. Что же касается мрака, — говорят они, — так мы его искали. Они видятся друг с другом, разыскивая днём сумерки в глубине комнат, в чаще лесов. Они созерцали, они понимали природу. Они слишком её понимали и присваивали ей то, чем она не обладала, когда их смертельное волнение допускало последнюю улыбку вечером… «И вокруг нас день умирал, увы!»
Я больше не знал, от имени кого говорило передо мной это человеческое создание, и была ли произносимая им речь о нём самом либо о других. Зажатый между этих стен, заброшенный вглубь этой комнаты подобно мокрой тряпке, этот мужчина, казалось, представлял одно из своих значительных произведений, где музыка сливается со словами:
«Ах! Когда я привлекал к себе своими покоряющими руками, под покровом вечера, твою драгоценную голову, когда я мельком замечал в твоих изнеможенных движениях твои уста и нескончаемое безмолвие их поцелуев, твоё тело, которое в ночи белело как ангел…»[21] Когда я приближался к твоему лицу как к зеркалу моей улыбки; когда, стоя рядом с тобой, поддерживая тебя и будучи поддерживаемым тобой, я погружал мои закрытые глаза в солнце твоих волос, чтобы ослепить себя; когда я обшаривал твою тень своими неуклюжими руками.
«Мы были нужны друг другу, мы страдали друг за друга… О! сомневаться, не ведать, надеяться, плакать! Именно так было всегда. Несмотря на безденежье, забвения, слабости и бедность, царила великая бедность нашей любви!
— Ах! — сказала Любимая, — не нужно проклинать, не нужно жалеть, нужно любить своё сердце.»
Он продолжал, не задерживая внимания на её словах: «И умирающие говорят: «И когда жизнь, со временем, не упрекая нас более, чем это возможно, увы! не делая из двух существ единое существо, нас, однако, сформировала достаточно похожими для того, чтобы нежность чудесным образом заставила нас быть чуткими друг к другу, мы достигли вместе сосредоточенности и духовного поклонения — религии, которая охватывает трепетом — именно для наших невзгод. Мы её обнаруживали повсюду со смертью; мы поклонялись человеческой слабости на ветру, чьи содрогания чувствуются и который приближается — и который дует всегда; в закате, который выцветает; в лете, которое кажется страдающим и ослабевающим; в осени, красота которой содержит предчувствия, и мёртвые листья которой заставляют грустно умирать звук шагов; в звёздном небе, величина которого кажется безумием; и совсем трудно было поверить, что камень имел каменное сердце и что будущее не было невинным и подверженным заблуждению! И мы сопротивлялись, и мы прирастали надеждой.»
«Вспомни, как ниспадал на большие спуски вечер, когда мы чувствовали, как приходит старость, мы соединяли попарно наши немощные руки и, вопреки всему, поворачивали наши глаза к будущему! Будущее! На твоей нескончаемой щеке улыбалась морщина. Всё было великолепно и трепетно, мудрая истина падала с сияющего неба, и его последний отблеск покоился на твоём белом челе. Скупые, усталые, с едва двигающимися веками, полные безотрадного прошлого, которое не может исцелить, мы надеялись: вечер смягчал камни, твои глаза были золотого цвета, у меня было чувство, что ты умираешь!»[22]
«Жизнь возбуждается со своего рода усовершенствованием в заканчивающейся жизни. «Это прекрасно, — провозглашает он ещё более значительно, — это прекрасно — достигнуть конца своих дней… Именно так мы провели жизнь как в раю.»
«И они пришли к тому, что робко, с неловкостью сказали друг другу: «Я тебя люблю.» На пороге вечной небесной синевы они пытались осуществить смиренное начало искупительной жизни. И они убеждаются в том, что Бог страдает, видя их умирающими, и они жалеют его. Потом те, кто скоро не будет страдать, говорят друг другу ужасное «прощай», на котором кончается драма.
— Они правы, — высказалась Любимая с возгласом, в котором она была вся.
— Вот истина, — сказал поэт. — она не устраняет смерть. Она не уменьшает пространство, не задерживает время. Но из всего этого и из понятия, которое мы об этом имеем, она творит мрачные основные элементы нас самих. Счастью нужно несчастье; радость частично становится грустью; именно благодаря нашему распятию во времени и пространстве наше сердце бьётся внутри. Не следует мечтать о своего рода абсурдных абстракциях; нужно сохранять связь, соединяющую нас с родом и с землёй. «Такие, какие мы есть! — вспомни. Мы есть большое смешение; мы есть нечто большее, чем мы думаем: кто знает, что же мы есть!..»
Женское лицо, сурово искажённое страхом смерти, вновь оживилось улыбкой. Она спросила, исполненная детского величия: «Что же ты мне всего этого не сказал сразу же, как я тебя спросила?
— Ты тогда не могла меня понять. Ты направила твою скорбную мысль по безисходному пути. Нужно было дать истине другое направление, чтобы изложить её тебе снова.»
*
Кое-что ещё, что я вижу в них, заставляет их волноваться: красота, беседа в любезных тонах. Да, это их окружило сиянием на несколько мгновений, пока они ещё не покинули мечту.
«Хорошо, — вздохнула она, — слышать здесь все эти слова, которые говорят именно о том, что против нас.
— Выразить свои мысли, пробудить то, что является живым, — сказал он, — это единственная вещь, которая на самом деле даёт впечатление справедливости.»
После этих значительных слов они замолчали. В эту долю времени они были столь близки, насколько было возможно на этом свете — по причине августейшего согласия с высокой истиной, с тяжкой истиной (ибо трудно понять, что счастье есть одновременно счастливое и несчастное). Она, однако, верила в это, она, мятежница, она, неверующая, которой он дал потрогать истинное сердце.
IX
Окно было открыто настежь. Вечер наступал, трепещущий, изобильный, будто определённое время года. Я увидел в запылённых лучах заката трёх лиц, находившихся против света продолжительных отблесков красновато-коричневого цвета с золотистым отливом. Старик, с печальным и подавленным видом, с изборождённым морщинами лицом, сидящий в кресле, придвинутом к окну; рослая молодая женщина с очень светлыми волосами, лицо которой походило на лицо мадонны. Немного в стороне сидела беременная женщина, и казалось, что она своим пристальным взором созерцала будущее.
Эта женщина совершенно не вмешивалась в разговор, либо потому, что она занимала более простое социальное положение, либо потому, что её мысли были целиком посвящены состоянию её тела. В полусвете, где она уединилась, были видны её растолстевшая и слегка уродливая фигура и нежный углублённый оскал её зубов.
Двое других беседовали. Голос мужчины был надтреснутый, изменчивый. Небольшое лихорадочное дрожание иногда охватывало его плечи, и временами у него были резкие движения, не контролируемые им; у его глаз веки были вытянутыми сбоку, его речь носила отпечаток какого-то иностранного акцента. Что касается её, то она рядом с ним держалась спокойно, с её ясностью и её ласковостью Севера, столь светлая и столь золотистая, что казалось, будто дневной свет исчезал медленнее, чем в другом месте, на её бледном серебристом лице и рассеянном ореоле её волос.
Были ли это отец и его дочь, брат и его сестра? Чувствовалось, что он её обожал, но что это не была его жена.
Он посмотрел на неё потухшими глазами, в которых появился отблеск солнца, освещавшего её.
Он сказал:
«Кто-то скоро родится, а кто-то скоро умрёт.»
Беременная женщина встрепенулась. Другая женщина воскликнула вполголоса, быстро наклонившись к нему:
«Что вы говорите, Филипп!..»
Казалось, что он равнодушен к впечатлению, произведённому его словами, как если бы это возражение не было искренним или являлось напрасным.
Возможно, он не был старым; его волосы казались мне слегка седеющими. Но он был охвачен таинственным страданием, которое он плохо переносил, имея постоянные судороги. Он не должен был долго прожить. Это проявлялось вокруг него в вечных признаках: страшащаяся и слишком сдерживаемая жалость во взглядах, и уже почти невыносимая скорбь.
*
Он принимается говорить после усилия своей плоти, чтобы прервать тишину. Так как он находится между открытым окном и мной, его слова частично рассеиваются в пространстве.
Он говорит о путешествиях. Я также предполагаю, что он рассказывал о своей женитьбе, но я не слышал, что было об этом сказано.
Он оживляется, его голос повышается; сейчас его звучность глубока и томительна. Он дрожит; постоянный пыл оживляет его жесты, его взоры, расхолаживает и возвышает его слова. В нём виден деятельный и блестящий человек, которым он, вероятно, был до того, как его сразила болезнь.
Он слегка повернул голову, и я его слышу лучше.
Он вспоминает города и страны, в которых побывал, перечисляет их. Он словно взывает к священным словам, к дальним и различным небесам, которые он умоляет: Италия, Египет, Индия. Он прибыл сюда, между двумя этапами, чтобы отдохнуть; и он отдыхает, встревоженный, прячется подобно беглецу. Скоро нужно будет опять уехать, и его глаза вновь засияли. Он перечисляет всё, что хотел бы ещё увидеть. Но сумерки постепенно сгущаются; тепловатость воздуха рассеивается как хорошая мечта; и он думает только обо всём, что он видел:
«Всё, что мы видели, всё, что мы привезли из пространства с собой!»
Создаётся впечатление, что они являются группой постоянно неуёмных путешественников, вечных беглецов, в какой-то момент их неутомимой гонки остановившихся в одном из укромных углов мира, который с их точки зрения кажется небольшим.
*
«Палермо… Сицилия…»
Он старается упиться обширным воспоминанием, потому что он не осмеливается заглянуть в будущее. Я вижу усилие, которое он делает, чтобы приблизиться к какому-то светлому моменту истёкших дней.
«Карпейя, Карпейя! — восклицает он. — Вы помните, Анна, это утро, очарованное светом? Паромщик и его семья были за столом в открытом поле. В каком пылу была природа!.. Круглый и бледный стол, подобный небесному светилу. Река блестела. На берегу тамариски с олеандрами. Недалеко на солнце была плотина: соприкасающаяся с рекой её искрящаяся подмога… Солнце расцвечивало все листья. Трава блестела так, будто была полна росы. Казалось, что на кустах имелись драгоценности. Ветер был таким слабым, что представлялся улыбкой, а не вздохом.»
Она его слушала; она воспринимала его слова, его откровения, будучи невозмутимой, трудно постижимой и прозрачной как зеркало.
«Семья паромщика, — продолжил он, — не была в полном составе. Молодая девушка удалилась, и, в стороне от своих, достаточно далеко, чтобы их не слышать, мечтала, сидя на простой скамье. Я вижу слегка зеленоватую тень большого дерева над ней. Она, в своём бедном платье, была на краю фиолетовой мистерии дерева.
«И я слышу мух, жужжащих в этом ломбардском лете, вокруг извилистой реки, вдоль которой мы шли и которая, постепенно, изящно развёртывалась.
«…Кто расскажет, — прошептал вспоминающий, — кто передаст в своём произведении жужжание мухи! Это невозможно, Может быть, потому, что это жужжание никогда не было одиноким, и что каждый раз, когда мы его слышали, оно было смешано со всеобщей музыкой момента.»
*
«Место, где я получил наибольшее впечатление от солнца Юга, — продолжил он, рассуждая о другом воспоминании, — так это в Лондоне, в одном музее; перед картиной, изображающей сияние солнца в римской деревне, маленький итальянец в костюме, натурщик, вытягивал свою шею. Среди неподвижности угрюмых смотрителей и потока посетителей, побывавших под дождём, в серости и сырости, он блистал; он был нем, глух ко всему, полон таинственного солнца, и у него были соединённые руки, почти сцепленные; он молился божественной картине.
— Мы вспомнили Карпейю, — сказала Анна. — Случайность наших путешествий привела нас туда в ноябре. Было очень холодно. Мы надели все наши меха; река была замёрзшей.
— Да, и ходили по воде! Это было огорчительно и любопытно. Все люди, которые кормились от воды: паромщик, рыбаки, речники, прачки и мужья прачек, — все эти люди шли по воде.»
Он сделал паузу; потом он спросил:
«Почему некоторые воспоминания остаются навечно?»
Он погрузил своё лицо в свои жалкие и нервные ладони и выдохнул:
«Почему, почему!»
*
«Наш оазис, — продолжила она, чтобы ему помочь в его деле воспоминаний, или же потому, что она сама разделяла эти головокружительные переживания, — был в вашем замке в Киеве, месте лип и акаций.
«Вся сторона лужайки всегда покрыта цветами летом и листьями зимой.
— Именно там, — сказал он, — я ещё вижу моего отца. Он выглядел хорошо. Он был одет в толстое пальто из мягкого драпа и носил фетровую шапочку, закрывавшую уши. У него была большая седая борода, а его глаза немного слезились от холода.»
Он вернулся к своей мысли:
«Почему я сохранил о своём отце именно это воспоминание, а не подобное другое? Какой необычный знак указал мне его единственное? Я не знаю, но это как раз его образ. Именно таким он сохраняется во мне, именно такой он не умер.»
Затем он почти задрожал, сказав:
«Я люблю Баку. Я больше не увижу вновь эту страну. Рядом с нефтяными скважинами, этот внушительный серый пейзаж, необъятный. Буровой раствор, масляные лужи, очень тёмные и радужные. Огромное небо, лишённое синевы. Нескончаемые дороги, где колеи блестят как рельсы. Строения чёрные и сияющие как люди. Запах нефти; повсюду, даже от цветов, вечный запах подземного моря.
«Я больше не увижу вновь эту страну. К тому же, я больше никого там не знаю. В прошлом году старый скупец Борин был ещё там, копя и считая свои деньги.
— Когда он почувствовал приближение смерти, — сказала молодая женщина, — он произнёс: «Я скоро разорюсь.»
Вечерело. Женщина казалась всё более и более видимой среди других и всё более и более красивой.
«В чертах лица его самою имелось также много доброты. Почему бы скупым, которые сильно любят что-либо, не иметь добрый вид?»
Лёгкое содрогание прошло по плечам больного.
«Закройте окно, пожалуйста, — сказал он. — Мне холодно.»
Когда окно закрыли, наступила тишина. Она сказала: «Я получила письмо от Катрин из Берга.
— Она всё такая же?
— Да: она умирает от раскаяния. Она напрасно ездит из страны в страну — на прошлой неделе она была на Балеарских островах, — она таскает повсюду, как некий вид бездеятельности, своё безутешное вдовство. Какую силу надо иметь, чтобы быть столь безутешной! Она сражается со своей молодостью и своей красотой. Она путешествует не для того, чтобы смягчить свой траур, но для того, чтобы его увеличить, насадить его повсюду в мире. На самом деле она не хочет никакого развлечения. Её огорчает, когда жизнь берёт реванш, и она на мгновение предаётся забвению. Однажды я видела её плачущей, потому что она рассмеялась. И однако, на её печаль можно безмятежно смотреть, так же безмятежно, как и на прелесть её лица.»
Я видел силуэт мужчины на бледных шторах — согнутая спина, трясущаяся голова, тонкая шея. Он поднял руки.
«Настоящее горе остаётся в нас, — сказал он. — Его почти не видно и не слышно. Но оно легко останавливает всё, даже жизнь. Настоящее горе принимает грандиозные формы тоски.»
Почти неловкими движениями он вытащил из своего кармана портсигар.
Он зажёг сигарету. Я различил измождённые черты его лица, пока яркая вспышка высвечивала это лицо в виде блестящей маски. Потом он закурил в сумерках, и можно было различить лишь зажжённую сигарету, передвигаемую рукой столь туманной, столь лёгкой, как дым, испускаемый сигаретой. Когда он подносил сигарету ко рту, я видел свет от его дыхания, от которого только что, в свежести пространства, я видел туман.
…Он курил вовсе не табак: аптекарский запах вызвал у меня отвращение.
Он вяло протянул руку к закрытому окну, — простому, с наполовину поднятыми маленькими форточками.
«Посмотрите… Это Бенарес и Аллахабад… Пожар цвета сплава золота с медью на сером фоне, мерцание странных человеческих существ. Это не существа, это статуи богов, под фиолетовым небом вечера. Они движутся… Нет… Да. Это пышная церемония, наводнённая тиарами, знаками различия и украшениями женщин… На берегу верховный жрец, со своей сложной многоярусной причёской и своими изогнутыми руками — расплывчатая пагода, архитектура, эпоха, раса. Насколько мы отличаемся от этих созданий… Кто прав?»
Теперь он расширил круг прошлого. Создаётся впечатление, что он сделал это тяжёлым и мощным усилием, словно он расширял круг ада и мольбы.
«Путешествия: все эти места, которые покидают! Всё это бесполезно. Путешествия не возвышают; чего бы ради возвыситься, шагая? К тому же, есть ли время снять тяжесть со своей души, чтобы воистину увидеть то, рядом с чем проводишь время? И даже тогда… Путешественники узнают лишь одно место поверхности в настоящий момент; в прошлое не путешествуют. Всё было. Я думал этой ночью, в то время как меня часто посещало воспоминание о прибрежных отвесных скалах, о песчаных равнинах и уэльских лесах, о рыцарях Круглого Стола. Король Артур; его товарищи… Мне показалось, что я был недалеко от них и что я приближался. Я видел только одного из них, в странном шлеме; его глаз изумрудного цвета посмотрел на меня и привёл меня в оцепенение. Других, призраков, заволокла дымка. Круглый каменный стол находится на осенней поляне (серый цвет тумана смешивается с рыжеватой пеленой леса). Стол круглый для того, чтобы, когда они находятся стоя вокруг, не проявлялось бы старшинство никого из них. Это как гигантский точильный камень. Он очень белый. Совершенно не имеющий углов. Он недавно был обтёсан, он новый.
…Тысяча лет!.. Две тысячи, три тысячи лет, и побережье Трои…
«Вы помните, Анна, эту золотую линию на просторе, которую мы пересекли?
«Греческий герой шагает по песку, слегка окрашенному утренней зарёй в красновато-коричневый цвет с золотистым отливом. Я вижу большой, очень правильный и твёрдо поставленный след, который он прокладывает на песке. На краю каждого из этих следов, после его прохода, немного золотого песка осыпается. Море замирает подле него. Я вижу отпечаток — тонкая покрытая пеной кромка — который последняя волна только что оставила на мокром песке, более тёмном, чем тот, где он шагает. Галька скрипнула под бронзой обуви и покатилась. Я слышу звук его шагов. Подумайте об этом, Анна: его шаги, звук его шагов, подавленный столько тысяч лет. Подумайте о взмахе крыла, необходимом, чтобы приблизиться к этому; эти шаги, от которых, днём позже, не оставалось никакого следа и которые, однако, существуют. Где они, где они? Они в нас, потому что мы их видим. Время не есть время; пространство не есть пространство.»
Тишина распростёрлась над этой замечательной фразой, над этой тайной ясности ума. Женщина не почувствовала себя способной прервать эту тишину, где парила истина, которую она, вероятно, не постигала.
«Его меч задел скалу, и слышно вибрирующее звучание лезвия в ножнах. Его сильная рука, чтобы вскарабкаться по крутому откосу, ухватилась за молодой сосновый ствол, с которого несколько сухих игл упали на место начала подъёма. Кто это бежит в сосновом лесу, рядом? Животное, собака; собака этого человека. Она приносит в своей пасти какую-то вещь: кожаный пояс, твёрдый и заскорузлый от соли и ветра, троянский пояс, оставшийся, уже наполовину истлевшим, от резни, которую сотни и сотни лет воспевал Гомер.
«Воин прибыл на высокий мыс. Его голова в напряжённом положении, его взгляд направлен на море. Нос прямой и тонкий; линия лба отчётливо ниспадает из железного шлема; надбровная дуга необычно выдвинута вперёд; ресницы взмахивают над сверкающим глазом; но я особенно внимательно рассматриваю его руку, наполовину сомкнутую, с короткими ногтями, тыльная часть ладони и пальцы загорелого оттенка, отливающего красным, будто высеченные из кирпича, ногти округлые, утолщённые, испещрённые мелкой галькой.
«Он видит побережье. Матросы заняты тем, что спускают на воду подводные части корпусов бесчисленных судов. Их тащат и скоро будут их толкать до выхода в открытое море, чтобы они не были изрублены прибрежными рифами. Греческий флот отправится этим вечером, потому что плыть судам можно только под звёздами, и флот плывёт, пока утро не забрезжит на синеве моря.»
После этого солнечного созерцания мужчина опустил свою утомлённую голову.
«У меня видение водного пространства. Я вижу вблизи эту воду, эти волны, которые, в абсолютной тишине, плещутся, серые и серебристые, при странном свете. Почему эта бесконечная тишина? Они на другой планете, удалённой на я не знаю, сколько сотен веков.»
*
Я смотрю, о чём он говорит, и я смотрю именно на него: зрелище, которое не существует, и человек, которого во мраке почти больше нет. Воскрешение в памяти, воскрешающий в памяти… Я размышляю об этой невыразимой разнице величия, имеющейся между тем, кто думает, и тем, что он думает. Его облик является незначительным оспариваемым пятном, неприметным, в начале развития стран и эпох.
И торопятся, громоздятся другие воспоминания, и ещё другие. Чувствуется, что он осаждён миром; служит мишенью слишком многим воспоминаниям: тем, которые он пробормотал, и тем, которые он не высказал за полным неимением свободного времени или возможности это сделать. Он не может избавиться от этого яркого величия, существующего в нём.
Он откинул голову назад; вероятно, он закрыл глаза… Что же касается его воспоминаний, то я их считаю и я их измеряю по страдальческому выражению, которое принимает его лицо, позволяющее себя разглядывать таким образом.
Теперь он, который только что восторгался, жалуется:
«Я вспоминаю… Я вспоминаю… Моё сердце меня не жалеет.
«Ах! — стонет он сразу же после, с жестом смирения, — невозможно попрощаться со всем.»
Она здесь, и она бессильна, хотя и является обожаемой. Она ничего не может поделать с этим бесконечным прощанием, которое наполняет последние взоры человека. Она здесь, всего лишь во всей своей красоте, со всей своей улыбкой… И сверхчеловеческое видение тщетно прирастает сожалением, угрызениями совести, притязаниями. Он не хочет, чтобы это кончилось. То, что он воскрешает в памяти, призывается им, он хотел бы это возобновить. Он любит своё прошлое. Неумолимое, неподвижное, прошлое имеет вид божества — ибо как для верующих, так и для нигилистов величественность Бога заключается в том, что он позволяет молить себя.
*
Беременная женщина ушла, Я видел, как она проворно проскользнула к двери, осторожно, с материнской предусмотрительностью по отношению к самой себе.
Они остались только вдвоём… Вечер был захватывающей реальностью: казалось, что он живёт, укореняется и занимает своё место. Никогда комната не была им столь наполнена.
Он сказал: «Ещё один день заканчивается.»
И, как бы продолжая свою мысль:
«Нужно, — добавил он, — всё приготовить для бракосочетания.
— Мишель! — воскликнула инстинктивно молодая женщина, как если бы она не могла удержать это имя.
— Мишель не будет на вас сердиться, — ответил мужчина. — Он знает, что вы его любите, Анна. Он не будет беспокоиться о формальностях, безусловно, — говорящий настаивая на этих словах, чтобы утешить себя, — он за бракосочетание in extremis[23].
Они едва виднелись в сумраке, только он и она, объединённые сумраком вместе. Они внимательно посмотрели друг на друга.
Он был измождённый, весь в смятении; его слова исходили из глубины его жизни; она же, белая и крупная, отчаянно и очевидно волновалась…
Устремив на неё глаза, он делал видимое усилие, как если бы не осмеливался задеть её словом. Затем он решился.
«Я вас так люблю, — сказал он просто.
— Ах! — воскликнула она, — вы не умрёте!
— Как хорошо, — ответил он — что вы соизволили так долго быть моей сестрой!
— Ведь вы для меня столько сделали!» — ответила она, сложив руки и наклонив к нему свой великолепный бюст, как будто она падала ниц перед ним.
Было слышно, как они откровенно разговаривали. Какая восхитительная вещь — откровенно разговаривать, без недомолвок, без предосудительного неведения и виновности в отношении того, что говорится, и прямо идти навстречу друг другу; это почти чудо просветления, душевного спокойствия и существования.
Они молчали. Он прикрыл глаза, однако продолжая её видеть. Он их вновь устремил на неё.
«Вы мой ангел, который меня не любит.»
Когда он говорил это, его лицо омрачилось. Столь простое зрелище меня удручило: бесконечность сердца, участвующего в естестве: его лицо омрачилось.
Я видел, какую возвышенную любовь он испытывал к ней. Она это знала; в её словах, в её манере держать себя с ним имелась безграничная нежность, которая кропотливо его познавала. Она не ободряла его, не лгала ему, но каждый раз, когда это было возможно, она каким-либо словом, определённым жестом или некоторым выразительным молчанием старалась его слегка утешить в отношении самой себя, в отношении той горести, которую она ему причиняла своим присутствием, своим отсутствием.
Он произнёс, после того, как еще раз внимательно посмотрел на неё, между тем как сумрак, независимо от него, еще больше сближал его с ней:
«Вы печальная доверительница, посвящённая в мою любовь к вам.»
Он вновь заговорил о бракосочетании. Поскольку все меры были приняты, почему бы не совершить это немедленно?
«Моё богатство, моё имя, Анна, чистые взаимоотношения, которые останутся с вами, когда… когда мне придётся стать ушедшим.»
Он хотел распространить своей рукой длительное благодеяние в туманное будущее, с весьма лёгкой маской, увы, как благословение. В настоящее же время он стремился лишь к слабому и условному согласию с этим словом: бракосочетание.
«Зачем говорить об этом…»
Она не отвечала прямо, испытывая непреодолимое затруднение, вероятно, по причине этой любви, которая имелась в её сердце и в которой её собеседник ей признался. Хотя она в принципе согласилась и положилась на естественный ход событий — поскольку формальности были выполнены — она никогда прямо не отвечала на эту мольбу, которая каждый раз, когда они оставались одни, направлялась от него к ней, в виде взгляда.
Но этим вечером не пришла ли она почти к согласию, к решению, которое она бы приняла независимо от материальной выгоды, полученной бы от этого ею, которое она бы приняла в своей столь чистой душе и что быстро становилось известным — для того, чтобы пойти ему навстречу и позволить ему какое-то подобие близости?
«Что скажете?» — прошептал он.
Мы посмотрели на её рот… Он уже почти улыбался, этот рот, которого умоляли как алтарь, как образ божества, который был ценен надеждами, изливавшимися к ней одной, в то же время, что и все красоты вечера.
Умирающий, чувствуя, что придёт согласие, прошептал:
«Я люблю жизнь…»
Он покачал головой:
«У меня так мало остаётся времени, столь мало времени у меня, что я хотел бы не спать ночью.»
Потом он замолчал, чтобы услышать её.
Она сказала: «да» и тронула своей рукой — слегка — руку старика.
И, помимо меня самого, моё безжалостное внимание заметило, что этот жест был ясно отмечен театральной торжественностью, значительностью, осознаваемой ею самой. Даже верная и чистая, без всякой задней мысли, жертва отмечена восхваляемой гордостью, которую я вижу, я, кто видит всё.
*
В гостинице говорят только об иностранцах. Они занимают три комнаты, имеют значительное количество багажа, а мужчина, по всей вероятности, очень богат, хотя вкусы у него очень скромные. Они останутся в Париже до родов молодой женщины, которая станет матерью через месяц, и которая должна родить в одной из платных больниц квартала. Но мужчина, как говорят, очень болен. Госпожа Лёмерсье этим крайне обеспокоена. Она опасается, как бы он не умер в её доме… Это для неё является предосудительным заранее. Номер в гостинице был заказан путём переписки, иначе она не стала бы принимать этих людей — несмотря на рекламу, которую ей делает их богатство. Она надеется, что ему будет достаточно времени для того, чтобы быть в состоянии уехать; но когда её встречают, у неё озабоченный вид.
…Когда я его вижу вновь, я предполагаю, что он в самом деле скоро умрёт. Он обессилел, его руки на подлокотниках кресла, ладони свешены. Кажется, что он с усилием устремляет свой взгляд. Так как его лицо опущено, свет из окна освещает не его зрачки, а край его нижних век, таким образом, что его лицо имеет какой-то надорванный вид. Смутное воспоминание о том, что сказал поэт, заставляет меня трепетать перед этим человеком, который кончился, который властвует почти над всем своим существованием с ужасающей самостоятельностью, облечённой красотой, перед которой сам Бог бессилен.
X
Он говорил о музыке.
«Почему, — сказал он, — так захватывает ритм? В середину беспорядочности природы человеческое создание, повсюду, где оно проявляется, привносит свой великий принцип регулярности и монотонности. Только лишь подчиняясь этому суровому закону, произведение, какое бы оно ни было, достигает достаточно высокого уровня и становится прочно обоснованным. Это строгое свойство отличает улицу от долины и возносит лестницу с равными ступенями в горах шума. Ибо беспорядочность не имеет души, а регулярность является мыслящей.»
Затем он стал говорить о пропорции, о гармонии единства. Я слышал лишь фрагменты его фраз, как если бы ветер доносил до меня порывами запах поля или широко раскинувшегося моря.
В дверь постучали.
Это было время прихода врача. Он встал, оступаясь, — расслабленный и побеждённый перед этим мэтром.
«Как дела со вчерашнего дня?
— Плохо, — ответил больной.
— Ну-ну!» — спокойно произнёс вновь пришедший.
Их двоих оставили наедине. Мужчина вновь сел, медленно и со смешной неловкостью. Врач стоит между ним и мной. Он спрашивает его:
«Итак, ваше сердце?»
Инстинктивно, что мне показалось трагическим, они оба понизили тон, и тихим голосом больной делает сообщение своему ежедневному врачу о своём очередном дне болезни.
Учёный человек слушает, прерывает, одобрительно кивает головой. Он прекращает эту исповедь, повторяя, теперь громким голосом, банальное и убеждающее междометие, уже употреблявшееся им, с тем же широким жестом, совершенно так же:
«Ну-ну, я вижу, что нет ничего нового…»
Он подвинулся, и я увидел пациента: черты лица осунувшиеся, взгляд блуждающий, всё заставляет говорить о скорбной тайне его недуга.
Он успокаивается, и беседует с патрицием, удобно устроившимся на стуле с видом добряка. Он затрагивает несколько тем разговора, затем, помимо себя самого, он возвращается, как проклятый, к недугу, к этой пагубной вещи, которую он претерпевает: к своей болезни.
«Какой позор! — говорит он.
— Да ничего особенного!» — восклицает врач скептически.
Затем он встаёт:
«Ну, до завтра.
— Да, до консилиума.
— Конечно. Итак, до свидания.»
Врач уходит лёгкой походкой, со своими кровопролитными воспоминаниями, всем этим грузом страдания, тяжести которого он больше не ведает.
*
Консилиум, вероятно, только что завершился. Дверь открылась. Вошли два врача; мне показалось, что они стеснены в своих движениях. Они остались стоять. Один был молодой человек, другой — старик.
Они посмотрели друг на друга. Я попытался постичь безмолвие их глаз, мрак, бывший в их головах. Более старший погладил свою бороду, прислонился спиной к камину, перевёл взгляд вниз. Он обронил эти слова: «Casus lethalis[24]… и я бы добавил: properatus[25].»
Он понизил голос, из страха быть услышанным пациентами, а также по причине торжественности смертного приговора.
Другой кивнул головой — в знак одобрения — якобы согласия. Оба замолкли, как два виноватых ребёнка. Вновь их взгляды встретились.
«Сколько ему лет?
— Пятьдесят три года.»
Молодой врач заметил:
«Ему повезло, что он дотянул до сих пор.»
На что старый философски возразил:
«Он пожил. Теперь он больше не протянет.»
*
Молчание. Человек с седой бородой прошептал:
«Я почувствовал саркому, при пальпации, непосредственно позади сонной артерии.»
Он указал пальцем на свою шею.
«Это притаилось там, насколько я это рассмотрел.»
Другой покачал головой — с тех пор, как он вошёл, его голова казалась одушевлённой продолжительным покачиванием — и он прошептал:
«Да… операция невозможна.
— Разумеется, — заметил старый мэтр, с глазами, светящимися своего рода мрачной иронией; — есть лишь одна из них, которая могла бы его освободить от этого: гильотина! К тому же, процесс распространения преуспевает. Имеются очаги в под-верхнечелюстных и подключичных узлах и, вероятно, второстепенные. Процесс молниеносный. Три вида путей — дыхательные, кровеобращения, пищеварительные — вскоре будут закупорены; удушение будет быстрым.»
Он вздохнул и ограничился этим, с незажжённой сигарой во рту, с жёстким выражением лица, скрестив руки. Молодой человек сел и, оперевшись на спинку стула, постукивал своими бесполезными пальцами по мрамору камина. Один из мужчин сказал:
«В подобных случаях обнаруживаешь с огромным изумлением, что раку удалось выбрать своё место!»
«Мэтр, что следует ответить молодой женщине?
— Сказать, что это серьёзно, очень серьёзно, с подавленным видом; сослаться на бесконечные ресурсы природы.
— Это общепринятая фраза…
— Тем лучше, — сказал старик.
— Если она будет настаивать и захочет знать?
— Следует не отвечать и отвернуться…
— Не дадим ли мы ей немного надежды, она так молода!
— Как раз надежда слишком бы повредила ей. Дорогой малыш, никогда не следует говорить то, что до такой степени бесполезно. Это привело бы лишь к обвинению нас в незнании и вызвало бы к нам ненависть.
— А он, знает ли он?
— Мне это неизвестно. Когда я его осматривал — вы слышали — я старался это выяснить, вызывая его ответы. Один раз я решил, что он ничего не подозревал; в другой раз мне показалось, что он судил о себе так же, как я это понимал.»
*
Снова они несколько минут оставались, не говоря ни слова, Казалось, что эти двое учёных пришли сюда скорее для того, чтобы молчать, чем для того, чтобы говорить. Они почти не передвигались с места на место и с трудом, с осторожностью обменялись между собой редкими словами.
Потом, перед лицом безобразной раны, ещё раз видимой вблизи, они возвысились до более общих, более великих размышлений. Я предчувствовал этот процесс, происходивший в их умах; наконец, раздалась фраза:
«Это образуется как ребёнок.»
Старик принялся говорить:
«Как ребёнок. Зародыш воздействует на клетку, как об этом сказал Лансеро[26], подобно сперматозоиду. Это микроорганизм, который проникает в атомный элемент, который его селекционирует и его пропитывает, придаёт ему вибрационное свойство, даёт ему другую жизнь. Но вещество-возбудитель этой внутриклеточной активности, вместо того, чтобы быть нормальным зародышем жизни, является паразитом.
Какой бы ни была природа этого primum movens[27], будь это micrococcus neoformans[28], или ещё невидимая спора бациллы Коха, или что-либо другое — всегда дело обстоит так, что паразитическая раковая ткань развивается вначале как зародышевая ткань.
«Но зародыш окончился. Наступает момент, когда зародышевая масса, инкапсулированная в матку, становится, если можно так выразиться, взрослой. Она создаёт свои поверхностные оболочки, которые Клод Бернар[29] называет, в своей содержательной терминологии, ограничивающими. Зародыш завершён; он скоро родится.
«Но раковая ткань не завершается; она продолжается, никогда не приходя к своим пределам. Опухоль (разумеется, я не говорю о фибромах, миомах и простых канцерообразных образованиях, которые являются «доброкачественными новообразованиями»), постоянно остаётся эмбриональной; она не может развиваться в гармоничном и полном направлении. Она распространяется, она умеет лишь распространяться, не доходя до приобретения определённой формы. При её удалении она вновь начинает быстро распространяться, по крайней мере в соотношении 95 %. Что может наше тело целиком рядом с этой плотью, которая не принимает правильную форму и не извлекается? Что может столь тонкое и столь хрупкое равновесие наших клеток против этого беспорядочного разрастания тканей, которое посреди нашей крови, наших органов, сквозь скелет и все сплетения вторгается нерастворимой и беспредельной массой!
«Да, рак является, в строгом смысле слова, в нашем организме бесконечностью.»
Молодой врач кивнул головой в знак согласия и сказал с глубокомыслием, которое он скоро захочет почерпнуть, я не знаю где, при контакте с идеей бесконечности:
«Это подобно гнилому сердцу.»
*
Теперь они сидели один напротив другого. Они придвинули свои стулья.
«Это ещё хуже, чем то, что мы говорили, — продолжил более молодой из двух собеседников робким, сдержанным голосом.
— Да, да — ответил другой, кивнув.
— Мы находимся не перед лицом локального заболевания, таинственно возникшего; речь не идёт, как это полагает обыватель, о зловещем внешнем несчастном случае. Рак даже не заразен. Мы находимся перед лицом острого и скоротечного патологического криза у любой категории ослабленных, перед лицом одной из элементарных форм человеческой болезни.
«Это общее состояние делает неизбежным и определяет недуг, можно было бы сказать, что это сама болезнь призывает свирепствовать паразита. Именно его организм этого желает!
«Паразит! Возможно, имеется лишь единственный, который различается в зависимости от видов среды и порождает в соответствующих местах органических систем различные болезни. Бактериология ещё на начальной стадии; когда она заговорит, она, вероятно, сообщит нам такую новость, которая придаст медицине я не знаю, чего ещё более трагического из того, что её величие излагает,
«Что касается меня, я верю в паразитическое соединение.
— Теория в моде, — сказал старый мэтр. — В любом случае, она заманчива, и следует признать, что медицина, химия, физика, по мере того, как они углубляются, со всех сторон приближаются к соединению материальных элементов и сил. С тех пор, хотя и не имеется неопровержимых доказательств, гораздо более вероятно это ужасное упрощение, о котором вы говорите!
— Да, — произнёс другой вполголоса, как если бы он размышлял. — Все болезни состоят из одних и тех же вещей. Это та же неощутимая жизнь, которая нас всех ведёт к смерти.
— Как бы имеется у нас всех, — прошептал другой, тоже понижая свой голос, — такое же братство в беде, что и в небытие.
— Единственным в своём роде зародышем смерти, бесконечно малым, который сеет в телах ужасный урожай, мог бы являться этот микроб, роль которого до сих пор казалась нейтральной, мимо которого прошли, почти не видя его: так называемый bacterium termo[30].
«Он имеется в изобилии в толстой кишке, он существует в количестве миллиардов у здорового индивидуума.
«Именно он в фосфорнокислой среде мог бы стать золотистым стафилококком, возбудителем фурункула и карбункула, которые омертвляют различные места плоти.
«Именно он в тонкой кишке мог бы стать бациллой Эберта[31], автора тифозной пустулы.»
Учёный принимал более торжественный и более проникновенный вид по мере того, как уточнялось именование до сих пор непобеждённого врага:
«Наконец, именно он, кто в обесфосфоренной среде мог бы стать бациллой Коха.»
*
«Бацилла Коха это не только туберкулёз в его лёгочной, гортанной, кишечной, костной формах. Ландузи[32] его выявляет в жидкостях плеврита, Кусс — в холодных абсцессах.
— Впрочем, — прервал его старый учёный, взгляд которого был внимательным и серьёзным, — перечислено ли полностью огромное разнообразие повреждений туберкулёзного происхождения?
— Возьмём туберкулёз в лёгком, — поскольку к тому же лёгкое постоянно поражается у взрослых больных.
«Его появление вызывает образование туберкул, маленьких опухолей, которые омертвевают вследствие отсутствия сосудов, а размягчение которых и выделение ими мокроты ведут к исчезновению органа и к смерти от асфиксии. Туберкул есть прежде всего опухоль. Бацилла Коха является nеоfоrmаns: творцом опухоли. Впрочем, всякий микроорганизм является в организме творцом опухоли; именно это, без какого-либо научного разграничения, по причине его созидательной мощности является его эпическим определением. Туберкул размножается, но остаётся маленьким. Именно поэтому Вирхов[33] сказал, что это была несостоятельная опухоль.
Но у больных артритом с нервной депрессией и с низкой температурой этот паразит не может вызвать туберкулёз.
«Он поступает в кровь с пептонами[34] через химус[35]. Кровь насыщается гликогенами, и это человеческий сахар, который больше не израсходован повышенной температурой, — венозный застой откладывает его в чрезмерном количестве на анатомические элементы железистых или пассивных тканей. Именно тогда развивается холодным способом то, что можно было бы назвать обильной опухолью: вместо нескольких туберкулов, имеется лишь один, который развивается, становится огромным. Это рак, во всех своих формах, со всеми своими названиями: саркома, карциома, эпителиома, затвердение, лимфаденома.
«Рак, таким образом, является непоследовательным продуктом накопления гликогена у взрослого больного артритом, ослабленного и у которого не бывает жара.
— Да, да, — сказал старик, — это возможно; но доказательство? Прекрасная теория, но какое практическое подтверждение? Ибо всё же имеется морфологическое различие между опухолью и туберкулом.»
Казалось, что он становился ироничным, враждебным, готовым встать на дыбы и черпать из своего знания и опыта.
«Если мы рассмотрим определённое количество разновидностей опухолей, — ответил его собеседник, — мы сможем констатировать, что их количество прямо пропорционально, а их объём обратно пропорционален температуре субъекта, который их производит.»
Он снова находил в своей голове факты, цифры. Он их выбрасывал вперёд как оружие. Он был воодушевлён рвением высказаться полностью, беспощадно, чтобы защитить свою обширную идею упрощения, которая имела исключительную важность разом для всего человечества:
«От 44° до 45° развивается птичий туберкулёз со своими почти микроскопическими и бесчисленными опухолями. От 40° до 41° развивается туберкулёз, называемый просяным, потому что его образования имеют величину просяных зёрен. От 39° до 40° это милиарный туберкулёз; от 38° до 39° чечевицеобразный туберкулёз; — от 37° до 38° медленный туберкулёз с крупными поверхностными ганглиями; — до 37° ганглиозные опухоли очень крупного объёма, приводящие к холодным абсцессам (в эту категорию входят коксальгия, белые опухоли, болезнь Потта[36]); — до 36°,5 — крупные опухоли туберкулёза коров; до 28° — мы обнаруживаем с Дюбаром огромные шишковатые и тёмные опухоли, которые деформируют бока рыб.»
Он остановился после того, как нагромоздил эти примеры, затем он продолжил:
«Можно экспериментально вызвать прекращение болезненных явлений одного заболевания в другом: берётся кролик, которому прививают туберкулёз; когда у животного появляются недвусмысленные признаки чахотки, его преобразуют в хладнокровное животное путём быстрого рассечения на уровне последнего шейного позвонка и первого спинного позвонка. Если животное не умирает от паралича, то скоро будет видно, как в его брюшной полости или на одном из его суставов образуется объёмистая опухоль, полностью имеющая вид и свойства какого-то вида рака.»
Он смотрел в упор на своего коллегу.
«Я вспоминаю, что сказал де Бакер: «Мы наблюдали одновременно за течением туберкулёза и канцерогенеза, и мы всегда видели, что рак больше не питался, сохнул, как только туберкулы обнаруживались и развивались при температуре выше 38*. Обычно, — добавляет он — именно туберкула доминирует в драме.»
«Образование и внутреннее распределение сахара в целом присутствует. Это распределение регулируется органическим теплом, которое постепенно его сжигает у туберкулёзника; у больного раком, имеющего недостаток тепла, гликоген скопляется. Рак сладкий. Де Бакер выявил этот процесс, который делает из канцерогенеза разновидность локализованного диабета.»
«Присутствие сахара было доказано при изготовлении шампанского коньяка с жидкостями рака. Я повторил этот эксперимент. Я раздобыл десять килограммов раковых материалов, являвшихся результатом двух утренних операций, сделанных в больницах Парижа. Отжатая в центрифуге, эта масса снабдила меня двумя с половиной литрами подозрительной и зловонной жидкости, которая содержала больше сахара, чем самая диабетическая моча. Обсеменённая ферментами, эта жидкость дала мощную и очень ароматичную ферментацию. Спиртомер показал 6°. На перегонном аппарате я получил алкоголь в 60°, из которого я извлёк этот лабораторный шампанский коньяк.
«Таким образом, захваченные и покорённые одним и тем же патологическим зародышем, люди эволюционируют в зависимости от их темпераментов: находящиеся в депрессии и подверженные жару, которые тратят больше, чем получают, болеют туберкулёзом — карликовой опухолью; страдающие артритом с низкой температурой, которые получают больше, чем тратят, болеют раком — гигантской туберкулой.
«Обе болезни иногда обмениваются своими больными. Большинство больных раком являются выздоровевшими и охлаждёнными туберкулёзниками. Дюбар это впервые заметил. То, что является защитой для одних (изобилие гликогена или перенасыщение), является угрозой для других.»
Старый патриций взвесил за и против; он опять слушал внимательно, но без какого-либо выражения на лице, занятый своей мыслью.
Выступающий остановился на мгновение, затем сказал:
«Нужно смело смотреть правде в лицо (ведь мы созданы для этого!) и не бояться открыть для излечения туберкулёза эту таинственную и ужасную дверь.
— Как бы то ни было, — сказал старый врач, — это сходство, это обратное отношение между двумя болезнями, которое вы считаете открытым, подтверждены до определённого предела цифрами. Очевидно, что как раз эти две статистики держатся вместе, составляют единое целое. В Париже один больной раком приходится на четыре туберкулёзника. Если в неделю в городе умирают двести шестьдесят туберкулёзников, то умирают шестьдесят пять больных раком. Во Франции на сто восемьдесят тысяч смертей, вызванных каждый год туберкулёзом, приходится тридцать шесть тысяч жертв рака: один к пяти. Пятьсот французов умирают ежедневно от туберкулёза, сто умирают ежедневно от рака.
— Сколько же их умрёт завтра! — воскликнул молодой человек, который обратил вверх свой хладнокровный и ясный взор в сознательной и напрасной молитве.
«Ибо мы приподняли лишь один угол покрова и признали лишь одну часть истины…
— Да, — сказал мэтр, — она ещё больше, чем это.
«Урон, наносимый раком, возрастает изо дня в день. Несомненно, что современная жизнь увеличивает случаи патологической восприимчивости, особенно благоприятной для этого недуга.
«Общее состояние имеет следствием неизбежность поражения. Я это повторяю: именно от больного зависит, что болезнь неизлечима. Зачем её лечить локально путём удаления вредной массы, если больной, предоставленный самому себе, снова начинает болеть? Мы можем лишь смотреть, как он болеет. Туберкулёзник, которого избавят от его туберкул, с большой вероятностью, станет оперированным, обречённым на рецидив. Также скальпель не является достаточным способом защиты против злокачественных опухолей. В остальном, факты таковы: на сто оперированных больных раком костей приходится девяносто два рецидива; для больных раком груди то же самое количество рецидивов: девяносто два; для больных с маточной эпителиомой — девяносто шесть; для больных раком прямой кишки девяносто восемь; для больных раком языка (он указал головой на дверь) — девяносто девять.»
Произнося эти последние фразы, он взял на камине лист писчей бумаги и ножницы, и машинально стал разрезать бумагу. Вдруг он, понимая неопределенность своих инстинктивных движений, отбросил оба предмета. Он выпрямился.
«Он начинает забирать молодых. (Ах! я вижу, я вижу в своей памяти тягостный образ маленького ясноглазого ангела с огромной фиолетовой грудью как краснокачанная капуста!..). Рак распространяется в человеческой природе как в живом существе. Если его не остановят, — добавил он с мрачной иронией, которую я уже слышал в его голосе, — больше не будет надобности спрашивать себя, не погибнет ли мир оттого, что солнце потухнет!
— К этому фантастическому родству двух самых значительных существующих бичей какие ещё объекты родства присоединяются? Сифилис, о котором я не говорил. Какие ещё? Куда меня приведут, к чему меня приговорят и исследования, которые я тут же продолжу, выйдя отсюда? Я не знаю… Если охватить единым взглядом всё загнивание человеческой плоти, всю зловонную сторону наших бед, все эти невзгоды, которые действительно разрушают человеческий род, то всё это таково, что встаёт вопрос, как же можно говорить о других драмах!.»
Однако, сказав это, он добавил, простирая руки, которые дрожали, как руки больного, подобно своего рода возвышенному заражению:
«Может быть — вероятно — излечат человеческие недуги. Всё может измениться. Будет найден образ жизни, соответствующий тому, чтобы избежать то, что нельзя остановить. И только тогда осмелятся сказать о том массовом истреблении, которое несут заболевания, в настоящее время растущие по количеству больных и неизлечимые. Может быть даже станут вылечивать некоторые неизлечимые заболевания; у лекарств нет времени доказать их состоятельность.
«От этого вылечат других — что несомненно, — но именно его не вылечат.»
Инстинктивно его руки упали, его голос остановился в тиши скорби.
Больной приобретал величие святого. Вопреки их воле, за то время, как они были здесь, он царил над их словами, и, если они придали более широкое толкование конкретному вопросу, то это, возможно, чтобы отделаться от частного случая…
*
«Он русский, грек?
— Я не знаю. Посредством рассматривания внутренностей людей, я же их всех вижу такими похожими!
— Они особенно похожи, — прошептал другой, — их отвратительной претензией быть несхожими и враждебными!»
Мне показалось, что говоривший содрогался, как если бы эта мысль пробуждала в нём какое-то волнение. Он встал, полный гнева, изменившийся.
«Ах! — воскликнул он, — какой позор этот спектакль, даваемый человечеством!
«Оно ожесточается против самого себя, несмотря на эти ужасные раны, которые оно носит. Мы, склонившиеся над этими ранами, мы больше других поражены всем тем злом, которое добровольно причиняют себе люди. Что касается меня, я не являюсь ни политиком, ни военным. Это не моя специальность заниматься социальными идеями; у меня достаточно дел в другой области; но у меня иногда бывают приступы сострадания, замечательные как мечты. Мне хотелось бы временами наказать людей, и я хотел бы их умолять!»
Старый врач меланхолически улыбнулся этому порыву, потом его улыбка стёрлась перед таким количеством явственного и неопровержимого позора.
«Это правда, увы! Столь несчастные, мы ещё терзаем друг друга нашими собственными руками! Война, война… Для того, кто посмотрит на нас издали, и для того, кто смотрит на нас сверху, мы являемся варварами и безумцами.
— Почему, почему! — сказал молодой врач, тревога которого возрастала. — Почему мы остаёмся безумными, раз мы видим наше безумие?»
Старый патриций пожал плечами — движение, которое он делал прежде, когда речь шла о неизлечимой болезни.
«Сила традиции, поддерживаемой заинтересованными в этом… Мы не свободны, мы привязаны к прошлому. Мы слушаем, что делалось всегда, мы это делаем вновь; и это война и несправедливость. Может быть, человечество однажды всё же придёт к тому, чтобы избавиться от неотступной мысли о том, чем оно являлось. Понадеемся, что мы выйдем наконец из бесконечной эпохи бойни и бедствия. Что ещё мы можем, кроме как надеяться?»
Старик на этом остановился. Молодой сказал:
«Хотеть этого.»
Другой собеседник сделал какое-то движение рукой.
Молодой человек воскликнул:
«Для всесветной язвы имеется внушительная общая причина. Вы её назвали: это порабощение прошлым, вековой предрассудок, который мешает всё должным образом переделать, в соответствии со здравым смыслом и моралью. Традиционное мышление заражает человечество; а название двух из его ужасных проявлений это…»
Старик приподнялся на стуле, сделав едва уловимый жест протеста, будто он хотел ему сообщить: «Не говорите этого!»
Но молодой человек не мог помешать себе сказать:
«Это собственность и родина», — уточнил он.
*
«Тише! — воскликнул старый мэтр. — Я больше не сопутствую вам в этой сфере. Я признаю существующее зло. Я призываю всеми своими чаяниями новую эру. Я делаю больше, я в это верю. Но не говорите так о двух священных принципах!
— А! — с горечью сказал молодой человек, — вы говорите как другие, мэтр… Необходимо, однако, дойти до источника зла, вы это хорошо знаете, вы… (и с неистовством): Зачем вы делаете вид, будто вы не знаете этого!.. Если есть желание излечить от угнетения и войны, будет правильным атаковать всеми полезными средствами — всеми! — принцип индивидуального богатства и культ родины.
— Нет, это неправильно! — воскликнул старик, который встал в большом волнении и бросил на своего собеседника жёсткий, почти яростный взгляд…
— Это правильно!» — вскричал другой.
Вдруг седая голова поникла, и старик сказал тихим голосом:
«Да, правда, это правильно…
«Я вспоминаю… однажды, во время войны; мы собрались вокруг одного умирающего. Никто его не узнавал. Он был найден среди обломков разбомблённого санитарного транспорта (умышленно или нет, это сводилось точно к тому же!); его лицо было изуродовано. Он стонал, плакал, вопил, издавал ужасные крики. Пытались различить в его агонии какое-нибудь слово, акцент, которое бы по крайней мере указало его национальность. Но не смогли; ничего разборчивого не смогли расслышать в звуках, бурно вырывавшихся из подобия лица, трепетавшего на носилках. Мы следили за ним глазами и слушали до тех пор, пока он не замолчал. Когда он умер и стоило лишь нам прекратить дрожать — в этот момент я увидел и я понял. Я понял своим нутром, что человек в большей степени испытывает глубокое тяготение к конкретному человеку, а не к своим неопределённым соотечественникам. Я понял, что все слова ненависти и возмущения против армии, что все оскорбления знамени, а также все антипатриотические призывы звучат как стремление к идеалу и красоте.
«Да, это правильно, это правильно! И после этого дня, несколько раз, мне было дано дойти до истины. Но чего же вы хотите… Я уже стар и не имею сил противостоять этому!
— Мэтр!» — прошептал молодой человек, стоя, с растроганной уважительной интонацией.
Старый учёный продолжил, воодушевляясь откровением искренности, упиваясь истиной:
«Да, я знаю, я знаю, я знаю, говорю же вам! Я знаю, что, несмотря на сложность аргументов и лабиринт особых случаев, в которых теряешься, ничто не колеблет абсолютную простоту вывода о том, что закон, по которому одни рождаются богатыми, а другие бедными, и поддержание им в обществе хронического неравенства, есть высшая несправедливость, которая не более обоснованна, чем несправедливость, создававшая прежде расы рабов, и что патриотизм стал чувством узким и агрессивным, которое будет питать всё время своего существования ужасную войну и истощение рода людского; что ни труд, ни материальное и моральное процветание, ни благородные изыски прогресса, ни чудеса искусства не нуждаются в полном ненависти соперничестве — и что всё это, напротив, разгромлено оружием. Я знаю, что карта отдельной страны состоит из условных линий и разрозненных названий, что врождённая любовь к себе ведёт нас ближе к конкретному человеку, чем к тем, кто составляет часть одной и той же географической группы; что в большей степени вы являетесь соотечественником тех, кто вас понимает и вас любит, находясь на уровне вашей души, или тех, кто страдает от такого же рабства — чем тех, кто встречается на улице… Национальные группировки, объединения современного мира всего лишь являются тем, что они есть. Возрастающей, чудовищной деформацией патриотического чувства человечество убивает себя, умерщвляет себя, а современная эпоха есть агония.
Они имели одинаковую точку зрения и сказали разом:
«Это рак, это рак.»
Мэтр воодушевился, будучи во власти очевидности:
«Совершенно также, как вы, я знаю, что последующие поколения строго осудят насадивших и распространивших фетишизм идей угнетения. Я знаю, что излечение зла начинается лишь тогда, когда отказываются от культа, посвящённого ему… И я, интересующийся уже полвека всеми великими открытиями, которые изменили видимую сторону вещей, я знаю, что восстанавливаешь против себя враждебность всего существующего, когда начинаешь!
«Я знаю, что это порок — проводить годы и века, говоря о прогрессе: «Мне бы его хотелось, но я его «не желаю», и что именно для того, чтобы выполнить определённые реформы, нужно всеобщее согласие, ну что же, я знаю, что мир в целом этим также засевается! Я знаю, я знаю!
«Да… Но я! Слишком много забот меня одолевают, слишком много работы меня захватывает; и потом, я это вам говорил, я слишком стар. Эти идеи для меня слишком новые. Ум человека способен охватить лишь некое определённое количество созидания и новизны. Когда это количество иссякло, каким бы ни был окружающий прогресс, отказываются видеть это и продвигаться вперёд… Я неспособен бросить в дискуссию плодородное преувеличение. Я неспособен отважиться быть логичным. Я вам делаю признание в том, мой малыш, что у меня нет сил быть правым!»
*
«Мой дорогой мэтр, — сказал молодой человек с интонацией упрёка, который пробуждался в нём, стихающий и чистосердечный перед этой искренностью, — вы открыто заявили о вашем осуждении тех, кто публично боролся с идеей патриотизма! Выступающие против них воспользовались значимостью вашего имени.»
Старик выпрямился. Его лицо преобразилось.
«Я не допускаю оставления страны в опасности!»
Я его больше не узнавал, Он опять оставил свою главную мысль, он больше не был самим собой. Я был этим обескуражен.
«Но, — прошептал другой, — всё, что вы только что сказали…
Это не то же самое. Люди, о которых вы говорите, бросили нам вызовы. Они выступили как враги и заранее объявили несостоятельными все оскорбления.
— Те, кто их оскорбляет, совершают преступление по неведению, — сказал дрожащим голосом молодой человек. — Они не признают высшую логику творящихся вещей.»
Он наклонился совсем близко к своему товарищу и более твёрдо его спросил:
«Почему же тому, что начинается, не стать революционным? Те, кто первыми воззвали, одиноки, и их либо игнорируют, либо ненавидят, — вы только что это сказали! — Но последующие поколения воспримут этот передовой отряд принесённых в жертву, станут приветствовать тех, кто посеял подозрение в двусмысленности слова «родина», и сопоставят их с предшественниками, которым мы сами воздали должное!
— Никогда!» — воскликнул старик.
Он сопроводил эти слова мрачным взглядом. Его лоб был перечёркнут складкой упрямства и нетерпения, а его ладони судорожно сжимались от ненависти.
*
Он взял себя в руки: Нет, это не было то же самое; к тому же, эти дискуссии ни к чему не приводили, и было бы лучше, ожидая, пока весь мир выполнит свой долг, если бы они свой долг выполнили и сказали бы этой бедной женщине правду.
«Кто же её скажет именно нам!»
Фраза вырвалась неожиданно; молодой человек заколебался, со встревоженным лицом, затем из его рта вырвался этот громкий возглас, который имел всевозможные значения.
«Какая польза от того, что нам сё скажут, раз мы считаем, что знаем сё!
— Ах! — воскликнул молодой человек, внезапно объятый невидимым страхом, которого я совсем не понимал и который, как казалось, вдруг его вывел из равновесия, — мне бы хотелось знать, от чего я умру!»
Он добавил с трепетом, который я увидел:
«Мне хотелось бы в этом убедиться…»
Его знаменитый коллега посмотрел на него удивлённо, застыв на месте:
«У вас есть симптомы, которые вас беспокоят?
— Я не уверен; мне кажется… Я не считаю, однако…
— Это то, о чём мы говорили?
— О! нет! Это совсем другое», — ответил молодой человек, отвернувшись.
Поскольку он был тут же преображён своего рода пылом, признаки несдержанности опять делали из него другого человека.
«Мэтр, вы были моим учителем. Вы были свидетелем моего невежества, теперь вы свидетель моей слабости.»
Он неловко мял обе свои ладони и краснел как ребёнок.
«Полноте! — воскликнул старый учёный, не спрашивая его больше. — Я знаю это. Я боялся когда-то, боялся рака, затем боялся безумия.
— Безумия, мэтр, вы!
— Всё это с годами прошло… И теперь, — произнёс он, вопреки себе, изменившимся голосом, — я боюсь только старости.
— Несомненно, мэтр, — продолжил разговор ученик, который слегка пришёл в себя и счёл, что может позволить себе улыбнуться очевидности, — что эта болезнь единственная, которой вы могли бы бояться!
— Вы думаете?» — воскликнул старик с горячностью, которую он не смог сдержать, что привело молодого человека в замешательство.
Ему стало стыдно за жалостную наивность этого протеста. Он еле внятно заговорил.
«Ах! если бы вы знали, что такое эта столь простая болезнь, совсем простая, эти общие изнурение и инфекция, такие неизбежные, такие приятные! Ах! придёт ли, пока мы ещё не умрём, тот, кто вылечит этот упадок сил.»
Молодой врач не знал, что сказать этому человеку, внезапно обезоруженному, подобно ему за минуту до этого. Начало слова вырвалось из его уст, затем он посмотрел на старого учёного, и это зрелище потревожило и слегка успокоило его собственную муку. Я следил взглядом за этой быстрой сменой тревог, и я не отдавал себе отчёта, являлось ли чувство, которое умеряло его отчаяние перед отчаянием мэтра, дрянным чувством или возвышенным чувством…
«Есть люди, — наконец отважился он сказать, — которые утверждают, что природа делает верно то, что она делает!
— Природа!»
Старик ухмыльнулся так, что я похолодел:
«Природа гнусна, природа плоха. Болезнь это тоже природа. Ведь ненормальное является гибельным, а разве это не так же, как если бы оно было нормальным?»
Однако он добавил, растроганный по причине своего поражения.
«Природа делает верно то, что она делает.» А! ведь это, по сути, слова несчастного, на которого невозможно людям сердиться. Они пытаются обольщаться и утешаться ощущением правильности и неизбежности. Именно потому, что это неверно, они выкрикивают это.»
Как вначале, они посмотрели друг на друга. Один из них сказал:
«Мы два бедных человека.
— Конечно» — мягко ответил другой.
Они направились к двери.
«Уйдём отсюда. Она нас ждёт. Изложим ей беспощадный приговор. Не просто смерть, но смерть немедленная. Это как два приговора.»
Старый врач добавил сквозь зубы:
«Приговорённый наукой», какое глупое выражение!
Тех, кто верит в Бога, следовало бы заставить вознести ответственность выше.»
Они остановились у порога при слове «Бог». Снова их голоса стали стихать, были едва различимыми, шелестящими и ожесточёнными.
«Ведь тот, — совсем тихо воскликнул старик, — является сумасшедшим, он сумасшедший!
— А! лучше для него, если он не существует!» — пробормотал другой со злобным сарказмом.
Я увидел, как старый учёный обернулся из глубины серой комнаты к белеющему окну и протянул кулак к небу, по причине действительности.
*
…Больной прятал лицо за решёткой из своих длинных пальцев. Сияющая и ясная грёза исходила из его искажённого рта, питавшего гнусный недуг, и всё это благое размышление переполняло женщину, с которой, вероятно, говорили врачи.
«Архитектура!.. Что же мне известно! Вот, например… Огромная площадь: полотнище, равнина из необъятных плит, наброшенная на высоты города со стороны окрестностей. Потом начинается портик. Возникают колонны. Скоро они теснят друг друга, размножаются, вызывают головокружение, такие высокие, что их внушительные ускользающие ряды делают их с виду как бы редеющими на их вершинах и что крыша кажется мраком вечера или ночи. Так покрыта четверть площади. Это подобно колоссальному и широко открытому дворцу, облечённому своего рода полуестественной значительностью, достойному принимать как гостей восходящее солнце, заходящее солнце. Ночью необъятный и тусклый лес роняет на его каменную землю щедрый рассеянный свет: северное сияние небесного сюда ламп.
«Именно там внутри сосредоточивается значительная часть общественной деятельности: перемещение и уличное движение, биржа, искусство, выставки, церемонии. Толпа там кишит и образует волнения и течения, которые медленно завихряются к перекрёсткам, и взгляд теряется в этом, в мечте о вертикальных линиях.
«Сбоку колоннада падает сверху вниз отвесно в другой квартал города, подобно утёсу. Всё это не имеет стиля. Необъятная архитектура предстаёт в простоте. Но пропорции настолько обширны, что они растягивают взгляды и пронизывают сердце.»
Я пристально смотрел на него, на этого человека, в котором час от часу возрастала омертвелость плоти, и вдруг я заметил его шею. Она была широкой, раздутой своего рода существом, которое увеличивалось там… В то время, как он говорил, глубоко, в глубине, в темноте рта, почти можно было бы его увидеть!
«Издали, — продолжил он, — если прибыть по железной дороге, то видно было, что колоннада возведена на горе, а со стороны, проивоположной линии входных портиков, лестница спускается на равнину садов. Эта лестница! Она не похожа ни на что существующее, только если, может быть, на руины пирамид Египта. Она такая широкая, что нужен один час, чтобы пробежать одну её ступень в ширину. Она опутана подъёмниками, которые поднимаются и которые опускаются как тонкие цепочки; она усеяна движущимися платформами, грузовыми подъёмниками и поездами. Это лестница большая как гора, природа, терзаемая на квадратных километрах, переделанная по техническому чертежу, представленная в гармонии — ибо, с высоты или снизу, можно объять эту лестницу одним взглядом — а также в высшей степени искусно украшенная высеченными скульптурами; блоки, целые холмы, которые нависают над ней и возвышаются над ней, перемещаются со странной живостью: это статуи… Эта неопределённая полированная ровная высота, которая поворачивается и наклоняется сообразно изогнутости, чего не понимают сначала, — это рука.»
У него был проникновенный голос, который возвещал и который в самом деле давал представление о красоте его грёзы.
Он продолжал говорить о великолепных вещах, между тем как всего несколько дней отделяли его от гроба. А я, который его рассеянно слушал, потрясённый главным образом противоположностью его тела и его души, я хотел бы знать, известно ли ему…
«Скульптор это ребёнок: элементарные идеи, чистые, с простыми твёрдыми линиями, и всё из одного куска. Затруднительным является идеал, которого он добивается, почти безоружный перед банальностью, со своим рудиментарным рабочим инструментом. Скульпторы это дети, и мало кто из скульпторов чудо-ребёнок.»
Он разыскал статуи в своей грёзе:
«Необходимо, чтобы скульптурное произведение было бы драматическим, театральным, даже когда оно представляет собой единственный персонаж. Я не понимаю «бюст», в котором не больше души, чем в конечностях, и который есть выражение в камне картины, являвшейся бы более правдивой, — ибо картина, как и натурщик, обладает тенью.»
Казалось, что он смотрел и говорил о том, что видел:
«Мраморная статуя Грехопадения. Где эта неподвижность всё время попадается?
«Выдающийся сюжет скульптуры: обожаемое существо, которое потеряли, приподнимающее могильную плиту и показывающее вам своё лицо. Это человеческое лицо является одновременно бесконечно желанным и ужасающим — по причине его самого и по причине его смерти. Оно, как труп, выделяется из глубины земли, и однако оно находится под открытым небом, потому что оно тут, и потому что на него смотрят. За тенью головы, тень руки, приподнимающей плиту.
«Я не знаю, это умерший или умершая; это голова дорогого существа, черты которой представляют для сердца хватающую за душу жизнь, изображение которой олицетворяет чудо быть добрым; но она неподвижна и грязна как земля, и хотя и направлена на вас, она ничего не слышит. Рот улыбается, и это невыразимая смесь любви и ужаса — потому что это её улыбка, но это также гримаса последней секунды агонии. Чем увлажнён улыбающийся рот?… На какой мир бесконечно малых, на какое сильное ледяное дуновение он полуоткрыт? Глаза расплывчато плачут, но это также нечто разжиженное. Думается о воспоминании, печать которого остаётся на этом облике, о теле, которое под ней. Тело, одинокое во тьме, туманное, исчезающее, рассыпающееся, в тайниках земли; а голова тут, белая, вечный остаток, который держится на поверхности, который приближается, который смотрит на вас, который обращает к вам свою улыбку и свою гримасу… Доброе ужасное чудовище, которое приоткрывает пасть гробницы, которое из неё выходит, как друг, которое в ней остаётся, как враг!..»
*
Потом он говорил о живописи; он сказал, что она имеет объёмность, которая отсутствует у ваяния. Он припомнил невероятное состояние покоя прекрасных портретов и настойчивое воздействие нарисованного лица, которое притягивает взгляды.
Он вздохнул: «Художники несчастны: им приходится все делать заново. Всё зависит от них. Известно ли когда-нибудь, что заключает в себе представленная частица реальности? Нужно слишком много прозорливости для этого. Да, слишком — прозорливости, которая выступает за пределы как галлюцинация. Великие находятся вне природы: Рембрандт имеет видения, как Бетховен слышит голоса.»
Это имя поместило его в мир музыки.
Он сказал, что, хотя музыка и достигла совершенства, другого примера которому нет с того времени, как человек имеет пристрастие к несметным художественным произведениям — благодаря тому же Бетховену, — однако между искусствами существует иерархия в зависимости от сферы мышления, которую они заключают в себе; что литература на этом основании находится над всем остальным: каким бы ни было количество шедевров, созданных ныне, гармония музыки не стоит тихого голоса книги.
*
«Анна, — сказал он, — который в большей степени поэт, тот, кто, в созвучии красивых фраз, передаёт прекрасные образы, которые представляются нам, тревожащие, царственные и торжественные, как цвета при свете дня, или поэт Севера, который, в пустынном и мрачном обрамлении серой местности, при дымной желтизне окон, в немногих словах, — показывает, что лица преображаются и что в тени, разделяющей двух собеседников, имеется единственная бесконечность, которая должна бы быть!
— Они оба правы, вероятно.
— Я, которого всё моё детство тянуло к тем, кто был полон изобилия и солнца, я предпочитаю теперь других, до такой степени, что верю только в них. Цвет пуст, он лишь видимость. Анна, Анна, душа есть птица тьмы. Всё прекрасно; но тёмная красота является первоначальной и материнской. При свете — видимость; во тьме — мы. Тьма есть реальность чуда, которое выражает невидимое.»
Движение, повернувшее его на три четверти, мне отчётливо показало растянутую опухоль его шеи.
«Да, да… — продолжил он, сделав слабоуловимый жест, но который имел своего рода небесную важность, жалкий пророческий жест, — именно в литературе черпают наиболее возвышенное и наиболее полное согласие с тем, что есть; именно она обеспечивает наиболее совершенным образом — почти самим совершенством — награду в виде выражения своих мыслей… Да… хотя Шекспир выказал веяния внутреннего мира, а Виктор Гюго создал такое словесное великолепие, что, начиная с него, всеобщее окружение кажется изменившимся, — писательское искусство не заимело своего Бетховена. Это потому, что вознесение на более высокую вершину здесь по-иному трудно и запретно; потому, что здесь форма есть всего лишь форма и что речь идёт об истине в целом. Никогда не была вложена в великое произведение — второстепенные произведения не существуют — сама истина, остававшаяся до сих пор, из-за неведения или робости великих писателей, объектом метафизической спекуляции или объектом молитвы. Она остаётся закрытой и запутанной в наукообразных трактатах или в жалостливых святых книгах, которые настроены лишь на моральный долг и которые не могли бы быть понятными, если бы их догма не заставляла некоторых признать себя по сверхъестественным соображениям. В театре литераторы умудряются найти формулы развлечения; а то, что в книге, это приёмы карикатуристов.
«Никогда тесно не связывали драму отдельных живущих с драмой всего. Когда же трудно постижимая истина и возвышенная красота наконец объединятся! Нужно, чтобы они объединились, они, каждая из которых объединяют людей; ибо, именно из-за охватывающего нас восхищения, наступают благие моменты, когда нет больше ни границ, ни отечеств, и именно из-за этой истины слепые видят, бедные становятся братьями, а все люди однажды будут правы. Книга поэзии и истины есть самое грандиозное открытие, которое остаётся сделать.»
XI
Они обе были одни у широко открытого окна, через которое виднелось пространство, чья величина притягивала. При полном, спокойном свете осеннего солнца, я увидел, насколько поблекшим был облик беременной женщины.
Вдруг её лицо принимает испуганное выражение; женщина пятится назад до стены, опирается на неё и обрушивается вниз с приглушённым криком. Другая женщина обхватывает её руками; она тащит её к звонку, звонит и звонит… Затем она останавливается, не осмеливаясь сделать ни одного движения, держа своими руками тяжёлую и слабую женщину, находясь лицом к лицу рядом с этой женщиной со взбудораженным взглядом, крик которой, сначала приглушённый и скрытый, возвышается до воя.
Дверь открывается. Поднимается спешка. Новые лица присутствуют здесь. За дверью персонал настороже. Я мельком увидел хозяйку, которая плохо скрывает своё комическое разочарование.
Женщину положили на кровать; передвигают вазы, разворачивают салфетки, дают спешные поручения.
Приступ ослабевает, постепенно проходит. Она так счастлива тем, что больше не страдает, поэтому смеётся. Немного принуждённый характер её смеха накладывает отпечаток на склонившиеся лица. Её осторожно раздевают… Она этому не мешает, подобно ребёнку… Разбирают постель. Показываются её совсем щуплые ноги, её лицо застывает, сойдя на нет. Виден лишь её огромный живот посреди постели. Её волосы растрёпаны и неподвижно свисают вокруг её вспотевшего лица, чем-то напоминающего лужицу. Две женские ладони заплетают волосы в косу. Её смех останавливается, прерывается, стихает.
«Это снова начинается…»
Стон, который возрастает, новый вой…
Молодая женщина, — девушка, единственная подруга, осталась. Она смотрит на неё и слушает её, полная мыслей; она думает, что в ней также содержатся подобные страдания и подобные крики.
…Это длилось весь день; часами, с утра до вечера, я слышал душераздирающий стон, который, понижаясь и повышаясь, исходил от сдвоенного и жалкого существа. Я увидел, как плоть раскалывается, ломается, мягкая плоть разбивается как каменная.
В некоторые моменты я спускаюсь, измученный, я больше не могу ни смотреть, ни слушать; я отказываюсь от такой степени реальности. Затем снова, с усилием, я прислоняюсь к стене, и мой взгляд пронизает её.
Обе ноги ярко-красные. Их, прямые и раздвинутые, держат. Как будто из её живота вытекают два ручья крови — крови женщин, так часто проливаемой!.. Её стыдливость, её религиозная тайна развеяны по ветру. Вся её плоть перед глазами, зияющая и красная, выставленная напоказ, как в мясной лавке, обнажённая до внутренностей.
Девушка целует её в лоб, храбро приближаясь совсем близко к бесконечному крику.
Когда этот крик обретает форму, слышно: «Нет! Нет! Я не хочу!»
Лица, почти постаревшие за несколько часов от усталости, отвращения и значительности происходящего, проходят снова и снова.
Я услышал, как кто-то сказал:
«Не нужно ей помогать, нужно позволить всё сделать природе. Она делает верно то, что она делает.»
Эта фраза получает отклик во мне. Природа! Я вспоминаю, что учёный на днях её проклял.
И мои губы повторяют с изумлением изречённую ложь, в то время, когда мои глаза рассматривают невинную и хрупкую женщину, жертву всеохватывающей природы, которая её раздавливает, её обваливает в собственной крови, высвобождает в ней всё то, что может причинить страдание.
Акушерка засучила рукава и надела резиновые перчатки. Видно, как она действует, словно лапищами, своими огромными чёрно-красными и блестящими ладонями.
И всё это становится кошмаром, в который я верю наполовину, будучи с тяжёлой головой, с горлом, перехваченным едким убойным запахом и запахом карболовой кислоты, налитой доверху в бутылки.
Тазы, наполненные водой красной, водой розовой, водой желтоватой. Куча испачканного белья в углу, и другие салфетки повсюду, развёрнутые подобно белым крыльям, с их свежим запахом.
В один момент невнимательности из-за крайней усталости, я услышал крик, отдельный от неё. Крик, который почти лишь неопределённый звук, лёгкий скрип. Это новое существо, которое высвобождается, которое ещё лишь кусок плоти, изъятый из её плоти — её сердце, которое только что из неё вырвали.
Этот крик полностью меня взволновал. Я, являющийся свидетелем всего того, что претерпевают люди, я почувствовал при этом первом человеческом звуке, что во мне завибрировало что-то вроде отеческого и братского чувства.
Она улыбнулась. «Как это быстро прошло!» — сказала она.
*
День кончается. Вокруг неё замолкают. Простой ночник; свет, который иногда слегка шевелит каминные часы, эту бедную, бедную душу. Почти ничего вокруг постели, как в истинном храме.
Она возлежит тут, застывшая в идеальной неподвижности, её открытые глаза направлены к окну. Она видит, как постепенно вечер ниспадает на самый прекрасный из её дней.
На эту опустошённую массу, на этот обессилевший облик нисходит слава создателя, своего рода восторг, который благодарит страдание, и виден новый мир мыслей, возникающий из этого.
Она думает о растущем ребёнке; она улыбается радостям и страданиям, которые он ей принесёт; она также улыбается сестре или брату, которые будут.
И я думаю об этом в то же время, что и она — ия вижу лучше неё её муку.
Эта экзекуция, эта трагедия плоти так обычны и так банальны, что у каждой женщины они запечатлеваются в памяти. И однако никто хорошо не знает этого. Врач, перед которым проходит столько подобных страданий, больше не может этому умиляться, слишком нежная женщина не может больше об этом вспоминать. Сентиментальный интерес одних, профессиональная безучастность других приглушает и изглаживает боль. Но я, который смотрит, чтобы видеть, я знаю весь ужас этой боли при родах, какая, как это сказал недавно человек, которого я слушал, больше не прекращается во чреве матери; и я не забуду никогда великий терзающий прорыв жизни.
Ночник расположен таким образом, что кровать погружена в тень. Я больше не различаю мать; я больше её не знаю; я доверяю ей.
*
Сегодня роженица была перемещена с тщательными предосторожностями в соседнюю комнату, которую она занимала раньше — более просторную и более удобную.
Эту комнату тщательно убрали.
Сделать это было не легко. Я увидел, как встряхивают красные простыни, уносят испачканное постельное бельё, испорченность которого быстро проявилась, моют деревянную часть кровати, переднюю часть камина; и горничная с трудом выталкивала наружу ногой кучу белья, ваты и флаконов. Даже на шторах были следы окровавленных пальцев, а низ кровати был напитан кровью, подобно пресытившемуся зверю.
*
На этот раз говорила Анна.
«Будьте осторожны, Филипп, вы не понимаете христианскую религию. Вы не знаете точно, что это такое. Вы говорите о ней, — добавила она, улыбаясь, — как женщины говорят о мужчинах, или как говорят мужчины, когда они хотят высказаться о женщинах. Её главная составная часть — это любовь. Она обеспечивает любовь между существами, которые инстинктивно ненавидят друг друга. Это также, в нашем сердце, изобилие любви, которая единственная соответствует всем нашим стремлениям, когда мы маленькие, к которой потом присоединяется вся нежность, как сокровище к сокровищу. Это закон излияния чувств, которому отдаются, и питание этого излияния. Это сама жизнь, это почти творение, это почти некто.
— Но, моя прекрасная Анна, это же не христианская религия. Это вы…»
*
Среди ночи я услышал разговор через перегородку. Я победил свою усталость; я посмотрел.
Мужчина был один, лежащий в своей постели. В комнате оставили лампу, с наполовину уменьшенным огнём. Он слегка шевелится. Он спит. Он говорит… Он бредит.
Он улыбнулся; он сказал трижды: «Нет!» с возрастающим восторгом. Затем улыбка, которую он обращал к видению, переполнявшему его чувства, стала убывать, исчезла. Его лицо осталось на мгновение застывшим, неподвижным, как бы в ожидании, затем губы слегка обрисовали недовольную гримасу. Потом его лицо вдруг ужаснулось, рот открылся, вскрикнул, не закрываясь: «Анна! Ах! ах! — Ах! ах!», и будто заткнулся сном. Тогда мужчина проснулся, повёл глазами. Он вздохнул и успокоился. Он сел в постели, ещё поражённый и напуганный всем, что произошло несколько секунд тому назад; он обозрел глазами всё вокруг, чтобы их успокоить, полностью их избавить от кошмара, в который они были вовлечены. Знакомый вид комнаты, посередине которой господствует маленькая лампа, такая скромная и такая неподвижная, успокаивает и исцеляет этого человека, который только что видел то, чего нет, который только что улыбался призракам и прикасался к ним, который только что был безумным.
*
Этим утром я встал, разбитый от усталости. Я обеспокоен; у меня приглушённая боль в лице; мои глаза, когда я внимательно рассматривал себя в зеркале, показались мне кровянистыми, как если бы я смотрел сквозь кровь. Я хожу и двигаюсь с трудом, будто наполовину парализованный. Я становлюсь наказанным своей плотью за те долгие часы, в которые я оставался распростёртым на стене, лицом в отверстие. И это всё возрастает.
И потом, всевозможные заботы меня одолевают, когда я один, избавленный от видений и сцен, которым я посвящаю мою жизнь. Заботы о моём положении, которое я порчу, поступки, которые я должен бы был совершить, но не совершаю, пристрастившись, наоборот, отвергать все взятые на себя обязательства, откладывать всё на более позднее время, уклоняться изо всех моих сил от участи служащего, предназначенного для включения в медлительный механизм и тиканье стенных часов в конторе.
Также заботы о мелочах, изнуряющие, потому что они постоянно увеличиваются, поминутно, одна за другой: не шуметь, не зажигать свет, когда его нет в соседней комнате, прятаться, таиться всегда. Как-то вечером я задыхался от приступа кашля в то время, когда я смотрел, как они разговаривали. Я схватил мою подушку, зарылся в неё головой и заглушил свой рот.
Мне кажется, что всё скоро объединится против меня, для не знаю какой мести, и что я вскоре больше не смогу долго выдержать. Однако я продолжу смотреть столько, сколько у меня будет здоровья и мужества, ибо это есть наихудшее, но это больше, чем долг.
*
Мужчина ослабевал. Смерть явно находилась в доме.
Был довольно поздний вечер. Они сидели оба напротив друг друга, каждый с одной стороны стола.
Я знал, что во второй половине дня состоялось их бракосочетание. Они осуществили этот союз, который придавал лишь больше торжественности последующему прощанию. Несколько белых венчиков: лилии и азалии, устилавшие стол, камин, кресло; и он, такой же умирающий, как эти головки срезанных цветов.
«Мы поженились, — сказал он. — Вы моя жена. Вы моя жена, Анна!»
Именно для брачной нежности произносились эти слова, которых он так ожидал. Ничего более… но он чувствовал себя таким бедным, со своими редкими просветами, что это было полным счастьем.
Он посмотрел на неё, и она подняла на него глаза, — он, обожавший её братскую ласковость, она, привязавшаяся к его обожанию. Какая бесконечность чувства в этих двух молчаниях, сопоставимых со своего рода объятием; в двойном молчании этих двух существ, которые, я это заметил, никогда не прикасались друг к другу, даже кончиками пальцев…
Девушка выпрямилась и сказала не вполне уверенным голосом:
«Поздно. Пора спать.»
Она встала. Лампа, поставленная ею на камин, осветила комнату. Она вся была объята трепетом. Казалась, что она посреди грёзы, и ей неизвестно, как повиноваться этой грёзе.
Стоя, она подняла руку и вытащила гребни из своих волос; было видно, как струились её густые волосы, которые, во мраке, казались озарёнными закатом.
Он сделал резкое движение. Он смотрел на неё, изумлённый. Ни слова.
Она сняла золотую булавку, застёгивавшую верх её корсажа, и показалась небольшая часть её груди.
«Что вы делаете, Анна, что вы делаете?
— Но… я раздеваюсь…»
Она хотела это сказать естественным тоном; но не смогла. Он ответил невнятным междометием, задетый за живое… Изумление, безнадёжное сожаление и также ослепляющее впечатление от немыслимой надежды его волновали, его угнетали.
«Вы мой муж…
— Ах! — сказал он, — вы знаете, что я ничто.»
Он говорил, запинаясь, слабым и трагическим голосом, отрывистые фразы, бессвязные слова:
— …Женатые формально… я это знал, я это знал… формальность… наши условности…»
Она остановилась. Её полуколеблющаяся рука была возложена на её шею, как цветок на корсаж.
Она сказала:
«Вы мой муж, вы имеете право меня видеть.»
Он сделал едва уловимый жест… Она быстро продолжила:
«Нет… Нет, дело не в вашем праве, это я так хочу.»
Я начинал понимать, до какой степени она старалась быть доброй. Она хотела дать этому человеку, бедняге, который угасал у её ног, награду, достойную её. Она хотела проявить акт милосердия по отношению к нему, одарить его, показав ему себя.
Но это было ещё труднее чего-либо: не нужно было, чтобы это представлялось оплачиванием долга: он на это бы не согласился, несмотря на праздник, возраставший перед его глазами. Нужно было, чтобы он просто поверил в охотно выполняемое деяние супруги, в естественную ласку, искреннюю по отношению к нему. Нужно было скрыть от него, как порок, отвращение и страдание. И предчувствуя, сколько же ей всего придётся затратить гениальной деликатности и мужества, чтобы поддержать жертвоприношение, ей становилось страшно за себя.
Он противился:
«Нет… Анна… Доргая Анна… подумайте…»
Он собирался сказать: «Подумайте о Мишеле.» Но у него не было мужества высказать в этот момент единственный решающий аргумент, он на это не имел сил, и лишь прошептал:
«Вы!.. Вы!..»
Она повторила:
«Я этого хочу.
— Я не хочу, нет, нет…»
Он говорил это всё тише и тише, побеждённый любовью и будучи вне себя от желания, которое она вызывала. Из-за инстинктивного благородства души, он выставил ладонь перед своими глазами; но его ладонь постепенно опускалась, опускалась, укрощённая.
Она продолжила раздеваться. Её растерянные движения были почти неумелыми, и моментами останавливались, потом возобновлялись. Во всём великолепии она была полностью одинока. Её поддерживало лишь немного гордости.
Она сняла свой чёрный корсаж, и её бюст возник подобно сиянию дня. Она вздрогнула всем телом, как только свет её коснулся, и скрестила на груди свои блистательные и безупречные руки. Затем, изящно изогнутыми руками, выдвинув вперёд своё зардевшееся лицо, с настойчивостью сжав губы, как если бы она старательно занималась лишь тем, что она делала, она расстегнула пояс своей юбки, которая как бы стекла по её ногам. Она выскользнула из неё с лёгким шелестом, сравнимым с шелестом, создавемым ветром повсюду в глубине большого сада.
Она сняла чёрную нижнюю юбку, которая придавала печальный и расхолаживающий вид её формам, корсет, эту крепость, которая дерзко прислонялась к ней, панталоны, которые своей формой и своими изгибами мягко имитировали её наготу.
Она прислонилась к камину. Её движения были широкими, величественными и красивыми, и в то же время милыми и женственными.
Она отстегнула чулок, вынула из тонкой тёмной вуали гладкую и полную ногу, подобную ноге статуи Микельанджело.
В этот момент она содрагнулась, внезапно скованная, охваченная отвращением. Она пришла в себя и сказала, чтобы объяснить остановившую её дрожь:
«Мне немного холодно…»
Затем она продолжила, проявляя, посредством её нарушения, свою безмерную стыдливость — и она положила ладонь на тесёмку своей рубашки.
Мужчина вскрикнул совсем тихо, чтобы не испугать её своим голосом:
«Святая Дева!..»
И он находился там, съёжившийся, сморщенный, вся жизнь которого была в его глазах, пылавших во мраке, с его любовью, такой же прекрасной, как она.
Он хрипел: «Ещё…» Ещё…»
На протяжении значительного мгновения, пространное собеседование онемевших страсти и добродетели! Бедные и слабые глаза умирающего её растлевали, её портили — и ему нужно было бороться против самой силы этой мольбы, чтобы внять ей. Его деяние было полностью против неё: против него и неё.
Однако, с мягким кокетством, простым и величественным, она спустила бретельки своей рубашки по тёплому мрамору своих плечей — и она оказалась обнажённой перед ним,
*
Я никогда не видел женщины, столь лучезарно прекрасной. Я никогда не мечтал о подобном. Её лицо в первый же день меня поразило своей правильностью и своим сиянием, и, будучи очень рослой, — более рослой, чем я, — она мне казалась одновременно пышной и изящной, но я не смог бы поверить в такое совершенство пышности форм.
Словно та же Ева с замечательных религиозных фресок, с её сверхчеловеческими пропорциями. Крайне рослая, нежная и гибкая, она имела обильное тело, от неё исходил свет естественности, её движения были размеренными и властными. Широкие плечи, тяжёлые прямостоящие груди, маленькие ступни и, расширяющиеся к краям ноги, икры, круглые как две груди.
Она инстинктивно приняла высшую позу Венеры Медичи: полусогнутая рука перед грудями, другая вытянута с распростёртой ладонью перед её животом. Затем, вдохновлённая дарением, она подняла обе руки к своим волосам.
Всё, что скрывало её платье, она предоставляла его взглядам. Всю эту чистоту, которую до сих пор лишь она одна видела, она отдавала в жертву этому мужскому вниманию, которое скоро умрёт, но которое жило.
Всё: свой гладкий живот девственницы, в изобилии покрытый внизу золотым пушком; свою тонкую и шелковистую кожу, такого чистого и такого светлого цвета, что местами она имела серебряные отблески, и сквозь которую на груди и в паху слегка просвечивали вены, наложенные на телесный цвет как подрагивающая лазурь; сгиб, который делал её стан при наклоне в сторону, и который, вместе с лёгким живым колье её шеи, составлял отдельную линию, находившуюся на её теле, и её бёдра, широкие как целый мир, и ясный и смущённый взгляд, который она имела, будучи обнажённой.
Она говорила: она сказала как бы погружённым в сновидение голосом, заходя ещё гораздо дальше в этом высшем даре:
«Никто, — и она сделала ударение на этом слове с настойчивостью, как бы именовавшей кого-то — никто, поймите меня правильно, что бы ни случилось, не узнает никогда, что я сделала этим вечером.»
После того, как она подарила навечно секрет обожателю, сражённому подле неё наподобие жертвы, она сама опустилась на колени перед ним. Её светлые и блестящие колени ударились о вульгарный ковёр, и приближенная таким образом, поистине обнажённая первый раз в своей жизни, покрасневшая до плечей, цветущая и украшенная своим целомудрием, она пробормотала неразборчивые слова благодарности, как будто она ясно чувствовала, что совершавшееся ею было сверх её долга и прекраснее, и что она сама была восхищена этим.
*
А когда она оделась и померкла навсегда, и они расстались, не решившись что-либо сказать друг другу, я был выведен из равновесия большим сомнением. Была ли она права, была ли она неправа? Я увидел, как мужчина плакал, и я слышал, как он вполголоса прошептал: «Теперь я больше не сумею умереть!»
XII
Теперь мужчина только лежит. Вокруг него передвигаются с осторожностью. Он делает едва уловимые жесты, произносит редкие слова, просит пить, улыбается, молчит под наплывом мыслей.
Этим утром он принял вид передающего наследство, сложил вместе руки.
Его окружили, на него смотрят.
«Вы хотите священника?
— Да… нет…» — говорит он.
Присутствующие вышли; и несколько мгновений спустя, как будто он ждал за дверью, человек в тёмной одежде оказался тут. Они были одни.
Умирающий повернул лицо к вновь пришедшему.
«Я скоро умру, — сказал он ему.
— Вы какой религии?» — спросил священник.
*
«Религии моей страны, православной.
— Прежде всего следует отречься от ереси. Истинной является лишь католическая римская религия.»
Он продолжил:
«Исповедуйтесь… Я вам отпущу грехи и вас окрещу.»
Мужчина не ответил. Священник повторил:
«Исповедуйтесь. Расскажите мне, что плохое вы совершили — кроме того, о ваших ошибках. Вы раскаетесь и всё вам будет прощено.
— Плохое?
— Вспомните… Нужна ли моя помощь?»
Он указал головой на дверь.
«Кто эта особа, которая там?
— Я женат на ней» — сказал мужчина, поколебавшись.
Это не ускользнуло от лица, склонившегося над ним, напрягая слух. Священник почуял что-то:
«Давно ли?
— Уже два дня.
— О! уже два дня! А до этого вы грешили с ней?
— Нет, — сказал мужчина.
— А!.. предположим, что вы не лжёте. И почему вы не согрешили? Это не естественно. Ибо, наконец, — настоял он — вы же мужчина…»
И, поскольку больной волновался, растерялся:
«Не удивляйтесь, мой сын, если мои вопросы прямые и откровенные до такой степени, что заставляют вас протестовать. Я вас допрашиваю со всем прямодушием, и под прикрытием высочайшего прямодушия моего ведомства. Отвечайте мне столь же откровенно — и вы поладите с Богом, — добавил он не без добродушия.
— Это девушка, — сказал старик. — Она помолвлена. Я дал ей приют, когда она была совсем ребёнком. Она разделила тяготы моей жизни в путешествиях, ухаживала за мной. Я женился на ней перед смертью, потому что я богат, а она бедна.
— Только для этого? И ничего другого, ничего?»
Он пристально и внимательно смотрел на лицо напротив, как допросчик, с требовательным взглядом. Затем он сказал «а?», улыбаясь своим раскрытым ртом и поощряюще подмигнув глазом, почти как сообщник.
«Я её люблю, — сказал мужчина.
— Наконец вы сознаётесь!» — воскликнул священник.
*
Он продолжил, глядя прямо в глаза умирающего, задевая его дуновением при произнесении им слов:
«Итак, вы возжелали эту женщину, плоть этой женщины, и мысленно совершали, на протяжении длительного времени, ведь так, — да, на протяжении длительного времени грех?…
«Скажите мне, во время ваших совместных путешествий, как вы устраивались в гостиницах с комнатами, постелями?
«Вы говорите, она ухаживала за вами. Что ей приходилось делать для этого?»
Эти несколько вопросов, которыми святой человек пытался проникнуть в горести того, кто угасал тут, отталкивали его от священника как оскорбления. Их лица теперь внимательно рассматривали друг друга, будучи настороже, и я видел, как возрастало недоразумение, в котором увязал каждый из них.
Умирающий замкнулся, стал резким и недоверчивым перед этим иностранцем с заурядным лицом, в устах которого слова Бога и истины приобретали поразительную манеру комика, и который хотел, чтобы ему открыли своё сердце.
Однако он сделал усилие:
«Если я согрешил мысленно, говоря вашими словами, — сказал он, — это доказывает, что я не грешил, и зачем мне раскаиваться в том, что было просто-напросто страданием?
— О, не нужно теорий. Мы не для этого находимся здесь. Я же вам говорю, вы поймите, что ошибка, совершённая мысленно, совершена намеренно, и что, следовательно, это действительная ошибка, и что необходимо исповедаться и искупить её. Расскажите мне, при каких условиях желание вас подтолкнуло к преступной мысли; и скажите мне, сколько раз это произошло. Опишите мне подробности.
— Но я устоял, — простонал несчастный, — это всё, что я могу сказать.
— Этого не достаточно. Грязь — вы теперь убеждены, я считаю правильным этот термин, — грязь должна быть смыта истиной.
Ладно, — сказал умирающий, побеждённый. — Я признаю, что я совершил этот грех, и я в нём раскаиваюсь.
— Не в этом заключается исповедь и это не есть моё дело, — возразил священник. — При каких обстоятельствах, точно, вы поддались, в отношении этой особы, внушениям духа зла?»
Мужчину потряс приступ возмущения. Он наполовину поднялся, облокотился, устремив взгляд на иностранца, который на него также смотрел, они глядели друг другу в глаза.
«Почему я имею в себе дух зла?» — спросил он.
*
«Все люди имеют его в себе.
Тогда именно Бог дал им его, потому что как раз Бог их создал.
— А! вы же спорщик! Будь по-вашему. Я отвечу. Человек имеет одновременно дух добра и дух зла, то есть, возможность делать одно или другое. Если он поддаётся злу, он проклят; если он его побеждает, он вознаграждается. Чтобы быть спасённым, ему следует это заслужить, борясь изо всех своих сил.
— Каких сил?
— Добродетель, вера.
А если у него нет достаточно добродетели и веры, разве он виноват?
— Да, ибо тогда, значит, у него в душе слишком много греховного и заблуждения.»
Собеседник повторил:
«Кто же именно вложил в его душу свою дозу добродетели и свою дозу греховного?
— Бог дал ему добродетель, он также дал ему возможность совершать зло; но он в то же время дал ему свободную волю, позволяющую ему выбирать по своему усмотрению добро или зло.
— Но если у него больше плохих инстинктов, чем хороших, и если они сильнее, то как же для него будет возможно обратиться в сторону добра?
— Посредством свободной воли, — сказал священник.
— Ведь это лишь хороший инстинкт — свободная воля, а если…
— Человек стал бы хорошим, если бы так хотел этого. К тому же, мы никогда не перестанем обсуждать бесспорное. Всё, что можно сказать, заключается в том, что всё бы пошло иначе, если бы Люцифер не был проклят и если бы первый человек не согрешил.
— Несправедливо, — сказал больной, воодушевлённый этой борьбой, и которому, вероятно, вскоре вновь будет тяжко от приступа болезни, — что мы делим на части наказание Люцифера и Адама.
«Но особенно чудовищно, что они были прокляты и наказаны. Если они не устояли, так это потому, что Бог, который извлёк их из небытия, понимаете, из небытия? то есть, который дал им всё, что было в них, им дал больше порока, чем добродетели. Он их наказал за то, что они пали там, где он их бросил!»
Мужчина, продолжавший облокачиваться и державшийся за подбородок рукой — худой и чёрной, посмотрел широко раскрытыми глазами на своего собеседника и выслушал его как сфинкс. Священник повторил, как будто он не понимал ничего другого: «Они могли бы быть непорочными, если бы захотели; именно это есть свободная воля.»
Его голос был почти приятным. Он не казался задетым целой серией богохульства, высказанного человеком, которому он пришёл помочь. Его не интересовала эта богословская дискуссия, в которой он участвовал необходимыми словами, по привычке. Но он, возможно, ожидал, что его оппонент устанет говорить.
И поскольку тот медленно дышал, будучи измождённым, он заставил его услышать, он высказал эту чёткую и бесстрастную фразу, подобную надписи на камне:
«Злые несчастны; добрые или раскаявшиеся счастливы на небе.
— А на земле?
— На земле добрые несчастны как другие, больше других, ибо чем больше страдают здесь, внизу, тем больше вознаграждены там, наверху.»
Человек снова приподнялся, вновь охваченный гневом, который изнурял его как лихорадка.
«А! — сказал он, — в большей степени, чем первородный грех, в большей степени, чем предопределение свыше, страдание добрых на земле является отвратительным. Ничто его не извиняет.»
Священник смотрел на бунтовщика пустым взглядом… (Да, я это хорошо видел, он ждал!) Он изрёк очень спокойно:
«Как без этого испытывать души?
— Ничто этого не извиняет! Даже этот детский довод, основанный на неведении, где должен бы быть Бог истинного качества души. Добрые не должны бы были страдать, если бы справедливость была где-либо установлена. Они не должны страдать, даже немного, даже мгновение в вечности. «Нужно страдать, чтобы быть счастливым.» Как происходит, что никто так никогда и не поднялся, чтобы осудить этот дикий закон?»
Силы его оставляли… Его голос становился хриплым. Его сдавленное тело задыхалось; были разрывы в его фразах…
«Ничего нельзя будет ответить на этот обвиняющий голос. Вы напрасно будете рассматривать со всех сторон, во всех смыслах божью милость, покрывать её патиной и обрабатывать её, вы не сотрёте с неё пятно, наносимое на неё незаслуженным страданием.
— Но счастье, обретённое через страдание, это всеобщее предназначение, общий закон…
— Именно потому, что этот закон общий, он заставляет сомневаться в Боге.
— Замыслы Божьи непостижимы.»
Умирающий выставил вперёд свои худые руки; его глаза ввалились. Он крикнул:
«Ложь!»
*
«Хватит, — сказал священник. — Я терпеливо выслушал ваши разглагольствования, о которых я сожалею; но дело не во всех этих рассуждениях.
Вам нужно готовиться предстать перед Богом, вдали от которого, как мне кажется, вы прожили. Если вы страдали, вы будете утешены в его лоне. Пусть это вас удовлетворит.»
Больной лежал, вытянувшись. Он оставался некоторое время неподвижным под складками белой простыни, словно мраморная статуя с бронзовым лицом, покоящаяся в гробнице.
«Бог не может меня утешить.
— Сын мой, сын мой, что вы говорите?»
Его голос вновь оживляется;
«Бог не может меня утешить, потому что он не может мне дать то, чего я желаю.
— Ах! моё бедное дитя, как вы погрязли в заблуждении… А бесконечное могущество Бога, что вы с этим поделаете?
— Я ничего с ним не делаю! — сказал мужчина.
— Что? Человеку пришлось бы биться в свою защиту всю свою жизнь, мучаясь от горя, и совсем ничего не будет для его утешения! Что же вы можете ответить на это?
— Увы, это не вопрос, — сказал мужчина.
— Почему вы послали за мной?
— Я надеялся, я надеялся.
— На что? на что вы надеялись?
— Я не знаю, всегда надеются лишь на то, чего не знают.»
Его ладони блуждали в пространстве, затем опустились.
Они оба хранили молчание, оставаясь каждый при своём мнении… Я чётко сознавал, что в их головах стоял вопрос о самом существовании Бога. Неужели Бог не существует, неужели прошлое и будущее мертвы… Несмотря на всё, несмотря на всё, имелось большое сближение, период просветления между этими двумя людьми, сильно озабоченными одной и той же мыслью, между этими двумя упрашивающими друг друга, между этими двумя несходными братьями.
«Время идёт» — заметил священник.
И, возобновив диалог с того места, где он его только что остановил, как будто с тех пор ничего не произошло, сказал:
«Расскажите мне об обстоятельствах вашего плотского греха. Расскажите… Когда вы были одни с этой особой, бок о бок, совсем рядом, вы разговаривали или вы молчали?
— Я вам не доверяю», — сказал мужчина.
Священник нахмурил брови.
«Покайтесь и скажите мне, что вы верите в католическую религию, которая вас спасёт.»
Но мужчина, сильно взволнованный, отрицательно покачал головой и полностью отверг своё счастье:
«Религия…», — начал он.
Священник резко прервал его речь.
«Вы опять начинаете! Замолчите. Я с ходу отметаю все ваши словесные уловки. Начните верить в религию, вы увидите потом, что это такое. Я предполагаю, что вы в неё не верите, потому что она вам может понравиться? Именно поэтому ваши слова неуместны, и я как раз пришёл, чтобы вас заставить поверить.»
Это была дуэль, ожесточённая. Оба человека смотрели друг на друга на краю могилы как два врага.
«Нужно верить.
— Я не верю.
— Это нужно.
— Вы хотите изменить истину угрозами.
— Да.»
Он подчеркнул начальную определённость своего приказа:
«Будучи убеждённым или нет, веруйте. Речь не идёт о несомненности, речь идёт о вере. Нужно верить с самого начала, иначе рискуют не верить никогда. Сам Бог не соблаговолит убеждать неверующих. Больше нет времени чудес. Единственное чудо — это мы и это вера. «Веруй и «Небо тебя сделает верующим.»
Веруй! Он непрерывно бросал в него одно и то же слово, как камни.
«Сын мой, — продолжил он, более торжественно, стоя, подняв свою большую круглую ладонь, — я требую от вас акта раскаяния.
— Убирайтесь», — сказал мужчина, полный ненависти.
Но священник не двинулся.
Подгоняемый срочностью, подталкиваемый необходимостью спасти эту душу вопреки ей самой, он стал беспощадным.
«Вы скоро умрёте, — сказал он, — вы скоро умрёте. У вас лишь несколько мгновений жизни. Покоритесь.
— Нет», — сказал мужчина.
Человек в чёрной одежде схватил его за обе руки.
«Покоритесь. Никаких стремлений к дискуссии, подобной той, где вы только что потеряли драгоценное время… Всё это не имеет важности. Собака лает — ветер носит… Мы одни, вы и я, с Богом.»
Он покачал головой с маленьким выпуклым лбом, с выступающим вперёд и круглым носом, расширяющимся двумя влажными и тёмными ноздрями, с тонкими жёлтыми губами, словно связывающими, наподобие шнурков, два выдающихся вперёд и как бы изолированных во мраке зуба; его лицо словно исчерчено линиями вдоль лба, между бровями, вокруг рта и покрыто серым слоем на подбородке и на щеках; и он сказал:
«Я представляю Бога. Вы находитесь передо мной, как будто вы бы находились перед Богом. Скажите просто «Я верую»: вот и всё. Остальное мне безразлично.»
Он всё больше и больше наклонялся, почти прижав своё лицо к лицу умирающего, стремясь придать своему отпущению грехов как бы форму пинка.
«Просто произносите со мной: «Отче наш, иже еси на небеси.» Я не буду требовать от вас чего-то другого.»
Лицо больного, судорожно сведённое отказом, проявляло жест отрицания: Нет… Нет…
Вдруг священник встал с торжествующим видом:
«Наконец! вы это сказали.
— Нет.
— А!» — проворчал священник сквозь зубы.
Он сжимал ему руки, казалось, будто он обхватывал его руками, чтобы обнять, чтобы задушить его, что он бы убил его, если бы его хрипение должно было стать признанием — настолько он был переполнен желанием убедить его, вырвать у него слово, которого он пришёл добиться от его уст.
Он выпустил иссушенные руки умирающего, зашагал взад и вперёд по комнате, как хищный зверь, вернулся, чтобы стоять перед кроватью.
«Подумай, что ты скоро умрёшь, сгниёшь, — пробормотал он умирающему… Ты скоро будешь в земле. Скажи: «Отче наш», только эти два слова, ничего больше.»
Он стоял над ним, зорко следя за его ртом, скрючившийся и мрачный, как демон, подстерегающий душу, как вся Церковь над всем умирающим человечеством.
«Скажи это… Скажи это… Скажи это…»
Его собеседник попытался освободиться, и яростно прохрипел, совсем тихо, во всю оставшуюся силу своего голоса: «Нет.
— Сволочь!» — крикнул ему священник.
*
«Ты умрёшь по крайней мере с распятием в когтях.»
Он вытащил из кармана распятие и тяжело положил его ему на грудь.
Умирающий зашевелился в смутном ужасе, как если бы религия была заразной, и сбросил этот предмет на пол.
Священник наклонился и пробормотал оскорбления: «Гниль, ты хочешь околеть как собака, но я нахожусь здесь!» Он поднял крест, оставил его в руке и, со сверкающими глазами, уверенный, что переживёт другого и подавит его, в последний раз подождал.
Умирающий задыхался, полностью теряя силы, измученный. Священник, видя, что тот в его власти, снова положил распятие ему на грудь. На этот раз умирающий его сохранил, будучи в состоянии лишь смотреть на него ненавистными и полными погибели глазами; и его взгляды не дали ему пасть в бою.
Когда чёрный человек отбыл во мраке, и когда его собеседник постепенно пришёл в чувство после него, освободился от него, я подумал, что этот священник, со всей своей жестокостью и грубостью, был страшно прав. Плохой священник? Нет, хороший священник, который не перестал разговаривать сообразно своей совести и своей вере, и который старался просто применить свою религию, такую, какая она есть, без лицемерных уступок. Невежественный, неловкий, неотёсанный — да, но честный и даже логичный в своём отвратительном посягательстве. В течение получаса, когда я его слышал, он старался, всеми средствами, используемыми и рекомендуемыми религией, применить на практике свою специальность по вербовке верующих и по отпущению грехов; он сказал всё, что священник не может не сказать. Весь догмат проявился, в чистом виде и определённо выраженный, через грубую вульгарность служителя, раба. В какой-то момент, растерявшийся, он простонал с истинным страданием: «Так чего же вы ещё хотите, чтобы я сделал!» Если мужчина был прав, то и священник был прав. Ведь это священник, безропотный скот религии.
*
…Ах! это нечто, которое не шевелилось, прямое, около кровати… Это большое высокое нечто, которого только что здесь не было — преграждающее скачущее пламя свечи, поставленной около больного…
Я нечаянно издал шум, опираясь на стену, и, очень медленно, это нечто повернуло ко мне лицо со страхом, который меня испугал.
Я знал это смутно видимое лицо… Ведь это был не кто иной, как хозяин гостиницы, человек со странными манерами, которого мало видели…
Он слонялся в коридоре, ожидая момента, когда больной, в суматохе этого заведения, останется один. И он стоял около заснувшего или объятого слабостью мужчины.
Он протянул руку к дорожной сумке, стоящей около кровати. Делая это движение, он смотрел на умирающего и расположился таким образом, чтобы его рука в два приёма достала бы до этого предмета.
Раздался какой-то треск с верхнего этажа, и мы вздрогнули. Стукнула дверь; он поднялся, словно стараясь остановить вскрик.
…Он медленно открыл дорожную сумку. А я, я, больше не узнавал себя, я боялся, что у него не хватит на это времени…
Он вытащил из неё пакет, который тихо прошуршал. И, когда он внимательно рассматривал в своей собственной руке пачку банкнот, я увидел необычайное озарение, излучаемое его лицом. Все любовные чувства были в нём смешаны: обожание, мистицизм, а также зверская любовь… — своего рода сверхъестественный экстаз, а также грубое удовлетворение, уже заключавшее в себе непосредственные радости… Да, все виды любви мгновенно отпечатались в глубине человеческой природы этого образа вора.
…Кто-то сторожил за приоткрытой дверью… Я увидел, как его поманила рука.
Он вышел на цыпочках, медленно, ускоряя шаг.
Я ведь честный человек, и однако я задержал дыхание в то же время, как и он; я его понял… Напрасно мне себя защищать от этого: с ужасом и братской радостью за своих, я украл вместе с ним.
…Все кражи увлекательные, даже та, которая подлая и вульгарная. (Его взгляд, полный неутолимой любви к внезапно схваченному сокровищу!) Все правонарушения, все преступления являются посягательствами, совершёнными из-за огромного желания украсть, которое есть сама наша сущность и форма нашей обнажённой души: иметь то, чего не имеешь.
Но тогда следовало бы оправдывать преступников, и наказание является несправедливостью?… Нет, нужно от этого защищаться. Нужно — потому что общество людей держится на честности — их карать, чтобы добиваться их бессилия и особенно чтобы вселять в них страх и останавливать других в начале совершения дурного деяния. Но не нужно, установив вину, искать для неё весомые оправдания, из опасения оправдывая её всегда. Нужно её заранее осуждать, на основании принципа застывшей бесстрастности. Правосудие должно быть бесстрастным как оружие.
Это не есть, как представляется по его названию, своего рода добродетель; это устройство, достоинством которого является то, что оно бесстрастно; оно не обеспечивает заглаживание вины. Оно не имеет никакого отношения к искуплению. Его роль заключается в том, чтобы воспитывать назиданиями: превращать виновного в своего рода пугало, вводить в размышление о том, кто склоняется к преступлению, довод о его жестокости. Никто, ничто не имеет права вынуждать к заглаживанию вины; впрочем, никто этого не в состоянии сделать; отмщение слишком обособлено от деяния и, так сказать, задевает другое лицо. Стало быть, искупление есть слово, не имеющее никакого вида использования в мире.
XIII
Он не двигался, ослабленный, лишённый сил. Из-за угрожающей тяжести своей плоти он оставался распростёртым и онемевшим. Смерть уже лишила его движений и ощутимых содроганий.
Замечательная жена находилась точно перед неподвижным взором мужчины, сидя в изножье кровати, лицом к лицу с ним; его руки были вытянуты горизонтально относительно деревянной части кровати, и на её верхнем краю подрагивали его две красивые кисти рук. Профиль его был едва наклонённым, слегка прорисовывающийся и столь мягкий профиль, светлое очертание на фоне доброго вечера. Под изящной дугой брови подрагивал большой глаз, ясный, чистый: небесное дитя; тонкая кожа на щеке и на виске излучала бледность, а его густые волосы, видимые мною непокрытыми, возвышались своими грациозными переплетениями над его лбом, где мысль была невидима, подобно Богу.
Она находилась одна с этим человеком, брошенным тут, словно сваленным в кучу, словно уже в глубине ямы, — та, которая захотела быть привязанной к нему сильным страхом за него и стать, когда он умрёт, целомудренно вдовствующей. Он и я, мы видели вместе лишь её лицо; и действительно, было только оно в глубоких сумерках вечера: её открытое приподнятое лицо, а также его две великолепные кисти рук, которые походили друг на друга как гордость и нежность.
…Голос раздался из постели. Я едва его узнавал.
«Я не кончил говорить», — сказал голос.
Анна склонилась над кроватью как над краем гроба, чтобы воспринять слова, которые изливались, вероятно, в последний раз из обездвиженного и почти бесформенного тела.
«Будет ли у меня время… будет ли у меня…»
Едва был слышен шопот, который оставался почти во рту. Потом голос ещё раз свыкся с существованием и стал внятным:
«Я бы хотел сделать вам признание, Анна.
«Мне не хотелось бы, чтобы это умерло со мной, — продолжил почти воскресший голос. — Я жалею об этом воспоминании. Я жалею… Ах! пусть оно не умрёт…
«Я любил одну женщину до вас.
«Да… я любил. Грустный и нежный образ… я бы хотел вырвать у смерти эту добычу; я её отдаю вам, потому что вы тут.»
Он собрался с силами, чтобы посмотреть на ту, с которой он говорил.
«Она была белокурой и яркой, — сказал он.
«Вы не должны ревновать, Анна (даже если не любят, иногда ревнуют). Прошло едва лишь несколько лет, как вы родились. Вы были маленьким ребёнком, вслед которому на улице оборачивались только матери.
«Мы обручились с ней в помещичьем парке её родителей. У неё были белокурые локоны, щедро украшенные лентами. Я гарцевал на лошади перед ней, она мне улыбалась.
«Я был тогда молодым, сильным, полным надежд и начинаний. Я считал, что смогу завоевать мир и даже что у меня имелся выбор возможностей… Увы, я лишь быстро появился на его внешней стороне! Она была ещё моложе меня: столь недавно расцветшая, что однажды — я вспоминаю, на скамейке в парке, где мы сидели, и не очень далеко от нас, находилась её кукла. Мы говорили друг другу: «Ведь мы вернёмся оба в этот парк, когда станем старыми?» Мы любили друг друга… Вы понимаете… У меня нет времени вам сказать, но вы понимаете, Анна, что эти несколько дорогих мне фрагментов воспоминания, которые я вам предоставляю наудачу, прекрасны, более прекрасны, чем думается!
«Она умирает как раз той же осенью, в момент — я сохранил эту подробность — когда, после официального назначения даты нашего бракосочетания, мы решили уже называть друг друга на «ты». Эпидемия, причинившая горе нашей стране, сделала из нас две жертвы. Я выздоравливал один. У неё не было сил избавиться от изверга. Прошло двадцать пять лет. Двадцать пять лет, Анна, между её смертью и моей.
«И вот самый драгоценный секрет: её имя…»
Он его прошептал. Я его не расслышал.
«Повторите его мне, Анна.»
Она повторила неясными слогами, смутно дошедшими до меня, так что я не смог объединить их в одно слово, ибо нужно было слышать очень отчётливо, чтобы разобрать незнакомое имя собственное; другие части фразы дополняются, возникают в представлении, но это имя остаётся обособленным.
И он повторил, причём голос при воспоминаниях понижался, словно переходящий в вечер:
«Я вам признаюсь в этом, потому что вы тут. Если бы вы не были тут, я бы в этом признался неважно кому, лишь бы он обрёл спасение через меня.
*
Он добавил, таким размеренным и монотонным голосом, чтобы тот мог ему прослужить до конца:
«Я хочу признаться в другом, являющемся проступком и несчастьем…
— Вы не признались в этом проступке священнику? — спросила она.
— Я ему почти ничего не сказал», — довольствовался он ответом.
И он продолжил своим громким и таким спокойным голосом:
«Я сочинял стихи в течение нашей помолвки, поэмы о нас. Рукопись имела то же имя, что и она. Мы читали вместе эти стихи, и мы вдвоём любили их и восхищались ими. «Это прекрасно, это прекрасно!» — восклицала она, хлопая в ладоши, каждый раз, когда я знакомил её с новым стихотворением; и, когда мы бывали вместе, всегда на расстоянии нашей руки находилась эта рукопись, — самая прекрасная книга, которая когда-либо была написана, по нашему мнению. Она не хотела, чтобы эти стихи были опубликованы и извлечены из нашего личного употребления. Однажды, в саду, она открыто проявила передо мной свою волю: «Никогда! Никогда!» — восклицала она. Как маленькая упрямая и строптивая девочка, она повторяла это слово, создававшее для неё впечатление того, что она взрослая, в знак несогласия качая своей миленькой головкой, на которой взбивались её волосы.»
Голос мужчины стал одновременно более уверенным и более трепещущим, дополняя и оживляя несколько характерных моментов прежней истории.
«В другой раз, в оранжерее, когда с утра шёл дождь, долгий однообразный дождь, она мне сказала: «Филипп…» — Она мне говорила: «Филипп», как вы это мне говорите.»
Он остановился, удивлённый чересчур откровенной простотой фразы, которую он только что изрёк.
«Она мне сказала: «Знаете ли вы историю английского художника Россетти[37]?» и она мне рассказала этот эпизод, который при чтении её глубоко взволновал: он обещал даме, которую любил, всегда оставлять ей рукопись книги, написанной для неё, а если она умрёт, положить эту книгу вместе с ней в гроб. Она умерла, и он на самом деле приказал захоронить эту книгу вместе с ней. Но потом, будучи увлечённым славой, он нарушил обещание и неприкосновенность могилы. «Вы мне оставите вашу книгу, если я умру раньше вас, и вы её не заберёте обратно, Филипп?», и я это обещал, смеясь, а она тоже смеялась.
«Я, медленно, вылечился от моей болезни. Когда я стал достаточно крепким, мне сообщили, что она умерла. Когда я смог выходить, меня привели на могилу, величественный монумент её рода, который где-то скрывал новый и небольшой гроб.
«Не стоит рассказывать о горестях моей скорби… Всё мне её напоминало. Я был полон ею, а её больше не было! Поскольку моя память ослабела, каждая деталь вызывала во мне воспоминание; мой траур был ужасным возобновлением моей любви. Вид рукописи вызвал во мне воспоминание об обещании. Я положил её в шкатулку, не перечитывая, и однако я её больше не узнавал, стёртую в сознании выздоровлением. Я добился, чтобы подняли плиту и открыли гроб, вложив в него книгу, в соответствии с желанием умершей. Один служитель, который при этом присутствовал, пришёл мне сказать: «Она была помещена между её ладоней.»
«Я пожил. Я поработал. Я постарался заниматься творчеством. Я написал драмы и поэмы; но ничто меня не удовлетворяло, и постепенно у меня появилась потребность в нашей книге.»
*
«Я знал, что она была прекрасной и искренней, и заставлявшей трепетать два сердца, создавшие её для себя, и тогда, вероломно, спустя три года, я приложил все усилия, чтобы её переделать — и показать её людям. Анна, нужно сжалиться над всеми нами!.. Но я должен сказать, что это не было, как в случае с английским художником, только желание славы, признания, которое меня заставило не слушать нежный голос, однако довольно громкий в своём бессилии, раздававшийся из прошлого: «Вы у меня её не заберёте обратно, Филипп…»
«Это было не только для того, чтобы мне гордиться перед другими произведением, замечательным содержащейся в нём неотразимой красотой. Это было также для того, чтобы я лучше воскресил в памяти нашу любовь, ибо вся она была в нашей книге.
«Мне не удалось воссоздать продолжение поэм. Ослабление моих способностей вскоре после того, как они были написаны, истекшие три года, во время которых я поклялся не воскрешать в мыслях эти стихотворения, которые не должны были больше существовать, всё это поистине уничтожило наше произведение. Я лишь мог с трудом припомнить, и почти всегда случайно, заглавия поэм и несколько стихотворений, и иногда своего рода смутный отголосок, ореол восхищения. Мне была бы необходима сама рукопись, хотя она и находилась в могиле.
«…И однажды ночью, я понял, что пойду туда…
«Я понял, что пойду туда, после колебаний и внутренней борьбы, о чём бесполезно рассказывать, потому что они были бесполезны… И я думал о другом, об англичанине, о моём собрате, подобном мне по невзгодам и преступлению, когда я шёл вдоль стены кладбища, в то время как ветер мне холодил ноги. Я повторял себе: «Это не то же самое», и этих безумных слов было достаточно, чтобы я продолжал шагать.
«Я спрашивал себя, следовало ли мне взять огонь: со светом это было бы быстро: я бы тут же увидел шкатулку и коснулся только её — но я бы увидел всё! — и я предпочёл действовать на ощупь… Я возложил на лицо носовой платок, пропитанный духами, и я никогда не забуду обманчивый запах этого платка. Первое, чего я коснулся на ней, я сначала не узнал в ошеломляющем ужасе… Её колье… её колье с резьбой… Я его снова ощутил существующим. Шкатулка! Труп мне её вернул с мягким звуком. Что-то меня задело, слегка…
«Я бы хотел обратиться к вам лишь с несколькими словами, Анна. Я думал, что у меня не будет возможности рассказать, как всё произошло. Для меня лучше, если вы это узнаете полностью. Жизнь, которая была столь жестокой ко мне, добра ко мне в этот момент, когда вы меня слушаете, вы, живущая, и это желание выразить то, что я чувствую, заставить вновь пережить прошлое, сделавшее из меня проклятого в течение дней, о которых я вам говорю, является этим вечером благодеянием, которое идёт от меня к вам и от вас ко мне.»
И молодая женщина, вся во внимании, наклонялась к нему; она оставалась неподвижной и молчаливой. Что она смогла бы сказать, что она смогла бы сделать более доброю, чем её внимание?
*
«Всю оставшуюся часть ночи я читал украденную рукопись. Не являлось ли это моим единственным вспомогательным средством, чтобы забыть её смерть и думать о её жизни?…
«Очень быстро я обнаружил, что эти стихи не были тем, что я думал о них.
«Поэмы произвели на меня возрастающее впечатление того, что они были невнятными и слишком длинными. Так долго обожаемая книга стоила не больше, чем то, что я сделал с тех пор. Я постепенно вспоминал исчезнувшие обстоятельства, события, поступки, которые легли в основу этих стихов, и, несмотря на это возрождение, я находил, что им свойственны тяжеловесная банальность и чрезмерная напыщенность.
«Меня охватило леденящее отчаяние, пока я склонял голову перед этими останками поэзии. Казалось, что их пребывание в могиле исказило и сделало безжизненными мои стихотворения. Они были такими же прескорбными, как высохшая рука, из которой я их изъял. Но они же были столь упоительными! «Это прекрасно, это прекрасно!» вскрикивал столько раз счастливый голосок, в то время как руки восхитительно соединялись.
«Значит, голос и поэмы были живыми тогда, когда пыл и исступлённый восторг любви украшал мои рифмы всеми их достоинствами, когда всё это было в прошлом, и что в действительности любви больше не было.
«Именно забвение я читал в то же время, что и мою книгу… Да, имелось заражение смертью. Да, мои стихи оставались слишком долго в тиши и в тени. Увы, увы, также оставалась там слишком долго она, та, которая спала там в своём ужасном спокойствии — в этом склепе, куда я никогда не осмелился бы войти, если бы моя любовь её представляла бы ещё живой. Она была действительно мёртвой.
«И я подумал, что мой поступок был бесполезным кощунством — и что всё, что обещают, и всё, в чём клянутся на этом свете, является бесполезным кощунством.
«Она была действительно мёртвой. Ах! как я её оплакивал этой ночью! Это была моя настоящая ночь скорби… Когда только что потеряно любимое существо, наступает тяжкий момент — после внезапного шока — когда начинают понимать, что всё кончено, и тогда отчаяние проявляется со всей очевидностью, охватывает всё и становится безмерным. Этой ночью было именно так, под давлением переживания за моё преступление, а также под давлением разочарования в стихотворениях, которое было гораздо большим, чем преступление, гораздо больше, чем всё!
«Я её вновь увидел. Как она была хороша, с живостью и ясностью в движениях, в которых она усердствовала, с одушевлённым изяществом, постоянно сопровождавшим её, с беспрестанно окружавшим её смехом, с бесконечным количеством вопросов, которые она всегда вам задавала… Я вновь увидел, в лучах солнца на яркозелёной лужайке, мягкую шелковистую складку её юбки (из старинного розового очень светлого атласа), когда однажды, наклонившись и расправив эту юбку обеими руками, она внимательно рассматривала свои маленькие ступни (белизна которых почти соответствовала белизне подножия статуи). Как-то я забавлялся, разглядывая совсем вблизи цвет её лица, чтобы найти в нём изъян: и я его не нашёл на этом лбу, на этой щеке, на этом подбородке, на всём этом лице с тонкой и гладкой кожей, и, остановившись на мгновение в своём часто повторяющемся исследовательском порыве, я пробормотал с умилением, граничащим со слезами, не понимая толком, что я говорил: «Это слишком… это слишком…» Она являлась принцессой для всех, кто её видел. На улицах городка лавочники почитали за счастье находиться у порога своей двери, когда она проходила. И все, даже старики, приближались к ней почтительно. У неё был вид королевы, когда она, наполовину распростёршись, опираясь на широкую спинку, сидела в парке на большой скамье из резного камня — на этой большой каменной скамье, которая теперь была своего рода пустой могилой…
«Я сохранил несколько её вещей: веер, который я брал в руки, слегка помахивая перед глазами этим мёртвым веером; её маленькая перчатка, совсем холодная; письма, написанные ею, которые бесстыдно позволяли себя рассматривать…
«О! в определённый момент времени я понял, как я её любил, её, бывшую живой, но которая была мертва, её, заключавшую в себе солнце и призыв, но которая теперь была под землёй чем-то вроде непонятного образования.
«И я также стал оплакивать человеческое сердце. Именно этой ночью я пришёл к пониманию возвышенности того, что я чувствовал. Потом пришло оно, логическое забвение, пришли они, моменты, когда мне не было грустно при воспоминании о том, как я плакал.»
*
«Вот в чём я хотел исповедаться перед вами, Анна… Я бы хотел, чтобы эта история любви, постаревшая на четверть века, ещё не кончилась. Это было так трепетно и так реально, это было настолько значительное событие, что я со всей искренностью рассказываю о нём своей преемнице, которой вы являетесь…
«С тех пор я полюбил вас, и я вас люблю. Я вам дарю, как женщине и независимо живущей в одиночестве, образ маленького создания, которому всегда будет семнадцать лет…»
Он вздохнул и обронил эту фразу, которая ещё раз мне показала скудность религии внутри человеческого сердца:
«Я только вас обожаю, я, который обожал её, я, которого она обожала. Ах! разве возможно, чтобы существовал рай, где снова обретают счастье…»
Его голос возвышается, его бездействующие руки дрожат. Он выходит на минуту из глубокой неподвижности.
«Ах! это вы, это вы! Вы одна!»
И он издаёт растерянный, безграничный призыв.
«Ах! Анна, Анна, если бы я был в самом деле женат на вас, если бы мы оба жили как супруги, если бы у нас были дети, если бы вы были рядом со мной, так же, как вы есть сегодня вечером, но по-настоящему рядом со мной!»
Он опять впал в неподвижность. Он воскликнул так громко, что даже если бы не было этой трещины в стене, я бы его услышал из моей комнаты. Он исступлённо говорил о своей главной мечте, он её дарил, он её распространял вокруг себя. Эта искренность, безразличная ко всему, явилась окончательным знамением, которое мне подтачивало сердце.
«Простите меня. Простите меня… Это почти кощунство… Я не мог помешать себе…»
Его слова остановились: ощущалась его воля, которая успокаивала его лицо, его душа, которая заставляла его молчать; но казалось, что его глаза страдали.
Он повторил тише, как бы для себя самого: «Вы… Вы!..»
Он забылся сном на этом слове: вы…
*
Он умер этой ночью. Я видел, как он умирал. По странной случайности, он был один в тот момент, когда он умер.
Не было, собственно говоря, ни предсмертного хрипа, ни агонии. Он не мял беспрерывно пальцами свои одеяла, не говорил, не кричал. Не было ни последнего вздоха, ни озарения. Не было ничего.
Он попросил Анну дать ему пить. Так как воды больше не было, а сиделка именно в этот момент отсутствовала, Анна быстро вышла за водой. Она даже не закрыла дверь.
Свет лампы наполнял комнату.
Я посмотрел на лицо мужчины, и я почувствовал, не знаю по какому признаку, что в этот момент его поглощала глубокая тишина.
Тогда я, инстинктивно, крикнул ему, не будучи в состоянии помешать себе крикнуть ему, чтобы он не был один:
«Я вас вижу!»
Мой странный голос, отвыкший говорить, проник в соседнюю комнату.
Но он умер в тот самый момент, когда я ему подавал эту безрассудную милостыню. Его голова слегка откинулась назад, а его глаза вытаращились.
Анна вернулась; она должна была меня смутно слышать, ибо она спешила.
Она его увидела. Она издала ужасающий крик, изо всех своих сил, всей мощью своей здоровой плоти, крик безупречный и поистине вдовий. Она встала на колени перед кроватью.
Возвратилась сиделка и вознесла свои руки к небу. Воцарилась тишина, это была вспышка невероятного горя, при котором любой и в любом месте полностью поглощён смертью. Женщина на коленях, стоящая женщина смотрели на него, распростёртого там, неподвижного, как если бы он никогда не был живым; они обе были почти мертвы.
Затем Анна заплакала как ребёнок. Она поднялась; сиделка пошла позвать кого-нибудь. Анна, у которой был светлый корсаж, инстинктивно взяла чёрную шаль, которую старая женщина оставила на кресле, и завернулась в неё.
*
Комната, мрачная в последнее время, наполнилась жизнью и пришла в движение.
Повсюду зажгли свечи, и звёзды, которые виднелись через окно, исчезли.
…Присутствующие вставали на колени, плакали, с мольбой взывали к нему. Он повелевал; как будто именно он. Среди прислуги были лица тех, которых я ещё не видел, но которых он хорошо знал. Казалось, что все эти люди просили милостыню вокруг него, что они страдали, что они умирали, и что именно он был живым.
«Он, должно быть, много мучился, находясь при смерти, — сказал врач вполголоса сиделке в тот момент, когда был совсем близко от меня.
— Однако, он был очень слаб, бедняга!
— Но, — заметил врач, — слабость мешает мучиться лишь по мнению других.»
*
Утром бледный свет окружает эти лица и это терзающее освещение. Начинающееся наступление дня, субтильного и холодного, делает менее выразительной атмосферу в комнате, представляет её более гнетущей и тусклой. Очень тихий голос, смущённый, прервал на мгновение тишину, которая длилась уже несколько часов.
«Не нужно открывать окно; он быстрее испортится.
— Холодно», — прошептал кто-то.
Две руки принесли и запахнули меховое пальто… Кто-то встал, затем сел. Другой повернул голову. Послышался вздох.
Будто использовали несколько произнесённых слов для того, чтобы выйти из состояния покоя, в котором цепенели. Потом взгляд вновь обратился к человеку, чьё тело находилось в помещении с траурным убранством — неподвижное, неумолимо неподвижное, словно распятый идол, установленный в храмах.
Я думаю, что в этот момент я забылся сном на своей кровати… Однако, вероятно, очень рано… Вдруг раздаётся с серого неба церковный звон.
После этой изнуряющей ночи, отвлечение нашего внимания от трупной неподвижности действует, несмотря ни на что, и я знаю, какая нежность меня насильно возвращает, с этими звуками колокола, к воспоминаниям детства… Я думаю о деревне, к которой я тесно привязан, которую голоса колоколов покрывают уменьшенным и ощутимым небом, о родине спокойствия, где всё хорошо, где снег означает Рождество, где солнце является охлаждённым диском, на который можно и следует смотреть… И среди всего этого, всегда среди всего, церковь.
Колокольный звон закончился. Его светлое звучание медленно замолкает, и остаётся эхо его отголоска… Вот другой колокольный звон: в определённое время. Восемь часов, восемь звучных ударов колокола, отрывистых, ужасающе регулярных, непреодолимо спокойных, обыкновенных, заурядных. Их считают, и когда они кончили оглашать воздух, можно лишь их пересчитать. Время, которое проходит… Время уведомляет, а человеческое усилие его уточняет и его упорядочивает, и делает из него своего рода творение судьбы.
И я думаю о великой симфонии из этих двух небесных мотивов.
Чистые ноты распространяют свет… Они всё более лаконичные, и видно, как звёздный небесный свод превращается в утреннюю зарю. Церковь излучает обильную и проницательную вибрацию, которая пронизывает даже стены; привычное убранство комнат, поэтому предстаёт перед глазами более ярким, природа этим украшается: капли дождя на листьях представляются жемчужинами, а в небе своего рода кисея; иней накладывает на оконные стёкла узор, который кажется выполненным женскими руками. Колокольный звон отчасти представляет и облегчает часы и дни; каждому дню хватает своей работы; во время возобновления времён года он заставляет думать об имеющихся достоинствах каждого из них; он укрепляет мечту о своей будущей судьбе; каждый доволен своей жизнью, и все заранее утешены.
После многоцветной и разнообразной толпы, весь праздник которой управляется и направляется возвышенным действием колоколов, вот единственная душа, от которой исходит крик; этот крик выражает простое волнение, но чувствуется, что у него не будет ни конца, ни границ, и что он, до некоторой степени, чем-то походит на яркий небесный цвет. Он смешивает свой полёт с полётом церковного звучания; он поднимается в то же время, что и оно, при каждом рывке его трёх крылатых ударов, или в содрогании бесчисленных биений, когда оно расцветает в перезвонах.
Но что-то есть в нём, что забывали, что-то более значительное, чем радость, и что обозначает глухими ударами своё неискоренимое существование. Это предчувствовалось, это слышится, это ощущается. Этот маятник скоро будет заставлять звучать мечты, станет настоятельно необходимым среди иллюзий, нечувствительным к вредоносным нежным ласкам, и каждый удар проходит насквозь, как гвоздь.
Каким бы ни было величие пения при исполнении angélus[38], высшее слово церковных часов окутывает его своим спокойствием; оно усиливается в днях, в годах, в поколениях. Оно господствует над миром как колокольня господствует над деревней. Крик души пылко сопротивляется. Он один: набожное пение не было поддержано небом, как воспевание времени — тенью. Час есть значительный монотонный ритм, каждое звуковое предупреждение которого прерывает неутомимую надежду, восходящую в вечном движении, но не нарушает бессмертный мотив, окончательное адажио, которое ниспадает с часов… И отрывистая мелодия может лишь превратить грусть в красоту.
XIV
Я один этой ночью. Я бодрствую перед своим столом. Моя лампа жужжит как лето в полях. Я поднимаю глаза. Звёзды раздвигают и расширяют небо надо мной, город повергнут у моих ног, горизонт вечно убегает по сторонам от меня. Тени и свет образуют бесконечную сферу, потому что я тут.
Этим вечером я не спокоен, меня охватила огромная тоска. Я сел, словно я упал. Как в первый день, я направляю лицо к зеркалу, привлечённый самим собой: я тщательно обследую своё изображение, и, как в первый день, лишь восклицаю: «Я!»
Мне бы хотелось знать секрет жизни. Я видел людей, группы, движения, лица. Я увидел, как блестели в сумерках трепетавшие глаза, глубокие, как колодцы. Я увидел рот, который в расцвете славы говорил: «Ведь я более чувствительный, чем другие!» Я видел состязание в любви и в том, чтобы заставить понять себя: взаимное несогласие двух собеседников и отчаянное соединение двух любовников, любовников с заразительной улыбкой, которые являются любовниками лишь по названию, которые упиваются поцелуями, которые крепко обнимают друг друга, соединив рану с раной, чтобы исцелиться, между которыми нет никакой привязанности и которые, несмотря на их лучезарный экстаз, за пределами мрака являются такими же инородными, как луна и солнце. Я услышал тех, кто находят немного душевного спокойствия лишь в признании их постыдной бедности, с их плачущими лицами, бледными, с ярко-красными глазами.
Я хотел бы объять всё это разом. Все истины образуют лишь одну (мне потребовалось дойти до этого дня, чтобы понять такую простую вещь); именно в этой истине из истин я нуждаюсь.
Это не из любви к людям. Неправда, что людей любят. Никто не любил, не любит и не будет любить людей. Именно для себя, — единственно для себя, я стараюсь достичь и приобрести эту полную истину, которая существует поверх эмоций, поверх душевного спокойствия, даже поверх жизни, как своего рода смерть. Я хочу из неё черпать направление, веру; я хочу ею пользоваться для моего спасения.
Я обдумываю воспоминания о том, что привлекло моё внимание с тех пор, как я нахожусь здесь; они столь многочисленные, что я стал чужим для самого себя, и что я почти не имею больше имени; я их слушаю. Я мысленно представляю себе меня самого, напряжённо занимающегося созерцанием других и заполняющего себя подобно Богу, увы! — и в этой верховной внимательности я пытаюсь рассмотреть и понять, кем же я являюсь. Было бы так прекрасно узнать, кто я есть!
Я думаю о всех тех, которые, до меня, искали — учёные, поэты, художники — о всех тех, которые упорным трудом, оплакиванием, улыбкой стремились к реальности вблизи четырёхугольных храмов или под стрельчатым сводом, или в ночных садах, почва которых является лишь мягким благоуханием. Я думаю о латинском поэте, который захотел ободрить и утешить людей, показав им истину без мглы, подобную статуе. Отрывок из его введения приходит мне на память, выученный когда-то, затем отвергнутый и потерянный, как почти всё, что я давал себе труд выучить до сих пор. Он сказал на своём отдалённом языке, варварском среди моей повседневной жизни, что он бодрствует безмятежными ночами, чтобы найти, какими словами, в какой поэме он принесёт людям идеи, которые их освободят. Уже две тысячи лет люди постоянно хотят достичь ободрения и утешения. По прошествии двух тысяч лет, я постоянно стремлюсь к освобождению. Ничто не изменило лицо вещей. Учение Христа не изменило бы его, даже если люди не испортили бы это учение до такой степени, что им нельзя больше честно пользоваться. Придёт ли великий поэт, который установит границы и увековечит веру, поэт, который будет не безумцем, не красноречивым невеждой, а мудрецом, непреклонным поэтом? Я не знаю; хотя высокие слова человека, который достиг этого, дали мне смутную надежду на его приход и на право уже ему поклоняться.
Но я, я! Я, являющийся лишь судьбоносным созерцателем, на чём я сосредоточился! Я тут, чтобы это не прошло для меня напрасно. Я похож, несмотря на всё, на поэта в начале своего творения. Поэт проклятый и бесплодный, который не оставит славы, которому случай одолжил истину, предоставленную ему гением; творение недолговечное, которое уйдёт со мной, смертное и закрытое для других, как я, но однако творение возвышенное, которое могло бы показать основные направления жизни и рассказать драму из драм.
*
Кем же я являюсь? Я есть желание не умереть. Не только этим вечером, но постоянно меня подталкивает потребность создать основательную и действенную теорию, которую я больше не брошу. Мы все, всегда, представляем собой желание не умереть. Оно является неисчислимым и разнообразным как сложность жизни, но по сути это вот что; продолжать существовать, существовать всё больше и больше, достигать расцвета и сохраняться. Весь имеющийся запас силы, энергии и ясности ума служит для получения вдохновения любым способом. Вдохновляются новыми впечатлениями, новыми ощущениями, новыми идеями. Стараются получить то, чего не имеют, чтобы обрести это для себя. Человечество — это желание нового на фоне страха смерти. Это так; именно это я видел. Инстинктивные движения и естественные крики всегда имели одно направление, подобно сигналам, и, по сути, самые непохожие слова были одинаковыми.
Но потом… Где слова, которые освещают путь? Если это так, то чем же является человечество в мире, и что такое мир?
Я вспоминаю, я вспоминаю, как если бы звали на помощь… Веха, дорожный знак, где помещается сокровенная тревога: важность человеческого существа среди прочих вещей, эта важность, которую я пытался понять всю мою жизнь…
Необъятность каждого из нас: первый важный признак во тьме. Это верно, что сердце скорбит или радуется со всем естеством, и, по мнению самого смиренного из созерцателей, верно, что в небе Прованса звёзды потускнели, когда Мирей появилась в своём окошке.
Я существую посреди мира. Звёзды меня увенчивают. Земля меня несёт и возносит. Я нахожусь на вершине веков. Я притягиваю всё к себе, огромные или небольшие проявления ума и сердца. Движением своей руки перед глазами днём я создаю ночь, а ночью я заслоняю от себя ночь; если я закрываю глаза, лазурь больше не может существовать. Начиная с меня, все виды величия развиваются, уменьшаясь.
*
Я опёрся головой на руку.
Тогда мои пальцы ощущают кости моего черепа: глазная впадина, углубление виска, челюсть. Череп…
Череп! Но я знаю его! Мой череп подобен другим черепам.
Это сходство между мной и всеми, я никогда о нём не думал. Я его вижу. Я вижу, сквозь лёгкую тень, мои кости, мои останки. Я узнаю в самом себе мой вечный призрак из праха, мой скелет, как узнают кого-нибудь. Я его трогаю, я его ощупываю, этого мрачного и белого урода, каким я являюсь в глубине…
Мои мечты о величии прошли, потому что мой череп подобен другим черепам, всем тем, которые были.
Сколько же их было? Если бы от начала существования человечества прошло сто тысяч лет, что, вероятно, меньше, чем на самом деле, поскольку на земле существует один миллиард с половиной жителей, которые возобновляются каждые тридцать лет, это составляет четыре тысячи пятьсот миллиардов черепов, которые обращаются в прах со времени появления людей.
*
Я уйду в землю. У меня будет болезнь или рана, которые быстрее сгноят кусок моей плоти. Я, вероятно, умру от болезни какого-нибудь органа, атрофированного, испорченного, переставшего действовать, — или же от безумия, сокрушая всё остальное; я умру от болезни, без кровотечения… (Мне бы больше хотелось умереть в багрянце раны…)
И меня тоже похоронят, так же, как других, хотя это могло бы показаться странным.
Уже, как уведомление от влажной земли, подобной грязи, (слова поэта мне вновь вспоминаются и они меня удручают), на мне есть пыль, подобная праху, которая покрывает меня все дни, от которой я вынужден отмываться, от которой я защищаюсь, которую я срываю с себя: это мрачный ангел земли.
В хрупком гробу моё тело станет добычей насекомых, непреодолимого размножения их личинок. Несметное нашествие, которое увеличивается! Линней[39] смог сказать, что три мухи пожирают труп столь же быстро, как это делает лев.
Я открыл книгу, которую имею тут. Я погружаюсь в подробности. Я узнаю из неё, что же меня ждёт! Я узнаю мою будущую историю.
Животные на кладбищах сменяют друг друга по периодам; каждый вид появляется в своё время, таким образом, что распознают возраст трупа по множеству тех, кто им насыщается. Таким образом через покинутые мёртвые тела происходят восемь последовательных вторжений, которые соответствуют восьми фазам гнилостной ферментации, посредством которой, постепенно, внутренняя часть мёртвого тела перемещается наружу.
Я хочу их знать, заранее взглянуть на то, что я не увижу — и испытать трепет перед тем, чего я не ощущу.
Маленькие мухи, curtonevres, неотступно преследуют тело за несколько минут до смерти… Я их услышу. Определённые выделения указывают им на неотвратимость события, которое скоро им предоставит в беспредельном изобилии пищу для их личинок и, отяжелевшие от яиц, они уже настойчиво стремятся отложить яйца в ноздри, в рот и в уголки глаз.
Едва жизнь прекратилась, в изобилии появляются другие мухи. Как только слабое веяние разложения становится ощутимым, появляются ещё мухи: синяя муха, зелёная муха, научное название которой Lucilia Coesar, и большая муха с грудной клеткой в белую и чёрную полоску, которую называют «большая саркофажница»[40]. Первое поколение этих мух, привлечённых ужасным сигналом, может только из себя одного создать в трупе семь или восемь поколений, которые продолжаются и скопляются в период от трёх до шести месяцев: «Каждый день, — отмечает Меньен[41], — личинки синей мухи увеличивают в 200 раз свой вес…» Кожа трупа тогда жёлтая, слегка отливающая розовым, живот светлозелёный, спина тёмно-зелёная. Или, по крайней мере, таковыми будут их цвета, если это не происходило в тени.
Затем разложение меняет природу. Это масляная ферментация, которая производит жирные кислоты, обыкновенно называемые трупным жиром. Это сезон кожеедов, — плотоядных насекомых, которые порождают личинки, снабжённые длинными волосками, — и мотыльков: огнёвки-аглосса. Личинки кожеедов и гусеницы огнёвок-аглосса имеют особенность, заключающуюся в том, что они могут жить в жирных веществах, «которые плотно формуются, как сало, в глубинах гробов»; некоторые из этих веществ будут кристаллизоваться и сиять как блёстки, позже, в окончательном прахе.
Вот теперь очередь четвёртого отделения. Оно сопровождает казеиновую ферментацию и состоит: из мух, pyophilas, которые предоставляют своих червей сыру — червей, узнаваемых по характерным прыжкам, выполняемых ими, из coléoptères, corynètes.
Аммиачная ферментация, чёрное разжижение плоти, вызывает пятое вторжение: в нём участвуют мухи, lonchéas, ophyras, и phoras, столь многочисленные, что на эксгумированных в течение этого периода трупах черноватые останки их хризалид появляются, по выражению одного судебно-медицинского эксперта, «как панировочные сухари на свиных окороках», и что множество мух вырывается из гроба, когда его приходится снова вынимать и когда его открывают на этой стадии. Разложение с обращением в чёрную жидкость является также предпочтительным для жесткокрылых насекомых: мертвоедов и девяти видов жуков-могильщиков.
Теперь гниение почти выполнило своё дело. Начинается период высушивания и мумификации трупа под покровами и оболочками, накрахмаленными студенистыми жидкостями предыдущего периода. Всё, что остаётся от мягкого вещества, от органической массы, мучнистой и рыхлой, и от аммиачных мыл, пожирается другим видом животных: клещами, круглыми и крючковатыми, едва видимыми невооружённым глазом. Каждые пятнадцать дней их число увеличивается в десять раз: вначале их было двадцать; через два с половиной месяца их два миллиона.
За клещами следует седьмое вторжение. Это разновидности моли, огнёвки-аглосса, которые уже появлялись в момент выделения жирных кислот, потом исчезли. Они обгладывают, распиливают, измельчают похожие на пергамент ткани, связки и сухожилия, — превращённые в жёсткое вещество, на вид смолистое, — а также волосы на теле, волосы на голове и ткани. Мёртвое тело имеет золотистый, бронзовый цвет и издаёт сильный запах воска.
Наконец, через три года, последнее множество обработчиков. Что же пожирают они? Всё, что остаётся, всё, до останков насекомых, которые, в личиночном состоянии, следовали друг за другом на трупе. Высшим уничтожителем является чёрное жёсткокрылое насекомое, научное название которого tenebrio obscurus.
После него не остаётся больше ничего, кроме, вопреки ему, нескольких останков от останков вокруг белеющих костей и маленькой компактной массы в глубине черепной коробки. Эта разновидность зернистого коричневого перегноя, который пудрит человеческий камень и который можно бы было считать последним остатком плоти, всё же им не является. Это скопление скорлупы, куколок, хризалид и экскрементов последних поколений насекомых-пожирателей.
Прошли три года. Всё кончено. Создание, которое было обожаемым и которое само обожало, полностью вернулось за три года в минеральный мир. Смрад исчез; это был последний признак жизни; он улетучился, увы, и даже нет больше скорби.
И всем жителям мира придётся пройти через это спустя несколько лет. С тех пор, как я размышляю, возможно, четверть часа, тысяча человеческих существ умерли на поверхности мира.
Их тела, скопления клеток, их клетки, скопления атомов (неделимые частицы вещества) — заложены в другие сочетания. Клетка! Это органическое соединение имеет размер, который варьируется между тысячной и десятитысячной долями миллиметра. Атом! Это неизвестный и воображаемый элемент. Если допустить, что он имеет размер, приблизительно соответствующий вероятности, основываясь на малом размере анатомических элементов, обнаружится, что, в сфере вещества диаметром с булавочную головку, их будет в количестве, представленном числом восемь, за которым следует двадцать один нуль, и что для подсчёта всех основных элементов в булавочной головке, по норме один в секунду и одним человеком, всему человечеству, занятому этим безостановочно, понадобилось бы двести тысяч лет.
Именно из этого праха состоит Земной шар.
И сам Земной шар есть ничто во вселенной.
…На листе бумаги помещается едва видимая точка; вокруг неё чертится окружность, занимающая всю ширину листа; эта точка — Земля; круг изображает Солнце; такова соразмерность. На другом листе точка, нанесённая кончиком пера: это Солнце, столь огромное на отложенном листе. Сфера представлена кругом, проходящим от одного до другого края бумаги: это Канопус[42], звезда: Солнце такое маленькое по отношению к Канопусу, как Земля по отношению к Солнцу. А что касается Бетельгейзе[43], этой сверкающей точки, которую столь любили наши предки, то её диаметр такой же большой, как расстояние от Земли до Солнца. Этот серый цвет на бумаге является не её цветом, а маленькими близко поставленными точками. Каждая маленькая точка есть звезда, как Солнце или как Канопус. Или ещё больше… Это фрагмент карты звёздного неба. Фрагмент самый малый, потому что количество обнаруженных звёзд оценивается примерно в сто миллионов, а на этом листе их около трёх тысяч. Мы не воспринимаем сто миллионов звёзд лишь потому, что оптические приборы могут расширить поле зрения только до звёзд двадцать первой величины и позволяют видеть только в семнадцать тысяч раз больше звёзд, чем невооружённым глазом; но кто бы осмелился утверждать, что отдалённые звёзды, которые мы воспринимаем, ограничивают вселенную? И величина звёзд, какой бы огромной она ни была, есть ничто по сравнению с пустыми пространствами, которые их разделяют. Самая близкая от нас звезда после Солнца, звезда Альфа из созвездия Центавра, находится в десяти тысячах миллиардах льё[44] от нас. Арктур[45] находится в трёхстах двадцати четырёх тысячах миллиардов километров; Арктур движется в пространстве по две тысячи шестьсот сорок миллионов километров в год, — и за три тысячи дет, как эту звезду наблюдают и указывают её место на астрономических картах, кажется, что она не двигалась. Звезда 1830 из каталога Грумбриджа[46] находится в восьмистах тысячах миллиардов километров…
Свет, из-за огромной величины его скорости, резко уменьшает числа, и делает для нас их громадность более ощутимой… Скорость света в пространстве составляет триста тридцать тысяч километров в секунду. Ему нужно немного больше восьми минут, чтобы дойти до Солнца, так что видимое нами его изображение есть такое изображение этой звезды, каким оно было до нашего созерцания. Свету требуется четыре года и четыре месяца, чтобы дойти до самой близкой звезды; тридцать шесть лет, чтобы дойти до Полярной звезды… Ему требуется несколько веков, чтобы дойти до некоторых звёзд, которые также нам представляются такими, какими они были несколько веков тому назад. И если эти звёзды смотрят на нас, они нас видят с той же головокружительной задержкой… Это созвездие, которое возвышается над живым и умирающим городом как печальная диадема, потому что она слишком велика, мы не знаем, что же это такое. Самое большее заключается в нашем предположении, что каждая из этих точек имеет сходство с пылающим Солнцем, с огненным шаром, который ощетинился языками пламени, огромными, как расстояние от Земли до Луны. Если глаза одной из этих звёзд более зоркие, чем наши, что же она здесь видит в момент, когда я это излагаю?… Среди ещё судорожно сжимающихся и трясущихся от сильной геологической интенсивности земельных рельефов, она видит, как на возвышенности единственное существо выбирается из земли, которая притягивает его четыре конечности, напряжённо встаёт, ещё шатаясь, и как единственное лицо, ещё звероподобное и испуганное мраком, неопределённо поднимает глаза… И между такой другой звездой и нами обмен светом ещё не произошёл, от её начала, а когда её облик дойдёт до нас, она, возможно, будет уничтоженной уже целую вечность…
И эта вечность заставляет меня думать о времени. Сколько времени существует Земля? Сколько же миллиардов веков протекло с тех пор, как мировая газообразная масса отделилась от экватора солнечной туманности? Неизвестно. Предполагается, что для второй фазы — гораздо более короткой — её превращения, то есть, для перехода от жидкого состояния к твёрдому, потребовалось триста пятьдесят миллионов лет.
Атом, наименьший элемент материи. И вот теперь наибольший элемент: звёздный мир. Не реальная или даже видимая совокупная система небесного свода, которая неизмерима, но её часть, которая была измерена наукой. Научное исследование ограничивается радиусом в восемьсот тысяч миллиардов километров от Земли. За пределами этого радиуса, охватывающего лишь самые близкие звёзды, миры, по отношению к движению Земли, не проявляют видимого перемещения, позволяющего нам оценить их дальность, и у нас больше нет никаких данных о звёздных пространствах. Вселенная, исследованная расчётами, представлена, таким образом, сферой, радиус которой имеет приблизительно восемьсот тысяч миллиардов километров. Числа, которые определяют эту сферу, являются самыми большими, которые можно было бы применять в действительности. Они составляют, по объёму, две тысячи сто сорок пять сексдециллионов[47] кубических метров. Поскольку, с другой стороны, количество атомов, содержащихся в одном кубическом метре, если мы ссылаемся на предположительный размер, допускаемый нами для атома, составляет один дециллион[48], соотношение между самой большой вещью и самой маленькой есть такое число, для которого наука не имеет термина, чтобы его выразить. Никогда этим не пользовались: я, возможно, первый человек, который это делает, имея огромную потребность в уточнении, которая меня мучает этим вечером. В соответствии с латинской этимологией названий чисел, это не бывшее в употреблении число, которое довольно точно выражает, сколько вселенная может содержать атомов, должно бы было в начале выражаться следующим образом: два октовигинтиллиона[49]… В его составе два, за которым следует восемьдесят семь цифр. Ничто не может дать представление об огромности этого числа, которое выражает природу с момента её создания до её предельно достижимой границы.
И однако, эту цифру, являющуюся чудовищным изображением, нужно ещё деформировать, нужно её ещё умножить на пятьдесят триллионов, её преобразовать в сто дуотригинтимионов[50], то есть, в число из ста двух цифр, если признать теорию Ньюкомба[51], который, основываясь на движениях и скоростях звёзд, в соответствии с незыблемым законом гравитации, ограничивает нашу звёздную систему в целом сферой в пространстве с диаметром в шестьдесят квинтиллионов[52] километров, где гармонично ниспадают сто двадцать пять миллионов звёзд.
Что можно делать в связи со всем этим?
Что же могу делать я, находящийся тут, под ослепляющим впечатлением от текста, который я читаю, рядом с этой лампой, которая образует восьмиугольную тень, слегка касающуюся моей чернильницы, — чей рассеянный свет едва показывает мне потолок и окно, тёмное и светящееся под этими лёгкими шторами, и почти не выводит из мрака стены комнаты…
Я встал. Я брожу по комнате. Что я есть, что я есть? Ах! нужно, нужно, чтобы я ответил на этот вопрос, потому что другой вопрос остаётся неопределённым, словно угроза: Что скоро случится со мной!
Перед большим зеркалом, стоящим на камине, я пристально смотрю на своё отражение, я ищу в себе то, чем я смог бы ответить на свою незначительность. Если я не могу убежать от самого себя, я погиб… Есть ли я то малое, которым я себя представляю, являюсь ли я неподвижным и подавленным в этой комнате как в слишком большом гробу?
Инстинктивно безмятежная интуиция, простая как я, устраняет ужас, одолевающий меня, и я говорю себе, что невозможно, чтобы повсюду существовало огромное заблуждение.
*
Кто мне продиктовал только что обдуманное мною? Кому я повиновался?
Вере в то, что во мне накоплены здравомыслие, религия, наука…
Это здравомыслие является голосом чувств, и этот громкий голос, очень близкий, твердит, что вещи являются такими, какими мы их видим. Но в глубине себя я прекрасно сознаю, что это неверно. Нужно прежде всего вырваться из этой грубой оболочки обычной жизни.
Противоречия, которыми чревато безмятежное постижение очевидности, бесчисленные ошибки наших чувств, фантастические творения сна, безумия не позволяют нам слушать это жалкое поучение. Здравомыслие — это животное честное, но слепое. Оно не признаёт истину, которая ускользает при первых взглядах; которая, по великолепным словам древнего мудреца, «находится в пропасти».
Наука… Что такое наука? Чистая наука — это организация разума им самим; в прикладном смысле — это организация видимости. Научная «истина» есть почти цельное отрицание здравомыслия. Совсем не существует подробностей видимости, которые бы не противоречили соответствующему научному утверждению. Наука гласит, что звук, свет есть колебания; что материя есть соединение сил… Она провозглашает абстрактный материализм. Она заменяет грубую видимость формулами; или, в таком случае, она её допускает без исследования. Она порождает, на более сложном и мучительном уровне, те же противоречия, что и поверхностный реализм. Даже внутри своей экспериментальной или логической области, она вынуждена пользоваться фиктивными данными, предположениями. Если её побуждают исследовать вопрос об огромности мира или о его малом размере, она не знает, что сказать. На более низком уровне, она останавливается перед вопросом делимости пространства; на более высоком уровне, она останавливается перед дилеммой абсурдов: «Пространство нигде не кончается» или: «Пространство где-нибудь кончается».
Не в большей степени, чем это присуще здравомыслию, она не видит истину; она, к тому же, не создана для этого, потому что она имеет целью лишь абстрактную или практическую систематизацию элементов, сущностную реальность которых она не обсуждает.
Религия… Она разумно говорит: здравый смысл лжёт, наука не ведёт ни к чему; она добавляет: мы не смогли бы быть уверены ни в чём без ручательства Бога. И религия таким образом остановила Паскаля[53], поставив свою двоякую сущность между истиной и им. Бог является лишь готовым ответом на загадку и на надежду, и не имеется иного основания для реальности Бога, чем желание, чтобы мы его имели.
Значит, этот неограниченный мир, который я только что видел возвышающимся передо мной, не основывается ни на чём? Тогда что же надёжно, что же прочно?
И, чтобы помочь себе, я ещё раз воскрешаю в памяти живущих, в которых я верю, тех людей, которых я видел здесь с сияющими лицами и с неистовыми взорами.
Я вновь вижу, как в вечер de profundis лица прояснялись, словно от высшей победы. Одно из них заключало в себе прошлое; другое, направив всё своё внимание к окну, озарялось лазурью; это другое, во влажном сумраке тумана, мечтало о солнце как само солнце; первое из них, задумчивое и удлиннённое, было переполнено смертью, которая его должна была поглотить, и все были окружены одиночеством, которое начиналось в этой комнате, но которое больше не кончалось.
И я, существующий как они, я, содержащий внутри своей мысли неумолимое прошлое и пригрезившееся будущее, и величие других; я, с моим неисцелимым и распростёртым лицом — сожалеющий, имеющий намерения и думающий о том, что я, с моими недавними размышлениями о звёздах, могу превратиться в прах? Возможно ли, что я являюсь ничем, тогда как в некоторые моменты мне кажется, что я являюсь всем? Есть ли я ничто, есть ли я все?
Тогда я начинаю понимать… Я не учёл в этом воспоминании мысль о порядке вещей. Я считал эту мысль заключённой в теле, не выходящей за его пределы, ничего не добавляющей ко вселенной. Наша душа может быть представлена в нас лишь как дуновение, как жизненное дуновение, некий орган; мы, как живые, так и мёртвые, могли бы занять одно и то же место?
Нет! Именно здесь я отыскиваю ошибку.
Мысль есть источник всего. Именно с неё следует начинать, всегда… Истина возвращена к своей основе.
И теперь я прочитываю признаки безрассудства в моём только что имевшем место размышлении. Это размышление было тем же самым, что и я; оно доказывало величие мысли, которая его задумала, и, однако, оно гласило, что думающее существо является ничем. Оно меня уничтожало, меня, который его создавал!
*
…Но не являюсь ли я жертвой иллюзии. Я решаю возразить себе: то, что есть во мне, это образ, отражение, идея вселенной. Мысль есть лишь призрак мира, предоставленный каждому из нас. Вселенная сама по себе существует вне меня, независимо от меня, с такой необъятностью, что она превращает меня в ничтожество, в словно уже мёртвого. И я напрасно перестану существовать или закрою глаза, вселенная вопреки всему будет.
Тревога, начинающаяся обида сжимает мне нутро… А потом во мне поднимается крик протеста, крик ясный, сознательный и незабываемый, словно возвышенный аккорд всей музыки: «Нет!»
Нет. Это не так. Я не знаю, имеет ли вселенная вне меня какую-нибудь реальность. Я знаю то, что её реальность имеет место лишь при посредстве моей мысли, и что с самого начала она существует лишь как понятие, которое я о ней имею. Я есть тот, кто нарушил покой звёзд и веков, и кто переместил небесный свод в свою голову. Я не могу освободиться от моей мысли. Я не имею права это делать, ни в коем случае. Я не могу. Как я ни пытаюсь спорить с самим собой, это всё равно, что мне выйти за пределы самого себя. Я не могу предоставить миру иную реальность, чем реальность моего воображения. Я верю в себя и я один, потому что я не могу выйти из самого себя. Как вообразить без безумия, что я смог бы выйти из самого себя? Как вообразить без безумия, будто я есть не один? Кто же смог бы мне доказать, что, за пределами непреодолимой мысли, мир имеет существование, отделённое от меня!
Я прислушиваюсь к метафизике (она не является наукой: она находится за пределами научной программы; она, скорее, уподобляема искусству, привязанная, как и оно, к подлинной истине: ибо если картина сильнодействующая и если превосходный стих прекрасен, так это по причине истины.)
Я просматриваю книги, я ищу разъяснения у учёных и мыслителей, я объединяю весь арсенал достоверных сведений, собранных человеческим разумом, я прислушиваюсь к громкому голосу того, кто изучил все верования и все системы со всей тщательностью своего необыкновенного ума, и я постигаю эту истину, даже если она принуждённо внушалась мне: Нельзя отрицать мысль о том, что имеется мир, но нельзя поручиться, что он существует вне мысли о том, что он есть.
И теперь, когда у меня есть это точно, по существу выделенное утверждение, выраженное словами, теперь, когда я держу это величественное богатство, я не могу больше устраняться от чуда упрощения, которое оно создаёт.
Нет, не является верным, что истина, которая начинается в нас, продолжается в другом месте, и когда, после произнесения этих слов, которые никто после него не мог даже в помыслах отрицать: «Я мыслю, значит я существую», философ[54] попытался, довод за доводом, сделать вывод о наличии чего-то реального вне мыслящего субъекта, его постепенно покинула уверенность. Из всей прошлой философии остаётся лишь эта заповедь очевидности, которая выявляет в каждом из нас основу всего: от человеческого искания остаётся только то, что говорится в одной книге о возобновлении и одиночестве каждой личности. Мир, в том виде, каким он представляется нам, свидетельствует лишь о нас, которые полагают, что видят его. Внешний мир, то есть земной шар со своими одиннадцатью движениями в пространстве, своими горизонтами и возвратно-поступательными движениями моря, своими тысячью миллиардами кубических километров, своими ста двадцатью тысячами видов растений и своими тремя сотнями тысяч видов животных, и весь солнечный и звёздный мир с его трансформациями и его историей, его началами и его млечными путями, — это мираж и галлюцинация.
И вопреки голосам, которые, даже из нашей сокровенной глубины, осуждают то, что я только что осмелился помыслить, подобно выступающей против красоты толпе, вопреки учёному, который, признавая, что мир есть галлюцинация, добавляет, без доказательства, что это «истинная галлюцинация» — я говорю, что бесконечность и вечность мира есть два ложных бога. Именно я придал вселенной эти чрезмерные свойства, которые я имею в себе (необходимо, чтобы я их ей придал, поскольку если бы даже она их имела, я бы не смог удостовериться в её неоспоримости, и я бы их добавил из моей собственной сущности к тому ограниченному отображению, которое я имею о ней). — Ничто не имеет преимущества перед абсолютом, говорящим о том, что я существую и что я не могу выйти из себя самого, и что всё: пространство, время, мышление, есть лишь способы мне представить себе реальность, и я их воспринимаю как неопределённые возможности.
Со своего рода содроганием я обнаружил в серьёзной книге это толкование криков человечества, которые дошли до меня. Человеческое сердце кровоточило и было распростёрто сквозь холодные и расчётливые строки немецкого писателя. Возможно, и нужна определённая значительность, чтобы преодолеть видимость и чтобы понять грандиозные формулы истины, очищенные таким образом. Но я заявляю, что эти слова есть самые великолепные, которые я когда-либо внушал людям, и что они превращают книгу философа из Кёнигсберга[55] в произведение, которое больше всего приближается к истинной библии. Слова Иисуса Христа, произнесённые, чтобы поучать общество в соответствии в правилами благородства, при сравнении представляются поверхностными и утилитарными.
Это важно, это значительно и существенно — вырвать из замалчивания истинные слова, поставить разум на достойное его место, восстановить истину. Речь идёт не о напрасном обсуждении формул, а о пугающей личной проблеме, которая меня целиком интересует, о вопросе жизни и смерти для меня, о великом суде без обжалования, в который я вовлечён.
*
Всё есть во мне, и не имеется судей, и не имеется границ, и не имеется пределов для меня. Dе рrоfundis, усилие, чтобы не умереть, спад желания с его возносящимся криком, всё это не прекращается. Именно при безмерной свободе осуществляется непрерывное действие человеческого сердца (всегда нечто другое, всегда!). И это такая экспансия, что сама смерть ею устраняется. Ибо смог бы я вообразить мою смерть иначе, чем выйдя из себя самого и считая, будто я был не самим собой, а другим?
Каждый из нас не умирает… Каждое человеческое существо одиноко в мире. Это представляется абсурдным, противоречивым, когда высказывается подобная фраза. И, однако, это именно так… Но имеется много человеческих существ, таких как я… Нет, так невозможно сказать. Говоря так, мы оказываемся рядом с истиной в своего рода абстракции. Возможно сказать лишь одну вещь: Я одинок.
И именно поэтому мы не умираем.
В настоящее время, будучи полностью согбенным тем вечером, тот мужчина сказал:
«После моей смерти жизнь продолжится. Будут существовать все подробности мира, которые безмятежно окажутся на тех же местах. Будут существовать все следы моего пребывания, которые постепенно умрут, пустота после моего пребывания, которая снова закроется.»
Он ошибался. Он ошибался, говоря так. Он унёс с собой всю истину. Однако мы, мы увидели, как он умирал. Он умер для нас, для него — нет. Я сознаю, что в этом заключается ужасающая истина, которую трудно достигнуть, чудовищное противоречие, но я держусь за оба эти конца, ища ощупью, в каком бесформенном бормотании это будет выражено. В чём-то вроде следующего: «Каждое человеческое существо есть вся истина…» Я возвращаюсь к только что оглашённым словам: Каждый из нас не умирает, потому что он одинок; только другие умирают. И эта фраза, которая с трепетом изливается с моих губ, одновременно зловещая и радостная, возвещает, что смерть есть ложный бог.
Но остальное? Если допустить, что я обладаю всесильной мудростью, чтобы освободиться от навязчивой идеи о моей собственной смерти, останется смерть других и смерть стольких чувств и ласки. Не восприятие истины изменит страдание; ибо страдание есть, как и радость, абсолют.
И однако!.. Бесконечное величие нашего бедствования смешивается со счастьем — счастьем высокомерным и леденящим. Ведь не от гордости и не от радости я начинаю улыбаться при первых проблесках рассвета, около лампы, осаждаемой лазурью, по мере того, как я мысленно представляю себя во вселенском одиночестве…
XV
Впервые она предстаёт передо мной в трауре, и в этом чёрном одеянии её молодость сияет больше, чем когда-либо.
Отъезд близок. Она смотрит по сторонам, чтобы ей ничего не забыть в этой комнате, приведённой в порядок для других, комнате уже неопределённого вида, покинутой.
Дверь открылась, и в то время как молодая женщина, заканчивавшая своё необременительное занятие, подняла голову, в залитом солнцем проёме приоткрытой двери появился мужчина.
«Мишель! Мишель! Мишель!» — восклицает она.
Она протянула руки, и, сделав неуверенный жест, сосредоточив всё внимание на нём, оставалась несколько секунд неподвижной, подобная свету.
Затем, несмотря на то место, где она находится, и чистоту её сердца, и целомудрие всей её жизни, её ноги девственницы охватывает дрожь и она готова упасть.
*
Он бросил свою шляпу на кровать широким романтическим жестом. Он наполнил комнату своим присутствием, своей тяжеловесностью. Его шаги заставляют скрипеть паркет. Он уже рядом с ней и держит её. Хотя она высокая, он выше её почти на целую голову. Его резкие черты лица суровы и восхитительны; его лицо, над которым возвышается густая чёрная шевелюра, является светлым, чистым и будто новым. Усы глубокого чёрного цвета, слегка ниспадающие, оттеняют яркокрасный рот, горделивый, будто красивая естественная рана. Он кладёт свои руки на плечи молодой женщины, он смотрит на неё, готовый раскрыть своё жадное объятие.
Они прижимаются друг к другу, охваченные трепетом… Они одновременно произнесли одно и то же слово: «Наконец!» Это всё, что они сказали, но какое-то время они повторяли это слово вполголоса, они его говорили нараспев. Их глаза взаимно выражают этот нежный возглас, он им передаётся через грудь каждого. Словно они им прикрепляются друг к другу и взаимно проникают друг в друга. Наконец их долгое расставание окончено, их любовь победила; наконец они тут оба!.. И я вижу, как она трепещет с головы до пят, я вижу, как всё её тело принимает его, в то время как её глаза открываются, потом вновь закрываются в его объятии.
С большим трудом они пытаются разговаривать друг с другом, поскольку очень нужно поговорить… Обрывки слов, которыми они обмениваются, некоторое время удерживают их стоя.
«Какое ожидание, какая надежда!» — бормочет растерянно он. — «Я всегда думал о тебе, я всегда мысленно представлял тебя!»
Он добавляет тише, более пылким голосом:
«Иногда, во время банального разговора, твоё внезапно произнесённое имя разрывало мне сердце.»
Его голос крепнет, становится прерывистым; он приобретает внезапную раскатистую звучность. Кажется, что он не умеет говорить тихо.
«Сколько раз, на террасе дома, со стороны пролива, я сидел на кирпичной балюстраде, спрятав лицо в ладонях; я даже не знал, в какой стороне света ты была, и всё же, находясь так далеко от тебя, мне было невмоготу не видеть тебя!»
— Часто, жаркими вечерами, я садилась, из-за тебя, у распахнутого окна, — сказала она, опуская голову… — Иногда воздух имел удушающую нежность, — как два месяца тому назад на вилле Роз. У меня на глазах были слёзы.
— Ты плакала?
— Да, — сказала она тихим голосом, — я плакала от радости.»
*
Их рты соединились, их два небольших алых рта совсем одинакового цвета. Они почти неразличимы, приникнувшие друг к другу в тиши основательного поцелуя, который их внутренне воссоединяет, в сущности как единый и тёмный телесный поток.
Затем он слегка отодвинулся от неё, чтобы лучше её видеть. Стоя бок о бок с ней, он крепко обнял её рукой за талию, повернув к ней голову. В то же время он кладёт свою свободную руку ей на живот. Видны очертания её обеих ног и её живота; видно её всю в этом грубом, но великолепном движении, которым он словно её изваял.
Его отчеканиваемые слова ниспадают на неё, будучи более дерзкими.
«Там, среди бесчисленных садов побережья, я хотел погрузить мои пальцы в тёмную землю. Блуждая там, я пытался представить себе твою внешность и искал запах твоего тела. И я протягивал руки к открытому пространству, чтобы как можно больше приблизиться к твоему солнцу.»
Потом она сказала:
«Вечером, в своей комнате, иногда, думая о тебе… я любовалась собой…»
Охваченный трепетом, он улыбнулся.
Он всё время вновь говорил о своей неотступной мысли, лишь слегка меняя слова: словно он не знал больше ничего. За прекрасным изваянием его лба и за его огромными чёрными глазами, в которых я чётко видел плавающее словно лебедь белое лицо очень близкой женщины, скрывались детская душа и ограниченный ум.
Она его слушала с благоговением, приоткрыв рот, слегка запрокинув назад голову. Если бы он её не держал, она бы соскользнула на колени перед этим божеством, столь же прекрасным, как она сама. Её веки уже изнеможенно ниспадали от его пышущего энергией присутствия.
«Воспоминание о тебе печалило мои радости; но оно утешало мою грусть.»
Я не знал, кто именно из них прошептал это… Они неистово обнялись. Их возбуждение напоминало вихрь; они были словно охвачены сильным пламенем.
Его лицо пылало.
«Я хочу тебя… Ах! во время моих бессонных ночей, охваченный желанием, с широко распростёртыми объятиями перед твоим образом, я был в своём одиночестве словно распятым!»
«Будь моей, Анна!»
Она желала этого, она хотела. Вся она, целиком, представляла собой радостное согласие. Однако её изнемогающий взор внимательно осмотрел комнату.
«Проявим почтение к этой комнате…» — шепчет дуновение её голоса.
Затем ей стало стыдно от того, что она ответила отказом. Она тут же пробормотала: «Прости!»
Её распущенные густые волосы и развязанная юбка струились и скользили вокруг неё.
Мужчина, остановленный в смутном порыве своего желания, внимательно осмотрел комнату. Его лоб пересекла морщина обидчивой, необузданной подозрительности, а во взгляде просквозило родовое суеверие.
«Это здесь… смерть?
— Нет», — сказала она, успокаивая себя перед ним.
У него впервые проявились некоторые сомнения относительно этой смерти при полной чистосердечности их сближения. Этот влюблённый, захваченный своей любовью, до сих пор говорил лишь о самом себе.
Она не только подчиняется, но старается согласовать свои и его движения, делать то, что он хочет, балансируя, падая вместе с ним, внимая его мужскому желанию. Но она может лишь прижиматься и привлекать его к себе, и эта молчаливая сцена более волнующая, чем скудные слова, которыми они взаимно обмениваются.
Вдруг она увидела его наполовину раздетым с изменениями в форме его тела; на её лице вспыхнул такой румянец, что оно показалось мне на миг покрытым кровью; но её глаза улыбаются от повергнувшего её в трепет упования и выражают согласие. Она его обожает, полностью им восхищается, она хочет его. Её ладони сминают руки мужчины. Она признаётся в том, о чём умалчивала девственная тишина; она проявляет свою необузданную любовь.
Затем она побледнела, и на какой-то момент осталась неподвижной, будто пригвождённая насмерть. Мне кажется, что она находится во власти высшей силы, которая её то приводит в оцепенение, то сжигает… Её лицо, одно из самых выдающихся красот в мире, такое сияющее, что оно кажется двигающимся навстречу взгляду, конвульсивно морщится, приходит в смятение; его скрывает гримаса; необычайная и неторопливая гармония её жестов теряется и ломается.
Он отнёс на кровать рослую и пленительную девушку… Видны обе её ноги, раздвинутые так, что открывается хрупкая и ощутимая обнажённость её сексуального естества.
Он возлёг на неё, приник к ней, испуская что-то вроде рычания, стараясь её ранить, в то время как она ждёт, предлагая себя всей своей тяжестью.
Он хочет её разорвать, опирается на неё, его лицо излучает мрачное неистовство около этого бледного лица, с закрытыми обведёнными голубизной глазами, со ртом, приоткрытым на зубах, как на остаточном скелетном костяке. Они словно два мученика, преданные ужасному страданию, в прерывистой тишине, из которой скоро раздастся крик.
Она совсем тихо стонет: «Я люблю тебя»; это настоящая песнь из благодарственного молебна; и хотя он её не видит, я, именно я, увидел, как её белая и невинная рука направила мужчину к кровоточащей середине своего тела.
Наконец вырывается крик, завершающий это трудоёмкое дело по нарушению неприкосновенности, уничтожению её пассивного сопротивления замкнутой девственницы.
«Я тебя люблю!» — во весь голос прокричал он с торжествующей и исступлённой радостью.
И она так громко издала крик: «Я тебя люблю!», что от него стены слегка пошатнулись.
Они погружаются друг в друга, и мужчина торопится получить наслаждение. Их тела восстают и опускаются, подобно волнам; я вижу их органы, наполненные кровью. Они, сокрушая все, распростёршись на всём, безразличны ко всему в мире, который безразличен к целомудрию, к добродетели, к мучительному воспоминанию утраченного.
Я увидел множественное и чудовищное существо, которое они сотворяли. Словно они старались унизить, принести в жертву все, что было в них прекрасного. Их рты искажаются, подвергаясь укусам, на их лбах видны тёмные линии от неистовства и отчаянного усилия. Одна великолепная нога вытягивается за пределы постели, ступня судорожно сжимается, чулок соскользнул на прекрасное тело словно из позолоченного мрамора, бедро испачкано пеной и кровью. Молодая женщина целиком имеет вид статуи, брошенной к подножию своего пьедестала и изуродованной. А мужской профиль, с ожесточённым взглядом, кажется принадлежащим безумному преступнику, рука которого обезображена кровью.
Они настолько сближены, как это возможно осуществить: они держатся друг за друга обеими руками, ртом и животом, прижимаясь друг к другу своими лицами, которых больше не видно, взаимно ослепляясь из-за слишком близко придвинутых друг к другу глаз, затем, выворачивая свои шеи, они отводят свои глаза в тот момент, когда они в наибольшей степени пользуются друг другом.
Они, неожиданно, счастливы в одно и то же время, задерживаясь на самых длительных аккордах экстаза. Рот женщины мокрый по всей окружности, и он сверкает, будто поцелуи из него стекали и испускали лучи.
«Ах! я тебя люблю, я тебя люблю!» восклицает нараспев она, воркует она, хрипло кричит она. Затем она издаёт неразборчивые звуки и нечто вроде взрыва смеха. Она говорит: «Милый, милый, мой миленький!» Она лепечет срывающимся голосом, будто плача: «Твоя плоть, твоя плоть!» и ряд фраз, столь бессвязных, что я даже не осмеливаюсь их припомнить.
*
А после, как и другие, как всегда, как они сами будут часто это делать в неизвестном будущем, они тяжело встают с постели и говорят: «Что же мы наделали!» Они не ведают, что же они сделали. Их глаза наполовину закрываются — обращаются к ним самим, словно они ещё владели собой. Пот течёт как слёзы и оставляет свой след.
Я не узнаю её. Она больше не похожа на себя. Её лицо увядшее и опустошённое. Они больше не знают, как вновь заговорить о любви; однако они одновременно посмотрели друг на друга, полные гордости и услужливого повиновения, поскольку они вдвоём. Больше тревоги у женщины, чем у мужчины, несмотря на их равенство: она окончательно заклеймлена, и то, что она сделала, более значительно, чем то, что сделал он. Она сжимает и держит гостя своей плоти, между тем как их окружает осевший пар от их дыхания и пыла.
*
Любовь! На этот раз не имелось стимулирующей двусмысленности для того, чтобы побудить эти два существа вступить в интимную связь друг с другом. Не было скрытого предлога, ночи, преступного ухищрения. Были только два молодых прекрасных тела словно два великолепных бледных животных, которые соединились друг с другом, испуская непринуждённые крики и совершая беспрерывные движения.
Если же они преступили через воспоминания и целомудрие, то это из-за самой силы их любви, и их пылом всё было очищено, как костром. Они были неповинны в преступлении и в безобразии. У них как раз нет сожаления, угрызений совести; они продолжают торжествовать. Они не ведают, что они сделали; им кажется, что они соединились.
*
Они сидят на краю постели. Вопреки своей воле, я с тревогой опять обращаю внутрь свою шею, чтобы видеть их столь близкими от меня и столь ужасными. Я боюсь огромного и всемогущего существа, которое меня бы раздавило, если бы оно знало, что мы находимся лицом к лицу.
Он говорит ей, всецело поглощённый совершённым актом, показывая, через свою приоткрытую одежду, свою мощную мраморную грудь, и держа в своей тёмной руке нежную руку, ослабевшую, вялую:
«Теперь ты принадлежишь мне навсегда. Ты заставила меня испытать божественный экстаз. Ты моё сердце, и я твоё сердце. Ты моя вечная супруга.»
Она говорит: «Ты есть всё.»
И они ещё раз прижимаются друг к другу, перегруженные возрастающим и требовательным обожанием.
Словно они не ведали, что они делали, они не знают, что говорят, с их взаимно увлажняемыми ртами, с их пристальными и восхищёнными взглядами, необходимыми им лишь для взаимных поцелуев, с их лицами, полными любовных слов.
Они отправляются в жизнь как легендарная пара, вдохновлённые и румяные: рыцарь, у которого тёмен лишь чёрный мрамор его волос и который водружает на свой лоб железные крылья или звериную гриву, и некая жрица, дочь языческих богов, ангел по натуре.
Они будут блистать на солнце; им не будет видно ничего вокруг себя, и они выдержат лишь борьбу их двух тел, в великолепном гневе их чувства, или подстерегающую их борьбу с ревностью, ибо двое любовников в большей степени являются двумя врагами, чем двумя друзьями. У них не будет иных страданий, кроме острого напряжения их желания, когда вечер сожмёт пыл их тел такой же сильной прохладой, которая бывает свойственна постели.
Мне кажется, что, сквозь видимость декораций и эпохи, я глазами слежу за ними сквозь жизнь, которая для них есть лишь равнины, горы или леса; я смотрю на них, словно завуалированных светом, временно охраняемых от ужасной магии воспоминания и размышления, защищённых от значимости видимости и бесконечных западней для большого сердца, которые они порождают, несмотря ни на что.
И эти предвестия их участи читаются мною с того первого объятия, все детали которого почтило моё возвышенное созерцание, которое я увидел в его величии и в его ничтожестве, и которое я добросовестно представил именно таким.
*
В глубине серой комнаты видны очертания женской фигуры. Другая женщина? Мне кажется, что это всё та же самая женщина…
В полутени видно, что она раздетая, белая, бледная. Согнув спину, наклонив голову, она кровоточит… Сосредоточившись на своей слабости и вся опечаленная, она смотрит на себя, кровоточащую, словно склонившаяся декоративная ваза. У меня никогда не возникало на этот счёт впечатления отъявленного убожества человеческих существ. Это не заболевание, это рана, жертвоприношение. Это вовсе не недомогание, а её сущность. Она ею обагрена подобно императрице в пурпурной мантии.
…Впервые с тех пор, как я здесь, почтительное побуждение заставляет меня отвести глаза.
Тёмное господство верующего имеет своё вознаграждение; восхищаемся всем, во что стараемся вникнуть. Для каждого из нас наша мать есть лишь более понятная женщина.
*
Я больше не смотрю. Я сажусь и облокачиваюсь. Я думаю о себе. На чём же я теперь остановился? Я совсем один. Моё положение безнадёжно. Скоро у меня больше не будет денег. Что же я стану делать в жизни? Не знаю. Буду искать; необходимо, чтобы я нашёл.
И спокойно, неторопливо, я надеюсь.
Не нужно больше грусти, не нужно больше тоски и волнения… Долой, долой все эти столь значительные и ужасные вещи, созерцание которых страшно выдерживать; если бы остаток моей жизни проходил в тиши, в безмятежности!
Пусть у меня где-то будет благонравное, занятое работой существование, — и пусть я буду регулярно зарабатывать.
И ты, ты будешь там, моя сестра, мой ребёнок, моя жена.
Ты будешь бедной, чтобы больше походить на всех женщин. Для того, чтобы мы могли существовать, я стану работать весь день и тем самым буду твоим слугой. Ты станешь с любовью работать для нас в этой комнате, где, во время моего отсутствия, рядом с тобой будет находиться твоя простая швейная машинка… Ты будешь поддерживать такой хороший порядок, не упуская ничего, у тебя будет долгое, как жизнь, терпение и тяжкое, как мир, материнство.
Я вернусь, я открою дверь во тьму. Я услышу, как ты идёшь из соседней комнаты, откуда ты принесёшь лампу: слабый свет возвестит о тебе. Ты заинтересуешь меня твоим признанием, безмятежным и сделанным лишь с целью подарить мне твои слова и твою жизнь, заключающимся в том, что ты должна была сделать в то время, пока я не был там. Ты мне расскажешь твои воспоминания детства. Я их совершенно не пойму, ибо ты невольно сможешь сообщить мне о них лишь незначительные детали; я их не узнаю, я не смогу их узнать, но я полюблю этот нежный чужой язык, на котором ты будешь тихо рассказывать.
Мы станем говорить о будущем ребёнке, и, при этом видении, ты склонишь голову и твою белую как молоко шею, и мы заранее услышим звук качающейся колыбели, подобный шуму крыльев. И, утомлённые и даже постаревшие, мы погрузимся в свежие мечты о юности нашего ребёнка.
После этого мечтания, мы станем думать не о далёком, а о нежном. Вечером мы станем думать о ночи. Ты будешь наполнена счастливой мыслью; внутренняя жизнь будет весёлой и светлой не из-за того, что ты увидишь, а из-за твоего сердца; ты будешь сиять как слепой.
Мы станем бодрствовать напротив друг друга. Но постепенно, по мере того, как время идёт, слова станут более неразборчивыми, более редкими. Твоя душа будет охвачена сном. Ты заснёшь за столом, ты почувствуешь, как я всё больше и больше бодрствую…
Нежность более значительна, чем любовь. Меня не восхищает плотская любовь, когда есть лишь она одна, во всей наготе; меня не восхищает её необузданный и эгоистический пароксизм, столь грубо короткий. И однако, без любви привязанность двух существ всегда слабая. Нужно, чтобы любовь добавлялась к нежной привязанности, нужно, чтобы она придавала супружескому союзу исключительность, сближение и простодушие.
XVI
Я пошёл на улицы, как изгнанник, я, обычный человек, я, который так похож, я, который слишком похож на всех. Я прошёл по улицам, я пересёк площадь, устремив глаза на то, что от меня ускользает. Кажется, что я иду, но представляется, что я падаю, из мечты в мечту, из желания в желание… Приоткрытая дверь, открытое окно, некоторые прохожие, слегка окрашенные в оранжевый цвет на фоне фасадов, которым вечер придал голубой оттенок, наполняют меня тревогой… Одна прохожая меня слегка касается; какая-то женщина, которая мне ничего не говорит из того, что она должна бы была мне сказать… Мне же грезится трагедия между ней и мною. Она вошла в какой-то дом; она исчезла; она умерла.
…Будучи под впечатлением другого благоухания, которое только что удалилось, я останавливаюсь, осаждаемый тысячью мыслей, задыхающийся, окутанный вечером… Из закрытого окна первого этажа, около которого я нахожусь, доносятся гармонические звуки. Я улавливаю, как если бы я воспринимал чёткую человеческую речь, красоту одной сонаты, с её глубоким аффектом; и минуту я слушаю, что это пианино поверяет тем, кто находится тут.
Затем я сажусь на скамью. С другой стороны улицы, освещаемой заходящим солнцем, находится другая скамья, на которую сели два человека. Я их чётко вижу. Кажется, что они оба удручены одной участью, и их объединяет сходство нежности; видно, что они любят друг друга. Один говорит, другой слушает.
Я представляю себе какую-то тайную трагедию, которая становится очевидной… На протяжении всей их молодости они бесконечно любили друг друга; их мысли, которыми они всецело обменивались, были схожими. Один из них женился. Это тот, который говорит и, как кажется, поддерживает общую грусть. Другой наносил вежливые визиты супружеской паре, возможно его в какой-то степени привлекала молодая женщина, но он уважал её покой и её счастье. Этим вечером его друг рассказывает, что его жена больше его не любит, в то время как он всё ещё обожает её от всего сердца. Она равнодушна к нему, отворачивается от него; не смеётся и не улыбается, как всегда, когда бы они ни были одни. Он поверяет эту беду, эту рану своей любви, своему праву. Его право! Он полагал, что имеет его на неё, и жил с этим неосознанным понятием; потом он хорошенько подумал и понял, что он его не имел… И тогда друг размышляет по поводу некоторых отдельных слов, которые она ему сказала, по поводу её улыбки в его адрес. Хотя он и был добрым и искренним, и ещё полностью безупречным, нежная, пылкая и непреодолимая надежда вкрадывается в него; постепенно, по мере того, как он слышит безнадёжное откровение, его лицо возносится и он улыбается этой женщине!.. И ничто не сможет помешать тому, что вечер, сереющий теперь, который окружает этих двух мужчин, не станет в одно и то же время концом и началом.
Супружеская пара, мужчина и женщина — бедняги почти всегда находятся вдвоём, — создаётся, проживает определённый срок и умирает. Видно пустое пространство, которое их разделяет: в трагедии жизни расставание есть единственная вещь, которую видят. Они были счастливы, и больше таковыми не являются. Они уже почти старые: он не дорожит ею, и однако он прекрасно знает, что приближается момент, когда он её потеряет… О чём они говорят? В один непринуждённый момент, доверяясь наступившей прочной безмятежности, он ей признаётся в прежнем проступке, тщательно и свято скрывавшейся до сих пор измене… Увы! эти слова усугубляют непоправимую беду: прошлое воскрешается, истёкшие дни, которые считали счастливыми, стали грустными, и это скорбь обо всём.
Этих прохожих затмили те двое других, совсем молодых, беседу которых я также себе представляю. Они начинают; они скоро полюбят друг друга… Их сердца, стремясь узнать друг друга, проявляют такую робость! «Вы не возражаете, если я отправлюсь в эту поездку? Вы не возражаете, если я сделаю это и то?» Она отвечает: «Нет». Чувство невыразимого целомудрия придаёт первому признанию, которого столь смиренно добиваются, форму непризнания… Но уже, украдкой, дерзко, мысль радуется любви, которую держит взаперти одежда.
И другие, и ещё другие… Вот эти… Она молчит, а он говорит; он едва ли, к его прискорбию, является главным в отношениях с ней. Он её умоляет сказать ему, что она думает! Она отвечает. Тот слушает, потом, словно она ничего не сказала, снова умоляет, сильнее. Он здесь неуверенный, колеблющийся между ночью и днём; ей стоило бы сказать лишь одно слово, и он бы ему поверил. Видно, что в огромном городе он цепляется за это единственное тело.
Несколько минут спустя, я отделён от этих двух любовников, которые размышляют, от этих двух любовников, которые смотрят друг на друга и которые преследуют друг друга.
Со всех сторон появляются и выступают против друг друга мужчина и женщина: мужчина, который любит сто раз, женщина, которая имеет силу так любить и так предавать забвению.
Я отправляюсь в путь. Я постоянно в движении среди голой реальности. Я не являюсь человеком со странностями и исключительным человеком. Вожделеющий, горлопан, призывающий, я узнаю себя повсюду. Я восстанавливаю со всеми читаемую по складам истину в захваченной врасплох комнате, истину, которая такова: «Я одинокий, и я бы желал то, чего у меня нет, и чего у меня больше нет». Именно из-за этой потребности живут и умирают.
Я прохожу около невысоких магазинчиков. Слышу, как кто-то кричит, орёт: «Да! Нет!» Останавливаюсь, удивлённый мощностью этой интонации. Я различаю в клетке небольшую беспокойную тень. Это попугай, и услышанный крик есть всего лишь сильный безрассудный шум, звук, изданный неразумным существом…
Но, поскольку этот звук не относится к человеческому роду, хотя внешне он и подобен человеческой речи, благодаря ему мне на ум приходит мысль о важности крика людей. Никогда я не думал столь упорно обо всём том, что может содержать утверждение или отрицание, которое выходит изо рта мыслящего существа: дар или отказ человеческого существа, постоянно находящегося у меня перед глазами в ходе моих раздумий, чтобы меня притягивать и направлять, среди дня, моё мрачное сердце; этот образ во тьме.
Но довольно обо мне. Я теперь устал от того, что слишком много желал; я чувствую себя разом постаревшим. Я никогда не вылечу эту рану, которая у меня в груди… Только что имевшаяся у меня мечта о спокойствии привлекла и соблазнила меня лишь потому, что была далека от меня. Я бы ее пережил так же, как я бы пережил любую другую мечту, потому что моё сердце это и есть другая мечта.
*
Теперь я ищу слово. Эти самые люди, которые живут моей истиной, что они говорят, когда ведут речь о самих себе? Раздаётся ли из их уст отголосок того, что я думаю, или отголосок заблуждения, или отголосок лжи?
Стемнело. Я ищу слово, моему подобное, слово, на которое я могу опереться, которое может меня поддержать. И мне кажется, что я наощупь продвигаюсь вперёд, словно на углу улицы кто-то должен внезапно появиться, чтобы сказать мне всё!
Я не вернусь этим вечером в мою комнату. Я не хочу этим вечером покидать толпу людей. Я ищу людное место.
Я вошёл в большой ресторан, чтобы быть окружённым голосами. Лишь только я преодолел высокую сверкающую дверь — которую лакей непрерывно открывал и закрывал — как был охвачен тысячью цветов, тысячью ароматов, тысячью приглушённых шумов. Мне показалось, что элегантные присутствующие — в совершенно безупречного фасона фраках, в дамских туалетах блистательных оттенков, видоизменяющихся словно для забавы — следовали своего рода манерной церемонии в этой высокопоставленной роскошной оранжерее с красным ковром. Повсюду лампы, в серебряных гирляндах, с золотыми кружевами, с мягким светом оранжевых абажуров, создававших как бы небольшую утреннюю зарю посреди каждой группы ужинающих.
Мало мест были свободными; я сел в одном углу, рядом со столом, занятым тремя сотрапезниками. Я был ошеломлён шелестящей иллюминацией, и моя душа, терпеливо свыкшаяся с великими ночными бдениями и приобщённая к ним, была подобна сове, вырванной с корнем из обширной мрачной лазури и брошенной смеха ради в середину фейерверка.
Я собирался попробовать согреться у этого большого огня… После того, как голосом, которому я должен был сначала придать твёрдости, я потребовал меню, мне захотелось поинтересоваться физиономиями. Но было трудно уловить те из них, которые меня окружали. Зеркала множили их, так же, как одновременно и убранство: я видел одну и ту же сверкающую вереницу лиц и профилей… Пары, группы терялись среди услужливости официантов, которые держали в вытянутых руках отороченные мехом пальто или изящные манто, сложные как женщины. Вновь пришедшие представлялись. Я замечал, что женщины были, на первый взгляд, восхитительно хорошенькими, но впрочем они все были похожими, с их белёными лицами и их губами в форме сердца; по мере их приближения проявлялись один или несколько недостатков и изглаживали это идеальное обаяние, которым их украшал первый взгляд. Большинство мужчин, в соответствии с модой, господствовавшей в этот момент времени, были чисто выбриты, имели шляпы с плоскими полями, пальто со спущенными плечами.
В то время как мой взгляд следил машинально за рукой в белой нитяной перчатке, которая наливала в мою тарелку суп, поданный в посеребрённой миске, я внимательно вслушивался в невнятный и беспорядочный гул разговоров, окружавших меня.
Я слышал лишь то, что говорили мои трое соседей. Они говорили о своих знакомых в этом зале, потом о нескольких друзьях таким тоном, что его постоянные ирония и насмешка меня удивили.
Я не находил ничего в том, что они говорили; этот вечер должен был стать таким же бесполезным, как другие.
Несколько минут спустя метрдотель, выкладывая на мою тарелку порцию филе морского языка, залитого густым и розовым соусом на продолговатом металлическом блюде, указал мне движением головы и подмигнул украдкой в сторону одного из сотрапезников.
«Это господин Вилье, очень известный писатель», — горделиво прошептал мне он.
Это был он, действительно; он достаточно походил на свои портреты и с изяществом переносил свою молодую славу.
Я позавидовал этому молодому человеку, который умел писать и говорить то, что он думал. Я, с некоторым преклонением, внимательно посмотрел на изысканность его светского силуэта, на красивую современную и изящную линию его сглаженного профиля, из которого выступала шелковистая бахрома его усов, на безукоризненное закругление его плеча и на его белый галстук, подобный крылу бабочки.
Я подносил к губам мой бокал — такой хрупкий, что ветер на свежем воздухе разбил бы этот бокал выше его ножки — когда я внезапно остановился и почувствовал, как вся моя кровь прилила к сердцу.
Я услышал вот это:
«О чём твой следующий роман?
— Об истине, — ответил Пьер Вилье.
— Как? — воскликнул один из друзей.
— Вереница человеческих существ, захваченных врасплох такими, какие они есть.
— А какой сюжет?» — опросили они.
Вокруг прислушивались. Два молодых человека, которые ужинали неподалёку, молчали, с праздным видом, явно напрягая слух. В углу из роскошного пурпура какой-то человек во фраке курил толстую сигару, с удручённым видом, с осунувшимся лицом, полностью сосредоточившись на благоухающем горении табака, а его спутница, положив голый локоть на стол, окружённая ароматами и сверкающая драгоценностями, перегруженная тяжким искусственным господством роскоши, поворачивала к говорившему своё естественное лунное лицо.
«Вот, — сказал Пьер Вилье, — тот сюжет, который мне позволяет создать одновременно увлекательное и истинное: человек проделывает дыру в стене комнаты в гостинице и смотрит на то, что происходит в соседней комнате!»
*
Мне пришлось в этот момент внимательно всматриваться в беседующих блуждающим и жалким взглядом… Потом я быстро опустил голову наивным жестом детей, которые боятся, что их увидят…
Они говорили обо мне, и я почувствовал вокруг себя какую-то странную полицейскую интригу. Затем это впечатление, в котором моё здравомыслие пришло в полную растерянность, сразу спало. Очевидно, совпадение. Но оставалось смутное опасение, что скоро догадаются о том, что я знал, меня узнают.
Они продолжали говорить о рассказанном замысле… Нечувствительный ко всему остальному, напрягшийся в единственном старании их услышать и не подать виду, что я их слушаю, я припал к их разговору как паразит.
Один из друзей романиста попросил его рассказать более подробно о своём произведении. Он согласился… Он станет это говорить при мне!
*
Он рассказал о книге, которую сочинил. С восхитительным словесным искусством, с искусными жестами и мимикой, с остроумной и оживлённой элегантностью и с заразительным смехом, он обрисовал перед глазами своих слушателей ряд неожиданных, блестящих, потрясающих сцен. При помощи своего оригинального сюжета, придававшего всем сценам столько выразительности и напряжённости, он выставил напоказ смешное, забавные странности, добавил живописные и пикантные детали, типичные и остроумные имена собственные, запутал хитроумные ситуации, заставил неотразимое воздействие проявиться во всём блеске, и всё в целом соответствует последней моде. Раздавались возгласы: «Ах!» «Ох!» Все таращили глаза.
«Браво! Несомненный большой успех. Сюжет очень смешной.
— Все эти людишки, которые проходят перед путешественником, забавные, даже тот, который лишает себя жизни! Ничто не упущено! Это всё человечество!»
Но я, я ничего не узнал во всём том, что он наглядно представлял.
Оцепенение и какой-то стыд меня угнетали по мере того, как я слушал этого человека, ищущего, какую шутку можно было бы извлечь из мрачного приключения, которое уже месяц меня мучило.
Я вспомнил громкий голос, теперь угасший, который столь решительно и столь сильно провозгласил, что сегодняшние писатели подражают карикатуристам. Я, который проник в самое нутро человечества и возвращался к этому, я не находил ничего человечного в этой дёргавшейся карикатуре! Это было так поверхностно, что являлось ложью.
При мне, непредвиденном свидетеле, он говорил:
«Человек, лишённый внешнего облика, — вот что мне хотелось бы, чтобы увидели. Другие — это плод воображения, я есть истина.
— Это имеет даже философское значение.
— Возможно. Во всяком случае, я его не искал! Слава Богу, я писатель, я не являюсь мыслителем!»
И он продолжал извращать истину, без того, чтобы я смог бы что-либо сделать, — эту трудно постижимую истину, голос которой звучал в моих ушах, тень которой была в моих глазах и вкус которой был на моих губах.
*
До какой же степени я в беспомощном состоянии… Подаст мне милостыню кто-нибудь?
Я ушёл через широкие стеклянные створки дверей. Я вхожу в театр, где играют пьесу, появление которой приветствовалось дней восемь тому назад как важное событие, и у меня в памяти остается какой-то отголосок этого успеха. Её название: Право Сердца, меня искушает, меня привлекает.
Я покупаю билет, и вот я посреди большого театрального зала, пробирающийся через оживлённую просвещённую толпу.
Поднимается занавес, посылая сильное свежее дуновение в направлении зрительного зала, и каждый взволнован какой-то надеждой, в ожидании персонажей, которые сейчас там будут жить.
Я смотрю на эту сцену точно так же, как я смотрел в соседнюю комнату. Я слушаю, я регистрирую каждое слово, я читаю по слогам…
…Молодой скульптор Жан Дарси, который приезжает из Рима, со своими мраморными мечтами, находится на вечере у банкира Лёви. Блистательные присутствующие спешат в позолоченные салоны. Члены Института[56], с орденскими лентами коммандора ордена Почётного Легиона там в тесном соседстве с богатейшими представителями светского общества; все знаменитости искусства, литературы, судебной власти, политики и финансового мира здесь оспаривают пальму первенства по злословию и борются за улыбки хорошеньких женщин.
Разговор приглашённых, при котором слегка понижают голос, сосредоточивается на маленьком клане; речь идёт о хозяине дома:
«Вы знаете, он скоро станет дворянином: графом Лёви! — Он оказал большие услуги папе в это тяжёлое и неспокойное время; Его Святейшество очень привязан к нему. — Оказывается, — говорит простодушная молодая дама, — он его называет по-итальянски совсем коротко — «папа». — Новый герб! Потребность в нём ощущается! — О! Это не сделает ему репутацию, и поделом! — А какой девиз на его гербе? Я предлагаю: «Кто губит себя — выигрывает.» — А я предлагаю: «Спасайся, и небо тебя спасёт.» — А я, — сказал один персонаж с профилем левантинца[57], — предлагаю: «Nihil circonscire sibi»[58]. (Одна светская дама, указывая головой на последнего собеседника, сказала вполголоса своему соседу, прикрываясь веером): Он видит соломинку в глазу своего соседа, и не видит бревно в собственном глазу. — Передышка в шутках: известна ли вам секретная новость; будущий граф создаёт газету. — Нет, я этого не знал. — Я тоже. Это любопытно, и вряд ли может выдаваться за секретную новость. — Газета с важной информацией. Но, по сути, деловая; выпуск в свет различных проектов, и… — Просочившиеся слухи о ближайшем номере. — Ах! можно было бы порассказать о хозяине дома, если бы имелся злой язык. А любовница… хозяина дома? — Это новая; она его не покидает, сопровождает его повсюду. — Она хочет увидеть Бельгию. — Утверждают, что он предаётся разврату? — Только поверхностно, несмотря на свою охоту; это домогающийся человек, но немного утомлённый. Он смышлёный и решительный, но на том и останавливается. Вы знаете, как его называют? Сатир… оставим без продолжения. — Его жена на это не жалуется? — О! вы знаете, ей это всё равно: она перенесла одну небольшую операцию, и теперь это… это гробница Данаид[59]. — Кажется, она имела пятьдесят миллионов приданого; но он должен был иметь сколько-то своего… — Вы клевещете на него. Он, по правде говоря, унаследовал в двадцать лет десять миллионов от своего… — От одинокого человека, который, бесспорно, не являлся его отцом?… — От того самого. Однако, всё было пущено по ветру; но он умел нравиться. — Я точно знаю, что медаль имеет и оборотную сторону, и что он, видимо, был жестоко наказан за его переходы от одной к другой. — Да… что вы хотите, женщины не умеют сохранять болезнь в секрете! — Наконец, всегда, лишь исключая этот случай, он имел основание говорить: «С женщинами мне всегда везло» маркизу де Каносса, который, впрочем, ему ответил просто: «За исключением госпожи вашей матери.» — Его мать! Это была та ещё мадам. Когда она умерла, ситуация была не блестящей. Они разместили на её похоронах большое количество столов с бесчисленными школьными тетрадями для подписей. — Это маскировало отсутствие мебели, проданной. Как бы то ни было, имелось всего лишь три подписи. — Бедная старушка, к счастью, она была избавлена от этого последнего этапа! — Да, я вспоминаю: это было скудно, как благотворительная помощь. Следовало быть таким, как я, вынужденный туда пойти. Не очень приятно! К счастью, у меня болела нога, это меня отвлекало. — Наконец, она умерла. Она на небесах. Тем лучше: по крайней мере, она всё же нас слышит. — Он десять лет занимался политикой. После серии плачевных провалов, он сказал тем, кто его поддерживал и кто показывал зубы: «На что вы жалуетесь; я не смог ничего сделать для ваших идей, но, по крайней мере, я вам дал вождя.» — Также как раз он говорил (так и не удалось определить, было ли это незнание значения слов или слишком высокая оценка своего собственного значения): «Я смогу, как и многие другие, похвалиться тем, что я вложил в общественное здание свой небольшой камень преткновения!..» — Разве не говорили об истории с мисс Леммон, с которой он в последнее время был в благостных отношениях? — Я считал, что она благочестива до елейности: обычно говорят, что она предмет увлечения. — Как раз он предмет увлечения. — Ах! да, религиозная любовница; а в чём затруднение? — Она его дурачила; он в конце концов застал её с членами семьи Рёнод; пелена спала у него с глаз. — Так поступают всегда по крайней мере некоторые из них. — Он хотел уйти по-хорошему, не любя неприятности; но хлоп, дело осложняется: публичная стычка и пинок ногой. Он был очень раздосадован всей этой сплетней вокруг несчастного пинка ногой, который, для него, не стоил того, чтобы его остерегаться. Когда ему доложили о свидетелях того господина, он воскликнул: «Но что же такое случилось с этими людьми, если они приходят меня беспокоить по поводу сапог!» — Если бы по крайней мере у него можно было хорошо поесть! Какой ужин! Вы заметили зелёный горошек? — Совершенно верно, он очищенный от налёта, и потом, какая величина! Можно было подать на стол лишь один. А кофе! он был таким слабым, что я не имел сил протестовать. — Фильтрованная вода. — Но нет, мы не так уж плохо поели; наоборот, этот обед меня примиряет с ним: соус заставляет простить хозяина дома. — Я же нашёл этот обед превосходным; я бы его с удовольствием возобновил! — Он заказывает свои обеды во второсортных и устарелых фирмах: у X… Я не называю имён, если бы я их знал, я бы сделал вид, что не знаю. — Вроде бы как-то на днях в меню были «Закуски в неограниченном количестве». Его сын, молодой Поль, сказал ему: «О, нет, на этот раз, папа, это уж слишком!» — Вот и ещё один! Он сочиняет стихи. Поэт! Современный поэт, хищник и карьерист: лютня жизни. — Его также называют, из-за его оригинальности: Франсуа Копье. — Он даёт деньги на маленькие феминистские журналы для девственниц двадцати лет или полудевственниц сорока лет. — Вроде бы он сейчас с тощей госпожой X… — Той, которая играет в пьесе «Сид» с заунывным Z… — Две плакучие ивы. — Осторожно, ей палец в рот не клади. — Позвольте! Она очень мила! Она никому не делает плохого. — Наоборот, она только и делает то, что и все женщины. — К тому же, ему очень надоела связь с нею. — Потому что это светская женщина? — Главным образом потому, что это женщина. — Ах! да, вроде бы точно подтвердилось, что у него особые наклонности… Я не осмеливаюсь об этом говорить при дамах… потому что это их не интересует. — Вы знаете, он пишет для театра; он написал один акт для Итальянского театра. — Он, один акт? Акт противоестественный, это да! — Нужно быть справедливым, у него подобные вкусы лишь тогда… когда он в этом находит свою выгоду. — О! это хитрец; он умеет обернуться. — Я понимаю, почему его мать как-то говорила: «Это флюгер!» — Что он будет делать в газете своего отца? — Шеф по продажам. — Нет, метранпаж. — Вы злословите! Он никогда не говорит плохо о других. — Нет, особенно, когда они отвернулись. — В любом случае, это хам, невежа: как-то на днях, будучи в моём доме, он сказал, что у меня низкий потолок! — Он всё ещё мнил себя находящимся под столом. — Низкий потолок, у меня! — Дело в том, дорогая госпожа, что в вашей прихожей есть фонари с отражателями. — К тому же, вся семья нашего радушного хозяина неслыханно груба: я слишком близкий их друг, чтобы с давних пор этого не заметить. — Ещё и племянница удерживает пальму первенства. — Она устроена за его счёт, не так ли? — Да, да. Как-то она сказала (когда она на минуту предалась умилению) этой гнусной захудалой газетчице, которая похожа на кухарку и которую зовут Виктуар де Шамокрасс[60], что она заслужила быть известной. «Никто в Париже в том не сомневается», — ответила эта вредина. — Она грезит о невинности, но так нельзя же вновь стать полуцеломудренной. — Вроде бы, я вам говорю это под большим секретом, она уже некоторое время с одним старым господином. Ну что ж, надеемся, что это её отец…»
Это «надеемся» вызвало впервые лёгкий шёпот в зале, но чувствовалось, что это была только формальная реакция и, по существу, вполне лестная… Остальное было встречено с оживлённым и возрастающим весельем, по мере того, как нечистоплотные шутки изливались и развлекали этих мужчин во фраках и этих декольтированных женщин.
После первого акта, где намечается любовь между Жаном Дарси и красивой и понятливой Жанной де Флоранж (роль, исполняемая знаменитой актрисой), можно было констатировать в кулуарах то лихорадочное движение, которое сопровождает успехи:
«Слова, слова! — говорили с восхищением. — Только слова!»
Второй акт. Он был подобен первому. Хотя он был полон движения и разнообразен, его построение шло в той же манере: лёгкими и искусственными сочетаниями эпизодов и диалогов, направленными на создание определённого впечатления. К тому же, это впечатление было иногда грубым и пронзительным из-за сильного воздействия на нашу чувствительность иллюзии, порождаемой созерцанием эмоций существа, подобного нам, которое движется в нескольких шагах. Но тщетность этого приёма проявлялась всюду. Да, это были только слова, фразы, которые рассеивались. Да, эти люди «играли» и подражали плохо, чтобы показать нам её, кое-какую серьёзную истину. Но они не обманывали меня.
Второй акт завершается. Третий начинается. Жанна де Флоранж спрашивает себя, имеет ли она право связать свою судьбу с судьбой молодого художника, который её любит так же, как она любит его, но который очень беден и принесёт ей в жертву, если женится на ней, — по причине захватнических материальных потребностей — свой гений и свою будущую славу. Весьма достойная женщина, каковой является героиня, после мук совести, осложняемых интригой ревности, признаёт, что она не имеет этого права, и она совсем удаляет от себя навсегда скульптора Жана Дарси, заставив его поверить, что она разделяет своенравие блестящего Жака де Линьер. Жан будет презирать ту, которую он считал своим ангелом и своей вдохновительницей, но он исцелится. Он женится на Рашель Лёви, которая, несмотря на богатую и испорченную среду, где она была воспитана, является безупречной молодой девушкой, к тому же любящей в душе этого художника. Он создаст своё творение. Право сердца побеждено правом на будущее.
В зале исступлённый восторг. После заключительного акта, где дискутируется проблема жертвенности, затем разрешается утвердительно, где внезапно появляется геройское предательство, в виде гнетущего и неожиданного резкого побуждения, возникшего с большой силой, как удар, для влюблённого и для публики, когда падает занавес, публика устраивает овацию, аплодирует до боли в ладонях, стучит ногами по деревянным деталям в ложах, стучит тростями по полу, громко топает, издаёт крики.
…Толпа расходится, и небольшая значительность этого успеха растворяется в группах господ в отороченных мехом пальто и вновь укутанных дам, медленно направляющихся к выходу
«Все эти пьесы всегда одно и то же. В конце концов, от них ничего не остаётся в памяти.
— Ну и что же? Тем лучше. Я же иду в театр, чтобы развлечься, а не для того, чтобы напрягать ум.
— Я не знаю, дойдёт ли она до сотого представления. В любом случае, мы подобное видели более ста раз.»
Я слышу, как называют по имени господина, который так сказал. Это господин Пьер Корбьер, драматург, пьеса которого: Зиг-Заг, указана на афише большого соседнего театра: три акта, кишащие, как говорят, намёками на живых личностей.
Писателя узнают: круговое движение шляп вокруг него, словно их, когда он проходил мимо, приподнимал ветер; и благосклонно протягиваются руки, чтобы иметь честь коснуться его руки. Он идёт, окружённый лестью и торжествующий. Он такой же, как любой другой: денег и признания он достиг благодаря низкопробному одобрению его покладистой виртуозности, его бойкого языка с парижской манерой речи и его актуальности — сидящим напротив низменным богатым народцем, который часто посещает зрительные залы. Я его презираю и я его ненавижу.
*
Теперь я иду под небом, небесными равнинами, куда были брошены столько пустых слов.
Всё то, что я только что видел, быстро покроется плесенью. Все это слишком модно, чтобы не стать завтра вышедшим из моды. Где они, блестящие авторы последних лет? Их имена всплывают неизвестно на чём.
Мой контакт с истиной сообщил мне одновременно о заблуждении и о несправедливости, и он меня заставляет ненавидеть эти лёгкие развлечения момента, потому что они, подобно обезьянам, подражают произведению искусства. Разумеется, их успех не серьёзен. Восторженный приём чарующей премьеры обычно есть лишь незначительное событие, и все эти пьесы — заглавия, сюжеты и исполнители — быстро стушёвываются и скрываются одни в других. Но пока они выставляются напоказ во время нескольких вечеров; они извлекают прибыль, они наслаждаются действительным триумфом. Мне бы хотелось, чтобы они были уничтожены тотчас, как только появились.
*
По комнате струились лучи луны, которые пронизывали окно как пространство. В этом великолепном убранстве различалась неясная белеющая группа: два безмолвных существа с их мраморными лицами.
Огонь был потушен. Окончив работу, стенные часы замолкли, они старательно прислушивались. Фигура мужчины возвышалась над группой. Женщина была у его ног: они ничего не делали, источая нежность. Они были обращены к луне, словно монументы.
Он заговорил. Я узнал этот голос, который сразу прояснил моим глазам его скрытое лицо; это был тот самый безымянный любовник и поэт, которого я видел дважды.
Он говорил своей подруге, что, возвращаясь вечером, он встретил женщину, нищенку, с ребёнком на руках.
Она шла, толкаемая, теснимая встречной толпой, ибо некоторые многолюдные улицы вечером полностью движутся в одном направлении. Отброшенная под каменный козырёк над какой-то дверью, около дорожной тумбы, подобной рифу, она остановилась, застряв.
«Я подошёл, — сказал он, — и увидел, что она улыбалась.»
*
«Чему она улыбалась? Жизни, из-за своего ребёнка. В осаждённом убежище рядом с этой дверью, где она съёжилась, лицом к лицу с заходящим солнцем, она думала о расцвете ребёнка в будущие дни. Какими бы ужасными они ни должны были оказаться, они будут вокруг него, для него, в нём. Они должны будут явиться тем же самым, что его дыхание, его шаги и его взоры…
«Да, таковой была трудно постижимая улыбка этой созидательницы, которая несла свою ношу и которая поднимала голову и пристально смотрела на свет, даже не опуская глаз на находящегося в тени ребёнка и не прислушиваясь к его невнятному безрассудному лепету.
«Я всё это обработал…»
Он оставался какую-то минуту неподвижным, потом он заговорил тихо, не останавливаясь, потусторонним голосом, появляющимся при декламации, когда подчиняются тому, что говорят и чему больше не являются повелителем:
«Женщина, которую тень опустошает, улыбается этому вечеру, беспредельному отливу из глубины её лохмотьев, беспорядочных и рваных, как бы являющих собой морской берег… Бессловесная под бессловесными волнами, обломок после всех мук, она украшает себя улыбкой, сияющей подобно звёздам, словно все за неё молились. Около дорожной тумбы, без размышлений, с ребёнком в руках, она внезапно появилась; ей нужно иметь божественное сердце, чтобы быть в столь утомлённом состоянии. Она здесь, ничто её не защищает, но она улыбается первой: она любит небо, свет, которые будет любить её безразличный ребёнок, она любит зябкую зарю, тяжкий полдень, мечтательный вечер: он вырастет, невнятный спаситель, для того, чтобы всё это продолжало жить; он, молчаливый, дрожащий при восхождении по крутой дороге, он возобновит жизнь, единственный рай, который есть тут, и букет природы; он вновь сделает прекрасной красоту, он переделает вечность своей песнью и своим ропотом. И, прижимая новорожденного ребёнка, вечером, золотящим её потрёпанные одежды, с глазами цвета красного золота, она охватывает взглядом всё то солнце, которое подарила… Её руки дрожат как крылья, она высказывает мечты ласковыми словами, она бы восхитила прохожих, если бы они повернули глаза к ней, и закат омывает её шею и её голову розовым отсветом: она словно большая роза, которая распускается, наклоняется к каждому…»[61]
Моё внимание вновь обретает рифмы как нежность вновь обретает во мраке нежность. Рифма! Я в глубине испытывал её господство и отпечаток. Я уже был ею взволнован как-то вечером, когда он исторгал из своей памяти, в подтверждение своего утешительного усилия, фрагменты своей поэмы: обработанные слова, внезапно блистающие во мраке как бриллианты; но то, что на этот раз, по какому-то предчувствию, мне казалось более важным.
Он немного раскачивался, целиком захваченный невидимой музыкой, подчиняясь ей столь же полно, как и регулярному колебанию своего сердца, и я чувствовал, как во мне живёт биение этих нежных слов. Казалось, что он бесконечно ищет, пересматривает и верит. Он был в каком-то ином мире, где всё, что говорят, является незабываемым.
Она пребывала у него на коленях. Подняла к нему глаза; она была вся внимание, наполняясь как драгоценная ваза.
*
«Но её улыбка, — добавил он, — не выражала только восхищение по отношению к будущему. В ней также имелось нечто трагическое, которое пронзило меня и которое я хорошо понял. Она обожала жизнь, но она ненавидела людей и боялась их, тоже из-за ребёнка. Она уже боролась за него с живущими, каковым он почти ещё не был. Своей улыбкой она бросала им вызов. Казалось, что она им говорит: он будет жить вопреки вам, он расцветёт назло вам, он будет использовать вас; он вас покорит, чтобы господствовать над вами или чтобы быть любимым, и он уже вас не боится, со своим слабым дыханием, тот, которого я несу в своих материнских когтях. У неё был грозный вид. Я её сначала увидел как ангела доброты. Я её вновь узнал, без какого-либо изменения в ней, как ангела безжалостности и злопамятности: «Я вижу, как нечто вроде ненависти к тем, которыми он будет проклят, искажает её лицо, сияющее сверхчеловеческим материнством, затрагивает её кровоточащее сердце, лишь единственным сердцем наполненное, предвидящее зло и бесчестье, ненавидящее людей и видящее в них ангела-опустошителя; борясь за жизнь в приливах-отливах большой воды, мать с угрожающими когтями принимает вызывающий вид, улыбаясь своим растерзанным ртом!»[62]
Любимая смотрела на своего любовника, освещённого лунными лучами. Мне казалось, что эти взоры смешивались со словами… Он говорил:
«Я останавливаюсь на тяжести человеческого проклятия, как во всём, что я делаю и что я постоянно повторяю с монотонностью тех, которые правы… «О! мы имеем без Бога, без пристанища, без рубища, могущего быть достаточным, лишь бунт с улыбкой, продолжающей существовать на земле мёртвых, лишь бунт существа в праздничном настроении, вечером, мрачно кровоточащего… Мы, божьим промыслом, одиноки, небо ниспослано на наши головы.»[63]
Небо ниспослано на наши головы! Какие слова только что произнесены!
Эти слова, звук которых ещё затухал в тиши, были самым громким кличем, который когда-либо бросала жизнь, это был тот избавительный клич, который мой слух наугад искал до сих пор. У меня было сильное предчувствие, что они создавались по мере того, как я наблюдал своего рода небесное блаженство, всегда кончавшееся увеличением бедных живых теней, по мере того, как я видел, что мир возвращается к человеческой мысли… Но я имел потребность в том, чтобы эти слова были сказаны наконец для объединения нищеты и власти и стали бы ключом небесного свода.
Это небо, то есть лазурь, которую наш глаз словно обрамляет оправой, и лазурь, которая в потустороннем мире видна лишь мысленно; небо: чистота, всеохватность — и бесконечность молящих, небо истины и религии, всё это есть в нас, ниспослано на наши головы. И сам Бог, который есть одновременно все эти виды небес, ниспослан на наши головы как гром, и его бесконечность является нашей.
Мы имеем божественную сущность нашей значительной нищеты, и наше одиночество с его тяжёлым трудом при размышлении, при слезах, при улыбках, неизбежно божественно по его совершенной протяжённости и по распространению его влияния… Какими бы ни были наше горе и наши усилия в одиночестве, и бесполезная работа нашего беспрестанного сердца, и наше беспомощное неведение, и обиды, которые суть другие личности, мы должны сами уважать себя с определённым благоговением. Именно это чувство золотит наши лица, возвышает наши души, украшает нашу гордость и, вопреки всему, нас утешит, когда мы привыкнем в наших жалких занятиях каждый занимать такое же место, которое занимал Бог. От самой истины исходит действительная, практическая и, если можно так выразиться, религиозная ласка для молящегося, ведущая к прояснению неба.
*
…Он говорил тихо, беспорядочно, о сюжете своих стихов, но той, которая его слушала, он бросал всё менее и менее важные слова, и его речи становились, так сказать, всё более убивающими.
Она находилась у его ног, но с поднятым к нему лицом; он возвышался, наклонившись. Какое-то кольцо блестело в этой группе. Я видел овал женского лица, закругление мужского лба, и, рядом с ними, беспредельно распространявшуюся тень.
После обоснования нашей божественности, он говорил, что её трудно постижимые элементы являются единственными общими для человеческих существ. Характеры, темпераменты, под воздействием бесчисленных обстоятельств, столь же многочисленны и разнообразны, как и черты лиц, но в глубине имеется значительное неприкрытое сходство, которое тождественно, как бледный цвет черепов. Так же всякое произведение искусства, которое уподобляет два случая и говорит, что одно лицо является подобием другого, есть ересь, будучи по меньшей мере с точки зрения святости трудно постижимым.
«Именно потому, — сказал мужчина — истинная поэма о человечестве состоит не из местного колорита, не из социальных данных, не из словесных забав, не из хитроумных интриг. Она вас охватывает религиозным холодом. Она образована ужасно монотонной и вечно терзающей тайной тех личностей, вокруг которых мрак и одиночество уничтожают место, где они существуют, и время, в котором они проживают.»
Потом он стал вести речь о поэзии, чтобы сказать, что ценностью поэзии является только движение, то есть, манера появления каждой строфы, высвобождения истины началом каждой фразы, и что трудность в поэзии состояла в том, что следовало создать впечатление единого целого, чтобы руководствоваться им, — прежде чем приступить к началу; что правильно судить можно в ходе работы над некоей поэмой, какой бы короткой она ни была, чтобы создавать сами слова, слова, вещи неопределённые, которые следует уловить, когда они выстроены в определённом порядке, но которые в момент, когда их приводят в движение, становятся грубыми и скрывают свой смысл. Он сделал это признание:
«У меня такое движение к подлинной истине, что есть моменты, когда я не осмеливаюсь назвать вещи их именами…»
…Она его слушала. Она говорила совсем тихо: да, потом она замолчала. Всё казалось неистовым в каком-то пленительном вихре.
«Любимая…», — сказал он вполголоса. Она больше не двигалась; она заснула, положив голову на колени своего друга. Он представил себя в одиночестве. Посмотрел на неё, улыбнулся. Выражение сострадания, доброты отразилось на его лице. Его руки наполовину протянулись к спящей, с нежностью силы. Я увидел лицом к лицу славную гордость снисходительности и милосердия, созерцая этого мужчину, которого женщина, находящаяся перед ним в расслабленном состоянии, боготворила.
XVII
Я предоставил себе отпуск. Я уйду завтра вечером, с моим безмерным воспоминанием. Какими бы ни были события, трагедии, которые мне готовит будущее, моя мысль не будет важнее и значительнее, когда мне придётся прожить свою жизнь со всеми её тяготами.
*
Последний день. Я весь напрягаюсь, чтобы смотреть. Но всё моё тело является лишь сплошной болью. Я не могу больше находиться в стоячем положении; я шатаюсь. Падаю обратно на свою кровать, отталкиваемый стеной. Пытаюсь ещё раз. Мои глаза закрываются и наполняются горькими слезами. Я хочу быть распятым на стене, но не могу. Моё тело делается всё более весомым и мучающим меня; моя плоть ожесточается против меня, а боль увеличивается, отдаётся мне в спину, в лицо, пронзает мне глаза, вызывает у меня тошноту.
Я слышу через каменную стену, как разговаривают. Соседняя комната вибрирует от отдалённого звука, от приглушённого звука, едва проникающего сквозь эту стену.
Я больше не смогу слушать; я больше не смогу смотреть в ту комнату. Начиная с этого времени, я не смогу больше ничего отчётливо видеть, ничего дословно слышать; и я, не плакавший с моего детства, я плачу, как ребёнок, из-за всего того, чего у меня не будет. Я оплакиваю утраченные красоту и величие; я люблю всё, что мне удастся охватить взглядом.
Они снова будут проводить там время, на протяжении дней, лет, все узники комнат, они будут проводить время со своими долями вечности. В час, когда всё блекнет, они сядут около огня, на место, полное сияния; они наклонятся и потянутся к пробелу окна. Их губы примут выжидательную позицию; они обменяются бесполезными первым или последним взглядами. Они раскроют свои руки для объятий, они предадутся своим ласкам наощупь. Они будут любить жизнь и будут бояться умереть. Они устремятся на этом свете к совершенному союзу между сердцами, наверху, продолжительное время, среди миражей и Бог в облаках.
*
Монотонный глухой звук голосов непрерывно раздаётся через стену. Я не слышу ничего, кроме шума: я такой же, как все те, кто бывает в комнате.
Я теряюсь, как в первый раз, когда я пришёл сюда, как тем вечером, когда я завладел этой комнатой, которую покрыли патиной исчезнувшие и умершие — до того, как в моей судьбе произошло это великое световое изменение.
И, может быть, по причине моего лихорадочного возбуждения, может быть, по причине моего сильного физического страдания, я представляю себе, что там громко и выразительно читают великую поэму, что речь идёт о Прометее. Он похитил огонь у богов, он ощущает в своих внутренностях постоянно возрождающуюся и всё новую боль, скопляющуюся из вечера в вечер, когда гриф прилетает к нему как в своё гнездо, — и доказывается, что мы все являемся таковыми по причине желания: но нет ни грифа, ни богов.
Нет иного рая, чем то, что мы доставляем в большую гробницу церквей. Нет иного ада, чем неистовое желание жить.
Нет таинственного огня. Я похитил истину. Я похитил всю истину. Я видел священные вещи, трагические вещи, безупречные вещи, и я был прав; я видел постыдные вещи, и я был прав. И, таким образом, я был в царстве истины, если можно использовать по отношению к истине, не оскверняя её, выражение, которым пользуется ложь и религиозное богохульство.
*
Кто создаст библию из человеческого желания, библию ужасную и простую о том, что нас продвигает вперёд от жизни к жизни, от нашей эпической поэмы, от нашего направления, от нашего первородного греха? Кто осмелится всё сказать, кому хватит гениальности всё понять?
Я верю в поэму возвышенной формы, в произведение, где прекрасное соединится с верой. Чем больше я чувствую себя на это неспособным, тем больше я верю, что это возможно. Это мрачное великолепие, которым некоторые из моих воспоминаний меня угнетают, указывает мне издали, что такая поэма возможна. Я сам иногда собирался приняться за возвышенное, за шедевр. Иногда мои видения смешивались с таким сильным и таким созидательным содроганием перед очевидностью, что вся комната целиком от этого тряслась словно дерево и что в действительности возникали моменты, когда тишина кричала.
Но как раз всё это я украл. Это не было мной завоёвано, я этим воспользовался, благодаря бессовестности истины, которая проявилась. В точке времени и пространства, где я случайно оказался, мне оставалось лишь открыть глаза и протянуть руки, прося милостыню, чтобы создать нечто большее, чем мечта, и почти произведение.
То, что я видел, скоро исчезнет, потому что я из этого ничего не создам. Я словно мать, плод плоти которой погибнет после появления.
Не всё ли равно! Я имел предвестие о том, что в этом явилось бы самым прекрасным. Через меня проникло, не останавливая меня, слово, речь, которая не лжёт и которая, повторенная, принесёт полное удовлетворение.
*
Но я закончил. Я в распростёртом состоянии, и поскольку я перестал смотреть, мои бедные глаза закрываются, словно заживающая рана, мои бедные глаза зарубцовываются.
И я ищу для себя успокоение. Я! последний крик как первый.
У меня есть только единственное прибежище: вспоминать и верить. Сохранять изо всех сил в моей памяти трагедию этой комнаты, по причине распространяющегося вдаль и затруднительного утешения, в котором порой резонировала глубина пропасти.
Я думаю, что перед лицом человеческого сердца и человеческого разума, поступков с нетленными побуждениями, имеется лишь мираж того, к чему они призывают. Я думаю, что вокруг нас со всех сторон имеется лишь одно слово, и вот это необъятное слово, которое выявляет наше одиночество и обнажает степень нашей значительности: Ничто. Я думаю, что это означает не наше небытие, не наше несчастье, но, наоборот, наше осуществление и наше обожествление, поскольку всё существует в нас.
Примечания
1
Кидн — река в древней Киликии. (Здесь и далее примечания переводчика.)
(обратно)2
По-французски: «Aimée» — женское имя — Эмё; «aimée» — в переводе: «любимая».
(обратно)3
De profundis — письмо-исповедь английского писателя Оскара Уайльда (1854–1900), написанное им в 1897 г. в Редингской тюрьме, куда он попал из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это выражение восходит к 129 псалму: De profundis clamavi ad le Domine («Из глубины воззвах к тебе, Господи»).
(обратно)4
В оригинале здесь и далее у автора даны обычной строкой в основном выделенные курсивом пространные стихотворные строфы с рифмой, которые в данном тексте без рифмы выделены как курсивом, так и * — знаком сноски жирным шрифтом.
«Donne-nous, donne-nous l'aumône du rayon dont le reflet parfois nous couvre comme un voile, et qui, de 1‘infini, tombe jusqu'aux étoiles!»
(обратно)5
«L’enfant, qui vint nous secourir…»
«L’enfant, que l’on fait vivre et qu’on laisse mourir!»
(обратно)6
«L’enfant par qui la plaie humaine saigne encore. Créer, recommencer un coeur, faire renaître un malheur; enfanter: sacrifier un être! Engendrer, en hurlant, une plainte de plus! La douleur d’enfanter. Elle ne finit plus; elle s’immensifie en angoisses, en veille…»
(обратно)7
«Rappelle-toi la fin du travail et le soir, au couchant, la douceur si triste de s’asseoir… Oh! que de fois, le soir, les yeux sur la couvée qui tremble, incessamment, peniblement sauvée, mes mains frôlaient en trébuchant des fronts d’aimés, puis je laissais tomber mes deux bras désarmés, et j’étais là, pleurant, vaincu par la faiblesse des miens…»
(обратно)8
«Le petit, le meilleur… Il n’est plus et moi, moi qui sans cesse le regarde!»
(обратно)9
«Il n’est plus, et moi qui le caresse!»
(обратно)10
«La mort, méchanceté des adorés, bonté sinistre qui nous quitte.»
(обратно)11
«Oh! La stérilité d’être mère!»
(обратно)12
«Vivant ou mort, l’enfant nous laisse, à cause qu’il est doux de haïr la vieillesse quand on est jeune et qu’on est fort et qu’on est clair; que le printemps terrible ensevelit l’hiver, qu’un baiser n’est profond que sur des lèvres neuves. Tu quitteras ton père et ta mère et fuiras l’embrassement stérile et pesant de leur bras…»
(обратно)13
«Dormir… La nuit, on oubliait… — Non, on rêvait; le repos se souvient, s’emplit de spectres vrais; notre sommeil ne dort jamais: il agonise… — Parfois, il nous caresse avec ses formes grises, le rêve que l’on rêve. — Il nous fait mal toujours: triste, il blesse nos nuits; doux, il blesse nos jours…»
(обратно)14
«Mais la nuit nous étions un instant l’un à l’autre… Quand nous cherchions, parmi tous les chemins, le nôtre, et nous hâtions, obscurs, vers le logis mal clos, comme vers une épave au sein de tous les flots, quand l’ombre se mêlait, au fond de la vallée, à la robe usée, humble et comme flagellée, mes yeux sous les rayons qui s’éteignaient en choeur, voyaient le battement presque nu de ton coeur. Tous seuls, que disions-nous?… — Nous nous disions: je t’aime…»
(обратно)15
«O séparation des coeurs, terre entassée sur chacun d’eux, silence affreux de la pensée! Amants, amants, nous nous cherchions à l’infini; nous étions là, nous n’avions rien qui nous un it, et proches et tremblant sous les astres qui trônent, les doigts mêlés, nous n’étions rien que deux aumônes.»
(обратно)16
«Enfouis dans nos corps comme dans nos linceuls, nos yeux mêlaient leurs pleurs, nos coeurs pleuraient tout seuls; je le voyais, fragile, infinie et profonde; tu pleurais… j’ai senti que chacun est un monde.»
(обратно)17
«Enfer plus effrayant et plus atroce encore: notre fille, qui ressemblait à ton aurore!»
(обратно)18
«Clouée en moi, mais tout entière et toute grande… Oh, tapi dans mon coeur, torturant et cachée, l’inavouable mal de n’avoir pas péché!»
(обратно)19
«Nous sommes ceux qui n’ont jamais eu de lumière, que l’ombre universelle a repris chaque soir, ceux dont le sang vivant, le sang profond, est noir, ceux dont le rêve obscur salit tout ce qu’il touche, et nos yeux sont aussi ténébreux que nos bouches. Vides et noirs, nos yeux sont aveugles, nos yeux sont éteints: il leur faut le grand secours des deux… Souvienstoi, quand groupés sous la calme tempête du soir, nous conservions un rayon sur nos têtes, et nous voulions longtemps que la nuit ne fut pas. Ton faible bras, posé fortement sur mon bras, palpitait… Écrasant notre morne envolée, la nuit nous reprenait la lumière volée…»
(обратно)20
«Ce n’est pas vrai! Ce n’est pas vrai! Non, mon bonheur n’est pas dehors de moi-même, puisque c’est mon bonheur…»
(обратно)21
«Ah! lorsque j’attirais dans mes bras de conquête sous les voiles du soir ta précieuse tête, lorsque j’entrevoyais dans tes gestes brisés ta bouche et son silence infini de baisers, ta chair qui dans la nuit est blanche comme un ange…»
(обратно)22
«Souviens-toi quand tombait sur les grandes descentes, le soir où nous sentions la vieillesse venir, nous joignions deux à deux nos mains insuffisantes et tournions malgré tout nos yeux vers l’avenir! L’avenir! Sur ta joue infinie une ride souriait. Tout était magnifique et tremblant, te sage vérité tombait du ciel splendide et son dérnier reflet posait sur ton front blanc. Avares, las, tournant à peine les paupières, pleins du pauvre passé qui ne peut pas guérir, nous éspérions: le soir amolissait les pierres, tes yeux étaient dorés, je te sentais mourir!»
(обратно)23
в последний момент (латынь).
(обратно)24
смертельный случай (латынь).
(обратно)25
скоротечный (латынь).
(обратно)26
Лансеро, Этьен (1829–1910) — известный французский медик, автор многих научных работ по различным направлениям медицины. Президент Академии медицины Франции в 1903 году.
(обратно)27
первоначальное движение (латынь).
(обратно)28
микроскопический грибок новообразования (латынь).
(обратно)29
Бернар, Клод (1813–1878) — известный французский физиолог.
(обратно)30
бактерия в стадии развития (латынь).
(обратно)31
Эберт, Карл (1835–1926) — немецкий бактериолог.
(обратно)32
Ландузи, Луи (1845–1917) — французский врач, невролог и фтизиолог.
(обратно)33
Вирхов, Рудольф (1821–1902) — немецкий патолог.
(обратно)34
Пептоны — продукты гидролиза белка.
(обратно)35
Химус — млечная жидкость, содержащаяся в лимфатических сосудах кишечника.
(обратно)36
Потт, Персивал (1714–1788) — английский хирург, исследовавший туберкулёз позвонков.
(обратно)37
Россетти (Rossetti), Данте Габриел (1828–1882) — английский живописец и поэт.
(обратно)38
angélus — молитва на латинском языке, начинающаяся этим словом и читающаяся утром, в полдень и вечером; колокольный звон, возвещающий эту молитву.
(обратно)39
Линней (Linné), Карл (1707–1778) — шведский натуралист.
(обратно)40
Её научное название sarcophagidae.
(обратно)41
Меньен, или Менье (Mégnin) Жан Пьер (1828–1905) — французский ветеринар и энтомолог, занимался судебной энтомологией.
(обратно)42
Канопус — звезда 1-й звёздной величины в созвездии Киля; вторая по блеску (после Сириуса) звезда всего неба; звезда Южного полушария.
(обратно)43
Бетельгейзе — звезда нулевой звёздной величины в созвездии Ориона; красный сверхгигант с радиусом, равным 850 радиусам Солнца.
(обратно)44
1 льё = 4,445 км.
(обратно)45
Арктур — звезда нулевой звёздной величины в созвездии Волопаса; самая яркая звезда в Северном полушарии.
(обратно)46
Звезда в созвездии Большая Медведица.
(обратно)47
сексдециллион — в США: представлен как 1 с 51 нулями; в Великобритании: представлен как 1 с 96 нулями.
(обратно)48
дециллион — в США: представлен как 1 с 33 нулями; в Великобритании: представлен как 1 с 60 нулями.
(обратно)49
октовигинтиллион: окто — по-латыни восемь; вигинтиллион — в США: представлен как 1 с 63 нулями; в Великобритании: представлен как 1 со 120 нулями.
(обратно)50
дуотригинтиллион: — дуо — по-латыни два; тригинтиллшм — 1 с 93 нулями.
(обратно)51
Ньюкомб, или Ньюком (Newcomb), Саймон (1835–1900) — американский астроном, исследовал движения планет, их спутников, Луны.
(обратно)52
квинтиллион — в США: представлен как 1 с 18 нулями; в Великобритании: представлен как 1 с 30 нулями.
(обратно)53
Паскаль (Раsсаl), Блэз (1623–1662) — французский математик, физик, философ и писатель.
(обратно)54
Декарт (Descartes), Рене (1596–1650) — французский философ, математик и физик.
(обратно)55
Имеется в виду Кант (Kant), Иммануил (1724–1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.
(обратно)56
Институт Франции — объединение пяти Академий: французской, надписей и художественной литературы, наук, изящных искусств, гуманитарных и политических наук.
(обратно)57
Левантинец — выходец из стран восточного Средиземноморья.
(обратно)58
«Nihil circonscire sibi» — «Ни в чём себя не ограничивать» (латынь).
(обратно)59
Данаиды — в греческой мифологии 50 дочерей царя Даная, по велению отца убившие в брачную ночь своих мужей. В наказание Данаиды должны были в Аиде вечно наполнять водой бездонную бочку.
(обратно)60
Подразумевается игра слов. Прозвище газетчицы Виктуар де Шамокрасс указывает на название Виктуар де Самотрас — Ника Самофракийская (древнегреческая мраморная скульптура богини победы Ники, находящаяся в Лувре). Шамокрасс (Chamocrasse) — здесь примерно: — «грязная уродина».
(обратно)61
«La femme que l’ombre ravage sourit au soir, vague reflux du fond de ses haillons confus et déchirés comme un rivage… Muette sous les flots muets, épave de tous les martyres, elle s’étoile d’un sourire comme si tous la suppliaient. Près de la borne, sans pensée, l’enfant dans les bras, elle vint; il faut qu’elle ait un coeur divin pour pouvoir être si lassée. Elle est là, rien ne la défend, mais elle sourit la première: elle aime le ciel, la lumière qu’aimera l’indistinct enfant, elle aime la frileuse aurore, le midi lourd, le soir rêveur: il grandira, confus sauveur, pour que tout cela vive encore; lui qui fut sombre et qui trembla au fond de la route gravie, il recommencera la vie, le seul paradis qui soit là, et le bouquet de la nature; il rendra belle la beauté, il refera l’éternité avec son chant et son murmure. Et serrant l’enfant nouveau-né dans le soir qui dore ses hardes, les yeux vermeils, elle regarde tout le soleil qu’elle a donné… Ses bras treihblent comme des ailes, elle rêve en mots caressants, elle éblouirait les passants, s’ils détournaient les yeux vers elle; et le couchant baigne son cou et sa tête d’un reflet rose: elle est comme une grande rose qui s’ouvre, se penche vers tout…»
(обратно)62
«Je vois une sorte de haine pour ceux dont il sera maudit, crisper sa face, où resplendit la maternité surhumaine, son coeur sanglant plein d’un seul coeur, qui prévoit le mal et la honte, qui hait les hommes et les compte comme un ange dévastateur; à vif dans la grande marée, la mère aux ongles effrayants, qui se redresse en souriant avec sa bouche déchirée!»
(обратно)63
«Oh! nous n’avons, sans Dieu, sans port, sans haillon qui puisse suffire, que la révolte du sourire, debout sur la terre des morts, que la révolte d’être en fête dans le soir, morne saignement… Nous sommes seuls divinement, le ciel est tombé sur nos têtes.»
(обратно)
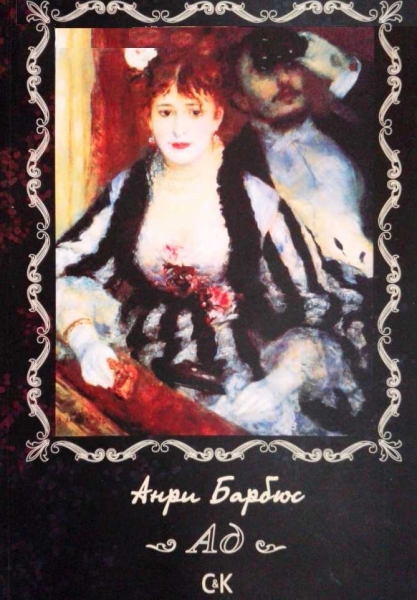



Комментарии к книге «Ад», Анри Барбюс
Всего 0 комментариев