Марсель Эме ЗЕЛЕНАЯ КОБЫЛА Роман
I
Однажды в деревне Клакбю родилась зеленая кобыла, причем зеленый цвет у нее был настоящий, нефритовый, а не какой-нибудь там цвет мочи, что нередко проступает у кляч белой масти по мере дряхления. Увидев жеребенка, Жюль Одуэн не поверил ни собственным глазам, ни глазам жены.
— Не может быть, — приговаривал он, — чтобы мне да этакое везение.
Земледельцу и барышнику Одуэну не шли впрок ни его хитрость, ни его лживость, ни его скаредность. Коровы у него дохли сразу парами, свиньи — по шесть штук, а зерно прорастало обычно в мешках. Почти так же не везло ему и с детьми: чтобы выжило трое, приходилось делать шестерых. Но с детьми еще куда ни шло. Хорошенько поплакав на похоронах, он возвращался домой, выкручивал свой носовой платок и вешал его на веревку сушиться. А потом, покрывая жену, еще в том же году рано или поздно делал ей другого ребенка. Так что с детьми вопрос решался довольно просто, и тут Одуэн не очень сокрушался. У него было три сына в добром здравии и три дочери на кладбище — в общем как раз то, что нужно.
Рождение зеленой кобылы стало большим событием, к тому же совершенно невиданным и неслыханным. Его сочли удивительным, так как в Клакбю никогда ничего не происходило. Поговаривали, правда, что Малоре лишает невинности своих дочерей, но то была история столетней давности и она уже больше никого не интересовала: так испокон веков поступали со своими дочерьми все Малоре и к этому народ в деревне привык. Время от времени местные республиканцы, в общей сложности человек шесть, под прикрытием безлунной ночи отправлялись попеть «Карманьолу» под окнами священника и поорать «Долой Империю!» И больше ничего, ну ничегошеньки не происходило. Так что народ скучал. А поскольку время остановилось, то старики не умирали. Только таких, кому перевалило за сто, в коммуне насчитывалось двадцать восемь, не говоря уже о тех, кому было за семьдесят, а они составляли половину населения. Кое-кого из них пришибли, но такого рода расправы являлись частной инициативой, и в дремлющей, парализованной, закостенелой деревне царила скука не хуже, чем в воскресный день в раю.
Новость вырвалась из конюшни, зигзагообразной молнией пронеслась между лесом и рекой, трижды обежала вокруг Клакбю и завертелась на площади перед мэрией. Все без промедления отправились к дому Жюля Одуэна: кто рысью, кто галопом, кто ковыляя, кто прихрамывая. Чтобы прибыть первыми, чуть не кусали сами себя за пятки; и дрожащие голоса стариков, почти столь же неразумных, как женщины, примешивались к несущемуся над полями громоподобному воплю:
— Что делается! Что делается-то!
Во дворе у барышника гомон достиг своего предела, поскольку здесь жители Клакбю уже успели обрести свою былую озлобленность. Самые старые из них требовали, чтобы кюре изгнал из зеленой кобылы нечистую силу, а шестерка деревенских республиканцев кричала совершенно открыто, прямо ему в лицо: «Долой Империю!» Завязалась потасовка, мэр получил ногой по хребту, и от этого к горлу его подступила речь. Молодые женщины жаловались, что их кто-то щиплет, старые, — что их никто не щиплет, а ребятишки кричали благим матом, получая шлепки. Наконец на пороге конюшни появился Жюль Одуэн. И весело подтвердил:
— Зеленая, как яблоко!
По толпе пробежал громкий смех, потом один старик вдруг замахал в воздухе руками и свалился замертво на сто восьмом году. Тут толпа засмеялась еще громче, да так, что всем пришлось схватиться за животики. А столетние старики стали падать, как дохлые мухи, и в этом им даже отчасти помогали, хорошенько пиная их ногой под дых.
— Еще один! Это же старый Русселье! А ну, кто следующий!
За каких-нибудь полчаса преставилось семь столетних стариков, трое девяностолетних и один восьмидесятилетний. А еще один почувствовал себя не совсем хорошо. Одуэн, стоя на пороге конюшни, подумал о своем старом отце, который ел за четверых, и, повернувшись к жене, сказал ей, что жалеть нужно не тех, кто уходит, а тех, кто остается.
Кюре только успевал причащать умирающих. Притомившись, забрался на бочку и, перекрывая гвалт и гоготанье толпы, заявил, что на первый раз хватит, что пора расходиться по домам. Барышник показал свою зеленую кобылу спереди и сбоку, и все пошли восвояси, страшно довольные тем, что наконец что-то произошло. Старый отец Жюля Одуэна, успел причаститься, к ночи скончался, и через день его похоронили за компанию с пятнадцатью другими почтенными, покойниками. Церемония состоялась трогательная, и кюре воспользовался ею, чтобы лишний раз напомнить прихожанам, как же все-таки жизнь бренна и презренна.
Между тем молва про зеленую кобылу распространялась все дальше и дальше. Подивиться на нее люди шли изо всех окрестных деревень и даже из Сен-Маржлона, главного города округа. По воскресеньям посетители шли к конюшне сплошной чередой. Одуэн стал по-настоящему известным человеком, его торговые дела сразу поправились, и он на всякий случай стал регулярно посещать мессу.
Клакбю гордилась кобылой, благодаря которой в деревне появилось столько посетителей, а на два имевшихся здесь кафе внезапно посыпался золотой дождь. Поэтому Одуэн решил выдвинуть свою кандидатуру на муниципальных выборах и, пригрозив двум владельцам кафе, что продаст свою зеленую кобылу, получил от них поддержку, оказавшуюся решающей.
Некоторое время спустя один преподаватель Сен-Маржлонского Императорского коллежа, корреспондент Академии наук, тоже приехал взглянуть на зеленую кобылу. Потрясенный увиденным, он написал об этом в Академию. На что один знаменитый ученый с увешанной орденами грудью заявил, что речь идет об обыкновенном надувательстве. «Мне уже семьдесят шесть лет, — сказал он, — но я еще нигде не читал, чтобы на свете могли существовать зеленые кобылы: значит, никакой зеленой кобылы и не существует». А другой ученый, почти столь же знаменитый, ответил, что, конечно же, зеленые кобылы существовали всегда и что если бы его коллега взял на себя труд, читать между строк, то встретил бы упоминания о них чуть ли не у всех античных авторов. Спор затянулся, слухи о нем дошли до императорского двора и государю захотелось узнать об этом деле поподробнее.
— Зеленая кобыла? — сказал он. — Это, должно быть, такое же редкое явление, как честный министр.
Он сказал это смеха ради. Придворные дамы хлопнули себя по ляжкам и наперебой закричали, что острота получилась удачная. Она обошла весь Париж, а когда государь предпринял путешествие в Сен-Маржлонский округ, то одна газета поместила статью с подзаголовком: «В краю зеленой кобылы».
Император прибыл в Сен-Маржлон утром и к трем часам пополудни уже успел выслушать четырнадцать речей. В конце банкета его немного клонило ко сну. Он знаком приказал префекту, чтобы тот последовал за ним в отхожее место, и там предложил ему:
— А что, если нам съездить взглянуть на зеленую кобылу? Заодно я бы посмотрел, какие у нас виды на урожай.
Быстро разделались с торжественным открытием памятника капитану Пону, потерявшему голову при Севастополе, и коляска императора направилась в сторону Клакбю. Над полями стояла прекрасная весенняя погода, и император развеселился. Хозяйка дома, наделенная сельским очарованием и грудью по моде той эпохи, привела его в восторг.
Вся скопившаяся на краю дороги деревня Клакбю восхищенно шептала, что все что-то происходит да происходит. Там же скончалось еще полдюжины стариков, которых ради соблюдения приличий придумали спрятать в канаве.
После приветствий Одуэн вывел зеленую кобылу во двор. Император выразил восторг, а поскольку зеленый цвет располагал его к мечтательности, то он, не переставая заглядывать госпоже Одуэн за корсаж, произнес несколько буколических фраз о простоте сельских нравов. Стоя на пропахшем навозом фермерском дворе, он признал за супругой Одуэна слегка будоражившие его воображение могучую грацию и животноводческую осанистость. Фермерша и в самом деле была еще красива, и ее сорок лет почти не были заметны. Префекту хотелось продвинуться по службе, а поскольку в этом ему помогал его недюжинный ум, он без труда разгадал причину государева волнения. Притворившись, будто общение с Одуэном доставляет ему большое удовольствие, он отвел барышника немного в сторону и, чтобы подогреть интерес к разговору, пообещал ему место советника на ближайших окружных выборах. Император же, воспользовавшись этим, завел беседу с женой Одуэна. На его галантное предложение она ответила с подобающей простой женщине скромностью:
— Ваше величество, у меня сейчас крови.
Несмотря на неудачу, император пожелал отблагодарить ее за то, что она сумела понравиться, и сохранил в силе обещание, только что Данное префектом барышнику. Когда он садился в коляску, жители Клакбю бурно захлопали в ладоши, а потом устроили огромный праздничный костер и побросали туда всех оставшихся стариков. Место, где полыхало это историческое пламя, назвали впоследствии Горелым Полем, и там хорошо родился хлеб.
С тех пор в Клакбю пошла новая, здоровая жизнь. Мужчины пахали землю на ладонь глубже, женщины, по мере надобности, сдабривали пищу приправами, мальчишки гоняли девчонок, и каждый молил Бога, чтобы тот соблаговолил разорить его ближнего.
Семья барышника подавала здесь столь убедительный пример, что можно было только восхищаться. Одним движением плеча Одуэн придвинул стену своего дома к самой дороге, построив себе столовую со шкафом для посуды и раздвижным столом, которому не уставала дивиться вся Клакбю. Жена барышника с тех пор, как на ее грудь опустился взгляд императора, перестала доить коров, завела себе служанку и стала вязать крючком кружева. Одуэн в качестве официального кандидата был избран в округе советником и без труда добился поста мэра Клакбю. Торговые дела его шли все лучше и лучше: благодаря императорскому визиту, слух о котором прокатился по всему краю, он оказывался теперь на всех распродажах скота чем-то вроде официального барышника. И когда разгорались страсти, то рассудить спорящих просили именно его.
Альфонс, старший из трех сыновей Одуэна, не извлек из всех этих происшествий никакой пользы, потому что его на семь лет забрали в солдаты. Он служил в егерском полку и редко подавал о себе вести. Все не переставали надеяться, что его произведут в капралы, но для того чтобы заполучить нашивки, ему пришлось завербоваться на новый срок. Он говорил, что в кавалерии это не то что в пехоте, где унтер-офицерское звание дают кому попало.
Оноре, младший сын, влюбился в Аделаиду Муше, тоненькую девицу с черными глазами, принадлежавшую к семье, бедность которой была притчей во языцех. Одуэн не хотел этого брака. Но Оноре заявлял, что все равно женится, и на протяжении целых двух лет от раскатов их ссор дрожали оконные стекла по всей Клакбю. По достижении совершеннолетия Оноре женился на Аделаиде и поселился в соседней деревне, нанявшись поденщиком. Вернуться в родной дом он согласился только после того, как отец попросил у него прощения; Одуэну пришлось пройти через это: его родной сын влачил жалкое существование всего в каком-нибудь полулье от Клакбю, и надо было положить конец подобному позору. В отцовском доме Оноре тоже занялся земледелием и барышничеством.
Это был честный, любивший посмеяться парень, знавший свое дело, но лишенный честолюбия и лукавства: сразу было видно, что он никогда не станет одним из тех барышников, у которых рождаются зеленые кобылы. Отец, понимавший это, расстраивался, но испытывал к сыну слабость за его любовь к ремеслу. А вот жена Одуэна отдавала предпочтение капралу Альфонсу; ей нравился и его мундир, и его талант вести приятную беседу. На Пасху и на Мартынов день она посылала ему тайком от мужа сотню су.
Однако независимо от своих симпатий, больше всего и Одуэн, и его жена проявляли заботу о Фердинане, младшем сыне. Отец определил его в Императорский Сен-Маржлонский коллеж. Не желая, чтобы он тоже стал барышником, Одуэн мечтал сделать из него ветеринара. На шестнадцатом году Фердинан был молчаливым и упорным юношей с длинным, костистым лицом и с головой в форме сахарного конуса. Учителя были им довольны, а вот однокашники не любили его и дали ему прозвище Луковая Задница, с которым Фердинану, можно сказать, повезло, потому что одного такого прозвища достаточно, чтобы на всю жизнь привить человеку тягу к деньгам, почестям и уважению.
Как-то раз весенним утром у Одуэнов произошло одно событие, о важности которого сначала, по правде говоря, никто и не догадался. Госпожа Одуэн вязала, сидя у окна столовой, и вдруг увидела, как во двор вошел молодой человек. На голове у него была мягкая шляпа, а за спиной — принадлежности живописца.
— Я тут проходил неподалеку, и мне захотелось зайти взглянуть на вашу зеленую кобылу. Я был бы не прочь изобразить ее.
Служанка отвела художника на конюшню. Он, как это было заведено, взял ее за подбородок, а служанка игриво промолвила, что пришел-то он ради кобылы.
— Она и в самом деле зеленая, — сказал художник, глядя на животное.
Он был наделен большим воображением и сначала решил было нарисовать ее красной краской. Тем временем подошел Одуэн.
— Если вы хотите нарисовать мою кобылу, то нужно, чтобы она получилась зеленой. А то ведь ее никто не узнает.
Кобылу вывели на луг, и художник принялся за работу. Где-то за полдень госпожа Одуэн вдруг обратила внимание на неприкаянно стоящий посреди загона мольберт. Приблизившись, она не без удивления увидела, как художник невдалеке помогает служанке подняться из уже довольно высокой ржи. Она справедливо возмутилась: мало этой несчастной девице риска забеременеть от хозяина, так она ищет удовольствий еще и на стороне. Художника прогнали, полотно конфисковали, а госпожа Одуэн дала себе зарок присматривать за животом служанки. Картину, которой надлежало увековечить память о зеленой кобыле, повесили в столовой над камином между портретом императора и портретом маршала Канробера.
Два года спустя кобыла заболела, понедужила с месяц да и сдохла. Младший сын барышника к тому времени еще не был настолько сведущ в своем ветеринарном искусстве, чтобы назвать по имени погубивший ее недуг. Одуэн почти и не сокрушался, потому что кобыла стала ему уже в тягость. В самом деле, любопытные так все и продолжали осаждать его конюшни, а когда занимаешься политикой, то отказать кому-то, даже первому встречному ну никак невозможно.
Пока младший сын готовился стать ветеринаром, Одуэн терпеливо приращивал свое состояние. С добродушием, заставлявшим на миг забыть о ростовщических процентах, он, как бы оказывая услуги, давал в долг земледельцам округи под залог недвижимого имущества. С годами у него появилось желание наслаждаться своим богатством, но это оказалось делом столь же многотрудным, как его наживать. Он хотел, чтобы его удовольствие исчислялось в деньгах, и к своему обычному бюджету добавил статью расходов на удовольствия, которая доходила до тридцати пяти франков в месяц. Однако он так старательно экономил на этих расходах, что в конечном счете на сбереженные деньги купил государственные процентные бумаги. Но тем не менее случалось, что отложив пятьдесят су, Одуэн отправлялся в Вальбюисон, дабы воздать там должное прелестям Сатинетты. И хотя это казалось ему самому несколько унизительным, расплачивался он с ней, на ходу, изобретая какое-нибудь дельце, в котором каждый из них находил свою выгоду. Истинное наслаждение он видел в том, чтобы быть богатым и таковым слыть; лучшим же развлечением для него было сидеть перед своим домом и созерцать соломенную кровлю дома Малоре, возвышавшуюся над рощицей в пятистах метрах от него. Между двумя семьями существовала почти безупречная ненависть, не связанная ни с ревностью, ни с различием мнений. Ни разу они не обменялись ни злым, ни просто сколько-нибудь горячим словом. Одуэны никогда не принимали участия в распространении ходивших по Клакбю слухов о кровосмесительных привычках семьи Малоре. При встрече обе стороны вежливо приветствовали друг друга и даже не делали попыток уйти от разговора. То была очень чистая ненависть, казалось довольствовавшаяся уже самим фактом своего существования. Просто иногда случалось так, что за столом Одуэн, начав вдруг размышлять вслух, шепотом произносил: «Эти свиньи». И тогда вся семья знала, что речь идет о Малоре.
Во время войны 1870 года барышнику пришлось туго. В Клакбю заявились пруссаки, а поскольку он был мэром деревни, то на его долю выпало немало страданий. Несколько раз вражеские солдаты хотели зажарить его, чтобы утолить голод. Однажды они даже проткнули его вертелом. К счастью, подоспел офицер, их начальник, и заявил, что это все по ошибке. Но у него все же растащили весь фураж, картошку, увели лошадей, унесли почти новый матрас. У Фердинана, молодого ветеринара, обосновавшегося в Сен-Маржлоне, не осталось никакой клиентуры, и он боялся, как бы его не мобилизовали. Одуэн и его жена ни на миг не переставали дрожать за своего сына Оноре, который постреливал по лесам. Ну а что касается капрала Альфонса, то он в одном из первых же авангардных боев был ранен в коленку, отчего остался хромым на всю жизнь. Когда он вернулся в Клакбю, то первые полгода его увечье выглядело вполне достойно, а потом его прозвали Хромушей, вкладывая в это прозвище некоторую долю презрения.
Не дожидаясь окончания войны, Одуэн снял со стены портрет императора и Канробера, а чуть позднее повесил вместо них портреты Тьера, Мак-Магона, а потом Жюля Греви, Гамбетты и так далее. Однако изображение зеленой кобылы оставалось на месте. По воскресеньям, когда вся семья, сидя в столовой, ела кашу или жареную свинину, Жюль Одуэн поднимал взгляд на. зеленую кобылу и, склонив голову на плечо, сложив ладони, вздыхал:
— Иногда кажется, что она вот-вот заговорит.
И тут все, чтобы скрыть нахлынувшие чувства, пропускали по глотку арамонского.
Соображения кобылы
Нарисовавший меня художник был не кем иным, как знаменитым Мюрдуаром. Наряду со всеми преимуществами истинного гения он. обладал еще одним таившим в себе огромную силу секретом, над которым я не без некоторых колебаний предлагаю поразмыслить нынешним художникам. Не то чтобы у меня возникали опасения, что это принизит Мюрдуара: оставшиеся после него портреты, полные трепета жизни, и даже пейзажи, о которых можно сказать, что там, в ветвях, витает тень великого Пана, делают очевидным, что самые искусные приемы, сами по себе без художнического гения, ничего не значат. Однако снобизм нередко простирается слишком далеко и может быть, не стоит увлекаться столь дорогостоящим художественным средством. И да послужат эти мои слова своего рода предостережением.
Суть же такова: когда Мюрдуар добился впервые на лугу у Одуэнов благосклонности служанки, он собрал на палитру субстанцию своего наслаждения и затем с помощью кисти дотронулся ею до моих глаз, пробуждая их к той таинственной, получеловеческой жизни, о которой догадываются любовники, неврастеники и скупцы, вопросительно всматривающиеся в мутную глубь моего взгляда. Потом Мюрдуар, прихватив с собой в рожь палитру, снова подал знак служанке, и на этот раз его кисть усилила линии моих губ, добавила влаги моим ноздрям и придала движению моей шеи тот невыразимый словом особый изгиб, который воспринимается как стенание красок. Был еще и третий раз, но только тут в самом конце шалостей госпожа Одуэн застала Мюрдуара врасплох и велела ему незамедлительно покинуть ферму. Впоследствии я узнала, что несколько лет спустя бедняга скончался, должно быть истощенный своим уже достигшим внушительных размеров творчеством.
В тот момент, когда Одуэн вешал мой портрет у себя в столовой, гений художника трепетал в моих молочного цвета глазах и волнами дрожи сбегал вниз по моей зеленой масти. И я чувствовала, что нот сейчас рождаюсь, становлюсь частицей сознания яростно-томного мира, куда моя животная натура привносит исполненный духовности щедрый эротизм Мюрдуара. На внешнюю оболочку моей плоти легла печать мучительно похотливой человечности; позывы сладострастия вздымали в моем воображении тяжелые жгучие сны, обволакивали меня смятенными звуками приапей. Увы! Вскоре я поняла, что это за несчастье — пребывать в виде изображения заключенного в двухмерное пространство, поняла суетность своих желаний, лишенных надежды когда-либо обрести плотные формы реального мира.
Дабы приглушить мучительную остроту своих наваждений, я стала направлять их в иное русло, поставив на службу природной склонности к созерцательности, которой благоприятствовала моя неподвижность. Я старалась наблюдать за своими хозяевами и предаваться размышлениям о картинах интимной жизни, которые они позволяли мне лицезреть. Неизменно живое пламя моего воображения вкупе с горечью томлений, кои я не пыталась подавлять, а также двойственность моей натуры, одновременно человеческой и лошадиной, которой наделил меня художник, почти неизбежно должны были привлечь мою любознательность к любовной жизни Одуэнов. В то время как странствующий наблюдатель постигает в мире лишь гармонии больших чисел и тайны математических рядов, наблюдателю неподвижному дано подмечать черты самой жизни. Разумеется, в этих моих занятиях мне помогала та тонкая интуиция, за которую я не перестаю благодарить кисть Мюрдуара; тем не менее я не собираюсь говорить здесь что-либо такое, что не было бы мною лично увидено, услышано или осмыслено по свежим следам.
Перед моими глазами прошло четыре поколения Одуэнов: первое в зрелом возрасте, последнее в юном. На протяжении семидесяти лет я смотрела, как Одуэны занимаются любовью, как каждый из них привносит в это дело свой оригинальный темперамент, хотя большинство из них (я могла бы даже сказать, что все в той или иной мере) оставались верными как в поисках наслаждения, так и в его осуществлении некой разновидности катехизиса, который как бы предписывал им не только определенный ритуал, но и определенные сомнения, тревоги, предпочтения. Если бы я была склонна усматривать в этом всего лишь феномен наследственности, то попросту промолчала бы, потому что тогда речь здесь шла бы о тайне, далеко превосходящей мои кобыльи познания. Однако я убедилась, что у наших благолепных семей есть свои эротические традиции, которые они передают из поколения в поколение, словно какие-нибудь каноны житейской мудрости или кулинарные рецепты. Эти традиции не сводятся к мерам предосторожности и предписаниям гигиены; они диктуют и то, как нужно заниматься любовью, и то, как о ней надо говорить либо не говорить. Я не сообщаю здесь почти ничего такого, что не было бы известно всем. Эротическая жизнь столь тесно связана с домашними привычками, верованиями, интересами, что она всегда, даже при соперничестве личных инициатив, бывает обусловлена всем образом жизни семьи как таковой. Стало быть, представить себе во всех деталях сам механизм передачи не представляется возможным. Родители обучают детей тому или иному способу любви, — причем чаще всего даже не догадываясь об этом, — когда они разговаривают о дожде, о хорошей погоде, о политике, о ценах на яйца. Существует также и более прямой способ передачи, поскольку дети обладают удивительным талантом. улавливать произнесенные шепотом слова, замечать сделанные украдкой жесты, которые они потом повторят, точно истолковать скрытый смысл бесед.
У Одуэнов имелось немало такого рода традиций, как мистического, так и экономического порядка, разделяемых ими с крестьянами Клакбю. Например, Жюль Одуэн почти суеверно боялся женской наготы. Руки у него были посмелее, чем взгляд, и он на протяжении всей своей жизни пребывал в неведении, что у его жены верхнюю часть ляжки украшала родинка. Потемки, в которых он обретал непринужденность, отнюдь не означали, что он таким вот образом щадит целомудрие супруги. Подобная деликатность была ему совершенно несвойственна. Он не признавал жену ровней себе ни в работе, ни в утехах. Кстати, и нагота других женщин была для него столь же невыносима. Как-то раз вечером, когда служанка при свете свечи наводила порядок в столовой, вошедшим следом за ней Одуэном овладел хозяйский каприз. Пока он осуществлял свои мужские приготовления, служанка послушно задрала юбки, приоткрыв сколь было нужно обнаженное тело. Это зрелище заставило хозяина покраснеть, сила в его руках обратилась в немощь, он отвел взгляд в сторону и устремил его на портрет президента республики; Серьезная мина Жюля Греви, его упорный, настороженный взгляд вконец смутили Одуэна. Оказавшись во власти религиозного испуга перед лицом присутствия божества, каковым был для него президент, он задул свечу. Какое-то время он оставался неподвижным и притихшим, потом темнота вернула ему вдохновение: я услышала хриплое пыхтение старика и услужливо-прерывистое дыхание служанки. Это мистическое неприятие зрительных наслаждений, эта неосознанная и глубокая вера в то, что зрелище порока еще более мерзко, чем сам порок, встречались в Клакбю довольно часто, так как кюре держал свою паству в уверенности, что в чреве женщины божий гнев обнаруживает себя чаще, нежели где бы то ни было в другом месте; поэтому убеждение, что проникать туда следует не иначе как с закрытыми глазами, стало одним из догматов веры. Кюре понимал, что одна тайна влечет за собой другую и служит ей защитой. Я знаю среди последних отпрысков семейства Одуэн одного молодого человека, марксиста, нудиста, просвещенного фрейдиста (так называет себя он сам), и не могу удержаться от улыбки, когда слышу, как он заявляет о своем атеизме, поскольку уж мне-то известно, что он никогда не станет предаваться наслаждениям, не погасив света или не задернув шторы: за пределами нудистских лагерей, где женская нагота таинственно облекается покровом невинности, она предписывает ему держаться на таком же почтительном расстоянии, на каком держался его прадед из Клакбю. Вот животы публичных девок, вероятно, оттого, что они выглядят как бы даже и не совсем реальными, его не смущают; впрочем, общаясь с этими «терпимыми», он никогда не настаивает, чтобы они сняли сорочку.
Почти столь же ревностно, как о чистоте своего взора, заботился Жюль Одуэн о чистоте своих рук. Лаская жену, он никогда не оказывал ей руками тех знаков внимания, с помощью которых возгораются некоторые неподатливые либо несколько вялые натуры. Его прикосновения сводились к самому что ни на есть необходимому обследованию; ведь госпожа Одуэн не имела ни малейшего представления о личной гигиене и соглашалась пользоваться мылом чуть повыше подвязки не иначе как по случаю родов. Подобное пренебрежение к гигиене, тоже, кстати, явление не единичное, присущее всем женщинам Клакбю, вовсе не свидетельствовало об их нелюбви к воде и мылу, — случалось же госпоже Одуэн мыть ноги, причем с неизменным удовольствием, — оно было просто-напросто следствием своеобразной христианской благочестивости, которая поддерживалась в деревне авторитетом того, в чьем ведении находились такого рода запреты. Кюре, разумеется, не запрещал женщинам мыть то, что им заблагорассудится, но он ловко обходил эту проблему, то и дело призывая их к целомудрию и тщательнейшим образом избегая комментировать те места в Священном писании, где можно было бы усмотреть нечто похожее на похвалу омовениям. Он поступал так и в интересах прихода, и в интересах религии. Бесконечно преданный своей пастве, кюре Клакбю был человеком честным, грубым и почти несносным из-за своей настырности; он не стремился нравиться, был способен незаслуженно обидеть человека или даже зло подшутить над ним, дабы вернуть его на путь истинный; долг свой он выполнял с присущей ему суровостью и в то же время с умом, как тот крестьянин, что бросает зерно туда, где оно прорастает, и не пытается сеять там, где все равно вырос бы один только чертополох. Зная, что биде или спринцовка по своей подрывной силе превосходят антиклерикальный банкет в Страстную пятницу, он, как мог, уберегал от них своих овечек.
По правде говоря, благочестивость госпожи Одуэн издавала несколько резковатый запах, который иногда смущал ее супруга. Не то чтобы он мешал ому, скорее, даже наоборот; однако он укреплял его и мысли, что удовольствие, получаемое женщиной, достойно скорее презрения и что заботиться о нем нет никакого смысла. Поэтому дело свое он делал быстро: жена еще только едва-едва начинала возбуждаться, а он уже модулировал свою радость. Госпожа Одуэн утешалась как могла собственными средствами, отчего испытывала массу угрызений совести, так как понимала, что главный-то грех таится прежде всего в тяжком старании получить удовольствие. Иногда она пыталась возбудиться загодя, возлагая руку на своего господина, но тот всегда недовольно отстранялся: испытываемая им при этом щекотка ничего не прибавляла к его порыву, а сама по себе подобная инициатива казалась ему посягательством на принцип мужской власти. Он утверждал, что может обойтись в этом деле без чьей-либо посторонней помощи. Когда он разжимал свои объятия, то ему случалось иногда по неосторожности засовывать руку под зад своей жены, и в такие моменты им почти всегда овладевал приступ веселья, настраивавший его на шутливый лад. Он не обнаруживал в этих округлостях ягодиц никаких признаков женственности, видя в них некую нейтральную зону, а веселила его воображаемая картина, как они натягиваются на ночном горшке. Это была единственная часть женского тела, вид которой казался ему забавным и даже приятным. Кстати, кюре Клакбю к шуткам на эту тему относился терпимо и порой снисходил до улыбки. Он не усматривал здесь никакой серьезной опасности и вместе с церковью принимал утверждение французского гения, что в этом мясистом местечке дьявол не живет.
Любовным играм в занятиях четы Одуэн отводилось совсем мало времени. Супруги о них никогда не говорили ни для того, чтобы сообщить друг другу о своем внезапном капризе, ни для того, чтобы прокомментировать какой-нибудь удачный момент наслаждения. Когда в виде исключительного нарушения правил Одуэну случалось приласкать жену днем, то потом они пребывали в некотором смущении, как будто совершили некое дурное деяние. Они по просто осуждали себя за то, что отняли эти мгновения у работы; произошедшее казалось им столь же противным здравому смыслу, как, например, если бы кто-нибудь из них взял да и отправился среди бела дня на шабаш. Гораздо больше интереса проявляли они к любовным шалостям других и охотно обсуждали их, не стесняясь в выборе слов. Подобная непринужденность объяснялась тем, что тут они чувствовали себя в роли цензоров. Одуэн, осознавший, что он выступает в роли защитника благонравия, не без воодушевления обличал порок, называя вещи своими именами.
Чета Одуэнов предавалась любовным утехам нечасто. Супруге была запрещена какая бы то ни была инициатива в этой области, во всяком случае в постели. Одуэну, человеку в любом другом деле склонному к порядку, никогда и в голову не приходило сделать их близость сколько-нибудь регулярной. Получалось так, что он то предавался наслаждению еженощно на протяжении целой недели, а то вдруг несколько недель кряду воздерживался от интимных отношений. Он соблюдал, в зависимости от тех или иных текущих трудов, определенную экономию наслаждения. Когда приходилось заниматься тяжелой работой, требовавшей усилий, он либо воздерживался, либо был в любви менее усерден. И не то чтобы резвость его убывала от усталости или от избытка умственного напряжения, просто он считал, что целомудрие является условием успеха в жизни. Именно поэтому служанку он стал ласкать более пылко лишь в последние годы, заметно постарев, после того как сколотил солидный капиталец; и тем вольнее предавался он этой любви, что казалась она ему совершенно незначительной и не заслуживающей никакого порицания. Впрочем, и тогда, когда им овладел этот приступ запоздалого распутства, он еще помнил цену умеренности, и мне частенько приходилось слышать, как он говорит своему сыну Фердинану: «Пока не обзаведешься надежной клиентурой и академическими степенями, я тебе советую этим делом не злоупотреблять». Ветеринар внял отцовскому наставлению и, хотя не усвоил отличавших старого Одуэна изворотливости и чувства рациональности в экономии потенции, все же научился придерживаться некоторых строгих правил. Но уже сыновья ветеринара сильно от них отличались, а что касается последних Одуэнов, то тут можно сказать, что они тратят себя, повинуясь лишь собственной фантазии и решительно отделяя удовольствие от работы. Так я воочию увидела, как за три поколения растаял капитал воздержания, который был завещай им предком в качестве своеобразного ключа к преуспеянию. Сегодня оказалось, что потомки уже давным-давно перестали покупать государственные ценные бумаги. Вместо того чтобы копить деньги, они глупейшим образом растрачивают их с женщинами. Вот что получается, когда люди перестают соизмерять свои капризы с потребностями работы.
Для наблюдателя, осужденного на неподвижность и бездействие, нет ничего более приятного, чем зрелище жизненных противоречий. Я видела, как Жюль Одуэн, ставший на склоне лет антиклерикалом и радикалом, посвящал своих сыновей в тайну, которую он узнал, может быть сам того не ведая, от клакбюского кюре. Ведь не проходило же, можно сказать, ни одного воскресенья, чтобы кюре не обличал с амвона причинно-следственную связь между сластолюбием и бедностью, давая понять, что Бог увеличивает благосостояние тех мужчин, которые отказываются ласкать своих жен.
II
Едва разделавшись со всеми издержками по водворению своего сына Фердинана в Сен-Маржлон, Одуэн стал поторапливать его с выбором жены. Отцу хотелось, чтобы у нее были городские манеры, честолюбие и приданое. Фердинан не был красавцем: его брат, капрал Альфонс, глядя на сухой профиль, ярко-розовую кожу и галошеобразный подбородок Фердинана, был не в силах сдержать своего отвращения и называл его «задокопателем». Но зато молодой ветеринар обладал другими, более надежными достоинствами: он был трудолюбив, бережлив, аккуратен, набожен, прекрасно выглядел на похоронах, и в городе все разделяли мнение, что у него весьма приличная внешность. Когда Фердинан шел в конце процессии с фунтовой свечой в руке, многие мамаши провожали его взволнованным взглядом. Кроме того; он отличался проворством в своем ремесле: папаша Одуэн, впервые увидев, как его малыш голыми окровавленными руками извлекает теленка, застрявшего в материнском лоне, от восторга не смог сдержать слез.
— Теперь, когда я увидел это, — сказал он, — я спокоен, теперь мне можно уходить.
Ко всем своим прекрасным качествам Фердинан присовокуплял еще коммерческое чутье, и уже очень скоро у него появилась многочисленная клиентура. В те времена еще нередко-бывали случаи, когда добродетель вознаграждалась. На Фердинана обратили внимание Брошары, родители Элен, которая была единственным ребенком в семье. Брошары, отойдя от дел, размышляли над тем, как бы им получше выдать свою дочь замуж. Госпожа Брошар попыталась было противиться. Она тешила себя надеждой, что Элен выйдет замуж за адвоката, нотариуса или за кавалерийского офицера, поскольку образование она получила у барышень Эрмлин, которые держали в городе имевший хорошую репутацию пансион. Ветеринар сумел дать понять, что его учеба стоила нисколько не меньше любой другой учебы, и господин Брошар оказал ему твердую поддержку. Элен была довольно красивой девушкой, крепкой, серьезной и нежной; в ее юном теле скопилось слишком много нетерпения, чтобы она стала выражать сомнения в связи с выбором родителей. В первые годы после бракосочетания у них родилось трое детей: старший сын Фредерик, младший Антуан и девочка Люсьена. Ветеринар счел, что этого достаточно, и сумел на этом остановиться.
Методично трудясь, Фердинан приращивал клиентуру и одновременно укреплял свою репутацию добродетельного человека. Он жертвовал пятнадцать франков в год больнице и столько же — приюту. Его дом содержался в порядке и был не более и не менее гостеприимным, чем того требуют приличия. В любое время года он носил визитку и черную шляпу, воплощавшую компромисс между котелком и цилиндром. Он стал в городе важным человеком и без шума вошел в муниципальный совет. Ветеринар был не лишен некоторого политического честолюбия. Внутренне он ощущал себя монархистом и, оставаясь таковым на протяжении двух послевоенных лет, не испытывал ни малейшего желания выглядеть оппозиционером. С другой стороны, он полагал, что следует использовать влияние, которое удалось обрести в округе его отцу. Скрепя сердце он несколько приглушил опою любовь к мессам и сделался умеренным республиканцем. Получив место муниципального советника, он продолжил свою эволюцию в фарватере политической судьбы сен-маржлонского депутата Вальтье. Вместе они превратились в гамбеттистов, а потом, когда в городе обосновалась крупная фабрика, решили, что хотя интересы населения изменились, своей заботы лишать его не следует, и оба дружно пошли в радикалы. Во всех добропорядочных клерикальных семействах ветеринара проклинали, и сен-маржлонский кюре поминал его фамилию не иначе как с ужасом. Горький осадок от происшедшего остался в его душе на всю жизнь, и когда Фердинан оказывался на предвыборном собрании или на банкете, где обличалось коварство священников, то в те самые мгновения, когда он с превеликой решимостью хлопал оратору, сердце его тоскливо сжималось. Тем не менее Фердинану Одуэну удавалось всегда устраиваться таким образом, чтобы вести политическую борьбу в согласии со своей совестью; он считал, что такой мудрый и просвещенный человек, как он, должен быть в гуще событий, и, дабы приглушить чувство стыда за свое поведение, говорил себе, что, вопреки своим симпатиям, вынужден делать такой выбор, какой ему предписывает долг; кстати, в качестве компенсации за это он получил важную должность в муниципалитете, равно как и «академические пальмы» за важный вклад в науку.
Старый Одуэн относился с почтительным восхищением к своему сыну, которым у него были все основания гордиться, хотя одно время религиозные рвения Фердинана внушали ему изрядные опасения. В семье Малоре не было никого, кто мог бы гордиться столь же удачно сложившейся судьбой, включая даже двух незаконных сыновей Тины Малоре, старой шельмы, которая до пятидесяти с лишним лет вела разгульную жизнь, а потом сумела-таки заставить включить себя в завещание одного бывшего судебного исполнителя. Встречая старика Малоре, Одуэн коварным голосом говорил ему:
— Я был так опечален, когда узнал, что твоего племянника опять не взяли на почту. Что за сучья жизнь: ведь твоей сестре стоило стольких трудов воспитать их…
Он произносил все это таким невинным тоном, словно и не догадывался о том буквальном смысле, который обретали его слова. Малоре готов был его съесть. А Одуэн тут же сообщал про своего сына Фердинана:
— У него сейчас прекрасное положение; очень я все-таки доволен своим парнем.
О двух других своих сыновьях Одуэн говорил менее охотно. Правда, поскольку Альфонс и Оноре жили в Клакбю, говорить о них не было никакой надобности. Отец не ладил ни с тем, ни с другим. На какое-нибудь замечание бывший капрал совершенно некстати отвечал ему, что позволил продырявить себя вовсе не для того, чтобы его распекали как мальчишку, ну а старик считал, что между его справедливыми упреками и негнущейся ногой сына нет никакой связи. Рана сама по себе, конечно, была овеяна ореолом славы, и Жюль Одуэн никогда не упускал случая похвалиться ею на политическом банкете, но она никак не могла служить оправданием ни для лени Альфонса, ни для его пристрастия к вину.
Что же касается Оноре, то отец неукоснительно раз в неделю проклинал его, что сопровождалось громогласными ругательствами как с той, так и с другой стороны. При этом Оноре не был ни лентяем, ни бунтарем, как не был он и человеком равнодушным, а был, напротив, хорошим сыном, хорошим отцом и хорошим супругом; однако уже само его присутствие в Клакбю оказывалось чем-то вроде постоянно нависающей над интересами дома опасности; он безмятежно, как бы даже не думая об этом, уклонялся от соблюдения всех тех обычаев и выполнения всех тех мелких ухищрений, которые способствовали укреплению влияния его отца в Клакбю. Например, ему ничего не стоило в самый день муниципальных выборов упрекнуть в нечистоплотности выборщика, чей голос был необходим отцу как никакой другой, и все только потому, что тот и в самом деле не отличался чистоплотностью; или же когда в семье опрашивали его мнение по поводу того или иного проекта, он мог назвать его нечестным, хотя было бы разумнее и приличнее отметить его хитроумность, потому что решение семьи всегда достойно уважения.
— Понимаешь, — говорил старик, — нужно, чтобы у тебя были хорошие отношения с Русселье. Он республиканец, и вообще из наших.
— Да, но при этом он еще и последний негодяй.
— Негодяй или не негодяй, но ведь он же голосует.
Истощив все аргументы, отец принимался обвинять сноху в том, что она настраивает против него его собственного сына; он так и не смог простить Аделаиде ни того, что она пришла в их дом без единого су, ни ее костистую худобу, отсутствие тяжелых грудей и широких ягодиц, которые обычно служат предметом семейной гордости. Когда спор доходил до этой точки, отцовское проклятие уже витало в воздухе, а Оноре в ответ клялся, что завтра же покинет халупу. Он бы и осуществил свою угрозу, если бы старик не начал первый делать шаги к примирению; Одуэна ужасало возникавшее перед ним зрелище бредущих по дорогам страны Оноре и Аделаиды, впряженных в повозку тряпичника и подгоняющих впереди себя трех или четырех детей. Госпожа Одуэн, пока была жива, оказывала на всех в доме успокаивающее воздействие. Она умерла через три года после заключения мира, умерла от какой-то таинственной, овладевшей ею вялости, причину которой врачи так и не сумели определить.
Овдовев, старый Одуэн стал снисходительнее к двум старшим сыновьям; Особенно он полюбил свою внучку Жюльетту, вторую из пяти детей Оноре, отчего и сноха тоже стала: казаться ему более приятной.
За несколько месяцев до смерти старик сообщил детям, как он намерен распорядиться своим наследством. Из всего состояния он изымал сумму в десять тысяч франков и оставлял их на приданое внучке Жюльетте, которым она могла распоряжаться по собственному усмотрению сразу же, как только выйдет замуж. Остальное делилось на три части и распределялось между сыновьями; однако, хотя завещание и выглядело справедливым, оно тем не менее было не лишено некоего продуманного коварства. Считая, что деньги промотать легче, чем имение, он распорядился выдать Альфонсу его часть наличными, подлежащими немедленному употреблению: он предполагал, что старший сын быстро разорится, и не желал, чтобы земля Одуэнов сразу же перешла в чужие руки. Это означало отдать бывшего капрала во власть опасных искушений звонкой монетой, чему тот, кстати, весьма обрадовался. Оноре получал ферму с прилегающими к ней лугами и капитал для торговли лошадьми. Часть Фердинана состояла из лугов, полей и леса.
Когда ветеринар стал возражать и говорить, что его обделили, поскольку приданое Жюльетты ставило в более выгодное положение семью Оноре, отец ему ответил:
— Ничего не поделаешь, но то, что ты дерешь глотку, это все-таки хорошо. Нужно всегда стараться иметь больше, чем тебе причитается. Я не хочу, чтобы получилось так, будто своими жалобами ты ничего не добился, и поэтому прямо сегодня отдаю тебе зеленую кобылу. Пусть висит у тебя в гостиной.
Фердинан принял картину с благоговением, вставил ее в красивую черную раму и повесил в гостиной над роялем, на самом почетном месте. Неосведомленные посетители принимали ее за вывеску ветеринарной лечебницы, но люди, знавшие всю эту историю, смотрели на картину с почтительностью.
Как-то раз днем никогда раньше не болевший папаша Одуэн слег и через неделю умер. Похоронили его рядом с женой, а Фердинан заказал им обоим прекрасные надгробные камни из черного мрамора, такие, каких в Клакбю сроду никто не видывал. То-то обидно было в их вечной ночи бедным покойникам, которые лежали под своими маленькими земляными кочками.
А вскоре появились первые доказательства того, что зеленая кобыла служит талисманом. Фердинан получил большой почетный диплом и бронзовую медаль, его назначили заместителем сен-маржлонского мэра, он купил лотерейный билет и выиграл по нему десять тысяч франков, а еще немного позднее стал генеральным советником. Поговаривали, что богатства у него на целых двести тысяч франков. И наконец, лет в сорок ветеринару вновь довелось испытать необыкновенную радость: благодаря обретенному им политическому влиянию он добился места муниципального дворника для своего однокашника, который когда-то прозвал его Луковой Задницей.
А тем временем у двух его братьев отцовское наследство вскоре уже дышало на ладан. Оноре знал все тонкости ремесла барышника, но при этом, несмотря на пример своего отца, так и не решился с помощью краски изменять облик лошадей или скрывать их мелкие недостатки. Он испытывал к животным искренние дружеские чувства, и потому, случалось, упускал момент, когда мог выгодно продать лошадь, ради одного только удовольствия не расставаться с ней еще неделю, или же продавал лошадь но той же цене, по какой купил, просто чтобы не огорчить друга. Но самая главная его беда состояла в том, что он одалживал деньги всем без разбора. Его барышнические дела быстро хирели, и он расстался с ними без малейшего сожаления, чтобы снова стать простым земледельцем. А поскольку он успел влезть в долги, то оказался в конце концов в бедственном положении. Ветеринар несколько раз давал ему внаймы, а потом, «чтобы внести ясность в дела», купил у него по низкой цене отцовский дом и поля. Правда, Оноре продолжал ими пользоваться, но за это снабжал брата фасолью, картофелем, овощами, фруктами и соленой свининой.
Альфонс заслужил обрушившиеся на дом несчастья еще больше, чем его брат-барышник. Негнущаяся нога не позволяла ему работать в поле, но он мог бы торговать в лавке сукном или, например, бакалеей, мог бы на худой конец прожить и на доход со своего капитала. Однако вместо этого он накачивался первосортным вином, на тридцать су в день выкуривал сигар, и его стол был круглый год уставлен отборными яствами. Мало того что он устраивал оргии в доме, он еще отправлялся в город и пропадал там иногда по нескольку дней, слоняясь по всем тамошним злачным местам в компании забулдыг и потаскух. Когда его капитал был наполовину истрачен, он женился на одной девице, у которой были красивые ноги, но не было удержу в ее желаниях, и ей не составило труда промотать оставшееся имущество, как движимое, так и недвижимое. Ветеринар, имевший все основания для возмущения, помогать брату не стал. Фердинан постоянно испытывал стыд при виде почти всегда хмельного бывшего капрала, который появлялся в салоне зеленой кобылы и держал там удручавшие гостей речи (однажды он даже спел «Интернационал»). Правда, когда разорение уже свершилось, ветеринар оказался достаточно добр, чтобы купить чете билеты на поезд до Лиона, где Альфонс решил поселиться.
Стало быть, злосчастные судьбы двух старших братьев свидетельствовали о том, что зеленая кобыла обладает некой защитной силой. Она была благосклонным божеством, хранительницей жизненных принципов и спасительных традиций, она наделяла богатством и почестями тех Одуэнов, которые обладали доброй волей и осмотрительностью, Одуэнов трудолюбивых, последовательных и разумно помещавших свои деньги.
В дни семейных собраний в гостиной ветеринар, знавший, что со счетами у него все в порядке, ощущал нечто вроде счастливого опьянения от правильности своей жизни.
Окидывая взглядом пройденный после переезда в Сен-Маржлон путь, скромный от природы Фердинан забывал о том, сколько ему пришлось потрудиться, о своих хитроумных комбинациях, и ему казалось, что он только и делал, что снимал сочные плоды с мистического дерева, растущего прямо из внутренностей зеленой кобылы. Тут для трех юных Одуэнов наступал момент услышать историю про сказочное животное, которое потрясло одного императора. Фредерик, готовый слушать ее без устали, с бьющимся сердцем следил за рассказом, подсказывал забытые ветеринаром подробности или благоговейно украшал повествование одной-двумя деталями от себя. Люсьена старалась скрыть зевоту и вскрикивала от удивления в нужных местах. Что же касается Антуана, самого юного, то по его недоброй иронической улыбке можно было сразу заключить, что ничего из него в жизни не получится.
Госпожа Одуэн терпеть не могла все эти истории про кобылу; она считала, хотя и не осмеливалась об этом сказать, что ветеринар забивает детям голову чепухой. Это была нежная, любящая мать, всегда находившаяся в состоянии скрытого бунта против сурового обращения отца с детьми. Со времени своего недолгого пребывания в пансионе барышень Эрмлин она сохранила живую любовь к музыке и позами. Она все еще помнила наизусть стихотворения Казимира Делавиня. Тайком от своего супруга читала их детям, чтобы и они тоже полюбили чистейших романтических поэтов, которых она заново открывала для себя вместе с ними. Гостиная наполнялась витыми узорами жалобных стихов, и бывали дни, когда плакали все, за исключением Люсьены, которая не видела для слез ни малейших причин. Люсьена была ребенком послушным, с довольно миловидным личиком, так что были все основания полагать, что со временем она удачно выйдет замуж, но поэты ее не интересовали. Она заботилась прежде всего о том, чтобы не пачкать свои платья и выполнять все, что от нее требуют учителя и родители. Такая вот она была славненькая маленькая девочка.
Мальчики же любили поэтические чтения матери, особенно Антуан, который знал наизусть по меньшей мере тысячу стихотворений и был рад досадить ветеринару хоть таким образом. Мальчишка питал к своему отцу вполне определенную ненависть. В коллеже он всегда старался быть в числе самых неуспевающих, дабы доставить как можно больше неприятностей господину Одуэну. Всякий раз, когда в конце недели он давал на подпись родителям свой дневник, отец грозился загнать его в пансион. Матери приходилось улаживать все эти дела, что было нелегко, поскольку в ответ на отцовские угрозы Антуан постоянно дерзил. Так что он не только был шалопаем, лодырем и нарушителем дисциплины, но еще и ниспровергателем законов сыновней почтительности.
— Флибустьер и лоботряс, — говорил о нем господин Одуэн. — Он напоминает мне его дядю Альфонса.
Все свои великие надежды отец возлагал на старшего сына. Фредерик неизменно был первым в классе. Он не унаследовал от ветеринара его дурной внешности, и товарищи любили его за дружелюбный характер. Когда ему грозило наказание, то, в отличие от младшего брата Антуана, принимавшего кару с молчаливой угрюмостью, он умело находил нужные слова, чтобы смягчить свою вину. Так что Фредерику, похоже, предстояло с достоинством воплощать счастливую судьбу Одуэнов или, как уже подсказывал, усмехаясь, Антуан, предстояло увековечивать зеленую ветвь Одуэнов.
— За этого мне нечего беспокоиться, — говорил ветеринар. — У него все будет в порядке.
И действительно, все складывалось, как он предсказывал. Фредерику суждено было преуспеть; только однажды, когда ему шел пятнадцатый год, возник повод для небольшой тревоги. Бедный мальчик влюбился в девочку, которая погибла в железнодорожной катастрофе. Ему показалось, что сердце его навсегда разбито, и захотел рассказать об этом в стихах. Поскольку рифмы сопротивлялись, он решил испытать себя в другой области и подумал, что будет не хуже, если он уйдет в монастырь. Он станет монахом-проповедником. Фредерик уже видел себя облаченным в грубую монашескую рясу и подпоясанным бьющей по ногам веревкой. Когда он поведал о своих планах семье, ветеринар недолго думая сказал:
— Ты не получишь десерта до тех пор, пока не переменишь своего решения.
Столь жалкое препятствие было оскорбительным для решения Фредерика. Стойко продержавшись в течение двух месяцев и раздав нищим пять су из тех карманных денег, что каждую неделю выделял ему отец, мальчик в конце концов согласился с доводами матери, предложившей ему сделать светскую карьеру.
В доме Фердинана Одуэна царила невыносимая тоска. Установленный ветеринаром строгий режим, возникшие разочарования в супружеских отношениях, а затем и апатия жены, недовольное выражение лица Люсьены и отсутствие согласия мальчиков создавали в доме атмосферу недоверия и злобы. Фредерик и Антуан любили друг друга как братья, но не больше. Братские узы не мешали возникновению взаимной неприязни и вспышек гнева, но облегчали пути к примирению.
По воскресеньям, когда из-за плохой погоды нельзя было выйти из дома, мрачная атмосфера сгущались еще больше.
Госпожа Одуэн и дети невыносимо страдали от скуки, а ветеринар, проверяя счета, одновременно скрупулезно следил за выполнением школьных заданий. Антуан молился, чтобы отец на неделе умер, и от этого ему делалось немного легче.
В ясную погоду они, как правило, отправлялись пронести воскресенье в Клакбю. Фердинан заклады-нал свое ландо и вез всю семью к дяде Оноре. Дети хорошо ладили со своими кузенами, по-настоящему отдыхали, а госпожа Одуэн не без удовольствия наблюдала, как бесцеремонно обращается Оноре с ее мужем.
Ветеринар и его брат не то чтобы ненавидели друг друга; между ними существовало даже нечто ироде искренней приязни, и какое бы горе или радость не случались у одного, другой не оставался равнодушным. Их не разделяло никакое соперничество, потому что Оноре был начисто лишен честолюбив. Каждый из них презирал другого, причем Фердинан в их ссорах всегда терпел поражение: причины, питавшие его презрение, были не из тех, в которых признаются. «Я нахожу, что тебе немного не хватает дипломатии», — говорил ветеринар, желая упрекнуть Оноре в его прямолинейности, тогда как тот, уличая в чем-либо своего брата, мог без обиняков крикнуть ему: «Ты лжешь как сивый мерин». И вот такое соотношение в разговоре было почти постоянным. Оба они слыли рьяными республиканцами, антиклерикалами и даже безбожниками. Для Оноре такая позиция не имела ничего умозрительного: став республиканцем еще во времена Империи, он оставался таковым и потом, причем сумел сохранить прежний пыл, так как ему казалось, что Республика все еще нуждается в защите; он был антиклерикалом, чтобы давать отпор сохранившему свою бесцеремонную власть кюре, а безбожником — потому что перспектива вечной жизни внушала ему отвращение. Фердинан же, методично предавая идолов огню, втайне продолжал им поклоняться, и рвение брата, умеренное, но искреннее, поминутно ранило его. Однако, к сожалению, не было ни малейшей возможности дать ему понять это, не опровергая самого себя, и в результате, когда Оноре бросал ему: «Я же говорю тебе, в глубине души ты так и остался при попах», ветеринар вынужден был защищаться изо всех сил.
Единственное утешение Фердинан испытывал при мысли, что фортуна улыбнулась каждому в меру его достоинств и что к нему она отнеслась гораздо благосклоннее, чем к его брату Оноре. Впрочем, тот подобное мнение оспорил бы, потому что обладал удивительной способностью быть счастливым и не верил, что существует более завидная судьба, чем его собственная; лишь одна-единственная тень омрачала его жизнь, то было воспоминание, давнее, но по-прежнему острое и не смягчаемое временем, воспоминание об одном унижении. Оноре поначалу не смог отомстить за него и постепенно совсем было смирился с этой кровоточащей душевной раной, но вот однажды, повинуясь капризу случая, политическая деятельность ветеринара возвратила былое к жизни, дав ему новое развитие. Все началось в один солнечный день, когда Оноре косил пшеницу на равнине между Рекарским лесом и дорогой, пересекающей Клакбю в самой длинной ее части.
III
Выйдя на дорогу, отделяющую Горелое Поле от его дома, Оноре положил косу на скошенную пшеницу и выпрямился под палящими лучами солнца во весь свой высокий рост. От пота рубашка прилипла к спине и вокруг подмышек образовались широкие неровные пятна. Оноре приподнял над головой тростниковую шляпу и тыльной стороной ладони вытер проступившие на коротко подстриженных седеющих волосах капельки пота. Взглянув налево, он заметил, как из своего дома, который стоял самым последним в деревне, рядом с дорогой, в том месте, где равнина сужалась между рекой и выступом леса, вышел почтальон.
«Деода собрался в путь, — подумал он. — Значит, вот-вот будет четыре».
Оноре захотелось попить чего-нибудь холодненького, и он перешел через дорогу. Он услышал, как за зарытыми ставнями жена щеткой из пырея натирает на кухне пол. Комната показалась ему прохладной, как погреб. Он замер на мгновение, наслаждаясь прохладой и полумраком, где глаза отдыхали от яркого света. Снял башмаки, чтобы босые ноги остыли на голом полу. Из глубины кухни послышался негромкий, металлический, немного запыхавшийся голос.
— Все там на столе, — сказала Аделаида. — Рядом с буханкой увидишь две очищенные головки лука. Бутылку я поставила охладиться в воду.
— Хорошо, — сказал он. — Только что это ты все драишь кухню? Можно подумать, что в доме нет более срочных дел.
— Это уж точно, есть и более срочные, но только если вдруг завтра приедет Фердинан с женой и детьми…
— Не пойдет же он смотреть, какой у тебя на кухне пол, что ты тут мне еще рассказываешь?
— Как бы то ни было, но он любит, чтобы его дом был чистым…
— Понятно, его дом… его дом…
— Ты-то, конечно, думаешь, что живешь по-прежнему в своем доме.
Оноре чуть было не ввязался в ссору, в которую от скуки пыталась втравить его Аделаида, но тут же решил, что нет ничего приятнее, как выпить чего-нибудь холодненького. На ощупь нашел ведро с холодной водой, Окунул туда по локоть руку, плеснул модой себе в лицо. Потом прильнул до потери дыхания к бутылке. Он утолил жажду, после чего уже более неторопливо оценил качество напитка, смеси терпкого вина и настоя на листьях, оставившей у него в ноздрях ощущение какого-то неприятного отвара.
— Вот уж точно можно не опасаться, что напьюсь этим допьяна, — сказал он с некоторой обидой в голосе.
На что Аделаида заметила ему, что литр вина стоит семь су и что содержимое бочки нужно растянуть до нового урожая винограда. Она добавила также, что все мужики одинаковые. Только и думают о своих глотках.
Укрывшись за стену терпеливого молчания, Оноре отрезал ломоть от буханки черствого хлеба, сел на подоконник и принялся за луковицу. Жена спросила подобревшим голосом:
— Много еще осталось?
— Не очень, часам к семи собираюсь закончить. Не хочу хвалиться, но время для жатвы я выбрал самое подходящее. Колос налитой, зрелый, а стебель еще нежный. Так легко косится пшеница, мягкая, прямо не пшеница, а девичий волосок.
Между супругами снова воцарилось молчание. Откусывая кусок хлеба, Оноре размышлял:
— Косится-то легко, но при том, сколько в конце концов прибыли будет, разве скажешь, что так уж легко?
Ему пришла в голову мысль, что поскольку без хлеба не прожить, то жать его все равно нужно. И как бы дешево он ни продал излишек, который останется после всех расходов, это какая-никакая, а все-таки прибыль. И труд, который затрачиваешь, работая на солнце, в счет не идет, потому что от него получаешь удовольствие. Стоило Оноре вспомнить, как в первый год после свадьбы ему приходилось работать по четырнадцать часов в день за каких-нибудь двадцать су, как он делал вывод, что теперь все складывается как нельзя лучше. Вскоре эти мысли уступили место блаженной лени, похожей на забытье, наступившее в этой защищенной от солнца и трудов комнате, где время замедляло свой бег, где было не слышно никаких шумов, кроме жужжания осы, пытающейся найти выход к теплу, да еще жидкого и нежного хлюпанья мокрых половых тряпок, которые Аделаида выкручивала над лоханью с грязной водой.
Оноре сидел между двумя створками распахнутого окна, прижавшись спиной к ставням, и медленно ел, стараясь оттянуть возвращение в поле. Его глаза привыкли к полутьме кухни, и теперь различали в глубине комнаты плотную фигуру Аделаиды. Повернувшись к нему спиной, она упиралась коленями в пол, и ее высоко поднятые бедра заслоняли собой утонувшую в плечах голову. Широкая, прихваченная под коленями черная юбка раздувала ее силуэт, обретавший в темноте некую объемность.
Оноре удивился такому размаху бедер, который бросился ему в глаза впервые, так как прежде он частенько сетовал на худобу жены.
Черная юбка медленно шевелилась, и от неясных ее колыханий в глубине кухни покачивались густые тони. Следуя за ней неотступным взглядом, Оноре пытался получить точное представление о формах, Контуры которых были в темноте едва различимы. Его всколыхнуло, будто от нечаянной подмены жены. Аделаида снова взялась за пырейную щетку; когда она повела ею, натирая пол, то руки ее расслабились, а бедра сначала устремились вперед, но тут же налились от быстрого и размашистого движения в противоположную сторону и округлились над пятками. Оноре не верил своим глазам. Вытянув шею, он следил за черной юбкой, выходившей из тени в такт ритмичному покачиванию, направленному то в одну, то в другую сторону. Он услышал вздох лета за ставнями; жужжание осы звучало как настойчивый мотив. Прохладная кухня, где полумрак нагнетал тяжеловесную таинственность, казалось, превратилась и нал ожиданий, и любой, даже самый слабый шум пощипывал его плоть. У него появилось почти то же самое ощущение, которое он испытывал на Птичьей улице, 17, в Сен-Маржлоне (где бывал два-три раза и году, когда занимался барышничеством) при виде целого роя надушенных девиц, предупредительно выставляющих вперед розовые бюсты и празднично сияющие ляжки. Была там одна такая, крупная, с округлостями, выпирающими во все стороны; гусары, забавляясь, шлепали ее по заду… Оноре отчетливо увидел девицу перед собой: ее образ вдруг ожил в глубине кухни. Потом он уступил место другому — образу одной местной женщины. Оноре, ведомый поскрипыванием жесткой щетки, которая задавала ритм танцу черной юбки, слез с подоконника. От застенчивости, которая в общем-то была ему несвойственна, он сделался неловким. Он дотронулся рукой сначала только до ткани.
Аделаида, удивленная, повернула к нему свое худое, усталое лицо, осветившееся улыбкой. Казалось, что еще больше, чем жена, удивился он сам, словно никак не ожидал увидеть это так хорошо знакомое лицо. Он пробормотал какие-то невнятные слова, и получил нежный ответ Аделаиды. Все еще смущаясь, он поколебался немного, а потом схватил ее обеими руками. И тут же понял, что загорелся от призрачного видения — от него в объятиях под плотной тканью остались лишь две изможденные ягодицы с весьма жалкими формами. Тогда, отступая, он сделал шаг в сторону окна и, пожав плечами, вздохнул тихонько, но так, что жена все же расслышала:
— Начинаешь всегда воображать себе неведомо что.
Аделаиде, тоже разочарованной, не хотелось выглядеть потерпевшей поражение, и она попыталась возродить прелести, растаявшие в руках ее супруга.
Танец юбки с паузами, замедлениями и вздрагиваниями возобновился. Одуэн раздраженно приоткрыл ставни. Солнечная лента влетела в кухню и расцветила золотом складки черной юбки. Он засмеялся и снова прикрыл ставни. Жена, почувствовав себя униженной, спросила его пронзительным голосом:
— Что тебя сейчас забрало? Чего ты хотел?
— Я и сам себя спрашиваю, — ответил он с легким оттенком обиды в голосе.
Аделаида, раздосадованная, поднялась с пола и приблизилась к нему, стоящему в проеме окна.
— А! Ты сам себя спрашиваешь?
— Да нет, я ничего не спрашиваю.
— А я сейчас тебе скажу…
— Ладно, у меня нет времени слушать тебя…
— Женщины тебе нужны, вот что…
— Ну вот, начинаешь придумывать.
— Да, причем толстые, пышущие, так ведь?
Она схватила его за плечи, он встрепенулся и ответил нетерпеливо:
— Почему толстые? Обхожусь тем, что имею…
— Но все-таки предпочел бы толстых, и вот тебе доказательство!
— Оставь меня в покое со своими доказательствами. Я все делаю тогда, когда нужно делать, вот и все. Это только богачи занимаются любовью среди бела дня.
— Что ж, мне не так повезло, как многим другим женщинам.
— Тебе бы только все жаловаться да жаловаться.
— Конечно, легко иметь все что нужно за пазухой, когда ты при ветеринаре, который зарабатывает столько, что можешь совершенно ничего не делать, да при этом брошек хоть на спину вешай, и шляпок, и ботиночек!
— Ну не от этого же ты вдруг расцветешь, — заметил Оноре. — Не пойдешь же ты вся разодетая в шелка…
— В шелка? — усмехнулась Аделаида. — Вот уж что мне никак не грозит. С человеком, который не сумел справиться с ремеслом барышника, хотя бы сохранить оставленный ему отцом дом, было бы глупо мечтать о шелках… Если твой брат выгонит нас из дому, то самое большее, на что можно рассчитывать, — это подохнуть в какой-нибудь канаве…
— В солнечную погоду это нисколько не хуже, чем подохнуть в постели.
— Конечно, тебе все нипочем, лишь бы я отправилась на тот свет первой.
— Ну вот!
— Ты только того и ждешь…
— Могу пообещать, что закрою тебе глаза, а потом хорошенько подвяжу тебе подбородок, чтобы ты уж наверняка закрыла свой рот!
— Оноре, скажи мне…
— Чтобы лежала и не дергалась!
— Скажи, твоя золовка…
Но Оноре больше не хотел ничего слышать. Он обозвал свою жену старой дурой и вышел на улицу, хлопнув дверью; вышел с непокрытой головой, не обращая внимания на палящее солнце. Аделаида покружилась немного по кухне, заметила оставленную на столе шляпу, схватила ее и побежала догонять мужа.
— Оноре, ты забыл шляпу. Забыть в такую жару шляпу…
В ее срывающемся от бега голосе прозвучало нечто вроде нежной заботы.
— И в самом деле, — сказал Одуэн, останавливаясь, — забыл шляпу.
— Ты даже не вспомнил о своей шляпе. Даже и не вспомнил о ней.
Он взглянул на ее лицо, лицо уже старой женщины, костистое и морщинистое, на ее серые, дрожащие от волнения губы, на ее черные глаза с блеснувшими в них слезами. Растроганный и охваченный угрызениями совести, взглянул он и на благопристойные складки черной юбки, породившей видение в глубине кухни, тоска по которому все еще сохранялась у него в теле.
— Да, положишь вот так шляпу куда-нибудь, — сказал он тихо, — а потом уже и не думаешь о ней.
— Сейчас-то в кухне, — сказала она. — Это все потому, что там было темно. Потому что было как ночью. Как стемнеет, так уже и не видишь, что делаешь. Потому-то все…
Оноре улыбнулся жене и дотронулся до ее руки краем своей шляпы.
— Конечно, — сказал он, удаляясь. — Как стемнеет.
Стоя посреди двора, она проследила за ним глазами, увидела, как он пересек дорогу, и вздохнула:
— Такой красивый мужчина; ни за что не поверишь, что ему уже сорок пять. А ведь некоторых его ровесников можно принять за настоящих стариков.
Едва успев наточить косу, Оноре услышал звук приближающейся коляски, и из-за поворота, в двухстах метрах от Горелого Поля, показался кабриолет его брата Фердинана. Ветеринар погонял свою лошадь, и она бежала крупной рысью. Бросив косу, Оноре подошел к обочине дороги и проворчал:
— Так гнать животное по жаре. На что это похоже?
Он увидел, как Фердинан помахал шляпой группе жнецов, и понял, что рысь эта была парадной, потому что в своих действиях ветеринар, как человек разумный, руководствовался всегда разумом, но никак не капризами. Оноре, большой специалист по лошадям, рассматривал приближающееся животное рыже-коричневой масти, как ему показалось, несколько тяжеловатое.
«Хоть Фердинан и ветеринар, — подумал он с удовлетворением, — а все равно он никогда не поймет, что такое красивый конь. Это, конечно, лошадь крепкая, но вовсе не тот рысак, что нужен был бы для кабриолета. И к тому же, что это еще за живот такой свисает у нее между передними ногами?..»
Когда упряжка остановилась, он спросил с некоторым беспокойством, так как в будни ветеринар приезжал в Клакбю редко:
— Что-нибудь случилось?
— Ровным счетом ничего, — ответил Фердинан, сходя с коляски. — Меня здесь поблизости позвали, и я завернул поприветствовать вас. К тому же завтра мы приехать не сможем. Придется отложить до следующего воскресенья.
Он протянул руку, вопреки установившемуся между ними негласному обычаю избегать в отсутствие посторонних глаз каких бы то ни было внешних проявлений дружбы. Оноре ленивым жестом дотронулся до нее. У него не было сомнений в том, каков смысл этого необычного рукопожатия: Фердинан собирался о чем-то его попросить. По ясному взгляду старшего брата ветеринар понял, что партия началась плохо; он слегка покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, с преувеличенной поспешностью принялся расспрашивать о детях.
Оноре коротко ответил, дружелюбно поглаживая лошадь. Клотильда и Гюстав, младшие, еще в шкоде. Им пора бы уже и вернуться, но они всегда так медленно тянутся по дорогам. Алексис на общинных лугах пасет коров; осенью его тоже нужно будет отправить в школу. А Жюльетта в ожидании замужества — у нее еще есть время подумать над этим — работает в поле не хуже любого мужика: что же, приходится, брат-то ее сейчас служит.
— А Эрнест, он по-прежнему в Эпинале. Я тебе покажу его последнее письмо. Говорит, что сержант очень его уважает. Боже мой, я вот думаю, не собирается ли он потом завербоваться еще! Альфонс ему столько всякого наговорил… У тебя есть какие-нибудь новости от Альфонса?
Ветеринар помотал головой. Он не любил, когда ему напоминали о существовании этого недостойного брата, и Оноре знал это.
— Бедняга Альфонс, вот что значит не повезло в жизни. А ведь какой парень, лучше его я просто не встречал.
Фердинан обидчиво поджал губы.
— А что, неправда? — настаивал Оноре.
— Правда, — выдавил из себя Фердинан.
— Бедняга Альфонс, я часто вспоминаю о нем. Я вот думаю, он все еще в Лионе или нет, и интересно, сколько у него теперь детей. Ведь уже два года прошло, как он не подавал нам о себе никаких вестей.
Оноре выдержал паузу, а потом с коварной веселостью в голосе уронил:
— Хотя ты же его знаешь: в один прекрасный день явится безо всякого предупреждения и поселится у тебя со всем своим семейством на месяц — другой… Вот будет приятно его повидать.
Ветеринар, который пока еще не задумывался о подобной, не обещающей ничего хорошего перспективе, почувствовал, как у него от злости багровеют щеки; его белесые глаза заблестели жестоким блеском. Но он удержался от готового сорваться с языка обидного замечания по адресу Альфонса, что было бы весьма некстати в начале нужного ему разговора, который он обдумывал уже целые сутки. После неловкого молчания он спросил, как поживает Филибер Мелон, мэр Клакбю.
— У меня не было времени сходить проведать его, — ответил Оноре, — но вчера вечером я отправил к нему Жюльетту. Не шибко хороши у него дела, весь вышел. Такое впечатление, что на пару воскресений его еще хватит, не больше. Что же, старик как-никак, тут ничего не попишешь.
— Все равно жалко человека, — вздохнул Фердинан. — Филибер молодчина, и в мэрии он был на своем месте… А кстати, раз уж заговорили о мэрии.
Оноре не совсем верно истолковал смысл этого «кстати»… Он опередил брата:
— Я уже говорил тебе, что не хочу быть ни мэром, ни даже его заместителем. С меня хватает работы советника.
Ветеринар прищелкнул языком, как бы подкрепляя свое «кстати», и его худощавое лицо с честолюбиво задранным подбородком вдруг оживилось. Казалось, что именно в этот момент он нашел тот естественный переход от одной мысли к другой, который не мог найти.
— Ты не даешь мне сказать. Наоборот, у меня возникла мысль о совершенно другой кандидатуре. А поскольку ты обладаешь влиянием…
Оноре и в самом деле обладал вполне определенным влиянием, как в муниципальном совете, так и вообще во всем Клакбю. Ему понравилось, что об этом сказал его брат, и, польщенный, он стал внимать его словам более благосклонно.
— Представь себе, — продолжал ветеринар, — на днях у нас обедал депутат: сделал остановку в промежутке между двумя поездами. Вальтье — это друг, который уже оказал нам немало услуг и будет оказывать впредь, как тебе, так и мне.
— Я ничем не обязан Вальтье, и мне ничего от него не надо, ну да это не имеет значения.
— Никогда наперед не знаешь. Короче, во время обеда разговор у нас зашел как раз о Филибере Мелоне, и Вальтье дал мне понять, что у него есть на примете человек, которого он хотел бы определить в мэрию… О! Разумеется, он убежден, что его выбор послужит интересам общины. Вальтье — это воплощенная законность, человек с высоким чувством ответственности, и у него хорошая репутация в парламенте. Думаю, что мне не нужно перечислять тебе все его достоинства…
— Ну и в конечном счете, если кандидатура у него подходящая…
Фердинан издал смиренный смешок, как бы заранее извиняясь.
— Ты сейчас, конечно, своим ушам не поверишь, да и я сам, чего скрывать, тоже не сразу привык к этому имени… Речь идет о Зефе Малоре.
Оноре продолжительным свистом выразил нечто ироде восхищения бесстыдством своего брата.
— Во всяком случае, сразу видно, что ты не злопамятен.
— На первый взгляд, конечно же…
— Но что в твоем деле удивляет меня больше всего, так это то, что Вальтье отдает предпочтение именно Зефу, одному из самых злостных реакционеров, отъявленному ревнителю сутаны. Что бы это значило?
Ветеринару было не по себе, и он ответил осторожно:
— Не знаю… Это трудно объяснить… Должен тебе сказать, что политические обстоятельства сейчас особые. Уже одна только программа генерала Буланже примирила немало противников; она может оказаться связующим звеном между внешне казалось бы враждующими партиями. А в такой период анархии, который мы переживаем сейчас, нужно стремиться к союзу. Факты приводят нас к мысли о том, что…
— Послушай, я не знаю ни программы генерала, ни фактов, не знаю ничего. Но зато я знаю Клакбю, и я утверждаю, что сделать Зефа мэром — это значит наплевать в лицо и всем республиканцам и самой республике. И с помощью одного только Буланже здесь ничего не объяснишь.
— Ну, если на чистоту, то мне кажется, что Вальтье знаком с кем-то из семьи Малоре… связи, как он мне сказал…
— Связи? Подожди-ка, подожди! А случайно это не дочка Зефа… ну конечно же, она, его Маргарита, маленькая плутовка, которая устроилась в Париже еще два года назад. Видная девка, ничего не скажешь, и, как я вижу, блюдет дух семейственности!
Фердинан, чтобы уйти от. ответа, принялся затягивать ремень упряжки.
— Я знаю, — сказал он после паузы, — ты скажешь, что семья Малоре всегда была настроена против моего отца…
— Плевать я хотел, — с презрением сказал Оноре.
— Ну а что касается той истории с ополченцем, то не будешь же ты припоминать ее Зефу спустя пятнадцать лет? Я думаю, ты согласишься со мной: нужно быть лишенным великодушия и здравого смысла…
Оноре молчал. Повернувшись спиной к брату, он отогнул губы лошади и притворился, что рассматривает у нее зубы. Но злость делала его неловким, и рыжий жеребец высвободился резким движением головы. Ветеринар почувствовал, что наткнулся на серьезное препятствие, и, стремясь побыстрее преодолеть его, решил, что здесь можно проявить настойчивость.
— Если вести счет всем мелким ссорам, которые накапливаются за двадцать лет с разными людьми, то останешься вообще без единого друга. Если Зеф в чем-то и провинился, то сегодня ты уже можешь простить его.
— Нет, — сказал Оноре.
— Ну полно, полно! В конечном счете ведь не умер же ты от этого.
Оноре пожал плечами. Он хотел удержать голову лошади и сжал ее нервным движением. От боли животное заржало. Фердинан, раздосадованный, больше не скрывал своего нетерпения.
— И к тому же, что во всей этой истории с ополченцем правда? Такая во всем неопределенность, неясность. Никто здесь о ней никогда и не слышал.
Оноре резко повернулся и схватил брата за локоть:
— Ты и в самом деле никогда ее не слышал. И хочешь, я скажу тебе почему?
— Да как-то я не испытываю никакого желания…
— Сейчас ты узнаешь все. Слышишь? Чтобы больше ты не приставал ко мне со всякими глупостями.
Оноре побледнел, и ветеринар испугался; он попытался было отбиться, но брат резко подтолкнул его к канаве и усадил на краю ее, рядом с собой. Видя, что оба они повернулись к нему спиной, рыжий жеребец дотянул коляску до двора и остановился там в тени орешника.
— Когда пришли пруссаки, — сказал Оноре.
Он остановился, посмотрел Фердинану в глаза и яростно бросил:
— Мне незачем держать все это в себе. Сейчас ты узнаешь все!
Он тут же успокоился и продолжал ровным голодом:
— Я оказался в одной ватаге ополченцев, которая металась по окрестностям без всякого понятия, что нужно делать. Когда до нас дошли сведения, что они приближаются к Клакбю, мы расположились на опушке леса. Глупо, конечно, но перед этим мы всю ночь пили напропалую в одном трактире в Руйе. Нам захотелось схитрить, а в глубине души все мы жалели, что не примкнули к пехотинцам, которые защищали высоты Бельшом. Что до меня, то я залег в конце Горелого Поля, позади грабовой рощицы, которая выходила на равнину. Потом ее вырубили. Это происходило как раз вон там.
Оноре показал на часть леса в четырехстах или пятистах метрах от них.
— И вот около двух часов пополудни гляжу и вижу, как над Красным Холмом появляются островерхие каски. Слышно было, как попискивают их дудки. Стоит мне вспомнить тот мотив, жить не хочется. Смотрел я, как эта нечисть вываливается на равнину и все на наш дом поглядывает, так у меня аж горло перехватывало. Ну а рядом со мной, метрах в десяти или пятнадцати, лежал пятнадцатилетний парень по фамилии Тушер. Неплохой парень, только молодой еще, с не очень устоявшимся умишком. Я его не видел, но вдруг слышу, как он говорит мне каким-то странным голосом: «Пруссаки вошли в Рекарский лес». Сперва я хотел сказать ему, чтобы он заткнулся, а потом подумал, что в той группе молодцов, которая обосновалась на опушке, нашлось бы немало таких, кого по глупости могло угораздить пульнуть из ружья, и тогда доброй половины жителей Клакбю как не бывало. «И то верно, — говорю я ему, — сейчас к тому же они окружат нас и зажмут между двумя прудами». Тушер лежал от меня слева, а через пять минут тот, что был справа, сообщил мне новость: боши зажимают нас между двумя прудами. Все развертывалось, как я и предвидел: дружки мои начали потихоньку улепетывать; что же, в добрый путь, однако у меня тоже, хоть я-то знал, что нужно делать, честно сказать, внутри от страха все похолодело. Так что — не оставаться же одному подкарауливать этих пруссаков — расстаюсь и я со своей опушкой, собираюсь уходить в глубь леса…
— Оставить пост врагу, — заметил ветеринар.
— Скажи это своей бабушке. Оттянулся я, значит, немного влево, выхожу на тропинку, что идет вдоль опушки, и вдруг вижу, как мой Тушер устремляется к той дороге в ложбинке, которая, как ты знаешь, ведет к нашему дому. Бегу я за ним, выскакиваю тоже на дорогу и вижу, что он несется как безумный, несется прямиком в сторону нашего двора. «Тушер!» — ору я ему вслед. Как бы не так, очень он был настроен слушать меня, этот Тушер. Он думал только о том, как бы ему юркнуть в первый попавшийся дом, то есть в наш. Ты представь себе, ополченец в доме мэра; за это же могли расстрелять вообще всю деревню. Пустился я за мальчишкой в погоню, а тут еще, мало того что нас разделяет целая сотня метров, его к тому же несет вперед безумный страх. Когда я выскочил на дорогу, он уже вбежал в дом, и как раз в этот момент мне попался на пути Зеф Малоре. Разумеется, терять время на разговоры с ним я не стал.
— То есть ты не можешь сказать с уверенностью, один только Зеф видел вас или кто еще…
— Да он же сам мне признался, когда я прижал сто мордой к желобу для навозной жижи.
Вспомнив об этом признании, Оноре торжествующе рассмеялся. Фердинан снова заметил ему, что ничего серьезного не произошло, так как все остались живы и здоровы.
— Подожди, дай мне досказать. Вхожу я, значит, в дом и вижу: мальчишка плачет на шее у моей матери, а она пытается его успокоить. Это было на кухне. Хватаю я Тушера за воротник и посылаю ко всем чертям в сторону двери. Мне тоже нужно было бы без промедления бежать вместе с ним, но ты же знаешь, как это нелегко: мать дома одна. Аделаида с детьми — у вас, а отец с самого утра сидел в мэрии и ждал пруссаков. Вот я и не смог уйти, не поцеловав ее и не перемолвившись с ней несколькими словами. Тушер воспользовался этим и забился в часы, в самый угол часов, подтянув голову к коленям и пятки к ягодицам, сжавшись, точно какое-нибудь животное. Пока я его ставил на ноги, подбадривал пинками, пруссаки уже тут как тут: появляются из-за поворота дороги. Кажется, это были баварцы, самые мерзкие из всех пруссаков, хуже не придумаешь. Человек пятнадцать их было, и сержант. Я называю его сержантом, но, может быть, это был и офицер. У их офицеров ведь нет никаких нашивок: ни на рукавах ни на голове. Ты скажешь, что все это мелочь, но она только подтверждает, какие они все-таки дикари. Оттуда, где они находились, виден был весь дом: ни малейшей возможности улизнуть в сарай. Пытаться бежать через заднее окно было опасно, но будь я один, я бы все равно попытался. Конечно, с Тушером об этом нечего было и думать: вцепился обеими руками в мою куртку и знай стучит себе зубами. Мать голову не потеряла: открыла дверь спальни, чтобы мы спрятались под кровать. Тушер только того и ждал: это дело оказалось ему по плечу; затаился, и даже дыхания его не было слышно. Что касается меня, то я, честное слово, был почти спокоен. Ну зачем бы они стали обшаривать комнаты? А с наступлением ночи можно было бы без лишней суеты уйти. Мать пошла на кухню, а дверь в комнату оставила открытой. Слышу, она говорит мне: «Оноре, они остановились, и начальник разговаривает с Зефом». В тот момент, скажу я тебе, мне даже в голову не пришло ничего плохого.
«Они уходят», — сказала мать. И вдруг больше ни звука: она закрыла дверь. А потом топот сапог на кухонном полу… Ах! Дева Мария, вот когда горло-то у меня там, под матрацем, пересохло! Сержант говорит: «Вы спрятали у себя ополченцев». И нужно было слышать, как он, эта свинья, говорил по-французски. Мать оправдывалась, клялась, что не видела никаких ополченцев, а тот отвечал ей, что он точно знает. Наконец шум стал стихать, и разобрать слова было уже невозможно. Потом сержант говорит что-то солдатам на своем тарабарском языке. Вероятно, отправил их обыскивать ригу и чердаки…
Фердинан боялся продолжения рассказа. Он предпринял попытку подвести итог:
— Ну ладно, ведь вы же выкрутились в конце концов. А это самое главное.
— Подыхать так подыхать, но мне не хотелось, чтобы меня обнаружили лежащим плашмя под кроватью. Только не успел я выбраться оттуда, как дверь открылась. Смотрю и вижу подол платья матери, а за платьем что? Сапоги сержанта. Сначала я не понял. Но вот вижу платье поднимается.
— Оноре… — запротестовал ветеринар поблекшим голосом.
— Я слышал, как они тряслись у меня над головой. И при этом не мог пошевелиться. Моя жизнь в этот момент была не в счет, но даже если бы я мог разделаться с ним выстрелом из ружья, я не осмелился бы показаться, я не смог бы…
Фердинан вытер пот, стекавший у него из-под шляпы.
— Такие вещи не рассказывают, — прошептал он, — ты не должен был говорить мне.
— Так что теперь больше не удивляйся тому, что в Клакбю про эту историю никто ничего не слышал.
Отец рассказал тебе ровно столько, сколько было известно ему самому. Что касается остального, то об этом знал только я один. Тушер потом через неделю погиб, отчего я даже испытал облегчение. После войны я бы мог свести счеты с Малоре, всадить ему из-за какого-нибудь куста заряд из ружья. И не пойман — не вор. Но пока была жива мать, мне не хотелось давать понять ей, что я помню. Да и, кроме того, не могу сказать, чтобы такая работа доставила мне удовольствие, даже если бы речь шла всего лишь о том, чтобы избавить свет от какого-то Зефа Малоре.
— Да, Малоре тут явно не без греха, — прошептал Фердинан.
Он задумался. Невольно ветеринар вспомнил спой последний разговор с Вальтье. Депутат, похоже, настроен решительно поддерживать кандидатуру Зефа. Он здорово влюблен в Маргариту Малоре, и не без основания полагает, что больше всего угодит девчонке, если удовлетворит этот ее каприз; а в дружбе с депутатом Фердинан видел для себя большую выгоду. Личные амбиции, конечно, само собой, но, кроме того, ветеринар думал еще и о карьере своего старшего сына Фредерика, рассчитывая на то, что поддержка Вальтье обеспечит ей блистательное начало.
— Послушай-ка, Оноре. Я согласен, что Зеф попел себя тогда очень нехорошо. Но можно предположить, что он действовал так в состоянии крайнего испуга. Когда тебя вдруг останавливает на дороге отряд пруссаков…
— Я знаю этого человека. Он осторожен, не любит получать тумаки, но я уверен, что он не пуглив. Здесь нечто другое…
— Речь, кстати, не о том, чтобы простить его, — сказал ветеринар. — Я весьма далек от этого. Но старые обиды не имеют ничего общего с делом, о котором мы сейчас говорим. Просто в наших интересах, в интересах нашей семьи необходимо, чтобы Зеф стал мэром. Вот как стоит вопрос.
— Насчет интересов ты разбираешься лучше, чем я, но суть-то в том, что Зеф заставил твою мать лечь под пруссака.
От этих слов Фердинан покраснел. Он возмутился, как можно произносить слова, которые оскорбляют память жертвы:
— Ты хоть покойников уважал бы.
— О! Покойников, знаешь, их-то нечего жалеть. Если бы в нашей истории речь шла только о покойниках, то у меня не поседело бы ни единого волоска. Но я-то, лежавший под кроватью, я-то ведь не умер, и Малоре, который послал пруссака поразвлечься у меня над головой, тоже не умер. Вот что важно, понимаешь?
— Я понимаю, но нужно уметь отделять одно от другого, а поскольку Вальтье…
— Довольно, — жестким голосом отрезал Оноре. — Я-то полагал, что сказал тебе достаточно. Зеф никогда не станет мэром, во всяком случае до тех пор, пока у меня хватит сил воспрепятствовать этому.
Ветеринар понял, что он наткнулся на неколебимую. решимость. Будущее его сына омрачалось дурацкой злопамятностью. От сознания собственного бессилия он разволновался и стал лихорадочно искать аргумент поубедительнее, чтобы каким-нибудь способом прижать брата к стене. Он поднял свои бледные глаза на дом, дом, который являлся его собственностью и откуда он мог выгнать Оноре едва ли не завтра же. В бешенстве он был готов сделать дом предметом торга немедленно; однако, немного поразмыслив, тут же осознал, чем это могло грозить. Оноре уехал бы из дома без колебаний, но ветеринару было важно, чтобы тот жил в доме Одуэнов — это отвечало бы его политическим интересам в Клакбю. А кроме того, Оноре следил за собственностью брата, как если бы она принадлежала ему самому. Фердинан проглотил готовые было сорваться с языка слова ультиматума. Увидев вспыхнувшую на лице брата злость и уловив направление его взгляда, Оноре угадал причину внутренней борьбы Фердинана. И ответил ему без обиняков:
— Я освобожу дом, как только ты этого захочешь, а может, даже и ждать не буду, когда ты мне об этом скажешь.
— Да нет же, — запротестовал Фердинан, — с чего ты взял… Я готов подписать тебе бумагу.
— О! Твоя бумага. Ты можешь, если тебе угодно, сунуть эту бумагу себе в задницу.
Ветеринар стал невнятно оправдываться: он никогда не собирался злоупотреблять своими правами владельца, и пока он жив, брат может быть уверенным…
Но Оноре его уже почти не слушал. Он смотрел на солнце, которое сияло на другом конце Клакбю, собираясь отправиться на покой за Красным Холмом. Ослепленный его последними лучами, он медленно опустил глаза и тихим, ленивым голосом скапал:
— Да, в задницу.
Соображения кобылы
Из всех клакбюкских и иных Одуэнов я всегда отдавала предпочтение Оноре. Возможно, именно ому я обязана преодолением отчаяния от безысходности моих наваждений и умиротворением моих яростных желаний. Я обнаружила, что этот нежный и настроенный на смешливый лад человек обладает секретом разнообразного эротизма, полнее всего удовлетворяемого за пределами реальности. Не то чтобы он стремился к целомудрию: он ласкал собственную жену и не был равнодушен к другим женщинам. Однако его любовные утехи совершенно не походили на те целесообразные наслаждения, которые с суровой непреклонностью прославляют любители моральной гигиены; не походили они и на то печальное отправление супружеских обязанностей, которое у ветеринара всегда вызывало угрызение совести. У Оноре любовное желание иногда рождалось из солнечного луча, а иногда, улетая за каким-нибудь облаком, упускало момент своей реализации. Казалось, объятия были для него всего лишь простой расстановкой знаков препинания в грандиозном сновидении, которое наполнялось образами из созданного его фантазией мира. Когда Оноре ласкал свою жену, он созывал для этого и хлеба на равнине, и реку, и Рекарский лес.
Однажды, в пору своего восемнадцатилетия, он оказался в столовой наедине со служанкой, которая повела себя настолько раскованно, что подтолкнула его к решительным действиям. А за окном лежали покрытые снегом поля, и появившееся на миг солнце внезапно озарило светом все это холодное белое пространство. Цвета отделились друг от друга и все вместе пустились в пляс. Оноре всем своим телом ощутил, как праздничный снег вдруг начал таять, и, оставив свое занятие, в котором продвинулся уже довольно далеко, отошел к окну, распахнул его и смехом приветствовал этот солнечный хоровод. За семьдесят лет я повидала немало любовников, но другого такого, который бы вот так, по знаку света, оставил свое занятие на самом пороге сладостной дрожи, никогда не встречала. Можно сказать, что такова была привилегия этого Одуэна: умение без усилия нести в себе самые драгоценные иллюзии. Впрочем, бывало и так, что Оноре, наоборот, спускался на ступеньку-другую вниз. Когда он видел в поле, как ветер колышет высокие хлеба, или когда в ноздри ему ударял запах свежевспаханной земли, ему случалось ощущать, как в теле его вздымается жажда исполинских объятий. И тогда ему казалось, что он сжимает в своих тяжелых от благой усталости руках весь охваченный ликованием мир. А потом желание теряло свои размах, принимало реальные и не столь прекрасные очертания, выбрав определенную точку на его горизонте, и Оноре снова брался за работу, мечтая о лоне какой-нибудь девицы из Клакбю.
Аделаида красивой не была никогда. В те времена, когда Оноре за ней ухаживал, в ее фигуре уже угадывалось худое и жесткое, состоящее из одних костей и сухожилий, тело работящей крестьянки. Даже в самые первые годы их брака Оноре не строил себе иллюзий и понимал, что за корсажем у его жены нет ничего такого, чему дано приятно наполнять руку. Почувствовал он и ее сварливый нрав, догадался, что пройдет совсем немного времени, и у нее выпадут все зубы. Он смеялся над этим, как над подстроенным самому себе отменным фарсом, и говорил Аделаиде, какой забавный номерок достался ему в жизненной лотерее. Он предпочел бы, чтобы природа оснастила Аделаиду со всех сторон, но, коль скоро она уже была его женой, предаваться пустым сожалениям по этому поводу не собирался и любил ее такой, какая она есть. По существу (он не высказывал этого вслух и даже сурово выговаривал Аделаиде за слишком скромные размеры ее ягодиц), за что он и любил ее. Он не видел никакого резона казниться из-за того, что ей чего-то слегка не хватало в груди и чего-то малость недоставало сзади. Ведь при игом чего-то вполне хватало. А в соответствующий момент уж от него самого зависело, если нужно было чего-то добавить; да и какой бы худой она ни была. Оноре всегда находил средства наполнить свои объятия. Иной раз у него даже появлялась мысль, что это, в сущности, везение: то, что такая женщина, как Аделаида, потратит тридцать или сорок из причитающихся ей лет именно на него, а он — на него; настоящим везением, причем совершенно непонятным, казалось ему и возможность крепко любить жену, не испытывая даже потребности изменять. Однако большую часть времени он об этом не думал. Он шел по равнине, толкая перед собой плуг и насвистывая, останавливался пописать, опять брался на плуг, плевал в сторону, пел, разговаривал со своими быками, гладил их по шерсти и против шерсти, громко смеялся, выстругивал для своих ребят чижика из зеленого прута, мастерил из коры свисток, опять смеялся, вел прямо свою борозду и восхищался тем, как хороша жизнь.
А вот священнику эта радость Оноре Одуэна была противна. У него от нее появлялось чувство благочестивой ревности, ибо он понимал, каким опасным дли жителей Клакбю является этот пример столь явно счастливого — без какой-либо помощи церкви — человека. Впрочем, ненависти к Оноре у кюре не было ни малейшей; он даже питал к нему некоторую симпатию, а за его заблуждения даже жалел его; однако он был прежде всего тактиком по спасению душ. Он знал, что души в Клакбю, вместо того чтобы двигаться по направлению к раю, охотнее копошились где-то на уровне земли, постоянно рискуя застрять здесь навеки. А ему нужно было разместить их в таких удачно расположенных загонах, откуда им было бы легко в любой момент прыгнуть в небо. Кюре так и сыпал предостережениями. На все женские животы он навесил по табличке: «Здесь расставлены капканы» или «Не задерживаться». Дабы эти предупреждения выглядели еще более внушительными, он присовокуплял к ним угрозы наказаний, причем не где-нибудь в иной жизни, а еще тут, в долине слез. В сущности, клакбюкцы боялись лишь превратностей судьбы, подстерегающих человека в этом бренном мире: страх перед адом от грехов их не уберегал, а вот посули им хороший урожай, так они запаслись бы целомудрием хоть на год вперед; именно такого рода сделку кюре им и предлагал. Для того чтобы рассчитывать на обретение вечного блаженства, клакбюкцы должны были бояться за свой скот и за свой урожай. Как это было ни унизительно, но это было так, и потому в конечном счете имел значение лишь результат. Между тем результат мог пострадать из-за одного только присутствия Оноре в Клакбю. Ведь он не обращал никакого внимания на священные таблички, что было всем известно, и при этом скот у него не дох, асам он отличался свежим цветом лица, и радостное настроение не покидало его на протяжении всего года. Кюре даже не осмеливался утверждать, что Одуэну придется жестоко поплатиться за это на том свете, так как все односельчане, вплоть до самых набожных, считали Оноре настолько хорошим человеком, что священнику все равно никто бы не поверил. Кюре не оставалось ничего другого, как говорить, что Бог откладывает мщение из милости к заслугам доброй католички Аделаиды; кроме того, он прибегал к хитроумным уловкам, стараясь внести раздор: в семью Одуэнов, и увещевал супругу, когда та приходила к нему на исповедь, уклоняться, насколько это возможно, от ласк мужа, за что им обоим было бы даровано прощение. Бог так ни разу и не дождался подобной жертвы от Аделаиды, но зато каждый раз, получив удовольствие, она непременно прочитывала молитву, а то и две — в зависимости от обстоятельств. Если говорить о любовных утехах, то тут ее образ действительно мало походил на пассивную сдержанность госпожи Одуэн-старшей, и порой она вела себя настолько предприимчиво, что Оноре склонен был считать ее поведение прямо-таки анархическим и, уж во всяком случае для супруги, чересчур смелым. Вопреки мнению, сложившемуся у шоре, он остался весьма верен семейным традициям. Сильнее всего он воодушевлялся в темноте; кроме того, он вообще считал, что только мужская прихоть имеет силу закона и что желание женщин вполне достойно презрения. Супруга смотрела на вещи иначе, и из-за этого у них нередко возникали ссоры. От того, что, как она считала, принадлежит ей по праву, Аделаида отказываться не собиралась и старались заставить Оноре принимать во внимание и ее Кип ризы, даже посреди бела дня. Она безуспешно приставала к мужу, то прижимаясь к нему, то стараясь распалить его любопытство с помощью извлекаемых из-под кофты худых грудей, которые проскальзывали у нее сквозь пальцы. Оноре всегда уклонялся от ее ласк, причем не без скандала.
Однако он был далек от того, чтобы соблюдать семейные традиции неукоснительно. Он всегда лишь вполуха слушал советы отца об экономии мужской мощи и, в отличие от Фердинана, внимал лишь голосу собственного вдохновения. Это было не единственное различие между двумя братьями. Еще в ту пору, когда Фердинан был ребенком, Оноре терпеть не мог этого скрытного мальчишку, который, спрятавшись, подглядывал, как люди мочатся, и которому, еще не вкусившему греха, уже был знаком стыд. Со своей стороны, Фердинан побаивался своего старшего брата, чья откровенность служила ему постоянным укором, хотя повод для выговора он давал ему редко.
В теплое время года их мать имела привычку каждое первое воскресенье мыть ноги. Она выставляла лохань на середину кухни, выбирая такое время, чтобы вся семья была в сборе, дабы скрасить приятной беседой отправление этой скучной гигиенической надобности. Жюль Одуэн и старшие сыновья разговаривали с ней, избегая смотреть на ее голые ноги, а Фердинан играл в свои безмолвные игры. В одно из воскресений Оноре вдруг заметил, что его младший девятилетний братец что-то уж слишком часто позыривает в сторону лохани; он перехватил под его полуприкрытыми веками внимательный взгляд, пытающийся прокрасться под саржевую нижнюю юбку матери. «Фердинан!» Мальчишка встал, весь красный от смущения. «Стоило бы дать тебе подзатыльник», — добавил Оноре. И сам проступок, и этот окрик наложили тяжелую печать на взаимоотношения братьев. Фердинан сохранил воспоминания об этом случае на всю жизнь. В присутствии Оноре он всегда чувствовал себя неуютно — словно перед судом присяжных. Не прошло это и с возрастом: несмотря на свою блестящую карьеру ветеринара, он постоянно пребывал в оборонительной стойке. Оноре забыл про этот эпизод почти тотчас же, но впоследствии обнаруживал все новые и новые факты, укреплявшие его в неприязни тех первых лет. Ему казалось, что за чрезмерной стыдливостью ветеринара скрывается какой-то скрытый порок, и это неприятное впечатление усугублялось еще и оттого, что к невестке своей, Элен, он испытывал весьма дружеские чувства, втайне даже восхищаясь ею. Он мысленно представлял себе, с каким отвращением она должна была терпеть вкрадчивые наскоки этого застенчивого самца, который с раздражающими предосторожностями извлекал на свет Божий, дабы проветрить их, свои чахленькие желаньица, заключенные в зловонную страсть к соблюдению приличий. Во время их бесед в тоне Оноре проскальзывало достаточно презрения к брату, что просто не могло остаться незамеченным Элен. Когда она спрашивала Фердинана, чем вызвано такое к нему отношение, тот начинал с подозрительной запальчивостью обвинять брата. Поверить ему, так Оноре только тем и занимался, что волочился за женщинами, ну а что касается презрения, то это был с его стороны своего рода коварный маневр с целью разбить добродетельную семью и осуществить некий мерзкий замысел. Ветеринар, кстати, и в самом деле верил в распутство брата — слишком уж вольно тот выражался.
Оноре никогда не изменял жене, за исключением тех случаев, когда он вместе с другими барышниками отправлялся в заведение на Птичьей улице в Сен-Маржлоне, но то была почти что профессиональная необходимость, да и, кроме всего прочего, потаскухи представлялись ему существами из какого-то иного, нереального мира.
Не следует также принимать во внимание и его благосклонность к служанке в ту пору, когда таковая у них еще имелась. Согласно некоему почтенному обычаю, существующему в честных сельских домах, заслуживающая доверия служанка могла выполнить в утехах господина роль заместительницы супруги, и Аделаида никогда всерьез его этим не попрекала. Так что в Клакбю о поведении Оноре никто по злословил; жены там, кстати, были довольно добродетельны, а, кроме того, Оноре, который свою жену любил, и сам бы не хотел оскорблять ее таким вот образом в глазах своих односельчан.
Аделаида же в свою очередь оправдывала доверие супруга. Она поддалась искушению только один раз, но сделалась от этого еще добродетельнее, потому что, получив огромное удовольствие, могла бы пойти во вкус, а она вот нет, не вошла. Как-то раз зимним днем, когда в доме были только она да служанка, какой-то бродяга лет сорока попросил у нее разрешения переспать в хлеву. Служанка отнесла ему охапку соломы и, вернувшись, пожаловалась, что мужчина попытался опрокинуть ее в стойло. Аделаида сразу стала задумчивой, у нее сперло дыхание, по щекам разлился жар состраданиями она отправилась в хлев. Мужчина уже лежал там, раскинувшись, на соломе между двумя теплыми, жующими свой корм коровами. Она села перед ним и протянула к нему свои милосердные руки; потом пригнулась. Мужчина, опасаясь спугнуть склоненную голову, не шевелился. У этого бедняги не было никаких традиций, и он не отягощал свои удовольствия излишней стыдливостью. Он начал нежно поругиваться. Аделаида тихонько стонала, а сверху короны обдавали их своим дыханием.
Когда Аделаида исповедалась, кюре сперва обрадовался. В глубине души жалея Оноре, он поздравлял себя с тем, что дьявол внес-таки свою лепту в сооружение обители христианства Клакбю. Червь уже попал в плод, и скандальному поведению этого нечестивца, беззаботно наслаждавшегося дарами милостивого Бога, должен был вот-вот наступить конец. Но прошел год, а Аделаида ни о каких новых своих прелюбодеяниях не сообщала. Кюре забеспокоился. Теперь стоило какому-нибудь бродяге позвонить в дверь его дома, как он тут же, вручив ему кусок хлеба и сославшись на отсутствие свободного места, показывал ему на дом Оноре, уверяя посетителя, что там он найдет себе пристанище. Однако Аделаида держалась стойко, а в окрестностях Клакбю распространились слухи, что Оноре Одуэн с милосердием, достойным изумления, привечает бродяг.
Двумя годами позже я стала свидетельницей другого случившегося в этом же доме адюльтера, который оказался весьма благородной жертвой, принесенной госпожой Одуэн-старшей баварскому офицеру ради спасения своего сына. Она находилась в том возрасте, когда женщины уже не очень-то рассчитывают на добрую волю мужчин, а баварский офицер был одним из тех розовощеких молодых людей, которые под изрядно наполненным корсажем склонны видеть больше тайны, нежели реальности. Корсаж госпожи Одуэн выглядел весьма внушительно, особенно в кухонном полумраке; юный командир подпал под чары сразу же, как только вошел, и неотрывно смотрел на него в течение всего допроса. Пока он стоял перед испуганной, умоляющей женщиной, случай показался ему настолько счастливым, что он без колебаний решил воспользоваться им, невзирая на риск быть расстрелянным своими же, если бы они его застали на месте преступления. Отправив подчиненных обследовать пристройки, он поцеловал госпожу Одуэн в губы и толкнул ее в спальню. Ее взволновал уже поцелуй, надеяться на который ей не позволял ни возраст, ни приличия, но тоскливая мысль о присутствующем в комнате сыне помешала воспользоваться этим первым волнением в полной мере. Она легла на кровать и закрыла глаза, но, убедившись в неловкости баварца, вновь открыла их. Нельзя было терять ни секунды, так как в любой момент их могли застать; она хотела помочь ему, но в своей супружеской жизни ей удалось приобрести не слишком много полезного опыта. Для них обоих это было подобно некоему открытию, которое они осуществляли совместно, улыбками извиняясь друг перед другом за обоюдную неловкость. Госпожа Одуэн невольно утоляла свою любознательность, которую ночные забавы ее супруга оставили неудовлетворенной. После того как она направила поиски военного куда следует, госпожа Одуэн ощутила всей своей дремлющей плотью обещание нежности. Остатки угрызений совести еще давали о себе знать, но когда ее палач сделал было попятное движение, она непроизвольно удержала его, притянув голову мужчины к своему лицу. А когда она, стыдясь своего согласия, сделала попытку оттолкнуть его, любовник обнял ее еще сильнее. На этот раз она улыбнулась благодарной, сообщнической улыбкой; ее ленивое, оцепеневшее с годами тело пронзила судорога сладострастия, и она заглушила протяжный крик удивления. Баварец резко встал, испугавшись, что и так слишком долго задержался. Приводя в порядок свое обмундирование, он протянул невольной жертве руку, чтобы помочь ей встать. И тут юный солдат обнаружил, что она уже старая женщина и что он нарушил присягу ради старушечьей груди; губы его тронула грустная улыбка, и он подумал, что в момент смерти ему нечем будет гордиться.
Госпожа Одуэн исповедалась неделю спустя. Она была человеком порядка и ничего не оставляла на потом. На исповедь она отправлялась с почти легким сердцем, совсем не мучаясь угрызениями совести из-за деяния, к которому ее подтолкнула необходимость. Она быстро рассказала о случившемся, упоминая благопристойности ради лишь основные моменты и всецело сохраняя достоинство женщины, пожертвовавшей собой ради святой цели.
— Все так, — сказал кюре, — а удовольствие вы при этом получили?
Несчастная женщина пробормотала признание, задрожав от ужаса. Кюре не стал ее успокаивать, напротив, с превеликой радостью принялся внушать ей, что даже самая великодушная жертва способна обернуться ужаснейшим поражением, когда за работу берется дьявол, и что, ублажая плоть, человек постоянно подвергается страшнейшей опасности, даже в том случае, когда поступок выглядит праведным. Госпожа Одуэн горько покаялась в своем грехе, настолько горько, что меньше чем через три года умерла.
IV
В тот момент, когда мать наклонилась над плитой, Алексис крадучись проскользнул через кухню у нее за спиной и уселся на свое место за уже накрытым для вечерней трапезы столом. У него были серьезные основания стараться не привлекать к себе взглядов. Клотильда и Гюстав не обратили на появление брата никакого внимания; упершись локтями в подоконник, они были заняты игрой, кто дальше плюнет. Гюстав плевал часто без всякой системы, громко комментируя результаты. Клотильда, напротив, плевала экономно и молча. В результате произошло то, что и должно было произойти: поиграв пять минут, Гюстав истощил запасы слюны, и сестра опережала его на метр, а то и больше.
— Вот видишь: не умеешь ты плеваться, — сухо сказала она. — С тобой совсем неинтересно играть.
Тут в кухню вошел Нуаро и улегся под стол, и дети последовали за ним. Собаку звали Нуаро, потому что она была черная. Двух ее предшественников в память о войне звали Бисмарками. Первый обладатель этого имени страдал из-за него, по крайней мере вначале, так как пса постоянно обвиняли в злейших поступках исключительно ради того, чтобы иметь возможность обругать «эту падаль Бисмарка». С годами имя «Бисмарк» стало ласкательным, и старшие дети, Жюльетта и Эрнест, не задумываясь, продолжали по привычке называть так и Нуаро.
Алексис, закрыв голову руками, притворился будто дремлет, что выглядело совершенно неправдоподобно, так как младшие в это время с шумом и гамом таскали собаку за уши. Из-под стола слышались переливы голосов, потом раздраженный шепот, и Клотильда заявила своим тонким, отчетливым голоском:
— Мама, мне Гюстав хочет собачьим хвостом глаз выколоть.
— Неправда, мама. Это она сама обозвала меня большой коровой.
— Неправда!
— Правда, ты сама так сказала!..
— Это когда ты захотел выколоть мне глаз.
— Как будто я мог выколоть тебе глаз хвостом Нуаро!
— Но ты попытался же.
— Неправда!
Аделаида рассеянно пообещала отвесить им пару подзатыльников и продолжала резать ломтики хлеба к супу. Она с некоторым беспокойством думала о разговоре мужа с ветеринаром, который состоялся дна часа назад.
Еще никогда не видела она Фердинана таким раздраженным. Он поприветствовал ее, не входя в дом, и быстро уехал в своем кабриолете, с яростью настегивая рыжую лошадь.
Оноре вернулся домой, когда уже смеркалось. Он выглядел озабоченным и, садясь в конце стола, сказал:
— Подавай быстрее на стол. Я хочу зайти к Мелонам, узнать, как дела у Филибера.
— Жюльетта уже отправилась к нему после обеда. И она еще не вернулась, твоя Жюльетта, хотя уже полдевятого.
— Почему «моя Жюльетта»?
— Потому что ей известно, что отец все ей спускает, вот она этим и пользуется.
— Я так думаю, что она в церковь зашла, капельку помолиться, — пошутил Одуэн.
— Смейся, я посмотрю, как ты будешь смеяться потом. Сейчас ты пока спокоен, потому что дед оставил ей кое-что, но только вот когда у нее заведется что-нибудь в животе, с этим своим приданым она никакого серьезного мужа уже себе не купит.
Оноре посетовал, что ему прожужжали уши всякой несуразицей. У него не было никаких оснований сомневаться в целомудрии Жюльетты; не то чтобы она не ведала искушений — это с ее-то красотой, — а просто у нее была гордость. И кроме того, он еще заметил, что самцы предприимчивы прежде всего с девушками бедными. Аделаида зажгла лампу и поставила на стол.
Оноре приготовился зачерпнуть себе супу, как вдруг у него под ногами раздался дикий вой. Даже Алексис и тот поднял от стола растерянное лицо; мать закричала, что девочка, наверное, проглотила английскую булавку и та раскрылась у нее в печени. Оноре отодвинул табурет, пытаясь нагнуться и на глянуть под стол. Послышалось новое, еще более душераздирающее завывание, и в свете лампы полнилась Клотильда.
— Мам, — сказала она сдержанным голосом, — Гюстав меня за волоски на ногах дергает.
Теперь и Гюстав тоже покраснел; он был возмущен.
— Это неправда! Волосков у нее не больше, чем у меня.
Мать подняла девочку вверх, чтобы проверить. Клотильда настаивала, что у нее есть волоски, но на самом деле ноги у нее были абсолютно гладкие, в чем смогли убедиться все присутствующие. Однако она отрицала очевидное и заявила, что все вырвал Гюстав. Мать нашлепала ее по щекам, «чтобы отучить врать». Клотильда, получая пощечины, сначала громко смеялась, потом поджала губы, и на ее лице появилось выражение холодного бешенства. Гюстав шумно радовался, чем едва не снискал себе неприятностей; отец, сердитый из-за только что пережитого им испуга, обратился сразу и к нему, и к его сестре:
— Я вам, шпанятам, покажу, будете знать, как горлопанить почем зря. Сейчас же марш за стол, только попробуйте у меня пошевелиться.
Он посмотрел на усаживающихся за стол малышей и проворчал, наливая себе в тарелку супа:
— Ишь, десяти лет нет еще, а гонору — что у вашего дядюшки Фердинана… Волоски у нее на ногах! Ну и ну! Прямо ни дать ни взять ветеринар.
Когда у него было плохое настроение, Оноре постоянно казалось, что он улавливает весьма неприятное сходство между своими детьми и братом, словно хуже, чем иметь детей, похожих на ветеринара, ничего и быть не могло. Впрочем, чтобы успокоить себя, он неизменно добавлял: «Нет, не может быть, этого я никак не заслужил».
В этот вечер, после состоявшегося днем разговора, сравнение так и напрашивалось. Оноре перебирал поочередно всех своих сыновей. У Эрнеста, старшего сына, который служил в Эпинале, был сухой профиль, не совсем такой, как у ветеринара, но похожий. И тоненький голосок кастрата, как у дяди. Боже мой, как у дяди!
Когда очередь дошла до Алексиса, отец решил, что его-то можно рассмотреть с близкого расстояния. И с удивлением увидел понуро опущенные плечи сына, его уткнувшийся в тарелку нос.
— Что это с тобой, а? Обычно ты бываешь пошумнее.
— В самом деле, — сказала Аделаида, — что это с ним сегодня? Не заболел ли ты ненароком… ты весь красный.
Обеспокоенная видом сына она наклонилась, чтобы рассмотреть его получше. Алексис сжался еще больше, но спрятать воротник рубашки от внимательного взгляда матери ему не удалось.
— Ну-ка встань. Выйди на середину кухни и для начала сними жилетку.
Алексис медленно встал, бросил умоляющий взгляд на отца, который не остался равнодушным к его переживаниям. Гюстав и Клотильда следили за каждым движением брата с жестокой надеждой на какую-нибудь катастрофу. Ожидание их не обмануло: рубашка была разорвана от воротника до пояса, а у брюк не хватало почти полштанины. Мать мелкими шажками ходила вокруг провинившегося сына, щурясь как во время примерки. Воцарилось гробовое молчание. Алексис был белее мела.
— Вспомни-ка, что я тебе обещала прошлый раз, — сказала Аделаида. — Завтра на мессу ты так и пойдешь в этих штанах. Это первое.
— Мам, я сейчас вам все объясню…
— Именно в этих штанах и пойдешь на мессу. И пусть мне будет так же стыдно, как тебе, но я вытерплю.
— Послушай, — вмешался Оноре, — нужно же, наверное, дать ему объяснить, что там у него случилось.
Эти сочувственные слова придали Алексису немного уверенности.
— Я не виноват. Мы играли себе спокойно в козу около Трех Ольх, а он пришел и…
— Кто «он»? — спросила мать.
Имя Алексис назвать боялся. Взрослые умудряются так улаживать ссоры, что потом почти всегда возникают какие-то нелепые осложнения. Он подумал, что ему удастся выкрутиться с помощью двух-трех ловких фраз.
— Да есть там один четырнадцатилетний полудурок, который всегда пристает к нам, когда мы пасем коров. Мы ему ничего не делали, мы просто играли…
— Как его зовут?
— Тентен Малоре.
Услышав имя Малоре, Одуэн подпрыгнул на стуле. Он гневно посмотрел на сына: что за олух — допустить, чтобы какой-то там Малоре порвал ему рубаху. И этот тоже весь в ветеринара.
— Ты что же, не мог двинуть ему хорошенько кулаком в зубы, а?
— Я вам сейчас все расскажу: он воспользовался тем, что я наклонился, и налетел на меня, а как только я смог защищаться, он хорошенько получил от меня палкой. Конечно, он порвал мне одежду, но вы бы только посмотрели, как он потом улепетывал, хромая на обе лапы.
Лицо Оноре озарилось полуулыбкой.
— А! Хромал, говоришь… Это хорошо, что ты постоял за себя. Им, этим людям, всегда нужно давать отпор, они все друг друга стоят.
Аделаида же считала, что теми ударами палки, которые достались Тентену Малоре, ни штанов, ни рубашки сына не починишь. Ей хотелось добиться полной ясности, но Алексис, почуяв опасность, постарался еще больше разбередить старые раны отца.
— Всякий раз, когда что-нибудь происходит, это всегда Тентен виноват. Позавчера он взял и затащил Изабель Дюр за изгородь Деклоса, чтобы там задирать ей юбки.
Однако Одуэн снисходительно покачал головой. В таком возрасте это обходится без последствий, а кроме того, надо же ведь детям учиться. Все, что касается происходивших между мальчишками и девчонками тисканий, кувырканий и тайком пробирающихся под юбки рук, он воспринимал как деликатные и грациозные игры. Поскольку Алексис настаивал на похотливости дылды Тентена, отец почуял душок лицемерия и бросил наугад:
— Только ты забыл сказать нам, что ты ему помогал.
— Я!
— Да, ты…
Тут Алексис смутился.
— Это все потому, что Изабель отбивалась, — признался он, — но я ничего не делал, я только держал ей ноги.
— Черт побери, — возмутился Оноре. — Значит, ты держал ей ноги, а Малоре в это время был там, где интересней!
— По правде сказать, мы по очереди…
Развеселившись от этакого признания, Одуэн остыл. Он был весьма доволен тем, что его мальчишки любят лазить девкам под юбки. Хоть тут-то не походили они на этого сухаря Фердинана, который провел свою унылую юность, уткнувшись в пристежные воротнички и молитвенники; этому клерикалу, напорное, вообще всю жизнь если что и нравилось, то только кобыльи вульвы, потому что такая уж у него натура — быть клерикалом; и что бы он там сейчас ни говорил, в глубине души он так и остался клерикалом. (Как считал Оноре, тороватый самец не может быть клерикалом, так же как не может он быть и роялистом или бонапартистом; только люди с очень уж незадачливым темпераментом, полагал он, могут не испытывать симпатии к Республике, такой широкобедрой, такой полнотелой.)
Алексис, сопровождаемый доброжелательным и задумчивым взглядом отца, отправился на свое место, но тем временем Аделаида, чтобы все-таки погубить его, придумала еще одну уловку. Она заметила Одуэну:
— Ты, конечно, можешь сколько угодно оправдывать его, но пока он занимается фокусами с девками, коровы пользуются этим и уходят в люцерну, а потом их раздувает. Вот сдохнет одна, тогда я посмотрю, как ты будешь смеяться.
Одуэн сразу же посуровел.
— Это правда то, что говорит мать?
— Ну еще бы нет, — настаивала мать. — Взять, например, сегодня: Ружетта вернулась с таким животом, что можно подумать вот-вот отелится.
— Черт побери! — возмутился Одуэн. — Довести скотину до такого состояния… Ты мне скажешь наконец, чем ты целый день занимался?
Алексис ловко защищался: Ружетту, по его слонам, вовсе не раздуло, а просто вид у нее такой, потому что она хорошо поела.
— Единственное, что случилось, пока я дрался с Тентеном, так это — что она забрела на луг к Руньону, но ведь от хорошей травы с ней не могло произойти ничего плохого.
— Конечно же нет, — кивнул подобревший Одуэн.
И когда жена стала говорить, что нужно пойти к Анаис Малоре и выяснить у нее, как и почему у сына оказалась разорвана рубашка, он возразил:
— Я больше слышать ничего не хочу про эту рубашку и прошу тебя оставить Анаис в покое. Когда настанет время поговорить с Малоре, я займусь этим сам.
Не успел он закончить свою фразу, как в дверях появилась запыхавшаяся от бега Жюльетта и тут же присела рядом с отцом.
— Хорошо еще, что бегом неслась, — сказала Аделаида, — а то бы вообще вернулась к полуночи.
— И то верно, — добавил Оноре, — можно было бы пораньше возвращаться домой.
Однако в его голосе не было ровным счетом ничего от упрека, содержавшегося в словах. Жюльетта посмотрела на него, и они оба дружно рассмеялись. Держать себя строго с Жюльеттой у него не получалось: он все еще не мог прийти в себя от изумления, смешанного с гордостью, что ему удалось заполучить от тощей и раздражительной супруги эту высокую девушку с кроткими черными глазами, неторопливым смехом и соблазнительными формами.
— Не вижу никакого повода, чтобы делать ей комплименты, — сказала мать язвительно. — Если она вернулась, то можно с уверенностью сказать, что в эту пору на улице не осталось уже ни одного мужика.
— Правильно, мамочка. Только, знаете, это я сама сказала им идти по домам.
— Я тебя за язык не тянула: их, значит, было несколько?
— Трое, мамочка.
— Когда влюбленных трое, — заметил Одуэн, — можно спать спокойно. И кто же эти шалопаи?
Жюльетта назвала всех троих: Леон Дюр, Батист Рюньон и Ноэль Малоре. Услышав имя третьего, отец нахмурил брови и едва не выругался. Так и будет его повсюду преследовать это отродье Малоре. Однако он сдержался и небрежно спросил:
— Может быть, ты уже знаешь, кто из них окажется настоящим?
Жюльетта слегка покраснела и сухо ответила:
— Я не могу вам сказать.
И, потупившись, стала рассматривать свою тарелку. Одуэн посмотрел на нее долгим взглядом, пожал плечами, встал из-за стола и направился к Мелону.
После визита ветеринара Оноре уже успел поразмышлять над проблемами, которые могли возникнуть с выдвижением кандидатуры Малоре. Открытое противостояние, единственное, что казалось ому достойным, влекло за собой цепь опасных последствий. Дом Одуэнов пришлось бы покинуть, даже если бы брат и не стал его к этому принуждать; не имея ни дома, ни денег, почти не имея земли, спять какое-нибудь жилье в Клакбю или в другом месте и пойти в поденщики, чтобы хоть как-то прокормить семью? Самым разумным было бы, очевидно, отправиться работать на завод, так как в городе могли бы подыскать себе работу жена и дети.
«А почему бы не рискнуть? — размышлял Оноре. — Работает же Альфонс на заводе».
Однако от одной только мысли об этом внутри у него что-то сжималось. В сорок пять лет отправляться работать в город, больше не ощущать чувствительным, как палец, носком башмака поддетый им рассыпающийся комок земли, ничего больше не ждать ни от дождя, ни от солнца, не быть больше один на один с горизонтом… а натыкаться взглядом на стены и на железяки, держать в руках инструменты, которые принадлежат не только тебе одному, мочиться в установленные часы на какой-нибудь кусок жести… Если нужно, то что говорить. Оноре не собирался поступаться ни своей обидой, ни своей республиканской совестью. Тем не менее он предпочел бы избежать конфликта, издержки которого пришлось бы платить ему одному, и хотел надеяться, что Меслон, несмотря на болезнь и свои семьдесят два года, еще поживет. Он торопился самолично у ни деть, в каком состоянии находится старик.
Меслоны заканчивали вечернюю трапезу. Их было десять, сидевших вокруг длинного стола, и еще старая хозяйка, по обычаю евшая стоя. Фитиль в лампе был опущен, и разговаривали они тихими голосами, так как дверь в комнату больного оставалась приоткрытой.
— Я пришел поздно, — сказал Одуэн вполголоса. — Вы же сами знаете, днем работа не позволяет.
Хозяйка знаком показала одному из ребят, чтобы он пододвинул стул.
— Ну что ж, это любезно с твоей стороны, Оноре. Старик будет рад, еще сегодня утром он вспоминал о тебе. Неважные у него, у моего Филибера, сейчас дела: конец уже не за горами. И кто бы мог подумать? Такой сноровистый, такой крепкий, а прямой — что твоя жердь.
Она повернула голову, как бы призывая всех Меслонов в свидетели. По сидящему вокруг длинного стола семейству прошло торжественное, медленное движение, и послышался шепот:
— Правда, правда, такой был сильный. И такой сноровистый — нужно было видеть. Работал, как никто.
В улыбке старухи отразились и гордость и отчаяние одновременно.
— А теперь уж целую неделю ничегошеньки не ест, вот до чего дошло. Завтра, мой бедный Оноре, будет уже восемь дней. Такой сильный человек, а?
Одуэн произнес обнадеживающие слова, которые придали ему самому немного бодрости. Тут через приоткрытую дверь донесся сухой, наполнявшийся в конце фраз дрожанием голос:
— Это ты там, Оноре, разговариваешь на кухне? Зайди-ка сюда.
Оноре, ступая вслед за старухой, несущей лампу, вошел в спальню. Филибер Меслон лежал на своей кровати; щеки у него ввалились, глаза потухли. Увидев его, настолько худого и бледного, что без тонюсенькой струйки дыхания, сочившейся с предсмертным шумом меж белых губ, его можно было бы принять за покойника, Оноре почувствовал, как от жалости у него перехватило горло. Он попытался сказать веселым голосом:
— Здоровьичка вам, Филибер. Мне-то говорили, что вы приболели, а я смотрю, вид у вас хоть куда.
Старик обратил на него свои утратившие блеск зрачки и знаком попросил сесть.
— Хорошо, что ты пришел. Самое время.
Он говорил по-прежнему тем же высоким и сухим, привыкшим командовать голосом, так, как говорил в муниципальном совете, но только теперь голос быстро выдыхался, а временами и вовсе пропадал.
— Совсем уж помираю, — сказал он еще.
Оноре и старуха дружно запротестовали. Филибер сделал нетерпеливый жест.
— Выбирать не приходится, — продолжил он, — обидно вот только, что прямо посреди жатвы.
— Ну к отаве вы поправитесь, — сказал Оноре.
— Нет, — улыбнулся Меслон, — отавы мне уже не видать. Я буду помогать ей расти.
Обессилев, он прикрыл веки; рука его прижалась к вздымающейся груди, откуда послышался переливчатый хрип, Одуэн, решив, что надо оставить его и покое, на цыпочках направился к двери, но Филибер, не открывая глаз, произнес:
— Останься, малыш. А ты, жена, — на кухню. И накрой дверь, мне нужно ему кое-что сказать.
Когда старуха вышла из комнаты, Меслон приоткрыл глаза. Оноре сидел возле кровати и с любопытством ждал. Даже вопросительно вскинув подбородок. Старик некоторое время молчал, и могло показаться, что он забыл о присутствии Оноре… Вдруг он приподнялся на подушке, полыхнул огнем взгляд его широко раскрытых глаз, лицо оживилось и руки пришли в движение, усталые губы напряглись гневом и иронией. Он выговорил резким, на грани срыва голосом:
— Ну вот, похоже, клерикалы начинают гоношиться.
Оноре помолчал немного, прикидывая в уме, уж не дошли ли до Меслона какие-нибудь сведения о маневрах Малоре? Он качнул головой и сказал осторожно:
— Знаете, этих людей с их генералом Буланже не поймешь. За него есть и республиканцы и клерикалы. Я не очень-то разбираюсь в политике, но скажу вам, я им не очень-то доверяю…
Нетерпеливым жестом Филибер прервал его. Сам он рассчитывал на генерала Буланже, дабы тот выполнил работу истинного республиканца, то есть вернул бы Эльзас и Лотарингию, подавил реакцию, освободил Польшу и прогнал бы всех тиранов Европы.
— Мне нужен военный, — сказал он, — и такой военный, который не был бы маркизом. Но я хотел поговорить не об этом. Сейчас есть кое-что более срочное. Оноре, вокруг поста мэра Клакбю ведутся интриги.
— Да ну что вы, Филибер, это вам просто так кажется.
— Кое-кто только и ждет когда я умру, чтобы занять мое место. Так-то вот, клерикалы не дремлют.
— Ведь их же в Совете всего четверо, — возразил Оноре.
— Но они упрямые и опасные. К тому же если бы речь шла только о них…
Одуэн почувствовал, что его опасения имеют под собой вполне реальную почву. Он подумал о доме ветеринара, удобном доме, где было достаточно места и для людей и для скотины; о крепко сколоченном доме с исправными дымоходами, с садом впереди, садом позади и полями вокруг. Он решил не выдавать своего беспокойства, да ведь пока и в самом деле ничего не угрожало.
— Послушай, Филибер, я тоже стал республиканцем не вчера. Я встречаюсь с людьми, разговариваю с ними, не далее как в четверг вечером был в совете. Поверьте мне, глаз у меня наметанный; так вот что я могу вам сказать: не грозит нам пока ничего.
— Боже мой, но ведь и я тоже встречаюсь с людьми. Кюре три раза наведался ко мне на неделе…
— О! Кюре… Стоит кому-нибудь прилечь с насморком, как он уже тут как тут.
От приступа ярости Филибер даже весь затрясся.
— Да, но зачем тогда он все толковал мне о политике? Дух согласия, дух согласия, толковал он, призовите-де ваших друзей к умеренности, и уж я не знаю что еще… Если бы он не был мне нужен, чтобы помочь подохнуть, я бы просто попросил своих парней выставить его за дверь. Ишь, дух согласия… Так что, когда я тебе говорю, что эти люди будут всегда стремиться оседлать нас…
От усталости и гнева у него сорвалось дыхание; грудь его мелко задрожала от одышки, глаза, полные страдания и ужаса, ввалились, мышцы шеи напряглись. Он широко раскрыл рот, вытянул вперед руки и громко захрапел. У Оноре мелькнула мысль, что больной вот-вот умрет у него на руках. Он взял его за запястье и тихо позвал:
— Филибер… ну же! Филибер…
— Нас, оседлать нас… — тоненьким голоском выдавил из себя старик.
Оноре, как веером, стал обмахивать его лицо своей шляпой. Дыхание выравнялось, стянутые судорогой мускулы лица постепенно расслабились. Старик не терял ни секунды:
— Если их раз и навсегда не поставить на место, они так и будут висеть постоянной угрозой…
— Это уж точно, — согласился Оноре.
— Точно, как и то, что Зеф Малоре зарится на мэрию, — сказал Меслон, пристально глядя на Оноре.
— Ну что вы такое говорите, Филибер?
— Только не надо со мной разыгрывать комедию, тебе прекрасно все известно о маневрах Зефа, раз вы вдруг стали такими друзьями.
Провожаемый насмешливым взглядом Филибера Оноре задумчиво сделал несколько шагов по комнате и, садясь, сказал:
— Ну раз вы все знаете, то вы должны знать и то, что плевать я на него хотел, на этого Зефа.
Старик рассмеялся тоненьким, полным оскорбительной иронии смехом:
— Хорошо говоришь. И отец у тебя такой же был: тоже любил поорать, когда, бывало, кто-то ему не угодит, но чуть что, стоило Жюлю увидеть какую-нибудь выгоду для себя, как он тут же готов был лизать задницу.
Оноре не страдал от избытка уважения к своему покойному отцу, которого при жизни презирал; однако теперь, вспоминая его, он отзывался о нем не иначе как с похвалой. Делал он это не ради какого-то обязательного пиетета и не из гордости; просто он смотрел на память о родителях как на приличную мебель, за которой следует ухаживать с должным вниманием. Он собрался было придумать какой-нибудь обидный для Меслона ответ, но старик, переведи дух, опередил его:
— Ко мне тут брат твой заходил сегодня под вечер. Пересказал мне все увещевания кюре, правда, еще более нудно, чем это делает он. Суть такова, что на границей вроде бы надвигаются серьезные события. И чтобы быть к ним готовыми, нужно прежде всего добиться единства внутри страны…
При этом Филибер не удержался от усмешки. Он-то сам считал, что, прежде чем предпринимать что-либо в отношении границ, нужно очистить страну от гангрены, реакции, пожирающей здоровые силы нации.
— Примирение, умеренность, дух согласия. Ну, прямо вылитый кюре. В Клакбю у клерикалов четыре советника, и, чтобы засвидетельствовать свою добрую волю, можно было бы отдать им еще и мэрию. Я узнал, что Зеф Малоре вовсе не является ревностным почитателем кропильницы и что он дружески настроен к республиканцам. Твой брат считает, что трудностей с этим никаких не возникнет — коль скоро ты с ним согласен.
Оноре сначала колебался, стоит ли делать такие признания Филиберу, но потом решился:
— Вам я могу рассказать все — вам ведь здесь не так долго оставаться. Хоть это и не бросалось в глаза, но мы с братом всегда не слишком ладили; вот и сегодня днем опять поругались. Я сказал ему, что буду стоять до последнего против него и против Малоре, и что если он будет защищать этого мерзавца, то я уеду из дома, который, как вам известно, принадлежит Фердинану. Я это пообещал, и я это обещание выполню.
Старик скорчился в кровати, смеясь тихим, отрывистым смехом.
— Я так и знал… Черт побери, Одуэн… мне так тяжело смеяться.
Он перевел дух и уже серьезно добавил:
— А о доме не сокрушайся, просто переезжай к нам, и все. Там, где есть место для двенадцати, найдется и для двадцати. Твои парнишки будут спать вместе с нашими мальчишками, а девчонки — с нашими девчонками. Разумеется, работать ты будешь на нас.
— И все-таки, — сказал Оноре, — я предпочел бы, чтобы все уладилось. Когда люди увидят, что я больше не живу в доме, у меня не будет того влияния, которое мне необходимо, чтобы преградить путь Зефу. Вот если бы вам удалось протянуть еще чуток…
— На меня рассчитывать не надо, — как бы извинился Меслон. — Что ты хочешь, мне здесь уже нечего делать…
— Ну хотя бы месяц. За это время я бы управился.
— Нет, Оноре, не дело ты говоришь. Когда остается жить всего три дня, то и это очень тяжело. И к тому же болезнь не дешево обходится.
— Разницу я вам оплачу; ведь то, что вы съедаете, это же не…
— А еще лекарства, а время, которое на меня тратят.
— Я же сказал вам, что заплачу. Что, вам разве хочется, чтобы мэром Клакбю стал Зеф?
— Ладно: три недели. Это все, что я могу тебе дать.
— Хорошо, но начиная с завтрашнего дня, с полудня.
— Идет, но только мы договорились, что ты платишь аптекарю и еще двадцать пять су за каждый истекший день?
Оноре дал ему честное слово. Старик улыбнулся при мысли, что он все еще неплохо зарабатывает себе на жизнь, потом настроился пожить три недели, начиная с воскресенья, то есть с пополудни следующего дня.
V
Ветеринар сел за письменный стол, взял лист бумаги с напечатанным вверху его именем и, воздев глаза к зеленой кобыле, некоторое время обдумывал снос письмо. Ему хотелось, чтобы оно было одновременно и решительным, и сердечным, и сдержанным, и обворожительным. От мыслительного усилия скулы его порозовели, лоб покрылся морщинами, и он потянул себя за кончики своих чахлых усов. Наконец он обрел в себе уверенность и на едином дыхании написал.
«Мой дорогой Оноре. В начале недели у вороного случились колики, и о том, чтобы запрягать его в ландо, пока что нечего и думать. С другой стороны, рыжий на своем месте только в оглоблях кабриолета; он еще молод, ретив и не приучен экономить силы. Если его запрячь в ландо, он будет тянуть в привычном ему темпе и скоро устанет. Поэтому в воскресенье утром мы доедем на поезде до Вальбюисона, а Менеаль, который у меня в должниках, отвезет нас в Клакбю, а вечером заберет и привезет к поезду, который отправляется в шесть тридцать.
Дети с удовольствием проведут день со своими кузенами, а моей жене будет приятно повидаться с Аделаидой. Семейные встречи — это всегда радостное событие; наш дорогой папочка часто говорил, что доброе согласие между братьями и сестрами стоит помещения капитала в государственные бумаги. В связи с этим я вспоминаю, что в прошлую субботу мы оба слегка погорячились. Я долго размышлял над той горькой историей, которую ты должен был бы рассказать мне пораньше, и у меня возникли кое-какие мысли, которые я не рискую доверить превратностям почты. Так что поговорим обо всем этом в воскресенье на досуге на свежую голову. Однако считаю не лишним уже сейчас предостеречь тебя от опрометчивых шагов, которые, если хорошенько поразмыслить, оправдать можно лишь нежеланием видеть дальше собственного носа. Ибо не станешь же ты отрицать, что во всем этом деле есть две совершенно разные вещи: то есть, с одной стороны, обязанность дать Клакбю мэра, который отвечал бы потребностям момента; а с другой стороны, твоя справедливая обида на З… (ты понимаешь, о ком я говорю). Эта твоя обида является и моей обидой тоже; ты же знаешь, как я чутко реагирую на все, что касается семьи, знаешь, что ради сохранения чести нашего имени я готов принести любую жертву. Однако выше семьи, я бы даже сказал, выше своих политических убеждений я без колебаний ставлю родину. Впрочем, тут я лишь следую примеру и заветам нашего дорогого папочки, который, несмотря на свою многолетнюю любовь к Империи, во имя интересов страны не стал противиться тому, чтобы и в лоне Республики занять свою должность. Память об этом славном уроке патриотизма сейчас актуальна как никогда: ведь не в такой же момент, когда Франция, уже давно лишенная бдительности генерала Буланже в военном министерстве, опять наталкивается на коварные провокации бошей, следует идти на поводу у чувства личной обиды. Не позже чем через два года, а то и в будущем году, как по секрету сообщили мне хорошо осведомленные люди, будет война. Вот почему необходимо, чтобы страна объединилась перед лицом опасности, естественно, в той мере, в какой может иметь место союз с реакционерами. Осуществление подобного альянса, который возможен нынче лишь вокруг имени генерала Буланже, разумеется, требует деликатного подхода. В Клакбю, например, людей, положение и личность которых могли снискать доверие обеих сторон, раз-два и обчелся. У республиканцев я вижу только тебя и Максима Труске. Но ты не хочешь быть мэром, что, кстати, и правильно, так как принимая безоговорочно сторону генерала, чье будущее пока еще неопределенно, ты рисковал бы скомпрометировать имя Одуэнов во всем округе. Что же касается Максима, то считаю его способным стать искусным и самоотверженным мэром, но следует все же принять во внимание, что он не умеет ни читать, ни писать.
Остаются клерикалы, ты их знаешь, большинство из них проявили себя слишком непримиримыми, чтобы рассчитывать на какой-либо кредит доверия у республиканцев. Я знаю только одного, который способен стать связующим звеном. На последних заседаниях Совета можно было видеть, как решительно он стремился примирить обе стороны в дебатах по поводу распределения участков дровяного леса. Я вынужден признать, что человек, которого я имею в виду, — это как раз и есть 3… (ты понимаешь, о ком я говорю). По моему мнению, тот, кто прокладывает ему путь в мэрию, поступает как истинный патриот и верный республиканец.
Вот почему, отнюдь не желая преуменьшать досадных последствий его опрометчивости, я полагаю, что немало следует сказать и о том злопамятном чувстве, в котором мы упорствуем, может быть, оттого, что нам не хватает хладнокровия. То, что этот человек частично несет ответственность за грозившую тебе опасность (явившуюся в какой-то мере следствием и твоей опрометчивости тоже), я с тобой согласен, хотя эффект неожиданности служит смягчающим обстоятельством. Однако так или иначе, это дело касается только вас двоих, и я не хочу в него вмешиваться; разве что, дабы покончить с этим пунктом, позволю себе воззвать к твоему великодушию. Остается рассмотреть то печальное происшествие, случившееся с нашей матушкой, которое, по всей видимости, явилось следствием болтливости 3… Ты поймешь, почему я говорю „по всей видимости“, если согласишься правильно понять ситуацию, в которой находилась наша матушка в момент этого мучительного испытания.
Когда баварский сержант со своим отделением появился из-за поворота дороги и когда перед ним предстал изолированный, почти пустой дом с одинокой, выглядывавшей из окна женщиной, то не логично ли предположить, что именно в этот момент он и принял дурное решение? Ты ведь сам во время нашей последней встречи говорил мне, что баварцы — это скоты, которые поддерживают свою воинственность лишь с помощью убийств, грабежа и особенно насилия. Я ограничусь тем, что напомню тебе про случай с Луизой Беф, подвергшейся нападению сразу одиннадцати этих вахлаков. Так что, похоже, что присутствие ополченца в доме явилось для сержанта всего лишь удобным предлогом; предлогом, который избавлял его от необходимости прибегать к силе и позволял ему вести дело наедине в отсутствие его двенадцати или пятнадцати солдафонов. И я с ужасом думаю о том, какому унижению могла бы подвергнуться наша дорогая матушка, не будь этого предлога. Сделка, конечно, возмутительная, но ведь, в конце концов, она же уступила только одному, причем сержанту, унтер-офицеру. Может быть, этот человек был даже офицером? Кроме того, наша матушка была уже не молода, а когда женщине за пятьдесят, то она переживает некоторые обиды не так остро, как во цвете лет.
Так уж получается, что аргументы возникают в моем сознании с такой неодолимой силой, что я был вынужден отказаться от первоначального намерения: оставить эту деликатную тему до нашей ближайшей встречи. И вот теперь я сомневаюсь, стоит ли мне отправлять это письмо, где я сделал кое-какие выводы, которые, быть может, покажутся тебе несколько поспешными, но которые во время более обстоятельной беседы, я уверен, предстанут перед тобой во всей их обоснованности. Дорогой мой Оноре, Элен и дети присоединяются ко мне, чтобы засвидетельствовать тебе и твоей семье нашу искреннюю любовь. Главное же, прошу тебя не очень распространяться по поводу того, что я сказал тебе о генерале Буланже. Лучше не заходить слишком далеко по пути, который еще не совсем расчищен: даже сам Вальтье и тот вроде бы колеблется. Не забудь, если будешь писать мне, сообщить о том, как идут дела у бедняги Меслона.
С наилучшими пожеланиями
Твой брат Фердинан».
Ветеринар перечитал письмо только один раз. Очарованный удачными переходами и вкрадчивой решительностью своих аргументов, он без лишних колебаний сунул его в конверт, схватил шляпу-котелок и направился к двери. Идя по улице, он все еще продолжал пересказывать в уме отдельные пассажи и радоваться к месту поставленным запятым. Прохожие обращали внимание на его почти улыбающееся лицо и в городе потом два дня ходили слухи, что он получил наследство. Однако, бросив письмо в почтовый ящик, ветеринар тут же подумал о том, какую грозную тайну он только что доверил почте, и под рубашкой у него прокатилась волна ужаса и сожаления. Впрочем, он тут же решил, что это с его стороны не более чем дань малодушию, и взял себя в руки.
Письмо было проштемпелевано после обеда, пропело ночь на сен-маржлонской почте и утром следующего дня выехало на поезде в Вальбюисон, прибыло туда в половине девятого, а в девять уже лежало на почте. Почтовая служащая проштемпелевала его вторично, положила в пакет для писем, и оно поступило во владение клакбюкского почтальона.
В то утро у Деода было пятнадцать писем и три газеты. Он вышел из Вальбюисона, когда еще не пробило десяти, и ему оставалось преодолеть девять километров, отделявших его от Клакбю. Письма были ровным рядком уложены в кожаную сумку, висевшую на перекинутом через плечо ремне, и он шел бодрым шагом, не торопясь, а именно с той скоростью, с какой нужно. Он размышлял о своих письмах, повторяя в уме имена адресатов в том порядке, в каком они будут встречаться ему на пути, причем ни разу не ошибся — доказательство того, что он знал свое ремесло.
У подножия Красного Холма Деода сказал себе: «Вот поднимусь на косогор и можно будет сказать, что я поднялся на косогор». И он засмеялся, потому что это была правда: поднявшись на косогор, можно было действительно утверждать, что он это сделал. Он шел степенно, как и положено степенному, спокойному человеку; разумному человеку, который знает свое дело, хорошему почтальону. Ему было жарко оттого, что солнце сильно припекало, но еще и оттого, что форма его была сшита из хорошей ткани. Так что жаловаться на жару он не собирался. Еще чего.
Деода поднимался по косогору и думал о том, что он работает почтальоном. Это была хорошая должность. Если бы он не заслужил ее, он бы не получил эту должность. Чтобы быть хорошим почтальоном (ведь почтальон почтальону рознь, как во всяком деле), нужно знать, что к чему, но прежде всего нужно уметь ходить. А это не всякому дано, хотя многие думают, что умеют. Ну взять хотя бы такой пример: помчится кто-нибудь сломя голову в Вальбюисон за почтой для Клакбю, и что из этого выйдет? Обратно он еле притащит ноги, и даже если ему удастся разнести все письма, то как он будет выглядеть в глазах людей? Чтобы быть почтальоном, нужно ведь все-таки быть обходительным с адресатами, а человеку, у которого болит нога, не до любезностей. Ну а если кто-то пойдет в Вальбюисон на ватных ногах? Впрочем, нет: все. и перечислить даже невозможно. В то время как главное — это идти степенно, идти так, как ходят степенные люди, и при этом смотреть, куда идешь, чтобы не наступить, чего доброго, на оставленную коровой лепешку. Так ведь никаких башмаков не напасешься, если не будешь глядеть в оба.
Деода дошел до вершины Красного Холма. И громко сказал: «Вот Клакбю». У каждого свои привычки. Он, поднявшись на вершину Красного Холма, говорит: «Вот Клакбю». И Клакбю никогда не обманывает его ожиданий: вот первый дом справа, вот второй дом слева. И он спускается в деревню, размышляя о том, что он работает почтальоном. Это хорошая должность, хорошее ремесло. Можно говорить что угодно про ремесло почтальона, — а по существу говорить-то нечего, — но ремесло это хорошее. Приходится, конечно, ухаживать за формой, но зато у того, кто за ней ухаживает, вид всегда аккуратный. Когда люди встречают на улице почтальона, то они сразу видят, что это почтальон.
Первый дом распахивает свое окно со ставнями и говорит почтальону:
— Ну что, разносишь почту?
— Да, — отвечает Деода, — разношу почту.
Второй дом ничего не говорит. Это потому, что в нем никого нет. Когда наступает очередь третьего дома, Деода подносит руку к своей сумке и, входя во двор, зовет:
— Вдова Домине!
Вдова Домине, должно быть, сейчас в саду. Он мог бы положить письмо на подоконник и прижать его камнем. Но он ждет. Старуха услышала и шаркает своими башмаками в углу дома.
— День тебе добрый, Деода, жарко тебе сейчас разносить почту!
— И вам, Жюстина, добрый день. Копаться в саду сейчас тоже жарко.
После надлежащего обмена любезностями он протягивает ей письмо и произносит своим служебным голосом:
— Вдове Домине.
Старуха недоверчиво посмотрела на письмо и, не думая его брать, похлопала по карманам своего фартука в поисках очков. Однако, когда не умеешь читать, от очков проку не очень много.
— Это от моей Анжелы. Скажи-ка, что она мне пишет.
Деода не чванится и читает ей письмо. Читает и одновременно думает о том, что образование — вещь полезная. Когда он заканчивает чтение, старуха наклоняется к нему и спрашивает:
— Ну так что же она мне там говорит?
Вдова Домине ничего не поняла из письма своей дочери. Когда читают по написанному, то получается все совсем не так, как когда разговаривают. Деода объяснил ей, что Анжела здорова и что ей предлагают место, где она будет зарабатывать девяносто франков в год да еще получит башмаки.
— А заканчивая письмо, она вам говорит: «Дорогая матушка, я думаю, что ваше здоровье улучшилось и что вы продолжаете и дальше так же». Понимаете, это она, чтобы сказать вам любезность, это она советует вам лечиться.
Вдова Домине качает головой. Вот не поверила бы.
А Деода проходит еще километр, чтобы отдать три оставшиеся письма. В Клакбю переписка ведется небольшая, а ему хотелось бы, чтобы писем было много и чтобы было восстановлено справедливое равновесие между затраченным усилием и выполненной работой. Ему хотелось бы иметь по письму на каждый дом. Но раз уж не получается, то тут ничего не поделаешь. В конце концов, он ведь раздает то, что имеет. Не может же он их сам сочинять. Деода идет посреди дороги, идет степенно, как любой достойный человек, знающий, куда он направляется. Если подъедет повозка, то он пойдет по правой стороне. Это если подъедет повозка, или, например, появится стадо, или какая-нибудь процессия. В профессии почтальона нужно быть готовым ко всему. Он шагает между живой изгородью и рощицей из акаций. Тут красиво: роса на изгороди, высокие акации. Но он об этом ничего не знает, ему необязательно думать об этом, Он спокойно идет себе да идет. На плечах у него большая круглая голова, которая служит ему добрую службу в его ремесле. По правде сказать, он не мог бы без нее обходиться именно потому, что он почтальон. И к тому же, если бы у него не было головы, что он делал бы со своей фуражкой?
Не дойдя до поворота, Деода берет правее, потому что слышит шум. Пока еще не ясно, что это такое.
«У меня есть время пописать», — думает он. Когда отшагаешь девять километров, то в этом нет ничего неожиданного, и он не спеша писает. Есть люди, которые писают вслепую, не глядя на то, что они делают. Уважающий себя почтальон так не может: ведь чтобы ты не делал, ты делаешь свое дело. Покончив с этим своим занятием, Деода легонько сгибает ноги в коленях, чтобы не жали штаны, и снова отправляется в путь. Шум усиливается, и, дойдя до поворота, Деода понимает: это ссорятся возвращающиеся из школы дети. Деода узнает их всех, так как знать всех жителей Клакбю — это как раз и есть его профессия. Среди них двое младших Одуэнов: Гюстав и Клотильда, трое Меслонов, Тентен Малоре, Нарсис Рюньон, Алина Дюр и другие. В общей сложности не больше дюжины, а заняли всю дорогу и орут так, что это переходит все пределы разумного.
Спор разгорелся из-за птички, улетевшей за изгородь. Никто не успел разглядеть ее, в том числе и Тентен Малоре, но он стал утверждать, что это жаворонок, причем с таким видом, что вызвал недовольство других. Жюд, старший из Меслонов, спокойно ответил:
— Понимаешь, а мне так показалось, что это был рак.
Естественно, это была всего лишь такая ироничная манера разговаривать: ведь никто никогда не видел, чтобы раки летали. Тентена это рассердило:
— А что же это такое, как не жаворонок?
Гюстав Одуэн заявил, что птичка была синицей, и три Меслона присоединились к его мнению. Тентен Малоре рассмеялся, сказав, что принять эту птичку за синицу можно только если у тебя глаза залиты лошадиной мочой. Жюду не хотелось, чтобы последнее слово оставалось за Тентеном, и он бесстрастно сказал ему:
— Только клерикалу может прийти в голову мысль принять синицу за жаворонка.
Дело сразу приняло совсем иной оборот. Нарсис Рюньон, Алина Дюр, Тентен Малоре, Леон Беф и Нестор Русселье дружно выступили против синицы. Трое Меслонов и двое Одуэнов продолжали настаивать на своем.
Когда Деода поравнялся со спорщиками, про птицу все забыли. И уже обзывали друг друга ябедами или летающей дрянью, освященными лопухами, сукиным отродьем, ублюдками, заячьим дерьмом и стоеросовыми республиканцами. Появление почтальона могло бы утихомирить страсти, но Жюд Меслон взял его в свидетели:
— Вы посмотрите только на этих свиней, которые орут на нас только из-за того, что мы голосуем за Республику!
Деода в недоумении остановился. Он никогда не встревал в политику и ничего в ней не понимал. Однако тут он попытался решить простое уравнение. Коль скоро он подчиняется правительству, то он является почтальоном Республики и, значит, является республиканцем.
— Нужно быть за Республику, — говорит он. — Республиканцы…
Но Тентен не дает ему говорить. Этих республиканцев, сообщает он, на прошлой неделе у него дома свинья принесла сразу целых четырнадцать штук, и, похлопывая себя ниже пояса, предложил почтальону очки собственного изготовления. Деода от неожиданности и справедливого гнева замер с разинутым ртом. Тем временем обмен ругательствами возобновляется. Охваченный внезапным вдохновением, Нестор Русселье заводит песню, и все, кто на стороне жаворонка, подхватывают ее, громко скандируя:
Республиканцы. Вы голодранцы. В навозной жиже задницу купаете. А потом шлюшачыо шкуру свою, Шлюшачыо шкуру отмываете…И тут Деода вдруг забывает, что он почтальон, голова его затуманивается от воинственного угара, а нежно-фарфоровые глаза начинают метать зловещие молнии. Он обо всем забыл. Он внезапно забыл про дорогу, по которой ходишь неторопливо и степенно, как всякий степенный человек, как истинный почтальон Бога и Правительства. Его касающаяся бедра сумка превращается в сумку школьника, куда тот уложил свой учебник по арифметике, катехизис и книгу для чтения. Теперь роса на живой изгороди и запах акаций, словно хмель, застилают ему глаза, ударяют в ноздри. Когда Деода увидел, как Клотильда Одуэн повисла на косичках Алины Дюр, а Тентен плюнул в лицо Меслонам, он забыл о своем возрасте. Если бы он дотронулся рукой до своих пышных седых усов, память вернулась бы к нему. Но Деода слышит звон пощечин; слышит, как республиканцы запевают боевую песню; он, обозревая дерущихся с высоты своего роста, бросается в их кучу, полнозвучным голосом подхватывает песню, вопя громче детей и одновременно осыпая подзатыльниками Малоре:
— Клерикальная рожа — на дерьмо натянутая Кожа. — Тридцать шесть кусков падали — клерикалам в рот попадали…
Наполучав пинков и подзатыльников, Малоре со своими приятелями отступает. Песня реакции стихла, а песня другой клики вспугивает с изгороди последних задержавшихся там синиц… «Тридцать шесть кусков падали…» Деода, запыхавшись, выпрямляется во весь свой рост, и кажется гигантом рядом со своими друзьями-школьниками. Он громко смоется беззлобным и одновременно торжествующим смехом, от которого шевелятся кончики его пушистых седых усов. Жюд смеется вместе с ним:
— Черт побери, Деода, ну и лихой же вы почтальон…
Но воинственный пыл Деода так же стремительно угас, как и вспыхнул. Во время битвы его сумка школьника раскрылась, и письма упали в дорожную пыль. Ах! Почтальон Деода, славный ты человек; внимая песням, ты забыл, что являешься почтальоном.
— Одного не хватает!
Он пересчитал письма, ощупал свои карманы, заглянул в фуражку.
— Может быть, оно перелетело за изгородь, — высказывает предположение Жюд Меслон.
Ребята обшаривают заросли, прочесывают канавы. А противники, в сотне метров от них перестроив спои ряды, вновь затягивают: «В навозной жиже задницу купайте…» Однако Деода больше ничего не слышит. Он думает о своем письме — потерянное, оно стало дороже ему, чем все остальные. Это было его лучшее письмо. Он думает о том, как бы он прошел (степенно, как степенный человек, как почтальон, осознающий, что он является почтальоном) отрезок пути, ведущий к Оноре Одуэну, дабы вручить письмо адресату. Оноре сказал бы ему: «Ну что, Деода, на сегодня уже заканчиваешь свою работу?» А он ответил бы: «Да, на сегодня уже заканчиваю». И они бы поговорили о том, о сем… Внезапно ползавший на четвереньках в канаве Жюд Меслон выпрямился — его вдруг осенило…
— Письмо, это Тентен Малоре его взял. Я припоминаю, как он нагнулся и что-то положил в карман, когда я отвешивал ему башмаком по шее.
Клотильда Одуэн тоже утверждает, что видела это.
— Ты не могла видеть, — замечает Жюд, — ты еще лежала плашмя на животе, после того как Алина ударила тебя по ногам.
— Видела я.
Деода устремляется в погоню за Тентеном. Это он-то, славный почтальон Деода, и вдруг несется во весь опор. Из-за песенки, поразившей его слух, из-за ударившего ему в нос запаха акаций он теперь бежит по дороге, бежит на своих правительственных ногах. Вместо того чтобы идти размеренным шагом почтальона, не слишком быстро и не слишком медленно.
— Тентен! Подожди меня, миленький!
Шайка Тентена уже рассеялась по тропинкам; Деода слышит удаляющиеся взрывы смеха и отрывки песенки: «В навозной жиже задницу купайте…» Запыхавшись, он прислоняется к стволу вишневого дерева, даже не думая о том, что шероховатая кора может помять его форму. У него в сумке не хватает одного письма, и душа его страдает.
— Деода, что с вами?
Жюльетта Одуэн держится рукой за вишню и улыбается почтальону.
— Все хорошеешь, Жюльетта. Я потерял письмо для твоего отца, и мне говорят, что его подобрал Тентен Малоре.
— Значит, вам нужно потребовать письмо у его отца.
Деода уже сам думал об этом, но как объяснить Зефу, что он только что подрался с детьми? Он рассказал обо всем Жюльетте. Она засмеялась без тени иронии; ей кажется, это так естественно — пойти на поводу у песни.
— Послушайте: а вы скажите Зефу, что разнимали дерущихся ребят. Он поверит.
Деода продолжал путь своим обычным шагом почтальона, но теперь в его фарфоровых глазах поблескивало отражение девичьей хитрости. Жюльетта проследила за ним взглядом, потом пересекла луг и попала на зажатую с обеих сторон изгородями тропинку, где ее ждал Ноэль Малоре. Это был приземистый, очень черноволосый парень с уже настоящими мужскими усами.
— А я уже начал сомневаться, придешь ли ты.
— Тебе пришлось подождать меня, я думаю, всего минут пятнадцать, не больше.
Они смотрят друг на друга глаза в глаза; у Жюльетты спокойный, смелый взгляд, который Ноэлю выдержать трудно. Им нечего сказать друг другу, и поэтому они ничего не говорят. Однако каждая уходящая минута приносит Жюльетте разочарование.
— Как жарко, — говорит наконец Ноэль.
— Время года такое.
— Пора идти ужинать. Сегодня вечером встретимся, как обычно?
— Если хочешь.
Они расходятся, и Жюльетте в который раз приходит мысль, что Ноэль довольно глуп.
Поначалу почтальону Деода кажется, что ему повезло: Зеф стоит на пороге своего дома, а Тентен рядом с ним.
— Ты представляешь, — говорит почтальон, — шел я сейчас, и на пути мне попадаются дерущиеся мальчишки.
Зеф обернулся к сыну и строго посмотрел на него.
— И я готов поспорить, что вот этот оказался самым ярым.
— Да, совершенно точно, — соглашается Деода, забыв, что ему нужно быть хитрым. — И пока я дрался с ними, он забрал у меня письмо, выпавшее из моей сумки.
— Это правда? — спрашивает отец.
Тентен стойко защищается. Он взял письмо? До собирания ли писем ему было, когда на него со всех сторон сыпались удары по голове и по спине. Чем терпеть такие оскорбительные для него подозрения, он предпочтет, чтобы его немедленно обыскали.
Зеф поднимает на Деода взгляд своих красивых бесхитростных глаз.
— Если он действительно взял твое письмо, оно должно быть еще при нем: после своего возвращения он не отходил от меня. Хочешь, чтобы его обыскали?
Тентена обыскали с головы до ног, заставили его сиять штаны, перетрясли рубашку, ощупали сзади, перелистали его книги.
— Ничего нет, — констатирует отец. — Видишь, ничего.
Почтальон вынужден с ним согласиться.
— Что скажет Оноре? Письмо-то могло быть срочное.
В больших честных глазах Малоре загорается огонек. В Клакбю по крайней мере полдюжины людей носят имя Оноре. По выражению его лица было видно, что ему весьма интересно, кому из них адресовано письмо.
— Это не твоя вина, — говорит он, — тебе просто нужно будет объяснить Одуэну, что произошло.
— Да, надо пойти сказать ему, — вздыхает почтальон.
Деода уходит искать Оноре; он даже забыл, что у него еще остались письма, которые нужно разнести по пути. На отрезке в пятьсот метров разбилась его жизнь.
Зеф Малоре затолкнул своего сына в конюшню. Сняв с крюка сплетенный из четырех косичек кнут, он стал стегать его по икрам ног и приговаривать спокойным, мерным голоском, от которого весь дом бросало в дрожь:
— Или ты скажешь мне, куда дел письмо Одуэну, или я ручкой кнута переломаю тебе все ребра.
Соображения кобылы
Оноре любил свою жену еще и из-за детей, которых она ему рожала. Стоило ему увидеть ее беременной, как он начинал восхищаться, какими крупными объемами обернулось его удовольствие. Он смотрел на своих детей как на былые желания и радовался, видя их вновь такими тепленькими, с такими живыми глазками и разноцветными шевелюрами. Его две дочери и три сына являлись частью большущей семьи; они оказались самыми удачливыми и сильными из всех доверенных жене желаний; они были столь красивы, столь игривы, что теперь почти все его мысли были заняты только ими. Их слова, их песни — ему казалось, что это он сам говорит и поет. И поэтому его любовные наслаждения были бесконечны: они возрождались из улыбок дочерей, из ссор между мальчишками. А их юная любовь была и его любовью. Нередко, когда он работал в поле, у него появлялось желание вернуться домой, и к лицу его приливала кровь, потому что он вспоминал о Гюставе и Клотильде, двух младших детях, которые появились на свет последними, чтобы говорить ему о любви. Бывало, они играли с собакой или разглядывали, как бегают по краю колодца всякие букашки. А он, отец, смеялся от одной только мысли обо всем этом. Он смотрел на них и думал о других своих детях, обо всех одновременно, восходя от Клотильды к Эрнесту или спускаясь, или же начиная с середины, как придется. И он опять принимался смеяться, говоря себе, что у него выдался хороший урожай, к тому же полученный без труда, даже наоборот, в забавах, просто потому, что в мешке у него оказалось доброе семя.
Когда он брал на колени Гюстава и Клотильду, играл или спорил со старшими детьми, ему казалось, что он все еще продолжает работать над своими прежними желаниями, что он придает им более красивую форму. Ласки, неясности, расточаемые детям, он их припоминал потом, сам не ведая об этом, потом, когда общался с женой. Получалось так, что дети как бы учили его искусству любви, и поэтому с годами Оноре в любви становился все богаче, и дом просто переполнялся ею.
Форма этой любви, которая смешивала удовольствия и их результат, возмущала благонравного ветеринара. Когда тот оказывался в Клакбю, ему постоянно приходилось краснеть от мерзостей, обнаруженных в семье брата. Речи детей, смех отца, их майора держаться свидетельствовали о такой распущенности, о таком потакании греху, что это попахивало адом. Все обитатели дома, за исключением, может быть, Аделаиды, казалось, играли с гнусной опасностью, имя которой для ветеринара не составляло никакой тайны. Если бы у него хватило духу поговорить с Оноре откровенно, он сказал бы ему, что дети из хорошей семьи не разглядывают друг у друга то, что находится между ног, как это делали Гюстав и Клотильда. Однажды он застал их в тот момент, когда они, заголившись, сравнивали некоторые элементы своей анатомии, внимательно их рассматривали, дотрагивались до них руками. На такое противно смотреть даже тогда, когда этим занимаются девчонка и мальчишка, не связанные никакими узами родства. Причем, обнаружив, что их заметили, они, смутившись не больше, чем если бы вдруг увидели, что их дядя споткнулся и упал во время игры в шары, просто опустили свои рубашонки и поздоровались с ним. Какой был смысл уведомлять о случившемся их отца (мало того, что об этом просто неудобно говорить): лишний раз получать в свой адрес порцию насмешек и обидных слов? Как-то раз, в один из будних дней, ветеринар нашел Оноре на лугу около Флиза, где он вместе с дочерью сушил сено. Жюльетте тогда было шестнадцать лет. Дядя Фердинан поцеловал ее в щеку и сказал приветливым тоном:
— Как же она выросла, твоя маленькая Жюльетта.
— Ты прав, — сказал отец, — она уже настоящая девушка.
Жюльетта, смеясь, прижалась к его плечу, а он поцеловал сверху ее волосы и, взяв в руки ее грудь (сквозь ткань, но тем не менее), сказал:
— Ты только посмотри, какая она стала у меня красавица.
Отец с дочкой смотрели друг на друга и смеялись. И тут ветеринар, глядя на это свинство, не выдержал. Его стыдливость прямо аж вся скорчилась где-то в животе. Он запротестовал:
— Ну нельзя же, Оноре! Нельзя все-таки.
Оноре сначала в недоумении уставился на брата, потом покраснел, отстранился от дочери и шагнул в его сторону. Вне себя от ярости он выговорил сквозь зубы:
— Так ты и будешь всю жизнь, болван, пакостить, как навозная муха, на все, на что ни посмотришь. Катись-ка отсюда.
И Фердинан в который уж раз пошел, пунцовый от смущения, поджав под визиткой свой востренький зад. Больше всего его раздражало то, что ему приходится ретироваться, чувствуя себя виноватым, в то время как он всего лишь прижег каленым железом гнусную язву. Он возмущался, как и должен возмущаться человек добродетельный, отчетливо понимающий, что он защитил; а Оноре единым словом, в тот момент, когда рука его еще хранила отпечаток состава преступления, вдруг заставил его усомниться, не проникло ли в его собственный мозг какое-нибудь адское наваждение. К счастью, он имел возможность соотнести свои соображения с реестром условностей, а, кроме того, очевидность случившегося не вызывала сомнений: отец, целуя дочь, накрывать ей грудь ладонью не должен, потому что это свинство. Рассказывая о случившемся жене, он заметил:
— Вот ведь до чего можно докатиться с такой, как у него, независимой миной и его манерой говорить все начистоту. Он думает, что ему позволительно делать любые гадости только потому, что делает он их на людях.
Элен сдержанно ответила ему, что он, возможно, видит зло там, где его вовсе нет. Однако от такого ответа раздражение ветеринара только усилилось.
— Ты, значит, защищаешь его? Может, и эту распущенную девчонку, которая смеется, когда ее щупают, ты тоже будешь защищать?
— Да нет же, я просто хочу понять.
— Так я и думал, — горько усмехнулся Фердинан, — есть две разные манеры понимания.
И он вспоминал тот испытанный им двадцать пять лет назад и все еще живший в нем стыд, из-за того, что он взглянул на ляжки матери. Значит, есть некоторые существа, отцы семейства, которые могут прикладывать руки к грудям дочерей, или братья и сестры, которые могут рассматривать друг у друга половые органы; они не видят в этом ничего плохого, они не краснеют, если их застают за этим занятием, они вроде бы и не грешат. И есть другие существа, которые оказываются осужденными на муки еще на этом свете только за то, что они с любопытством посмотрели на ляжки своей матери.
Ветеринар неоднократно отмечал в поведении своего брата то, что он называл непоследовательностью. В конце концов, видя, что его постоянно одергивают, что его добродетельные порывы оборачиваются против него самого, а стыдливость неверно истолковывается, он начал подозревать, что эти грехи существуют только в его воображении. Он решил, что сам находится во власти наваждения, так что его стало бросать в холодный пот даже от самых что ни на есть законных желаний. Он был бы не прочь рассказать обо всех этих тревогах священнику, разложить их по полочкам в полумраке исповедальни, но линия его политического поведения преграждала ему путь практически ко всем исповедникам края. Его знали во всех окрестных деревнях, где он появлялся в компании Вальтье, чью кандидатуру. поддерживал. И ни в одной из них он не осмелился бы остаться один на один с кем-либо из тех пастырей, о которых он распространял, а иногда и сочинял тенденциозные слухи и грубые небылицы. Проезжая по сельским дорогам в кабриолете или же проходя по кафедральной сен-маржлонской площади, он с чувством, похожим на вожделение, взирал на двери церквей, казалось вот-вот готовых разверзнуть перед ним бездны сладострастного забвения. Отчаявшись, он выискивал предлоги для путешествий и несколько раз на день-другой уезжал в отдаленные города. Подобно тем распутным нотариусам, что садятся в поезд, дабы тайком пошляться в чужих краях по злачным местам, ветеринар уезжал за сотни километров, чтобы посетить исповедальню. Путешествия не приносили ему облегчения: священник рассеянно выслушивал этого грешника, который упрекал себя лишь в благих намерениях. «Сын мой, — говорил он, — ваши грехи не тяжки… Сохранив и впредь свою веру, вы будете всегда счастливы в лоне церкви…»
Ветеринар покидал исповедальню еще более подавленным, еще более жалким. Он не находил себе места в церкви: его грехи не фигурировали ни среди смертных, ни среди простительных грехов, они не были даже умыслами. У них не было ни плотности, ни материальности, они были лишь видимостями, принявшими непристойную форму его воображения. Бродя после утреннего причастия по городу в ожидании обратного поезда, он начинал завидовать выходившим из домов свиданий развратникам и вообще всему тому гнусному люду, который мучительно воссоздавало его воображение: пресыщенным содержателям притонов, головорезам и гулящим девицам. Вот у них-то, думалось ему, грехи тяжкие, от которых сеть священника хорошенько потянуло бы книзу. Если бы он мог предъявить хотя бы одно из этих преступлений, его беспокойство приняло бы форму основательного, годного к употреблению угрызения совести, и контакт с Богом был бы восстановлен. Он приходил к выводу, что избавление находится как рам на тех заповедных улицах, где шлюхи и сводницы тяжеловесными обещаниями пытаются завлечь прохожих. Он углублялся туда без желания, с пересохшим от стыда горлом, а потом проходил мимо, ничего не видя, ускоряя шаг, поторапливаемый прививными окликами женщин. Понимая, что из-за своей чрезмерной благопристойности он все равно никогда не решится на этот шаг, Фердинан в конце концов отказался от поездок. Кстати, он находил, что стоят они дороговато.
Впрочем, клакбюкский священник чувствовал, что от ветеринара исходит нечто вроде духа святости. Он догадывался о паническом страхе Фердинана, плоде зловонных его угрызений совести, чуял его ужас перед тайнами пола и считал, что такие люди, как он, укрепляют приход уже одним только своим присутствием. И он был бы рад, если бы тот жил в Клакбю, пусть даже оставаясь радикалом и антиклерикалом. Иногда кюре позволял себе помечтать (у него прямо слюнки начинали течь) о том, как Фердинан Одуэн, клакбюкский прихожанин, приходит к нему на исповедь, чтобы покаяться: уж он-то, в отличие от городских священников, которые не являются настоящими врачевателями душ, не стал бы ограничиваться рассеянно-снисходительными словами. «Но ведь это ужасно…» — чудилось ему; он как бы говорил несчастному своим пришептывающим голосом, от которого в исповедальню слетались все самые непроглядные потемки церкви. Он уже видел, как подавленный, объятый томительным страхом грешник идет по Клакбю и сеет среди жителей деревни святое недоверие к плоти, которое является первой ступенькой лестницы, ведущей в рай. С душами вроде ветеринаровой можно было не сомневаться, что, не слишком переутомляясь, хоть сколько-нибудь в копилку религии да положишь. Не то что со всякими убогими созданиями, которые, наведываясь раз в неделю перед ужином, сообщали: «Изменила я, отец, моему мужу с Леоном Коранпо», — и спокойно уходили, получив распоряжение прочитать «ave», «pater» и «confeteor». Вот Фердинан, тот был католиком что надо…
Ветеринар ничего не знал о том восхищении, которое питал к нему клакбюкский кюре. И его предчувствие, что он отдан на растерзание бесам, все усиливалось и усиливалось. Чтобы искупить свою совершенно платоническую извращенность, он пытался прибегнуть к воздержанию. Кстати, исполняя супружеские обязанности, он умирал от страха или же мучился из-за полученного удовольствия такими угрызениями совести, что на него нападала бессонница. Подозрительный, опасающийся всего, что могло дать пищу его собственному воображению, он маниакально преследовал и держал под наблюдением всех членов своей семьи. Он усердно присматривал за ребятами, особенно за Антуаном, чья склонность к лени позволяла предполагать у него массу пороков. «Праздность — мать всех пороков», — говорил ветеринар, подчеркивая каждое свое слово. Фредерик, будучи трудолюбивым учеником, пользовался относительным доверием. Правда, однажды случилась настоящая трагическая сцена: отец обнаружил среди его учебников трактат по сексуальному воспитанию. Этот обернутый в синюю бумагу трактат ничем не выделялся среди других книг Фредерика, но у ветеринара был превосходный нюх на все скандальное. Раскрыв книгу наугад, он попал на четырнадцатикратно увеличенный тестикул в разрезе. Дрожа от гнева, он ворвался в столовую, где семья собралась на вечернюю трапезу, и стал трясти тестикулом перед носом виновного:
— На колени! Негодяй! Дрянь, а не сын! Совершенно не уважаешь своих родителей…
Жене, испуганно и вопрошающе смотревшей на него, он кричал:
— Он знает все! Мне больше нечего сказать… О! Презренный! Проси у меня на коленях прощения! Ты теперь больше не получишь десерта до самого своего совершеннолетия…
И потом, после случившейся драмы, отец еще долго-долго не мог встретиться взглядом с Фредериком, чтобы не покраснеть до корней волос. Его подозрительность распространялась также и на дочь, и из-за одного сомнительного жеста, который, он истолковал по-своему, Люсьене пришлось в течение шести месяцев спать со связанными за спиной руками.
Профессиональная деятельность Фердинана никак не страдала от его маниакальных тревог, скорее, даже наоборот. Отдаваясь со страстью работе, он беспрестанно колесил по дорогам, навещая то телящихся коров, то больных сибирской язвой свиней; он хотел, чтобы у его сыновей были лучшие в классе оценки, чтобы Люсьена стала образцом девичьего совершенства. Поскольку церковь была бессильна помочь ему с изгнанием бесов и не располагала весами, на которых можно было бы взвесить химеры его грехов, и поскольку он был как бы отлучен от нее, или забыт, или причислен к протестантам, то ветеринар хотел, чтобы все семейство трудами и достойным поведением своим свидетельствовало о почтительности его главы. Он наращивал свой дом вверх, словно Вавилонскую башню.
— Антуан, ну-ка вынь руки из карманов и расскажи мне свои две страницы грамматики… Плохо ты познаешь науку, овладел лишь самой малостью (и он краснел, так как глагол «познать», особенно по соседству с глаголом «овладеть», может порой иметь весьма фривольный смысл). О чем ты думаешь? Скажи мне, о каких словах ты думаешь! Что ты на меня так смотришь? Что я такого сказал? Наглец, тебе должно быть стыдно…
Зимой семья Фердинана редко выезжала в Клакбю и проводила воскресенья дома. Я вдоволь насмотрелась этих скучнейших сидений по воскресным дням. Элен и ее дочь вязали или шили, Антуан и Фредерик делали или притворялись, что делают уроки, чувствуя, как сердце их сжимается — ведь ветеринар находился тут же — от той коллективной тоски, которая обычно витает над учебными помещениями; Фердинан приводил в порядок свою бухгалтерию и корреспонденцию и время от времени бросал на них опасливый и одновременно угрожающий взгляд: очевидно, он старался удостовериться в том, что ни Элен, ни дети не передают друг другу, пользуясь его занятостью, какие-нибудь непристойные открытки и не дотрагиваются руками ни до каких срамных мест; потом, смущенный аналогиями, которые возникали в его сознании при взгляде на замочную скважину или на стоявшие на рояле свечи, он опускал голову вниз. Из всех пятерых он был, вероятно, самым несчастным, но при этом даже его страдание не шло ни в какое сравнение с теми страданиями, которые испытывала я, когда он обращал свой взгляд на меня. Я прямо чувствовала, как умирает та бурная, застывшая под моей зеленой мастью жизнь, которая расцвела во мне по воле кисти Мюрдуара. Еще и сегодня, сорок лет спустя, стоит мне вспомнить об этом, как перо тут же отказывается писать.
VI
Ветеринар и его жена шли по дороге, ведущей к вокзалу, а между ними — их дочь Люсьена, в белом платье, которое она сама вышила зимой, вдохновляясь советами барышень Эрмлин. Мальчики, весьма довольные своей школьной формой, вышагивали впереди родителей, неся в руках пакеты. Перспектива провести день в Клакбю, а значит, в какой-то мере вырваться из-под гнета отцовской дисциплины, настраивала их на доверительный лад.
— Тебе-то наплевать, получишь в школе похвальную грамоту, и тебя оставят на все каникулы в покое. А вот я…
— Кто знает, может быть, и ты получишь приз за успеваемость или даже два.
— Нет, классный надзиратель видел мои оценки. Он сказал, что «отлично» у меня будет только за одну гимнастику. Представляешь, как разворчится ветеринар; прямо уже слышу его голос: «я иду на такие жертвы, чтобы обеспечить тебе будущее, за которое семье не было бы стыдно». Старый хрыч.
Фредерику уже ничто не могло помешать получить похвальную грамоту, о чем ему случалось даже сожалеть, так как сравнение результатов их учебы свидетельствовало явно не в пользу брата. В то утро сожаление его почти переросло в угрызения совести, но непочтительность Антуана по отношению к отцу оскорбила Фредерика настолько глубоко, что он проглотил уже готовые было сорваться с его уст слова сочувствия. Антуан не настаивал на продолжении разговора об учебе и перевел его на другую тему:
— Ты видел сейчас малышку Жасмен? Мы пересеклись с ней на углу улицы Людоеда. Красивая, правда?
Фредерик все еще сердился на него. Он покачал головой. Нет, он не находил малышку Жасмен такой уж красивой.
— У нее большой и слишком острый нос, как пакли, плохо причесанные волосы… Да и к тому же, что ты хочешь, она еще слишком маленькая.
— Вовсе нет, — запальчиво сказал Антуан.
— А вот и да, слишком маленькая. У нее же совсем нет сисек, у твоей Жасмен. То-то же. А без сисек ну что за женщина, мой дорогой.
Они шли метрах в пятидесяти впереди родителей. Ветеринар не мог слышать их разговор, но все равно он беспокойно вытянул шею, а нос его зашевелился и как-то странно поднялся кверху. Фредерик был очень доволен тем, что высказал о женщине замысловатое мнение, причем с той долей непринужденности, в которой намек на хорошие манеры имел привкус студенческо-богемный. Антуан сморщил лоб, честно пытаясь осмыслить сказанное. Он заявил:
— Разумеется, я нисколько не против сисек, но когда с девчонками ничего не делаешь, то какой в них прок? В первую очередь обращаешь внимание на лицо, и особенно на глаза. О! Понимаешь, именно на глаза. Жасмен — это глаза.
— Тебе ведь всего тринадцать лет, — тихо ответил Фредерик.
— То есть раз тебе пятнадцать, ты хочешь заставить меня поверить… Что ты хочешь сказать? Ну, давай говори.
— Нет, ничего, — с рассеянной небрежностью сказал Фредерик. — Давай больше не будем об этом.
Чувствуя, что Антуан начинает злиться, он остановился и подождал родителей.
Тем временем ветеринар не без задней мысли интересовался успехами Люсьены в игре на фортепьяно.
— А вот если бы ты в каникулы пожила в Клакбю, сумела бы ты играть на фисгармонии в церкви?
Люсьена, которую, с одной стороны, ужасала перспектива провести целых два месяца на фермера с другой — прельщала возможность исполнить столь важную роль, не решалась сказать ни «да», ни «нет». С тех пор как племянница священника вышла замуж, прихожане слышали голос фисгармонии лишь каждое пятое воскресенье, когда на мессу в Клакбю. приезжала графиня де Бомбрьон, и Люсьена подумала, сколь это было бы для нее почетно: замещать графиню. Ветеринар объяснял жене:
— Это был бы жест, который никого бы не скомпрометировал: в общем-то пустяк, но вместе с тем и некий шаг навстречу клерикалам; а для не слишком пылких республиканцев — знак того, что ветер поворачивается в другую сторону. Больше, может быть, ничего и не нужно, если Оноре проявит добрую волю или даже просто будет держаться в стороне. А Малоре сумел бы воспользоваться этим случаем: атмосфера выборов часто образуется из сочетания подобных пустяков, которые успокаивают одних и подают сигнал другим. Во всяком случае, я повторяю, ничего компрометирующего в этом для меня не будет. Девчонка приехала на каникулы. А поскольку пианино там нет, то она, чтобы не утратить навыков, ходит играть на церковной фисгармонии. Нет ничего более естественного.
Элен уныло слушала его; несмотря на свое огромное желание, чтобы Вальтье устроил карьеру ее сыну Фредерику, ей не удавалось заставить себя интересоваться всеми этими мелкими политическими комбинациями. Тем не менее она согласилась играть ту роль, которую ветеринар отвел ей в тщательно подготовленном им заговоре. Поскольку Оноре по-прежнему относился к ней с симпатией, она должна была воспользоваться его дружеским расположением и помочь сделать его более покладистым. Там, где были бессильны логические доводы Фердинана, она должна была попытаться воздействовать на чувства.
Ветеринар попросил в кассе пять билетов второго класса. Социальное положение не позволяло ему ездить в третьем классе, а его политическая религия — в первом, так что ему приходилось довольствоваться вторым классом, сожалея при этом, что не существует еще одного класса, в котором принимались бы во внимание одновременно и преимущества сколоченного им состояния, и его личные достоинства: например, какой-нибудь специальный вагон для зажиточной элиты: второй класс (элита).
— Получается, что день нам обходится в двенадцать или тринадцать франков, — заметил Фердинан своей жене. — Если посчитать стоимость билетов да еще вещей, которые ты купила для Аделаиды, то экономией это не назовешь.
— Но ведь нельзя же являться с пустыми руками, когда идешь впятером на обед, — сказала Элен.
— Конечно. Я говорю об этом не для того, чтобы пожалеть о паштете и колбасе. Так, простая арифметика.
В купе второго класса, где расположилась семья Одуэна, больше никого не было. На этой линии местного или депутатского значения (не утратившее своей остроты мучительное воспоминание ветеринара — ему не удалось провести ветку через Клакбю из-за племянника министра, одного из крупнейших в крае фермеров, который, сделав пятнадцатикилометровый крюк, увел ее в сторону) пассажиров было мало. Компания продолжала донашивать на ней технику, серьезно пострадавшую в 70-м году, катившуюся, переваливаясь с боку на бок, корчась, как хромое животное. Даже во втором классе пассажиров трясло, подкидывало вверх, ежесекундно бросало друг на друга, а чтобы хоть что-то расслышать сквозь грохот железяк и стоны изнуренных вагонов, нужно было буквально кричать соседу в ухо.
Супруги и мальчики рассредоточились по четырем углам купе. Люсьена сидела посередине на самом краешке скамьи, стараясь не касаться спиной перегородки, чтобы не помять свое белое платье. Она смотрела на свои белые парусиновые ботиночки и с легким беспокойством спрашивала себя, что бы подумали барышни. Эрмлин, если бы она вдруг пришла в пансион в таких вот ажурных чулках, которые она надела сегодня впервые, а ведь фантазия эта была не так уж далека от воплощения, поскольку воскресные чулки в конце концов становятся повседневными. В том, что она надела ажурные чулки, было некое несоблюдение смиренности, в чем ей следовало бы покаяться в ближайшем письменном разборе своего поведения. А с другой стороны, можно считать, что, надевая чулки, она лишь выполняла волю купившей их матери. Следовало ли избегать греха кокетства ценой греха неповиновения? Ведь мать могла бы и не согласиться с ее доводами. В конце концов дилемма предстала перед Люсьеной в своем практическом виде: она вдруг вспомнила, что последние дни не делала никаких записей в своей тетради по нравственному самонаблюдению. А это означало, что до вечера следующего дня ей предстояло обнаружить у себя четыре-пять грехов, чтобы написать о них в тетради; причем это был минимум, потому что кто же может, не впадая в гордыню, утверждать, что грешит меньше четырех раз в неделю? Младшая из барышень Эрмлин, мадемуазель Бертранда, преподавательница по нравственному самонаблюдению в старшем классе, терпеть не могла, когда кто-нибудь пытался выдать за настоящий грех не заслуживающий внимания вздор. Ученицам приходилось делать так, чтобы, не выходя за рамки простительных грехов, представить их в своих тетрадях достаточно тяжкими, такими, чтобы за них можно было пристыдить и таким образом извлечь из них назидание для всего класса. Подстегиваемая необходимостью, Люсьена рассудила, что благодаря чулкам ей удастся убить сразу двух зайцев. Первый грех: она обвинит себя в том, что надевала ажурные чулки; второй грех: покаяться в том, что у нее было поползновение ослушаться мать, которая навязала ей чулки. Бесценная находка: тут уж можно было не сомневаться, что, поразмыслив над этим благонравным конфликтом, мадемуазель Бертранда поставит ей за «действенную христианскую добродетель» столь редко получаемые 9 из 10 баллов. Теперь оставалось найти еще три греха, которые нужно было совершать на протяжении двух дней, и Люсьена, не осмеливалась, разумеется, учинять что-либо преднамеренное, все-таки задумалась: какие же еще искушения способен подбросить случай в течение дня, чтобы она могла наконец привести в порядок свои записи в тетради? Внезапно сквозь лязг железяк до нее донесся пронзительный голос ветеринара:
— Люсьена, ты мне так и не ответила, сумела бы ты играть на фисгармонии или нет?
Шум поезда и наполнявшая взгляд мягкая зыбь полей погрузила Фердинана в мечтательность, от которой в нем стали проклевываться прямо-таки поэтические образы. Прежде всего он представил себе, как Люсьена играет на фисгармонии в церкви, где когда-то состоялось его первое причастие, и эта параллель его умилила. Прихожане Клакбю, под негромкий говор заполняя церковь, узнавали дочь Фердинана Одуэна, одного из них, но преуспевшего и жизни; при этом хорошего республиканца, но умеющего быть справедливым; настоящего республиканца, настоящего патриота, всегда готового дать отпор, когда речь идет о чести страны. Он слышал, как, перекрывая говор прихожан, нарастает, звучит нее более и более горделиво дыхание литургической музыки. Он слышал его, хотя и не был на мессе, так как это не его дело ходить на мессу; для этого он был слишком хорошим ветеринаром, слишком хорошим республиканцем и слишком хорошим патриотом, но том не менее он посылал свою дочь на мессу, посылал ее играть на фисгармонии, потому что наступило ответственное время. Фисгармония выводила протяжную мелодию: кюре пел мессу Родины. Ветеринар чувствовал, как сердце его наполняется. В дверях вагона скапливались войска, облаченные в великолепные мундиры: с их стороны ему нечего было опасаться. Ветер знамен ласкал его алое лицо. Вскочив на зеленую кобылу, которая покусывала черного коня генерала, он проскакал галопом перед войсками. А в церкви верующие встали со скамей и под руководством Люсьены возносили к сводам протяжный крик любви к генералу Буланже и к Родине; Малоре в непередаваемом порыве овладел мэрией, а Фредерик, знаменитый, увешанный наградами, с тройной золотой цепью на груди, ездил в первом классе с бесплатным государственным билетом по всей железнодорожной сети Франции.
От голоса отца дети вздрогнули. Антуан с переполненным нежностью сердцем созерцал ласковые глаза Жасмен, такие ласковые, что на клеенчатых сиденьях от них расцвел чудесный сад, такие ласковые, что жизнь вокруг стала простой и шелковистой, насколько хватало глаз. Он уходил с Жасмен из вагона, уходил с глазами Жасмен, прижав их к своей душе. Чтобы вернуть ей ее улыбку, он выпрыгивал из вагона и парил над лугами. Услышав, как уксусный голос отца входит в его Жасмен, Антуан бросил на ветеринара негодующий взгляд и в который уж раз отметил, насколько же у него гнусное, лошадиное, прагматическое, упрямое, неискреннее, злое, порочное жестокое, глупое, самодовольное, желчное лицо. «К счастью, я не похож на него; я, конечно, не красавец, но на него я не похож; Жасмен мне улыбнулась». Фредерик, грезивший об университетских дипломах и шляпах-котелках, повернул голову в сторону отца, который повторил еще раз:
— Так да или нет: сумела бы ты играть на фисгармонии?
— Не знаю, я ведь никогда не пробовала, — ответила Люсьена тоненьким голоском, который потерялся в шуме поезда.
Госпожа Одуэн пришла дочери на помощь:
— Не может же она так сразу взять и сесть за фисгармонию, нужно сначала попривыкнуть.
Фердинан сделал нетерпеливый жест. Он не хотел расставаться с идеей фисгармонии.
— Возьмет несколько уроков. А даже если где и сфальшивит, то все равно никто ничего не заметит.
Элен возразила, что девочке в Клакбю будет скучно. Фердинан ответил, что разумный ребенок не может скучать там, где погребены его предки.
— Правильно, Люсьена?
— Да, папа… Я буду носить цветы на могилу наших дорогих усопших.
У ветеринара в глазах появились слезы. Элен стала возражать против мужнина проекта лишь из сочувствия к дочери, чье отвращение к жизни в Клакбю было ей хорошо известно. Рассердившись, что та оказалась столь благоразумной, она чуть было не оставила ее в обществе дорогих ей усопших. Однако умиленное довольство ветеринара заставило ее продолжить спор.
— А ты не думаешь о том, что в те несколько недель, которые Люсьена проведет в деревне, она будет предоставлена самой себе? За ней не будет никакого надзора, а перед глазами — одни дурные примеры. Ты же сам говоришь, что от компании ее двоюродных братьев и сестер ничего хорошего ждать не приходится.
— И то верно, я даже не подумал об этом. Надо бы… Боже мой, ну и головоломка… Только бы Оноре поддержал нас, только бы он не был против нас. Эх! Если бы Меслон протянул еще годочек или хотя бы шесть месяцев! Глядишь, за это время Вальтье забыл бы свою потаскуху и все бы устроилось.
Фердинан вдруг сразу как-то потускнел, и жена его испытала от этого удовольствие. Она без особого энтузиазма участвовала в маневрах, которые должны были помочь одному из протеже Вальтье заполучить место мэра. Она не питала к депутату никаких симпатий и с трудом привыкала к мысли, что когда-нибудь ее сыну придется работать при нем, чтобы сделать блестящую карьеру юрисконсульта либо какую-нибудь еще. Этот остроумный, циничный и склонный к обжорству человек казался ей далеко не лучшим наставником для мальчика, который был уже и так слишком расположен к усвоению его уроков. А кроме того, сама она питала тайную надежду, что Фредерик станет кавалерийским офицером. Элен всегда ощущала в себе некоторую слабость к военным. В те времена, когда она еще посещала пансион барышень Эрмлин, ей постоянно, по крайней мере раз в неделю, грезилось во сне, как ее похищает какой-нибудь младший лейтенант. А выйдя замуж, она обычно разочаровывалась в приятелях ветеринара, выбираемых, как правило, среди небогатой буржуазии Сен-Маржлона. В мечтах ей виделись салоны офицерских ясен, где вместо пианино стоят рояли и где кресла не прячут под чехлами.
В Сен-Маржлоне располагались один гусарский и один пехотный полк, которые с превеликим удовольствием уничтожили бы друг друга посредством холодного оружия. Гусары презирали пехотинцев за то, что те ходят пешком, а пехотинцы утверждали, что гусары, как солдаты, годятся только для парадов. Так что разделявшая их ненависть была чувством вполне объяснимым. Дом под номером 17 по Птичьей улице то и дело закрывал свои двери перед военными из-за потасовок между солдатами двух полков. Гусар, например, говорил: «Гля, почтальоны совершают свой обход». А пехотинец: «Эти олухи даже унтера называют лейтенантом». Не лучше складывались отношения и между офицерским составом гарнизона: кавалерийские офицеры носили фамилию де Бюргар де Монтесон, играли на рояле, а то и на арфе, влезали в долги, спали с дочками буржуа, устраивали трапезы верхом на лошадях, ходили на мессу на ходулях, были роялистами и игнорировали своих коллег пехотинцев. А пехотные офицеры играли тем временем в пикет или устраивали состязание — кто больше назовет имен генералов Революции, чьи отцы были мясниками, булочниками, красильщиками или конюхами. Они слегка страдали оттого, что кавалеристы постоянно отодвигали их в сторону, и сожалели о том, что в городе нет полка обозников, которых можно было бы презирать точно таким же образом, потому что офицеры транспортных подразделений считались существами почти столь же комичными, как и офицеры-администраторы. Добропорядочные жители Сен-Маржлона на протяжении всего года осуждали шепотом высокомерие кавалерийских офицеров, но утром 14 июля все свои восторги отдавали гусарам, которые замыкали парад и в апофеозе лихой атаки заставляли замирать сердца. Ветеринар втайне отдавал предпочтение гусарам. Однажды при раздаче наград в коллеже он, присутствуя там в качестве генерального советника, оказался на эстраде рядом с полковником де Пребором де Шастленом, и гусар, протирая свой монокль, сказал ему: «Жарковато, как мне кажется». Эта простота взволновала Фердинана, и именно в тот день зародилась в нем приязнь к гусарам. В отсутствие военного ветеринара его несколько раз приглашали для консультаций на сторожевой участок гусар. Так он познакомился с лейтенантом Гале, и между ними возник ученый спор о кастрации жеребят, в результате которого они прониклись взаимным уважением. Лейтенант был суровым молодым человеком, кавалеристом по призванию, который использовал свое свободное время для написания труда про то, какая конская сбруя была в употреблении у секванов в момент завоевания Галлии. Фердинана такое изобилие науки и серьезности очаровало, и, вернувшись домой, он стал с восторгом рассказывать про гусара:
— Лучший кавалерист полка… Я слышал, что у него нет абсолютно никакого состояния и что посреди всех этих «де» он живет несколько изолированно.
Слова «абсолютно никакого состояния» тронули сердце госпожи Одуэн. Она вновь вернулась к роману, стократно сотворенному ею в пансионе барышень Эрмлин: обожаемая юным и восхитительно нищим офицером, она отправляла на тот свет своих недостаточно представительных родителей и клала полученное наследство в корзинку для свадебных подарков. Ветеринару представлялись потом и другие случаи обменяться с лейтенантом суждениями о лошадях, и вот в один прекрасный день он затащил его к себе, предложив посмотреть кое-какие анатомические рисунки. Элен сквозь жалюзи наблюдала за улицей. Увидев приближающихся мужчин, она села за пианино и при появлении лейтенанта издала крик удивления. Польщенный тем, что лицо ее залилось румянцем, он нашел Элен прекрасной и попросил продолжать играть прерванную сонату. В тот же вечер он принялся изучать сольфеджио, чтобы иметь возможность переворачивать страницы нотной тетради госпожи Одуэн. Через какое-то время его визиты стали регулярными. Ветеринар сетовал на то, что Элен недостаточно внимательна к гостю; она и в самом деле разговаривала с ним мало, да и у лейтенанта тоже не было склонности к мадригалам. Они понимающе поглядывали друг на друга, нисколько не сомневаясь во взаимной любви, и даже присутствие ветеринара не мешало им быть счастливыми. Как-то раз, зайдя к Одуэнам днем, лейтенант Гале застал Элен одну. Она играла на пианино, он переворачивал страницы, но их признания, хотя и более нежные в этот раз, чем обычно, так и остались безмолвными. Однако когда гусар прощался, он почувствовал, как рука Элен дрожит в его руке, и прошептал ее имя, прошептал и тут же убежал, чуть не споткнувшись о спою саблю. Впоследствии эта целомудренная любовь так и осталась тайной их взглядов.
Поезд, сопровождаемый гусаром и глазами Жасмен, приближался к Вальбюисону. Менеаль, человек, который должен был Фердинану деньги, с запряженной коляской поджидал пассажиров во дворе маленького вокзала. Это был вежливый толстый человек, твердо решивший никогда не возвращать долг.
— Похоже, в этом году урожай будет хороший, — начал Фердинан.
— Вроде бы, но только у меня все заросло чертополохом.
— Ну что вы, не говорите так…
— Это истина, господин Одуэн.
— Вы преувеличиваете, Менеаль, вы преувеличиваете.
— Нет, господин Одуэн, не преувеличиваю. Какая мне нужда преувеличивать? В любом случае я не собирался расплачиваться с вами в этом году. Даже если бы урожай оказался хорошим, я все равно бы не смог.
Ветеринара обескуражила эта спокойная дерзость. Он залез в коляску, кипя от негодования и думая о возможных средствах принуждения. Антуан передвигался с места на место, не желая оказаться ни рядом с отцом, ни напротив него. Он дождался, пока все распределятся по двум скамейкам, чтобы, сославшись на тесноту двуколки, вскарабкаться на сиденье рядом с кучером, но отец вдруг вытащил откуда-то из-под ног нечто вроде откидного стульчика и заставил сына сесть на него. Коляска тронулась, покатила по Вальбюисону, и все опять погрузились в дорожные грезы: Жасмен, гусар, шляпа-котелок, простительные грехи.
Голова Антуана находилась почти в самом жилете отца, и ему приходилось выворачивать шею, чтобы следить за сопровождавшими коляску глазами Жасмен.
— О чем ты думаешь? — спросил ветеринар, не любивший, чтобы разумные дети предавались мечтаниям.
— Ни о чем, — сухо ответил Антуан, не поворачивая головы.
— Поскольку ты ни о чем не думаешь, ты мне сейчас скажешь, в каком году были подписаны Вестфальские договоры.
Антуан не отвечал, и на его лице застыло упрямое выражение. Отец возмутился и пронзительным голосом, от которого у лошади встали торчком уши, воскликнул:
— Вы свидетели того, что он не знает даты заключения Вестфальских договоров? Бездельник! Он всегда будет нас всех позорить, он будет таким же, как его дядя Альфонс! Но сегодня вместо того чтобы идти гулять со своими кузенами, он останется со своим отцом. Со мной.
В коляске воцарилось тягостное молчание. Люсьена, желая помочь брату, мысленно прочитала молитву, которую барышни Эрмлин рекомендовали для тех случаев, когда нужно вспомнить важные исторические даты. Фредерик рисовал пальцем в воздухе какие-то цифры, а госпожа Одуэн пыталась поймать взгляд своего младшего сына, чтобы утешить его неясной улыбкой. Однако Антуан, уткнувшись взглядом в свои воскресные ботинки, ничего не хотел видеть. Ветеринар повторил:
— Со мной. Весь день.
Тут Антуан почувствовал, как грудь его набухает Жасменовым рыданием. Он проглотил слюну и сдавленным голосом прошептал:
— В тысяча шестьсот сорок восьмом.
VII
В те воскресенья, когда семья ветеринара приезжала в Клакбю, семья Оноре работала не покладая рук с четырех часов утра. Надо было убрать, как обычно, навоз из конюшни, сделать подстилку из соломы, накормить коров, свиней, кур, кроликов, а потом и людей, наконец позаботиться о том, чтобы очистить фасоль, приготовить салат на двенадцать человек, вымыть ноги, надеть на всех чистые рубашки, что-то постирать, что-то погладить, заштопать, обдать кипятком, подмести, постоянно при этом оглашая дом криками, что вовремя сделать все равно ничего не удастся.
В полдевятого Алексис забирался на ореховое дерево и наблюдал, когда на вершине Красного Холма появится коляска. Он кричал (иногда шутки ради он устраивал ложную тревогу, хотя и знал, что, спустившись со своего орехового дерева, рискует получить за это башмаком по ягодицам):
— Вижу коляску дяди на вершине Красного Холма!
И тут на кухне начиналась страшная суматоха.
Оноре ругал жену, потому что у него на воротнике рубашки не оказывалось пуговицы (и куда это она умудрилась задевать пуговицу от его воротника). Аделаида бегала по кухне с утюгом в правой руке, с иголкой в левой, гладя и пришивая все, что попадалось ей на пути, носилась, не останавливаясь ни на минуту, и все кричала, перекрывая крик мужа, что никто даже не пытается ей помочь, что ей это осточертело, но что когда она надорвется и умрет, то, может быть тогда, они все осознают.
— Чем скорее, тем лучше! Чтобы я успел еще раз жениться, черт побери!
— Еще бы, уж в этом-то я уверена!
— На женщине, которая не засовывает куда попало пуговицы от воротника.
— Я ведь тебе сказала: в выдвижном ящике стола! Не могу же я быть сразу во всех местах…
Нуаро путался у всех под ногами, затыкал собой все двери одновременно и только успевал получать пинки. Жюльетта звала Гюстава и Клотильду. Те не шли. Их обнаруживали на дне какой-нибудь канавы, грязных, перепачканных землей или роющих туннель в куче навоза. К счастью, по воскресеньям их одевали лишь в самый последний момент, а то они с таким же успехом изгваздали бы и свою чистую одежду. Жюльетта еще раз умывала их, причесывала, одевала. Оноре прилаживал пуговицу к воротнику (которая и в самом деле была в выдвижном ящике стола), Аделаида надевала свое черное платье, пришивая между делом прямо на своих сорванцах пару или тройку пуговиц, и когда коляска заворачивала, чтобы въехать во двор, все выходили из дома, улыбаясь и крича: «А вот и они!» Ветеринар (обычно он управлял коляской) останавливал лошадь и отвечал своим хныкающим голоском: «Да, вот и мы!», и первым соскакивал вниз со своего сиденья, чтобы помочь спуститься жене.
— Да, вот и мы, — подтверждал он.
— Как же, вижу, — говорил Оноре, — вот и вы.
И тут начинались излияния чувств: поцелуи хлопали по щекам кузенов, умножались на щеках теток и дядьев, складывались вместе, так что в общей сложности их получалось сорок восемь штук.
— Какие красавчики!
— Жарко было?
— Я его не поцеловала.
— Ты меня не поцеловала.
— Ты поцеловал своего дядюшку?
— Нуаро! Мой прекрасный песик!
— Как же они выросли!
— Пять минут пришлось потерять на железнодорожном переезде!
— На место, дрянь ты этакая! Он вам всю одежду порвет.
— Столько сейчас колясок на дорогах.
— Он же сейчас испачкает вас своими грязными руками.
— Не беспокойтесь…
— Лошадь так и норовит понести.
— Двенадцать лет, вот увидите, он еще перерастет Антуана.
Это ликование длилось минут десять, а то и дольше. Пуаро получал удар башмаком, Гюстав — подзатыльник, а Алексис, с почтительной заботливостью касаясь роскошной сбруи, которая являлась семейной гордостью, распрягал лошадь. Женщины шли в дом, а ветеринар, поскольку он был ветеринаром, говорил Оноре:
— Ну а теперь пошли посмотрим животных.
И лишь в конюшне братья начинали ощущать, как в них возрождается чувство взаимного враждебного недоверия, о котором они совсем было забыли в пылу восторженной встречи. Фердинан с серьезным видом ощупывал животных.
— Эта корова явно ест больше сена, чем травы.
— Вполне возможно, но в любом случае свои двенадцать литров она дает.
Оноре держался в стороне от коров, давая понять ветеринару, что в его советах он не нуждается. Фердинан тем не менее продолжал осмотр, подсчитывая в уме, что эта бесплатная, но тем не менее стоящая сто су (по существу, если хорошенько вникнуть) консультация уже сама по себе почти полностью окупит тот обед, которым семью угостят у его брата, так что в конечном счете привезенные из Сен-Маржлона паштет и колбаса окажутся вовсе даровым приложением.
В это воскресное утро все сразу пошло не так, как в другие воскресенья. Алексис с высоты своего орехового дерева заметил коляску, но она была настолько непохожа на дядино ландо, что он не придал ей никакого значения. Приезд Менеаля всех удивил. Оноре вышел в залатанных и расстегнутых спереди штанах. На детях была их обычная будничная одежда, на матери — фланелевая нижняя юбка в розовую полоску. Ветеринару это не понравилось, он счел, что встречать гостей в таком виде никуда не годится; ему даже сделалось стыдно перед своей женой и Люсьеной, и он знаками стал показывать Оноре, что у него в ширинке гуляет ветер.
Оноре, удивленный, ничего не понимал.
— Вот уже никак не ожидал увидеть вас в коляске Менеаля. А что твой вороной, не прихворнул ли?
Тут ветеринар вдруг почувствовал, как лицо его покрывает мертвенная бледность. Резко прервав объятия, он прошептал убитым голосом:
— Пошли посмотрим животных.
А поскольку Оноре обменялся еще несколькими словами с Менеалем, он подтолкнул его локтем и взмолился:
— Животных…
Когда они оказались в конюшне, Фердинан поднял на брата испуганный взгляд:
— Так ты, значит, не получил моего письма?
— Да нет, ты будешь сейчас смеяться. Деода потерял его; представь себе, письмо выпало у него из сумки, когда он дрался с возвращавшимися со школы детьми. Он приходил сообщить мне об этом, бедняга Деода, и расстроен был ужасно… Но что с тобой?
Фердинан опустился на треножник, который использовали как сиденье при дойке коров.
— Боже мой, мое письмо! Он потерял мое письмо…
Он зарылся лицом в ладони и издал жалобный стон. Оноре забеспокоился, он вспомнил, что подозрения почтальона касались в первую очередь Тентена Малоре. Однако отчаяние Фердинана растрогало его, он помог брату встать и положил руку ему на плечо.
— Будь умницей, малыш, не станешь же ты убиваться из-за какого-то там письма. Не надо, малыш.
Ветеринар оперся о старшего брата. Он чувствовал себя слабым; всякий раз, когда брат называл его «малышом», к носу его поднималась нежность. Оноре тоже растрогался: может быть, по натуре своей Фердинан был не таким уж плохим; если бы его не отправили в Сен-Маржлонский коллеж, то он смог бы стать славным деревенским Одуэном.
— Ну что ты, сейчас не время распускать себя. Если ты сделал глупость, я не собираюсь тебя упрекать. А к тому же это даже и не глупость, а простое невезение. Никто ведь не мог угадать, что так все случится. Что ты там писал мне?
— Я писал тебе… нет, понимаешь, у меня даже язык не поворачивается сказать тебе. Ты опять начнешь ругаться.
— Ну что ты! Я очень хорошо понимаю твою досаду. Расскажи мне лучше все по порядку, и мы вместе спокойно все обсудим.
— Я писал тебе по поводу политики, но это пустяки… Я говорил там еще о нашей матушке…
— Надеюсь все же, что не о…
— Именно. Я начал с отправной точки, с того момента, когда появился баварец… в общем, я там сказал все…
Оноре стал размахивать кулаками над головой Фердинана. Он говорил о том, что никогда не видел более тупого животного, чем этот мешком пришибленный осел, дерьмом набитый ветеринар. Вот для чего ему нужно было его чертово образование: оповещать всю округу и весь край о том, что его мать переспала с пруссаком. Если бы ему, Оноре, стоило таких же трудов держать в руках перо, как его брату, он ни за что бы не стал писать письмо, которое способно отравить и их собственное существование, и существование их детей. Оноре называл своего брата задокопателем, ханжой в фальшивом воротничке, испражняющимся чернилами болваном, рогоносцем и одновременно мерил коровник своими крупными шагами под удивленным взглядом животных, которые выгибали свои податливые шеи, следя за его хождением взад и вперед. Фердинан, едва поспевая за ним, пытался завязать какой-нибудь разумный разговор, но ругательства следовали друг за другом такой плотной чередой, что это ему никак не удавалось. Слово, «рогоносец» оскорбило его больше, чем что-либо еще, и он попытался было заартачиться. Оноре опустил на него свой грозный взгляд.
— Рогоносец, я тебе говорю, и вся семья рогоносцев! По вине одного одержимого писаниной, который не сумел удержать при себе то, что я ему рассказал. Что? Нет, я не хочу тебя слушать. Что бы я стал делать с твоими исписанными страницами? Ты что, собирался ими вывернуть мне мозги набекрень, да? А теперь твое письмо находится у Малоре, у Зефа. Это его мальчишка схватил его, схватил так же, как схватил бы сам Зеф; у них это в крови: воровать и доносить. Таким же был и подохший недавно старик Малоре, таким же был и отец старика. Беги теперь за своим письмом, беги!
Оноре, весь дрожа от гнева, оперся о кормушку между двумя коровьими мордами и, поразмыслив немного, успокоился. Не приходилось сомневаться, что письмо находится у Зефа и что тот попытается им воспользоваться. Однако, все взвесив и предположив самое худшее, Оноре здраво рассудил, что у Малоре вряд ли что-либо получится. Ему, естественно, не составило бы труда оповестить всю Клакбю о том, что мать Одуэнов переспала с баварцем, и как бы обстоятельства не извиняли ее, в памяти у всех остался бы только сам факт. Оноре вынужден был признать, что общественное мнение в этом деле значило для него много; однако в конечном счете речь шла все-таки о покойнице, а он лично видел немалую разницу между покойником и живым человеком. То, что говорят во весь голос о покойнике, не стоит того, что думают про себя о живом; даже половинки и то не стоит, даже четвертушки. Оноре говорил себе также, что он живет не репутацией покойников — такое годится только для ветеринара, — что он только хочет упрочить эту репутацию. С другой стороны, он думал о том, что унижение от огласки письма в Клакбю имеет и одну хорошую сторону: его жажда мести Зефу, получившая столь долгую отсрочку, что он уж совсем было отказался от нее, обретала таким образом некий дополнительный повод. Чувство раздражения и отвращения, которое он испытывал при виде Малоре, получало теперь более прочное основание. Его ненависть была отныне в безопасности, и он ощущал во всем теле такую же легкость, какую испытывает добродетельный гражданин, узнавший, что войну наконец-то объявили.
Фердинан, не осмелившийся прервать размышлений брата, пытался проследить за их ходом по выражению его лица. Оноре не стал посвящать Фердинана в свои оптимистические выводы. Он сразу же разглядел преимущества перед ветеринаром, которые он получал в новой ситуации, преимущества честные, связанные с той верой, которую он внушал брату.
— Ну, так что будем делать? — спросил Оноре.
— Не знаю, — ответил Фердинан жалким голоском, упавшим на его выходные туфли.
— Теперь ты должен быть доволен, а? Ты ведь сам хотел видеть Зефа мэром Клакбю. Теперь он Польше не нуждается в тебе, чтобы заставить меня делать то, что ему захочется; он держит меня сейчас письмом надежнее, чем твоими заговорами! О! Теперь я уже ничем не смогу помешать ему; буду счастлив уже только оттого, что он соблаговолит не трепаться. Но когда он станет мэром, то начнет требовать у тебя денег: двадцать, тридцать, пятьдесят тысяч и больше. Я-то в этом отношении могу быть спокоен, у меня ничего нет. После денег он захочет забрать у тебя дом, после дома…
Перечисление всех этих катастроф напугало Фердинана, который опять опустился на треножник и принялся стенать.
— Все же горячиться нам сейчас не стоит, — сказал Оноре. — Вполне возможно, что Тентен вовсе и не отдавал письмо отцу, хотя меня это удивило бы.
— А зачем оно Тентену?
— Разумеется, он схватил его для того, чтобы отдать Зефу. Однако с детьми никогда нельзя знать наверняка. У них свои идеи… Однажды я увидел, как Алексис бросил монету в пять су в реку, и выяснить, почему он это сделал, я так и не смог.
Ветеринар пожал плечами: что за идиотизм бросать деньги в воду.
— Надеюсь, ты ему вправил мозги.
— Нет, те пять су были его собственными; это его дело.
— Тут ты не прав. Мальчишка вполне заслужил наказание. Сейчас ты не стал вмешиваться, а потом будешь удивляться тому, что он разбрасывает деньги направо и налево. Их ни за что нельзя распускать…
Ветеринар добавил, что заметь он что-либо подобное за Антуаном, он сумел бы дать понять ему, почем стоят деньги; и в приступе бешенства, смягчившем его тревогу, он принялся обвинять Антуана, словно сын и в самом деле уже разбазаривал его состояние.
— Бездельник! Он даже историю Франции не знает! Я бы его сейчас, когда мы ехали сюда, засыпал, если бы стал поподробнее расспрашивать про Вестфальские договоры! Ленивый, упрямый! И что, я должен надрываться на работе, чтобы эта скотина бросала на ветер мои деньги! Я бы запретил ему гулять, лишил бы десерта на три месяца, он бы у меня узнал, почем стоят деньги…
— О! Боже мой, ты зарабатываешь вполне достаточно, чтобы он мог, когда придет возраст, поразбрасывать их направо и налево.
— Конечно, ты всегда его в этом поддержишь, у тебя никогда не задерживалось ни единого су, — злился Фердинан.
— Я всегда делал то, что мне нравится, и еще чуть больше того. Если тебе это не по нутру, то это уж твое дело.
— Мы не имеем права делать то, что хотим, когда живем не одни. Скажем, ты будешь подстрекать Антуана тратить деньги, а потом ты ведь не будешь заниматься им, если ему придется жить на счет своего брата.
Слова Фердинана содержали почти неприкрытый намек, который не мог ускользнуть от внимания Оноре.
— Если уж надеяться на братьев…
— Ну тебе-то, я думаю, нечего жаловаться, — вырвалось у Фердинана.
Этого ответа Оноре и добивался и опасался одновременно.
— А! Ты хочешь напомнить мне, что я живу в твоем доме! Прекрасно, я освобожу тебе его на следующей же неделе! И делай с ним что хочешь, со своим домом! Я уже достаточно наслушался упреков в том, что живу в доме своего брата!
Он полнозвучно рокотал, и ветеринар тщетно пытался вставить хоть слово своим тщедушным ржаным голоском.
— Лучше я буду спать под открытым небом, чем останусь еще на неделю в твоей халупе! Я съеду в сроду и вообще уберусь из Клакбю. Тогда ты сможешь, если пожелаешь, обосноваться в этих четырех стенах и будешь сам сводить твои личные счеты с Зефом. Ну а я, меня здесь больше нет.
Оноре увидел, что после сказанного брат его совсем растерялся, и добавил с усмешкой:
— А твое письмо, я не стану выкупать его у Малоре даже за десять су.
От страха ветеринар совершенно потерял голову. Он принялся ходить туда-сюда, как марионетка, по профессиональной привычке задирая кверху хвост то у одной, то у другой коровы и глядя бессмысленными глазами. Оноре, все еще кипя от ярости, чуть было тут же не выбежал из конюшни, чтобы сообщить о своем отъезде всему дому, и тогда ему пришлось бы и в самом деле выполнить свою угрозу. Отчаяние, в которое впал его брат, остановило этот порыв. Пожав плечами, он сделал шаг в его сторону. Фердинан остановился, держа в руках коровий хвост, и глупо улыбнулся. У Оноре сжалось сердце, и он почувствовал угрызение совести.
— Фердинан…
Фердинан не шевелился; он шептал какие-то бессвязные слова. Оноре расслышал только: «письмо»…
— Фердинан… хватит нам ругаться, оставь ты этот коровий хвост и давай спокойно поговорим. Твое письмо. Оно находится у Малоре, мы подумаем, как его заполучить обратно. Послушай, присядь-ка вот тут, я не хочу, чтобы ты стоял, у тебя вид настоящего сумасшедшего. Прежде всего я хотел бы знать в деталях, что ты там мне написал. Подумай хорошенько.
Фердинан помнил почти наизусть все написанные им на протяжении года письма и все произнесенные речи. Сначала от растерянности он поколебался немного, но потом, распаляясь от собственных слов, стал подкреплять фразы интонацией и движением головы: «Дорогой мой Оноре, в начале недели у вороного случились колики…»
— Ну и влипли же мы, — произнес Оноре, когда брат закончил. — Да! Можно сказать, ничего не упустил.
— Но ведь то, что я написал тебе, является сущей правдой…
Оноре даже не стал отвечать ему. Он сел на треножник и попытался мысленно представить себе, какое удовольствие испытал Зеф Малоре, читая и перечитывая письмо. Это чувство, очевидно, было весьма сильным, что являлось для Оноре наихудшим оскорблением; по сравнению с этим чувством мысль о том, что письмо станет достоянием всей деревни, выглядела сущим пустяком. Теперь Зеф знал наверняка, что те слова, которыми он когда-то обменялся с баварцем, не пропали впустую, а материализовались, причем так, как, возможно, он, произнося их, и не предполагал. Чем больше Оноре размышлял об этой истории, тем менее существенным казался ему сам факт возврата письма. Ему было важно отомстить Малоре таким образом, чтобы у того при воспоминании о приключении баварца становилось горько на душе.
Ветеринар затаил дыхание и ждал порицаний. Поскольку Оноре моргал и плевал на носки своих башмаков, то он решил, что медитация обещает быть плодотворной, и, чтобы не раздражать брата своим присутствием, отошел на цыпочках в сторону и начал воскресный осмотр животных.
— Оставь ты моих коров в покое, — сказал ему Оноре, не поднимая головы. — Даже если ты их и прощупаешь, все равно это ничего не даст.
Оноре, который чуть что, не стесняясь, одергивал брата, еще, однако, ни разу до этого случая не осмеливался так вот категорично осудить едва ли не священный обычай осматривать животных. Фердинан почувствовал: что-то вдруг изменилось в их отношениях. Тот, на кого он невольно смотрел как на своего фермера, превращался в главу семьи, в предводителя Одуэнов, которому он в данной ситуации готов был подчиняться.
— Поскольку это все равно ничего не стоит, — робко возразил ветеринар.
— Говорю я тебе, оставь моих коров в покое.
И ветеринару пришлось отказаться от осмотра.
— Знаешь, — почти невольно все-таки вырвалось у него, — должен тебя предупредить, что у Фиделины течка.
— Ну, если тебе так хочется…
Ветеринар терпеть не мог непристойных шуток, предлагавших его воображению чересчур конкретные образы, которые, случалось, преследовали его потом на протяжении нескольких дней. Он покраснел, бросил на Фиделину взгляд, прикинул, не удержавшись, некоторые возможности и возмутился бесцеремонностью брата.
— Мне все-таки непонятно, как в твоем возрасте ты еще можешь увлекаться подобными гнусностями, нет, я решительно отказываюсь это понимать.
А Оноре уже успел забыть свои неосторожные слова, оскорбившие целомудрие брата.
— Какие гнусности? — спросил он.
— Гнусности вроде той, что ты только что сказал.
— Я сказал тебе гнусность?..
— «Ну, если тебе так хочется…»
— Что, если тебе так хочется?
— Да ты мне сказал: ну, если мне так хочется…
— Не понимаю.
— Или точнее: «ну, если тебе так хочется!»
Фердинан все больше терял терпение, и Оноре смотрел на него с беспокойством, думая, что волнение сказалось на его рассудке.
— Тебе нужно пойти немного поесть, — сказал он ему. — В ожидании обеда Аделаида нальет тебе кофе с молоком.
Ветеринар ничего не ответил. Он был уязвлен. Мало того что он пострадал из-за собственной честности, так теперь его же еще принимают за идиота. В который уже раз ему приходилось убеждаться, что такова обычная награда за невинность и скромность.
Когда братья вышли из конюшни, то все, кто мог их видеть, заметили, что ветеринар был желт, как канделябр, и что он опасливо поджимал зад в своей визитке. Оноре же, напротив, казалось, излучал хорошее настроение, смотрел бодро, и его тело привольно наполняло собой одежду. Слышно было, как он сказал Фердинану:
— Главное, больше никуда не лезь. Ты и так уже наделал достаточно глупостей. Я запрещаю тебе ходить к нему.
Соображения кобылы
В Клакбю занимались любовью четырнадцатью способами, но кюре одобрял не все из них. Описывать их здесь вовсе не обязательно, да и к тому же я боюсь распалиться. Они отнюдь не составляли общее достояние коммуны: даже тех, кто знал хотя бы четверть из них, и то в деревне было раз-два и обчелся. Они, эти способы, представляли собой своеобразные семейные рецепты, некое движимое имущество, которое попадало из одной семьи в другую с помощью брака, благодаря детским воспоминаниям или же, что случалось гораздо реже, через дружеские откровения. На первый взгляд кажется, что в деревне с несколькими сотнями душ обмен опытом должен был бы быстро дать всем семьям возможность освоить весь цикл четырнадцати сладострастий. Однако ничего подобного не происходило, так как игра личных склонностей, стыдливость той или иной супруги либо властность мужчины позволяли одерживать верх какому-то определенному способу — одному или двум — и обрекали на забвение недавние находки, а то и устоявшиеся традиции, которыми иная семья жила до этого добрую сотню лет. У новобрачных редко бывало так, чтобы одна традиция добавлялась к другой; муж почти всегда заставлял принять свои способы любви. Встречались и более любознательные семьи, поддававшиеся очарованию новизны и разнообразия. Например, у Бертье мужчины ласкали своих жен четырьмя, а то и пятью различными способами. Но то были исключения, и можно сказать, что ни в одной порядочной и трудолюбивой семье до трех способов дело не доходило. Клакбюкские Одуэны почти всегда ограничивались наследием старого Одуэна, и даже Алексис, самый предприимчивый из сыновей Оноре, добавлял к нему разве что кое-какие мелкие детали. А ведь Алексис отличался в детстве неиссякаемым интересом к любовным таинствам. Он размышлял буквально над всеми возможностями, которые только позволяло ему знание человеческой анатомии, и в своих мероприятиях с девочками его возраста проявлял немалую изобретательность и отсутствие всякого стыда. А вот году этак на восемнадцатом он словно вдруг растерял весь свой опыт, как бы готовясь к вступлению в мир, где изощренность и изыски становятся слишком громоздким багажом. Так же обстояло дело и с его братьями, и с его отцом, и с большинством клакбюкских мужчин: на исходе отрочества они отказывались от своих простодушных, шумливых, бесстыдных любовных привычек и вступали на путь, означавший, что пришла пора выбирать жену и ограничивать себя во всех отношениях. Выбирали они нехотя, подобно тем больным, что сидят на диете и едят яйца вкрутую, мечтая при этом об аппетитных рубцах и кровяной колбасе былых, здоровых времен, но все же выбирали и постепенно к ним привыкали, потому что главное — это жить, чтобы зарабатывать су. Когда ты вынужден работать в поте лица, чтобы прокормиться от клочка земли, то не существует ни четырнадцати способов, ни двенадцати, ни шести; существует только один способ, да и о нем-то вспоминаешь нечасто. Клакбюкские мужчины забывали по только об уловках их юных лет, они забывали также и про то, что любовные наслаждения занимают большое место в играх их детей, — или, скорее, притворялись, что забывали.
В юном возрасте ребята с любознательностью, почти не знающей удержу, приобщались ко всему, что могло удовлетворить их половые инстинкты. Они сбивались в похотливое, не имеющее никаких тайн стадо и ходили подобно юным сельским богам, чьи забавы не умерялись никакими тяжкими заботами о хлебе насущном. То было общество наслаждений, куда каждый нес свою лепту, свой трофей: хитроумную идею, непристойное выражение, что-то из своих наблюдений за семейными отношениями. По окончании занятий в школе они собирались вместе, мерили травинками пенисы или же, захватив врасплох между двумя изгородями какую-нибудь девчонку, заставляли ее заголяться. Все это располагало к комментариям, которые и лились как из фонтана, один похабнее другого. Девочки, за исключением тех случаев, когда они оказывались жертвами, в эти контроверзы не вмешивались и лишь издали наблюдали за их внешними проявлениями. Довольно ранее чувство религиозного долга служило у них противовесом любопытству. Кюре уже пользовался в их глазах престижем, который женщины обычно признают за священником и врачом. Он знал свою власть над женской частью Клакбю и говорил по этому поводу, что если бы в деревне не было ни одной женщины, то ему, может быть, и удалось сделать из ее жителей святых, а вот добрых католиков ни за что.
Эротические демонстрации ребят были отнюдь не только словесными, как не были они и имитацией. Диапазон их любознательности практически не имел границ: их в равной мере интересовали и содомия, и иные извращения, и обыкновенная, семейная традиция; и если их представления обо всем этом были несовершенны, что в определенной мере лишало их возможности отчетливо видеть действительность, то это никак не мешало совершению многочисленных, самых разнообразных совокуплений, которые вовсе не сводились к одной только мимике. Я уж не говорю о наслаждениях, получаемых в одиночестве, которые свойственны всем возрастам, и существуют как в городе, так и в деревне.
В летний сезон, когда дети находились вдали от школы и пасли стада, они не отказывали себе в удовольствии воспользоваться временем каникул и свободой. Девочки нередко попадались на ядреное красноречие юных пастухов и уступали им, не затрудняя себя выбором, скорее от безразличия или простого безделья, чем от реального желания. Эти соития редко совершались без свидетелей; почти всегда они служили зрелищем для одного-двух мальчишек, которые поджидали своей очереди, рассчитывая на благосклонность жертвы. Иногда посреди этих пасторальных праздников вдруг возникала фигура сельского полицейского, хранителя собственности и добрых нравов, но ему и в голову не приходило составлять по такому случаю протокол: ведь дурными считаются только такие нравы, которые приводят к посягательству на собственность либо к ее обесцениванию, а эти детские забавы порядка никак не нарушали, собственности граждан Клакбю никакого зла не причиняли; то были опыты, проводимые на закрытом участке детства и являвшиеся, можно сказать, опытами теоретическими. Полицейский ограничивался нотацией и сообщал родителям только о тех провинившихся, чьи коровы имели привычку пастись на чужих лугах. Эта явная несправедливость служила зато наградой праведным пастухам, лишний раз доказывая им, что в гармонично устроенном мире все оборачивается во благо людям, уважительно относящимся к добру ближнего. Ну а уведомленные полицейским, родители никакого чрезмерного беспокойства по поводу обнаруженных у ребенка дурных инстинктов не проявляли. Обычно, виновный трепетал от страха минут пять, выслушивая, как его отец ругается и говорит, что ему, мол, стыдно за такого невоспитанного ребенка, а мать в это время думала о том, что как-нибудь на неделе его следует отправить на исповедь. На следующий день всю семью поражала амнезия, и пастуха отправляли на луга, ни мало не заботясь о подстерегающих его там искушениях.
Тем же самым ребятам, предававшимся бесстыдным играм, случалось хранить в тайниках души какую-нибудь робкую любовь, легкую и чистую, как надутый в раю мыльный пузырек. Им даже и в голову не приходило, что эти утонченные радости могут завершиться плотскими утехами. Позднее, достигнув возраста мужчин и научившись удобной привычке все смешивать, они грубо смеялись над этой утраченной благодатью. Лучшие из них, вспоминая о ней, иногда испытывали прилив нежности.
Дети Оноре Одуэна предавались непристойным играм их возраста без всякого удержу. Отец не видел в том ничего предосудительного, радовался, обнаруживая у них столь сильную тягу к любви, и сам, отягощенный обязанностями семейного человека, немного завидовал приволью их чувств. «Так будет не всегда, — с грустью думал он, — и они тоже станут стесняться быть счастливыми, когда им придется в. грудах и заботах добывать кусок хлеба».
На тринадцатом году Алексис не пренебрегал ни одним из тех удовольствий, которые ему рисовало его смелое воображение. Товарищи восхищались его непринужденной речью, его смелостью и изобретательностью. Он умел делать почти все, о чем рассказывал, а рассказывал он, приводя массу подробностей, стремясь к максимальной точности и пользуясь весьма образным словарем, что притягивало к нему слушателей. В школе он чаще держал руки под партой, нежели на парте, причем вовсе не ради застарелой привычки, а просто, чтобы внести немного человечности в повествование учителя про тройное правило или про сварливый характер Кольбера. Взгляд у него был проворный, а рука — всегда готовая воспользоваться оказией. С девочками он проявлял завидную ловкость, обнаруживал умение убеждать, а кроме того, была у него своеобразная манера брать как бы шутя их руку и направлять ее туда, куда ему хотелось. Малышки терялись, и некоторые из них охотно выслушивали его до конца. Ему чаще, чем кому бы то ни было другому, случалось попадаться полицейскому в тот момент, когда штаны его оказывались сняты и лежали неподалеку. «Вот ведь дьяволенок-то, — говорил полицейский, — это уже третий раз за лето, и кончится тем, что я все-таки скажу Оноре». Но то были лишь пустые угрозы; фантазия Алексиса отличалась такой затейливостью, что нередко полицейский, спрятавшись за кустом, выжидал, чтобы преступление было совершено, и только тогда давал знать о своем присутствии. Алексису никогда не верилось, что девочка уступила ему до конца, и он, поворачивая ее то орлом, то решкой, все норовил выяснить, какую же еще тайну она в состоянии ему поведать. Однако, несмотря ни на что, счастье шло ему в руки не так уж часто: тот факт, что девочка покорилась ему однажды, еще не означал, что она будет уступать ему и в последующие дни; взрослые как-то приноравливаются к этой логике, а у детей и гордости побольше, да и мысль одна останавливает — хватит с меня уж и того, что я принадлежу моим родителям. Потребность ли ему подсказала, или просто случай такой вышел, но Алексис подметил, что ложбинка меж ягодиц у девочек и у ребят выглядит одинаково. Застав его. в тот момент, когда он на практике доказывал это одному из пастухов-ровесников, полицейский счел, что на сей раз мальчишка преступил все границы дозволенного, и побежал уведомлять о случившемся отца.
— Мне стыдно, Оноре, тебе об этом говорить, но твой парень ведет себя хуже, чем хряк.
Оноре выслушал рассказ полицейского, покачивая головой. Он ответил:
— Это досадно. Уж могли бы эти мальчишки придумать себе какую-нибудь другую забаву. Ну да ничего, это пройдет.
— Вот я и решил прийти сказать тебе…
— Ты правильно поступил, — сказал ему Оноре, — и я благодарю тебя за то, что ты не поленился прийти. Будь спокоен, когда он вернется, я задам ому трепку.
В тот вечер Алексис не посмел вернуться домой, и, когда стало смеркаться, мать забеспокоилась. Оноре знал, что мальчик испугался родительского гнева, и тоже заволновался. «С детьми никогда не знаешь, — размышлял он, — они так же легко плачут, как смеются, и так же легко причиняют себе боль». Оноре отправился на выгон к реке. Вечерние тени удлиняли луга, и беспокойство его все возрастало и возрастало. Он думал о том, как тоскливо сейчас его сыну, который бродит одиноко в ночной тьме, может быть, по берегу реки. Чтобы быстрее бежать, он снял башмаки. Прибежав на общинные луга, он сначала ничего не увидел. Ночь почти полностью вступила в спои права, да тут еще туман, который поднимался от реки и застилал всю равнину. Откуда-то из темноты выскочила и стала обнюхивать его грустная, недоверчивая собака. Оноре не решался позвать сына, опасаясь, что тот не ответит ему. Наконец он заметил коров, ровным, как в хлеву, рядком расположившихся во влажной траве. Алексис лежал, прижавшись к одной из них, чтобы согреться, и с ужасом и одновременно с облегчением смотрел на фигуру отца, надвигавшуюся на него. Оноре поднял мальчика, прижал его к своей груди, еще трепещущей от бега и от испытанного страха.
— Не нужно меня бояться, — сказал он.
А поскольку в движениях мальчика сохранялась напряженность, — ему было стыдно, Оноре добавил:
— Ты больше не будешь так делать, вот и все.
Возвращались они, держась за руку и ступая в такт шагу коров, немного удивленных всем тем, что с ними происходило в ночи, но не решавшихся говорить в присутствии главного Одуэна. Отец и сын не видели друг друга, а луга от тумана казались такими мягкими, что и шагов своих они тоже не слышали. Они шли, взявшись за руки, счастливые от испытанного друг из-за друга страха. Алексис чувствовал иногда, как большая, теплая рука отца нервно вздрагивает, как это бывает при воспоминании о сильном испуге.
— Я больше не буду так делать, вы можете быть уверены.
— Я знаю, — сказал отец.
И он подумал о том, что только что вновь обрел своего сына и что все остальное не имеет никакого значения. Алексис и в самом деле сдержал слово. Когда кто-либо из пастухов приглашал его, он с бурным негодованием отвергал приглашение и тут же предлагал другие развлечения, отличавшиеся почти столь же изощренной фантазией. Просто в теле у него сидел бес, бес игривый, смешливый, по-бесовски любознательный и не боящийся высовывать свой хвост.
Клакбюкский священник, от взора которого не ускользало ничего, на многие проделки своих юных прихожан старался закрывать глаза. Некоторых грехов он касался лишь вскользь. На вопросы: «Ты развлекался с девочкой?» или «Ты развлекалась с мальчиком?» — он удовлетворялся ответом «да» и в подробности не вникал. Это вовсе не означало, что грех сладострастия казался ему менее отвратительным у детей, чем у взрослых; скорее, наоборот. Впрочем, он накопил такой большой опыт в познании зла, что даже почти и не возмущался. Однако он никогда не принимал решений на скорую руку, постоянно действовал в интересах Бога, церкви и прихода, которые слились воедино в его желчной и в конечном счете довольно плодотворной любви. Он ненавидел не столько грех, сколько его последствия; обратив внимание на то, что половая активность детей не смешивается ни с любовью, ни с дружбой или ненавистью, он предпочел видеть в ней знак невинности. «Дети сейчас играют, — размышлял он, — а когда вырастут, перестанут играть; утехи плоти со временем смешиваются с тяготами жизни, и только вот тогда можно будет с пользой любовные игры уподобить пугалу». Кроме того, кюре считал, что лучшим возрастом для того, чтобы «перебеситься», является детский возраст, а вовсе не юношеский, когда дурные привычки получают подкрепление в виде гордыни и перерастают либо в бунтарство, либо в распутство. Он не только притворялся, что не замечает предосудительных забав детей, но и в своих религиозных наставлениях старался избегать всяких намеков — в виде запретов — на грех сладострастия и тщательно просеивал эпизоды библейской истории. У детей в памяти божественная тайна всплывала неизменно в атмосфере голубоватой, бесполой женственности, которую кюре извлекал из катехизиса, говоря о деве Марии, о маленьком Иисусе, об ангелах-хранителях и о самых почтенных святых, обладателях более чем почтенных бород. И лишь позже, в юности, когда любовь становилась трудной, они сталкивались с Божьим гневом. А до того они просто любили Бога и в той мере, в какой это их не стесняло, старались доставить ему удовольствие. Например, ребята от десяти до тринадцати лет, чтобы угодить ему, держали малышей в стороне от непристойных речей и игр; отчасти это объяснялось и тщеславным стремлением разделиться на категории. Малышей это обижало, и в своей компании они тоже упражнялись в непристойностях, причем получалось у них не многим хуже, чем у старших ребят. Правило это, впрочем, допускало исключения, и нередко старшие делились знаниями с младшими, дабы те могли оценить преимущества этой науки, ну а если обстоятельства складывались так, что малыш оказывался в их компании, то стесняться его они не собирались. Что касается Алексиса, то он был решительным противником того, чтобы посвящать Гюстава и Клотильду в скабрезные речи. Из набожности, а также из чувства ответственности он осуществлял за братом и сестрой суровый надзор, которого они боялись пуще, чем присмотра со стороны родителей. Он задавал им каверзные вопросы относительно их времяпрепровождения, запрещал им кое с кем водиться и воевал с Тентеном Малоре, который так и норовил просветить малышей. Ему нравилась роль а в гола-хранителя, и когда двое его подопытных жаловались на неестественную строгость; вступавшую в противоречие с его собственным поведением, он отвечал: «Вот исполнится вам десять лет, тогда посмотрим».
Особенно Алексис старался уберечь Гюстава и Клотильду от общения со стариками. Он вспоминал последние годы своего деда Одуэна и разнузданный цинизм его речей. Когда этим старикам оставалось жить год-другой, когда со всеми земными делами было уже покончено, они переставали видеть какой бы то ни было резон в том, чтобы чего-то стесняться. Утратив способность работать, они становились как дети, над которыми не висит необходимость зарабатывать деньги. «Боже мой, — говорили старики, — мы так долго воздерживались от того, чтобы быть свиньями, что теперь все это само просится на язык». А поскольку у тех, кто работает, не было ни времени, ни желания слушать их, то старики беседовали с детьми и, случалось, являли собой то, во что может превратиться человек в семьдесят пять лет. Кюре тут приходилось волноваться не за ребят, а за стариков, которые, умри они внезапно от разрыва сосуда или от чего-нибудь еще, рисковали отправиться на тот свет с черным грехом на совести.
Вот почему он распространял слухи, что старость мудра, пристойна и осиянна льющимся из ее очей светом; он надеялся, что старики почтут за честь поддерживать эту репутацию мудрости, и, как оказалось, ставка кюре на их тщеславие более или менее себя оправдала. Большинство из них стали воспринимать себя всерьез, причем, на что он уж совсем не рассчитывал, во всех тех случаях, когда требовался здравый смысл, острый взгляд и бодрость духа, у стариков начали спрашивать совета здоровые, полные жизни сорокалетние мужчины.
VIII
Деода шел своим отменным почтальонским шагом, посматривая вокруг своими, как всегда, голубыми глазами. И когда он пересекал сад или проходил вдоль изгородей, летние цветы торопились расцвести быстрее обычного. Он не знал этого и шел спокойно. Он шел своим маршрутом почтальона, начиная с самого начала и далее. Это было его ремесло, коль скоро он был почтальоном. В воскресенье он совершал свой обход, как и в остальные дни, и не жаловался: ведь это же было его ремесло. Обедню Деода посещать не мог, но кюре ему это прощал при условии, что время от времени он будет посещать утреннюю службу. С этой-то стороны он был спокоен; просто теперь ему не удавалось помянуть лишний раз свою жену, которая вот уже лет десять лежала на кладбище. Однако поскольку она умерла, он и не слишком мучился. Он больше не думал об этом. Вот когда она болела, то, видя, как она страдает, и потом, когда ее несли вчетвером ногами вперед, вот тогда ему пришлось попереживать. А потом он забыл. Она умерла, вот: умерла она. Такое часто случается, самая что ни на есть обычная вещь. Не биться же ему головой об стенку. Он тут ничего не мог поделать. Он-то все-таки остался жить, остался со своей формой почтальона и ремеслом почтальона. И он занимался своим ремеслом степенно, размеренным шагом степенного почтальона; в ожидании своей очереди, когда и ему тоже придет время последний раз, уже покойником, выйти за порог своего дома. Он ждал своей очереди и больше об этом не думал, он пока еще жил и на тот свет не торопился.
Сойдя с дороги, почтальон углубился в яблоневую аллею, которая вела к Зефу Малоре. Обедня уже давно закончилась, но мужчины еще не вернулись: Анаис опередила их по дороге. Деода порадовался, что застал ее одну. Когда рядом с ней не было ее мужчин, она смеялась, завидев почтальона, и ему было приятно смотреть на ее тело крупной блондинки, на ее красивое лицо зрелой сорокалетней женщины. Ни о чем предосудительном Деода даже и не думал оставшись вдовцом, он превосходно обходился без женщины, скромно устраивался как мог сам по себе. Они оба весело засмеялись: она тому, что пришел почтальон, а он тому, что является почтальоном. Такая уж выработалась у всех привычка — смеяться, когда он входил в дом. Люди говорили: «Вот почтальон». А он отвечал: «Да, это я». Смеялись люди оттого, что им было приятно видеть, как в дом входит хороший почтальон.
— Я принес тебе новости, — сказал он Анаис.
И протянул ей письмо в очень красивом конверте, адресованное г-ну Жозефу Малоре и его супруге г-же Малоре; деревня Клакбю через Вальбюисон.
— Это мне моя взрослая дочь Маргарита пишет из Парижа, — сказала Анаис.
Почтальону это было уже известно, поскольку он знал ее почерк, но он и виду не подал. Так выглядело вежливее.
— Вот и хорошо, что это от малышки; новости от молодежи — это всегда приятно.
Анаис вынула из своего высокого светлого шиньона заколку для волос и, вскрыв конверт, сразу же взглянула на нижнюю часть страницы.
— Приезжает завтра вечером, — сказала она, — в прошлый раз она еще не знала, а тут вдруг сразу завтра вечером. Ах, Деода, какой ты все-таки хороший почтальон!
— Работу свою я уж точно знаю, — запротестовал почтальон, — ну а что там в этих письмах, так ведь не я же их пишу.
Но Анаис не слушала его, она смеялась, потому что завтра должна была приехать ее дочь.
Почтальон вышел от Зефа, весело смеясь. Дойдя до середины яблоневой аллеи, он прошептал: «Это дочка ее завтра приезжает». И продолжал свой обход. У него в сумке не осталось больше ни одного письма и ни одной газеты, но это ничего не значило. Он все равно пройдет по тропинке, ведущей в лес, чтобы все знали, что время почты уже прошло, потом вернется тем же путем, выйдет на большую дорогу и отправится к себе домой, но перед этим, как всегда по воскресеньям, сделает остановку у Оноре Одуэна.
Можно было предположить, что после состоявшегося в конюшне разговора, эхо которого уже прокатилось по всем Одуэнам, трапеза пройдет в тягостном молчании. Пожалуй, еще никогда столовая Одуэнов не была столь шумлива, а смех — столь заразителен. При этом дядя Оноре производил один столько же шума, сколько все дети вместе взятые; он то и дело наливал себе вина, громко говорил, беззаботно смеялся и веселил всех присутствующих. Он пользовался всеобщим вниманием, а его брат Фердинан выглядел как дальний родственник, которого приглашают только тогда, когда за столом оказывается тринадцать человек. Обычно дело обстояло несколько иначе, речи ветеринара звучали весомо, и когда он произносил: «Я, как и Виктор Гюго, являюсь деистом» или «Я уважаю все убеждения и хочу, чтобы к моим убеждениям тоже относились с уважением», то это оказывало впечатление даже на Оноре. В результате семейная трапеза принимала красивые очертания: женщины, не интересующиеся метафизикой, могли спокойно наблюдать за детьми и обмениваться кулинарными и прачечными рецептами, с чего собственно и начинается всякая добротная семья. Так что в этих серьезных пирушках каждый находил то, что ему было нужно, и даже дети, не подозревая об этом, узнавали массу полезных сведений, за которые позднее, когда у них прибавится ума-разума, они должны были бы поблагодарить своего дядю Фердинана.
Ну а на этот раз Оноре, уже начиная с супа, стал вводить в это благопристойное семейное собрание какое-то разнузданное и агрессивное веселье. Можно было подумать, что он рад роковому приключению потерявшегося письма, которое подвергло опасности честь имени Одуэнов. Безудержное желание ввязаться в борьбу против Зефа придавало его смеху и его взгляду какую-то особую, мужскую доблесть. Он так и бил копытом, так и потряхивал султаном: бросал иронические взгляды на ветеринара, ухаживал за невесткой, играл с детьми, громко говорил, смеялся, снова говорил, снова смеялся с воинственным видом человека, решившего учредить временное правительство вина и голытьбы. Дядя Фердинан чувствовал себя не в своей тарелке, его терзали одновременно и робость и нетерпение. В другое время он не стал бы терпеть шумливую спесь брата, которую теперь из-за письма приходилось сносить. Момент для того, чтобы нанизывать максимы и предсказания из области политики, сейчас был неподходящий. Он едва сдерживался: торопливость в нем боролась с осторожностью, и он не осмеливался даже наказать соответствующим образом своего сына Антуана, который демонстративно громко смеялся любой шутке дяди Оноре по адресу его отца (ну уж тут-то он еще получит свое: вопрос с Вестфальскими договорами остается открытым). Дядя Фердинан размышлял о том, что зачастую виноваты именно родители; в самом деле, пример Оноре не пропадал для детей втуне, и те вели себя как настоящие сорванцы: разговаривали с набитым ртом, перебивали на полуслове родителей и даже хуже того., Фредерик, сидевший рядом со соей кузиной Жюльеттой, все время держал левую руку под столом, вместо того чтобы положить ее спокойно рядом с тарелкой, как поступают воспитанные дети. Да и другие вели себя не лучше, даже Люсьена, обычно такая разумненькая девочка, тут сразу, за каких-нибудь полчаса, накопила грехов на целое домашнее задание. Причем при первом же замечании, которое Фердинан попытался было сделать, брат оборвал его:
— Дай ты им, этим детям, повеселиться; я вот, например, люблю, когда они все время в движении, когда они галдят. И вообще знаешь, что я тебе скажу: у твоих ребят слишком уж серьезный вид и орут они не в полную силу; боюсь я, как бы и они тоже не приобрели, когда вырастут, эдакую мину ризничего на лице, которая впору только их папаше.
Дети смеялись до слез, а Антуан даже чуть было не подавился. Это походило на дозволенное неповиновение, на настоящую анархию, и нетрудно было предвидеть, что добром дело не кончится. Гюстав, уже и без того рассердивший мать, когда засунул куриное крылышко в карман своих выходных брюк, попытался заставить собаку выпить стакан красного вина, половину которого он пролил на белое платье своей кузины Люсьены. Гюстав получил свою порцию пощечин, женщины должным образом покричали, но ветеринар был настолько раздражен, что даже не счел нужным скрывать это.
— Если ребенок чувствует, что отец поощряет его, то он, естественно, никогда не остановится.
— Ты хочешь сказать, что я поощрял его лить вино на платье сестре?
— Я не сказал, что ты поощрял, Я сказал, что он чувствует, что его поощряют. Надеюсь, ты согласишься со мной, что прояви ты себя менее снисходительным, этого печального случая не произошло бы.
— Нет, не соглашусь. Ты же сам сказал, что это дело случая.
— Случая, который нетрудно было предвидеть.
— Ты-то сам что, предвидел его?
— Я предвидел, что произойдет нечто в этом роде.
— Да? Ну тогда остается только пожалеть, что твое чутье так подвело тебя несколько дней назад; не случись этого, письмо твое не лежало бы сейчас у Малоре…
Напоминание о промахе в присутствии всей семьи ветеринар воспринял как унижение; его жена, почувствовав, что спор принимает дурной оборот, попыталась успокоить братьев:
— Да тут почти ничего и нет, достаточно будет намылить там, где пятно…
Фердинан с еще пылающими от унижения щеками бросил на свой стакан с вином иронический взгляд и сказал, усмехнувшись:
— О! Нет, это пятен не оставляет!
И почти тут же пожалел о своей усмешке. Оноре, подозревавший Аделаиду в том, что она, когда приходят гости, добавляет в вино воды, намек мгновенно понял. Он спросил:
— Это верно, — то, что говорит Фердинан, — что ты добавляешь в вино воды?
Жена и Фердинан отозвались одновременно.
— Чтобы я добавляла в вино воды! — воскликнула Аделаида.
— Я и не думал говорить ничего подобного! — возразил ветеринар своим востреньким, как спица, голоском.
— Ты так сказал! — возмутился Оноре. — А открыто ты не сказал это только потому, что открыто ты вообще ничего не говоришь! Как был ты иезуитом, так им и останешься, и можешь не делать вид, что каждое утро готов умереть за Республику! И этот твой генерал Буланже тоже такой; что он, скажи мне, собой представляет? Он просто олух в подряснике, набитый четками, и больше ничего! Тысяча чертей, вода в моем вине…
— Уверяю тебя, Оноре, ты меня не понял, я не говорил…
— Так я, значит, ко всему прочему еще и круглый болван. Я не понял и вы ничего не поняли?
Оноре ни к кому не обращался с этим вопросом и не ждал ответа. Последовала пауза, после которой Антуан заявил немного дрожащим от волнения голосом, поскольку он знал, что сказанные им слова не относятся к числу тех, которые можно искупить пятьюстами строчками дополнительного задания:
— Если я правильно понял, то, как мне показалось, отец сказал, что вы добавили в вино воды!
Ветеринар от ярости весь побагровел, А дядя Оноре, оценив принесенную его племянником жертву и то вероятное наказание, которое его за нее ожидало, сделал над собой усилие и не воспользовался полученным преимуществом. Ссора могла бы тут и затихнуть, если бы Фердинан, утративший хладнокровие из-за свидетельства сына, которое он воспринял как предательство, не дал выход своей ярости.
— Вот чего ты добиваешься, настраиваешь моего сына против меня! Ах! Тебе даже не пришлось особенно стараться; так уж он устроен, что с полуслова поймет и тебя, и своего дядю Альфонса! В нашей семье альфонсы, когда хотят сыграть со мной злую шутку, всегда видят друг друга издалека; люди, не знающие чувства благодарности, завистники, транжиры, юбочники, бездельники…
— Я очень советую тебе помолчать, — сказал Оноре, пока еще сдерживаясь.
— Помолчать! Мне нечего молчать! Я никому ничего не должен! Ни единого су!
— И это прискорбно, потому что есть кое-какие денежки, которые достались тебе не слишком дорого…
— Сто су! Я беру сто су за консультации, я зарабатываю на жизнь честным трудом!
— За исключением случаев, когда ты с Пюже договариваешься и он за тебя торгует…
— Это неправда! Ты лжешь!
Оноре встал, а невестка взяла его за руку и начала успокаивать. Но он ее даже не слышал.
— Ты смеешь мне так говорить? Жулик ты и лжец…
Ветеринар тоже встал. Разделенные столом, они смотрели друг на друга с яростью, испугавшей всю семью.
— Мне не в чем себя упрекнуть, — сказал Фердинан срывающимся голосом.
— Меня никто не может ни в чем упрекнуть, — сказал Оноре.
— Никто? — усмехнулся ветеринар. — И Аделаида тоже не могла, когда ты в дни ярмарки отправлялся под вечер сам знаешь куда?
Аделаида стала возражать, что ей до этого нет никакого дела. Оноре попросил ее замолчать.
— Не надо. Я выброшу сейчас его за шиворот на улицу.
Чтобы добраться до брата, ему нужно было обойти вокруг стола. Едва он сделал шаг, как во двор вошел почтальон, вошел спокойно, держа голову на плечах, а руку — на своей кожаной сумке. Все видели, как он идет, как, проходя мимо колодца, погладил гладкую каменную кладку. Братья сели на свои места, думая о том, что дешево отделались.
— Входи же, — сказал Оноре. — А я только что подумал: почтальон-то ведь еще не проходил. Ну давай, иди, садись вот сюда.
— Так, я вижу, вы все здесь, вся семья, значит, собралась?
— Да, как видишь, — ответил ветеринар голосом счастливого человека.
— Так я вот часто себе говорю: у Одуэнов, у них в доме почти каждое воскресенье праздник.
— Конечно, — сказал Оноре. — Мы всегда рады собраться всей семьей.
Оноре абсолютно искренне верил в то, что говорит. Он говорил правду, ту правду, которая нужна хорошему человеку, хорошему почтальону.
— Когда в семье согласие, — добавил Фердинан, — это самая большая в жизни радость и мне вспоминается то время, когда отец наш был еще жив.
— Какой же все-таки он был хороший человек, твой отец. Я вспоминаю, как однажды в Вальбюисоне, но я говорю про времена двадцатилетней давности, когда и железной дороги-то не было и когда мне и в голову не приходило, что когда-нибудь я стану почтальоном. Да, как сейчас вспоминаю: сколько же мне тогда было лет, может, тридцать или тридцать два? Я припоминаю, как напротив последнего в городе дома, не дома Руке, потому что его построили потом, ведь Руке перебрались в Вальбюисон только в семьдесят пятом; в том году, когда у моего тестя случился пожар. Нет, последний дом — это был дом Виара. Не знаю, помнишь ты или нет. Виары. У них было двое парней, ну, конечно же… тот, что постарше служил потом в жандармерии. Не такая уж плохая работа для человека, у которого есть голова на плечах, но только там, как и у нас, почтальонов, глаз в деле нужно иметь наметанный…
Почтальон остановился, смущенный напоминанием о потерянном письме. Оноре угадал причину его смущения и попросил его продолжать:
— Так, значит, ты встретил моего отца?
— Да, я встретил его. Как мне помнится, эта была ярмарка. О! Совсем небольшая ярмарка, — в Вальбюисоне они большие-то никогда и не получались. Было что-то часов около одиннадцати, а твой отец уже возвращался. Ты помнишь, какой он был, твой отец. Когда ему нужно было делать дело, по кафе ходить он уже не станет, хотя компанейский был, и на скотину умел посмотреть и когда продавал и когда покупал. Я вам скажу, я сам был свидетелем, как он однажды покупал нетель. Я говорю, нетель. Ничего скотинка, даже приятного вида, но, понимаете, такая, которая в глаза никому не бросилась; а он раз-раз, смотрю, купил ее, как я бы купил на два су табаку, и, не прошло и четверти часа, тут же продал ее с тридцатью двумя франками барыша, причем меньше чем в пятнадцати метрах от того места, где он ее взял. И я видел все это собственными глазами.
Деода стукнул кулаком по столу и сдвинул свою фуражку высоко на темя. Одуэны умилялись этому воспоминанию, от гордости у них просто щемило сердце. Большинство из них имело веские основания презирать и даже ненавидеть воскрешенный образ своего предка, в чем они себе обычно нимало не отказывали, но, беседуя о нем в лоне семьи или же с кем-то посторонним, неизменно представляли старика в обличье доброго библейского персонажа. Даже Антуан, который обычно не поддавался такого рода эмоциям, и то был взволнован. Оноре наклонил голову и прошептал:
— Да, можно сказать, человек удостоился.
Почтальон пожал одним плечом, словно похвала показалась ему слишком скромной.
— Вот и я тоже думаю, еще как удостоился! Нужно его знать, как я его знал… Так вот, шел он, значит, с ярмарки, а я шел на ярмарку, уже даже и не помню зачем… Погодите, сейчас вспомню! Нет, не вспомню. Ну да и ладно, шел я, значит, одним словом, в Вальбюисон. И вот где-то напротив Виаров вижу: идет навстречу мне Одуэн, идет, как он имел обыкновение ходить, вроде бы не спеша, а на самом деле что ни полчаса, то лье как не бывало. Он меня даже не заметил. Он же, вы ведь помните, все время чего-то размышлял. Это был человек, который думал головой. «Назад возвращаетесь, Жюль», — говорю я ему. А он мне говорит: «Доброго тебе здоровья, Деода, представь себе, взял вот и забыл свой зонт».
У почтальона на лице появилась сердечно-почтительная улыбка, и он заключил:
— Зонт он свой забыл.
Оноре и Фердинан, примиренные, смотрели друг на друга через стол глазами полными нежности. Над столом раскрылся зонт. Это был он, его зеленый зонт. Хороший зонт, он всегда только один у него и был. Он был у них в семье, этот зонт, зонт согласия. Стоило им только подумать о слове «зонт», как во рту у них начинали течь слюнки доброй воли. Дорого они бы дали за то, чтобы иметь сейчас тот его зонт (а попытайся старик выбраться из могилы, так они, глядишь, загнали бы его туда обратно башмаком по голове). Они теперь были два брата, два сына того зонта. Оноре упрекал себя за то, что был немного резок с Фердинаном, а ветеринар подумал: «Что же, таким уж он уродился, мой брат. Таким я его и люблю».
Остальные Одуэны почувствовали, как зонт принес с собой в комнату замирение, хотя рассказ почтальона их несколько разочаровал, особенно детей, надеявшихся на более захватывающую развязку. Например, Гюстав подумал, что из конюшни Виаров мог бы выскочить разъяренный бык, а дедушка схватил бы его за хвост и, покрутив им над головой, словно пращой, забросил бы его аж в пруд Голубой Кошки. Хотя публика согласилась бы и на меньшее. Алексиса зонт явно не удовлетворил.
— А что потом, Деода?
Вопрос взволновал почтальона. Он догадывался, что рассказ его обманул ожидания присутствующих и почувствовал себя виноватым.
— А вот сказать вам, забыл ли он зонт у себя дома или на ярмарке, я бы не смог…
— Он забыл его дома, — сказал ветеринар. — Наверняка.
Деода отпил глоток вина и спросил у него, что он думает о трехмесячном цыпленке, который соглашается есть только в ногах у свиней, а после четырех часов пополудни начинает хромать. У него вывелся именно такой цыпленок.
— Бывает такой изъян у цыплят, — сказал ветеринар, — нужно опасаться таких цыплят из-за молодняка. Знал я одного цыпленка…
Беседа вдруг оживилась. Пошли истории про цыплят, имеющих тот или иной изъян.
Фредерик воспользовался этим, чтобы положить руку на ляжки своей кузине. Жюльетта смотрела на него блестящими, ласковыми глазами, теплая нежность вздымала ей грудь, а лицо Фредерика раскраснелось от радости. От гула голосов, позвякивания графинов и вилок, чавканья ртов, которые проталкивали в желудок говядину, от ропота сердечности, который поднимался вокруг стола, где вкусная пища не мешала разговорам, у них слегка кружилась голова. Они начали смеяться, и Фредерик прошептал:
— Сейчас, когда съедим утку, я пойду в ригу…
Она знаком дала ему понять, что пойдет следом.
Ветеринар ни о чем не подозревал, он был почти счастлив, слыша, как его жена и Аделаида обмениваются кулинарными рецептами.
— Хорошенько намазываете дно кастрюли, ставите на слабый огонь и каждые полчаса поливаете соком.
— Я обычно шпигую чесноком.
— Нет, чесноком как раз не нужно…
Аделаида прервала свою речь, чтобы поговорить о цыпленке:
— У него был клюв, который закрывался наподобие ножниц, он не мог клевать зерно…
— Вместо того чтобы шпиговать чесноком, вы кладете рубленые овощи.
Посреди этого гвалта Клотильда оставалась молчаливой, и лицо у нее было жесткое и озабоченное. Гюстав воспользовался тем, что родители не обращают на него внимания, схватил бутылку и наполнил свой стакан вровень с краями. Опорожнив его единым махом, он стал наполнять стакан снова, но в этот момент Люсьена сообщила ветеринару:
— Папа, он только что выпил большой стакан вина.
— Неправда! — закричал Гюстав. — Врунья! Грязная корова! Это неправда.
И он громко рассмеялся, потому что вино уже забродило у него в голове. Веселость Гюстава привлекла к нему внимание; губы его были перепачканы, а бутылка все еще оставалась у него в руках.
— Это глупо, — сказал ветеринар, — от такой дозы ребенку будет дурно.
Оноре взглянул на сына и забеспокоился: щеки мальчика налились кровью.
— Может, сейчас ему лучше пойти поблевать, — сказал он.
Слово это было неприятно Элен; Антуану, следившему за выражением лица матери, стало неловко, и он рассердился на своего дядю Оноре. Хотя сам дядя даже не подозревал, что в его словах прозвучала какая-то непристойность, и если бы ему дали это понять, он был бы расстроен.
— Худа от этого никакого не будет, — согласился Деода, — а лучшего средства для того, чтобы очистить желудок, просто не придумаешь.
Оноре вывел мальчика во двор и сунул ему в рот пальцы. Оттуда до ушей сидящих за столом донеслись сначала звуки икоты, а потом звуки спасительного извержения.
— Вот и все, — сказал Деода.
Он был рад, что все прошло наилучшим образом. «А то ведь не всегда даже и получается, — заметил он, — есть люди, которые тужатся-тужатся, а у них ну никак». Элен побледнела, а Фредерик, отказавшись от утки, подал знак Жюльетте, что идет в ригу. Найдя его там, она закрыла не торопясь за собой дверь и положила руку ему на плечо. Она была выше его ростом, и Фредерику, чтобы поцеловать ее в губы, пришлось вытянуть шею. Она оставалась неподвижной и как-то безучастно отнеслась к пылу юноши, отчего тот немного робел; рука его нерешительно приблизилась к ее груди, потом, ладонью коснувшись острого кончика, сжала ее. Жюльетта, казалось, даже и не заметила этого, Фредерику хотелось увести ее в глубину риги, но, чувствуя сопротивление, он не осмеливался слишком явно показывать свои намерения. Он старался двигаться почти незаметно, шаг за шагом. Ему удалось продвинуться на несколько метров, когда Жюльетта, обхватив его руками, прижала его к своему животу, к груди, к щеке. Ногами она обхватила одну из его коленок и, приложив губы к самому его уху, очень тихо сказала ему:
— Фредерик, я хотела бы, чтобы ты был Ноэлем Малоре. Я хотела бы, чтобы ты был Ноэлем.
Почувствовав себя униженным, Фредерик захотел высвободиться и откинул голову назад. Она прижалась к нему еще сильнее и внезапным движением вернула назад удалявшуюся от ее губ голову.
— Ноэль, ты был бы Ноэлем, а?
Из гордости он все еще отбивался, но объятие Жюльетты пьянило его, и когда он почувствовал ее губы на своих губах, сдался.
— Я Ноэль, — сказал он сердитым, но нетерпеливым голосом.
— Ноэль? — повторила Жюльетта.
Резким движением она запрокинула его тело назад и, склонившись над лицом юноши, посмотрела на него слегка шальными глазами. Потом улыбнулась и мягко оттолкнула юношу:
— Я глупая, мой маленький Фредерик. Иди, оставь меня, пойдем отсюда.
Фредерик стоял, опустив руки, хотел сказать что-нибудь жестокое, но разрыдался. Жюльетта достала у него из кармана брюк носовой платок и промокнула ему глаза.
— Ну, миленький, не надо больше плакать. Я не хотела делать тебе больно, я сказала это не нарочно, ты же знаешь. Я больше не буду тебе об этом говорить…
Он разрыдался еще сильнее. Жюльетта обхватила шею юноши, отвела его в глубину риги и, присев рядом с ним на пшеничные снопы, стала баюкать его и гладить щеки. Она тихо говорила ему:
— Не плачь, мой маленький Фреде, я тебя тоже люблю, ты же знаешь. Ты всегда сможешь целовать меня и дотрагиваться до меня сколько хочешь… но только не надо больше плакать; пора уже возвращаться, а то дядя Фердинан начнет нас искать. А немного попозже сегодня ты меня еще поцелуешь, идет?
Фредерик попытался улыбнуться, и когда Жюльетта захотела встать, удержал ее:
— Это правда, что ты любишь его, этого Ноэля?
— Не знаю, я сказала это не думая. О! Нет, ты знаешь, я совершенно не думала… Я даже не знаю, что это на меня вдруг нашло.
Когда Фредерик вернулся за стол и сел рядом с Жюльеттой, ветеринар забыл посмотреть на часы, чтобы проконтролировать, сколько тот отсутствовал. Наклонившись над столом, он тряс подбородком и невнятно бормотал:
— Что… что… вы в этом уверены?
Деода, сообщив новость, уже собирался уходить. Стоя позади стула, он спокойно ответил:
— Я же вам говорю. Анаис распечатала письмо прямо у меня на глазах: завтра малышка приезжает сюда.
— Ничего удивительного, — ленивым голосом сказал Оноре, — с тех пор как она уехала в Париж, ее здесь ни разу не видели.
— Зеф как-то сказал мне, что с тех пор как она устроилась продавщицей в магазине, у нее почти не было никакого отпуска.
— Продавщицей в магазине? — усмехнулась Аделаида. — Чтобы обслуживать клиентов, задрав все четыре копыта вверх, это уж точно!
— Что ты можешь об этом знать? — возразил Оноре.
— А здесь и знать особенно нечего, потому что у Малоре испокон веков все девки были потаскушками.
— Ну это еще ничего не значит…
Когда почтальон вышел, Фердинан принялся стенать. Почему Вальтье не предупредил его? Не замышляют ли что-нибудь против него? Разве не удивительно, что эта девица приезжает всего через три дня после того, как Зеф перехватил письмо…
Оноре пожимал плечами. Смятение ветеринара его раздражало. Его-то приезд Маргариты Малоре, напротив, радовал, хотя он и сам не понимал почему. Просто ему казалось, что так партия, которую ему предстояло сыграть против Зефа, получится более красивой. Вспомнив обо всех упущенных когда-то возможностях отомстить Зефу, он подумал, что пощадил тогда Малоре из экономии сил, чтобы собрать их для более жарких боев. И еще он с удовольствием подумал обо всех своих детях, четырех детях, собравшихся за столом, не считая Эрнеста, который служил в Эпинале.
IX
Оноре и Жюльетта молотили цепами в риге хлеб. Сначала отец не хотел, чтобы дочь помогала ему в этой мужской работе. Он говорил, что зерно уже окончательно созрело и что достаточно будет слегка погладить его, как оно тут же само упадет из колоса. А в случае необходимости, если время будет поджимать, — в доме уже чувствовалась нехватка зерна — он наймет одного работника. Но когда пришла жатва, найти работника в Клакбю оказалось нелегко, да к тому же, как говорила Аделаида, еще и подумаешь, прежде чем нанимать людей, которые берут тридцать пять су в день с харчами в придачу: эдаких бездельников, которые только и думают, как бы набить себе живот за чужим столом, а как нужно работать, так еле шевелятся. Аделаида решила, что будет сама молотить вместе с Оноре. Но хотя костяк у нее был и ничего, все же ей не хватало ни мускулов, ни молодости, способной заменить привычку; не говоря уже о том, что беременности растянули ей кожу живота и усилие тяжко отдавалось в нутре. После получаса работы удары ее цепа становились вялыми, она постоянно сбивалась с ритма, то и дело рискуя ударить себя по голове.
— Убирайся-ка ты поскорее, — сказал ей Оноре, — а то ты только мешаешь мне молотить и никакого от тебя толку.
И вот тогда-то Жюльетта и настояла на том, чтобы заменить мать.
— Я не буду стараться делать больше, чем у меня хватит сил. А когда почувствую усталость, обещаю вам, что сразу остановлюсь.
Оноре, смеясь, глядел на дочь: ладная, статная деваха, ничего не скажешь, но ведь молоденькая еще, нежная, что белое мясо у цыпленка. Он разрешил ей просто, чтобы повеселиться немного, и в душе смеялся, думая, что она выдохнется довольно скоро. Однако она, гордячка, сдаваться не собиралась. Только сначала потратила немного времени, чтобы наловчиться, а потом ее цеп падал такт в такт, четко выдерживая ритм. Работала не хуже любого мужчины.
В риге жара стояла почти такая же, как снаружи. На Жюльетте была длинная сорочка без рукавов, подпоясанная бечевкой. От пота холст прилипал к телу до самых икр. Когда она поднимала цеп, грудь натягивала сорочку в одном и том же месте и острые кончики выступали точно посреди двух широких, как блюдца, кругов пота. Отец и дочь опускали свои цепы и ритме чередующихся ударов, издавая каждый раз «ух» горлом, чтобы не открывать рта. От обмолачиваемой пшеницы поднималась тонкая пыль, которая лезла им в нос. Когда они открывали рот, то сразу получали хорошую порцию этой пыли, отчего язык и горло становились рыхлыми и сухими, как трут.
Мать через определенные промежутки времени приносила им пить и, пользуясь передышкой, изливала накопившуюся горечь:
— Им-то не нужно заставлять свою дочь работать. Видела я ее, их маленькую бесстыдницу. Подумать только, гуляет в цветастых передниках. И в ботиночках. А задницей-то крутит так, как будто ее воспитывали в каком-нибудь замке.
— Ты нам расскажешь про это как-нибудь в другой раз, — отвечал Оноре.
Он прополаскивал горло глотком вина, втягивал самую малость его через носовые полости, чтобы те очистились от пыли, и, бросая стакан на охапку соломы, опять подымал цеп. А Аделаида с ворчанием шла домой, переполняемая злостью и порицаниями в адрес всех Малоре. Еще никогда ее собственный гнев не казался ей столь справедливым. Накануне Оноре все ей рассказал. Они оба лежали в постели, вертелись на своих тюфяках, не зная, куда деться от жары, шедшей от земли и сгущавшейся в комнате. Оноре, у которого два последних дня голова шла кругом от дел до такой степени, что он уже не мог хранить тайну в себе, начал с самого начала. И так вот, лежа рядом на подушке, рассказал ей все. Про появление пруссаков, про баварца на кровати, и так до самого конца, до украденного письма — все рассказал. И, кончив рассказ, возвращался к нему снова. Она слушала, он говорил, и, вспоминая про бестактное поведение сержанта, оба они распалились. Оноре сгреб жену в охапку как раз в тот момент, когда они почувствовали, как у них начинает дымиться кожа на голове, и так здорово проработал ее, что они оба орали, как два осла, а потом, потея, пыхтя и хрипя, еще грезили друг в друге пока не кончилось это всенощное бдение.
Когда Аделаида предавалась в кухне волнующим воспоминаниям о прошедшей ночи и думала об охватившем ее гневе, в углу дверного проема показалось испуганное, напряженное лицо Клотильды. Мать повесила шумовку на ручку кастрюли и взяв девочку за локоть, подвела к свету.
— Покажи-ка язык… я должна была это предвидеть… А я-то так старалась. В первый же день, когда пройдет дождь, я дам тебе слабительного.
Аделаида считала, что в солнечные дни устраивать очищение желудка нежелательно: ведь в теле такое количество всяких опасных вещей, которые превращаются в горькие воды и нагноения. Стоит солнечному удару совпасть с принятием слабительного, и масло тут же начинает оседать на сердце, а то и смешиваться с кровью. Такое уже не раз случалось. Взять, например, мужа мамаши Домине, который именно так и умер: однажды, на 14 июля, когда он захотел как следует прочиститься, его три ложки касторового масла целый день крутились у него в желудке, вечером он был весь в поту, настроился умирать и в полночь действительно умер. А мужчина был хоть куда, жил бы еще да жил.
Клотильда смотрела на мать с ужасом. Ей вспомнился тот день в прошлом году, когда Эрнест зажимал ей нос, а мать в это время вводила ложку в рот.
У нее на глазах навернулись слезы, она обратилась с молитвой к небу: «Боженька, милый, это неправда, что мне надо очищать желудок. У меня все хорошо. Сделай так, чтобы дождя не было никогда, никогда…» Мать вышла из кухни, чтобы отнести попить молотильщикам. Клотильда перестала молиться, издав короткий, сухой смешок, побежала в столовую и заперлась там на щеколду изнутри.
Аделаида нашла отца и дочь на куче снопов, они сидели свесив руки между колен.
— Я плююсь совершенно белой слюной, так у меня все пересохло, — говорил Оноре. — Нет, ты только посмотри, как я плюю, а?
— Я тоже, — говорила Жюльетта, — я плююсь, может быть, даже еще белей, чем вы.
Протягивая им стаканы, Аделаида с жаром запричитала:
— Вы только посмотрите, до чего они оба заработались. У дочки вся сорочка насквозь взмокла! Да разве ж можно молотить в такую жару? Конечно, нам ведь приходится молотить сразу, не дожидаясь. У нас нет возможности ждать, как делают некоторые. У них-то есть такая возможность. Возможность иметь эту маленькую дрянь, которая зарабатывает им су известно каким манером. Поэтому они, чтобы молотить свой хлеб, могут и подождать, когда в риге станет попрохладнее…
Оноре и Жюльетта почти не слушали ее, они глотали свое питье, обмениваясь улыбками, полными животного блаженства.
— А когда молотьба закончится, нужно будет еще провеять зерно, нужно будет еще повыкручивать себе руки да погнуть хребет, управляясь с ручной веялкой. Ее и трясешь и двигаешь так, что поясница разламывается. А у них с этим никаких забот: они купили себе механическую веялку. Купили на деньги, заработанные задницей, разумеется.
— Механическая веялка, это удобно, — рассеянно сказал Оноре.
— Еще бы не удобно! Им только ручку повернуть надо, и работа сама за них делается. Да, они покупают себе механические веялки, и это еще не все…
Оноре взял дочь за шею, прижал ее к своему плечу и сказал, смеясь:
— А так ли уж много проку в этой их машине? Что касается веяния, то, конечно, они будут надрываться меньше, чем мы, но зато им придется понадрываться на другом. Мы ведь половину пшеницы оставляем на корню, чтобы молоть ее сразу. Ну и что? Мы работаем, высунув язык в риге, а Малоре высовывают языки на адской жаре снаружи, когда заканчивают свою жатву. Здесь нам бояться нужно только одного: как бы наш хлеб не попал под дождь. А если не считать этого, то, хоть с веялками, хоть без них, жизнь в будни — это всегда работа. Мы работаем, чтобы заработать на жизнь, все верно, но, кроме того, мы работаем, чтобы работать, потому что это все, что мы умеем делать. Я вот не жалуюсь. Я люблю работать, и меня такая жизнь вполне устраивает. Плесни-ка нам, что осталось в бутылке. Жарковато.
Аделаида наполнила стаканы и, помолчав, сказала:
— Я тоже люблю поработать, но все-таки есть вещи, которые раздражают, когда живешь по совести.
Оноре в шутку чокнулся с Жюльеттой, опорожнил стакан и ответил, покачивая головой:
— О! По совести… может быть. Но только, так или иначе, все равно все Малоре — дерьмо, и скоро они меня еще узнают. И радости у них тогда будет поменьше, чем от письма Фердинана. Свиньи…
Жюльетта, отняв голову от отцовского плеча, резко прервала его:
— Почему же свиньи? Так сразу!
Одуэн удивленно и с некоторым беспокойством посмотрел на дочь. Та уже встала и жестом борца затягивала бечевку, которая держала сорочку на талии. Аделаида, раздраженная этим неожиданным отпором, заметила:
— В мои времена дочь, которая стала бы в таком тоне разговаривать с отцом, получила бы хорошую трепку.
— Нельзя же оскорблять людей только из-за того, что потерялось какое-то письмо, — сказала Жюльетта. — Даже если Зеф и взял письмо, то это еще не повод, чтобы ставить с ним на одну доску всю семью.
— Они все одним миром мазаны, — заявила мать. — Взять и посмотреть на каждого из них по очереди…
Тут Оноре встал и, наклонившись над дочерью, сказал, вкладывая в свои слова всю накопившуюся в нем ярость:
— Нет! Не по очереди, черт побери! На всех Малоре сразу! Поняла?
Жюльетта смутилась и пробормотала:
— Поняла… но только вы же не знаете, вы не можете знать…
Оноре видел, как побледнело ее лицо, как дрожат ее руки.
— Давай работать, — сказал он, беря свой цеп, и при этом его губы тоже дрожали.
Аделаида взяла дочь за руку и попыталась вывести ее из риги.
— Работа не ждет, — сказала Жюльетта, резко вырываясь, — оставьте меня.
Мать пошла домой, а она взяла цеп и снова принялась за работу. Молотьба продолжалась в том же четком, монотонном ритме. Однако чередующиеся удары цепов по утрамбованной земле не могли заполнить тягостное молчание, разделявшее отца и дочь. Отводя глаза в сторону, они наблюдали друг за другом украдкой, раздраженные и взволнованные. Время от времени, чтобы подчеркнуть ритм молотьбы, отец выдыхал «ух», а Жюльетта подхватывала, ударяя своим цепом: Один раз она ответила более слабым голосом; Оноре показалось, будто он слышит жалобу ребенка. Он выпустил цеп из рук и окликнул:
— Жюльетта!
Но она опустила цеп еще раз и еще раз подняла его.
— Жюльетта, — тихо сказал он.
Она подняла на него глаза, застланные пеленой слез.
— Я хотела сказать вам… это я о Малоре.
Отец притянул ее к себе, прижал к своей груди ее заплаканное лицо.
— Не говори мне ничего.
— Я хотела сказать вам.
Он прижал ее еще крепче, ощутив, как ее влажный рот придавился к его груди. Жюльетта пыталась еще сопротивляться, потом, смиренная, расслабилась; протяжные рыдания сотрясали ее плечи. Он взял ее на руки, как часто делал, когда играл с ней, и отнес на груду снопов, где она вытянулась ничком, накрыв глаза руками. Оноре опять схватил цеп и, от горечи стиснув зубы, продолжал до обеда трудиться в одиночестве.
Соображения кобылы
В доме Оноре любовь была подобна вину с семейного виноградника; каждый пил из своего стакана, но оно вызывало такое опьянение, которое брат легко узнавал у брата, отец — у сына и которое лилось, разливалось беззвучными песнями. Порой по утрам родители начинали свой трудовой день с отяжелевшими, счастливыми лицами; дети, уплетая свой суп, лицезрели радость матери. «Ну-ну, вижу, ночка прошла неплохо». Говорить этого они не говорили, даже и думать-то не смели, но знали; знали, и им было приятно. В такое утро легко смеялось. Или же, бывало, что кто-нибудь из сыновей возвращался домой и садился за стол весь лучезарный, молчаливый, никто его. ни. о чем не спрашивал; на него лишь поглядывали украдкой, чтобы ухватить себе капельку-другую от прикорнувшей в его утомленной плоти услады. Оноре подмигивал жене. Подмигивал, когда был уверен, что сын не видит этого, — ему не хотелось смущать того, кто принес в дом это тепло. Мать пожимала плечами, не произнося ни слова, как будто ее раздражал вид сына, еще розового и лениво моргающего от удовольствия, которому он только что предавался. Ведь она помнила его таким крошкой. Этого здоровенного простофилю. А вот поди ж ты, уже изображает из себя умника перед девчонками. Неужто получается? Скажите пожалуйста. Мать пожимала плечами и тихо, чтобы никого не разбудить, принималась возиться с кастрюлями; кровь ее начинала пульсировать быстрее отчасти, из-за подмигнувшего ей мужа; отец и сын — один повеса стоил другого. Склонившись над плитой, она улыбалась при воспоминании об этом подмигивании Оноре; после ужина двое младшеньких, видя свою мать повеселевшей, с ласковыми глазами, пристраивались к ней на живот своими головками, да так и засыпали; она боялась пошевелиться, и нежность ее погружала в оцепенение весь дом.
В Сен-Маржлоне, в доме Фердинана, такого согласия в удовольствиях не существовало. В любви там каждый шел своим путем в ведомом только ему направлении. Из всей семьи один ветеринар интересовался чужими секретами, да и то лишь затем, чтобы наводить на остальных страх. Наблюдение, установленное им за детьми и женой, не прекращалось ни на миг. «Ты пробыл в уединенном месте целых одиннадцать минут», — говорил он, глядя на часы. И все же, несмотря на отцовские подозрения, это место оставалось лучшим и самым надежным убежищем; туда входили, испытывая смешанное чувство стыда и сладострастного ожидания; вдали от нескромного взгляда ветеринара каждый рисовал себе заманчивые картины, составлял свои рецепты удовольствия. Эти производимые в уединении опыты, эти созревающие в боязливом воображении меланхолические восторги были удручающе похожи один на другой. Казалось, что семейная дисциплина предопределяет их форму, регулярность и даже выбирает для них сам предмет. Члены семьи, не мудрствуя лукаво, воображали, что занимаются любовью с кем-нибудь из соседей. Причем предполагаемых участников насчитывалось не так уж много. Точнее, всего двое. Напротив дома ветеринара жили полицейский и его жена. Полицейский был верзилой, без малого два метра ростом, с плечами, которые загораживали вход в просторный коридор. А его жена обладала такой грудью, что она не могла смотреть себе под ноги. То есть нечто массивное, как и требовалось. При одной только мысли о ней тяжелело в голове. Все это медленно перемещалось, основательно устраивалось; воображать такое легче, чем гибких девушек и стройных молодых людей.
В воскресенье Фредерик и Антуан вставали пораньше и занимали наблюдательный пост, каждый за своим слуховым окном, чтобы увидеть, как жена полицейского в розовом корсете и с обнаженными руками поднимает жалюзи у себя в окнах на другой стороне улицы. Ее необъятные плечи были синевато-бледного цвета с розовыми прожилками, как на брюхе у свиней; а из-под коротких рукавов ее сорочки торчали пучки черных волос. Бросив взгляд на улицу, она упиралась обеими руками на подоконник, отчего у подмышек образовывались складки, бездонные, как промежность. Больше всего обоих подростков пьянил розовый корсет. Разглядеть, что находится под ним, внутри, было невозможно, так как он был подогнан к сорочке с едва обозначенным вырезом. Однако братьям под этим выступом, под этой закованной в броню корсетной кости и розовой материи возвышенностью виделась настоящая лава таинственных наслаждений, нечто выходящее за рамки простой геометрии, некие неисчерпаемые запасы женственности, кипящей в затхлом запахе пота и молочной. На протяжении нескольких лет Фредерик и Антуан наблюдали за появлением жены полицейского, не сговариваясь друг с другом, каждый в своем слуховом окне, и не подозревая о похотливости другого. Они так бы никогда не узнали о ней, если бы ветеринар, тихо подкравшийся однажды утром, не застиг Антуана притаившимся возле своего слухового окна и не обнаружил одновременно предмет его любознательности. Ведомый тончайшей интуицией, которая была ему присуща в подобного рода делах, ветеринар метнулся к другому слуховому окну, где находился на посту Фредерик. Затем, высунувшись из окна, он закричал решительным голосом:
— Уйдите к себе в комнату, мадам! Говорю вам, уйдите! Уйдите немедленно!
Жена полицейского, ничего не понимая, с любопытством уставилась на изможденное целомудрием лицо, высунувшееся в слуховое окно.
— Уйдите поскорее! — надрывался ветеринар. — Вы легкомысленная особа, мадам! Гризетка!
Она, чтобы получше уловить смысл обращенных к ней слов, еще больше перегнулась через подоконник. Вся ее грудь пришла в движение, и розовый корсет встрепенулся, как волна. Ветеринар в своем окошке чуть не задохнулся от гнева. За этим эпизодом последовали суровые карательные меры. Полицейского чуть было не уволили, ему пришлось сменить квартиру, и он так никогда и не получил звания капрала. Из предосторожности оба слуховых окна замуровали. Что же касается провинившихся мальчиков, то они в течение шести месяцев были лишены сладкого и осуждены пятнадцать раз переписать «Надгробное слово Генриетте Английской»; к вящему их позору, после этого случая в коллеж и обратно они ходили в сопровождении слуги. Братья больше никогда не видели розового корсета и, чтобы как-то компенсировать утрату этого выразительного зрелища, стали проводить утром по воскресеньям в уединенном месте на пять минут больше.
Когда ветеринар, терзаемый подозрениями, заглядывал в уборную, где витали тени полицейского и его супруги, он обнаруживал там запах греха. Он был бы не прочь конфисковать у своих сыновей половые органы; позже, когда они женятся и устроят свою жизнь, он бы им время от времени их одалживал: раз в месяц на пять минут. Впрочем, его подозрения распространялись не только на Фредерика и Антуана, но также и на жену с дочерью, причем они были столь же оправданны.
Что касается Люсьены, то ей удалось локализовать пожар раз и навсегда. Ей удалось создать под огромным небосводом крошечное, отгороженное от всего мира царство, где она без малейших угрызений совести могла воскрешать в памяти массивную фигуру полицейского. И туда она не брала с собой мысли о нравственном самонаблюдении. То, что там происходило, не касалось ни исповедника, ни барышень Эрмлин; не получало ни малейшего отклика все это и в тетради, куда она заносила свои грехи. Когда Люсьена думала об этом вне стен дома, единственное, что вызывало у нее угрызение совести было то, что полицейский принадлежал к более низкому слою общества. Она пыталась поставить на его место гусарского полковника, майора, нотариуса, прокурора, во ей никак не удавалось закрепить их образ в «уединенном месте». И полицейский был единственным мужчиной, в котором она ощущала близкое ей и таинственное очарование. Впрочем, особому разгулу фантазии Люсьена не предавалась. Ее незнание анатомических подробностей было столь велико, что это делало честь царившему в пансионе девиц Эрмлин благонравию.
Полицейский играл всего лишь роль благосклонного, непостижимо благосклонного свидетеля, и грех Люсьены был столь непроизволен, что попахивал скорее чистилищем, нежели адом; гораздо большая опасность таилась в том, что она не испытывала из-за него вообще никакого беспокойства, что она относилась к нему совершенно равнодушно; легко было предвидеть, что более экстравагантные игры в один прекрасный день тоже канут в той же котомке забвения.
А вот у госпожи Одуэн не было никакой надежды на то, что ей когда-либо удастся забыть полицейского. Ласки ветеринара не доставляли ей ни малейшей радости. В первые годы их супружества Фердинану еще удавалось вводить ее в заблуждение. Он утрачивал тогда свою невинность и старался в общем-то от души. Торопливость, с которой он из-за своей чрезмерной стыдливости делал свое дело, постоянно приносила его супруге разочарования, но тогда все еще можно было поправить. Просто не нужно было бы бросать начатое. Элен, конечно же, чувствовала себя неудовлетворенной; в пансионе у барышень Эрмлин девушки из чьих-нибудь уст узнавали, что любовь вкушается на изящных диванчиках и в комнатах, похожих на будуары; с другой стороны, ее родители, горожане во втором поколении, в речах своих и поступках отличались непринужденностью и даже некоторой вульгарностью: в присутствии дочери они щипками, игривыми намеками возбуждали друг друга, из чего Элен вынесла убеждение, что любви, даже супружеской, без предварительного согласия сторон не бывает.
Ей пришлось с самого начала отказаться от мысли о диванах и прочих аксессуарах, создающих иллюзию изысканного каприза, возникающего из пикантного свидания наедине. Ветеринару все эти ухищрения были непонятны. Любовью, считал он, надо заниматься в постели, причем в такое время, когда здравый смысл велит быть в постели. Перед тем как лечь, Фердинан мочился в горшок. То была единственная ситуация, в которой он мог без малейшего стеснения держаться руками за свой половой орган в присутствии жены. Поступая таким образом, он чувствовал могучую поддержку всех Одуэнов, которые поступали точно так же. То была честная, лишенная каких-либо тайн процедура, и шум живой струи, к которому он привык с детства, звучал в его ушах как своеобразная песнь буржуазной умиротворенности. Элен привыкла к этому не сразу. Уж такие-то вещи он мог делать заблаговременно (как кавалерийский офицер, думала она). Однако это было не самое главное. Еще простительно ему было выглядеть неумехой в начале брака, но ведь Фердинан и потом не предпринимал никаких усилий, чтобы чему-то научиться, и постоянно отвергал помощь жены. В конце концов Элен рассердилась, так как оплошности ветеринара причиняли ей боль, и чаще всего ему удавалось попасть туда, куда надо, лишь в самый момент удовольствия. Она говорила ему о тех преимуществах, которые они оба могли бы получить, помогай они друг другу руками; что касается ее самой, то ей хватило бы одного точного жеста, очень короткого, настолько короткого, что он даже не мог бы считаться сладострастной изощренностью в их законных объятиях. Однако ветеринар и слышать об этом не хотел. Он сурово заявил своей жене, что делает то, что нужно и должно делать, и обсуждать больше ничего не желает; более того, если их интимные отношения оказываются предлогом для возмутительных речей, то в таком случае он вообще предпочитает воздержание. Супруга больше не заговаривала об этом, но попыталась проверить свои аргументы на деле.
Тщетно. Фердинан терпеть не мог, когда она клала руку на его мужское достоинство, потому что в простом и незатейливом, как он его понимал, плотском акте ветеринарово целомудрие несколько успокаивало как раз то, что осуществляется этот акт одними срамными местами, поодаль от тех частей тела, где, по его разумению, находится моральное самосознание человека; ну а пальцы руки казались ому принадлежащими именно этому самосознанию.
Так что госпожа Одуэн мало-помалу вернулась к споим девичьим привычкам, лишь присовокупив к ним образ полицейского, который благодаря своей массивной фигуре и доброжелательной бычьей физиономии выглядел успокоительной противоположностью ветеринару. Появление лейтенанта Гале в ее жизни ничего не изменило в установленном порядке вещей. Элен не могла вообразить гусара в роли, которую она уже отдала трудящемуся человеку, и поэтому любовь ее была любовью девической.
Госпожа Одуэн, невзирая на политическую позицию ветеринара, оставалась крайне набожной и причащалась по многу раз в год; она всегда исповедовалась с невероятной тщательностью: то престарелому священнику, который на скорую руку говорил ей утешительные слова, почти не слушая ее, то молодому, который подробно разбирал ее случай и пытался найти какое-нибудь спасительное средство.
Как-то раз, когда госпожа Одуэн приехала провести несколько дней в доме Оноре, она отправилась с детьми к кюре Клакбю. Он призвал ее к смирению и дал понять, что более мудрого и более христианского решения, чем мысленно рисовать себе образ полицейского, нельзя было и придумать; кюре не пожелал увидеть здесь ни греха, ни даже дурного умысла, разве что не очень добродетельную мысль, похожую на оборотную сторону восхитительной супружеской скромности.
X
Оноре громко читал: «Дорогие родители. Хочу сообщить вам, что послезавтра я выхожу из лазарета. Я вывихнул себе плечо на лестнице у казначея, когда нес перчатки Аджюдана. Сейчас чувствую себя уже хорошо, но участвовать в параде 14 июля я не смог, о чем, с одной стороны, жалею, однако теперь я уже совсем здоров. Я не хотел писать об этом, чтобы не волновать вас. Перчатки лежали в кабинете у капитана, а я получил таким образом пять дней отпуска и буду рад очутиться среди вас в следующую среду. Я не буду участвовать в маневрах: меня, наверное, переведут в другую роту, и я буду скучать по своей роте, потому что здесь сержант относился к вашему сыну хорошо. Мне повезло с отпуском, и я все объясню вам. А с другой стороны, я рад, что вы все здоровы, и так как я уже вылечил свое плечо, то смогу помочь вам на жатве. Постоянно помнящий вас ваш сын Эрнест Одуэн».
— Мне очень приятно, что он приедет, — сказал почтальон. — Жалко только, что твой брат Фердинан слишком рано уезжает, а то и он тоже порадовался бы встрече.
— Фердинан? Но ведь он же не приезжал сегодня, так что нет основания…
— Если не приезжал, то сейчас приедет. Я видел его кабриолет, стоящий перед домом Зефа.
Лицо Оноре побагровело от гнева. Что за негодник, этот ветеринар. Вот ведь пройдоха, черт побери!
Когда почтальон скрылся из виду, Оноре крикнул:
— Ну-ка дай мне шляпу!
— Лучше не надо, лучше останься дома, — сказала Аделаида. — Дождись Фердинана здесь…
— Шляпу, я говорю тебе!
— Только хуже все получится, когда начнете браниться при людях. Не станет же Фердинан делать что-нибудь плохое.
— В заднице я его видел, твоего ветеринара!
Но пройдя метров сто, Оноре немного поостыл. Он подумал и пришел к выводу, что ссора не только не приведет ни к чему хорошему, а, напротив, укрепит ветеринара, который может заупрямиться в его опасных намерениях.
У Малоре дверь кухни была открыта, и ему даже но понадобилось стучать. Кроме Фердинана и женщин, там никого не было; он разговаривал с Маргаритой тем покашливающим голосом, который у него появлялся во время затруднительных бесед. Когда он увидел вошедшего брата, на лице его появилось раздосадованное и испуганное выражение.
— Я тут проходил мимо, — сказал Оноре, — и увидел твой кабриолет. Ну что же, Анаис, я вижу, твоя Маргарита вернулась?
— Она к нам приехала на три недели, но только ты, конечно, понимаешь, как это мало. Когда дочь дома, три недели пролетят быстро, зато потом время потянется медленно-медленно.
— Она стала красивой девушкой в Париже, — сказал Оноре.
Он изучал ее, разглядывал, сравнивал ее и мать с бесцеремонностью, которая удручала Фердинана. Маргарита была не такой крупной, как Анаис, но на двадцать два года более стройной. Дочь, не такая светловолосая, как мать, не обладала также и правильными чертами ее нежного и кроткого лица, но пито у нее были дерзкие глаза, задорный чувственный смех и своеобразная манера выставлять вперед свою грудь навстречу мужским взглядам. Она была в голубом платье, прикрытом сверху цветастым передником — тем самым, который Аделаиде казался вызывающей роскошью.
Оноре поддерживал разговор с Маргаритой, любезничал с обеими женщинами, смеялся сам, смешил их, хлопал себя по ляжкам. Ветеринар сидел притихший на своем стуле. Анаис вела себя сдержанно — больше из осторожности, нежели из робости; когда не могла удержаться от смеха, бросала быстрый взгляд в окно, чтобы знать, не возвращаются ли ее мужчины. Маргарита поддерживала беседу с Оноре. Они говорили о Париже; Оноре ездил туда в 85-м году за счет коммуны на похороны Виктора Гюго; Филиберу Меслону, который был уже в летах и не мог поехать сам, хотелось, чтобы кто-нибудь представлял там Клакбю вместо него.
— Народу на тех похоронах было много, — сказал Оноре, — но сказать, что я что-нибудь там увидел, вряд ли можно. А люди там не очень-то разговорчивые. Ну да ничего, я все же провел тогда в Париже пару неплохих деньков.
Плененный резвыми взглядами девушки и сладостной полнотой груди Анаис, он, вставая, даже и не вспомнил о цели своего визита. Однако, когда Фердинан попытался задержаться еще, он крепко схватил его за руку:
— Пошли, жена ждет нас на ужин.
— Побудьте еще немного, — предложила Анаис. — Зеф вот-вот придет, он с мальчиками жнет в Шан-Дье.
— У меня к нему нет никакого срочного дела, — не без высокомерия произнес Оноре. — Когда мне нужно будет, я сумею его найти.
На улице он взял лошадь ветеринара под уздцы, чтобы дойти до дома вместе с ним пешком.
— Может быть, ты скажешь мне, что это за дела такие ты пришел к ним устраивать вот так, за моей спиной, не предупредив меня.
— Все очень просто, ты поймешь…
— И не подумаю. Не пытайся начинать все сначала.
— Послушай. Сегодня утром я получил одно письмо… письмо от человека, которого ты знаешь…
— От кого?
— Ну, понимаешь, письмо от Вальтье, — ответил ветеринар, понизив голос.
— Тогда так и говори, что от Вальтье, — лошадь-то твоя, наверное, не разболтает?
— Я получил его сегодня утром. Он пишет, что отправил девушку к ее родителям, поскольку сам на месяц отправляется в поездку.
— Он решил, что его избиратели не посмели бы ее…
— Знаешь, я думаю, что люди все-таки преувеличивают. Он просто интересуется девушкой, и все.
— Я тебя слушаю. И он просит тебя устроить все как надо с Зефом в мэрии?
Ветеринар стал возражать, что он пришел просто так, чтобы убедиться, что Маргарита у родных не скучает, как его попросил об этом Вальтье. Он уверил, что никакой другой цели не преследовал, но скрыть своего замешательства ему не удалось.
— Следовать везде за тобой по пятам я не могу, — сказал Оноре, — но не вздумай говорить Зефу об украденном письме. Это письмо принадлежит мне, мне, и никому другому.
После паузы он повеселевшим голосом сказал:
— А она ничего, красивая стерва, эта их Маргарита. О такой не грех поразмышлять.
Фердинан со сдержанным неодобрением качнул головой.
— У этой девушки есть будущее, — ответил он осторожно.
— Не знаю уж, есть ли у нее будущее, но задница точно недурна, а сиськи каковы, черт побери!
— Оноре! Ну ты, Оноре…
— При этом такая свеженькая, а? Смешливая рожица… Когда мы разговаривали, нога у нее приоткрылась по самую икру! Иисус сын Божий! Это зрелище!
Оноре облизнул губы, не столько из похоти, сколько из желания позлить брата. Лицо Фердинана стало пунцовым; он запротестовал:
— Ты не должен говорить подобные вещи, нет, ты не должен… и какой от этого прок?!
— Как ты говоришь: какой от этого прок? Прок такой, что можно себе, например, представить.
Оноре расписывал картину в деталях. Ветеринар багровел: совесть его устраивала ему ужасную сцену. Увлекшись собственной игрой, Оноре воодушевился:
— Я вижу все это как наяву. Подумай только: поработать над одной из бабенок Малоре… Хотя эта задница уже проскочила мимо меня. Живешь, вкалываешь, толкаешь перед собой плуг, а дни идут, и некогда даже подумать…
Он вздохнул и тихо, с озлоблением добавил:
— Впрочем, нет, кое о чем все же думать приходится.
Метров сто они прошли в молчании. Фердинан наводил в своей совести порядок, щупал, спрятав руки за спину, пульс. Оноре шагал более тяжеловесно, и голова его была полна навевающих тоску мечтаний. Он думал о каком-то несостоявшемся приключении, даже не зная, когда именно оно не состоялось.
— Кстати, — сказал Оноре, — ты еще не слышал, что в среду приезжает Эрнест? У него будет пять дней отпуска. Это не много, но все же…
— Надеюсь, Эрнест выберется хотя бы разок к нам в Сен-Маржлон.
— Ну нет! — возразил Оноре. — Пять дней и так пролетят незаметно.
XI
Башмаки у них были почти одинаковые — из толстой грубой кожи, с пузатыми голенищами, с подкованными до каблуков подметками. Но ступни почтальона были и подлиннее и пошире, чем у пехотинца. О чем Деода и сказал Эрнесту не без гордости:
— Гляди-ка, малыш, мне думается, что ступни у меня будут покрупнее твоих.
Они остановились посреди дороги и тщательно, правая нога к правой ноге, сравнили длину своей обуви.
— По меньшей мере размера на три разницы, — утвердительно сказал почтальон.
И они снова равномерным шагом двинулись вперед, к Клакбю. Пехотинец был слегка оскорблен результатом измерения. С коварным равнодушием он произнес:
— Так вот почему вы шагаете будто пеший жандарм.
Деода не понял тайного смысла сравнения и сначала почувствовал себя польщенным.
— Мне никогда об этом не говорили… Пеший жандарм, он ведь тоже много ходит.
— Ну ходить-то он, конечно, ходит. Но только манера ходить у него не очень-то радует глаз.
Эрнест заговорил о другом, уверенный в том, что заронил сомнение в душу почтальона. Деода едва слушал его, не отрывая взгляда от своих ног и ног пехотинца.
— А как, по-твоему, он ходит, пеший жандарм?
— Он шлепает оземь всей ступней. Это всем известно. В то время как я… смотрите-ка, вот как я шагаю…
Эрнест сделал несколько шагов вперед и бросил через плечо:
— Вот, я ставлю сначала носок, а потом каблук и затем отталкиваюсь носком, чтобы сделать следующий шаг. А жандарм ставит всю ступню разом. Надо же понимать. В полку чего только не насмотришься. Я видел нестроевых, у которых плоскостопие…
— Но у меня-то ведь, слава Богу, никакого плоскостопия нет!
— Я не про то. Просто я хочу сказать вам, что нога ноге рознь.
Они продолжали путь в молчании. Деода мучили сомнения. Может быть, он и в самом деле не умеет ходить. На какое-то мгновение он пожалел, что не был на военной службе. Унтер-офицеры, они толк в ногах знают (они столько их повидали), и его ногами они тоже занялись бы. Пехотинец смотрел вперед и видел, как в конце дороги из-за Красного Холма появляются верхушки самых высоких клакбюкских деревьев и колокольня.
Почтальон толкнул его локтем:
— Я как-то слышал, что в полку многие натирают себе ноги?
— Это уж точно, многие.
— А вот я, я никогда не натирал. Я потею в меру, но не больше, а уж чтобы у меня болели ноги, так такого со мной, малыш, никогда не бывало. Так-то вот.
У первых домов Клакбю они повстречали Оноре, вышедшего навстречу сыну. Одуэн был взволнован. Он поцеловал своего мальчика, посмотрел ему в глаза и отступил назад, чтобы получше разглядеть его. Почтальон заметил:
— Он приехал в отпуск.
И трое мужчин снова двинулись в путь. Оноре шел не в ногу с ними, отчего те испытывали что-то похожее на неловкость. Помолчав немного, Эрнест сказал отцу:
— Вчера утром умерла жена генерала Мебля. А мы узнали об этом вчера вечером. Ей было пятьдесят три года.
— Совсем не старая, — сказал Оноре.
— Совсем не старая, — сказал Деода. — Ну ладно, я вас покидаю… У меня писем еще не на один дом.
Оставшись наедине с отцом, Эрнест стал расспрашивать его о семье. Оноре отвечал ему коротко, с какой-то нетерпеливостью, удивившей сына. На одной из развилок они заспорили, в какую сторону направиться. Эрнест хотел сделать крюк, чтобы заскочить к Винарам.
— Твоей Жермены сейчас все равно нет дома, — сказал Оноре. — Все Винары ушли на жатву.
— Я точно знаю, что она дома, я написал ей, что приеду.
— И часто ты пишешь ей? — спросил отец, обеспокоенно поглядывая на сына.
— Я ей пишу.
— А она отвечает?
— Да.
Оноре закусил удила. Мальчишка, со своими эполетами, он еще и пишет.
— Коль у тебя на девушку серьезные виды, то есть у меня право сказать и свое слово тоже, или как?
— Я как раз собирался с вами об этом поговорить.
— Ладно. Но ты успеешь увидеть свою Жермену и потом. А сначала поди поздоровайся с матерью. Хоть какие-то приличия соблюсти ведь надо.
На это Эрнесту трудно было что-либо возразить. И он нехотя последовал за отцом.
— Я писал вам, что вывихнул плечо?
— Писал, — ответил Оноре, смущенный оттого, что не заговорил об этом с самого начала. — А сейчас как?
— Сейчас все уже прошло, а вот в первые дни немного поболело.
Он подробно рассказал о том, как все произошло. Аджюдан, из-за которого Эрнест упал, добился для него этого пятидневного отпуска.
— Санитар-капрал передал мне, что полковой лекарь был против. Крестьяне, эти свиньи, они все одним миром мазаны, — сказал он. — Когда их отпускаешь домой, они надрываются в поле и возвращаются потом еще более больными.
— В общем-то он прав. Но ты не беспокойся: ты приехал сюда не затем, чтобы работать.
— Но вы же понимаете, что я не собираюсь теперь, когда у меня ничего не болит, смотреть со стороны, как вы жнете?
— Я не об этом, — сказал Одуэн добродушно. — Просто я имею в виду, чтобы ты попользовался своими пятью деньками. В твоем возрасте любят поразвлечься, и я не собираюсь тебе мешать.
Одуэн завел разговор о неотразимости военной формы, стал расписывать прохладные подлески. Сын степенно ответил:
— Ну работа мне не помешает сходить перекинуться словечком с Жерменой. Вы же знаете, у нее тоже забот хватает.
Натолкнувшись на такое сопротивление, Одуэн почувствовал себя уязвленным и сердито возразил:
— Сюда на три недели приехала дочь Зефа, такая красивая стервоза; что тут, что там — любо-дорого посмотреть! Притом и не таит даже, что не получает того, что ей нужно! Вот я и подумал: зачем, спрашивается, тебе надели эполеты?..
Эрнест был смущен. Он смотрел на заливные луга, на густые леса, столпившиеся вокруг больших с металлическим отливом прудов, на желто-зеленую равнину между лесами и берегом со вздыбившимися на ней, словно женские груди, деревьями. Такими они ему не виделись даже из Эпиналя. А Оноре остановился посреди улицы и застонал:
— Эх, мне бы мои двадцать лет… да, как бы я хотел! Хоть разок бы наверстать упущенное! Я говорю тебе про дочь Малоре, чтобы ты обратил на нее внимание, чтобы ты увидел, какая она красавица, и не прошел бы мимо. И если тебе не станет жарко при взгляде на нее, грош цена твоим двадцати годам!
Солдат удивленно смотрел на своего отца. Когда ему случалось задумываться об отцовских любовных приключениях, Эрнест обычно вспоминал супружескую привычку, почтенную, но не более того, раз и навсегда привязанную к одному углу дома. И вдруг он увидел отца, охваченного любовными грезами, которые, вырвавшись на волю, с таким молодым задором резвились на просторе, что казалось, даже поля вокруг и те преобразились.
— Она, должно быть, сейчас действительно красива, — вздохнул сын. — Еще и до отъезда в Париж она уже была…
— Ну что ты, ты просто не видел. Теперь даже и сравнивать нечего.
Оноре взял сына под руку и принялся с жаром описывать ему прелести Маргариты.
— Что тут еще можно добавить? Для нас ведь, ты это хорошо знаешь, все женщины Малоре красавицы.
Тут Оноре, казалось, забыл про Маргариту и заговорил с сыном о семье, об урожае, о гарнизонной жизни. Теперь они беседовали непринужденно, без всяких задних мыслей.
Солдат был счастлив, он радовался той радостью, которую давно предвкушал, думая о своем приезде в Клакбю. Оноре разделял радость сына. Он смеялся, поворачиваясь лицом то к лесу, то к речке, как бы говоря им: «Это мой сын. Старший из мальчиков, в военной форме. Я сделал его себе двадцать лет назад, и вот теперь он сильный, как и полагается парню в двадцать лет. Сильный, с ловкими руками и смышленой головой. Он играючи управится с упряжкой из шести лошадей. А ведь это я его всему научил, и теперь у него все получается еще лучше, чем у меня. Вот какие они, мои парни».
Когда им навстречу попадался кто-нибудь из односельчан, отец принимался рассказывать о делах в Эпинале, в казарме, как будто сам побывал там, будто только сейчас оттуда возвратился, хотя на самом деле он никогда там не был; а солдат говорил про хлеба, про хлопоты с урожаем в этом году из-за неустойчивой зимы. Они умыкали друг у друга хлеба и казарму, всем своим видом показывая, как они играют и веселятся, воруя их друг у друга. Расставшись с ними, односельчанин — будь то Бертье, Коранпо, Дюр или Русселье — пощипывал себя за усы и думал: «Одуэн идет домой со своим старшим».
А они шли дальше своей дорогой, довольные тем, что сейчас вот они снова вместе и что идут они через поля к себе домой. Им кричали (те, кто был далеко и кого некогда было подождать):
— А вот и ты со своим сыном!
А Одуэн кричал в ответ, и его мог слышать кто угодно, ему нечего (как правило) было скрывать:
— Видишь, это мой мальчик, он вернулся из Эпиналя.
И, смеясь, говорил Эрнесту:
— Это Бертье (или Коранпо, или Дюр, или Русселье).
На одной из тропинок, в пятидесяти метрах от дороги, показалась дочка Зефа Малоре. Увидев мужчин, она повернула голову, показывая свою грудь в профиль.
— Прогуливаешься? — спросил Одуэн.
— Иду домой, — улыбаясь, сказала Маргарита. — А вы, значит, с Эрнестом?
— Он приехал из Эпиналя в отпуск. Надо поспеть домой к полудню, мать ведь ждет его, сама понимаешь.
— И в самом деле красивая, — сказал Эрнест, когда они потеряли ее из виду.
Дома солдат отвечал на семейные излияния не так горячо, как можно было ожидать после столь долгой разлуки. Сразу после обеда он встал из-за стола и снял с головы Гюстава кепи.
— Вернусь через час, — сказал он. — Найду вас в поле.
— За нас не волнуйся, — возразил Оноре. — Я ведь уже сказал тебе, ты знаешь.
Когда сын ушел, он пожал плечами:
— Отправился к Жермене Винар. Что за спешка, хотел бы я знать…
— Они столковались еще до того, как он отправился на службу, — заметила мать.
— Плохого о ней ничего не скажешь, — с вызывающей интонацией в голосе заявила Жюльетта.
— Разве кто-нибудь утверждает обратное? — произнес Одуэн.
— Я просто подумала, что, может быть, лет сорок назад ее дедушке случалось ссориться с нашим дедушкой во время игры в кегли. Большего, чтобы расстроить свадьбу, и не требуется.
Жюльетта невесело рассмеялась, а Одуэн укоризненно посмотрел на нее. Она засмеялась еще громче, и тут он, весь раскрасневшись, перегнулся через стол и крикнул:
— Да выходи ты, ради Бога, за своего остолопа! Я вот прямо сейчас даю тебе свое согласие. Можешь считать, что ты его уже получила, я назад своего слова не беру. Обещаю раз и навсегда. Давай иди замуж! Давай, быстро!
Жюльетта сидела растерянная и с грустью смотрела на него, но Одуэн, вне себя от ярости, продолжал:
— Иди за него замуж, ты свободна. Иди же…
Однако он тут же пожалел о своей напористости.
Жюльетта приняла вызов:
— Благодарю вас. Я выйду замуж как можно скорее, как только он будет готов к этому.
— Кто он? — возмутилась Аделаида. — Может быть, мне об этом все-таки сообщат перед свадьбой.
Оноре пристально смотрел на дочь, надеясь еще что она не назовет имени и что дело останется без последствий. Но Жюльетта ответила, отчетливо произнося каждый слог:
— Ноэль Малоре.
Алексис выругался и вышел из кухни. У Аделаиды опустились руки; она смотрела на дочь, словно сомневаясь в ее здравом уме. Она не произнесла ни единого слова упрека, а только сняла фартук и направилась к двери, обронив на ходу:
— Я их сейчас найду, этих Малоре.
Одуэн застыл на месте. Минуту спустя он окликнул ее: «Аделаида!» Она уже пересекла двор — он видел в окно, как она порывистым шагом удалялась в лучах полуденного солнца. Он тоже вышел, а вслед за ним — Гюстав и Нуаро. В кухне остались только Жюльетта и Клотильда. Вздохнула и Клотильда, подняв голову, тихо спросила:
— Они на тебя сердятся?
— Да нет, овечка, ни на кого они не сердятся. Они расстроились из-за письма, и я тоже расстроилась. Если бы не эта история с письмом, то все по шло бы как по маслу.
Жюльетта почувствовала, как по ее рукам потек ли теплые слезы, и увидела, что плечи Клотильды подрагивают от рыданий. Жюльетта прижала ее и тихо спросила, почему она плачет. Девочка дала себя немного покачать, потом, ничего не ответив, встала и, взяв сестру за руку, потащила в другую комнату. Жюльетта пошла за ней, как бы включаясь в какую-то игру. Клотильда привела ее в столовую, накрыла дверь на засов и подвела, к камину. Жюльетту все это начинало занимать. Девочка поднялась на цыпочки, приподняла стеклянный колпак часов и просунула пальцы под подставку из позолоченной бронзы, изображающую Земледелие и Промышленность в бальных нарядах.
— Я дарю его тебе, — сказала она, протягивая ей письмо.
Еще до того как она узнала почерк дяди Фердинана, Жюльетта поняла, что это и есть то самое украденное письмо. Конверт был распечатан; она развернула письмо и прочитала: «Мой дорогой Оноре. В начале недели у вороного случились колики…»
Держа письмо двумя пальцами, Жюльетта не знала, что делать. Она покраснела и тихо шепнула Клотильде:
— Положи его снова под часы и никому не говори о нем.
Выходя из столовой, Клотильда толкнула сестру локотком:
— Каково, а? Бабушка-то с пруссаком.
Когда Жюльетта проходила мимо отца, который запрягал в телегу быков, тот прошептал, бросив на нее взгляд, полный ярости и нежности одновременно: «Дубовая твоя башка». Она остановилась.
— Я получила ваше согласие, — сказала она, — но я тут немного подумала. Мне не хочется, чтобы мое замужество выглядело как попытка выкупить письмо. Когда вы получите его назад, тогда и посмотрим…
В три часа Эрнест присоединился к отцу, который работал на жатве. Он только что расстался с Жерменой и нашел ее более красивой, чем Маргарита Малоре. Это была приземистая девчушка с короткими ногами, но зато с податливыми округлостями, и от ее кофточки шел сильный запах; нога у нее была по крайней мере 40-го размера; такая устоит на любом ветру и хорошо ему послужит.
— Уходи-ка ты отсюда! — закричал Одуэн. — Здесь тебе не место. Поди надень снова свою военную форму.
— Мне не место? Да посмотрите на эти снопы, это ведь не пустяк. Займут не меньше шести повозок. Не говоря уже о том, что половина зерна высыплется и придется подбирать его граблями. Это работа не для Алексиса.
Эрнест принялся вязать снопы, Алексис подносил ему ручни со жгутами, а отец, которому помогали Аделаида и Жюльетта, грузил снопы на повозку.
Работа спорилась, и Одуэн откровенно любовался сыном: ну и здоров парень, снял свои эполеты и красные штаны, вышел в поле и управляется получше любого другого.
— Смотри-ка, как я делаю, — говорил Эрнест Алексису. — Чтобы получился хороший сноп, вовсе не обязательно быть сильным. Нужно сначала как следует его умять, а потом, когда стягиваешь, не оставлять никакого зазора. Стоит замешкаться, стоит потянуть за жгут, вместо того чтобы сразу перекрутить его, и солома тут же вспучится там, где ты оставил свободное место, и впору начинать все сначала. Резко нажимаешь коленом и поворачиваешь.
В тот момент, когда братья вязали снопы, рядом с повозкой, по дороге, ведущей к Рекарскому лесу, прошла дочь Зефа. Она была одета в розовое муслиновое платье, а на плече у нее плясал такого же. цвета зонтик. Аделаида, уронив вилы, прошипела сквозь зубы:
— Шлюха… Теперь еще зонтик…
Согнувшийся над снопами Одуэн с удовольствием проследил взглядом за этим скольжением оборок к лесной тени. Он повернулся к сыну, чтобы посмотреть, как тот реагирует на появление девушки. Но Эрнест даже и головы не поднял. Наклонившись над снопами, он вязал без передышки. Одуэн раздраженно пожал плечами. Умеет работать его сын, да еще как, будто в вальсе кружится. А вот прошла по солнцу у него под самым носом девчонка в розовом, а он и не заметил. По сути, он такой же, как его дядя Фердинан…
— Может быть, у нее в корсаже спрятано письмо, — пошутила Жюльетта.
Эрнест притворился, что ничего не слышит, и склонился над очередным снопом.
— Да посмотри же ты все-таки на нее! — взорвался Одуэн. — Хоть ты там и изображаешь что-то из себя, но ведь ни в каком Эпинале ты ничего подобного не увидишь!
Эрнест взглянул на девушку, которая была уже почти у самого леса, и сказал, покачав толовой:
— Сложена, конечно, неплохо. Но только какой прок от всего этого? Чтобы ляжки свои показывать в кабаках гарнизона?..
— Нет, вы только послушайте его!.. Он спрашивает, какой прок! Я же говорю, ну прямо ветеринар и да и только!
— Ну, раз он такой деревянный, — возразила Аделаида, — то и оставь его в покое.
Соображения кобылы
Ветеринар опасался, как бы его детям не повредило общество их кузенов из Клакбю и даже общество их дяди Оноре. Это буйное цветение любви и похабщины среди деревенских мальчишек, от которого сам он урвал когда-то, сгорая от стыда, очень и очень мало, наполняло его душу страхом. По воскресеньям, когда Фердинан отвозил семью к брату, он рад был бы заткнуть всем уши, а на язык Оноре наносить замок. Он представлял, как Алексис рассказывает на ухо кузену Антуану гнусные вещи, как племянница Жюльетта лишает невинности Фредерика (так же покачивая бедрами, как она это делает, когда несет ведро воды; он рисовал себе эту картину и задыхался от тихой злости на Жюльетту, на своего сына, на Оноре; и как это родители терпят, чтобы у их дочери были подобные бедра?) или как самые младшие прямо на глазах у Люсьены играют в свои грязные игры. Опасностей, угрожающих воспитанным детям на этой нежной равнине, похожей на застывшую в ожидании женщину, было видимо-невидимо; а на краю равнины, в этих густых лесах, занимающих с одной стороны весь горизонт, дремучих и бесконечных, таящих в своем лоне влажный мрак, тлели похотливые видения, шепот которых ветер разносил по полям. Что за гадость! И вот сюда-то он привозит по воскресеньям своих детей, порядочных, находящихся под присмотром, детей, нехорошие желания которых на протяжении целой недели угасали в гробовом молчании их рабочих комнат. Он открывает перед ними эти горизонты. На целый день погружает их в это необъятное бесстыдное веселье, в среду этих людей, пребывающих вместе со своими животными в атмосфере течки, разврата и свинства. Фердинан ничего не придумывал. Он видел все своими собственными глазами, и не только глазами (ведь, в конце концов, он же был не деревянный; он об этом сожалел, но он был не деревянный), видел, например, всю семью своего брата — младшие в первых рядах, — окружившую во дворе быка Этандара во время его случки с коровой. Он появился у них, когда его здесь не ждали, но никто даже не взглянул в его сторону. Этандар прыгал на корову, скользил ей по бокам своими передними копытами и подергивал задом, вся его шея ушла в могучие лопатки, глаза вылезали из орбит, изо рта сочилась пена. Семья следила за ним в молчании, взволнованная горячностью животных, прикованная к неотвратимости события, а когда Оноре взял в руку стрелку быка — взял не тем вспомогательным жестом, какой сделал бы ветеринар, а как-то по-жречески торжественно, с дружеской заботливостью — и подвел ее к разгоряченной вульве, с уст всех присутствующих слетел шепот восхищения. Фердинану частенько доводилось бывать на подобных зрелищах, но в качестве ветеринара, чье внимание всегда сосредоточено на одной лишь профессиональной стороне дела. А на этот раз от удивления и заразительной эмоциональности присутствующих он испытал своеобразное потрясение, что-то вроде восторга. Устыдившись столь отвратительной слабости, он свалил всю вину за нее на атмосферу, царящую в Клакбю, и на распущенность семьи Оноре. «А ведь, — подумал он, — свидетельницей этого зрелища могла бы оказаться и Люсьена». Он содрогнулся от ужаса. Вот были бы воспоминания для девочки, посещающей занятия у барышень Эрмлин (бедные барышни, такие благовоспитанные, они даже и не подозревали, что на свете существуют подобные посягательства на нравственность и что дядя их лучшей ученицы столь энергично прилагает к ним руку). К счастью, Этандара по воскресеньям оставляли в покое, и он был прочно привязан в своем стойле. Однако дети Оноре оставались непривязанными, и Фердинан с тоской вопрошал себя: что они могут наизобретать на погибель своих кузенов?
Целомудрие ветеринара тревожилось напрасно. Его дети не имели возможности приобретать в Клакбю пагубные познания; разве что они немного рисковали перенять у дяди Оноре привычку к чересчур смелым, по мнению их отца, словечкам и выражениям. Дело в том, что как в доме Оноре, так и во всей деревне воскресенье было днем передышки, большой паузой, прерывавшей мерное течение повседневной жизни. Состоящая из пашен и лугов равнина на один день утрачивала то своеобразное единство жизни, которое на протяжении недели сообщали ей работавшие люди, понукание животных, трудовой гомон, стук запряженных повозок. Когда Оноре шел в поле на плугом, то стоило ему поднять голову, как он видел других пашущих крестьян из его деревни, которые, насколько хватало глаз, повторяли его самого, и он испытывал чувство уверенности от своей причастности к великому усилию земли. А по воскресеньям жизнь распадалась на части; жители деревни смотрели на равнину из окон своих домов и не видели там ничего, кроме своих собственных дворов и своих огороженных выгонов. Божий день был днем собственника, и тем, кто ничего не имел, становилось не по себе; то был день подсчетов, когда в душу закрадывался страх при мысли о совершенных тратах; то был день скупости и отказов, когда пропадало желание что-либо приносить в дар любви или дружбе. Существовала еще воскресная одежда, не способствовавшая ни тому, чтобы заниматься любовью, ни тому, чтобы говорить о ней. И все слегка умирали от тяжелой воскресной тоски, повисающей над опустевшими полями.
Верующие расхаживали среди могил, судача о покойниках, которые до конца так никогда и не умирали, а когда приближалось время мессы, отправлялись хоронить свои грехи. Кюре Клакбю поднимался на кафедру и начинал изобличать порочное непостоянство моды, опасности, подстерегающие паству, когда она дразнит дьявола, притаившегося в греховных желаниях — любопытстве и удовольствиях, которые вредят труду и достатку. Кюре ссылался на примеры из жизни клакбюкских крестьян, называя имена. Муж и жена Журнье вообразили себе, что могут в своем сластолюбии во время их свадебного обеда, безнаказанно злоупотреблять Божьим терпением, и вот обнищали так, что даже на мессе не смеют появиться. Этого и следовало ожидать. Бог не сообщил нам разумное число супружеских объятий, но именно тут-то он и подстерегает свое творение. Все, что берется сверх меры, оплачивается потом слишком дорого как на земле, так и на небе, в первую очередь на земле. Самое лучшее, что может сделать человек, — хорошенько рассчитать, что принесет ему пользу, а что нет, и воздерживаться, сколько хватит сил. «Дни, заполненные трудом, — говорил кюре, — да еще для крепости вашего сна своевременно прочитанная молитва — вот средство приумножить свое богатство и одновременно свои шансы попасть в рай». Слушая проповедь, верующие задумывались о своей собственности, представляя себе, как она уменьшается, подточенная сладострастием, и обнаруживали не сулящую им ничего хорошего связь между ночами утех, видами на урожай и Господним гневом. Страх, угрызения совести придавали их набожности привкус горьковатой меланхолии. Бог покидал поля и луга и обосновывался в стаде своих прихожан. При выходе из церкви люди, тянущиеся гуськом по дороге, чувствовали под своими унылыми воскресными одеждами усталость рабочих дней, накопившуюся тяжесть в теле; и вопиющая необитаемость равнины сжимала им сердце и плоть.
В семье Оноре каждый ощущал в себе эту воскресную утрату целей, в том числе и сам Оноре, хотя на мессу он ходил всего два раза в год: на Рождество и в День всех святых. Он считал себя не верящим ни в Бога, ни в черта, утверждал, что клакбюкский кюре — злой человек, и тем не менее чувствовал себя в ответе перед ним за мгновения полученного удовольствия и втайне страдал от того, что не посещал богослужений. Ему казалось, что в его отсутствие кюре связывает его какими-то обещаниями перед небом и в известной мере получает право распоряжаться его половой жизнью. По воскресеньям, оставаясь утром один в доме, он иногда принимался вырезать из яблок или из картофеля приапические фигурки; он бессознательно приучал их к тревожной действительности, не признаваясь самому себе, что, по существу, занимается колдовством, распространенным в равной мере и в городе, и в деревне. Впрочем, ощущение тревоги у него было начисто лишено той грубой определенности, к коей излишне тяготеет мое перо; оно оставалось настолько смутным, что у Оноре даже и мысли не возникало попытаться разобраться в его природе. Ему казалось, что он вполне выражает это ощущение, говоря, что ему скучно. Но противостоять таинственной воскресной угрозе он отваживался весьма редко, да и царившая в доме атмосфера к тому не располагала.
В будни Аделаида большой религиозностью не отличалась; ей было ни холодно ни жарко от шуток Опоре по адресу священников с их обетом безбрачия. По зато по воскресеньям ее охватывал страх перед всеми несчастьями, какие могут обрушиться на семью. Побывав на мессе в окружении своих пятерых детей, она на целый день проникалась сознанием своей значительности в глазах Бога, сознанием своей уязвимости и до понедельника отрекалась от сатаны.
Для Алексиса, Гюстава и Клотильды воскресенье представляло интерес лишь тем, что в этот день не нужно было идти в школу. А в остальном то был пустой день со своими собственными заботами, похожий на плохую копию других дней, скучный, как первые дни творения, когда еще негде было укрыться от вездесущего Бога, выглядывавшего то из-за края облака, то сквозь какой-нибудь треугольник. Дети все же развлекались, хотя у них было такое ощущение, что это они вышли на перемену и находятся под неусыпным взором учителя, от которого ничего не ускользает. Так что в этот день у них и мысли не возникало о том, чтобы заняться запретными играми.
Дети ветеринара, приезжая в Клакбю, остро ощущали, что им удалось вырваться из отцовской уборной. Огромные пустынные пространства деревни не казались им безжизненными; они открывали для себя безграничное поле свободы, испытывая от этого легкое опьянение, которое вначале поражало их деревенских. кузенов. Стоило Фредерику и Антуану взглянуть всего один раз на лес или речку, и они были почти готовы поверить в существование нимф и дриад. Приятная мысль о том, что по лесам гуляют охочие до девственных школьников богини и нимфы, отвлекала их от жалких тайн розового корсета, и пока они находились у дяди Оноре, воспоминание о жене полицейского вызывало у них лишь брезгливость. Никакие нимфы братьям так и не повстречались. Да они на подобную встречу и не рассчитывали, и все же, выходя после обеда в лес за грибами, за фиалками или ландышами, за земляникой или ежевикой, всегда испытывали то особое возбуждение, которое свойственно солдату, отпущенному из казармы до самой полуночи. Алексису казалось, что все это глупость, и он снисходительно посмеивался; гораздо больше смущало его чрезмерное внимание братьев к клакбюкским девочкам. И на мессе и потом они глядели на них во все глаза. Алексису делалось от этого просто неловко, потому что ему казалось совершенно невероятным, чтобы какой-нибудь девчонке могли понравиться такие смешные ребята, и одетые как-то не так, и отвечающие почему-то по-французски, когда к ним обращаются на местном наречии. Да и сами их речи не имели почти никакого смысла, лишний раз подтверждали, насколько же плохо эти школяры чувствуют атмосферу воскресного дня. Алексис относился к ним без всякой враждебности, вовсе не презирал их за девственность, но вот их манера говорить о девочках или просьбы представить их этим девочкам (представить!) причиняли Алексису мучительные страдания. И тогда, забыв, как еще накануне на прибрежном лугу он задирал девчонке юбку, Алексис напускал на себя добродетельно-оскорбленный вид ризничего, попавшего в дурную компанию.
Люсьена наслаждалась в Клакбю приятной передышкой. Дома или у барышень Эрмлин стремление разведать запретные секреты смахивало на тяжкое браконьерство. Приходилось скрывать свою любознательность от родителей и от наставниц, терпеливо накапливать наблюдения, выбирать между различными догадками, вновь и вновь возвращаться к споим предположениям, истолковывать разговоры да еще стараться, как бы все это не обернулось упорством во грехе. В Клакбю же, наоборот, ей казалось, что книга тайн открыта каждому; она слышала, как проносящийся по равнине ветер шелестит ее страницами, и постоянно ощущала в себе способность вот-вот сделать какое-нибудь открытие. Но она так ничего никогда и не открыла.
Ветеринар, проводивший большую часть своих воскресных дней в обществе Оноре, где у него было более чем достаточно поводов для возмущения, даже не подозревал о запасах стыдливости у его племянников, которые вдруг обнаруживались во время их общения с городскими кузенами, и, непрестанно терзаемый самыми худшими предположениями, мысленно рисовал себе гнусности, от которых его начинало лихорадить. Подозрительность ветеринара крепла, когда он перехватывал улыбки, которыми заговорщически обменивались Жюльетта и Фредерик. Дело, однако, было не столь серьезным, как он опасался: Фредерик, всегда отличавшийся крайней предусмотрительностью, завел еще в нежном возрасте привычку класть руку на грудь Жюльетты. Девчушка была тогда совершенно плоской, и его жест никого не смущал. Когда Жюльетте исполнилось четырнадцать, Фредерик начал чувствовать себя вознагражденным за свое постоянство, еще через три-четыре года ей и самой стало это приятно. У ее кузена было хорошенькое личико, и она любила целовать его, но ничего существенного никогда ему не позволяла. Несмотря на некоторые вольности, между ними сохранилась не меньшая дистанция, чем между их семьями.
XII
Ветеринар остановил свое ландо перед семьей Опоре и вымолвил опечаленным голосом:
— Филибер Меслон умер. Мы только что узнали об этом.
Оноре не проронил ни слова, но от негодования, что старик на неделю передвинул срок своей смерти, вскочил на сиденье рядом с Фердинаном, схватил вожжи, кнут, резко развернулся на двух колесах и, ударив кнутовищем вороного, пустил его в галоп. Жюльетта, которая поднялась на подножку поприветствовать тетю Элен, так там и осталась, не в силах ни сойти, ни сесть в коляску.
— Старый подлец! — бушевал Оноре. — Хотел бы я знать, что его доконало.
— Но он был просто-напросто болен…
— Посмотрим, посмотрим.
Скорбные причитания неслись из всех окон и дверей дома Филибера. Двенадцать Меслонов и доброжелательные соседки причитали, что умер лучший житель Клакбю, лучший супруг, лучший сосед, лучший мастер пахать, сеять, жать, разводить скот и вести дела в коммуне. Когда же вдова Филибера раздала платки своим сыновьям, невесткам и внукам, семейная скорбь загудела, как неслаженный духовой оркестр. Во дворе наблюдалось волнение несколько иного рода; там наиболее неистовые клакбюкские клерикалы, примчавшиеся при первом известии о смерти Филибера, уже вели разговоры о судьбах коммуны. Семьи Малоре, Дюр, Россинье, Бонболь и Русселье, взглянув на труп и брызнув на него святой водой, принялись разглагольствовать о муниципальном совете, о мэрии, о генерале Буланже, о счастливых переменах, которые вот-вот должны были произойти. Зеф сообщил, что борода каменного святого Иосифа, стоящего при входе в церковь, выросла за ночь на пять сантиметров, и усмотрел в этом чуде предзнаменование того, что мэрия теперь перейдет в руки сторонников порядка и благопристойности.
Приехав к Меслонам, Оноре услышал отвратительный ропот клерикалов. Не теряя самообладания, он остановил повозку у самого окна, прыгнул с сиденья прямо в кухню, подбежал к шкафу, взял там воронку, которой пользуются при изготовлении кровяной колбасы, и, приставив ее ко рту, дважды крикнул:
— Черт побери и еще раз черт побери весь этот непотребный бордель!
Пораженные клерикалы решили, что слышат громовой глас Республики, и стали праздновать труса. Первым оправился от испуга Зеф Малоре. Собираясь дать отпор, он взобрался на навозную кучу, но Одуэн опередил его и крикнул первый:
— Да здравствует Франция!
— Да здравствует Эльзас-Лотарингия! — парировал Малоре.
Одуэн чуть не рассмеялся.
— Да здравствует армия!
— Да здравствует армия!
— Это я сказал первым!
— Нет, я!
Тогда Одуэн ловко подстроил своему противнику ловушку.
— Да здравствует родина! — выкрикнул он.
— Да здравствует родина! — повторил за ним Малоре.
— Да здравствует наше знамя!
— Да здравствует наше знамя!
— Долой Германию!
— Долой Германию!
— Долой Англию!
— Долой Англию!
— Долой церковников!
— Долой церковников! — повторил Зеф Малоре, увлеченный его порывом.
Хохот в сто пятьдесят глоток сотряс стены дома, с крыши упала черепица и угодила прямо на голову отцу семейства Дюр, отчего у того пошла кровь из носа. Оноре смеялся через свою воронку за десятерых, и тут вдруг из комнаты, где лежал покойник, донесся протяжный крик ужаса:
— Филибер пошевелился! Он моргнул!
Одуэн отшвырнул воронку на середину кухни и с ликующими криками бросился в комнату:
— Я так и предполагал! Я готов был биться об заклад, что он не умер! Я был в этом уверен!
Но он тут же утратил свое только что полученное превосходство над Зефом. Воскресший покойник всегда немного разочаровывает окружающих. Не только клерикалы, но и сами Меслоны отказывались признавать, что старик ожил. Причем имея на это самые веские семейные доводы.
— Он умер, — подтвердил старший из Меслонов, — мой платок весь мокрый.
— Он умер, верно! — закричали остальные Меслоны и все клерикалы.
— Разумеется, он умер, — добавил Малоре, слезая со своего навоза. — Начать с того, что против него большинство.
— Но ведь он моргнул глазом, говорю я вам! Видели, как он моргнул! — ревел Одуэн.
— Мы здесь не для того, чтобы придираться к мелочам, — возразил старший из Меслонов. — Он умер, и все тут.
— Он окончательно умер!
Теперь Оноре не удавалось заставить людей выслушать себя, и он пожалел о том, что бросил воронку. Жюльетта и ее кузен Антуан вылезли из коляски, чтобы кричать вместе с ним, но то были голоса несовершеннолетних, не имевшие веса. К счастью, Алексис и его брат-пехотинец, а также лучшие республиканцы Клакбю, привлеченные звуками воронки, поспешили восстановить утраченное равновесие. Получив поддержку, Оноре пробился к самому изголовью Филибера; но одновременно с ним там оказался и ветеринар, который, пощупав труп, объявил:
— Он холодный, он одеревенел, он мертв. Взгляните-ка: я щекочу у него в носу зубочисткой, а он даже не улыбнется.
По Меслонам прокатилась буря восторга, взвихрилась на кухне и выплеснулась во двор. Оноре, воспользовавшись суматохой, подал знак Бертье, Коранпо и другим стойким республиканцам, сплотившимся вокруг него. После чего он склонился над умершим, взял его за руку и зашептал ему на ухо:
— Вы сыграли со мной злую шутку, Филибер, но не будем об этом. Вместо двадцати пяти су в день я предлагаю вам тридцать пять.
Покойник не шелохнулся.
— Сорок пять, — сказал Одуэн.
Ему почудилось, будто Филибер сжал его руку, но так слабо, что он не решался поверить.
— Пятьдесят пять…
Он ничего не почувствовал и со злостью в голосе сказал:
— В последний раз, Филибер: предлагаю вам три франка пять су. Ни один человек у нас столько не зарабатывает.
Надежные республиканцы заметили, что губы Оноре, продолжавшего теперь уже менее напористо что-то шептать, тронула улыбка.
А во дворе Зеф Малоре держал в напряжении нею коммуну своим рассказом о бороде святого Иосифа, которая — первое чудо — за ночь выросла на пять сантиметров.
— Вчера вечером ее длина была пятнадцать сантиметров, а сегодня утром — уже двадцать. Каждый из нас может сам в этом убедиться. Я сегодня проходил мимо со своей сукой, которая была на шестой неделе, хотя я в общем-то огорчился, когда ее покрыла простая дворняжка. Увидев отросшую бороду, я решил потереть о нее свою суку сами знаете каким местом, и она сразу же ощенилась.
Клерикалы стали бурно восторгаться святым Иосифом, а заодно с ним и Зефом Малоре, говоря, что ему место в мэрии. Нашлись даже республиканцы, заколебавшиеся в своих политических симпатиях, а Оноре, будто оробев, ограничился только замечанием, произнесенным нейтральным тоном, что снятой Иосиф является покровителем рогоносцев. Проходя мимо Жюльетты, он сделал ей знак следовать за ним в сад и там сказал ей:
— Я сейчас отвлеку внимание ветеринара, а ты хватай быстро ландо и мчись догонять на дороге Гюста Бертье. Он знает, что нужно делать.
— Но тетя Элен с Люсьеной все еще сидят в коляске.
— Ну и пускай сидят, поедут с тобой. Высадишь их на кладбище и жди там вместе с ними Бертье.
Жюльетта, чтобы ее не видели выходящей из сада вместе с отцом, задержалась там еще немного и сделала несколько шагов по аллее. Возле грядки с фасолью она услышала приглушенный смех и увидела своего кузена Фредерика, сидящего на груде сена и обнимающего за шею Маргариту Малоре.
— Ну и душка он, твой кузнечик, — сказала дочь Зефа, — у него такая шелковистая кожа.
Жюльетта с горящими глазами и пунцовыми щеками взирала на эту лукаво смеющуюся парочку. Ничего не ответив Маргарите, она схватила Фредерика за руку и заставила его встать, влепила ему две пощечины и толкнула его перед собой. Фредерик стал сопротивляться, попытался вырваться. Но она обхватила Фредерика сзади обеими руками и впилась зубами в его нежный затылок.
— Я свободен, — запротестовал кузен. — И потом, она лучше. тебя.
— Потаскуха, — прошипела Жюльетта, — она мне за это заплатит.
— А сиськи у нее побольше, чем у тебя.
— Что, захотел получить еще пару затрещин?
— К тому же ей только и нужно было…
— Давай топай.
Они вышли во двор, весь гудящий от достоинств святого Иосифа. Жюльетта втолкнула кузена в ландо, села за кучера, и они поехали по дороге.
— Я везу вас на кладбище, — сказала она тете Элен. — Я подумала, что вам, наверное, хочется помолиться на могилах родственников.
Догнав Гюста Бертье, она остановила лошадь, и тот взял вожжи в свои руки; до самого кладбища они вдвоем тихо переговаривались, и там Одуэны вылезли из коляски.
— Я сейчас еду в мэрию, — сказал Гюст Бертье, — на обратном пути я вас заберу.
Пока тетя Элен молилась на могилах свекра и свекрови, кузены мерили бороду святого Иосифа, Жюльетта обошла почивших Малоре, три могилы которых располагались на краю аллеи, в нескольких шагах от Одуэнов.
— Старый боров, — бросила она деду Малоре, — в аду небось сейчас, а? Так вам и надо. Будете знать как своих дочерей бесчестить. Теперь раскаиваетесь; да поздно.
Старику с его шестью футами земли на животе стало неловко. Жюльетта перешла к другой могиле, могиле Тины Малоре, сестры деда Малоре.
— Вы такая же, как дочь Зефа, вот и лежите там. Она кончит так же, как и вы. Да-да, в аду, дорогу туда показали ей именно вы.
— Люди наговорили много такого, чего даже и не было, — вздохнула Тина. — Ты же ведь знаешь, как они любят поболтать…
— Конечно, а разве не правда, что вы сначала жили с вашим отцом, а потом с судебным исполнителем? Так что вы уж не говорите мне!
Оставался еще сын Зефа, умерший на пятом году жизни. Трудно было в чем-то упрекнуть бедного мальчугана. Он лежал в совсем крохотной могилке, псе украшение которой составляли крест да белое эмалевое сердце с надписью: «Он вознесся на небо». Жюльетта просто пробормотала:
— Неужели на небо? Хотела бы я поглядеть.
Затем она попросила Бога так и держать всех покойников Малоре в самом пекле ада. А что касается живых, то о них позаботится она сама.
Тетя Элен уже садилась в коляску, когда из своего дома вышел направлявшийся к Меслонам кюре Клакбю. Она предложила ему место в ландо, и кюре, который боялся, что опоздает к мессе, принял ее приглашение.
— Я положил под сиденье сверток, — сказал Бертье, — прошу вас быть с ним поосторожнее.
Это был сверток внушительных размеров, тщательно перевязанный. Видно было, что на него не пожалели ни газет, ни бечевки.
— Я положу его на колени, — сказал кюре, — не волнуйтесь.
По дороге он справился у госпожи Одуэн о здоровье ветеринара и об учебе детей. Люсьена рассказала, что она стала первой в классе по благонравию, по кюре поздравил ее с этим без особого восторга. Внутренне он порицал усердие мадемуазель Бертранды; ему не нравилось, что она применяет к человеческой душе методы ботаники. Когда повозка приблизилась к дому Филибера, они услышали сильный шум.
— Святой Иосиф и Буланже! — кричали клерикалы.
Кюре забеспокоился. Завидев его, крикуны несколько притихли, а семья Дюр тотчас поведала ему о великих чудесах святого Иосифа. У кюре они особого энтузиазма не вызвали. В нем не было ничего от революционера, и он терпеть не мог чудес. Однако, не желая поставить семью Дюр в неудобное положение в присутствии республиканцев, опровергать он ничего не стал.
— Святой Иосиф может многое, — ответил он, — по он слывет весьма сдержанным святым. Кроме того, излишек осторожности никогда не повредит, и, прежде чем что-то говорить о нем, я посоветовал бы вам подождать, пока его борода не отрастет до пояса…
Меслоны, вышедшие ему навстречу, вздохнули, вытирая глаза платками:
— В любом случае, господин кюре, он ведь не вернет нам нашего покойника.
— Здесь нужен был бы великий святой, дети мои, очень великий.
Кюре вылез из коляски и вошел в дом, не выпуская из рук свертка, за которым ему было поручено присматривать. В комнате, где лежал покойник, Бертье взял у него сверток и, развернув бумагу, извлек из нее гипсовый бюст Республики. Священника слегка передернуло. Подойдя к постели, Бертье наклонил бюст к лицу покойного для холодного поцелуя. Среди присутствующих пробежал укоризненный шепот, но Оноре, приставив ко рту свою надежную воронку, которую он снова подобрал на кухне, громко закричал:
— Республика никогда не забывает своих старых друзей! Вот вы сейчас увидите, как она поставит Филибера на ноги!
И в самом деле, при третьем поцелуе Республики старик захлопал глазами и приподнялся на своей подушке. Из всех республиканских грудных клеток вверх взмыла восхитительно-торжественная песнь. То была «Марсельеза». Женщины разрыдались, а семья Русселье, которая до сих пор считалась одной из самых надежных опор реакции, подхватила припев.
После благодарственного молебна Филибера засыпали вопросами:
— Как там, после смерти, себя чувствуешь?
— О чем ты думал, когда понял, что умер?
Старик выглядел несколько ошеломленным. Он подождал, пока стихнет шум, и заговорил писклявым голосом:
— Часов эдак в восемь утра я оказался в раю, причем, как сами понимаете, помолодевшим годков на пятьдесят. Местечко приятное: прохладно и повеселиться есть где. Вино там дают почти задаром, харчей тоже сколько угодно. Господь Бог ведет себя вполне прилично и, что бы тут некоторые ни говорили, вовсе не важничает. «Ну, Филибер, говорит он мне, поскольку вы пожаловали сюда, то я прогуляюсь с вами по раю». Знаете, любезно так говорит и хочет, значит, показать мне то, что следует посмотреть. Ну что ж, идем мы вдвоем, беседуем, причем смущаюсь я не больше чем, скажем, во время разговора с Дюром или Коранпо — вот уж кто умеет сделать так, чтобы ты чувствовал себя как дома. По правде говоря, в раю оказалось не слишком много народу, и это поразило меня больше всего. Наших, например, встретил человек двадцать, не больше. Там были Бертье, Одуэны, Коранпо, Кутаны и другие тоже, а из тех, кого я ожидал увидеть, никого нет. «Странно все-таки, — говорю я Богу, — что здесь нет папаши Дюра». — «Так он же в аду, дитя мое». — «Не вижу и мамаши Россинье». — «В аду». — «Нет и трех дочерей Беф». — «В аду…» И так далее, о ком бы я ни спрашивал. В конце концов я смекнул, что там к чему: в рай попадают только те, у кого передовые взгляды. Вы скажете, что обидно за некоторых других; мне и самому жаль, но ведь все объясняется просто: нельзя же в самом деле надеяться, что тебя ждет вознаграждение на небесах, когда ты нею жизнь ни в грош не ставил Республику, которая всем нам является матерью…
— Надувательство! Вздор! — вскричал кюре. — Это мистификация!
Кюре попытался было опровергнуть чудо. Однако Опоре опять загудел в свою воронку. Республика-воительница своим могучим гласом приветствовала Республику-победительницу, и четырнадцать семей, расставаясь со своими заблуждениями, тотчас отреклись от реакционных взглядов.
Пока плотный поток людей поздравлял старика с воскресением из мертвых, ветеринар, растерянный, стоя на ватных ногах, с пересохшим горлом, пребывал в страшной тоске. При возгласах «Да здравствует Республика!» он только согласно кивал головой, а глаза его в это время молили Зефа Малоре о прощении. Он счел было уместным ввернуть в общий гвалт имя генерала Буланже, но оговорился и только промямлил:
— Слава святому Иосифу…
Оноре, услышав это, подхватил его под руку, отвел в сторону и усадил в ландо. Но на этом мучения Фердинана не кончились. В набитой до отказа коляске, которая везла домой обе семьи Одуэн, Жюльетта прицепилась к своему брату Эрнесту, укоряя его за то, что тот не довершил разгром этих Малоре успешным любовным приключением:
— Ты сегодня вечером уже уезжаешь, а так ничего и не сделал, чтобы отнять у них письмо! А ведь оно наверняка спрятано за корсажем у Маргариты!
— Будет, Жюльетта, — запротестовал дядя Фердинан. — Как ты можешь говорить подобные вещи в присутствии детей…
— Детей? — усмехнулась Жюльетта. — Спросите-ка у Фредерика, где я его только что застала? В саду Меслонов; вот где я его застала, причем он лежал на земле, обхватив дочку Малоре за шею!
Ветеринар торопливо расстегнул свой пристежной воротничок и чуть слышно прошептал:
— Все «Буколики» переписать… полностью… И запрещаю все…
Затем страдание и возмущение вернули ему голос. Он закричал:
— Негодный мальчишка! Любовницу сам знаешь кого! Обнимать любовницу сам знаешь кого! Обхватить за шею! А я-то выбиваюсь из сил, я-то приношу такие жертвы, надрываюсь, как никто! Я-то…
Оноре, сидевший за извозчика, остановил лошадь, чтобы вступиться за Фредерика:
— Зачем поднимать такой шум из-за пустяков? Ну обнял раз…
— А как узнать, вдруг он не только обнял? Фредерик, дай мне честное слово, что… в общем, дай мне честное слово.
Фредерик дал честное слово, поклялся головами брата и сестры на образке первого причастия, который висел у Люсьены на шее. Ветеринар немного успокоился.
— Ты же сам понимаешь, — сказал он Оноре, — какими неприятностями все это может обернуться. Не далее как в четверг господин Вальтье должен приехать в Клакбю. И в связи с этим я решил кое о чем попросить тебя. Вальтье написал мне, что хотел бы повидаться со своей протеже.
— Пусть повидается, если хочет.
— Разумеется, но дело в том, что он не может встретиться с ней у ее родителей; люди удивились бы, а кроме того, там он не смог бы свободно поговорить с ней, как ему хочется. Вот почему он просил о том, чтобы встретиться с ней у тебя.
— Ну нет, — ответил Оноре, — мой дом, не…
— Это же никого не удивит. Я привезу его в своем кабриолете в четверг в три часа, а Жюльетта сходит на Маргаритой, как будто она зашла за подружкой.
— Лучше и придумать нельзя, — нежно проговорила Жюльетта. — Следует оказать им эту услугу.
Она подавала отцу знаки, чтобы он согласился, но Оноре все еще сопротивлялся:
— Пусть идут в лес и там занимаются своими гнусностями.
— А вдруг пойдет дождь? — возразил ветеринар.
— Возьмут зонтики, это уж их дело… Да! Ну и ремесло же у тебя теперь.
— Оноре, не терзай меня… Ты же прекрасно знаешь, что Вальтье может быть полезен детям, особенно Фредерику…
Оноре, удовольствия ради, сначала долго заставлял себя упрашивать, а потом, вняв настойчивым просьбам дочери, наконец согласился приютить депутатские амуры.
Жюльетта иронически-веселым взглядом посматривала на своего миловидного кузена, не без злости думавшего в этот момент об удачливом Вальтье. Обращаясь к дяде Фердинану, она сказала:
— Не наказывайте бедняжку Фредерика. Он и без того уже пригорюнился.
— Он перепишет мне все «Буколики», — заявил ветеринар. — Я требую хорошего поведения, и в этом пункте не собираюсь идти ни на какие уступки.
XIII
Увидев, что уже полседьмого, мать пошла будить Гюстава и Клотильду. Она разбудила детей, сетуя на их лень: вот уж и встать с постели без ее помощи не могут. У нее и так дел невпроворот, а тут еще ими нанимайся. Она говорила все это, а Гюстав начинал дерзко насвистывать, что входило в правила игры.
— Мам, он свистит, — говорила Клотильда.
— Вот я сейчас тебе задам, поймаю и так тебя нашлепаю.
То была единственная за целые сутки минутка, когда Аделаида позволяла себе поиграть с детьми. Она бежала за Гюставом, преграждала ему путь, взявшись за руки с Клотильдой. Его хватали, шлепали понарошку или драли за уши. Было время, когда мать несла обоих малышей на кухню, посадив одного на правую, а другого на левую руку. Теперь же она говорила, что больше не может. Дети выросли, и она больше не может. Ей-то очень бы хотелось по-прежнему носить их вот так, взяв на руки. И она жаловалась, что дети выросли такие большие (большие для своего возраста). На ее глазах с ними повторялось все то же, что и с остальными. Она носила их, пока могла, а потом они стали слишком тяжелыми. Но поскольку они у нее были последними, поскольку других у нее больше, в ее-то возрасте, скорее всего, не будет, то она иногда еще брала на руки одного, того, кто печально смотрел на нее, или же носила каждого по очереди. А иногда брала на руки и обоих сразу.
— Сейчас позавтракаете и пойдете пасти коров. Алексис теперь работает с отцом, а вам нужно пасти скот. Вы ведь уже разумненькие, вот вам и доверяют пасти. А если бы были сорванцами, как некоторые, то не доверили бы.
После того как дети позавтракали, Аделаида выпустила коров и проследила за тем, как они погнали стадо. Собака бегала от коровы к корове, поддерживая порядок и задавая нужное направление, и ее присутствие немного успокоило мать. А то, когда они, такие еще маленькие, отправлялись на луга, к речке, сердце ее всегда было неспокойно.
— Старайтесь быть подальше от Тентена Малоре. Если он начнет что-нибудь вам говорить, держитесь поближе к Просперу Меслону.
— Ладно, мам.
Они были уже далеко, но она еще крикнула вдогонку Гюставу:
— Не забывай, что ты старший!
Вернувшись на кухню, она решила использовать свободную минутку, чтобы убраться в столовой. За работой она со злостью вспомнила, что завтра Маргарита Малоре встретится здесь с депутатом Вальтье. Протерев мебель, она сняла стеклянный колпак с часов и до блеска натерла тряпкой позолоченную бронзу. Когда она склонилась к ногам Земледелия и Промышленности, то обнаружила на мраморе следы ныли и поспешила стереть их. Ее удивило, что пыль попала под стеклянный колпак: вероятно, кто-то поднимал его, а потом не вставил как следует в паз. Аделаида осторожно провела тряпкой между часами и подставкой. Вытаскивая ее назад, она зацепила ею письмо ветеринара. Сначала она подумала, что это какая-нибудь любовная записка, спрятанная Жюльеттой, а может быть, и Алексисом. Дрожа от радостного любопытства, она вполголоса прочла: «Мой дорогой Оноре. В начале недели у вороного случились колики…»
Она читала с трудом, не имея привычки к занятию подобного рода, и смысл каждой фразы не сразу доходил до ее сознания. Ей потребовалось больше двадцати минут, прежде чем она добралась до подписи. Она не испытала облегчения, которое должна была бы испытать, узнав о таком счастливом повороте в отношениях между Одуэнами и Малоре.
— В конце концов, Оноре прав, — вздохнула она, — это его дело. А мне лучше про него ничего не знать.
Она засунула письмо назад под часы, провела еще раз тряпкой по Земледелию и Промышленности, потом аккуратно поставила стеклянный колпак так, чтобы он вошел в паз подставки.
Дочь Зефа в своем голубом платье и цветастом передничке вышла из леса в одиннадцать часов, и Оноре, работавший в долине с дочерью и сыном, насторожился. Танцующей походкой она пересекла по диагонали Горелое Поле и, перескочив через ров, вышла на дорогу у самого дома Одуэнов. Оноре сказал Жюльетте:
— Кажется, она идет к нам.
— Из-за свидания с депутатом, наверное.
— Возвращайся-ка домой. Боюсь, как. бы твоя мать не встретила ее в штыки. Коли согласились принять у себя людей, надо вести себя с ними прилично. Постарайся быть полюбезнее…
— Это в моих интересах, — ответила Жюльетта, — если уж мне предстоит скоро стать ее невесткой…
— Иди скорей. Поговорим об этом в другой раз.
Оноре опасался не напрасно. Когда Аделаида, копавшаяся в саду, увидела приближающуюся дочь Зефа, она решила жестоко поразвлечься. Не спеша наполнила корзину фасолью и пошла во двор. Маргарита направилась ей навстречу и смиренно поздоровалась:
— Я зашла поприветствовать вас, Аделаида. Вижу, у вас все в порядке.
Аделаида остановилась, с преувеличенным восхищением стала разглядывать ее платье и цветастый передник.
— Какая ты, голубушка, нарядная. Я смотрю, ты с толком выбрала себе ремесло в Париже.
Маргарита улыбнулась без тени смущения, повернулась вокруг своей оси, чтобы показать себя со всех сторон, и ответила:
— Я пришла по поводу того дела, о котором вы знаете.
Аделаида обо всем знала, но ей хотелось насладиться смущением Маргариты:
— По поводу того дела? А что за дело-то? Расскажи-ка мне…
— Я должна встретиться завтра днем у вас с господином Вальтье… Хотя, может быть, мне не следовало говорить вам об этом, раз Оноре скрыл от вас…
— А! Так это ты про депутата? Да, теперь вспомнила: у меня столько хлопот, что такие глупости легко вылетают из головы. Ты тогда, значит, приходи в столовую и жди там своего депутата, а если вдруг разберет охота немного поразвлечься, сын бросит вам охапку соломы на конюшне. Я ведь не собираюсь мешать тебе зарабатывать на жизнь, чего бы ради…
Дочь Зефа покраснела, попыталась сдержать себя, но гнев ее вырвался наружу:
— Очень мило с вашей стороны, Аделаида, но я и не прошу вас одалживать нам вашу кровать!
Разговор тотчас оживился. И когда Жюльетта дошла до дома, ее мать уже успела предсказать Маргарите, что она не вечно будет увеселять свою задницу, что там у нее не преминет завестись зараза. Со своей стороны дочь Зефа высказывала мнение, что ее задница будет почище рта Аделаиды. Жюльетта встала между спорщиками, поцеловала Маргариту и примиряюще сказала:
— Вовремя я пришла. А то вы чуть было не поссорились.
— Возможно, это я виновата, — призналась Маргарита уже спокойно. — Я, наверное, что-нибудь не так сказала.
Выразительный взгляд дочери придал Аделаиде силы для дипломатического маневра.
— Да и место здесь не для разговоров, на таком солнцепеке-то…
— И в самом деле, — сказала Жюльетта, — давай-ка, Маргарита, зайди на минутку.
— Я вас оставлю одних, — сказала мать, отходя в сторону. — Идите в столовую. У меня с утра кипятится бак с бельем, и на кухне жарко, как на дворе.
Дочь Зефа с почтительным любопытством осматривала столовую, в которую Малоре еще никогда не находили. Объясняя Жюльетте цель своего прихода, она восхищалась буфетом, круглым столом, плетеными стульями и золочеными часами, даже не думая сравнивать эту обстановку с той мебелью из красного дерева, которую ей купил Вальтье. Показывая на два портрета, висящие над камином, она спросила:
— Это знаменитые люди?
— Да, — ответила Жюльетта. — Справа Жюль Греви, а слева Гамбетта.
— А где зеленая кобыла?
— Она висела здесь, между ними. Теперь она в Сен-Маржлоне, у моего дяди Фердинана. Если ты хочешь посмотреть на фотографию…
Жюльетта достала из шкафа альбом в картонном переплете, положила на стол и начала листать его. И в одной из первых страниц Маргарита заметила ополченца в плоском кепи, лихо опирающегося на ствол ружья.
— Это твой отец?
— Да, — ответила Жюльетта.
— Какой он интересный, Оноре, подожди, дай разглядеть… Он с тех пор почти не изменился.
— Он и в самом деле почти не изменился, хотя прошло с тех пор уже пятнадцать лет.
Маргарита пожалела о том, что не пришла на часок пораньше; ей бы хотелось рассмотреть все страницы альбома. Она обошла столовую, внимательно разглядывая все, что там было, а когда дошла до камина, сказала:
— Ты заметила, что часы остановились…
Жюльетта взглянула на позолоченную бронзу, и сердце у нее чуть дрогнуло при мысли о том, что там лежит письмо. Маргарита провела пальцами по колпаку, не решившись признаться, что у нее вдруг возникло желание завести часы.
— Так, значит, завтра, — сказала Жюльетта, — господин Вальтье будет здесь в полвторого?
— Да нет, в три, никак не раньше. Они с твоим дядей отправятся из Сен-Маржлона после обеда.
— В полвторого, — снова повторила Жюльетта и покраснела. — Дядя написал нам вчера. Если хочешь, я зайду за тобой что-нибудь около часу.
Маргарита улыбнулась и взяла Жюльетту за талию.
— В первый раз ты зайдешь за мной, а? Когда мы ходили в школу, я поджидала тебя на дороге возле нашего дома, а если ты успевала пройти раньше, то ты клала камень у первой яблони. Но ты никогда не ждала меня…
Голос ее звучал ласково, и Жюльетта, с нежным изумлением глядя в смеющиеся глаза дочери Зефа, позволила ей притянуть себя к цветастому переднику.
— Бывало, когда мы возвращались из школы вдвоем, — шепнула Маргарита, — и шли по тропинке между изгородями, ты помнишь…
Ее щека коснулась щеки Жюльетты, она резко развела руки, пытаясь обнять ее за шею. Жюльетта, вспыхнув, чуть было не поддалась искушению, но все же оттолкнула Маргариту и удержала ее на расстоянии своими вытянутыми вперед смуглыми руками.
— Уже почти двенадцать часов. Смотри, опоздаешь.
Маргарита, хлопая ресницами, попыталась выдавить слезы, которые никак не хотели появляться. Она прошептала:
— Ладно, значит, договорились, ты заходишь за мной… по крайней мере у тебя будет предлог повидать Ноэля. Ты ведь любишь его?
Жюльетта опустила руки и сделала вид, что уходит.
— Ну-ну, мне-то можешь сказать это, — настаивала Маргарита. — Любишь.
— А ты любишь Вальтье?
Дочь Зефа засмеялась:
— О! Это разные вещи. Ты же знаешь, кто я такая, да и мать твоя только что обо мне высказалась без обиняков…
Приподняв юбки, она показала на свои прозрачные чулки и тонкое кружево панталон, захохотала еще громче и добавила:
— Но только, поверь мне, я не жалуюсь.
Жюльетта с матерью проводили ее взглядом, и как раз в тот момент, когда она скрылась за поворотом дороги, во двор вошел Оноре. Алексис помог Гюставу и Клотильде загнать в хлев коров. Жюльетта с озабоченным видом рассказала отцу о визите Маргариты.
— Никогда не видела такой наглой девки, — прокомментировала Аделаида. — Ты бы только послушал, как она разговаривала с нами, что за манера вертеть людьми! Наверное, они с тех пор, как письмо Фердинана попало к ним в руки, думают, что им уже все позволено…
— Ну она-то, скорее всего, ничего не знает, — сказал Оноре. — Я бы удивился, если бы Зеф, с его-то осторожностью, ей все рассказал.
— Похоже, что она все-таки знает… Пусть Жюльетта тебе скажет, как она меня тут обзывала.
— Ну конечно, она знает, — подтвердила Жюльетта. — И доказательство тому, как она меня расспрашивала, что я собираюсь делать с Ноэлем, да еще с таким видом, будто приказывала мне… В общем, тут не может быть никаких сомнений. Письмо у них, и они этим пользуются.
Одуэн яростно покусывал кончики усов, бормоча невнятные угрозы. Подошла Клотильда с братьями, и они стали очень заинтересованно следить за беседой.
— Они пользуются тем, что Эрнест уехал, — коварно заметил Алексис, — и что никто больше не сможет им ничего сказать.
Отец опустил на него свой грозный взгляд, который заставил Алексиса попятиться назад, но тут Клотильда непринужденно сообщила:
— Папа, а Тентен Малоре пытался сейчас дотронуться до меня под платьем.
Аделаида издала крик ужаса. Малышку окружили, и она повторила:
— Он попытался до меня дотронуться.
— Это правда, Гюстав? — взревел отец. — Да скажи же ты!
— Я не знаю, — запинаясь, сказал Гюстав, лицо которого приняло растерянное выражение. — Я не видел. Это возможно, но я не видел…
Он почувствовал, что его ответ всех разочаровал, и поспешно добавил:
— Хотя я бы не удивился. Тентен, он такой… Он нисколько не стесняется, снимает штаны перед девочками, и уж тут-то я могу подтвердить, что это я видел.
Последнее обвинение можно было бы с таким же основанием высказать в адрес абсолютно всех деревенских сорванцов, включая и самого Гюстава, но тут оно было встречено ропотом гнева. Аделаида обняла девочку и сказала, что отныне она больше никогда не пойдет на луг. Клотильда, не ожидавшая подобной реакции матери, попыталась было взять свое заявление обратно, но та потащила ее в кухню, заглушая ее слова шумом своего голоса.
Одуэн стоял неподвижно, сжав твердые кулаки и бросая хищные взгляды на сожженную солнцем равнину. Жюльетта подошла к нему и произнесла вполголоса:
— Я сказала Маргарите, что зайду за ней завтра в час, чтобы привести ее сюда в полвторого.
Соображения кобылы
Деревня Клакбю насчитывала девяносто пять дворов. Здесь жили Дюры, Коранпо, Русселье, Одуэны, Малоре, Меслоны… Ну да не буду всех перечислять. Ненависть либо дружба между семьями пользовались для своего обоснования различными предлогами: противоборством интересов, политическими убеждениями, отношением к религии. В действительности же они покоились прежде всего на той или иной чувственной предрасположенности. И клакбюкский кюре прекрасно понимал это. В проводимой им политике спасения душ он уделял много внимания любовному настрою семей, подразделяя их для себя на три категории, а именно: на тех, кто отличался совсем не католическим пристрастием к любовным мечтаниям и усладам; такие семьи были потеряны для церкви, а лучшие их представители, даже если они и обладали великой набожностью, все равно несли в себе угрозу религии. Другие, напротив, предавались неправедным плотским утехам с той должной скромностью, каковую внушает страх перед Богом; то были смятенные семьи, которые он малыми усилиями удерживал на истинном пути; их члены, несомые благим течением, могли, почти ничем не рискуя, пускаться в самые тягчайшие грехи: что бы они ни совершили, оказывалось всего лишь проступками. И наконец, между этими двумя полюсами, в разной степени тяготея к тому или другому по них, располагались колеблющиеся семьи, то есть такие, у которых жизнь шла то так, то сяк, которые впадали в искушение, потом спохватывались, а потом снова грешили; таких семей в деревне было больше всего, и им требовалось неустанное попечение священника.
Кюре был единственным человеком, знавшим о том, что все семьи в Клакбю имеют свой неповторимый половой облик, и он, чтобы облегчить себе задачу, делил их на три категории. Сами же семьи со всеми их домочадцами, если и догадывались о чем-либо, то лишь чисто инстинктивно. Однако когда Оноре Одуэн говорил о Малоре, что все они свиньи, это не было с его стороны бессмысленной руганью, он обличал, сам того не ведая, определенную чувственную предрасположенность, которая отличалась от той, что была свойственна семье Одуэнов, и потому шокировала его.
Члены одной и той же семьи, — а под семьей надо понимать дом — могли иметь разные вкусы в любовных делах; отец, скажем, мог отдавать предпочтение белокурым или пышнотелым, а сыновья — тощим брюнеткам, но каждый дом испытывал, словно он был единой плотью, вполне определенное влечение либо отвращение к любому другому дому. Так что в этом смысле случай с Одуэнами и Малоре не представлял собой ничего исключительного. Не было недостатка и в других случаях подобного рода, подтверждавших, хотя и не столь ярко, верность суждений клакбюкского кюре. Дом Дюров стоял в деревне по соседству с домом Бертье. У Дюров, ярых, истовых почитателей сутаны, было две дочери и один сын. Сын Дюров лишил невинности дочь Бертье и хранил об этом сладостное воспоминание. Старшая из двух дочерей не скрывала своего искреннего отвращения к мужчинам из дома Бертье, а младшая, которой было четырнадцать лет, ходила на свидания со старым Бертье, семидесятилетним ревматиком, не способным уже ни на что глубокое. Члены семейства Дюр внешне были настроены к дому Бертье совсем иначе. И все равно, когда отец Дюр, метал громы и молнии в адрес семейства Бертье, проклиная эту революционную сволочь, он был уверен, что дети прислушиваются к его словам, что никто из них не остается в неведении относительно смысла высказывания, воскрешающего давнюю семейную подозрительность и злобу. Все они ощущали некую угрозу своему сексуальному достоянию, присущей им совокупности мелких скабрезностей и своеобразной манере тихонько проявлять свои желания в тени, как им подсказывала их застенчивость. Они ощущали угрозу не только в словах или взглядах Бертье, а и в самом их молчании. У принадлежащих к этой семье мужчин всегда был такой вид, будто их причиндалы находятся в постоянной готовности, как у охотников ружья на охоте, а глядя на их жен и дочерей, трудно было избавиться от ощущения, что под одеждой они совсем голые. Дюров все это оскорбляло; им казалось, что семейство Бертье догадывается обо всех тех жалких непотребствах, которые позволяют себе их соседи.
Старший Дюр называл их революционным сбродом. Однако речь шла, в сущности, не о политике. Речь шла и не о том, ходить или не ходить в церковь. Первые Бертье, переставшие посещать мессу, так же как и первые Меслоны, провозгласившие себя республиканцами, хотели прежде всего продемонстрировать, что они распростились с определенными — реально существующими или воображаемыми — привычками заниматься любовью. Когда Бертье сердился на Дюров и на их лицемерные повадки, у него всегда было в запасе ругательное словечко, относящееся к области седалища, а интонация, с какой он произносил слово «реакционеры», означала глинным образом его презрение к тому способу заниматься любовью, который, как он полагал, не заслуживает ничего, кроме насмешки. Впрочем, все республиканцы (я рассказываю вам о событиях сорокапятилетней давности, когда политические взгляды в Клакбю обусловливались большей или меньшей чувствительностью эпидермы), все без исключения республиканцы подозревали, что их противники являются если не совсем импотентами, коль скоро они размножались, — то все-таки функционируют они в некоем ослабленном, скупердяйском режиме. В свою очередь реакционеры считали республиканцев людьми исступленной сексуальной озабоченности, людьми, легкомысленно забывающими о том, что их ждет на том свете, и испытывали к ним чувство зависти, подобное тому, что испытывает порядочная женщина к щедрой на ласки девке.
Революционный сброд (отец Дюр). Ханжи-реакционеры (Бертье). О, мой глаз. Мой кобылий глаз. Словно и в самом деле было возможно, чтобы два семейства ненавидели друг друга, как кошка с собакой, на протяжении шестидесяти лет только из-за политики да из-за религии. У Бертье, Дюров, Коранпо, Русселье, которые по шестнадцать часов в день в поте лица своего трудятся на земле, у которых все помыслы заняты повседневными тяготами жизни, нет времени для того, чтобы под лупой изучать деяния Всевышнего или же следить за внешней политикой. В Клакбю искренние убеждения, будь то религиозные или политические, рождались в нижней части живота; а те убеждения, что произрастали в голове, сводились к расчету, к преходящим уловкам и никак не влияли ни на ненависть, ни на дружбу; при случае их меняли, как это хорошо получалось у старого Одуэна. Люди прибегали к помощи радикализма, клерикализма, роялизма или генерала Буланже как к своего рода постулату незыблемости межевого столба, дабы продемонстрировать свое право заниматься любовью определенным способом. Меслонов отличали яростное стремление вернуть Франции Эльзас и Лотарингию и столь же яростная ненависть к тиранам и священникам — в этом состояла их своеобразная манера заниматься любовью; ну а что касается старого Филибера, то для него этот способ был единственно возможным и он практиковал его до изнеможения.
В ту пору, когда я еще находилась в Клакбю, я знавала Этандара, быка старого Одуэна (в его честь все одуэновские быки получали потом кличку Этандар), призера не одного конкурса. С моего почетного места между Жюлем Греви и Гамбеттой я частенько любовалась Этандаром, причем нередко при исполнении им прямых своих обязанностей. Все, что только двигалось, все, что хоть слегка выделялось своим ярким цветом, приводило быка в ярость, и, чтобы он никого не забодал, приходилось держать его на крепкой привязи. Но вот когда ему пошел восьмой год, папаша Одуэн решил откармливать его для бойни, и Фердинан специально приехал из Сен-Маржлона, чтобы выхолостить его. Неделю спустя я вновь увидела быка, когда он проходил под окнами столовой. Бедный Этандар… от быка осталась лишь карнавальная маска. Дети теперь спокойно проходили у него перед самым носом, собака шныряла между ног, и даже если бы кто-нибудь развернул перед ним целый рулон красной материи, он все равно так бы и продолжал мирно жевать свою жвачку. У Этандара явно не осталось никаких политических убеждений.
Я упомянула о Дюрах, Бертье и Этандаре лишь затем, чтобы был более понятен мой рассказ об Одуэнах и Малоре. До 70-го Года никаких причин для разногласий у них не было. Между ними не возникало ссор ни из-за земли, ни из-за женщин. При встречах они обменивались только вежливыми, а то и дружескими приветствиями. Ненависть гнездилась главным образом внутри домов, там, где каждый чувствовал себя ближе к своим любовным и семейным привычкам. Случалось, что вечером, когда Одуэны сидели на кухне, невзначай произнесенное имя кого-нибудь из Малоре вдруг рождало ощущение рыскающей вблизи опасности, опасности, исходящей от вражеского дома; тело словно наполнялось ожиданием лицемерного и неприятного, но немного желанного объятия. Это ощущение, всегда краткое и неуловимое, рождало смутные и тревожные образы. Одуэны мысленно представляли себе определенную манеру держаться, присущую не Зефу, не Ноэлю и не Анаис, а всей семье Малоре, и это было видение, далекое от привычной повседневности. Когда старый Одуэн говорил о Малоре, что они странные, то он не смог бы объяснить, почему он испытывает к ним недоверие, но слова эти доходили до всех членов его семьи.
Оноре перестал ходить на мессу, а его жена и дети чувствовали в церкви себя неуютно прежде всего из-за присутствия там Малоре. Они всегда первыми поднимались всей семьей со своих скамей и, словно гонимые всепожирающей страстью, шли к алтарю. Всегда первыми подходили туда и возвращались на свои места с таким видом, будто захватили Бога, загнали в самый низ желудков и компрометируют его ради вящей его снисходительности к их альковным делишкам. Для Одуэнов это было ясно как Божий день, и Оноре довольно точно передавал восприятие своих домочадцев, когда в шутку рассказывал, как Зеф Малоре лишил невинности свою дочь:
— Значит, вернулся он в тот день, про который я тебе говорю, вернулся с вечерни вместе со своей Маргаритой, а перед этим, еще в церкви, когда она сидела на скамье для девочек, он заметил краешек корсажа, который она стала носить с прошлого года, отчего у него, у Зефа, собственно и появилась эта мыслишка. Так вот, пришел он домой да и говорит жене: «Анаис, сходи-ка отнеси господину кюре цыпленка, надо же порадовать человека. А я тем временем покажу малышке кое-какие штучки, которые могут ей пригодиться потом, когда она будет больше понимать в этом толк».
Только, значит, Анаис за порог, а наш Зеф уже толкает Марго в глубину кухни, уже стягивает с себя штаны; ну а девчонка тут в слезы: «Папочка, вы, наверное, совсем забыли, что я нахожусь под покровительством девы Марии?»
У Зефа тут прыти малость поубавилось, держится он одной рукой за штаны, а другой у себя в затылке чешет. Ты же ведь знаешь, какой он по части религии: тут уж шутки в сторону; а случай ох какой непростой — дочка-то находится под покровительством девы Марии.
«Я все беру на себя, — говорит он, заголяя ей задницу. — Молись, а заодно помолись и за меня». Малышка принялась читать свои молитвы, штук десять прочитала, и тут он начинает терять терпение:
«Ну ты как, скоро закончишь?»
«Еще один разок „Аве Мария“, папочка…»
Заканчивается «Аве», которую она растягивала, растягивала, сколько могла, глотала слезы, глотала.
«Да идешь же ты наконец?»
«Еще разочек „Отче наш“, папочка».
«Вот это уже хорошо, — говорит Зеф и хвать ее. — Во имя Отца…»
Детали были придуманы, но строго соответствовали представлению, сложившемуся в семействе Одуэнов о фарисейском бесстыдстве Малоре, которые, как казалось Одуэнам, даже самым вопиющим видам разврата предавались не иначе как получив предварительное согласие Бога. Даже ветеринар, который уже жил своим домом и который слушал столь скабрезную историю не без краски стыда и протестующих возгласов, находил в ней какую-то отраду.
Так что до 70-го года оба семейства получали лишь смутные, отрывистые уведомления об особом характере разделявшей их ненависти. Первым ясное представление о ней получил Зеф, и случилось это в. тот момент, когда ему на пути встретился немецкий дозор. Этот отряд с четким контуром прямоугольника, который приближался к нему строевым шагом полусапог, произвел на него впечатление своей мужской силой. Вспомнив о ходивших в округе слухах о грабежах и изнасилованиях, он представил себе дом Одуэнов, куда недавно украдкой прошмыгнули два ополченца; дом показался ему слабым и уязвимым, словно женщина, терзаемая добродетельной ложью, и он увидел в этом подходящий случай для самца. Внезапно им овладело неудержимое желание, чтобы эти мужчины набросились на дом, чтобы им передалось его стремление унизить Одуэнов в самом их чреве. Зеф не желал смерти Оноре, и, если бы у него было время поразмыслить, он не стал бы его выдавать. Однако, когда командир отряда спросил Зефа, он не смог удержаться и ответил автоматически. Оноре был глубоко удручен приключившейся с его матерью бедой, а еще сильнее тем, что стал ее очевидцем. При этом сам факт вовсе не казался ему страшной катастрофой: поскольку то, что сделал с его матерью баварец, доставило ей удовольствие, и у Оноре не было оснований считать ее обесчещенной. И не будь донос Зефа первопричиной происшествия, он даже вообще считал бы его издержкой военного времени и вычеркнул из своей памяти. Ибо тут Оноре не ошибался. Как бы ни противоречило это здравому смыслу, но он чувствовал, что предательство вмело сексуальную природу, что оно проистекало исключительно из жажды насилия. Не умея объяснить себе этого, Оноре тем не менее был убежден, что семейство Малоре как бы доставило себе удовольствие изнасиловать его мать по доверенности.
Единственным человеком, который нашел нужным тогда исповедаться, оказалась жертва, госпожа Одуэн. А вот Зеф счел себя невиновным, решив, что во всем этом деле он ограничился тем, что сказал баварцу правду, то есть проявил себя скорее даже с хорошей стороны, ибо сокрытие истины всегда грешно. Кюре Клакбю, немало узнавший от матери Оноре, был в курсе ненависти, которая тлела меледу двумя домами и грозила перерасти в конфликт, а то и в скандал. Он долго думал над тем, как бы вмешаться в события и предотвратить их неблагоприятное развитие, но ничего не придумал, и это его весьма огорчало. Он ограничился тем, что мысленно пожелал победы семье Малоре, одной из самых надежных в деревне, и призвал снизойти на нее благословение Господне.
XIV
В половине первого Анаис с дочерью уже убирали со стола. Тентен с завистью глядел, как раздетые до пояса отец и брат брились, стоя с обеих сторон окна. На стоявшей в углу кухни кровати Анаис разложила две чистые рубашки. Зеф положил помазок на подоконник и сказал, глядя на дочь:
— Надо бы нам лошадь купить.
Маргарита вполголоса рассказывала матери о том, какая у Одуэнов столовая. Зеф настаивал:
— Будь у меня свободные деньги, я бы обязательно купил лошадь.
Маргарита притворилась, будто сказанное ее не касается. Зеф уточнил мысль, привязав ее к другой, уже обсуждавшейся в семье теме:
— Это так же, как место почтальона; нужно ему сказать, как обстоит дело. Деода пора уже выходить на пенсию, и Ноэль сможет разносить письма не хуже любого другого.
— Но я же ведь обещала вам поговорить об этом, — сказала Маргарита с ноткой нетерпения в голосе.
— Поговорить мало, надо все окончательно решить. Это так же, как с лошадью…
— Уж не думаете ли вы, что он возьмет и купит вам лошадь?
Отец, шокированный тем, что его намек получил столь прямое выражение, ничего не ответил и стал править бритву о ладонь. Мысль о том, что депутат целых полдня будет находиться в распоряжении дочери, приводила его в нервное возбуждение. Помолчав для порядка, он продолжал:
— Все-таки есть вещи, которые тебе стоило бы понимать. Ты вот приехала, и у нас появились новые расходы, это же неизбежно.
— Я их с лихвой оплачиваю…
— Дело не в оплате. Но расходы есть. Работа пошла не так споро, изменились привычки, и еда теперь другая, а все стоит денег. Кроме того, не надо забывать и о том, что мы тебя растили… Да и время летит быстро, хотя и кажется, что медленно. Я говорю тебе о лошади, как прежде сказал бы о корове или о чем-нибудь еще, но ведь лошадь… от нее будет польза не только нам, но и тебе самой…
Он провел бритвой по левой щеке. Ноэль у другого конца подоконника был занят своей правой щекой. Анаис с грустью глядела на дочь. Ей хотелось было защитить от алчности отца любовь, которую она представляла себе неясной и возвышенной, но уже один только звук бегающих по жесткой коже бритв внушал ей робость. Перед тем как перейти к правой щеке, Зеф добавил:
— Да, и справься все-таки о табачной лавке. В конце концов я на нее имею право, я заслуживаю ее но меньше, чем многие другие. У меня трое детей, могут и еще родиться. Я потерял отца и почти взрослого сына. Ну и наконец, надо уметь объяснить. Если ничего не просишь, то ничего и не получаешь. И потом, может быть, есть еще что-нибудь, а не только табачная лавка; тебе удобней об этом справиться.
Мать сделала шаг к окну и нерешительно вмешалась в разговор:
— Ты не думаешь, что лучше было бы подождать, когда они поженятся, чем сразу столько просить у него…
Ноэль, отведя бритву в сторону, с ухмылкой повернулся к сестре:
— Поженятся? Когда рак на горе свистнет!
Зеф посмотрел на него, нахмурив брови. Как и Ноэль, он не обманывался насчет интереса, проявляемого Вальтье к Маргарите, но не хотел, чтобы ему об этом говорили вслух. Надо сказать, что и при иных обстоятельствах он тоже старался делать все втихомолку, поскольку по собственному опыту знал, что самые что ни на есть сомнительные ситуации не помеха, если не очень о них распространяться. Зеф впал цену учтивости и мог всю жизнь притворяться, будто не знает, что сосед его совершил преступление. У него в доме о Вальтье всегда говорили как о женихе Маргариты. Такая удобная формулировка вводила в заблуждение одну лишь Анаис; впрочем, и мать тоже полагала, что речь идет не о помолвке, а о некой престижной для ее дочери любовной связи, официальному освящению которой мешала только разница в социальном положении.
Мужчины надели свои чистые рубашки и в ожидании прихода Жюльетты уселись по обе стороны окна, сконфуженные ощущением собственной чистоты в будний день.
— Сидят прямо как у фотографа, — заметила Маргарита.
Анаис, которая ни разу не фотографировалась и со вчерашнего дня мечтавшая иметь такой же альбом, как у Одуэнов, попросила дочь еще раз описать его.
— И Алексис там есть? — спросил Тентен.
— Конечно, — ответила сестра, — там все есть, даже старики, которые уже умерли.
— Вот бы посмотреть его, этот их альбом, — сказала Анаис.
Зеф проявил не меньшее, чем Анаис, любопытство, он расспрашивал дочь, пытаясь представить себе группы по памяти, и комментировал:
— Жюль был хитрюга и твердый орешек. Так что его сын Оноре на него не похож.
— Оноре я видела в альбоме много раз. Есть одна фотография, где он в форме ополченца.
Зеф встал, чтобы отогнать тягостное воспоминание.
— А вы не были ополченцем, — сказал Тентен с оттенком сожаления.
— Я — ополченцем? — ухмыльнулся Зеф. — Признаться, не был. Негодяи, которые только и делали, что мародерствовали и пьянствовали, — вот что это такое, эти ополченцы. Причем с таким успехом, что, когда пришли пруссаки, люди были даже рады. В Шасне они, кажется, провели три дня в церкви с девками из Сен-Маржлона. Навесили на себя винтовки и сразу загордились! Оноре там очень кстати пришелся, все шастал из деревни в деревню с такими вот бандитами. Он сотню раз заслужил, чтобы его расстреляли…
— Все-таки Оноре неплохой человек, — запротестовала Анаис.
— А я говорю, что заслужил; заслужил и гораздо худшего, и что у него на роду написано, того ему не миновать…
Зеф тихо засмеялся и добавил, понизив голос:
— Да, да, ему не миновать… и, кстати, об этом, может быть, стоит потолковать с его Жюльеттой, а?
И он опять засмеялся своим тихим, зловещим смехом. У Маргариты даже кровь прилила к лицу от сказанного; она тоже засмеялась и, глядя на отца, сказала:
— Вы все только говорите. А вот придет она сейчас, и вы на попятную…
Ноэль встал, сделал шаг в сторону отца, как будто хотел что-то сказать, но снова сел, так ничего и не сказав. В кухне на короткое время воцарилось молчание. Все Малоре были заметно взволнованы. Отец приказал Тентену отрывистым голосом:
— Иди, нечего тебе тут делать.
Мальчишка хотел выиграть время, но взгляд Зефа заставил его уйти. Почти вслед за ним, прихватив корзину, вышла мать. Маргарита присела на край стола, прислушалась, как затихает звук ее шагов, потом, подняв руку к корсажу, прошептала:
— Она так похорошела, стала такой красивой. Вчера утром, у них в столовой, я прижала ее к себе, понимаете, так крепко прижала…
Миновав ряды яблонь, Анаис вышла на дорогу. Жюльетта Одуэн, которая была уже у дома Меслонов, громко окликнула ее. Анаис покраснела и прибавила шагу. Когда Жюльетта крикнула второй раз, та, не останавливаясь, повернула голову.
— Мне нужно кое-что купить, — прокричала она, помахав корзиной на вытянутой руке.
— А Маргарита?
— Она ждет тебя дома!
Войдя во двор к Малоре, Жюльетта заметила, что ставни кухонного окна закрыты. Она резким движением открыла их и увидела мужчин, сидевших по обе стороны окна к ней спиной. Они одновременно встали, раздосадованные, что их застали в этой попе ожидания.
— Я вижу, вы прихорошились, — сказала Жюльетта со смехом. Она смотрела на них с выражением веселого любопытства. Зеф, казалось, не слышал ее замечания и приветливо предложил:
— Войди на минутку, Маргарита еще одевается. Не на солнцепеке же ее ждать.
Ноэль поддержал отца кивком головы.
— Я не боюсь солнца, — ответила Жюльетта, — но раз уж вы так принарядились, чтобы встретить меня, то, так и быть, войду.
Она отошла от окна, направилась к двери и открыла ее небрежным движением. Когда она вошла в кухню, ставни были снова закрыты, и сердце у нее набилось сильнее.
— Из-за этой жарищи приходится прятаться в холодке, — сказал Зеф.
Мужчины стояли в тени, у окна, и она различала только светлые пятна их рубашек.
— Присядь, — сказал Ноэль, пододвигая ей стул, — не будешь же ты стоять.
Жюльетта вежливо отказалась. Голос Ноэля удивил ее какой-то особой мягкостью, созвучной таинственному полумраку… Ее волновало присутствие этих двух мужчин с медленными жестами, этот глубоководный покой, царивший в темной, прохладной кухне. Забыв о своей гордыне, которую она демонстрировала под палящим солнцем, Жюльетта доверчиво шла навстречу какому-то рискованному посулу. Ноэль шепотом медленно говорил об иссушающей равнину жаре. Светлые рубашки не двигались с места. Жюльетта опасалась уходящего времени и робости двух мужчин, ее охватила паника при мысли, что они, может быть, дадут ускользнуть почти прекратившей сопротивление жертве. Не решаясь подталкивать их словами, которые, несомненно, вырвали бы ее из счастливого оцепенения, она все же хотела дать им почувствовать свое волнение. Зеф вслед за Ноэлем заговорил об убранном в ригу урожае хлеба, и Жюльетта слушала шум их чередующихся голосов, которые наполняли кухню ровным мурлыканьем. Девушка молча сделала три шага в глубь кухни, где она различала отворот белой простыни, выглядывавшей из-под лежащего на кровати одеяла. Остановилась. Оба мужчины оставались на своих местах. Сделала еще три шага, дошла до края длинного стола и прошептала:
— Как у вас тут хорошо.
Когда она приблизилась к кровати, светлые рубашки в другом углу кухни зашевелились. Они перемещались медленно и тоже делали остановки. Двигаясь, оба мужчины продолжали разговаривать все той же монотонной и мягкой скороговоркой. Жюльетта, стоя в углу около кровати, видела, как они приближаются к ней, огибая стол с двух сторон. Не проявляя нетерпения, она, как счастливая сообщница, издала легкий стон, походивший на приглашение. Однако, когда мужчины обогнули стол, она позвала:
— Маргарита!
У Зефа вырвался смешок, и он пробормотал:
— Да-да, зови Маргариту, зови.
Жюльетта сказала еще раз:
— Маргарита…
Они стояли возле нее. Ноэль взял ее обеими руками за голову; она оттолкнула его, но Зеф так сильно сжал ей плечо, что она почувствовала, как ногти входят ей в тело. Другой рукой он сжимал ей грудь и повторял глухим голосом:
— Ну, зови же Маргариту…
Ноэль с яростной нежностью тянул ее за волосы, шепча ей в ухо неистовые слова. Она почувствовала, как по ее телу бегают сильные руки, ощупывают ее, задерживаются, теряют терпение. Зеф торопливыми движениями поднял ей юбку и край панталон; в полутьме показалось белое тело, и оба мужчины наклонились над ней, голова к голове, со смешками, в которых смешались тоска и нетерпение. Не отпуская полос Жюльетты, Ноэль взялся рукой между штанинами панталон и потянул девушку к изголовью кровати, а отец подталкивал ее, держа ее руки прижатыми к телу, и срывающимся голосом говорил:
— Все-таки, а все-таки…
— Пустите меня, — жалобно простонала Жюльетта. — Я не хотела… клянусь вам, я не хотела…
Она подумала об Оноре, о доме, где ее ждали, и ее охватил жгучий стыд. Она сделала резкое, сильное движение; Ноэль получил удар в лицо, который заставил было его заколебаться, но, разъярившись, он тут же оправился и одним рывком бросил ее на постель. Жюльетта, закрыв глаза, чувствуя, как из груди ее рвется наружу вопль стыда и наслаждения, ожидала развязки, но тут вдруг послышался стук в дверь. Оба Малоре отпустили свою жертву и, затаив от испуга дыхание, отошли от кровати. Жюльетта вскочила на ноги и крикнула:
— Войдите! Войдите!
Деода толкнул дверь и сказал:
— Добрый вам день, это я, почтальон.
И он засмеялся, потому что действительно был почтальоном. Он зашел к Малоре не случайно, его привели туда его обязанности почтальона. Утром он отправился в Вальбюисон, а потом, степенно шагая размеренным шагом почтальона, вернулся оттуда с забитой письмами сумкой. Между домами Дюров и Коранпо он немного помочился у изгороди, без особой на то нужды: вот эти-то минуты и записались на некий драгоценный счет (если допустить, что он пришел слишком, рано). Но он не знал этого, ну ничегошеньки не знал, потому что это не относилось к его работе. Хорошие почтальоны никогда ничего не знают, они просто мочатся у изгороди, вот и все. Потом он зашел к Бертье, к Рюзийонам и пошел дальше, как обычно, по тропе между яблонями. Хорошие почтальоны просто входят в кухни и говорят: «Это я, почтальон», — и молодые девушки оказываются спасенными от злого умысла. А все потому, что почтальоны хорошо знают свое дело.
Зеф с сыном злились на него из-за только что испытанного страха, а он спокойно смотрел на них своими фарфоровыми глазами.
— Я запоздал, — сказал он, — но это потому, что поезд опоздал больше обычного. У меня есть письмо для Маргариты.
Жюльетта, поправляя прическу, смотрела на его большую круглую голову, сидевшую у Деода, как и у всех людей, на плечах; в этот момент он наклонил ее в левую сторону, чтобы удобнее было смотреть в почтовую сумку; это так говорится: чтобы удобнее смотреть, а на самом деле просто потому, что он был добрый.
— Деода, мой настоящий друг, вы хороший почтальон!
— Я делаю свое дело, — мягко ответил Деода. — А Маргариты что, нет дома?
Зеф протянул руку за письмом.
— Она одевается, сейчас выйдет, — сказала Жюльетта. — Мне бы хотелось, чтобы вы подождали ее вместе со мной во дворе. Там и отдадите ей письмо.
— Хорошо, малышка; а вам обоим до свиданья. Передавайте привет Анаис.
Жюльетта хлопнула дверью, оставив Малоре одних, и во дворе, на солнце, потянулась.
— Я вас очень люблю, Деода.
— Надо быть поосторожней, малышка, — пробормотал почтальон.
— Вы знаете, я не виновата.
— Надо быть поосторожней, вот и все. Однажды, когда тебе было пять лет, да, точно, пять лет, ты заблудилась и плакала около леса на дороге, что ведет и Вальбюисон, и я привел тебя за руку домой, когда делал свой обход. Если бы жена была еще жива, она бы подтвердила мои слова. Она еще дала тебе тогда грушу. Сорвала с грушевого дерева, что росло возле угла дома, ты должна помнить, это были груши, которые назывались «кюре». Жена любила их.
Из дому вышла Маргарита и обняла Жюльетту.
— У меня есть для тебя письмо, — сказал почтальон.
Маргарита прочитала письмо, сунула его за корсаж, и они втроем пошли вниз по тропе между яблонями. Когда почтальон оставил их одних, Маргарита сказала Жюльетте:
— Тебе не повезло; он пришел как раз в самый момент… ты-то небось думала, что уже все, так ведь?
— Ты же сама знаешь, что я не хотела, и то, что мы приняли меры предосторожности, подтверждает это.
— Это всегда так: не хочешь, а потом оказываешься довольна тем, что случилось, когда это не по нашей вине.
— Тебе нравится, вот за себя и говори, — сердито сказала Жюльетта.
— Ну нет, это скорее как раз твой случай… я-то из всего этого не делаю таких сложностей. Я вот знаю, что ты вбила себе в голову заставить меня переспать с твоим отцом; ну и хорошо, я соглашаюсь, потому что я от этого получаю удовольствие. Не говоря уж о том, что Оноре тоже будет доволен, и я его понимаю…
Жюльетта покраснела, а Маргарита со злостью в голосе добавила:
— Ведь обычно-то с такой женой, как у него, ему от любви не много радости.
— Если ты думаешь, что все мужчины такие, как и твоей семье, то ты ошибаешься. Моему отцу пленить на все, он ни в грош не ставит то, про что ты мне тут рассказываешь…
— Ну это еще как сказать. И потом, почему же ты зашла ко мне в час, а? Вальтье-то должен был приехать только в три.
— Нет, не в три. В час. Я сделала все, как мне сказал мой дядя Фердинан.
Маргарита вытащила из-за корсажа письмо, которое ей вручил почтальон.
— Я только что получила записку от Вальтье. Вот что он пишет: «Моя дорогая неистовая малышка. Твой толстунчик депутат приехать в Клакбю в четверг в три часа пополудни, как мы с тобой договаривались, не сможет…» Ясно? И он просит меня приехать к нему в Париж, куда его вызвали раньше, чем он рассчитывал. Но он говорит: «в три часа».
— Так ты завтра поедешь? — смущенно спросила Жюльетта.
— Нет, не завтра. Пятница не слишком подходящий день для поездок. Уеду в субботу утром, причем без малейшего сожаления. В родных краях, знаешь, что-то невесело. Красивой девушке тут часто не хватает того, чего она заслуживает, особенно во время жатвы. Ты-то небось тоже скучаешь здесь, а?
Жюльетта пожала плечами.
— Раз твой депутат не приехал, то тебе теперь и утруждать себя не стоит.
— Поскольку мы уже почти пришли, то мне не хочется возвращаться назад, не поприветствовав Оноре.
Когда они вошли во двор дома, Одуэн кивнул им из окна столовой, и Маргарита заметила Жюльетте:
— Я смотрю, твой отец тоже надел чистую рубашку.
XV
Оноре, весьма довольный тем, что успел побриться, высунулся из окна и приветливо улыбнулся Маргарите.
— Депутат написал, что он не приедет, — объявила Жюльетта дрожащим от гнева голосом, — но Маргарита все-таки напросилась к нам; вот ведь настырная, вся в папашу, а то еще и хуже!
Одуэна, пораженного особым блеском ее глаз, внезапно охватило беспокойство, и он спросил:
— Зеф?
— Вы лучше спросите у его дочери, может она вам расскажет.
Жюльетта ушла в ригу, где мать в предвкушении интересных событий занялась стиркой.
— Что случилось? — спросил Одуэн. — Черт подери, если бы я знал…
— Да ничего не произошло, — ответила Маргарита, — на этот счет будьте спокойны. Когда я повернулась к ним спиной, Ноэль ущипнул ее за руку. Так что, как видите, ничего особенного… Пригласите же меня войти, снаружи так жарко.
Не дожидаясь ответа Оноре, она вошла к нему в столовую, заперла дверь на задвижку и закрыла окно.
— Жалюзи опускать не буду, я люблю видеть то, что делаю, — сказала она.
У Оноре сразу вылетели из головы все вопросы, готовые минутой раньше сорваться с его уст. Он вдруг сделался слабым, как ребенок. Маргарита сняла с себя платье, юбку, потом блузку, а. он стоял, не находя, что же ей сказать. Она осталась в одном корсете, из-под которого выглядывала тонкая ажурная сорочка, перевязанная голубой лентой, и в очень коротких панталонах, кружевная оторочка которых позволяла видеть чулки едва ли не выше колен. Оноре обошел вокруг нее, протянул руки, чтобы схватить ее, но она увернулась и побежала к камину.
— Я заведу часы, очень люблю знать время.
Не отрывая взгляда от изогнутой линии корсета, он двинулся за ней.
— А я и не предполагал, что у тебя здесь такие богатства, — прошептал он.
Маргарита подняла стеклянный колпак и стала искать ключ за спиной Земледелия.
— Оставь, он, наверное, потерян, — сказал Одуэн.
— Его, скорее всего, положили вниз.
Она сунула руку под часы и вынула конверт.
— А вот и почтальон, — сказала она со смехом, так как подумала в это время о настоящем почтальоне, о том, который спокойно делал свое дело.
Оноре взял письмо, досадуя на эту помеху. Пока Маргарита, которой удалось найти ключ, заводила часы, он пробежал его глазами:
«Мой дорогой Оноре. В начале недели у вороного случились колики…»
Он все понял с первой строчки и положил письмо в карман. Обстоятельства этого открытия сначала поразили, а потом развеселили его, и теперь, преодолев скованность, он смотрел на Маргариту уже более безмятежным взглядом. Глядя на кончик сорочки, который, словно хвост спаниеля, торчал из прорехи панталон, он внутренне улыбнулся. Он уже вполне овладел собой, чтобы критически оценить свою минутную слабость. Он вспомнил гнев дочери, и сказанное ею. Может быть, Малоре повели себя более дерзко, чем следовало из слов дочери Зефа. Во всяком случае, что-то там произошло, и поведение Жюльетты свидетельствовало об этом достаточно красноречиво. Оноре упрекнул себя за легкомыслие, с которым он чуть было не бросился в объятия этой девчонки в корсете.
«С этими Малоре нужно всегда хранить свою злость при себе».
Он посмотрел на обнаженные руки, на плотно облегающий талию корсет, на оттопырившиеся вокруг ягодиц панталоны и пожал плечами.
«Если они плохо обошлись с Жюльеттой, то пусть не воображают себе, что за подобное оскорбление можно расплатиться вот этой молодой потаскушкой. Слишком все было бы просто. Такая шлюха, что даже семья ее стыдится, — ее и за Малоре-то нельзя считать».
— Я их ставлю на два часа, — прервала его раздумья Маргарита.
— Как хочешь, — громким голосом ответил Оноре и продолжил свои размышления: «Надо же, какой я все-таки дурак; чуть было не поддался поначалу. У Эрнеста глаз понаметаннее, чем у меня; он сразу понял, что все это не имеет смысла…»
Маргарита поставила стеклянный колпак на место и повернулась к Одуэну:
— Хорошие новости?
— Просто старое письмо болталось тут…
Маргарита улыбнулась, прижалась к нему, подняв грудь, и положила голые руки ему на плечи. На него пахнуло сильным запахом из-под мышек и ландышем, ноздри у него затрепетали, и он подумал: «Словно я оказался вдруг в доме 17 на Птичьей улице…» Он ощущал у себя на шее мягкую округлость двух рук и был совсем близок к тому, чтобы сдаться.
Но тут он посмотрел поверх плеча девушки в окно и увидел уходящую вдаль равнину. Он увидел равнину и там себя, работающего в поле, рядом с Аделаидой и детьми. Он подумал о дочери, о той, что появилась вслед за старшим сыном, которая так хорошо помогала ему и в мести, и в молотьбе; какая же она все-таки у него работящая. Подумал он и о жене, которая была отнюдь не красивой, уже постаревшей в стирках и в работе на полях, которая, по правде сказать, никогда и не была красивой, но которая родила ему его детей, родила между двумя стирками, ложась лишь для того, чтобы в муках произвести их на свет. И, вспомнив о своей работе и о тяжком труде своих женщин, Одуэн устыдился этих белых рук, что обхватили его шею. Ему стало неловко на них перед раскинувшейся за окном равниной. Но девка была свежая, она приклеилась к нему, прижалась животом, ляжками. Одуэн сделал над собой тяжкое усилие, как если бы пытался вырваться из объятий смерти, и сказал молодой потаскушке:
— Раз твой милый друг не придет, тебе лучше одеться.
Он мягко отстранил ее и направился к двери. Когда он стал открывать задвижку, Маргарита подбежала к нему, обняла его, обвила своими ногами его ноги и захныкала по-бабьи. Однако он, стойкий, как снятой, от сознания, что у него есть работящая, не обращающая внимания на тяготы жена да еще дочь, неутомимая в работе, как и ее мать, донес девицу на своей спине до половины коридора. Он бы так и вынес ее во двор, если бы она не отпустила его; она возвратилась в столовую, надела блузку, юбку, платье и пошла к себе домой.
Аделаида в риге стирала на своей стиральной доске белье, а Жюльетта, вороша вилами наваленную там солому, рассказывала ей о том, что произошло в доме у Зефа. Время от времени мать выпрямлялась, раскрыв от негодования рот, потом снова наклонялась над корытом и терла с таким остервенением, что кожа у нее на руках буквально горела.
— Посмотрите, — сказала Жюльетта, поднимая юбку, — они мне все-таки порвали панталоны, панталоны из хорошей материи, которую мне подарила тетя-ветеринарша.
— Они еще узнают, сколько это стоит, — неистовствовала Аделаида.
Потом тоном ниже заметила:
— Эти панталоны не для будних дней, нечего тебе было их надевать сегодня…
В свое замечание про панталоны она не вкладывала никакого особого смысла, но Жюльетту слова матери привели в такое смущение, что она замолчала и, застыв с повисшими в воздухе вилами, стала искать объяснение.
Тут вошел Оноре, переполненный гордым сознанием своего могучего, замечательного благоразумия, и сообщил о том, что с ним произошло, сказав напоследок, что если им хочется посмотреть, как плутовка убегает, то можно это сделать через приоткрытую дверь. И действительно, вскоре девушка быстрым шагом пересекла двор, хотя и не настолько быстрым, чтобы до ее ушей не донесся громкий смех Аделаиды, который она, однако, оставила без ответа.
— А все-таки она красивая, — пробормотал Одуэн.
— Большая стерва, вот кто она такая, — тут же возразила Аделаида, — прости господи, бесстыжая к тому же, как сука в течку. Да и тебе нечего корчить из себя невинного; если бы Жюльетта тебя только что не предупредила, жди, вышел бы ты так скоро из дому.
Она бросила на него разгневанный взгляд, и Одуэн ответил, что это с ее стороны все же слишком. Теперь она на него еще и ругается.
— А то как же, без Жюльетты ты бы так ничего и не понял. Тебе бы и в голову не пришло, что до того, что может приключиться с Маргаритой, Зефу такое же дело, как если бы она была дочерью Дюра или Коранпо. Ты не понял или делал вид, что не понимаешь, потому что тебе захотелось воспользоваться… Да-да, молчи уж. Будто ты не такой же, как остальные… Только и думал о зефовой дочке, аж спать перестал, а свою собственную отпустил к Зефу, положившись на волю Бога и почтальона…
— Да в конце концов! Хватит орать; расскажи лучше, что там с ней произошло?
Аделаида рассказала все как было, кое-что добавив от себя, во всяком случае, ничего не опустив и даже повторив некоторые подробности. Она вошла в раж и уже чуть было не довела рассказ до драматического финала, но тут вмешалась Жюльетта:
— Мам, как раз в этот момент пришел Деода.
— Да, но это чистая случайность.
— Неважно, — отрезал Одуэн, — он пришел, когда было нужно. Говорю это не потому, что хочу оправдать Малоре. Они-таки еще получат свое…
— Что получат? Ты столько раз говоришь…
— Что вы собираетесь сделать?
— Сделаю то, что сделаю.
— После дождичка в четверг.
— Когда раки на горе свистнут.
— А пока они знай себе рвут ей панталоны.
— Которые подарила ей ее тетка Элен.
— А синяки, которых они мне наставили на бедрах.
— Так они ее лапали.
— Причем сразу вдвоем.
— Зеф со своим сыном.
— Лапали за ляжки и где хотели.
— Сейчас сказать не могу.
— А ты скажи, скажи.
— Совсем новенькие панталоны.
— Ну, всего не скажешь.
— Ты тут ни при чем.
— Пока я все-таки лучше помолчу.
— Ты же видишь, что они ей наделали.
— Хотя я ведь защищалась.
— Твоей дочери.
— Вдвоем на меня одну.
— Твоей дочери, а ты и пальцем не шевельнешь.
— Уж не говоря о том, что мне было больно.
— Скажи, скажи об этом своему отцу!
— Только не думайте, что я жалуюсь.
— Он, твой отец, похоже, даже доволен.
— Ноэль тащил меня за волосы.
— А его это мало трогает.
— И в другом месте тоже.
— А твой папаша в это время спокойненько поджидал свою прости-господи.
— И Зеф хватал меня везде.
— А твой папаша спокойненько поджидал себе ее, и все.
— Обеими руками, и вверху, и внизу.
— У твоего папаши хороший характер.
— Если на то пошло, то Деода, может, и не приходил вовсе.
— Он смеется над тобой.
— Он вполне мог задержаться в пути.
— В то время как Малоре тешились, как хотели.
— У него и письма-то для них не было.
— А Анаис сидела в углу.
— Сторожила.
— И Маргарита тоже.
— И Тентен.
— Там не хватало только твоего отца, чтобы повеселиться вместе с ними.
— Они пользовались тем, что почтальон не пришел.
— Да у него-то и письма для них не было.
— Ему незачем было и приходить к Малоре.
— И ты осталась с ними одна.
— Они были впятером.
— Столько, сколько они хотели.
— А что делать.
— Вот как они поступают с нашими дочерьми.
— Я защищалась, как могла, но что вы хотите.
— Когда отец не защищает своих дочерей, то может произойти все, что угодно.
— Я могла бы, как и другие, выйти замуж.
— Ты этого не заслужила.
— Я могла бы иметь детей.
— Дети! А теперь вот забеременела от этих Малоре, и куда только я глядела! Вместе с твоим отцом, простофилей…
— Да скажите же вы мне наконец, как все-таки обстояло дело!
— Чего тебе еще надо, раз я говорю, что она забеременела?
Одуэн посмотрел на обеих женщин и по глазам Жюльетты понял, что почтальон все же прибыл вовремя. Он вышел во двор и там, на солнце, обдумав случившееся, пришел к выводу, что почтальон вполне мог и не прийти. Приход его показался Одуэну столь чудодейственным, столь неправдоподобным в своей реальности, что он согласился допустить, пока все не разъяснится, будто его дочь забеременела от семьи Малоре. Возвратившись в ригу, он сказал женщинам:
— Так, дочка, значит, беременна, но ведь в конце концов Малоре подстроили свою ловушку точно так же, как я свою. С моей стороны это тоже было нехорошо. Предположим, что ты, Жюльетта, мне ни о чем бы не сказала, а наоборот, совсем наоборот, то что бы тогда произошло, а?
— Но вы-то, вы уж, наверное, не стали бы принуждать Маргариту.
— Нет, не думаю. Но все-таки это не дело: поджидать народ, чтобы все шли подглядывать к твоим жалюзи. Это вы натолкнули меня на такую совершенно бабью мысль. И теперь мне стыдно за нее.
Он сплюнул в корыто, в котором стирала Аделаида, точнее, сделал вид, что плюет, просто чтобы показать, что он не согласен с методами своей жены.
— Вы великодушничаете, — сказала Жюльетта, — но я-то, может быть, забеременела, и письмо находится в руках Малоре.
— Что верно, то верно, — вздохнул Оноре, — письмо у них. О! Об этом я тоже помню…
При этих словах он потрогал в кармане конверт.
Аделаида вдруг оставила свое корыто, вышла из риги и, вытирая на ходу руки о передник, побежала в столовую. Когда она услышала тиканье часов, подозрения ее усилились. Она подняла стеклянный колпак…
— Ты что, завел часы? — спросила она у Оноре, возвратившись в ригу.
— Я? Нет, я не заводил.
— Тогда, значит, зефова дочь…
— А! Да, возможно, что и она… когда я выходил, мне показалось, что она была возле часов. А что такое?
— Ничего…
Жюльетта уже вышла и помчалась к группе Земледелия и Промышленности.
Оноре, обдумывавшему дерзкие способы мести, нужен был в качестве движущей силы гнев его женщин. Он не без удовольствия слушал, как кричат в риге, заходясь неистовой злостью, мать с дочерью.
— Письмо, конечно же, у них!
— И вот посмотрите, они его ни за что не отдадут!
— А нам придется глотать все обиды!
— Зеф теперь только и ждет, чтобы стать мэром и тогда показать его всему свету!
— О нас пойдет слава хуже, чем о шлюхах!
— Из-за какого-то письма!
В конце концов у Одуэна тоже начали сжиматься кулаки, и в глазах его засветилась ярость.
— Они вернут мне письмо. Я сумею заставить их отдать мне письмо.
Соображения кобылы
Посмертная слава Мюрдуара позволяет мне, путешествуя с выставки на выставку, бывать в различных столицах Европы. Я вижу, как жители крупных городов занимаются любовью, как они к этому готовятся, и я испытываю к ним постоянную жалость. Это зудит у них то в мозгу, то в благородном сердце, а чаще всего между подвязкой и поясом и является не более чем угасающим отголоском желаний, унылой чередой агоний, бесконечной погоней за наслаждениями. Они испытывают мелкие хотения, которые пристраивают понемногу где придется: на улице, в складках проплывающих мимо платьев, в своих домах, на спектаклях, в мастерских, в конторах, в книгах, в чернильницах. Пылкий возлюбленный, добродетельная супруга полагают, что они хранят верность одной великой страсти, неистовой либо спокойной, а между тем предмет этой страсти видоизменяется, а то и просто меняется этак полтора миллиона раз (если округлять по верхней цифре) на день. Мужчина клянется, что влюблен в женщину, что не знает более очаровательного создания, так же как он говорил бы: «И все-таки лучше всего, причем исключительно дешево, кормят в ресторане „Улитка“». Он делает все что может, чтобы попасть в этот ресторан и прибыть туда без опоздания. Но если вдруг сбивается с пути и встречает по дороге более привлекательный ресторан, то что ж: он поест не в «Улитке». А если все-таки поест там, то в пути еще испытает тысячу сожалений: вот этот ресторан слишком дорогой, этот — переполнен, этот — совсем незнакомый. В больших городах не существует вожделений, а есть только смутное хотение позаниматься любовью, хотение как-то реализовать свою жажду любви. Однажды, когда я на протяжении целых трех недель фигурировала в одной из ретроспектив произведений Мюрдуара, напротив меня висело полотно, известное всем под названием «Одинокий кавалер». Между двумя рядами, стоящих вперемежку красивых и некрасивых, молодых и старых, худых и пышнотелых женщин, идет мужчина. Он держит голову прямо, ничего не видит, лицо морщится от сожалений и мелких переживаний, но зато нос его принюхивается, а руки готовы обнимать. В его угрюмые, глупые и потерявшие надежду глаза искусство Мюрдуара привнесло легкое свечение, что-то вроде смиренно-похотливой жалобы, жалобы Вечного Жида, ежедневно и еженощно расстающегося со своими пятью су. Я видела, что в городах все мужчины прогуливаются между двумя рядами женщин: женатые, холостые, любовники, юноши, старики, здоровяки, хромые, больные, подагрики, дураки, сердцееды, остряки — все они идут и идут, прогуливаются до самого своего смертного часа. Женщины, те ведут себя несколько более спокойно: они ждут, когда мужчины наконец решатся; и даже тогда, когда они, стиснув зубы и расставив веером пальцы ног, что-то нашептывают друг другу, они не перестают наблюдать и иногда знаком дают понять, что свободны. Это если говорить о городах.
В Клакбю же дело обстояло иначе. Разумеется, и Дюрам, и Бертье, и Коранпо тоже случалось играть в «одинокого кавалера». Но были еще и семьи или, точнее, дома, которые находили себе пищу на месте, подобно вросшим в землю деревьям. Их желания не походили на переменчивые хотения, на мимолетный зуд; то были желания обустроенные, аккуратно уложенные в бухты, медленно вынашиваемые и поддерживаемые безотказной памятью. Отец, дети, мать могли играть в «одинокого кавалера», но в то же время дом стоял на страже, обуздывая желание.
Напоминающее тяжелую, упругую жабу словосочетание «плотское вожделение» обретает свой полный смысл лишь тогда, когда речь идет о сидящих на земле семьях. Тяжелые наслоения чувственных аппетитов, годами не подающие голоса исполинские желания возможны только в деревне, где дома по-прежнему остаются живыми существами, которые наблюдают друг за другом, ненавидят друг друга, стонут от одного и того же порыва ветра, задевают и толкают друг друга руками, вспахивая и перепахивая землю.
В Клакбю подобные семейные желания удовлетворялись отнюдь не всегда, но тяготели к этому денно и нощно. Среди прочих примеров можно назвать пример семей Коранпо и Русселье, которые ненавидели одна другую на протяжении трех тысяч лет. Однажды зимним вечером Коранпо и два его старших сына ворвались к Русселье и изнасиловали нескольких женщин. С тех пор отношения между двумя домами значительно улучшились, словно все вдруг оказалось окончательно высказанным, а предмет спора — исчерпанным.
И у Одуэнов и у Малоре очень редко, да и то лишь ненароком, кто-либо из членов семьи вдруг начинал понимать наличие этого накопленного домом заряда чувственной ярости. Каждый Одуэн в отдельности искал свои любовные утехи, совершенно не заботясь о существовании Малоре; в этом отношении роман Жюльетты и Ноэля был чистой случайностью. Как одна, так и другая семья, будучи особами простыми, обладающими некой сексуальной, инертностью, некой почти неизменной реальностью и единой волей, не походили ни на кого из своих представителей, которые все отличались неуравновешенным нравом и находились в постоянном противоречии с собой; семьи заимствовали у индивидов кое-какие запасы энергии, чтобы перемешать их, скомбинировать, собрать и при случае вернуть эту энергию обратно, но только в более динамической форме.
Кюре Клакбю был осведомлен обо всех преимуществах этих семейных хранилищ и отводил им роль регуляторов. Ибо он знал, что для «одиноких кавалеров», находящихся во власти неизменно опасной для религии озабоченности, они способны выполнять своеобразную функцию отвлекающего средства, знал и использовал все свое влияние, чтобы содействовать этому. Однако знал он и то, что такие заряды порой взрываются, порождая крупные скандалы. Взрывы случались достаточно часто, и, если по нее они могли сравниться по силе с тем, что имело место в отношениях между Коранпо и Русселье, недооценивать их опасность все же не следовало. Побежденная семьей Коранпо семья Русселье, которая в былые времена принадлежала к разряду благонамеренных, испытала затем отвратительное влияние победителей, в большинстве своем безбожников, позволила им сбить себя с пути истинного и с тех пор ходила уже на мессу лишь по привычке. Впрочем, бывало и так, что кто-то, напротив, возвращался на стезю добродетели. Следовательно, клакбюкскому кюре, коль скоро он хотел в определенной мере направлять в нужное русло для вящего блага всей паствы сексуальные задатки ее членов, важно было знать, как они проявляются во всех подопечных ему семьях. И тут ему приходилось решать весьма головоломные проблемы. Скажем, если исходить из наличия существующего между двумя семьями взаимного сексуального притяжения, то вытекает ли из этого, что данные семьи принадлежат к различным полам? И как тогда определить, какой дом является мужчиной, а какой женщиной.
Мне не довелось познакомиться с трудами клакбюкского кюре, а получить необходимые сведения от него самого уже не представляется возможным: похоже, что после такой примерной властительно-бдительной жизни бедняга впал в детство и теперь гуляет по клакбюкским дорогам, сквернословя и проповедуя братство людей. Бог помогает ему умереть спокойно, как, впрочем, и нам тоже. Так что, не будучи никоим образом приобщенной к его трудам, я попыталась решить проблему пола семей самостоятельно, но похвастать, что мне это удалось, все же не могу.
Мой безыскусный ум не сумел избежать одной ошибки, которая заключалась в том, что я стала рассматривать семью как сумму составляющих ее индивидов; получалось, что в разряд домов-самцов попадали такие дома, где существенно преобладало мужское население. Мне казалось, что этот способ определения можно улучшить, принимая во внимание темперамент каждого индивида. Не вдаваясь в подробности моего исследования, я хочу коротко рассказать о результатах: Оноре и его сыновья в своих предприятиях с женщинами вели себя смелее, чем мужчины Малоре; они также отличались большей вспыльчивостью и чаще употребляли крепкие выражения. Зеф и его сыновья в погоне за удовольствиями проявляли упорство и не слишком отягощали себя какими-либо угрызениями совести, но при этом самая красивая девушка в мире не стоила в их глазах арпана земли. Они были осторожны, терпеливы и оттачивали втихомолку свои желания до тех пор, пока не представлялся удобный случай; с другой стороны, они имели гораздо больше власти над своими женщинами, чем Одуэны над своими. Все эти качества, многие из которых считаются мужскими, всегда вызывали у меня массу вопросов. Эротические привычки Малоре, их наклонности отнюдь не выглядят более убедительными. Взять, например, кровосмесительные традиции Малоре: свидетельствовали ли они о мужской страстности глав семейства или же, наоборот, об их неспособности получать удовольствие за пределами семьи, что заставляло их расходовать свои силы внутри нее.
В конце концов я убедила себя, что нужно рассуждать не мудрствуя лукаво. Семья — это цельное, похожее на ребенка существо, понять которое не составляет никакого труда. Ранее я уже обращала внимание на то, насколько все-таки легко описывать «созидающие гармонию» совокупности. Так, о городе говорят, что он гостеприимный, многолюдный, что там вкусно кормят и так далее еще на три строчки, о провинции говорят проще: у нормандцев, например, румяные щеки, они хитрые и пьют много сидра; о нации — у галлов были светлые волосы. Надев очки, увеличивающие расстояние, я стала изучать Одуэнов и Малоре приблизительно так же, как изучала бы галлов.
Рост семьи Одуэнов равнялся одному метру семидесяти сантиметрам, у нее были темно-русые волосы, серые глаза, четкие очертания лица, сухие, но мускулистые конечности и правильно изогнутые ступни. Нрава она была меланхолического, но порой разражалась длившимся целую неделю громким смехом. Любила работу, рагу, крупные попойки и шумные беседы. Легко поддавалась плотским искушениям, но отличалась нежным, великодушным сердцем.
Семья Малоре носила обувь сорокового размера, была коренастой, лицо у нее было бледное, а волосы — черные. Любила деньги, но работала неохотно, будучи умеренной в еде, не любила ни сытные трапезы, ни добрые вина. У нее была одна улыбка, обращенная к дневному свету всех людей, и другая, — обращенная к ее собственной ночи. Неподвластная сильным вспышкам гнева, она хронически пребывала в состоянии холодного бешенства, которое всегда держала под строго рассчитанным давлением. Еженощно один час она тратила на ненависть к семье Одуэнов, бодрствуя со сжатыми зубами и выжидающей плотью.
В общем, две семьи весьма отличались одна от другой внешностью, вкусами, привычками, но при этом не обладали ничем таким, что хотя бы условно можно было бы назвать полом. И тут я позволила себе сделать вывод, что пола у них и не было. Вывод очень смелый, но он убедительно объяснял природу подобного неустанного накопления чувственных хотений как в одном доме, так и в другом. Не располагая соответствующим органом, дабы реализовать свое желание, семья аккумулировала его. Поэтому-то у нее и не было никакой жизненной необходимости обрести тот или иной пол; за исключением отдельных частных случаев, семья являлась существом вечным, которое не воспроизводило себя, поскольку выполнять эту функцию надлежало составляющим его индивидам.
Было приятно сознавать, что в Клакбю чувственная любовь является не только ловушкой, устроенной ради сохранения вида, что она существует там абсолютно самопроизвольно и не ищет для себя оправданий. И я могу гордиться тем, что именно я, заключенная в двухмерное пространство кобыла, сделала это очень важное открытие. Деревня походила на своего рода магнитное поле, где существа в той мере, в какой они были проницаемы для этих таинственных сил, более или менее быстро впитывали их; те же из них, кто обладал половыми признаками, по возможности освобождались от полученного заряда, а те, кто таковых не имел, накапливали запасы. Когда семья достигала определенной степени эротического насыщения, она использовала своих мужчин либо женщин для того, чтобы реализовать свое желание. Семья Одуэн, долго колебавшаяся между мужским и женским полом, наконец решилась.
Мне кажется, что о любви в семье Одуэн я рассказала все, что только можно, во всяком случае основное. Кое-что я, конечно, опустила, но руководствовалась я при этом исключительно заботой о соблюдении приличий и о чести семьи. Ибо, запечатлевая на бумаге это мое скромное свидетельство, я не ставила перед собой никаких иных целей, кроме служения добру. Романисты — люди несерьезные; истории разные рассказывают, а что касается морали, то это как получится. И вот говорю нимало не гордясь: хорошо, что в такой ситуации нашлась зеленая кобыла, сумевшая извлечь из этого романа прекрасный и примерный урок, который заключается в следующем: любовь не может быть долговечной, а следовательно, и счастливой, если она не освящена семейными узами.
XVI
После мессы Дюры (или Бертье, или Коранпо) шли навестить тех Дюров, которые уже умерли, чтобы снискать их благосклонность, а заодно и нагулять аппетит. Покидая их, они расправляли плечи в своих воскресных одеждах, довольные тем, что живы, что торопятся за обеденный стол, дабы заполнить образовавшуюся от страха впадину в животе. К тому же они немного сердились на покойных Дюров. Раз те уже умерли, то теперь им незачем было называться Дюрами (или Бертье, или Коранпо). А то ведь придешь их навестить — и невозможно что-либо понять. Дюры наверху, Дюры внизу — одна и та же семья; впору потерять уверенность в том, что находишься наверху. А это было не так уж приятно: тут возникала еще какая-то дополнительная связь помимо проповедей кюре. Кюре тоже старался припугнуть: говорил про тощих коров и про разорение, грозящее плохим прихожанам, тем, кто слишком усердно тискает своих жен или же пренебрегает своими обязанностями по отношению к ближнему и церкви. Но вот когда он говорил о смерти, то его проповеди не устрашали: он сердился лишь на души, и тут ни у кого не было возражений. В каком-то смысле это, скорее, доставляло им удовольствие. Слушая его, никто не видел себя приближающимся к концу пути, все продолжали идти.
А вот с Дюрами, лежавшими внизу, так уже не получалось. Они лежали, уложенные в ряд, вчетвером или впятером, зимой и летом, и всегда кто-то из них мог сказать: «Справа от меня никого нет» или «Слева от меня никого нет»; или кто-то лежал совсем один посреди кладбища или в углу его и брюзжал: «Я тут совсем один. Я тут совсем один…» И тогда те Дюры, которые находились наверху, проявляли недовольство, особенно старики. Они не решались что-либо сказать или подумать им наперекор, чтобы не раздражать покойников еще больше. Они только стояли, смиренно качали головами, не выражая желания поторопиться, да пришептывали:
— Ну конечно, каждому свой черед. Мы и займем свое место рядом со своими, когда нужно будет. Только не надо все-таки думать, что для нас здесь всегда светит солнце…
Однако, отойдя на некоторое расстояние, они начинали дергать подбородками в своих воротничках и приговаривать, что они вовсе не торопятся улечься рядом с теми, с другими, что они все еще чувствуют в себе жизненные силы и полны желания жить. Они мысленно обещали себе во что бы то ни стало удержаться на поверхности равнины, как бы к этим планам ни относились их сгнившие сородичи, обещали себе прежде всего хорошенько поесть, набить полный живот, да и выпить тоже. Раз ты пьешь за Дюров, лежащих внизу, то можешь быть уверен, что все еще находишься с той стороны, с какой нужно. Так что сохраним при себе наш прекрасный аппетит и будем молиться за отсутствующих.
В то утро Аделаида пришла на могилы Одуэнов, а вместе с ней, кружась вокруг нее, пришли четверо ее детей да еще ветеринарша со своими тремя детьми. На кладбище Дюры, Бертье, Коранпо, Меслоны, Русселье и все остальные христиане прихода славили, как могли, своих нижних родственников. Склонившись над их могилами, они вырывали из земли то какую-нибудь травинку, то стебелек цикория, то пальцами разравнивали почву, как бы желая задобрить покойников, провести им рукой по волосам. Все эти знаки внимания им ничего не стоили, зато усопшие делались более терпеливыми. Однако в то воскресенье все складывалось из рук вон плохо. Никогда еще покойники не были такими сварливыми. Сначала все подумали, что это из-за жары; объяснили, что жара долго не продержится, что — дождь не заставит себя ждать. Но те, которые лежали внизу, забрюзжали еще сильнее, потом возбудились, стали шуметь, покрикивать на живых, толкать друг друга локтями, ругаться почем зря, и все это с таким нетерпением, угрозами, злостью, будто сидящие в яме звери. Похороненный весной муж Леони Бардон кричал, что ему надоело лежать рядом со своим братом Максимом, что пора уже самой Леони лечь между ними, и даже попытался послать ей лихорадку. А один старик стал требовать, чтобы ему привели его волов.
— Пусть они только дыхнут мне в ладони своим теплым дыханием, всего один разочек…
— Каждое воскресенье обещаешь занять свое место и все никак не соберешься!
— Это он украл у меня сорок су в семьдесят седьмом году.
— В семьдесят седьмом…
— Мои волы!
— Ты не могла бы прийти немного пораньше?
— Нам нужно свежих покойников.
— Вор!
— Нас было трое девушек в лесу.
— Шесть футов, как и у нас.
— Пакость!
— Это Альфред меня убил!
— Чертова шлюха.
— Убил мотыгой.
— Переложите меня в другое место.
— А ведь ты позволяла задирать себе юбку?
— Хочу, чтобы вы легли по обе стороны от меня.
— Как это было хорошо, когда было больно.
— Нас было трое девушек в лесу.
— Лжец.
— Мои волы.
— Так было жарко, когда было больно.
— Женщина, у которой не было за душой ни единого су.
— Ты у меня взял мой садовый нож.
— Ослица.
— Давай займи свое место.
— Сначала Гюст Бертье.
— Нет, Филибер Меслон.
— Какой же он был горячий, лед на пруду Голубой Кошки.
— Нас было трое девушек.
— Нет, на этой неделе.
— Лжец.
— Ты от меня все скрывала.
— Ни холодно, ни жарко.
— Я шел с моими сыновьями.
— Убийца.
— Это ты хотела выйти замуж.
— Вечером, с моими сыновьями.
— А Господь Бог, что он сейчас делает? Что-то о нем ничего не слышно.
— Господь Бог, он на небесах.
— На земле тоже, немножко.
— А вот там, внизу, никакого Бога больше нет.
— Нас было трое девушек.
— Трое потаскух.
— Он никогда не отчитывался в полученных деньгах.
— Убийца.
— Убийца.
— Никто больше не хочет умирать.
— Я его вот уже восемь лет жду.
— Я поставила тогда кипятить белье.
— Ты всегда за ним гонялась.
— Так приятно было гореть.
— И лед на пруду Голубой Кошки.
— Мерзавец.
— Он взял меня на косогоре.
— Это в твои-то семьдесят пять лет.
— Нас было трое девушек.
— Трое потаскух…
Мари Дюр побежала в ризницу за кюре. Тот пожал плечами, пришел на кладбище и, как и следовало ожидать, ничего не услышал. Он интересовался только голосами живых и душами мертвых. Ропот несчастных гниющих тел оставлял его равнодушным, и он упорно не желал ничего слышать. Он призывал верующих идти восвояси, а мертвецы продолжали свой гам, нисколько не стесняясь присутствия кюре.
Старый Жюль Одуэн надрывался чуть ли не сильнее всех, но его крики относились не к живым. Он без устали ругал старого Малоре, Тину Малоре и четырехлетнего малыша, чье соседство ему всегда было неприятно. Аделаида почтительно слушала его, время от времени одобрительно кивая головой или сухо поддакивая. Прямая и худая в своем черном платье, в вязаном чепце на голове, она смотрела на три могилы Малоре, поджимая губы и морща ноздри, словно подозревая, что три покойника не просто воняют ей в нос, но делают это совершенно сознательно.
Зеф Малоре, Анаис и оба их сына стояли, опустив головы и притворяясь, что с незамутненными сердцами поминают своих родных. Можно было подумать, что они не слышат доносившийся снизу голос старого Одуэна; Аделаида подумала, что, может быть, и в самом деле не слышат, и поэтому стала довольно громко повторять слова своего свекра. Старик говорил, и Аделаида говорила вслед за ним:
— А кем была эта Тина Малоре? Девкой, которую мужчины просто передавали друг другу, которую брали за тридцать су прямо в канаве; вот кем она была, Тина. А парни, которых она нарожала, и по сей день бегут за своим отцом, бегут, хотят догнать, да никак не получается, куда там! Это же ведь надо, что за товар подкладывают теперь на кладбище под бок порядочным людям…
Малоре не протестовали, и Зеф, подумав о том, как лучше организовать отступление, подал знак жене и сыновьям. Однако Дюры, Бертье, Коранпо, Меслоны, Русселье, Рюжары, Кутаны, Домине, Бефы, Труске, Пиньоны, Короши, Бонболи, Клержроны и Дюбюклары уже прибежали со всех сторон и внимали речам Жюля Одуэна. Они образовали вокруг Зефа и Аделаиды круг шириной в три ряда, не принимать который во внимание было нельзя.
— Я не собираюсь отвечать, — сказал Зеф.
— А тебе и трудно было бы это сделать, — возразил Жюль снизу.
— А тебе и трудно было бы это сделать, — повторила его сноха, — потому что я ничего не придумали и потому что ни для кого не секрет то, что я говорю, и просто не хочется пачкаться, а то я могла бы рассказывать о ней хоть до завтрашней ночи. А думаете, про папашу Малоре я не могла бы рассказать; могла бы, да еще как.
— Мы не собираемся отвечать, — сказали Зеф и Ноэль.
— Пошли отсюда, — сказала Анаис.
Однако Дюры, Кутаны, Бонболи и Клержроны подсказывали Зефу:
— А почему ты ей не ответишь? Возьми да и ответь.
Зеф косил глазами в сторону могилы отца, но старый Малоре не подавал голоса, а Тина была не в своей тарелке. Так что слышался только голос Жюля Одуэна:
— Я скажу не только о Тине и о папаше Малоре, но и об остальных.
— Я скажу не только о Тине и о папаше Малоре, — подхватила его сноха, — но и об остальных.
Есть еще одна вылитая Тина, и для вас не секрет, как зарабатывают деньги, размахивая на дорогах цветастыми передничками да кружевными финтифлюшками. А родителям даже не стыдно покупать на эти деньги веялки. Нисколько не стыдно.
Меслоны, Коранпо и Бертье подталкивали друг друга локтями, уже расплываясь в широких, шире усов, улыбках. Жар прилил к щекам Зефа.
— Ладно, я просто не хочу ничего отвечать, а то и многое мог бы порассказать. Я знаю некоторые вещи, которых люди не знают…
Жюльетта, стоявшая рядом с матерью, испугалась угроз Зефа и тихонько шепнула:
— Мам, не заводите его. Не забывайте, что письмо находится все-таки у них.
Аделаида достаточно хорошо помнила этот довод, по, подталкиваемая гневным голосом старого Жюля Одуэна, уже просто не могла молчать.
— Не существует такого письма, которое пометало бы мне сказать вслух про то, что известно всей округе, про то, что было между Тиной и ее отцом, про пакостные манеры всей этой семьи. Маргарита тоже свое получила…
Анаис расплакалась, а Зеф запротестовал бесцветным голосом:
— Неправда. Это все выдумки. Ложь, которую. про нас сочиняют.
Он весь сразу осел и оперся на своих сыновей. Зеф прекрасно знал, что нездоровые обычаи его семьи известны всей деревне, но поскольку об этом говорили очень тихо и не при нем, то никакого неудобства он от этого не испытывал. История, которую рассказывают тайком, — это не больше чем легенда, а расхожее мнение — это все равно что ветер. А тут люди, слушавшие Аделаиду, вдруг с ужасом увидели какой, оказывается, позорный у Малоре грех. Однако многие из них чувствовали себя неуютно и в глубине души осуждали ее бестактность. До чего можно дойти, если уж и согрешить невозможно, чтобы тебя не обвинили перед всем народом? Кюре, беседовавший в одном из уголков кладбища, приблизился к ристалищу и услышал последние фразы перепалки. Он тоже не любил чрезмерного рвения в поисках истины, стараясь прежде выяснить, насколько она уместна, ибо даже самому Господу Богу порой бывает выгодно чего-то не замечать; ну а Малоре, считал он, вполне могли, почти не впадая в грех; отдавать дочерям то, что принадлежало их женам. Кюре вошел в круг и, по своему обычаю, энергично вмешался в разговор:
— Так расшуметься на месте вечного упокоения! Сразу после мессы! Какой стыд! Как вы, Аделаида Одуэн, в кругу ваших детей…
— Но, господин кюре, поговорите и с Зефом, спросите его, кто начал первый…
— Я? Я даже и отвечать-то не хотел, а то, что я много знаю, так это не моя вина.
— Ты только ложь свою знаешь! И потом, когда имеешь такую дочку, как твоя…
— Замолчите же вы, — сердитым голосом закричал кюре, — стыдно вам должно быть, вам в первую очередь.
— Да, господин кюре, стыд — это для меня! А похвала, деньги и цветастые переднички — это все для ловкачки, которая животом зарабатывает себе на жизнь в Париже, после того как блудила здесь со своим отцом! Ишь, ей и деньжата, и переднички! Пожалуйста! Задрала юбку, и вот тебе денежки! Задрала еще раз — вот тебе опять! Средство известное — папашка урок хороший преподал…
Аделаида разошлась, она стряхивала с себя нависших на ней Жюльетту и тетку Элен. Кюре почувствовал, что она способна зайти очень далеко; он даже немного восхитился ее силой и обратил на Малоре суровый взор. Он сделал знак Зефу и его сыновьим, чтобы те уходили. Дрожавшие от стыда и страха, Малоре даже не ощущали в себе никакого гнева. Зеф, внимая священнику, простонал тоненьким голоском:
— Я просто не знаю… не знаю, как это могло получиться…
— Вы осел, — ответил кюре донесшимся до зрителей сухим голосом. — Ваши дела меня совершенно не интересуют.
Алексис отделился от группы Одуэнов и, подойди к Тентену Малоре, замыкавшему колонну, дал ему пинка. Тентен не протестовал; он только сделал маленький прыжок, прижавший его к сутане священника, и стряхнул со своих воскресных штанов отпечатавшееся на них в форме ботинка пыльное пятне. Этот эпизод несколько умерил пыл Аделаиды, ее саркастические замечания стали звучать все реже и рейсе, до тех пор пока Зеф со своими домочадцами не вышел за ворота кладбища.
К тому времени, когда обычно заканчивается месса, Оноре и Фердинан вышли на дорогу и пошли навстречу своим семьям. Ветеринар то и дело выражал свою радость по поводу отъезда Маргариты Малоре:
— Я оказался в деликатном положении из-за Вальтье. Эти мои визиты к Зефу были мне неприятны, а с другой стороны, не мог же я не ходить. Так что в доволен.
— Ну и ладно, тем лучше, — тихо ответил Оноре, — тем лучше.
— Ты говоришь «тем лучше», а у самого по-прежнему такой вид…
— У меня? Я доволен так же, как и ты. Пока она была здесь, трудно было понять, что к чему.
— Особенно если учесть, что эта девчонка все-таки, я бы сказал, с заскоками. Я уверен, что того маленького инцидента, который случился в четверг, не было бы, если бы не Маргарита. Прежде всего потому, что у Жюльетты не было бы основания идти к Малоре. Да и у Зефа тоже никогда бы и мысли не возникало приставать к нашей бедной Жюльетте, если бы его не подстегивало присутствие его дочери. Маргарита, наверное, пошутила как-нибудь слишком вольно. А Ноэль, он был дома… в общем, ты же ведь сам знаешь, какие они, эти молодые люди. Поэтому не надо принимать всю эту историю всерьез, как это делает Аделаида.
Оноре покачал головой и снисходительно улыбался. Когда они дошли до середины поля, на пересечении дорог им встретилась семья Бертье.
— Вы опоздали на такую прекрасную перепалку! — крикнул им Кловис Бертье. — Но Аделаида потрудилась там и за вас двоих, так что Малоре свое получили!
Ветеринар потер переносицу и посмотрел на брата.
— Что там такое могло случиться, а? Что там произошло? Скажи…
— А мне-то откуда знать? Меня же там не было.
Они встретили Русселье, Рюжаров, Бефов, Труске, которые, проходя мимо, бросали:
— Минуту назад такой там шурум-бурум разыгрался.
— Вы самую малость опоздали.
— Неплохо они сейчас поговорили.
— Ну, по правде сказать, еще та была сейчас заваруха.
— Эх, как там Аделаида рассерчала, не хуже любого мужика…
Оноре вел себя весьма достойно, улыбался, по пути приветствовал знакомых и не давал брату нарушить ритм прогулочного шага. Если кто-нибудь о чем-то его спрашивал, он отвечал: «Да, говорят» или «Похоже на то». А вот Фердинан, тот проявлял нервозность, краснел, теребил брата, вертел головой направо, налево, потом поворачивал ее опять направо, при этом не возвращая в исходное положение, отчего адамово яблоко оказывалось у него за спиной, шея перекручивалась на два оборота то в одну, то в другую сторону, и Оноре неоднократно приходилось ее выправлять. После встречи с Русселье Фердинан, почувствовав, что вот так, походя, перекинуться словечком со всей вереницей возвращающихся с мессы людей было свыше его сил, развернулся и пошел обратно, мучаясь от самых различных предположений и изводя брата расспросами:
— А вдруг Зеф заговорил о пруссаке, и не было ли при нем письма, и не подрались ли женщины, и что будет, если узнает Вальтье…
Когда они вернулись домой, Оноре спрятался в тень, а ветеринар задержался посреди двора и, вытянув шею до самой дороги, стал дожидаться возвращения женщин. Первыми, опередив всех на сто метров, прибежали Гюстав и Клотильда.
— Ну и обругали же мы их, — крикнул Гюстав, — высказали им все как есть!
— И про то, что Зеф с Маргаритой, как вы знаете, — добавила Клотильда.
Ветеринар мгновенно похудел на целый фунт.
— А Алексис, вы знаете, папа, как даст им ногой под зад!
— Нет, — сказала Клотильда, — это я дала им пинка!
— Неправда, это Алексис!
— Нет я, и вот доказательство.
— Какое доказательство?
— А вот такое.
Пока они ссорились, подошла основная часть семьи.
— Что случилось? — прохрипел Фердинан.
— Зайдите сначала в дом, — предложил Оноре, — в то вы шли по такой жаре.
Потом, когда они вошли в кухню, он спросил:
— Мне сказали, что вы поругались с Зефом.
— Мы просто стояли у могил, — начала Аделаиде, — а они, Малоре, рядом. Мы ни о чем даже и не думали, никого не трогали.
Ветеринар попытался было возразить, но она обвела вопросительным взглядом лица свидетелей. Четверо детей Оноре и их кузен Антуан в один голос сказали «да». Только один Фредерик своей иронической позой попытался опровергнуть сказанное, но Жюльетта заслонила его своим телом.
— И вдруг, — продолжала Аделаида, — Зеф принялся оскорблять мою свекровь и моего свекра. Жюльетта слышала его почти так же отчетливо, как я.
— Подождите! — закричал ветеринар. — Пусть Жюльетта выйдет на минутку, а ее мать пусть произнесет нам слова Зефа.
Предосторожность показалась оскорбительной, и все-таки Жюльетта сделала все, как он хотел, а потом, вернувшись в кухню, повторила речи Зефа. Повторила слово в слово.
— Надо же, — отметил Оноре.
Аделаида продолжала, ежеминутно прерываемая ветеринаром, который ожесточенно с ней спорил. Она утверждала, что обвинение в кровосмешении явилось с ее стороны лишь ответом на столь отвратительный намек, что у нее в венах буквально закипела кровь.
— Зеф слишком хитер, чтобы вот так сразу потерять все преимущества, которые дает ему письмо, — возразил ветеринар. — Я уверен, что намек все равно никто не мог понять. Кстати, я сейчас спрошу Антуана, которому про письмо ничего не известно.
— А я говорю вам, что все, кто там был, поняли, что моя свекровь…
— Замолчите, я спрашиваю Антуана, или Клотильду, или Люсьену. Ага! Я совершенно спокоен!
Антуан, чтобы досадить своему отцу, притворился, что знает очень много, но только не смеет ничего сказать. Ему на помощь пришла Клотильда, которая с трагическим спокойствием воплощенной невинности заявила:
— Я держалась за мамино платье и слышала, как Зеф сказал маме: «Пруссак и твоя свекровь…» Это все, что я могу вспомнить.
Оноре не стал задумываться над тем, какой путь проделало письмо, прежде чем попасть под часы. Свидетельство Клотильды показалось ему крайне весомым, и он свирепо посмотрел на ветеринара, подозревая, что во время своих визитов к Зефу тот в какой-то мере проговорился.
— Я вижу, что нельзя терять ни одного дня и нужно срочно отобрать у них письмо, — сказал он.
Теперь уж Аделаида могла сколько угодно добавлять детали.
— Кюре, можете себе представить, был за Малоре, и вся эта свора церковных задниц тоже. Вы бы только послушали, что говорили Дюры, Кутаны, Вонболи, когда кюре, глядя на нас, заявил, намекая на пруссака, что нам должно быть стыдно. Так прямо и сказал, разве я не так говорю, а, Жюльетта?
Ветеринар больше уже не спорил, а только нашептывал елейным голосом на ухо Оноре:
— Это было недоразумение… небольшой спор, в котором ты не принимал участия… завтра утром ты об этом и думать забудешь.
Однако Оноре не обнаруживал ни малейших признаков гнева. Он не без удовольствия внимал рассказу Аделаиды и особенно развеселился, когда услышал про удар ногой под зад.
Перед самым обедом ветеринар, рассердившись на сына за то, что тот во время разговора вставлял ему палки в колеса, прижал Антуана в коридоре к стенке и вполголоса спросил:
— В каком году впервые были созваны Генеральные штаты?
Антуан опустил голову. Он не отвечал, и отец в расчете на его непокладистость, готовился задать ему какой-нибудь урок в наказание.
— Это такая дата, которую нельзя ни на минуту забывать. Так можешь ты мне сказать или нет…
Внезапно упрямое лицо Антуана посветлело:
— Дядя Оноре! Дядя Оноре! Моему отцу хотелось бы знать, когда впервые были созваны Генеральные штаты.
Дядя Оноре мгновенно оценил обстановку. И со степенностью в голосе ответил:
— Кажется, в восемьдесят третьем, в тот год, когда у Коранпо сдохли две коровы.
Ветеринар развернулся, вышел во двор и принялся бродить вокруг дома. Он подытожил накопившиеся обиды на брата, произвел ревизию своих интересов в Клакбю. В голове у него все уже было подсчитано, оставалось лишь провести контрольную проверку и сделать вывод. «С меня хватит», — прошептал он несколько раз. Наступил момент выбора между братом и Зефом Малоре, и ветеринар склонялся в пользу Зефа. Его интересы были там, где они пересекались с интересами Вальтье. При первой же ссоре, которую Оноре попытается ему. навязать, он скажет свое решающее слово. Брат уедет из дома, а может, и вообще из этих краев, получив компенсацию, которая позволит ему обосноваться где-нибудь в другом месте. И чем быстрее, тем лучше.
Во время обеда проект Фердинана окончательно дозрел, и ветеринару захотелось поскорее осуществить его; он старался спровоцировать Оноре на ссору, но тот противопоставлял его наскокам свое непоколебимое спокойствие.
— Нам нужно, чтобы во главе правительства стал мужчина, — говорил ветеринар.
— Почему бы и нет? — ответил Оноре.
— Мужчина с твердой рукой, который заставит уважать Францию, — настаивал Фердинан.
— Ты, я смотрю, не пьешь…
— Таким человеком станет генерал Буланже. Его, как мне кажется, нельзя упрекнуть в клерикализме. И даже если бы он был клерикалом? Я говорю «даже если бы»!
— Если это его мысль, этого человека…
— Я говорю то, что думаю, и не собираюсь скрывать своих убеждений.
— Вот как!
— Ас тобой никогда невозможно понять, какие у тебя убеждения.
— А ведь и в самом деле, — отвечал Оноре. — Надо мне будет спросить у Клотильды, что она думает о генерале Буланже. Возьми-ка еще фрикасе… возьми, возьми! Две ложки с хорошим, глотком вина, чтобы протолкнуть его на самое дно. Требуха на требуху. Лучше нет средства против плохого настроения.
Вокруг стола витала сдержанная радость. Одновременно с блюдом фрикасе передавался и спокойный смех, который, пролетая под носом у ветеринара, создавал преграды на пути его воинственности. Когда во двор вошел почтальон, Жюльетта и Оноре устремились ему навстречу. Один нес его сумку, другая — его фуражку. Оноре смеялся, обращаясь к своим домочадцам, и вполголоса приговаривал:
— Это он. Это почтальон.
Деода сел напротив трех стаканов, которые Аделаида наполнила вином так, что оно в каждом немного перелилось через край, чтобы показать, что ей вина не жалко, когда хорошим почтальонам нужно утолить жажду. Он вынул из кармана платок и сказал, вытирая лоб:
— Жарко.
— Он говорит, жарко, — объяснил Оноре присутствующим.
— Ты, должно быть, устал, — сказала Аделаида. — Такая везде сушь стоит.
Деода засмеялся, запрокинув голову, и сказал Аделаиде:
— Ну и забавная штука сейчас со мной приключилась.
— Да ну!
— Иду я, значит, из Вальбюисона, иду спокойно, хорошим шагом — ну, в общем, как нужно ходить. Эрнест, ваш Эрнест, как-то раз, несколько дней назад, сказал мне, что я хожу, как пеший жандарм.
— Это он для смеха так сказал, — возразил Оноре. — Пеший жандарм.
— Ты тоже так думаешь? Да, конечно, это он для смеха сказал. Так вот, возвращаюсь, значит, я, ни о чем не думая, с душой нараспашку, как перед литровой бутылкой, и вдруг чувствую: что-то со мной происходит — метров так за двести до развилки, скажу я вам, мне начинает казаться, что иду я как-то странно. Такая вот мысль появилась у меня в голове, как это иногда бывает. Ладно, прошел я, значит, еще чуток, а оно вроде бы и не идется. Ну, тут решил я все-таки посмотреть на свой правый ботинок. И поверите ли? Весь перед подошвы оторван, всего два ряда гвоздей осталось в середке, и из-за этого, когда я ступал правой ногой, весь ботинок запрокидывался; вот какие дела! Но я не рассказал вам про самое удивительное! А самое-то удивительное, что на левой подошве не вылетело ну ни единого гвоздика. Вот поди-ка пойми что-нибудь!
Оноре смотрел на почтальона, на его широкое, круглое, доброе лицо, лицо спокойного человека, который не видит дальше своего носа, но который нос опой видит, и видит его хорошо; лицо хорошего почтальона, которому удается, идя за своим носом, всегда безошибочно завершать свой обход.
— Деода, я должен сказать тебе спасибо, поскольку я с того дня еще ни разу не видел тебя.
— За что же, Оноре?
— За Жюльетту и за себя тоже. Нужно случиться такому, как позавчера, чтобы понять, что дорожишь девственностью своих дочерей. А то ведь живешь и не ведаешь.
— Я проходил мимо, — сказал почтальон, — я проходил тогда мимо.
После ухода Деода все в столовой растроганно помолчали. Ветеринар, раздраженный, сказал Оноре:
— Он, этот несчастный, все больше и больше заговаривается, но что самое ужасное, еще к тому же теряет письма. Пора бы ему уже уходить на пенсию.
— Ты что, нашел ему замену?
— Людей, которые справятся с работой лучше, чем он, хватает.
— Если тебе невтерпеж порекомендовать их депутату, я могу замолвить за них словечко у Малоре. У меня появилось настроение вскоре зайти туда. Письмо ведь по-прежнему лежит у Малоре, а он все никак не соберется вернуть мне его.
После обеда Оноре послонялся немного без дела, а потом, чтобы разрушить летаргические чары летнего воскресенья, отправился в сарай пилить дрова. Он трудился не торопясь, не уставая, и с удовольствием ощущал, как его мышцы обретают свою привычную легкость рабочих будней. Ветеринар, оскорбленный тем, что Оноре покинул гостей ради столь незначительного дела, отправился со своей семьей в лес; он воспользовался прогулкой, чтобы посвятить жену в планы семейной революции, которые вынашивал с самого утра.
В четыре часа Оноре зашел на кухню, где молча сидела его жена и дети, и выпил стакан вина. Он улыбнулся им, набросил на плечи куртку и пошел по дороге к центру Клакбю.
XVII
Малоре только что вернулись с вечерни и зашли втроем на кухню. Тентен задержался по дороге, чтобы посмотреть на игру в кегли. Поставив локти на стол и подперев ладонями подбородок, Зеф сидел спиной к двери и рассеянно смотрел в дальний угол кухни, между шкафом и кроватью, где Анаис снимала свою черную отороченную зеленой тесьмой юбку, голубой корсаж и подаренную дочерью вышитую нижнюю юбку. Беспокойным и презрительным взглядом окинул Ноэль скорбную фигуру отца. Он в раздумье пожал плечами и, шаря руками по стулу в поисках брошенных туда перед вечерней полотняных штанов, начал раздеваться. Анаис складывала на кровати свою нижнюю юбку из тонкой хлопчатобумажной ткани.
— Тебе надо бы раздеться, — сказала она Зефу.
Зеф не шелохнулся и не издал ни звука. Она открыла одну дверцу большого шкафа, чтобы повесить спои вещи, и повторила:
— Тебе надо бы раздеться сейчас, не откладывая.
Зеф поднял голову и вопреки всем своим привычкам ответил ей грубостью. Ноэль, снимавший в это время брюки, возмутился:
— Это же не наша вина, что Аделаида накинулась на вас сегодня утром и что кюре обругал вас.
— Ты бы лучше помолчал.
— Когда занимаются такими гнусностями, какими занимаетесь вы, то не трубят об этом на каждом углу, а то они к вам же и возвращаются.
Зеф раздраженно мотнул головой и ничего не ответил.
— И уж перво-наперво начинают вести себя как люди, — добавил Ноэль, сам удивляясь тому, что разговаривает с отцом таким вольным тоном.
— Посмотрим, как ты будешь вести себя, когда заведешь своих дочерей.
— Нельзя, значит, придумать ничего лучше.
Отец издал натужный смешок и, не поднимая головы, хмуро сказал:
— Здесь уж хочешь не хочешь. Про моего деда говорили и про отца моего деда, что они спят со своими дочерьми. А потом стали говорить и про моего отца, и про меня. Так что нас никто не спрашивал, все было решено раз и навсегда. Ну а раз так, то какой прок мне было стесняться?
Анаис копалась в шкафу, притворяясь, что ничего не слышит.
— Да и к тому же, — продолжал отец, — такой уж в доме был настрой. И чтобы отделаться от него, нужно было бы… я уж не знаю… добиться успеха где-то в другом месте.
Он замолчал и снова погрузился в свое оцепенение. Ноэль повесил воскресные брюки на спинку стоявшего у окна стула. Наступило долгое унылое молчание. В окне мелькнула какая-то тень, со двора послышался лай собаки, и в кухню вошел Одуэн. Он закрыл за собой дверь и окинул взглядом всех Малоре. Зеф повернул голову в его сторону и остался сидеть, не снимая локтей со стола, не обнаруживая никаких признаков удивления. Анаис, испугавшись оттого, что ее застали в одном нижнем белье, спряталась за дверцу шкафа, пытаясь подвязать на животе фартук.
— Тебе это так идет, Анаис, — сказал Одуэн немного дрожащим голосом.
Ноэль, который стоял в рубашке, держа в руках свои будничные штаны, смутился. Оноре, прижавшись спиной к двери, оценил свои преимущества перед этим почти голым человеком и с удивлением подумал, что уже одно только сознание, что ты в штанах и при обуви, обеспечивает такое превосходство. Полуголый Ноэль показался ему жалким и уязвимым; от этого все приключение показалось ему вдруг каким-то легким.
— Что это вы входите без стука? — спросил Ноэль и сделал шаг вперед.
Оноре тоже шагнул вперед и опустил подкованный железом башмак на его голую ногу, не нажимая всем весом тела, а просто для того, чтобы Ноэль осознал свое зависимое положение. Юноша отступил, опасаясь за свою незащищенную ступню. Одуэн ударил его коленкой и обоими кулаками, но не очень сильно. Ноэль не пытался дать сдачи: он присел и попробовал весь спрятаться в рубашку, словно тонкая ткань могла сколько-нибудь защитить его; еще один чуть более точный удар оглушил его и свалил на пол. Расправа оказалась столь стремительной, что стоявшая за створкой шкафа Анаис ничего не заметила. Зеф смотрел на драку, полностью отдавая себе отчет в происходящем, но не пытаясь вмешаться. В этот момент он еще мог добежать до двери и позвать на помощь, но угроза пробудила в нем, в самой глубине его животного естества, что-то вроде рыцарского чувства: он соглашался на то, чтобы все происходило согласно определенным правилам. К тому же ему не давала встать со стула внезапно навалившаяся на него неодолимая лень, а еще — ожидание своеобразного блаженства, которое должно было наступить после поражения. Когда Одуэн повернулся к нему лицом, он все-таки встал, втянул голову в плечи и принял оборонительную стойку борца. Немного пониже ростом, чем его противник, он был кряжист и ловок и мог бы вполне постоять за себя. Однако, лишенный наступательной воли, он только делал вид, что защищается. Одуэн ощутил это настолько явственно, что у него пропало желание его бить. Задумка Оноре состояла в том, чтобы накрыть Зефа в шкафу. Он ловко обхватил его сзади, и прижал руки к туловищу. Только тогда Зеф попытался сопротивляться и, пока Оноре нес его в глубь кухни, высвободил правую руку. Анаис не смела ни действовать, ни протестовать и казалась озабоченной прежде всего тем, чтобы ее не увидели в панталонах. Одуэн тихо сказал ей:
— Анаис, открой-ка мне вторую створку.
Она колебалась, ожидая, что Зеф запретит ей делать это, но тот только отбивался и ничего не говорил.
— Ну что же ты, — сказал Оноре, — открывай быстрее.
Она прошла у него за спиной, чтобы тот не увидел ее, и, сняв крючок, который держал дверцу изнутри, вернулась в свой угол с теми же предосторожностями. С двумя распахнутыми створками шкаф выглядел таким большим, что там, казалось, поместился бы целый бык; однако Зеф, зацепившись ногами за нижний выступ, успешно сопротивлялся натиску Одуэна. Тогда резко отступив назад, Одуэн лишил его опоры и сумел бросить плашмя на лежавшие внизу шифоньера свертки тряпья. Закрыв дверцы на ключ, он вернулся к Ноэлю, который уже начал приходить в себя. Одуэн знал, что ему делать; он размышлял над этим с самого утра, а то и добрых пятнадцать лет. Он взял его на руки и сказал Анаис:
— Это пустяки, видишь, он уже шевелится. Мы его сейчас положим под кровать.
Анаис тихонько хныкала.
— Пусть поспит, — сказал Одуэн, — не беспокой его.
Он затолкнул Ноэля достаточно далеко под кровать и даже сумел забаррикадировать его там с помощью скамейки и подушек. Закончив эту работу, он присел на край стола и улыбнулся Анаис, застывшей в углу рядом со шкафом.
— У тебя такие красивые руки, — сказал он.
Она подняла на него светлые глаза блондинки, и на ее тяжелом лице появилась укоризненная улыбка.
— Так все же нехорошо поступать, Оноре.
— Мне всегда хотелось сказать тебе, Анаис, что ты красивая. Но сама понимаешь, все как-то смелости не хватало.
Она собралась было тоже что-то сказать ему, но вспомнила, что ее могут услышать Зеф и сын. На ее лице появилась еще более нежная улыбка.
— И вот теперь, Анаис, я все-таки решился; решился потому, что сердце мое совсем исстрадалось.
Она ответила так тихо, что он не услышал, а только угадал по движению ее губ:
— Ах! Умеешь ты красиво говорить…
Одуэн с нежностью смотрел на округлые, тяжелые формы, которые должны были вот-вот наполнить его мужские объятия: большая, хорошо затянутая корсетом грудь, живот, сильно выступающий вперед из натянутых на бедрах панталон, крепкие, сильные ноги, заполняющие черные хлопчатобумажные чулки. Ему нравилась эта обильная зрелость Анаис; она казалась ему более красивой, чем Маргарита.
Он говорил ей о любви, а Анаис отвечала ему нежным молчанием. Однако какое-то стеснение между ними все еще оставалось. Оноре не чувствовал в себе того рвения, на которое надеялся, и начал беспокоиться, даже сердиться на самого себя. Не развлекаться же он сюда пришел. Оноре шагнул вперед. Он казался себе неловким и неуверенным. Анаис боязливо подалась назад, забилась в угол рядом со шкафом, опустив руки вдоль тела и сложив ладони стрелкой между ляжками. Тогда он улыбнулся и прошептал:
— Подожди, я сейчас закрою ставни.
В темноте Анаис перестала отстраняться и, когда он прижал ее к себе, опустила голову ему на плечо. Он отнес ее на высокую, устланную перинами постель. Их нежным стонам вторили другие стоны, приглушенные, полные сладостной кротости. Доносясь из шкафа и из-под кровати, они, казалось, исходили из всех углов кухни, и всякий раз, как Одуэн принимался ласкать Анаис, весь дом Малоре пронизывал жалобный ропот.
А в это время Аделаида и ее дети, прильнув к закрытым ставням, внимательно прислушивались к этому мощному напеву удовольствия, который навевал на них приятную слабость. А там, где начиналась яблоневая аллея, понуро стоял обуреваемый сомнениями ветеринар, не решаясь подойти ближе из страха, что ему сейчас сообщат о какой-нибудь катастрофе. Когда его брат вышел из дома, Фердинан наметил нежное лицо Анаис и одновременно — ее отделанные фестончиками панталоны и черные хлопчатобумажные чулки, перетянутые выше колена голубыми подвязками. От такого зрелища глаза его выскочили из орбит фута этак на полтора, однако потом все же вернулись на место. Напуганный таким оборотом дел, тем, что увидел вдруг в столь привлекательном виде, в панталонах с фестончиками, самого дьявола, он побледнел с одной стороны и одновременно покраснел — с другой.
Оноре молча и степенно шагал в окружении своей семьи. Жюльетта опиралась на его руку, а впереди, пятясь задом, чтобы было сподручнее восхищаться им, шли Алексис, Гюстав и Клотильда. Аделаида украдкой поглядывала на него, уже раздраженная его молчанием, которое казалось ей наполненным воспоминаниями. Улучив момент, когда он делал глубокий вдох, она бросила ему язвительно:
— Я смотрю, ты очень торопился туда пойти, а там явно вошел во вкус.
— Так уж надо было.
— Так уж надо было! Ишь как он говорит. И это отец пятерых детей!
Ветеринар семенил вокруг семьи, стараясь пристроиться так, чтобы можно было удобнее задавать брату вопросы.
— Эх, все-таки ты сделал это, не подумав… к чему приведет это… в общем… это… а если еще Вальтье узнает… Боже мой!
Когда они дошли до середины яблоневой аллеи, на дороге показался Деода. Почтальон торопился и поэтому только крикнул им издалека, не останавливаясь:
— Он умер!
Семья загудела от любопытства и тревоги. Женщины перекрестились.
— Это Филибер Меслон скончался, — объяснил Оноре. — Хороший человек этот бедняга Филибер и хороший республиканец; умел слово держать. Уж если что-нибудь обещал, то можно было на него положиться.
— Значит, тогда, — пролепетал Фердинан, — в том, что касается мэрии… можно было бы обсудить…
— Что касается мэрии, — заявил Оноре, — то мэром будет Бертье, или Коранпо, или Русселье. Вот и все.
Фердинан опустил голову, окончательно проглатывая имя Зефа Малоре. Они дошли до конца яблоневой аллеи. Прежде чем выйти на дорогу, Оноре остановился, и все тоже остановились и окружили его. Он вытащил из кармана письмо, слегка помятое, потому что оно пролежало там три дня, развернул его на глазах у ветеринара, отупевшего от уважения к брату. Потом громким голосом прочитал:
— «Мой дорогой Оноре. В начале недели у вороного случились колики…»

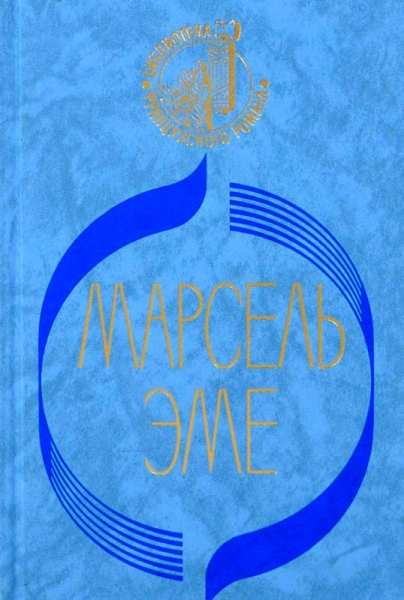


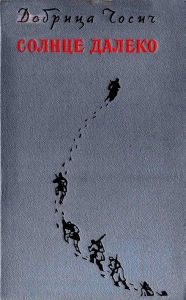
Комментарии к книге «Зелёная кобыла», Марсель Эме
Всего 0 комментариев