Исаак Башевис Зингер
От переводчика
НЕМНОГО О ЗИНГЕРЕ-РОМАНИСТЕ
Писать о Зингере для меня, переводчика, — означает писать о себе, о собственном восприятии. После двух сборников его рассказов на английском языке и романа «Раб» (в русском переводе) ко мне в руки попал роман Зингера «Шоша». Только тут стало понятно, что Исаак Башевис-Зингер — это не просто интересно. Это настоящая большая литература. И я взялась за перевод, несмотря на то, что в тот момент — 1985 год — было абсолютно ясно, что никто и никогда здесь это не напечатает.
Времена изменились. В 1990 году роман появился в журнале «Урал», в 1991-м — в издательстве «Текст». Совсем недавно «Шошу» выпустило издательство «Амфора». Сейчас вы держите в руках перевод ещё одного романа Башевиса-Зингера. Главный герой Яша Мазур — фокусник, «циркач», как говорили в начале века, вдобавок — гипнотизер. Экстрасенс по-нынешнему. Личность, безусловно, неординарная, характер просто соткан из противоречий. Обстоятельства его жизни столь запутанны, что он решается на преступление. Но — сорвалось! Не смог. Именно он, Яша, умеет читать чужие мысли, умеет открыть любой замок, пройти сквозь стену… И что же дальше? Неожиданные повороты судьбы, и… начинаешь любить нашего героя, который поначалу вызывает даже некоторое неприятие.
В «Урале» роман вышел под названием «Люблинский чародей». И это неточно. «Кунцнмахер» в переводе с идиш означает «фокусник, циркач». Ну что ж, сколь сильны чары Яши Мазура, простого «кунцнмахера» из Люблина, пусть судит сам читатель.
Н. БрумбергФОКУСНИК ИЗ ЛЮБЛИНА
Глава первая
1
Этим утром Яша Мазур, «люблинский фокусник» — так прозывался он всюду, кроме родного города, проснулся рано. Обычно, возвратившись домой, он день-другой проводил в постели: безумная усталость требовала этой поблажки — сон восстанавливал силы. Эстер подавала ему в постель кружку молока, пышки, тарелку гречневой каши. Он поест и опять заснет. Или же просто дремлет. Пронзительно вскрикнет попугай. Что-то лопочет Йоктан — обезьянка. Посвистывают канарейки, перепархивая с места на место. А Яша спит себе посреди этого шума и гама, хоть бы что ему. Напомнит только Эстер, что надо напоить лошадей, и опять спит. Да и этого можно бы не делать. Эстер и так никогда не забывала наносить воды из колодца для его пегих кляч — Кары и Шивы. Яша всего лишь фокусник, «кунцнмахер», но по здешним понятиям он считался богачом. Собственный дом, и при нем надворные постройки: сарай, амбар, конюшня, сеновал, садик с двумя яблонями, а позади дома — небольшой огород, грядки с овощами. Только не было у них детей. Эстер не удавалось забеременеть. Что же до остального, она была замечательная жена: умела вязать, шила, могла даже сшить подвенечное платье, пекла торты, всевозможные пряники, умела разделать курицу, поставить банки, пиявки, даже отворяла кровь. Чего только не перепробовала она в молодости против бесплодия, все возможное и невозможное, но теперь уж поздно. Ей около сорока.
Яшу, клоуна и фокусника, в общине не слишком-то уважали. Он брил бороду, появлялся в синагоге лишь на Рош-гашоно[1] и в Йом-Кипур[2]. Если, конечно, ему случалось оказаться в городе в это время. Эстер же, напротив, покрывала голову платком, соблюдала субботу, кошер[3] и вообще все, что положено. Яша проводил субботу в обществе местных музыкантов. Курил папиросы, болтал о разном. Тем же, кто пытался наставить его на путь истинный, обычно говорил:
— Ты сам был на небе и видел Бога? А может, Бога нет.
— Кто же тогда создал мир?
— А кто создал Бога?
Спорить с ним было себе дороже. Очень даже неглуп, умел читать по-польски и по-русски, да и в еврейских законах знал толк. Отчаянный был этот Яша! Однажды поспорил, что проведет ночь на кладбище, — и выиграл пари. Умел ходить по канату, скользить по проволоке, взбираться по стене. Мог открыть любой замок. Лейбуш-слесарь поставил пять рублей: поспорил, что может сделать замок, который Яше не отомкнуть никогда. Несколько месяцев трудился, а Яша открыл замок сапожным шилом. В Люблине говорили, что, если уж Яша надумает кого обокрасть, в любой дом заберется, никакие запоры не спасут.
Яша провалялся в постели свои положенные два дня, но вот они миновали. Сегодня он поднялся с восходом солнца. Небольшого роста, узкобедрый, широкоплечий. С непокорными, светлыми, как солома, волосами и прозрачными голубыми глазами. Хорошо очерченные губы, узкий подбородок, короткий славянский нос. Правый глаз немного больше левого, и потому всегда казалось, что он подмигивает — дерзко и чуть насмешливо. Яше было уже около сорока, но выглядел он лет на десять моложе. Пальцы на ногах были такие же гибкие, как и пальцы рук, и почти такие же длинные: он мог ими держать перо и расписываться, да еще со всякими завитушками. Даже горох мог лущить.
Растягивал тело в любом направлении: говорили, что у него вытягиваются кости и размягчаются суставы. Редко выступал он в родном городе, но те, кому довелось побывать на представлении, не уставали превозносить Яшины таланты: ходить на руках, пожирать огонь, глотать шпаги, кувыркаться, как обезьянка, — никому не удавалось повторить его трюки. Бывало так: запрут его с вечера в комнате, навесят тяжелый замок, ан глядь, на следующее утро он, как ни в чем не бывало, шествует себе по базару, а замок на двери как повесили, так и висит. Если руки и ноги ему заковать в кандалы, будет то же самое. Кое-кто утверждал, что он занимается черной магией: что есть у него шапка-невидимка, что он способен пройти сквозь трещину в стене. Другие же говорили, что он попросту мастер втирать очки. Одно слово, циркач.
И вот он, Яша, встает с постели, не совершив утреннего омовения рук в проточной воде, не произнеся положенных молитв. Натягивает зеленые штаны, надевает красные домашние туфли, потом черную бархатную куртку, расшитую серебряными блестками. Одеваясь, дурачится и проказничает, как мальчишка: пересвистывается с канарейками, поболтает с Йоктаном, приласкает пса Гамана, поиграет с кошкой — Мецоца прозвали её. И это еще не все. На заднем дворе разгуливают павлин и пава, кролики, пара индюков, даже змея живет, и через день ей требуется ка обед живая мышь.
Было теплое летнее утро, незадолго до праздников швуэс[4]. В огороде уже пробивались на грядках первые ростки. Заглянув на конюшню, Яша глубоко вдохнул запах конского навоза, потрепал своих кляч. Иногда, вернувшись из поездки, он вдруг обнаруживал, что одного из любимцев нет в живых. Но на этот раз все были на месте, Яша пришел в хорошее настроение. Бродил по двору туда-сюда, без особенной цели. Травка зеленела, и от множества цветов рябило в глазах: белые и желтые одуванчики, вот-вот готовые распуститься бутоны. Сплошные яркие пятна, и все это волновалось от малейшего ветерка. Облетали головки одуванчиков. На заднем дворе крапива и чертополох дотягивались аж до самой крыши. Порхали бабочки, жужжали пчелы, деловито перелетая с цветка на цветок. Каждый листик, каждый стебелек был обитаем: тут червяк, там комар, мошка какая-то, лесной клоп, какие-то создания, едва различимые невооруженным глазом.
Яша, как всегда, не переставал удивляться: откуда все это взялось? Как они существуют? Что-то поделывают ночью? Зимой умирают, однако с наступлением лета целый рой насекомых появляется вновь. Как это так выходит? Сидя в шинке, Яша мог корчить из себя атеиста. Но в глубине души он верил. Верил в Бога. Рука Божья ощущалась повсюду. Каждый цветущий плод, каждый камешек, песчинка каждая — все говорило о Его присутствии. Листья яблонь, мокрые от росы, переливались разноцветными огоньками в утреннем свете. Дом стоял на краю города, и за ним простирались поля пшеницы. Сейчас они зеленели, а через шесть недель поле станет золотисто-желтым, созреет для жатвы. Кто же все это создал? Солнце, может быть? Если так, то солнце и есть Бог. В какой-то из Святых книг — Яша читал — написано, что Авраам, праотец наш, был солнцепоклонником — до того, как признал существование Бога евреев, Иеговы.
Нет, Яша не какой-нибудь там невежда, не амгаарец[5]. Отец его учился, да и Яшу обучали Гемаре[6]. После смерти отца ему советовали продолжать учение, а он сбежал с бродячим цирком. Остался наполовину евреем, наполовину стал гоем[7], а скорее — ни то, ни другое. Он выработал собственный взгляд, собственную религию: существует Создатель, однако он не открывается никому и не указывает, что позволено, что запрещено. Те же, кто говорит от Его имени, попросту обманщики.
2
Пока Яша коротал время на заднем дворе, Эстер приготовила завтрак: горячие оладьи с маслом, домашний творог, зеленый лук, редиска, огурчики. Кофе смолола на кофейной мельнице и сварила на цельном молоке. Эстер — маленькая, смуглая. Лицо, как у девушки, молодое. Короткий прямой носик, черные глаза, в которых сквозь присущие ей живость и веселье просвечивала неизбывная печаль. Не будь этого, можно бы сказать, что глаза ее лучатся озорством и лукавством. Улыбаясь, она забавно приподнимала верхнюю губку. Показывала прелестные белые зубы, и на щеках появлялись ямочки. Из-за того, что не было у Эстер детей, она лучше себя чувствовала в обществе молодых девушек, чем среди замужних женщин. У нее работали две девушки-белошвейки, она часто шутила с ними и смеялась, но люди знали, что, оставшись одна, Эстер часто плакала. Господь наложил печать на ее чрево, говоря словами Пятикнижия. Поговаривали, что она тратит деньги даже на знахарей и колдунов. Раз она, рыдая, кричала, что завидует даже тем матерям, чьи дети лежат на кладбище.
А сейчас она кормила мужа завтраком. Сидя напротив него на краешке лавки, Эстер разглядывала своего Яшу — искоса, изучающе, с любопытством. Никогда не приставала она к нему в первые дни, пока он восстанавливал силы. Но сегодня по лицу видела: он уже пришел в себя. Подобно другим бродячим циркачам, Яша много времени проводил в разъездах, и это накладывало отпечаток на их отношения. Не было между ними той привычной интимности, какая бывает у семейных пар, много переживших в браке. И дружеский разговор, что они вели, — так могли разговаривать и люди, знакомые недавно.
— Ну, что там происходит, на белом свете?
— Все тот же, прежний мир. Все по-старому.
— А как с твоими фокусами?
— Все то же. Все по-прежнему.
— Ну, а шиксы[8] твои? Все те же?
— Какие еще шиксы? Нет у меня никого.
— Конечно, конечно, нет. Если б мне только по двадцать монет за каждую шиксу, что ты имеешь, то-то бы я разбогатела.
— А что бы ты сделала с такой кучей денег? — спросил Яша и подмигнул. Затем вернулся к еде и продолжал сосредоточенно жевать, глядя на жену, но уже как бы мимо нее. Подозрения никогда не оставляли Эстер. Но Яша отвергал все ее сомнения, утверждая, что как только один Бог на небе, есть только одна жена.
— Кто бегает за женщинами, не может разгуливать по проволоке. Они и на земле-то едва ползают. Сама знаешь.
— Откуда мне знать? Когда ты разъезжаешь по дорогам в своем шарабане, я же не стою у твоей постели.
И Эстер улыбнулась ему — с обидой и в то же время с любовью. Да, за ним не уследишь, как за другими мужьями, которые дома сидят, — ведь он почти всегда в дороге, встречает разных женщин, бродит больше любого цыгана. Яша свободен, как ветер, но, благодарение Богу, всегда возвращается к ней, и всегда не с пустыми руками — не забывает привезти подарок. По тому, с каким пылом он ее обнимал, как страстно целовал, так он жил как святой это время. Но что может знать женщина о мужских аппетитах? Не раз пожалела Эстер, что вышла замуж за фокусника, за бродячего циркача, не за какого-нибудь портного или сапожника, который сидит себе дома и всегда на виду. Но безмерная любовь преодолевала все. Эстер не уставала повторять, что он для нее и муж, и сын одновременно. Каждый день, проведенный вместе, все равно что праздник. И не променяет она своего Яшу на все золото мира.
Эстер продолжала наблюдать за ним. Все-то он делает не так, не как другие. Во время еды внезапно замрет, глубоко задумавшись, а затем, словно очнувшись, продолжает снова жевать. Другой его странной привычкой было играть куском веревки или нитки, завязывать узелки, да так искусно, что между ними всегда оставалось место для новых. Эстер пыталась поймать его взгляд, чтобы понять, о чем он думает, но эта уловка никогда не удавалась. Яша смотрел бесстрастно, равнодушно, и безразличие это сражало. Муж о многом умалчивал, никогда не говорил с ней всерьез, всегда скрывал неприятности и неудачи. Если даже болел, все равно разгуливал по дому, на ногах переносил лихорадку, ни за что не позволяя позвать лекаря. Тут Эстер ничего не могла поделать. Сколько раз просила она его рассказать о своих представлениях — слава о них шла по всей Польше! — но Яша либо все обращал в шутку, либо пропускал мимо ушей. Редко выдавались минуты, когда он вдруг начинал было ей рассказывать о своем — но тут же снова отдалялся и замыкался в себе. Эстер не уставала наблюдать за каждым его движением, каждым жестом. Размышляла над каждым словом. Даже когда на Яшу находили приступы безудержного веселья и он, как мальчишка, болтал все, что придет в голову, каждое слово имело значение. Не раз бывало так: Яша уже уехал, давно в дороге, а она наконец-то поняла, что же он хотел сказать.
Двадцать лет прошло со дня свадьбы, а Яша вел с Эстер все те же любовные игры, что и сразу после женитьбы. Стаскивал с нее платок, дергал за нос, называл всякими смешными словечками: крошка-малютка, пампушечка, сладость моя, и разными другими — на языке бродячих музыкантов. Их она тоже знала. То налетал петухом и кукарекал, то верещал, как свинья, то ржал, как лошадь. А внезапно мог впасть в необъяснимую меланхолию. Днем было одно, ночью — другое. Большую часть дня он проводил у себя в комнате, занимаясь снаряжением: замки, цепи, веревки, напильники, иглы, щипцы, клещи, разные обрывки, обрезки, всякий хлам. Кто видел Яшины фокусы и трюки, поражались легкости, с которой у него это получалось, и только Эстер знала, только она видела, как он дни и ночи проводит, повторяя одно и то же, совершенствуя свое мастерство: обучает ворону говорить, обезьянку — курить трубку. Эстер ужасно боялась, что он переутомится, что на него набросится кто-то из зверинца, что он с каната упадет. Для Эстер это было как колдовство, как волшебные чары. Даже по ночам она слышала, как он цокает языком, как щелкает пальцами ног. Как кошка, он видел и в темноте. Мог найти пропавшую вещь. Читал ее мысли. Раз Эстер поссорилась с одной из мастериц, и Яша, явившись поздней ночью, едва разговаривал с ней. Только потом она поняла, что тому причиной. Другой раз потеряла обручальное кольцо, искала везде и только потом призналась Яше в потере. Яша взял жену за руку и подвел к бочке с водой: кольцо лежало на дне. Давно она осознала, что не в состоянии понять мужа до конца. Он повелевал тайными силами. Секретов было у него больше, чем семечек в гранате, который освящают на Рош-гашоно.
3
Днем в шинке у Бейли было пусто. Сама Бейля дремала в задней комнате. В зале у буфетной стойки — только ее помощница, маленькая Ципа. На полу чистые опилки. На буфетной стойке жареный гусь, студень из телячьих ножек, рубленая селедка, печенье в вазочке, соленые сушки. Яша подсел к столику, за которым уже расположился Шмуль-музыкант. Ростом повыше Яши, с копной черных волос, черные баки и усики. Шмуль одевался на русский манер: черная косоворотка, подпоясанная витым пояском, смазные сапоги с высокими голенищами. Несколько лет провел он в Житомире, у какого-то помещика, потом жена тамошнего эконома влюбилась в него, и пришлось спасаться бегством. Здесь, в Люблине, это был известный на весь город скрипач, его приглашали на самые богатые, самые знаменитые свадьбы. Но сейчас, после Пасхи и до праздника швуэс, свадеб не было. Шмуль откинулся к стенке, один глаз прижмурен, а другой устремлен на кружку с пивом. Как будто размышлял: пить или нет? На столе баранка, а на ней муха, большая, блестящая, зеленая, и тоже, казалось, не в состоянии решить: взлететь или нет.
Яша пока не притрагивался к пиву. Глядел на пену, как завороженный. Один за одним оседали пузырьки, и теперь кружка была наполнена лишь на три четверти. Яша приговаривал: «Обман! Обман! Был полный стакан! Чпок-чпок! Чпок-чпок! Тут был пузырек!» Шмуль завел рассказ о своих любовных похождениях, заканчивал одну историю и тут же начинал другую. Мужчины немного помолчали. Яше нравилось слушать Шмуля. Он бы и сам мог порассказать. Рассказы эти повергали его в мучительные сомнения. Пускай так, но кто кого обманывает? Отец обманывал мать или нет? Может, все женщины одинаковы? Правда ли, что Эстер — настоящая «идише тохтер»[9], верная жена? Вслух же сказал:
— Чего ты так стараешься? Суетишься, чтобы взять в плен солдата, который и сам хочет сдаться…
— Ладно тебе, погоди. В Люблине все не так просто, как ты думаешь. Вот ты увидал девушку. Она хочет тебя, ты хочешь ее. Но вот задача — как коту перелезть через забор? А после свадьбы? Тогда у нее есть муж, и даже не узнаешь, где она живет. А если и узнаешь, что из того? Есть еще мать, свекровь, сестры, золовки. У тебя нет этих проблем, Яша. Лишь выехать за городскую заставу, и весь мир твой.
— Тогда поехали со мной.
— Ты меня берешь?
— И даже больше. Оплачу расходы.
— А что скажет Ентл? Когда у человека дети, он уже связан по рукам и ногам. Не поверишь, я скучаю по своей малышне. На несколько дней уеду и уже с ума схожу. Можешь понять такое?
— Я-то? Да я все могу понять.
— Досада берет, а ничего не сделаешь. Будто взял веревку и сам себя привязал.
— А что б ты сделал, если бы жена твоя так же себя вела, как эти, о которых ты рассказывал?
Шмуль-музыкант замолчал, и с лица его сползла улыбка.
— Тут же удавлю ее! Не будь я Шмуль! — он поднес наконец кружку к губам и отхлебнул.
«Вот, все мы таковы, — думал Яша, прихлебывая пиво небольшими глотками. — Никакой разницы. Однако как же он тут устраивается?»
Некоторое время назад перед Яшей встала чрезвычайно трудная проблема. Она не отпускала его ни днем, ни ночью. Конечно, он всегда был малый не промах, позволял себе разные причуды, странные необычные связи. Однако с тех пор, как на пути его стала Эмилия, Яша не знает покоя. Он прямо-таки в философа превратился. И пиво ему теперь не в радость: горечь во рту, какой-то привкус резины… В прошлом у Яши много всяких любовных историй, запутанных и не очень. Он уже перебесился и остепенился, а впрочем, несмотря ни на что, всегда считал, в каком-то конечном смысле, что брак — это святое. Никогда не скрывал, что женат, и всегда ясно давал понять, что не рискнет нарушить такое положение дел. Эмилия же требовала, чтобы он принес жертву: оставил дом, переменил религию. Все это требовало к тому же несметного количества денег. Как их добыть честным путем?
«Нет, надо положить этому конец, и чем скорее, тем лучше», — подумал Яша.
Шмуль подкрутил усы и еще смочил их слюной, чтобы кончики лучше держались.
— Эй, а как там Магда? — спросил он.
Яша с трудом очнулся:
— А как ей быть? Все то же самое.
— Мать ее жива?
— Жива.
— Научилась она чему-нибудь?
— Немножко.
— Чему же, к примеру?
— Может крутить бочку ногами, кувыркается, делает колесо.
— И это все?
— Да, это все.
— Мне кто-то показал варшавскую газету. Про тебя пишут. Пиф-паф! Там тебя сравнивают с кунцнмахером при дворе Наполеона Третьего. Называют великим иллюзионистом. Искусным жонглером. Вот это да.
Последние слова Шмуля разозлили Яшу: он вообще-то не любил ни с кем обсуждать свои дела, разговаривать о своем искусстве и решил вообще ничего не отвечать. Однако вдруг сказал:
— Никого я не обманываю. Тут нет никаких фокусов.
— Ну, еще бы! Ты и в самом деле глотаешь шпагу.
— Да, в самом деле.
— Расскажи лучше своей бабушке!
— Ты, дурачина, как могут обмануть собственные глаза? Тебе случилось услыхать слово «иллюзия», и теперь ты повторяешь это, как попка. Ты хоть понимаешь, что это слово значит? Шпага спускается в горло, а не в карман куртки.
— И клинок — прямо в горло?
— Сперва в горло, потом в желудок.
— И ты остаешься жив?
— Жив еще, как видишь.
— Нет, Яшеле, не могу в это поверить.
— Да на черта мне, чтобы ты… — Яша замолк, вдруг ощутив необычайную усталость.
Ну что с него взять? Шмуль — простой парень, не слишком большого ума, разве он в состоянии поверить собственным глазам… И про жену Шмуля, про его Ентл он кое-что знал: у нее ума немного, попросту придурковата. Да, у каждого есть, что скрывать. У каждого свои секреты. Если бы знать про все, что происходит, ему, Яше, давно бы уже быть в сумасшедшем доме.
4
Спускались сумерки. За городом еще не совсем стемнело, но здесь, на узких улицах, среди высоких домов, было уже мало света. В лавках зажглись свечи и керосиновые лампы. Бородатые евреи, в длиннополых лапсердаках, в тупоносых башмаках, даже в сапогах, неспешно шествовали по улице, направляясь в синагогу к вечерней молитве. Народился новый месяц: новолуние месяца сивана. Еще стояли лужи — след весенних дождей, хотя солнце сияло над городом весь день. Водостоки и канализационные решетки не справлялись с потоками воды, и ручьи бежали вдоль тротуаров. Пахло конским навозом, коровьим тоже, а еще парным молоком. Из печных труб шел дым. Хозяйки готовились к вечерней трапезе: каша с гусиными шкварками, каша с грибами. Шмуль-музыкант попрощался и ушел. Яша тоже направился домой. За пределами Люблина, в большом мире что-то происходит. Ежедневно польские газеты буквально вопят о войне, о революциях, кризисах. Евреев выгоняют из деревень. Многие эмигрируют в Америку. Здесь же идет привычная, хорошо налаженная жизнь еврейской общины. Некоторые синагоги стоят еще со времен Хмельничины. Умирает раввин, его несут на кладбище. Авторы комментариев, цадики[10], знатоки Талмуда — все там. У каждого свой камень или свой мавзолей. Все идет по-старому: женщины ведут дела, мужчины сидят над святыми книгами.
До праздника швуэс оставалось еще несколько дней, но мальчишки из хедера[11] уже украсили окна салфетками из бумаги, вырезав на них разные узоры, делали птичек из яичных скорлупок, лепили из теста жаворонков, принесли из лесу зеленых веток к празднику — в честь того дня, когда дана была евреям Тора на горе Синайской.
Яша остановился: перед ним бейт-мидраш[12]. Он заглянул в окно. Слышался чудесный речитатив вечерней молитвы. Евреи — все вместе — тихо, нараспев произносили Восемнадцать Благословений[13]. Набожные евреи — те, что весь год усердно служили Создателю, — били себя в грудь, воздевали руки, подымали глаза к небу, восклицая: «Мы грешники!», «Мы нарушали заповеди!»
Старый еврей в стеганом длинном халате, в шапке с высокой тульей, надетой поверх двух ермолок, одетых также одна на другую, дергал себя за длинную белую бороду и тихонечко постанывал. По стенам плясали тени от неверного пламени поминальной свечи, горящей в семисвечнике. Яша немного замешкался у приотворенной двери, ощутив привычные запахи детства: воска, свечного сала и еще чего-то — возможно, книжной пыли и плесени. Все евреи, что там были, беседовали о Боге, которого никто из них никогда не видел. Несмотря на то что эпидемии, голод, моровые поветрия, нищета, погром — это все были Его дары, евреи испытывали перед Ним благоговение, чувствовали к Нему благодарность, сострадание и утверждали, что именно они — Его избранный народ. Яша временами завидовал их неколебимой вере.
Прежде чем двинуться дальше, он постоял еще немного. Зажглись уличные фонари, однако они почти не давали света: едва лишь освещали сами себя. Покупателей не было, и понять было невозможно, зачем еще открыты лавки. Женщины сидели, штопая носки мужьям или же подрубая переднички и ночные сорочки. Платки покрывали их бритые головы. Всех тут знал Яша: выданы замуж лет в четырнадцать-пятнадцать, а к тридцати они уже бабушки. Постарев, приобретя преждевременно морщины, потеряв зубы, они все равно оставались добрыми и любящими.
Как отец, как дед его, Яша родился в Люблине. Был он тут чужаком — не потому вовсе, что покинул еврейство. Чужим он был всегда и везде: здесь и в Варшаве, среди евреев и среди поляков. Все другие привязаны к дому, живут на одном месте. Он же, Яша, постоянно в разъездах, постоянно в движении. У них у всех есть дети, есть внуки, а Яша не обзавелся ни тем, ни другим. Есть их Бог, их святые, их цадики — он же полон сомнений. Для них смерть означает Райский сад, для него смерть — ужас и безобразие. Что наступает после жизни? Существует ли душа? Что будет с нею, когда она оставит тело? С самого раннего детства слышал он разговоры о дибуках[14], призраках, оборотнях, чертях и бесенятах. Да и самому доводилось испытать такое, чего не объяснишь законами природы. Ну и что это доказывает? Все больше и больше запутываясь, Яша замыкался в себе. Противоречия, темные неведомые силы раздирали его изнутри. Только страсть к чувственным удовольствиям немного отвлекала, и он на некоторое время забывал ужас, который владел им постоянно.
Пока он шел по улице, лицо Эмилии неясно вырисовывалось во тьме: удлиненный овал, оливково-смуглая кожа, тёмные глаза с еврейским разрезом. Короткий славянский нос, немного вздернутый. Ямочки на щеках, высокий ясный лоб, волосы стянуты на затылке тугим узлом, верхнюю губу оттеняет темный пушок. Она улыбалась — и смущенно, и зовуще одновременно, всматривалась в него пристально, вопрошающе — то ли как светская дама, то ли как сестра. Казалось, протяни только руку — и дотронешься до лица. Было ли это просто живое воображение? Яшины фантазии? Или же действительно видение? Оно двигалось перед ним, пятясь, как картина, как хоругвь в религиозной процессии. Можно было разглядеть прическу, ожерелье на шее, сережки в ушах. Возникало необоримое желание окликнуть Эмилию. Ни одна из его прошлых любовных связей не сравнится с этой. Засыпая ли, просыпаясь, бодрствуя ли, он всегда был с нею. И сейчас: усталость куда-то ушла, и он едва мог дождаться, когда же пройдут праздники. Снова хотелось к ней, в Варшаву. Понимая, как огорчится Эстер, Яша все равно ничего не мог поделать с собою: голос страсти пересиливал все.
Кто-то пихнул его в бок. Это оказался Хазкеле-водонос, с двумя бадейками воды на коромысле. Будто из-под земли возник. Рыжая борода его, казалось, излучала собственный свет.
— Хазкеле, ты?
— А кто еще?
— Так поздно носишь воду?
— Надо же заработать. Нужны деньги к празднику.
Яша порылся в карманах и достал злотый:
— На.
Хазкеле не протянул руки.
— Что это еще? Я милостыню не беру.
— Да не милостыня это. Просто для твоего мальчишки. Купи ему пряников на праздники.
— Ну, когда так, возьму. Спасибо тебе большое.
И его грязные пальцы на мгновение соприкоснулись с Яшиными.
Подойдя к своему дому, Яша бросил взгляд на окошко. Обе швеи все работали — продолжали трудиться над подвенечным платьем. Пальцы сновали быстро-быстро, лишь мелькали наперстки. При ярком свете лампы волосы одной из мастериц, казалось, охвачены пламенем. Эстер суетилась у печки, подкладывая под таганок еловые чурочки: готовила ужин. Посреди комнаты стояла квашня с тестом, прикрытая холстиной и подушкой: Эстер затворила тесто, собираясь печь штрудель для праздника. Ну как ее оставишь? — подумал Яша. Все эти годы она была мне единственной опорой. Если б не ее преданность и верность, меня давно бы уже носило ветром, как лист в бурю.
Яша не пошел в дом, а через сени отправился на задний двор поглядеть на своих кляч. Задний двор — это как кусочек деревни посреди города. Влажная от росы трава, аромат яблок, еще совсем зеленых, незрелых. Казалось, здесь выше небо, да и звезд на нем высыпало больше. Вдруг сорвалась где-то звезда и понеслась вниз, чертя на небе огненный след. Пахло чем-то сладким, пряным. Что-то шелестело, шуршало, волновалось, стрекотали кузнечики — каждый на свой лад. Все сливалось в общий оглушительный звон. Прошуршала в траве полевая мышка. Свои ходы прорыли кроты, и бугорки земли обозначили их путь. Птицы свили гнезда: на деревьях, в сарае, под застрехой. Дремали куры на сеновале: каждую ночь они негромко пререкались, деля места на насесте. Свежий ночной воздух. Яша глубоко вздохнул. Все же странно: каждая из звезд больше, чем земля, и так далеко до каждой из них: миллионы и миллионы километров. А если прорыть яму глубиной в тысячу километров, можно добраться и до Америки. Яша отворил конюшню. Лошади едва лишь вырисовывались, окутанные тайной. В их вопрошающих, все понимающих глазах сверкали золотые искорки. Вспомнилось Яше, что отец его — да будет благословенна его память! — говорил сыну: «Животным дано видеть силы зла». Кара обмахивалась хвостом и била о землю копытом. Яша прямо-таки физически ощущал, как безмерно предана ему эта кобыла.
5
В первый день праздника швуэс все синагоги, и бейт-мидраши, и все хасидские молельни были переполнены. Вот и Эстер, достав тисненый золотом молитвенник, надела шляпку, купленную еще к свадьбе, и отправилась в женскую синагогу. Яша остался дома один. Раз Бог никогда не отвечает — для чего же тогда с ним разговаривать? Еще в Варшаве он купил толстую книжку — на польском — о науке, о законах природы, и теперь принялся за нее. Там про все было: и про законы тяготения, и почему у магнита есть северный и южный полюс, почему одинаковые полюса отталкиваются, а противоположные притягиваются; почему плавает пароход, каким образом работает гидравлический пресс, как громоотвод притягивает молнию, отчего приходит в движение локомотив. А еще там содержалась информация, жизненно важная для Яши: ведь он многие годы ходил по канату и не знал, что держит равновесие только потому, что центр тяжести находится прямо над веревкой. Однако же, даже прочтя до самого конца эту «просветительскую» книгу, на многие вопросы Яша так и не получил ответа. Как образуются скалы, утесы, горы? Что она такое, это гравитация? Почему магнит притягивает железо и не притягивает медь? Что такое электричество? И откуда это все взялось: небо, земля, солнце, звезды? В книге упоминались гипотезы Канта и Лапласа о происхождении солнечной системы, но там тоже как-то не сходились концы с концами. Эмилия подарила Яше толстенный том, написанный каким-то профессором теологии, по истории христианства, но эти разговоры о непорочном зачатии, объяснение триединства: Бог-отец, Бог-сын, Бог-Дух Святой — представлялись Яше еще более невероятными, чем все те чудеса, что хасиды приписывали цадикам. Как можно во все это верить? — удивлялся Яша. Да нет, Эмилия притворяется. Все они притворяются. Весь мир участвует в фарсе, попросту говоря, ломает комедию, потому что каждый стесняется сказать: не знаю.
Яша расхаживал взад-вперёд. Мысли эти приходили ему в голову, когда он оставался один. Как так получается? Его отец был набожный еврей, бедняк, жестянщик, владелец скобяной лавочки. Мать умерла, когда Яше было около семи. Отец больше не женился. Мальчик рос, предоставленный сам себе. День пойдёт в хедер, потом три дня пропустит. В лавке у отца было полно самых разнообразных замков и ключей. Яшу это ужасно занимало. Часами он был в состоянии крутить, вертеть замок то так, то этак, разбирать его, пока не откроет без ключа. Приезжали в Люблин циркачи из Варшавы, из других больших городов — Яша следовал за ними из улицы в улицу, наблюдая все трюки, а потом пытался воспроизвести. Если же доводилось увидеть карточный фокус, возился с колодой до тех пор, пока этот фокус не удастся. Во все глаза глядел, как акробат ходит по верёвке, а потом бежал домой и пытался сделать то же самое. Упав, подымался и снова пробовал. Бегал по крышам, нырял на глубину, прыгал с балконов на солому — перед праздником Пасхи, когда меняли солому в матрасах, а старую выбрасывали на улицу. Всё ему сходило с рук.
Он передёргивал молитвы, нарушал субботу и всё же продолжал верить, что Ангел-хранитель стоит на страже и бережёт его от всевозможных бед. И это его-то, безбожника, известного в Люблине нахала и плута, грубияна и дикаря, — надо же так случиться, чтобы его полюбила порядочная девушка. Влюбилась в него. А он увязывался за любым бродячим цирком, даже за цыганом с медведем, за любой польской странствующей труппой, выступавшей где придётся, аж в пожарных сараях. Но Эстер ждала его — ждала терпеливо, подолгу, прощала все эти выходки. Только благодаря ей есть у Яши собственный дом, есть хозяйство, есть уверенность, что Эстер ждёт его. Это льстило честолюбию. Желая упрочить положение, прославиться на всю Польшу, Яша выступает в летних театрах, в Варшавском цирке. Теперь уж не ходит он по улицам и дворам в сопровождении обезьянки, с шарманкой — теперь он, Яша, мастер, артист. Газеты наперебой расхваливают его, пишут: «большой талант». Господа и дамы приходят за кулисы, чтобы поприветствовать его и поздравить с успехом. Живи он в Европе, говорили они, была бы уже у Яши мировая известность.
Годы шли, но трудно было сказать, куда они уходят. Временами он чувствовал себя всё ещё мальчишкой, а иногда — столетним стариком. Яша сам выучил русский, польский, арифметику, грамматику. Прочёл учебники по алгебре, физике, химии, географии, истории. Голова его была забита всевозможными фактами, датами, самыми разнообразными сведениями. Стоило ему лишь бросить взгляд, и было ясно, что за характер у человека. Стоило кому-то открыть рот, а Яша уже знал, что тот собирается сказать. Он мог читать с завязанными глазами, был непревзойдённым экспертом по месмеризму, магнетизму, гипнозу. А вот между Эмилией, дамой благородного происхождения, профессорской вдовой, и им, Яшей, происходило нечто совершенно иное. Это не он магнетизировал, притягивал её, тут было совершенно иначе. Как бы далеко она ни была, на любом расстоянии, хоть за тысячу вёрст — никогда не покидала его Эмилия. Яша ощущал на себе её пристальный взгляд, слышал голос, вдыхал аромат её тела. Постоянно в напряжении, как натянутая тетива, или же будто идёт по проволоке. Только соберётся заснуть — она тут же приходит, пусть лишь в воображении, но такая трепетно живая, шепчет всякие нежные пустяки, целует, обнимает, высказывая к нему свою любовь, и, что странно, Галина, дочь Эмилии, тоже всегда рядом с матерью.
Дверь отворилась, и вошла Эстер, держа молитвенник в одной руке, а другою придерживая шлейф шелкового платья — нарядного, в оборках. Шляпка Эстер со страусовым пером напомнила Яше первую субботу после свадьбы, когда Эстер, невеста, отправилась в синагогу. Сейчас глаза её сверкали радостью — высшей радостью человека, который участвовал в торжественной праздничной церемонии, разделяя её с другими.
— Доброго праздника! Гут йомтов!
— И тебе тоже доброго праздника, Эстер!
Яша обнял Эстер, и она зарделась, как невеста. Из-за долгих разлук они сохранили юношеский пыл и чистоту чувства новобрачных.
— Что там происходит, в синагоге, а?
— У мужчин или у женщин?
— У женщин.
— Женщины есть женщины. Немного молитв, немного болтовни. Слышал бы ты Акдомут[15]. Ничто с этим не сравнится. Лучше любой из твоих самых лучших опер.
Тотчас же Эстер начала хлопотать, готовить праздничную трапезу. Не имеет значения, что Яша таков, каков он есть, — у неё всё равно должен быть хороший еврейский дом, как положено. Она выставила на стол графин с наливкой, бокал для благословения вина, солонку, вазочку с мёдом, выложила субботнюю халу, хлебный нож с перламутровой ручкой. Яша произнёс благословение над вином. Уж в этом не мог он ей отказать. Были они одни, и это всегда напоминало Эстер о её бесплодии. С детьми всё было бы иначе. Эстер грустно улыбнулась и утёрла выкатившуюся слезинку концом кружевного передника. Затем подала рыбу, молочную лапшу, креплах[16] с творогом и корицей, на сладкое — цимес[17] из слив, штрудель и кофе. Яша всегда возвращался домой на праздники. Только тогда они и бывали вместе. Эстер пристально вглядывалась в мужа. Что же он такое? Почему она его любит? Знает она, знает — Яша ведёт грешную жизнь. Одному Богу известно, как низко он пал. Однако нет к нему недобрых чувств. Все поносят Яшу, как только могут, жалеют её. Но Эстер не отдала бы, не променяла бы Яшу ни на какого другого мужчину — даже самого достойного, — пусть это будет хоть сам рабби.
После трапезы парочка отправилась в спальню. Было непривычно ложиться вместе в постель среди бела дня, но, когда Яша отправился во двор закрыть ставни, она не возражала. Лишь только муж обвил вокруг неё руки, Эстер пришла в возбуждение, прямо как девушка — ведь женщина, которая не рожала, ни разу не беременела, остаётся навсегда непорочной.
Глава вторая
1
Вот и прошли праздники. Пора уже Яше отправляться в путь. В последнюю ночь Яша наговорил Эстер такого, что очень её испугало.
— Каково тебе будет, если я никогда не вернусь? — спросил он у жены. — Что ты будешь делать, если я умру в дороге?
Эстер закрывала ему рот рукой и просила ничего такого больше не говорить. Но Яша настаивал: «Такое случается, сама знаешь. Вот недавно только я подымался на башню городской ратуши. Легко мог оступиться». И ещё он упомянул о завещании. Уговаривал Эстер не слишком-то долго оплакивать его смерть, если что, только положенные дни траура. Ещё показал тайник, где припрятал несколько сотен золотых дукатов. Эстер опять пыталась протестовать: говорила, что Яша портит последние часы перед разлукой, перед расставанием до встречи только в месяце Ав[18]. Тут Яша нанёс ещё удар: «Допустим, я полюбил другую и собираюсь тебя оставить. Что бы ты на это сказала?»
— Что бы я сказала? Так ты влюбился в другую?
— Не болтай глупостей!
— Лучше уж скажи правду.
Потом Яша опять целовал её и клялся в вечной любви. Такие сцены не были им внове. Ему нравилось терзать жену всевозможными предположениями и вопросами, которые ставили в тупик. Долго ли будет она ждать, если его посадят в тюрьму? Или он уедет в Америку? Может, подхватит чахотку и его отправят в санаторий? А у Эстер на всё один ответ: никогда, никогда не сможет она полюбить никого другого. Без него жизнь кончена. Он же всё спрашивал и спрашивал. И требовал ответа: «А если я стану отшельником, затворюсь в каменной темнице без дверей — во искупление грехов — как тот праведник, литвак из Эйшишек? Останешься ли верна мне? Будешь ли носить еду и подавать через отверстие в стене?» Эстер возражала: «Необязательно сидеть в темнице, если хочешь искупить грехи».
— Смотря какие грехи…
— Тогда и я пойду с тобой в темницу…
И опять всё заканчивалось новыми ласками, нежностями, уверениями в бессмертной любви. Потом Эстер заснула. Ночью её мучили кошмары, а потом она проспала до самого полудня. Про себя тихонечко шептала молитву — нашла её в молитвеннике: «Всемогущий Господи, я в твоей власти, и все мои помыслы принадлежат тебе…». А ещё она опустила шесть грошей в кружку для подаяний реб Меиру Чудотворцу. Эстер попросила, и Яша дал святое обещание не терзать её больше такими ужасными разговорами. Разве может знать будущее человек? Всё предопределено на небесах.
Да, праздники прошли. Яша запрягал лошадей, собираясь отправиться в путь. Брал с собою обезьянку, ворону и попугая. Эстер так много плакала, что глаза её покраснели и распухли. Болела голова, в левой стороне груди как будто лежал тяжёлый камень. Не будучи, конечно, пьяницей, после отъезда мужа Эстер всегда выпивала рюмочку вишнёвой наливки: просто чтобы поднять настроение. Работницам её приходилось несладко: к каждому-то стежку она придиралась. Да и у девушек портилось настроение после Яшиного отъезда — такой уж счастливый характер был у этого богохульника.
Уезжал он в субботу вечером. Эстер провожала его за город, ехала в фургоне до самого шляха. Она бы поехала и дальше, но Яша шутливо хлопнул её кнутом по заду: не следует ей возвращаться так издалека одной, по темноте. Он поцеловал жену в последний раз, и Эстер осталась стоять — в слезах, с простёртыми к нему руками. Многие годы так проходило их расставание, а всё же на этот раз оно было особенно нестерпимо.
Яша прищёлкнул языком, и лошади пустились галопом. Стояла тихая летняя ночь. Ярко светила луна — она была в последней четверти. Глаза смежила дрёма. Немного погодя Яша отпустил вожжи, лошади перешли на шаг. Так ехал он потихоньку, и луна бежала вместе с ним. Волновались колосья пшеницы, отливая серебром в сиянии лунного света. Можно было разглядеть каждый василёк у дороги, каждое пугало на крестьянском поле. Пала вечерняя роса, и это походило на цветы, просыпанные из небесного решета. Слышались какие-то шорохи, происходило непрерывное движение, будто сыпалось невидимое зерно на невидимую мельницу. Даже лошади изредка поворачивали морды. Слышно было, как корни вонзаются в землю, распирают её, как растёт трава, как струятся подземные потоки. Порою тень падала на поля — будто тень сказочной птицы. Иногда слышались звуки: человек ли подавал голос, зверь ли то был, а то казалось, чудовище парит в небе. Яша глубоко вдохнул свежий ночной воздух и потрогал пистолет. Всегда он брал пистолет с собой — на большой дороге могли быть грабители и разбойники. Вот наконец большак, ведущий в Пяск. Тут на окраине жила мать Магды, вдова кузнеца. Да и в самом Пяске у Яши водились знакомые среди воров, и там он свёл знакомство с Зевтл-агуной[19]… с ней была у него связь…
Вскоре показалась и кузница: покосившиеся стены, окна, похожие на дыры, всё покрыто толстым слоем копоти, крыша съехала на бок… Одним словом, заброшенное место. Когда-то отец Магды Адам Збарский ковал тут плуги, топоры, прочие нужные крестьянам вещи. Сын шляхтича, потерявший состояние в восстании 1831 года, он послал Магду в хорошую школу в Люблине. Сам же вскоре скончался во время эпидемии. Магда выступала теперь с акробатическими трюками, коротко стригла волосы, надевала гимнастическое трико во время представлений, крутила сальто, катала ногами бочку, подавала Яше всё, что могло понадобиться для жонглирования. В Варшаве они жили в Старом городе, в одной квартире. Обычно он записывал Магду как прислугу.
Лошади, видимо, тоже узнали мельницу, потому что припустили быстрее. Теперь вокруг были поля гречихи и картофеля. Проехали мимо придорожной каплицы: Мария держала на руках младенца. В лунном свете статуя казалась живой. Дальше, на холме расположилось католическое кладбище, обнесённое высокой оградой. Яша прищурился. Те, кто здесь лежит, успокоились навеки. Всегда ему хотелось найти на кладбище знаки жизни после смерти. Слыхал он бесчисленные истории о крошечных огоньках, мерцающих меж могил, — что-то наподобие теней или призраков. Говорили, будто дед его являлся детям, блуждал неделями и даже месяцами после смерти. Будто бы стучался ночью в окно к дочери. Сейчас ничего такого не было видно. Берёзы, склонившиеся друг к дружке, казалось, застыли и окаменели. Ни малейшего дуновения ветерка, но слышится шелест листьев. Могильные камни в молчании глядят друг на друга. Видимо, они уже сказали последнее слово.
2
Збарские ждали Яшу. Ждали весь вечер. Грузная, скроенная как стог сена, Эльжбета Збарская, вдова кузнеца, с седыми волосами, небрежно сколотыми шпильками на затылке, с благородным, несмотря на полноту, лицом, сидела и раскладывала пасьянс. Оставшись сиротой в раннем возрасте, Эльжбета не умела ни читать, ни писать. Однако же в картах разбиралась блестяще. Будто росла в аристократическом семействе. Должно быть, когда-то была она хороша. Да и сейчас сохранила правильные черты лица: хорошей формы нос, разве что чуть вздернутый, четко очерченные губы, хорошо сохранившиеся зубы, большие серые глаза. Портили только второй подбородок и еще базедова болезнь. Огромная грудь выдавалась вперед; невероятной толщины руки; туловище походило на мешок, набитый мясом, на котором то тут, то там возникали небольшие холмики. Болели ноги, и даже подле дома Эльжбета передвигалась только с палкой. Карты совершенно истрепались и засалились. Она бубнила себе под нос: «Опять туз пик! Плохой знак. Что-то будет, дети! Что-то будет!..»
— Ну что там такое может случиться, мать? Вечно ты со своими причитаниями! — прикрикнула на нее Магда. Она уже упаковала все необходимое в сундучок с медной окантовкой — Яшин подарок. Магде было под тридцать, однако выглядела она много моложе. Когда проделывала перед публикой свои трюки, никто не давал ей больше восемнадцати. Тоненькая, смуглая, с плоской грудью. Кожа да кости, одно слово. С трудом верилось, что Эльжбета — ее мать. Серые с прозеленью глаза, вздернутый носик, пухлые губки, вытянутые вперед, будто для поцелуя, или же, скорее, как у ребенка, готового заплакать. Длинная стройная шея, пепельные волосы, высокие скулы, на щеках играет яркий румянец. Однако же нечистая, угреватая кожа. Из-за этого в школе Магду прозвали жабой. Это была угрюмая, замкнутая девочка, вороватого вида, с нелепыми злыми шалостями. Уже тогда она была необычайно подвижна. Могла без труда взобраться на дерево, исполнить самый новомодный танец. Как везде погасят огонь, могла выбраться через окно из дортуара и тем же путем вернуться обратно. Магда всегда говорила, что пансион этот — чертова дыра. Не способная к учению, стала предметом насмешек пансионерок еще и потому, что была дочерью кузнеца. Ни одна из учительниц не испытывала к ней симпатии. Не раз пыталась Магда убежать, часто ссорилась с пансионерками. Однажды ударила по лицу монахиню. Умер отец, и Магда ушла из школы. Вскоре Яша взял её к себе в помощницы.
Про Магду говорили с самой юности, что мужчинам не будет места в её жизни: ведь у неё даже не было месячных. Однако вот уже несколько лет была она с Яшей. А кожа осталась такой же угреватой. Магда не делала тайны из отношений с хозяином. Всякий раз, как Яша ночевал у Збарских, она спала с ним в алькове на широкой кровати, и по утрам Эльжбета подавала парочке кофе с молоком прямо в постель. Мать называла Яшу «сыночек». Раньше Болек, младший брат Магды, злился на Яшу, грозился отомстить, но постепенно и он принял создавшееся положение. Яша помогал семье, давал деньги и Болеку: на попойки, на игру в карты и в кости. Напившись, Болек постоянно грозился расправиться с этим проклятым жидом, который позорит доброе имя Збарских. Эльжбета молотила сына кулаками по голове, а Магда приговаривала: «Только тронь, только тронь… Хоть волос с его головы упадёт, и мы сдохнем с тобой оба. Вместе со мной в могилу сойдёшь. Клянусь памятью отца…» — и она вставала на дыбы, и шипела, и плевалась, как кошка на собаку.
Семья опускалась всё ниже. Магда бродяжила с циркачом. Болек спутался с воровской шайкой из Пяска. Его посылали с добычей к перекупщикам краденого, и частенько ему приходилось ночевать в компании убийц. А Эльжбета постепенно превратилась просто в обжору. Растолстев до невероятных размеров, она теперь с трудом пролезала в дверь. С самого рассвета и до последнего «Отче наш» перед тем, как отойти ко сну, не переставала жевать: сосиски с капустой, оладьи со смальцем, яичницу с луком и грибами, креплах с мясом, креплах с кашей. Ноги до того отяжелели, что не могла дойти до костёла даже по воскресеньям. Постоянно плакалась детям: «Ой, брошены мы, брошены, всеми позабыты! Как ушёл от нас отец — пусть душа его найдёт мир на небесах, — мы тонем и тонем в грязи… Никто-то о нас не позаботится…»
Соседи говорили, что Эльжбета пожертвовала Магдой ради Болека. Мать слепо восхищалась сыном, прощала капризы, оправдывала все его выходки, отдавала Болеку последний грош. Давненько не бывала она в костёле, однако же молилась пану Езусу, ставила свечи святым угодникам, преклоняла колени перед образами, произносила по памяти молитвы. Одна лишь была у этой женщины забота: лишь бы ничего не случилось с её благодетелем, с Яшей, лишь бы он, упаси Господи, не потерял интерес к Магде. Своим существованием Збарские были обязаны его щедрости. Её, Эльжбету, сломили болезни: поражённые артритом суставы, скрюченный от боли позвоночник, варикозные вены, опухоль груди, твёрдая, как камень, — и постоянная тревога, чтобы не разбил паралич, как это случилось с её матерью, пусть она теперь отдыхает в Раю.
Болек отправился в Пяск с раннего утра, и никто не знал, когда он вернётся. А может, заночует среди этого сброда — так Эльжбета называла его приятелей-воров. Была у него там ещё и полюбовница. Итак, Эльжбета ожидала, что этим вечером либо вернётся Болек, либо появится Яша. Разложить пасьянс — это не просто предвидеть будущее: это и узнать, кто из двоих появится вперёд и в какое время. Каждая карта значит своё. Когда колода уже разложена, каждый король, дама или валет означают иное. Короли, дамы и валеты были для Эльжбеты живыми, таинственными и непостижимыми. Услыхав, что лает Бурек, дворовый пёс, и дребезжит повозка, она благодарно перекрестилась. Нех бендзы похвалёны Езус Христус, он уже здесь, её дорогой сыночек, её малыш из Люблина, её благодетель. Конечно, у него жена в Люблине, и ещё он связался с этой шайкой жуликов из Пяска, но нельзя позволять себе задерживаться на этом — что в том пользы? Надо брать то, что можно получить. Что она такое? Убогая, нищая вдова, дети её сироты, и как можно знать наперёд путь человека? Это всё же лучше, чем отправить дочку гнуть спину на фабрике, они там выкашливают лёгкие, или же послать в бордель. Каждый раз, заслышав приближение Яшиной повозки, Эльжбета испытывала одно и то же чувство: силы зла сговорились, хотят погубить её, однако их удаётся победить неустанными молитвами, постоянными мольбами к создателю. Мать хлопнула в ладоши и торжествующе глянула на дочь, но та, как всегда чересчур гордая, держалась безразлично. Уж мать-то знала, что в душе та довольна: Яша был всем для неё — и возлюбленным, и отцом. Кто бы ещё обратил внимание на эту сухую щепку, эту тощую палку?
Эльжбета вздыхала, пыхтела, отдувалась, пытаясь подняться. Магда помедлила чуть дольше. Потом ринулась за дверь и побежала навстречу Яше, раскинув руки:
— Коханый!..
Соскочив с козел, Яша уже целовал и обнимал Магду. Кожа горячая, будто в лихорадке. Всё время крутился под ногами Бурек, повизгивая и виляя хвостом. Бранился попугай, визжала обезьянка, каркала ворона, пытаясь что-то сказать. Прежде чем появиться на пороге, Эльжбета подождала, пока Яша наобнимается с дочерью. Теперь и она стояла там — необъятная, нескладная, огромная, как снеговик, и терпеливо ждала, пока он подойдёт и поцелует руку — прямо настоящий шляхтич. Каждый его приезд было одно и то же: она целовала его, обнимала и приветствовала: «Гость в доме — Бог в доме». А потом льются слёзы, и Эльжбета утирает их концом фартука.
3
Эльжбета ждала Яшиного приезда не только из-за дочери. Был у неё и свой интерес. Всегда-то он привозил ей что-нибудь из Люблина: что-нибудь вкусненькое — паштет, халву, пряники из кондитерской. Но больше, чем по этим вкусным вещам, она томилась по Яше, так как с ним можно было поговорить. Болек напрочь отказывался её слушать, несмотря на всю её преданность и полную покорность. Стоило начать какую-нибудь историю, как он грубо прерывал: «Вот здорово, матушка, давай, ври дальше…» От этой наглости слова застревали у Эльжбеты в горле. Её бил кашель, доводя до апоплексической красноты. Задыхаясь, икая, приходилось позволять этой вонючей скотине Болеку подавать воду, стучать по спине, иначе было не избавиться от комка в горле.
А Магда — та едва разговаривала с матерью. Хоть три часа взывай к ней, рассказывай о самых диковинных, самых невероятных событиях, она и глазом не моргнёт. Только Яша, этот еврей, циркач этот, кунцнмахер по-ихнему, сам вызывал её на разговор, подсказывал, подначивал на рассказы, обходился с ней, как с тёщей и следует обходиться, с любимой тёщей, а не с такой, которую ненавидят. Бедный парень, он сам мыкался сиротою в раннем детстве, и теперь Эльжбета была всё равно что мать ему. Втайне она осознавала, что это ей обязана Магда тем, что Яша столько лет с ними. Это она, Эльжбета, готовила ему самые любимые блюда, подавала разного рода практические советы, предупреждала, чтобы остерегался врагов, даже толковала сны. Эльжбета подарила Яше маленького слоника — фамильная вещь, доставшаяся ей в наследство от бабушки. Яша прикреплял его под лацкан пиджака, когда ходил по проволоке или же проделывал один из опасных трюков.
Каждый раз по приезде Яша клялся, что не голоден, однако у Эльжбеты всегда находилось что-нибудь вкусненькое. Всё готово заранее: чисто выстиранная скатерть, растопка у печки, фарфоровая чашка, из которой он обычно пил, его с голубыми узорами тарелка. Ничего не упущено, даже салфетка есть. Эльжбета слыла непревзойдённой хозяйкой. Её муж, конечно, был кузнец, но дед её, магнат Чапинский, владел имением с четырьмя тысячами душ, и охотился он вместе с высокородными Радзивиллами.
Эльжбета уже поужинала, но приезд Яши снова пробудил аппетит. После обмена приветствиями Яша с Магдой отправились отдохнуть в альков, а Эльжбета занялась приготовлением ужина. И куда девались её болезни? Слабость необъяснимым образом исчезла. Ноги, к ночи наливавшиеся свинцовой тяжестью, казалось, обрели лёгкость, как по мановению волшебной палочки. В мгновение ока разгорелась печка, и она варила, пекла, жарила, поражаясь собственной живости и проворству. Эльжбета удовлетворённо вздохнула. Ну, и что такого, что Яша нравится Магде? Он вдыхает новую жизнь и в неё, Эльжбету.
Всё шло заведённым порядком: Яша уверял, что не голоден, но еда уже стояла перед ним, её аромат проникал в каждую пору, заполнял каждый уголок. На этот раз Эльжбета приготовила вареники с вишнями и творогом, да ещё посыпала их сахаром и корицей. Бутылка вишнёвой наливки стояла на столе, и ещё — ликёр, его Яша привёз из Варшавы в прошлый раз. Отведав вареников, Яша попросил ещё. Даже у Магды, с её усохшим желудком, с её страданиями от запоров, вдруг развился зверский аппетит. Пёс, помахивая хвостом, жался к Яшиному колену. Подав кофе со сдобным печеньем, Эльжбета приступила к своим историям: как предан был ей муж, как носил её на руках, как однажды царский экипаж остановился перед кузницей, чтобы заменить подкову, и царь — сам царь! — вошёл в их дом, и как она, Эльжбета, подала ему водки. Самое большое событие в её жизни произошло во время восстания 1863 года, когда она дала пристанище обречённым мятежникам и предупредила польский отряд о приближении казаков. Проникновенно, с глазами, полными слёз, она уже спасла одну высокородную шляхтенку от посягательств русских солдат. Магда была тогда ещё ребёнком, однако же Эльжбета призвала её в свидетели:
— Помнишь, Магда? Ты сидела у генерала на коленях, на нём штаны с красными лампасами, а ты сидишь и играешь у него на коленях, играешь его медалями. Не помнишь? Ах, дети, дети… Головы у них, что капуста. Кушай, дорогой мой мальчик, возьми ещё блинчиков. Это не повредит. Моя бабушка, может, она молится за нас на небесах, бывало говаривала: «Кишки дна не имеют».
За этой историей следовала другая. Эльжбета страдала многочисленными болезнями. Ей уже разрезали грудь и снова зашили — иглой. Приподняв кофту, она показала шрам. И однажды эта женщина уже стояла на пороге смерти — священник дал ей отпущение грехов, сняли мерку для гроба. Она лежала все равно что мертвая, а над ней витали ангелы, духи, носились призраки. Откуда-то появился покойный уже отец. Увел прочь все эти видения, восклицая: «Моя дочь еще ребенок! Она не должна умереть!..» — и в тот же миг она очнулась, обливаясь потом, — капли пота, как крупные горошины, катились по лицу.
Часы с деревянными гирями уже показывали двенадцать, а Эльжбета только еще распалялась. Для такого внимательного и уважительного слушателя, как Яша, у нее в запасе еще была дюжина-другая историй. Он задавал вопросы по ходу дела и поддадакивал, где требовалось. Все чудесные преобразования, все то необычайное, что она описывала, странным образом походили на те, что ему доводилось слышать от польских евреев.
Магда поерзала, краснея от возмущения, зевнула:
— В последний раз, мама, ты рассказывала эту историю совершенно иначе.
— Что ты такое говоришь, деточка? Как ты смеешь? Позоришь меня перед моим дорогам мальчиком. Да, твоя мать — бедная вдова, без денег, без положения в обществе. Но чтобы лгать — никогда!
— Ты просто позабыла, мама.
— Ничегошеньки я не забыла. Вся жизнь стоит перед глазами. Как картина. И она принялась рассказывать новую байку про жестокий мороз. В тот год зима настала так рано, что евреи уже на праздник Кущей[20] вынуждены были сменить ботинки на валенки. Ветер сносил соломенные крыши. Стремительный поток размыл плотину и снес ветряную мельницу. Затопило полместечка. А потом намело столько снегу, лежали такие высокие сугробы, что люди вязли в снегу, как в болотной трясине, и тела их не могли обнаружить до самой весны. По лесам рыскали голодные волки, врывались в деревни, утаскивали детей прямо из колыбельки. От жестокого мороза трещали и раскалывались огромные дубы… И тут ввалился Болек — паренёк среднего роста, рябой, краснорожий, с водянистыми голубыми глазами, жёлтыми, как солома, прямыми волосами, курносым носом, широко вывернутыми ноздрями — прямо бульдог. В расшитом жилете, брюках-галифе для верховой езды, высоких охотничьих сапогах, в шляпе с пером — ни дать ни взять с картины. В углу рта прилепилась папироска. Вошёл, что-то насвистывая, и зацепился за порог — видимо, был пьян. Увидев Яшу, ухмыльнулся и помрачнел:
— Ну-ну, ты уже тут как тут.
— Поцелуйтесь же, свояки, — подала голос Эльжбета, — вы же родня, в конце-то концов… Раз Яша с Магдой, он тебе всё равно что брат, даже ближе, ближе.
— Хватит, мать!
— О чём я прошу-то? Только о мире. Раз как-то ксёндз говорил на проповеди, что мир подобен росе, которая падает с неба и насыщает поля. Другой раз епископ к нам приехал из Ченстохова. Помню всё, будто это было сегодня. На голове — красная шапка… — и снова полились слёзы. Больше Эльжбета не могла произнести ни слова.
4
Пора было отправляться в Варшаву, однако Яше приходилось задержаться на пару дней, и это очень его огорчало. Немного погодя он ушёл в альков и улёгся отдохнуть на широкой кровати. Там Эльжбета уже набила матрац новой соломой, постелила свежие простыни, надела чистые наволочки и пододеяльник. Магда не сразу пошла к Яше. Сначала вымылась и расчесала волосы. Мать помогла ей подмыться, а затем облачила её в длинную ночную сорочку, отделанную кружевами на груди и по подолу. Яша лежал тихонечко, сам поражаясь этому. «Это потому, что мне просто скучно», — подумалось ему. Он прислушался. Мать с дочерью о чём-то пререкались. Эльжбете нравилось давать Магде наставления перед тем, как той отправиться в постель. Сейчас она просила Магду положить мешочек с лавандой под бельё. Растянувшись на лавке, громко храпел пьяный Болек. Как поразительно всё же: он, Яша, жил так, будто и в жизни ходил по проволоке. Так и сейчас — одно неверное движение, и этот Болек всадит ему нож в сердце.
Яша впал в дрёму, и ему пригрезилось, будто он летит: подымается над землёй и парит, парит… Интересно знать, почему же он не делал так прежде, ведь это так легко, так легко, легко… Почти каждую ночь приходил этот сон, и просыпался он каждый раз так, будто ему открылась иная, искажённая, другого рода реальность. Был ли это сон? Или же просто грёзы? Мечты о полёте? Проходили годы, но и теперь его не оставляла, прямо-таки завораживала идея: надеть крылья и лететь. Если это могут птицы, может и человек. Крылья надо сделать большие, из плотного лёгкого шёлка, который употребляют для воздушного шара. Натянуть шёлк на спицы, а крылья чтобы раскрывались и складывались, как зонтик. Если же этого окажется недостаточно, можно сделать ещё такие перепонки, вроде как у летучей мыши, и привязать между ног. Человек тяжелее птицы, однако же орлы и соколы тоже не слишком-то лёгкие, а они в состоянии взлететь, даже ухватив когтями овцу. Если выдавались моменты, когда Яша был в состоянии не думать об Эмилии, все мысли были только о полётах. Полные ящики держал каких-то чертежей, диаграмм, вырезок из журналов и газет. Конечно, многие из тех, что пытались взлететь, погибли, но это же факт, что они всё-таки взлетели, пусть даже и на короткий миг. Просто материя должна быть крепче, остов прочнее, человек — более подвижным, лёгким, более ловким. То-то будет мировая сенсация, если он, Яша, подымется над крышами Варшавы, а ещё лучше — Рима, Парижа, Лондона.
Снова и снова его охватывала лёгкая дрёма, и он лежал с открытыми глазами, готовый очнуться от грёз, когда Магда придёт к нему. Она принесла с собой запах лаванды. Была она всегда очень стыдлива, и такой до сих пор осталась. Пришла к нему как застенчивая девочка, с извиняющейся улыбкой. Легла рядом — угловатая, костлявая, холодная, как ледышка, в слишком большой для неё ночной сорочке, с влажными ещё после мытья волосами. Его рука легла на худенькие рёбра.
— Что с тобой? Ты ничего не ешь? — прошептал он.
— Да я ем.
— Тебе будет легче полететь. Весишь не больше гуся…
Сразу бы отправиться им по проторенной дорожке, но теперь, после долгого отсутствия — ведь Яша несколько недель провёл в Люблине с Эстер, — приходилось привыкать друг к другу снова. Магда лежала спиной к нему, и надо было её приласкать, чтобы она повернулась лицом. И ещё она стеснялась матери и брата. Если Яша издавал слишком громкий звук, Магда закрывала ему рот рукой. Он обнимал девушку, и она трепыхалась у него в руках, как воробышек. Шептала что-то так тихо, что едва можно было разобрать. Почему его не было так долго? Она прямо боялась, что он никогда не вернётся. Мать без конца говорила, что пришла чёрная полоса, что он не вернётся… жаловалась, ныла, приставала к Магде, уверяла, что Яша бросил её… Болек связался с воровской шайкой. Это прямо срам, такой позор. Брат может угодить в тюрьму. И слишком много пьёт. Напьётся и задирается, лезет на рожон. И что там было делать в Люблине столько времени? Так долго его не было, время тянулось, как патока.
Поразительно, что такая застенчивая девочка может быть столь страстной. Как дибук в неё вселился. Осыпала Яшу поцелуями, подчинялась во всём, делала всё, чему он обучил её, — только молча, из страха, что мать или брат могут проснуться. Это походило на тайный обряд, на танец, исполняемый ночными призраками. В школе Магду научили правильно говорить по-польски, но сейчас она бормотала что-то на грубой тарабарщине — едва можно было разобрать, что она говорит. Лишь редкие слова — странные, грубые, бесстыдные — унаследованные от многих поколений хлопов[21]. Яша сказал:
— Если так случится, что я тебя оставлю, знай, я вернусь к тебе. Оставайся верна мне.
— Да, коханый мой, до самой смерти. Единственный мой…
— Я приделаю тебе крылья, и ты полетишь.
— Да, мой повелитель… я уже лечу, прямо сейчас…
5
В Пяске базарный день. Болек ещё с утра, сразу же после завтрака отправился в Люблин, а Яша пешком пошёл в Пяск, сказав, что ему надо сделать кое-какие покупки. Эльжбета попыталась удержать его, оставить на второй завтрак, но Магда замотала головой, останавливая её, — девушка никогда не перечила Яше. Он поцеловал Магду, и та смущённо сказала только: «Не забудь дорогу домой».
Торговать на базарной площади начинали лишь только рассветёт, но припоздавшие мужики ещё тянулись вниз по дороге. Кто вёл на убой тощую коровёнку, кто бычка, кто козу. Бабы в платках поверх кокошников — признак замужней женщины — несли в глиняных кринках, в мисках всё, что они приготовили на продажу, прикрыв товар холстиной. Они пересмеивались и задирали Яшу — помнили, как он ходил по сёлам со своими фокусами и трюками несколько лет назад. На дороге появилась фура с новобрачными, а в ней ещё и целая компания музыкантов. Упряжь вся в зелени, в цветах, на лошадях венки. Музыканты пиликали на скрипочках и тянули однообразную заунывную мелодию. В крестьянской повозке девушки-польки, набившись тесно, как гуси, затянули песню, им хотелось показать себя парням:
Ох, смугла, смуглянка я, Ещё чернее буду! Хлопчик ты мой, хлопчик, Тебя позабуду! Ох, бела я, бела, Ещё белее стану! Глянешь только на меня, Позабудешь Ганну!Зевтл-агуна — покинутая жена, жила на холме, позади резницкой, среди воров. Некоторое время назад её муж, Лейбуш Леках, исчез из Яновской тюрьмы, и никто не знал, в каких он теперь краях. Кто говорил, удрал в Америку, другие — что он далеко, в русских лесах. Вот уже несколько месяцев о нём не было никаких вестей. Воровская шайка — а там были свои законы, были старшие — давала Зевтл по два злотых в неделю. Так делали, если человек попадал в тюрьму. Постепенно стало ясно, что Лейбуш пропал надолго, если не навсегда. Детей у них не было. Обычно жёны тех, кто попадал в тюрьму, вели себя скромно, блюли женскую честь. А про Зевтл разное говорили. Да и была она здесь чужая — не из Люблина, а с другой стороны Вислы. Наряжалась, надевала украшения даже в будни, ходила с непокрытой головой, готовила в субботу. В любой момент можно было ожидать, что ей перестанут выплачивать пенсион.
Про всё про это Яша знал и тем не менее путался с этой потаскухой. Шёл к ней задами, давал трояк, привозил нитку коралловых бус, купленную в Варшаве. Безумие всё это. У него есть жена, есть Магда. Страстно, без оглядки увлечён он Эмилией. Чего же он ищет здесь, в этой навозной куче? Сколько раз решал Яша всё порвать, но, когда бы ни пришёл в Пяск, опять к ней тащится, бежит с трепетом, с нетерпением школьника, который собирается лечь в постель с первой женщиной. Вот и теперь он подошёл к дому не с Люблинской, а задами, мимо синагоги.
Хотя уже прошли праздники швуэс, стояла слякотная холодная погода. А в доме у Зевтл была чистота: ослепительные занавески, лампа с вырезанным из бумаги абажуром, нарядные подушки, пол посыпан свежим песком — как в пятницу, пред тем, как произносят благословения и зажигают свечи. Зевтл стояла посреди комнаты — молодая женщина, с вьющимися волосами, очаровательной ямочкой на левой щеке, ниткой дешёвых стеклянных бус ка шее. Она чарующе улыбнулась, показав ослепительно белые зубы, и проговорила со своей, «с той стороны Вислы», интонацией:
— Думала уж, не придёшь больше…
— Если обещал, всегда прихожу, — сказал Яша сурово.
— Вот уж гость так гость, вот уж гость нежданный!
Всё тут его унижало и оскорбляло: и как она целовалась, как приняла подарок, как побежала, чтобы принести ему кофе с цикорием, — ну в точности, как воруют деньги, ему приходилось красть любовь. Зевтл заперла дверь на крюк, чтобы никто не помешал, напихала бумаги в замочную скважину, чтобы нельзя было подглядеть. Ей хотелось помедлить, посидеть просто так, а Яше приходилось спешить. Он со значением бросал взгляды на кровать, но Зевтл задёрнула ситцевую занавеску, показывая этим, что ещё не время.
— Что нового на белом свете?
— Да я и сам не знаю.
— Кто ж тогда знает, если не ты? Торчим здесь, сидим тут посиживаем, а ты носишься всюду, как вольная птица…
Она подсела к Яше, выставив круглые коленки. Юбка так задралась, что были видны чёрные чулки и красные подвязки.
— Так редко тебя вижу; — посетовала она, — что забываю от разу до разу.
— Про мужа твоего ничего не слыхать?
— Пропал. Как в воду канул.
И она улыбнулась — дерзко, нагло, как блудливая кошка, и покорно при этом. Приходилось ее слушать — ведь известно, что женщина, которая много болтает, оказывается потом пылкой и страстной в постели, Зевтл жаловалась Яше, но все равно слова вылетали из нее вкусные, крепкие, круглые, как горошины из стручка. Чего ждать ей тут, в Пяске? Лейбуш уже не вернется никогда. В Америке он может начать новую жизнь. По ту сторону океана — все равно что на том свете. Она уже все равно что вдова. Конечно, эти дают ей два злотых в неделю, но как долго это будет продолжаться? У них казна почти пуста. Половина шайки за решеткой. И что можно купить за эти гроши? Воду для каши. Она всем тут задолжала. Надеть нечего. Соседки ненавидят ее. Так много сплетничают, что все время уши горят. Летом еще можно это вынести, но как зарядят дожди, с ума спятишь. Зевтл все говорила и говорила, теребя и закручивая петелькой нитку бус на шее. Вдруг и на правой щеке появилась ямочка:
— Ой, Яшеле, возьми меня с собой!
— Знаешь ведь, не могу.
— А почему нет? У тебя же есть фургон и лошади.
— А что скажет Магда? Что скажут их соседи?
— Все равно скажут. А что может шикса, и я могу. Даже лучше.
— Умеешь кувыркаться? Крутить сальто?
— Не умею, так научусь.
Все это пустая болтовня. Не стать ей гимнасткой. Слишком тяжела. Коротковаты ноги. Излишне широкие бедра. И грудь большая. Ничего из нее не выйдет, кроме прислуги. Однако ревнивым и подозрительным Яша становится мгновенно. Как она тут вела себя, пока его не было? Разумеется, он тут в последний раз. Все это только потому, что он ужасно тоскует и хочет хоть на несколько минут забыться, — так оправдывался Яша перед собою. Никогда ему, Яше, не понять, как это другие могут жить на одном месте, с одной женщиной и не умереть с тоски. Он же, Яша, всегда на грани черной меланхолии. Вдруг он достал три серебряных целковых и с детской забавной непосредственностью разложил их у нее на ноге, под юбкой: один — возле колена, другой — чуть выше, третий — на бедре. Зевтл глядела на это с любопытством и легкой улыбкой:
— Не поможет тебе.
— Да тебе-то точно не повредит.
Он вел себя с нею грубо, как и положено с такой обращаться. Уж что-что, а это он умел — приспособиться к любой ситуации, к любому характеру — на это у него был талант. Необходимое качество для человека, который занимается магнетизмом… Не спеша, аккуратно Зевтл сложила монеты стопкой на туалете.
— Большое спасибо.
— Я тороплюсь.
— Что за спешка такая, а? Вот тебе стул. Столько недель от тебя ни словечка. А я соскучилась. Ты что поделывал, Яшеле? Ведь мы же добрые друзья, разве нет?
— Да, да.
— Почему такой рассеянный? А, знаю, видно, новая завелась. Скажи мне, Яшеле, скажи. Я же не ревную. Все понимаю. Женщина для тебя что цветок для пчелы. Каждый раз нужна новая. Здесь вдохнул аромат, там собрал нектар, и «ж-ж-ж» — полетел прочь. Как я завидую мужчинам, как завидую! Кажется, от последней пары трусов отказалась бы, лишь бы быть мужчиной!
6
— Да, есть и новая, — сказал Яша. Надо же было ему с кем-то поговорить. А с ней было так легко и свободно, как с самим собой. Ни ревности, ни гнева можно было не бояться. Уж эта покорялась ему, как крепостная девка помещику. Глаза у Зевтл блеснули. Она горько улыбнулась — улыбкой человека, который находит странное наслаждение в том, что его обижают и мучают.
— А я не знаю её?.. Кто она, а?
— Вдова одного профессора.
— А, вдова? Ну, и что?
— Ну, и ничего.
— А, влюбился в неё?
— Да, немножко.
— Если мужчина говорит «немножко», значит, здорово влюбился. Что она такое? Молоденькая? Хорошенькая?
— Не такая уж молодая. У неё уже дочке четырнадцать.
— Так в кого же ты влюбился? В мать или в дочку?
— В обеих.
Зевтл состроила гримасу, будто собираясь что-то проглотить:
— Нельзя любить обеих, дорогой.
— Сейчас мне достаточно матери.
— А кто этот профессор? Он что, доктор?
— Преподавал математику в университете.
— А что это такое?
— Вычисления.
Зевтл на минутку задумалась.
— Поняла, все я поняла. Уж меня не обманешь. Только погляжу на человека и все про него знаю. Что ты хочешь? Жениться на ней?
— Но у меня уже есть жена.
— Разве для тебя жена что-то значит? Как ты ее встретил?
— В театре. Нас познакомил кто-то. Я прочитал её мысли. Сказал, что она вдова. И про всё остальное тоже.
— Как ты все это знаешь?
— Не объяснишь.
— Ну, и дальше?
— Она в меня влюбилась. Хочет все бросить и уехать со мной за границу.
— Как это уехать?
— Хочет, чтобы мы поженились.
— Хочет выйти за еврея?
— Она хочет, чтобы я немножко крестился…
— Так-таки немножко, а? А почему ты хочешь уехать из Польши?
Яша помрачнел:
— Что я здесь имею? Двадцать пять лет, как даю представления, и нищий до сих пор. Сколько лет еще смогу ходить по проволоке? Лет десять, не больше. Все хвалят меня, но никто не хочет платить. В других странах ценят таких. Малый, который знает лишь несколько трюков, там богат и знаменит. Он представляет перед королевским семейством, путешествует в роскошном экипаже. И здесь, в Польше, ко мне станут иначе относиться, если прославлюсь в Европе. Ты хоть понимаешь, что я говорю? Или нет? Здесь все смотрят на заграницу. В опере певец может скрипеть, как телега, или ухать совой, но если он пел в Италии, все хлопают и кричат: «Браво!»
— Да, но надо будет креститься.
— Что такое креститься? Сам перекрестишься, и на тебя немножко побрызгают водой. Откуда знать, чей Бог настоящий? Никто не был на небе. Да и все равно я не молюсь.
— Уж в церковь-то придется ходить.
— За границей никто на это не смотрит. Я же артист, кунцнмахер, не священник. Знаешь, теперь новое увлечение. Гасят свет и вызывают духов. Садятся вокруг стола, кладут на него руки, и стол подымается. Газеты только про это и пишут.
— Взаправду духи?
— А ты не смейся. Это все делает кунцнмахер. Он выставляет ногу, и столик подымается. Щелкает пальцами, и это означает, что духи послали сообщения. Богатейшие люди посещают эти сеансы, в особенности женщины. К примеру, у кого сын умер, и хотят передать ему привет. Дают кунцнмахеру деньги, и он вызывает им дух сына.
У Зевтл сделались большие глаза:
— Взаправду?
— Нет, я смеюсь над тобой!
— Может, это черная магия?
— Они не знают черной магии.
— Мне сказали, тут, в Люблине, есть один, так он может показать покойника в черном зеркале. Говорят, я могу там увидеть Лейбуша.
— Почему бы и не сходить? Покажут тебе «малеванку» — раскрашенную картинку — и скажут, что это Лейбуш.
— Что-то они знают ведь.
— Болен я, что ли, — подумал Яша, удивляясь, зачем это он обсуждает свои дела с такой, как эта Зевтл. — Могу показать тебе в зеркале, кого захочешь, хоть твою прабабушку, — сказал он вслух.
— Что же, Бога нет, выходит?
— Есть. Он здесь, но никто не говорит с Ним. Как Бог может говорить? Если он говорит на идиш, его не понимают христиане. Если будет говорить по-французски, англичане обидятся. Тора утверждает, что Бог говорит на иврите, но я там не был, не слышал. Что же до духов, они существуют, но кунцнмахер не всегда может их вызвать.
— А душа есть? Ой, я боюсь!
— Что значит боюсь?
— По ночам лежу и не могу сомкнуть глаз. Все покойники проходят перед глазами. Вижу, как маму опускают в могилу. Вся в белом. Почему мы живем, а? Я всегда по тебе тоскую. Не хотелось давать советы, но эта полячка утащит тебя прямо в ад.
Яша надулся, рассердился:
— Почему это? Она же меня любит.
— Не годится это. Все что хочешь делай, только оставайся евреем. Что же станет с твоей женой, а?
— А что с ней станет, если я умру? Умирает человек, и уже через четыре недели вдова его спешит под свадебный балдахин. Зевтл, я могу быть откровенным с тобой. Между нами нет секретов. Хочется попробовать еще что-то сделать, ведь мне уже тридцать один…
— Со мной как будет, а?
— Если разбогатею, тебя не забуду.
— Забудешь. Как порог переступишь, так и забудешь. Я ничего, не ревную. Как в первый раз тебя узнала, аж дрожала, трясло всю. Готова была мыть тебе ноги и пить эту воду. Как узнала тебя поближе, сказала себе: «Зевтл, все это пустое, вся твоя дрожь». Я темная женщина, без образования, и много чего не понимаю, но голова на плечах у меня есть. Много думаю, много всяких мыслей. Ветер завоет в трубе, так станет тоскливо, так тоскливо. Не поверишь, Яшеле, я даже думала о самоубийстве. Наверно, Лейбуш прав. Ведь так пройдут годы. Но если даже умереть, не хочу лежать здесь, в Пяске. Чтобы эти воры и после смерти ко мне приходили?
— Зачем о таком?
— Я тогда просто устала, и веревка была под рукой. Нашла крюк на потолке. Крюк от лампы. Залезла на табуретку и зацепилась волосами… Тут я принялась хохотать…
— Что смешного тут?
— Безо всякой причины. Дернешь за веревку, и все, конец… Яшеле, прошу тебя, возьми меня в Варшаву.
— А с вещами что будет?
— Все продам. Пускай кто-нибудь наживается.
— И что в Варшаве будешь делать?
— Не волнуйся, тебе не придется меня содержать. Пойду, как старая ведьма из сказки. Остановлюсь под окном и скажу: «Вот она я». Можно стирать, можно носить покупки с базара…
Глава третья
1
Яша рассчитывал вернуться к Эльжбете до вечера, к ужину, но Зевтл и слышать об этом не хотела. Она приготовила любимое Яшино блюдо: лапшевник с творогом и корицей. Лишь только Зевтл отомкнула двери и раздвинула занавески, заявились гости. Заходили женщины с базара похвастаться удачными покупками, показать подарки, полученные от мужчин. Были среди них и старухи — в стоптанных туфлях, бесформенных платьях, повязанные небрежно, в неопрятных платках. Кокетливо улыбались Яше, раскрывая беззубые рты, выставляя напоказ собственное безобразие. Молодые женщины в честь гостя приоделись и навесили всякие побрякушки. Зевтл вроде бы скрывала свои отношения с Яшей, однако же гордо показывала каждой гостье нитку кораллов, что получила от него. Некоторые женщины примеряли бусы, ухмылялись, понимающе подмигивали. Здесь, на холме, не в обычае было такое. У воров, попавших в тюрьму, жены оставались им верны и ждали годами, пока мужья освободятся. Однако Зевтл была чужая, пришлая — хуже, чем цыганка. Да еще и агуна. У Яши, циркача этого, была репутация безбожника. Женщины покачивали головами, перешептывались, исподтишка посматривали на Яшу. Его трюки и чудеса были тут хорошо известны. Члены шайки не раз говорили Яше, что, если он захочет присоединиться к ним, будет по золоту ходить. На холме считали, что лучше уж быть женою вора, чем, как Яша, бродить по дорогам с шиксой — так они называли Магду — являясь домой лишь на праздники и не принося жене ничего, кроме стыда и позора.
Немного погодя начали заходить и мужчины. Хаим-Лейб, широкоплечий, коренастый, плотный, с окладистой, рыжеватой, почти желтой бородой, с желтым лицом и такими же глазами, зашел поклянчить варшавских папирос. Яша дал ему целую пачку. Зевтл выставила бутылку водки и блюдо с пирогами. Хаим-Лейб был вор старой закалки, но теперь уже никуда не годился, жизнь хорошо его потрепала. Хаим-Лейб успел посидеть в каждой тюрьме. Все ребра у него были переломаны. А брата его Баруха Клоца, конокрада, заживо сварили мужики. Попыхивая варшавской папироской, Хаим-Лейб задумчиво, неторопливо выпил рюмку водки, потом спросил: «Что там в Варшаве? Как там старая тюрьма — наш Павяк?»
Пришел Слепой Мехл: высокий, плотного сложения, прямо великан, на лбу шрам, рваные глазницы. Принес бумажный пакет, перевязанный веревкой. Яша уже знал, что в пакете: висячий замок, чтобы он, Яша, его открыл без ключа. Мехл был знаменитый взломщик. Всегда носил при себе отмычку. Пока не стал профессиональным взломщиком, был простым слесарем. Год за годом пытался Мехл сделать замок, который не удалось бы Яше отпереть. Сейчас он смущенно сидел за столом, терпеливо ожидая, когда же разговор перейдет к замкам. До сих пор его всегда постигала неудача: какой бы замысловатый и хитрый он ни сделал замок, Яша всегда отпирал его, не тратя ни минуты, чаще всего лишь ногтем или в крайнем случае шпилькой. Однако Мехл не сдавался. Он постоянно улучшал конструкцию своей «Тулы», как он называл замок, так чтобы даже ангел Габриэль не смог подобрать к нему отмычку. Каждый раз, появляясь в Люблине, Мехл совещался с Лейбушем, местным мастером, и со всеми остальными слесарями и механиками. В комнате у Мехла, похожей, скорее, на будку жестянщика, было полно всякого добра: валялись молотки, клещи, плоскогубцы, сверла, напильники, пилки по металлу, просто железки, засовы, крючки, паяльные лампы. Его жена Бейля Черная всегда говорила, что у Мехла это прямо мания. Яша встретил Мехла улыбкой и подмигнул ему. Мехл был абсолютно уверен, что уж на этот раз Яше не повезет. Яша, в свою очередь, наверняка знал, что благодаря какой-то неведомой силе, покрутив здесь, повертев там, он как по волшебству отопрет очередной замок.
Вот наконец все они здесь: Менделе Качке, Иоселе Дейч, Лейзерл Крацмих. Их теперешний главарь Бериш Высокер — тощий парень с бегающими глазками, яйцеобразным черепом, длинным носом, острым подбородком и длинными, как у обезьяны, руками. Как и Зевтл, родом из Великой Польши. Одевался кричаще: пестрые брюки, желтые штиблеты, бархатная куртка, вышитая рубашка. И всегда шляпа с пером. Высокие каблуки завершали картину. Бериш был столь ловок, что мог выкрасть часы даже у карманника. Он знал по-русски, по-польски, говорил по-немецки, был в хороших отношениях с начальством, и, в сущности, был не столько вором, сколько перекупщиком и наводчиком. Несколько лет назад он отсидел срок, и притом не за воровство, а за шулерство в карточной игре со шляхтичем. Бериш Высокер знал толк в картах, как и Мехл в замках, но Яшу провести ему ни разу не удалось. Как правило, Яша показывал Беришу несколько новых карточных фокусов, которые приводили того в изумление к ставили в тупик. И на этот раз у него в кармане было припасено несколько колод: одна крапленая, другие нет. Бериш постоянно находился в движении, ни секунды не мог усидеть на месте. Все сидели возле стола, а он метался по комнате, как зверь в клетке, или как волк, который пытается ухватить собственный хвост. Бериш дернул шеей, уронил: «Когда же ты будешь наш, а, Яша? Ударим по рукам, и ты наш брат».
— Неохота гнить в тюрьме.
— Кто понимает, что и как, тот и собирает сливки с молока. Только зевать не надо. Ну же?
— Не задавайся, — сказал Яша и поглядел на Мехла. — Каждый может споткнуться и упасть.
— Знать надо, откуда ветер дует, — отбился Бериш Высокер.
Яша понимал, что засиживаться дольше никак нельзя. Эльжбета выльет на него все, что накопилось у нее, и Магда ждет. Болеку только дай, к чему придраться. Однако сразу уйти просто невозможно. Этих людей он знал с самого детства. Они помнили, как он бродил с цыганом, который водил медведя, как бродяжничал с польским цирком — задолго до того, как столь высоко вознеслась его звезда. Мужчины похлопывали Яшу по спине, женщины кокетничали. Все восхищались Яшей — великим кунцнмахером. Он оделил их папиросами, даже раздал сигары. Тут было несколько прежних его подружек — теперь это замужние женщины, добропорядочные матери семейств. Они кокетливо подмигивали ему, улыбались, как бы напоминая о прошлом. Внешне Яша вел себя с Зевтл довольно сдержанно, она же, напротив, выставляла напоказ их отношения. Для распущенной женщины любовная связь — это как раз то, что надо афишировать.
Сперва мужчины потолковали о текущих событиях. Что нового на свете? Когда опять начнется война с Турцией? Чего хотят эти бунтовщики, бомбисты эти? Зачем надо убивать царя? Зачем устраивать забастовки на железной дороге? Что слышно про Палестину? Кто такие эти безбожники, которые устраивают там колонии и осушают болота? Яша читал в Варшаве все газеты, даже «Израэлита». Просматривал он и газеты на иврите, хотя, признаться, не понимал многих современных оборотов. Здесь, в Пяске, все сидели по своим углам, как жабы на пеньках, а в большом мире разворачивались события. Пруссия становилась сильной державой. Франция захватила часть Африки — это там, где живут черные люди. В Англии научились строить корабли, которые пересекают океан всего за десять дней. В Америке пустили поезда прямо над крышами. Строят домищи в тридцать этажей. Варшава тоже разрастается и хорошеет год от года. Разломали деревянные тротуары, проложили канализационные трубы. Еврейским детям разрешено учиться в гимназиях, уезжать за границу учиться в иностранных университетах.
Воры слушали, почесывали затылки, у женщин разгорелись щеки, они переглядывались. Яша рассказал им про банду «Черная рука» в Америке. Он красочно повествовал, как миллионеру присылают записочку со знаком черной руки: пришлите, пожалуйста, столько-то долларов, иначе — пуля в лоб. Будь у миллионера хоть тысяча телохранителей, но, если не принесет выкуп, все равно убьют… Тут его прервал Бериш Высокер:
— Так и здесь можно делать.
— Кому же ты пошлешь записку? Трейтелю-водоносу?
Все дружно расхохотались и снова запалили погасшие было папироски.
2
Слепой Мехл больше ждать не мог.
— Яша, я хочу тебе что-то сказать, — проговорил он.
Яша подмигнул:
— Знаю уже. Знаю. Покажи свой гостинчик.
Мехл не спеша развязал сверток, развернул бумагу, достал тяжелый, большой замок, с разными зажимами и хитростями. Яша моментально пришел в хорошее настроение, повеселел. Сразу же принялся изучать замок, скосив глаза и состроив комическую гримасу безмерного удивления, которая вызывала смех всегда и везде: было ли это в шинке, среди деревенских мужиков, или же перед публикой «Альгамбры» — летнего варшавского театра. В мгновение ока он переменился: посапывал, крутил носом, даже уши шевелились. Женщины хихикали.
— Где ты раздобыл эту прелесть, эту хитрую штучку?
— Лучше покажи, на что ты способен, — проворчал Слепой Мехл. Он уже злился.
— Да его сам Господь Бог не откроет, — уже открыто издевался Яша, — этот чудный ночной горшок. Давайте вешайте его сразу и баста. Но если мне завяжут как следует глаза, я отомкну его — даже с завязанными глазами. Мехл, может, поспорим, а? Давай выставим по десять рублей.
— Заметано. Сделаем дело.
— Рыба сом, деньги на стол, — выкрикнул Хаим-Лейб.
— Ни к чему. Верю ему.
— Ну-ка, ребятки, завяжите мне глазки! — воскликнул Яша. — Да так суметь, чтоб не подсмотреть!
— Давай-ка завяжу своим фартуком, — предложила Малышка Малкеле — огненно-рыжая, в платке, повязанном концами назад. Ее муж отбывал срок в Яновской каторжной тюрьме. Малкеле сняла передник и встала позади Яши. Завязывая глаза, она пощекотала его за ухом. Яша хранил молчание.
«И что там наворочено, в этом замке?» — Яша только диву давался. Как обычно, в успехе Яша не сомневался. Но возможность провала все же допускал. Было дело: как-то один механик сделал замок, и его не удалось открыть ни шпилькой, ни отмычкой, ни даже фомкой. Внутри все напряглось: каждый нерв, каждая жилочка. Малкеле свернула фартук в несколько раз и завязала Яше глаза крепко, стянула со всей силой, на какую только были способны ее маленькие ручки. Однако же, как обычно, на переносице оказалась щель, через которую можно подсматривать. Но Яша в этом не нуждался. Он вынул из кармана кусок проволоки с заостренным концом. Это и была его «отмычка» ко всем замкам. Прежде чем заняться замком, продемонстрировал перед всеми проволоку. Затем простукал замок снаружи, вроде как врач прослушивает грудную клетку, прикладывая трубку. С завязанными глазами нащупал замочную скважину, вставил туда конец проволоки. И теперь уже манипулировал таким образом, что проволока проникала все глубже, добираясь аж до самого механизма. То так, то этак поворачивал её Яша, исследуя внутренности замка. Сложный, на первый взгляд, замок оказался на поверку просто детской игрушкой — вроде тех загадок, что загадывают друг другу мальчишки в хедере: разгадаешь одну, и остальные уже ничего не стоят. Теперь можно было отпереть замок немедленно, но Яше не хотелось так уж конфузить Слепого Мехла. Пожалуй, стоит разыграть небольшую сценку.
— Да, скажу я вам, крепкий же попался орешек, — проворчал Яша. — Прямо какие-то соты внутри слеплены. Столько зубчиков, крючков! Да это машина какая-то! — Яша натягивал проволоку, отпускал ее. Пожал плечами, как бы говоря: «Ума не приложу, что там такое внутри!» Сгрудившись, затаив дыхание, тихо стояли все вокруг Яши. Только сопел носом Хаим-Лейб. Не вынеся напряжения, начали перешептываться и хихикать женщины. Наконец Яша произнес ремарку, обычную для своих бесчисленных представлений: «Замок — все равно что женщина. Рано ли, поздно ли — поддается».
Среди женщин раздался смех.
— Не все такие.
— Все. Просто нужно терпение.
— Ладно тебе зубы скалить! Больно уж хвастаешь! — раздражался Мехл.
— Не кидайся на меня, Мехл. Ты с этой штукой полгода возился. Все в нее вложил. Я же не Моисей, в конце-то концов…
— Ага, не выходит, да?
— Выйдет, выйдет. Куда денется. Вот только здесь нажать на пупик… — и в ту же минуту замок открылся. Смех, аплодисменты, шум и гвалт.
— Развяжи меня, Малкеле, — попросил Яша.
Трясущимися руками Малкеле развязала фартук. На столе замок — неловкий, опозоренный. В глазах зрителей — восхищение, радость и смех, только единственный глаз Слепого Мехла смотрит угрюмо.
— Ты колдун, Яша, не будь я Мехл!
— Еще бы! Обучался черной магии в Вавилоне. Могу превратить тебя и Малкеле в пару кроликов.
— А меня-то зачем? Мужу нужна жена, а не кролик.
— А что? Будешь прыгать в клетке…
Все же Яше было не по себе — сидеть тут, с этим ворьем. Знала бы Эмилия, с кем он только водится. Она называла его мастером, боговдохновенным гением. В ее гостиной текли у них беседы о религии, философии, о бессмертии души. Он цитировал мудрые изречения из Талмуда. Говорили о Копернике, Галилее. И вот он здесь, с этой шайкой в Пяске. Но таков он есть. Все-то ему надо быть в новой роли. Яша — это клубок противоречий, сгусток противоположностей, взаимоисключающих черт характера: вера и безверие, добро и зло, искренность и фальшь — все перемешалось. Он может любить нескольких женщин сразу. Вот он, Яша, готовый отречься от своей веры, а было с ним — нашел вырванную из святой книги страницу, подобрал и поднес к губам… Человек подобен замку, и надобно уметь к каждому подобрать свой ключ. Единственный из всех — это он — способен подобрать ключ или отомкнуть без ключа каждую душу.
— На, вот держи, твоя! — Слепой Мехл извлек серебряную десятирублевку из бездонного кошелька. Яша хотел было отказаться от выигрыша, но подумал, что это будет смертельная обида для Мехла, особенно теперь, когда касса шайки почти пуста. У них свои понятия о чести. За отказ могут и нож всадить. Яша взял, взвесил на ладони.
— Легкий заработок.
— Так бы и расцеловал каждый кончик пальца у тебя, Яша! — прогудел Слепой Мехл густым голосом великана. Казалось, голос этот исходит прямо из его огромного брюха.
— Это прямо Божий дар! — воскликнула Малышка Малкеле. У Зевтл глаза сияли торжеством, щеки разрумянились. Губы безмолвно обещали поцелуи и ласки. Яша не сомневался: все его тут прямо обожают, боготворят его. Все до единого: и женщины, и мужчины. Он — сияющий светоч, бесценное сокровище для этих воров из Пяска. У Хаим-Лейба лицо было желтое, как медный самовар на столе у Зевтл.
— Иди к нам, и весь мир будет твой.
— Еще помню: «Не укради…»
— Послушайте-ка его! Прямо цадик! — издевался Бериш Высокер. Все воруют. Что пруссаки сделали? Оттяпали у Франции огромный кусище, а теперь еще требуют вдобавок миллиард марок. Они держат Францию за горло! Это ли не воровство?
— Война есть война, — заметил Хаим-Лейб.
— Кто сможет, тот и хапнет. Так уж повелось. Мелкому воришке — петля да аркан, ну, а большому — жирный баран… Как насчет картишек, а, Яша?
— Хочешь сыграть? — спросил Яша немного с подначкой.
— А ты привез из Варшавы какой-нибудь новенький фокус-покус? — спросил Бериш Высокер. — Покажи-ка, что ты умеешь!
— Что тебе здесь, театр, что ли? — и он взял колоду у Бериша. Принялся тасовать карты, быстро и ловко. Они то взлетали в воздух, то прыгали обратно, как рыба в сетях. Внезапно Яша что-то такое сделал руками, и карты разбежались веером, потом сложились, как гармошка.
Глава четвертая
1
Опять оказаться наедине с Магдой, потихонечку тащиться в фургоне — сколько в этом покоя. Лето в полном разгаре. Поспевает пшеница, золотятся поля, зреют, наливаются соком плоды. Напоенный ароматом земли, воздух располагает к неге и покою. «Боже всемогущий! — прошептал Яша. — Ты кунцнмахер, не я. Создаешь растения, цветы, краски из куска черной земли!»
Как же все это получается? Как происходит? Откуда колос знает, что ему положено родить зерно? Откуда пшеница знает, что надо воспроизвести себя самое? Нет. Они — не знают. Делают это вслепую. Но кто-то же должен знать! Яша сидел на облучке рядом с Магдой, а лошади шли сами. Выехали на шлях. Какие только Божьи создания не попадались на пути: полевая мышка, белочка, даже черепаха. Щебетали, выводили рулады невидимые птички. В лесу, насквозь просвеченному солнцем, Яша высмотрел стайку сереньких птах. Они расположились в одну линию, как на смотру.
Притулившись возле Яши, молча сидела Магда. Казалось, ее глаза — глаза крестьянской девушки видят вещи иными, чем глаза горожанина. А Яша думал уже о другом. К вечеру, когда солнце село и повозка катилась по лесной дороге, перед ним опять явственно возникло лицо Эмилии. Подобно луне над верхушками сосен, перед ним плыла Эмилия, двигаясь вместе с повозкой, как бы пятясь перед ней. Темные глаза улыбались, шевелились губы. Яша обнял Магду, и она положила голову ему на плечо. Однако же Яша был не с нею. Он и спал, и бодрствовал одновременно. Пытался прийти к некоторому хотя бы подобию решения. Ничего не получалось. Бурно работало воображение, и вот — это уже не фургон, а поезд, который везет в Италию его, Эмилию и Галину. Он прямо-таки слышал наяву свисток паровоза. За окном кипарисы, пальмы, горы, замки, виноградники, апельсиновые сады, оливковые рощи. Казалось, все здесь другое: крестьяне, их жены, дома, даже стога сена выглядели иначе. Где же мог я такое видеть? На картине? В опере? Очень интересно. Будто уже переживал это в какой-то прежней жизни.
Обычно в такой поездке Яша делал две остановки в корчме, однако на сей раз решил ехать без остановок, чтобы уже к утру быть в Варшаве. Конечно, на большой дороге могли подстерегать бандиты, но на этот случай у Яши был пистолет. Правя лошадьми, он воображал, будто выступает в европейских театрах. Дамы в ложах наводят на него лорнеты. За кулисы приходят послы, графы, генералы, желая выразить свое восхищение. И вот наконец на искусно сделанных крыльях Яша плавно летит над столицами мира: Рим, Лондон, Париж. Толпы бегут по улицам, указывая на него, что-то выкрикивая. И пока Яша летит, почтовый голубь приносит ему записочки — от правителей государств, от принцев и кардиналов. В собственном поместье на юге Италии его ждут Эмилия и Галина. Он же, Яша, больше не циркач уже, не кунцнмахер, а таинственный, могущественный гипнотизер; может командовать армиями, исцелять больных, ловить преступников, отыскивать спрятанные сокровища, поднимать суда со дна океана. Он теперь повелитель мира. Яша смеялся над своими фантазиями, но избавиться от них не мог. Они набрасывались, как саранча: дневные видения, волшебное зелье, разные сверхъестественные штуки, колдовские чары, заклинания, придающие безмерную силу и раскрывающие тайны. В воображении он даже выводил евреев из галута[22], восстанавливал Храм в Иерусалиме. Яша щелкнул бичом, как бы разгоняя демонов, полностью завладевших мыслями. Как никогда, нужна теперь ясная голова. Готова целая серия новых, и притом опасных трюков, практически целый репертуар. Среди них — сальто на проволоке, номер, не доступный никому другому. И надо что-то решать с Эмилией. В самом ли деле готов он оставить Эстер и уехать с Эмилией в Италию? Возможно ли это — так безжалостно предать Эстер, которая столько лет была верна ему? И как это он, Яша, отважится креститься, стать христианином? Он дал Эмилии обещание. Поклялся всем святым, что у него есть, — но готов ли выполнить это? Да и еще: невозможно выполнить этот план, не имея денег, — надо самое малое, пятнадцать тысяч рублей. Несколько месяцев уже он носился с мыслью о крупной краже. Но возможно ли для него стать вором? Ведь только что сказал Хаим-Лейбу, что Восьмая заповедь: «Не укради» свята для него. Он, Яша, всегда гордился своей честностью. И что подумает, что скажет Эмилия? Что сказала бы Эстер? А его отец и мать на том свете? Он же верит в бессмертие души. Совсем недавно мать спасла ему жизнь. Он услыхал ее предостерегающий голос: «Назад, сын мой! Отойди назад!» И через две минуты тяжелая люстра упала туда, где он стоял только что. Конечно, он был бы уже мертв, если бы не внял материнскому предостережению.
Он все откладывает и откладывает решение. Но дальше тянуть невозможно. Эмилия ждет. Решать надо и с Вольским, его импресарио, — у того в руках все Яшины ангажементы. Этот самый Вольский вытащил его, Яшу, из нищеты, сделал имя. Нельзя же отплатить злом. И все же, как ни сильна любовь к Эмилии, Яшу влекут и другие соблазны…
Надо все решить этой же ночью: выбрать между своей верой и крестом, между Эстер и Эмилией, между честностью и преступлением (единственным преступлением, и потом он, с Божьей помощью, возместит потери). Однако Яша ничего не мог решить. Вместо этого занимался ерундой, волынил, уходил от ответа. Это верх легкомыслия. В таком возрасте пора быть отцом взрослых детей, а он все остается школяром, который забавляется отцовскими ключами и замками, мальчишкой, который таскается за циркачами по улицам Люблина. Не знает даже, любит ли он Эмилию по-настоящему. Не может решить: то чувство, что он испытывает, и в самом деле любовь? Способен ли он хранить верность? Дьявол уже подсовывает ему разные ненужные мысли о Галине: как она вырастет, влюбится в него, станет соперничать с матерью за его любовь.
Да, я развращен. Как отец называл меня? Подлец. Негодяй. Последнее время отец являлся Яше каждую ночь. Только Яша закроет глаза, перед ним стоит отец: поучает сына, предостерегает его, советует.
— О чем ты думаешь? — спросила Магда.
— А, так, ни о чем.
— Это правда, что Зевтл-воровка собирается в Варшаву?
Яша вскинулся:
— Тебе кто сказал?
— Болек.
— Что же молчала до сих пор?
— А я о многом молчу.
— Она едет, но какое мне дело? Что ей остается? Муж бросил, она голодает. Надо же заработать кусок хлеба. Хочет устроиться в прислуги или, может, кухаркой.
— Ты спишь с ней.
— Нет.
— У тебя и в Варшаве есть коханка.
— Что ты болтаешь?
— Вдова. Зовут Эмилия. Это к ней ты так торопишься.
Яша просто онемел. Как узнала она про Эмилию? Он сам что-нибудь сказал? Да, это так. Вечно ему надо похваляться, уж такова его натура. Ведь он доверился этой Зевтл. Поколебавшись немного, Яша сказал:
— Тебя это не касается, Магда. Любовь моя к тебе неизменна.
— Она хочет поехать с тобой в Италию.
— Мало ли чего она хочет. Ты всегда в моем сердце. Всегда думаю о тебе. Так же, как о своей матери.
Яша и сам не знал, правду он говорит или лжет. Магда сидела тихо, снова положив голову к нему на плечо.
2
Посреди ночи вдруг необычайно потеплело. Будто включили какое-то ночное солнце. Луна скрылась за облаками. Небо и землю окутала тьма. Сверкнула молния. Грянул гром. Вспышка молнии осветила поля до самого горизонта. Колосья пшеницы склонились до земли. Хлынул ливень. Прежде чем Яша успел собраться с мыслями, струи воды замолотили по фургону, как градины. Брезент сорвало с каркаса. Обезьянка металась с ужасными воплями. Магда вцепилась в Яшу мертвой хваткой. За пару минут дорога превратилась в грязное месиво. Яша настегивал лошадей. Недалеко уже до Макова — в местечке можно будет укрыться.
Это было просто чудо, что колеса не застряли в грязи. Вода доходила лошадям по самое брюхо. Все же так ли, этак ли лошади не сбились с дороги, фургон наконец-то в Макове. Однако там не было ни корчмы, ни заезжего дома. Яша направил лошадей во двор синагоги. Дождь прекратился, прояснилось небо. В лучах восходящего солнца плыли на запад облака. Их края светились, как неостывший пепел в костре. При этом освещении лужи и сточные канавы рдели, как кровь. Поставив на дворе лошадей и фургон, Яша повел Магду в бейт-мидраш, чтобы немного обсушиться. Это, конечно, нехорошо — привести сюда шиксу, католичку. Однако же другого выхода не было. Магда уже начала кашлять и чихать.
Снаружи занимался день, а здесь была еще темень. В меноре трепетала свеча. У самого возвышения сидел старый еврей и читал нараспев из толстого молитвенника. Голова старика будто бы подернута пеплом. «Что он тут делает, хотел бы я знать? — подумал Яша. — Или я уже так много позабыл из прежнего?» Он кивнул старику, и тот кивнул в ответ, приложив палец к губам: это означало, что сейчас с ним нельзя говорить. Магда села на скамью у печки, Яша повернулся к ней. Оба промокли до нитки, сухого места не осталось. Надо было теперь ждать, пока все обсохнет у огня. Здесь было тепло. Лицо Магды светилось во мраке бледным пятном. С нее натекла целая лужа. Яша украдкой поцеловал Магду в лоб. Затем вернулся опять к возвышению, где хранились в арнкодеше[23] свитки Торы, располагались шкафы со святыми книгами, кафедра для кантора. С одежды капало, от нее подымался пар. Яша стоял перед восточной стеной, перед Скрижалями Завета — их поддерживали золотые львы, — и разбирал слова: «Я — Господь… Нет других богов… чти отца и мать… Не прелюбодействуй… Не убий… Не укради… Не пожелай…» Только что было темно, и вдруг все внутри залило пурпурное сияние, будто зажгли небесную лампу. Тут Яша вспомнил, что делает старик: отправляет полуночную службу — оплакивает разрушение Храма.
Вскоре стали подходить и другие, в большинстве старики, еле передвигающие ноги, седобородые. Господи Боже, Отец небесный, сколько же Яша не был в святом месте! Все тут внове для него, все не узнать: как они произносят слова утренней молитвы, как надевают талес[24], целуют цицес[25], разворачивают ремешки, накладывают филактерии[26]. Поразительно чуждое, все это, однако, было давно известно и привычно для него. Магда вернулась к повозке, как бы убоявшись всего чужого и непривычного. Яша пока остался. Он был частью этого мира, его корни — их корни, он плоть от плоти этого. Молитвы этих людей понятны ему. Один старик сказал: «Господи, Ты в моей душе…» Другой, медленно раскачиваясь, повествовал, как Господь приказал Аврааму принести в жертву сына своего Исаака. Третий вопрошал нараспев: «Что есть наша жизнь, Господи? Что есть наша вера? Откуда мы пришли? Все могущество человека — ничто, прах перед Господом. Слава людская — тщета перед Господом, труды человеческие напрасны, дни жизни — ничто перед Вечным…» Он произносил этот речитатив, будто жалуясь, и все глядел на Яшу, а думал о чем-то своем. Яша вдыхал запах воска, свечного сала и чего-то немного затхлого. Привычные с детства запахи: так было в синагоге во время дней Покаяния, когда он был еще мальчишкой. Маленький человечек с рыжей бородой подошел к Яше и спросил:
— Желаете помолиться? Принесу филактерии и талес.
— Спасибо. Меня там фургон дожидается.
— Не убежит фургон.
Яша дал ему копейку. Выходя, поцеловал мезузу[27]. В сенях увидал кадушку, где лежали рваные книги и порванные страницы святых книг. Порылся, вытащил какую-то. Быть может, здесь что-то о каббале? Неуловимый аромат святости исходил от книги. Наверно, хотя они и лежат здесь в кадушке, чтение святых книг не прекращается — они читают сами себя.
Некоторое время спустя Яша расположился на постой. Надо было обсушиться, починить фургон, смазать оси, задать корм лошадям. Следовало также поесть и несколько часов поспать. Так как Яша был с Магдой, то говорил по-польски и представился поляком. Они сели за длинный некрашеный стол. Еврейка с красными воспаленными глазами и острым волосатым подбородком принесла хлеб, творог, кофе с цикорием. Она заметила, как Яша совал в карман книгу, и спросила:
— Где это вы взяли, шановный пан?
— А, это? Нашел у синагоги. Это что? Священная книга?
— Отдайте мне, вельможный пан. Вы все равно не поймете, а для нас это святое.
— Хочу посмотреть, что это.
— Но как? Это же по-еврейски.
— У меня друг священник. Знает еврейский.
— Книга рваная. Отдайте, пан.
— Перестань, — проворчал ее муж на идиш.
— Не хочу, чтобы кто попало таскал святую еврейскую книгу, — огрызнулась жена.
— А что там написано? Как надувать христиан?
— Мы никого не надуваем, пан, ни евреев, ни христиан. Только честно зарабатываем кусок хлеба.
Сбоку отворилась дверь, и вошел мальчик — в пушистой шапочке, халатике нараспашку, из-под которого выглядывал арбанкафес[28]. Висели кисточки. Узкое вытянутое личико. Пейсы, скрученные, как мотки льняной пряжи. Он протирал заспанные глаза.
— Ба, дай молочка, — сказал мальчик.
— А ты умывался?
— Да, умылся.
— И помолился? Прочитал «Благодарю тебя, Господи?»
— Да, сказал.
И он утер нос рукавом.
Яша продолжал есть и разглядывал мальчика. «Смогу ли я забыть, оставить все это? Это мое, мое… Когда-то и я был, как этот мальчик…» Возникло странное желание: немедленно посмотреть, что же там написано, в этой рваной книге. Подступила горячая волна любви к этой бабушке, что подымается рано, вместе с солнцем, варит и жарит, и убирает дом, и подает постояльцам. Коробочка для подаяния висела у двери. Сюда она клала несколько грошей, которые удавалось наскрести — чтобы помочь евреям уехать в Святую Землю. Она суетилась, качала головой, бескровные губы шептали молитвы. Казалось, она понимала, что истинная мера вещей известна лишь тому, кто не предался тщете этого мира.
3
Приезд в Варшаву всегда был для Яши событием. Здесь он зарабатывал деньги. Здесь жил его импресарио Мечислав Вольский. По всему городу уже расклеены афиши с его именем: «В начале июля в летнем театре „Альгамбра“ выступит известный артист цирка и гипнотизер Яша Мазур с новым репертуаром, новыми трюками, которые изумят почтенную публику». На Фрете у Яши была квартира, недалеко от Длуги. Даже кобылы, Кара и Шива, оживились, когда подъезжали к Варшаве. Их не надо было погонять, лошади сами побежали резвее. Лишь только повозка проехала Пражский мост, она совершенно потерялась среди домов, особняков, омнибусов, экипажей, магазинов, кавярен. Пахло свежей сдобой, кофе, доносился тяжелый запах лошадиной мочи, подымался дым из фабричных труб, пыхтели паровозы. Перед дворцом — резиденцией русского генерал-губернатора — играл военный оркестр. Видимо, был какой-то праздник, потому что на каждом балконе развевались русские флаги. Женщины в широкополых соломенных шляпах, отделанных искусственными цветами и фруктами. Помахивая тросточками, по улицам фланируют беспечные юнцы в светлых костюмах, соломенных канотье. Сквозь этот шум и гам пробиваются свистки паровозов. Они пыхтят, лязгают буферами. Отсюда отправляются поезда в Петербург, Москву, Вену, Берлин, во Владивосток.
После упадка, наступившего вслед за восстанием 1863 года, для Польши наконец-то наступила эпоха индустриального подъема и процветания. Лодзь строилась и разрасталась в дикой спешке и с чисто американским размахом. В Варшаве сломали деревянные тротуары, пустив их на дрова, положили асфальт, провели канализацию, пустили конку. Быстро выросли целые кварталы высоченных, в пять этажей домов, появились огромные универсальные магазины. В новом сезоне театры предлагали драму, комедию, оперу, концерты. Из Парижа, Лондона, Рима, даже из далекой Америки приехали в Варшаву прославленные актеры и актрисы. Книжные магазины предлагали новые, только что вышедшие романы, а также научные монографии, энциклопедии, справочники, всевозможные словари. Яша вздохнул. Поездка вышла утомительная, но город будоражил, бодрил его. Если это так волнует его здесь, то что будет за границей? — подумалось ему. Немедленно бежать к Эмилии — это единственное, чего хотелось Яше, однако он удерживал себя. Не мог же он явиться к ней заспанным, небритым, растрепанным, прямо с дороги. И потом — надо сперва повидать Мечислава Вольского. Телеграмму о приезде Яша послал еще из Люблина.
Да, давненько не был он в Варшаве: сделал несколько турне по провинции. Всегда-то он боялся, что квартиру могут ограбить. Здесь у него были библиотека, старинные, антикварные вещи, коллекция афиш, газетные вырезки, рецензии. Однако же, хвала Господу, наружная дверь заперта на два висячих замка, да и внутри все было в порядке. Всюду толстым слоем лежала пыль. Затхлый воздух, кругом запустение, грязь. Магда сразу же принялась за уборку. Приехал на дрожках Вольский — поляк, но с ярко выраженной еврейской внешностью: черные глаза, острый с горбинкой нос, высокий лоб. Мягкий галстук, какие носят артисты или художники, причудливо расположился на груди, целиком закрывая манишку. Вольский привез Яше кучу предложений выступать в городах и местечках Польши, да и России тоже. Покручивая черный ус, он рассказывал с горячностью — с усердием человека, чье благополучие зависит от славы другого. Он уже составил для Яши расписание поездок — после того, как закроется сезон в «Альгамбре». Однако же Яша прекрасно понимал, откуда все это многословие и суета. Только провинция ждала его. Не было предложений ни из Москвы, ни из Киева, ни из Петербурга. А заработки в провинции ничтожны. Даже здесь, в Варшаве, все без перемен. Владелец «Альгамбры» упорно отказывался увеличить плату. Яшу расхваливают на все лады однако же клоунам и паяцам из-за границы платят больше. Это было просто непостижимо — такое тупое упорство хозяев. Доводы Вольского, его споры, его аргументы — все было бесполезно. Да и платили еще после всех. Нет, Эмилия права. Пока остаешься в Польше, так и будешь ходить в третьеразрядных артистах.
Вольский ушел, и Яша решил прилечь. Дворник обиходит лошадей, а Магда присмотрит, чтобы им задали вдоволь овса и напоили. Вся компания, попугай, ворона и обезьянка, расположились вместе, в одной комнате. Магда — тощая, костлявая, но ловкая и проворная, принялась скрести пол. От поколений крестьян она унаследовала, в придачу к услужливости, еще и силу. Яша дремал, просыпался, снова впадал в дремоту. Это был старый дом. По немощеному двору расхаживали куры, гоготали гуси, крякали утки — все, как в деревне. С Вислы веял легкий ветерок, и его дуновение доносило запахи Пражского леса. Внизу нищий крутил ручку шарманки, сквозь открытое окно доносилась мелодия — Яша узнал старую варшавскую песню. Бросить бы ему монетку, но совершенно затекли и онемели ноги. Снова таскаться по грязным дорогам, забираясь в местечки, в глухую провинцию. Опять давать представления в пожарных сараях? Нет уж, хватит с него! Мысли проносились в голове в ритме уличной шарманки. Уйти прочь, прочь отсюда, бросить все. Чего бы это ни стоило, необходимо вырваться из трясины. Если же нет, наступит день, когда и ему, Яше, придется бродить по улицам с такой шарманкой.
Только что было утро, и вот уже настали сумерки. Магда принесла тарелку молодой картошки в сметане и с укропом. Он поел прямо в постели. Снова опустил голову на подушку. Когда же опять открыл глаза, был вечер. В спальне темно, но, должно быть, не слишком поздно, потому что слышно, как на улице холодный сапожник заколачивает гвоздь в ботинок. Здесь не было газового освещения, и при свете керосиновой лампы хозяйки шили, чинили, штопали, мыли, стирали, латали одежду. Какой-то пьяница воевал с женой, на него лаяла собака.
Яша позвал Магду, но она, видимо, вышла. Откликнулась лишь ворона — Яша научил ее говорить человеческим голосом. Каждый раз, приезжая в Варшаву, Яша надеялся на благоприятные известия. Однако же рок, преследующий дилетантов, довлел и над ним. Никак не удавалось заключить выгодный контракт. Напротив, все хотели чем-нибудь от него поживиться. Яша сознавал, что это происходит из-за его собственного к себе отношения. Как он сам воспринимал себя — ниже по положению, необразованным, — так и они воспринимали его: интуитивно, сами этого не сознавая. Живя среди низших классов общества, сам из этой среды, он и вынужден был терпеть такое обращение. Эмилия была единственным чудом в его жизни, единственной тайной, надеждой на избавление, на спасение из той бездны, в которую его неотвратимо влекло.
Само их знакомство было окутано тайной. Он даже не расслышал ее имя. Думал о ней, уже не в состоянии забыть. Мысли шли собственным путем. Пришла необъяснимая уверенность, что она так же неотступно думает о нем, как и он о ней, тоскует и желает его. Он шлялся по улицам Варшавы, как сомнамбула, заглядывал в окна экипажей, заходил в магазины и кавярни, в театры. Он искал ее на Маршалковской, на Аллеях Уяздовских, прошел Новый Свят, бродил по дорожкам Саксонского сада. Стоял у колонны на Театральной площади и ждал. Однажды вечером, уже совсем отчаявшись, ушел с площади, пошел по Маршалковской… Лишь только подошел к витрине, увидал ее: Эмилия стояла и ждала, как будто они здесь назначили свидание заранее, — в меховой пелерине, с муфтой, и глаза устремлены прямо на него. Яша подошел, и Эмилия улыбнулась ему — понимающе и таинственно. Он поклонился, она протянула руку. И в ту же минуту выпалила: «Какое странное совпадение!»
Однако потом Эмилия призналась, что действительно ждала его там. У нее было предчувствие, что Яша не может не услышать, как не может не прийти на ее зов.
4
Кто побогаче, уже обзавелись телефонами. Но Эмилия не могла позволить себе эту роскошь. Вдвоем с дочерью они существовали на мизерную пенсию. Все, что у них осталось от той поры, когда еще был жив профессор, — это квартира да старая Ядвига — прислуга, которой за прошедшие годы так и не прибавили жалованья.
Яша поднялся рано. Побрился. У них тут была огромная деревянная лохань, Магда наливала туда несколько чугунов горячей воды. Намыливая Яшу душистым мылом, массируя спину, она ехидно приговаривала:
— Когда идешь к благородной госпоже, надо, чтобы хорошо пахло.
— Да нет у меня никакой госпожи, Магда.
— Еще бы, конечно. Магда твоя дура, но все же пока еще…
За завтраком Яша пришел в хорошее настроение. Только и говорил, что об испытаниях — о своей теории полетов, о попытке сделать совершенную конструкцию. И он подберет ей, Магде, подходящие крылья. Вместе будут они парить в воздухе, как два журавля, станут такими же знаменитыми, как братья Монгольфье сто лет назад. Он обнимал Магду, целовал ее, уверял, что все равно никогда не бросит, что бы с ним ни случилось: «Может, придется остаться одной, пока я уеду за границу, не беспокойся, я пошлю за тобой, только прошу: будь мне верна». Говоря это, Яша смотрел прямо в глаза, гладил Магду по голове, проводил пальцами по вискам. В одну минуту он мог усыпить ее, в жаркой комнате, в летний ли зной — внушить, что она замерзает, и Магда действительно начинала дрожать от холода. Мог колоть ее иголкой — кровь не текла. Такую он имел над ней власть. Мог и в мороз внушить, что страшно жарко, и Магда тотчас же обливалась потом, а лицо становилось распаренным и красным, как после бани. Можно было отдать ей распоряжения на недели, на месяцы вперед, и все выполнялось с необычайной пунктуальностью. Теперь же он исподволь подготавливал Магду к своему отъезду. Девушка терпеливо слушала, улыбалась хитро, молчала, видела все эти уловки, в то же самое время старалась не замечать их. Только на лице можно было что-то прочесть: корчила гримасы, строила рожи и этим напоминала Яше всю его компанию — обезьянку, попугая и даже ворону.
Позавтракав, Яша надел модный костюм, модные сапожки, мягкую шляпу, подвязал черный шелковый галстук, поцеловал Магду и ушел, не сказав ни слова. Кликнул извозчика. Эмилия жила на Крулевской, против Саксонского сада. Приказал заехать по дороге к цветочнику, купил розы. Затем — бутылку вина, фунт осетрины, банку сардин. Эмилия в шутку говорила, что Яша появляется у них, нагруженный, как святой Николай в рождественскую ночь, но это и в самом деле вошло уже в обычай. Он же знал, что им хватает лишь на самое необходимое. А у Галины вдобавок слабые легкие. Вот почему так хочет ее мать перебраться в Южную Италию. Галине пришлось оставить закрытый пансион: нечем было платить. И на портниху не было денег: Эмилия сама шила и переделывала туалеты. Яша сидел в пролетке, придерживая свертки бережно, чтобы не помять, сверху разглядывал Варшаву — этот город, такой родной и знакомый, такой чуждый притом. Несбыточной мечтой показалась ему Варшава, когда он попал в город впервые. Увидеть свое имя напечатанным в варшавской газете или на театральной афише — вот был предел мечтаний. Теперь же он чувствовал себя здесь дома — в этом городе, претендующем на положение мировой столицы и при этом оставшемся глубокой провинцией. Только сейчас город начал бурно развиваться и благоустраиваться. Вдоль улиц — кучи песку, сложен кирпич, груды известки. В этот июньский день воздух был напоен ароматом цветущей сирени, пахло краской, развороченной землей, разило помоями из сточной канавы. Там и сям кучки землекопов разрыли улицу — готовили котлован под фундамент…
На Крулевской дышалось легче. Отцветали деревья в Саксонском саду. Там, за оградой, — клумбы, цветы, оранжереи с тропическими растениями, кавярня — на открытом воздухе сидят юные парочки. В это время года проходили лотереи, разыгрывали дорогие призы. Мальчишки в матросках катают обручи, зацепив крючком. Чистенькие девочки, одетые, как настоящие дамы, с совочками, с лопаточками возились в песочке, делали куличики, насыпали клумбы, водили хороводы. В Саксонском саду тоже был летний театр, но здесь Яша не выступал ни разу. Сюда евреям заходить воспрещалось. Он платил большую цену за свое еврейство, чем все эти типы с их бородами и пейсами. По ту сторону границы, в Европе, нет этих ограничений, говорила Эмилия. Там судят артиста только по таланту.
— Ну, поживем — увидим, — бормотал он под нос. — Как судьба распорядится, так тому и быть…
Расплатившись с извозчиком, Яша вошел в подворотню, поднялся по мраморной лестнице, позвонил. У Эмилии он всегда чувствовал себя напряженно — не знал, ведет ли он себя как положено в свете, делает ли ошибки в польском, соблюдает ли этикет. А сейчас — не слишком ли рано он явился? Но Ядвига сразу же открыла дверь — седая, миниатюрная, со сморщенным, как печеное яблоко, личиком, в белом передничке и ослепительной наколке. «Можно ли видеть пани Храбоцкую? Она дома?» Ядвига утвердительно кивнула, понимающе улыбнулась, взяла цветы, свертки, трость и шляпу. Открыла дверь в гостиную. Последний раз, что он тут был, стояли морозы. Эмилия болела, куталась в платок. А сейчас лето. Лучи солнца пробивались сквозь портьеры, освещая паркет и ковер, плясали на вазах, на багетных рамах картин, на клавишах рояля. Фикус в кадке выпустил новые листья. На диване — отрез материи, воткнута иголка — Эмилия отделывала вышивкой новый наряд. Яша принялся расхаживать взад-вперед. Как далек этот мир от дома Лейбуша Лекаха, от Зевтл. Здесь все другое…
Отворилась дверь, и вошла Эмилия. У Яши глаза полезли на лоб, он чуть не присвистнул. До сих пор она носила только черное — траур по мужу, профессору Стефану Храбоцкому, в память восстания 1863 года, по мученикам, погибшим в Сибири… Эмилия читала Шопенгауэра, увлекалась Байроном, стихами Словацкого, Леопарди, боготворила польских мистиков — Норвида и Товянского, даже призналась Яше, что хотя с материнской стороны она — урожденная Воловская, однако по отцовской линии — правнучка известного франкиста[29] Элиши Шура. Да, конечно, еврейская кровь текла в ее жилах, но и голубая кровь польской шляхты — тоже. Сейчас на ней был светлый туалет, цвета кофе с молоком. Никогда не была она так хороша: прямая, гибкая красавица-полька, с высокими скулами, славянским носом, однако с черными еврейскими глазами, жгучими, полными страсти и пытливого ума. Волосы забраны назад и заплетены в косу, уложенную венцом вокруг головы. Узкая талия, высокая грудь — она казалась лет на десять моложе своих тридцати пяти. Даже пушок на губе молодил ее и придавал что-то мальчишеское ее женственному облику. Улыбка — застенчивая, но и лукавая немного. Они уже раньше обнимались и целовались, и Эмилия признавалась Яше, что часто теряет контроль над собой, бывает готова уступить. Однако ее горячим желанием было сначала обвенчаться. Начать в чистоте супружескую жизнь. К ее большой радости, Яша дал обещание креститься.
— Спасибо за цветы, — сказала она, протянув руку — не слишком маленькую, но узкую и белую. Яша поцеловал руку, на мгновение задержав ее в своей, — тонкий аромат сирени, запах раннего лета окружал Эмилию. — Когда же вы приехали? Я ждала вас вчера.
— Я очень устал.
— Галина спрашивает и спрашивает про вас. Что-то там напечатал «Курьер Варшавский».
— Да, Вольский мне показывал.
— Сальто на проволоке?
— Да. На проволоке.
— Господи Боже, и чем только люди не занимаются, — воскликнула она с удивлением, с жалостью. — Ну, а это все подарки, как я понимаю… — Она переменила тон. — Вы хорошо выглядите. Люблин пошел вам на пользу, как видно.
— Я там отдыхал.
— Все с женщинами?
Яша не ответил.
— Вы даже не поцеловали меня. — И раскрыла объятия ему навстречу.
5
Они слились в поцелуе, будто соперничая, кто сможет дольше задержать дыхание. Внезапно Эмилия прервала поцелуй и высвободилась из объятий. Уже четыре года жила она без мужчины. Лучше все же мучиться, чем поступать опрометчиво. Бог видит все — так она говорила. Души умерших всегда здесь, около нас, наблюдают за нами. Эмилия руководствовалась собственными религиозными идеями. Она читала мистиков: Сведенборга, Якова Бема. Часто обсуждала с Яшей ясновидение, предчувствия, чтение мыслей, общение с духами, с душами усопших. После смерти Стефана Храбоцкого у нее иногда проходили спиритические сеансы. Благодаря столоверчению они с мужем обменивались приветствиями. Потом она увидала, что эта женщина-медиум — просто обманщица. Мистика странным образом уживалась у нее со скептицизмом и хорошим, ровным чувством юмора. Она высмеивала Ядвигу с ее египетским сонником, который та держала под подушкой. А все же сама верила в сны. После смерти Храбоцкого некоторые из его коллег предлагали ей руку и сердце, однако покойный муж являлся во сне и требовал, чтобы она отказала. Однажды, когда она поднималась по лестнице, он даже явился ей. Эмилия говорила Яше, что любит его, потому что он очень похож на Стефана, и есть знаки, что покойный одобряет этот брак. Взяв Яшу за руку, она подвела его к креслу и усадила, будто непослушного ребенка.
— Садитесь. Ждите.
— И как долго ждать?
— Только от вас зависит.
Сама же расположилась в шезлонге, лицом к нему. Вырваться из объятий стоило Эмилии прямо-таки физических усилий. Как бы устыдившись собственных желаний, она залилась горячим румянцем. Грудь вздымалась, Эмилия тяжело дышала.
Разговор начался с сухих, незначащих фраз — так говорят хорошие друзья, которые, в сущности, уже разошлись, однако пытаются наладить прерванные отношения. Две недели назад заболела Галина. Она, Эмилия, тоже перенесла грипп. Я же писала, разве нет? Ну, значит, забыла… Теперь гораздо лучше… Галина? Ушла в парк с книгой. Совершенно поглощена чтением, запоем читает… Но всё такой вздор! Господи, какая же теперь ужасная литература… Дешевка, чтиво… Ну, возможно ли, чтобы в мае было так холодно? Снег, дождь… Театр? Нет, мы нигде не были. Билеты нам не по карману, да и пьесы бездарные… Все переводы с французского, и такие убогие. Режиссура ужасная. Вечный треугольник… Лучше вы расскажите. Где вы пропадали? Когда вы уезжаете, все становится каким-то зыбким. Как во сне. Потом приходит письмо, мир преображается. Или же прибегает Галинка, радостная: «Курьер Варшавский» про вас написал… Так, заметка, несколько строк. Вот она, сила печатного слова. Галинка убеждена, что каждый, про кого написано в газете, прямо полубог, даже если написано только, что человек попал под омнибус… Ну, а вы? Как вы? Совсем не показываетесь… Хотите, чтобы мы соскучились… Что я знаю о вас? Вы как были, так и остаетесь для меня загадкой. Чем больше вы о себе рассказываете, тем меньше я понимаю. У вас женщины по всей Польше. Разъезжаете в фургоне, как цыган. Очень забавно. С вашим-то талантом и так губить себя. Иногда мне кажется, что ваши поступки просто насмешка — и над собою, и над всем миром… А? Что же с нами будет? Все наши планы висят в воздухе. Боюсь, все так и будет продолжаться, пока мы оба не поседеем и не состаримся…
— Вот я здесь, и больше мы не расстанемся, — проговорил он, удивленный собственными словами: ведь до этого момента у него не было никакого решения…
— Что? Что я слышу? Наконец я дождалась. Как мне хотелось это услышать!
Глаза моментально подернулись слезами. Эмилия отвернулась, и он увидел ее в профиль. Затем она поднялась, чтобы распорядиться насчет кофе. Ядвига, оказывается, уже сварила. Она молола кофе на ручной мельнице, как было заведено, по старому польскому обычаю. В гостиной запахло кофе. Яша остался один. Да, это судьба, все предопределено, бормотал он под нос. Его трясло. Те несколько слов, что он сказал Эмилии, — ведь этим он окончательно связал себя. Что теперь станет с Эстер? И с Магдой? Способен ли он переменить религию? Но я не могу жить без нее! Неожиданно для себя он преисполнился нетерпения — так ждет освобождения каторжник, и каждый час кажется ему вечностью! Яша поднялся. На душе было тяжело, а в ногах необычайная легкость. Сейчас он смог бы прокрутить не одно, в сразу три сальто на проволоке. Как можно было так тянуть? Он одним махом пересек гостиную, очутился у окна, раздвинул портьеры, глянул вниз, на сияющие свечи каштанов в Саксонском саду. Там прогуливались гимназисты, юные франты с барышнями. Бонны с детьми шествовали по аллеям. Вот, к примеру, этот юнец с напомаженными волосами и его барышня в соломенной шляпке с вишнями… Воркуют себе, как два голубка, остановятся, сделают шаг, постоят на месте, поглядят друг на друга, прыснут со смеху — словом, забавляются играми, которые понимают только влюбленные. Казалось, они поглощены борьбой друг с другом, а может, исполняют что-то вроде любовного танца. Ну что в ней такого? И какое небо сегодня нежно-голубое, как завеса в Храме во время Дней Покаяния.
Яше показалось, что сравнение это кощунственно. Да ладно. Что уж там, Бог есть Бог, где бы ему ни молиться, в синагоге или же в костеле. Вернулась Эмилия. Яша обернулся.
— Когда она мелет кофе, на весь дом пахнет. И когда варит — то же самое.
— Что же будет с нею? — спросил Яша. — Возьмем с собой в Италию?
Эмилия задумалась:
— Мы уже и до этого добрались?
— Я на все готов.
— Ну что ж, и там нужна прислуга. Только все это слова, слова…
— Нет, Эмилия, теперь уже вы все равно что моя жена.
6
Раздался звонок в дверь. Эмилия извинилась и снова вышла, оставив Яшу одного. Он замер на стуле, словно боясь обнаружить себя неосторожным движением. Он уже и так компрометирует Эмилию, но родные пока про него не знают. Видит все и вся, как бы сам оставаясь невидимым. Вот он сидит здесь, разглядывает мебель, обстановку. Неспешно раскачивается маятник в старинных дедовских часах. Золотые блики играют на люстре, падают на альбом в красном бархате. В соседнем доме разыгрывают гаммы. Восхитительная чистота в этой квартире, поразительная опрятность. Всякая вещь знает свое место. Нигде даже намека на пыль. Наверно, те, кто живет здесь, никогда не соприкасаются с грязью. Здесь нет неприятных запахов, не приходят в голову недостойные мысли.
Яша прислушался. У Эмилии в Варшаве были родственники. Они частенько забегали без приглашения. Иногда Яше приходилось уходить через кухню, по задней лестнице. Прислушиваясь к происходящему, Яша пытался оценить создавшееся положение. Чтобы осуществить задуманное, нужны деньги, по крайней мере пятнадцать тысяч рублей. Такие деньги можно добыть лишь единственным способом. И опять: готов ли он на такой шаг? Иметь близость со столькими женщинами и променять их на одну, которая вся порыв, вся вдохновение, живет лишь минутой… Да, он обдумывает планы, но все это так переменчиво. Говорит о любви, но не мог бы даже и себе объяснить, что же это для него означает. И что понимает под этим Эмилия? Однако же, совершая грех, до сих пор Яша постоянно ощущал руку провидения. Тайные силы вели его и помогали во время представлений. Но можно ли ожидать, что Божья десница поведет его на кражу и отступничество?.. Слушая звуки фортепьяно, Яша прислушивался к своим мыслям. Перед каждым серьезным шагом в своей жизни он всегда слышал голос, который ясно указывал, что и как нужно сделать, обговаривал все детали. А на этот раз у него были дурные предчувствия. Что-то должно было случиться, что-то очень-очень важное. В его записной книжке был список банков, а также адреса богачей, которые держали деньги дома в сейфе, но очень уж не хотелось использовать эти возможности. Уже оправдав поступок, который в глубине души презирал, дав себе клятвенное обещание вернуть все с процентами, как только завоюет славу в Европе, он был не в состоянии утихомирить свою совесть. Страх, отвращение, презрение к себе — вот что он испытывал. Уже все равно что перестал быть честным человеком. Оба его деда известны были необычайной честностью. А прадед однажды тащился за разносчиком до самого Ленчица, чтобы отдать лишний гривенник.
Дверь отворилась, на пороге стояла Галина: светловолосая, неожиданно высокая для своих четырнадцати лет, с белокурыми косичками, прозрачными голубыми глазами, прямым носиком, полными губками и с той прозрачною бледностью кожи, которая свойственна страдающим малокровием или же людям со слабыми легкими. Она сильно вытянулась за время Яшиного отсутствия, и это, казалось, ее смущает. Радуясь и конфузясь в одно и то же время, глядела она на Яшу. Галина походила на отца — у нее был аналитический склад ума. Ей хотелось постигнуть все: каждый трюк, который ей довелось увидеть, каждое слово, которое он сказал матери в ее присутствии. Она жадно читала, собирала коллекцию бабочек, играла в шахматы, писала стихи. Уже учила итальянский… Несколько мгновений она, казалось, была в нерешительности. Затем с детской непосредственностью бросилась к нему и упала прямо на руки:
— Дядя Яша!
Поцеловала его, и он поцеловал ее тоже.
Немедленно посыпались вопросы. Когда он приехал? Опять в фургоне? Встречал ли диких зверей в лесу? А разбойники? Как там обезьянка? Ворона? Попугай? Как поживает павлин у него в саду, там, в Люблине? Змея? А черепаха? Это правда, что он будет делать сальто на проволоке? Как пишут в газетах? Такое возможно? А он скучал по ним — по ней и мамусе? Галина выглядела почти взрослой, но болтала, как маленькая девочка. И потому это выглядело намного нарочито, будто она переигрывает.
— Ты тянешься вверх, прямо как деревце, — сказал Яша.
— Все попрекают меня моим ростом, — по-детски пожаловалась девочка. — Будто я виновата… лежу в постели и прямо чувствую, как расту. Словно чертенята тянут меня за ноги. Не хочу я так расти. Лучше б всегда оставаться маленькой. Что делать, дядя Яша? Нет ли таких упражнений, чтобы остаться маленькой? Подскажи, дядя Яша! — и она поцеловала его в лоб.
Надо же, ну так меня любит, так любит, подумал Яша. А вслух сказал:
— Да есть такое средство.
— Какое же?
— Засунем тебя в старые дедушкины часы и футляр запрем. Больше, чем на длину футляра, вырасти не сможешь.
Галина подалась вперед:
— Вот решение так решение! Как быстро твоя голова соображает, дядя Яша. Мне бы до такого не додуматься. А как у тебя мозги работают? Господи Боже, как это получается?
— Почему бы тебе не снять крышку и не заглянуть внутрь? Это в точности как часовой механизм.
— Опять часы? Значит, все, что у тебя в голове, — часы. Может, ты готовишь новый трюк с часами? А знаешь, дядя Яша, про тебя пишет «Курьер». Ты знаменитый. Вся Варшава тобой восхищается. Почему тебя не было так долго? Я болела и звала тебя ну каждую минуточку. Ты даже снился мне. Мама сердилась, потому что я только про тебя и говорила. Она жутко ревнивая! — выпалила Галина и залилась краской от собственных слов. Тут вошла Эмилия.
— Ну, вот он, твой дядя Яша, снова здесь. Не передать, как она без конца про вас спрашивает.
— Не говори мама, не говори. Не то он испортится. Думает, наверно, раз он — великий артист, а мы — никому не известные маленькие люди, нами можно помыкать. Бог все равно могущественнее, чем ты, дядя Яша. Он знаешь какие фокусы может показать.
Эмилия нахмурилась:
— Не поминай имя Господне всуе. Это не предмет для шуток.
— Я вовсе не шучу, мама.
— Вот новая мода: поминать Бога при каждом пустячном разговоре.
Галина растерянно замолкла. Потом сказала:
— Мама, я ужасно голодная.
— Ой ли?
— Если не съем что-нибудь в ближайшие десять минут, ну просто умру.
— Ой, как ты ломаешься. Будто пять лет тебе. Поди к Ядвиге и скажи, что хочешь есть.
— А ты, мама, не проголодалась?
— Нет. Как-то ухитряюсь выжить от одной трапезы до другой.
— Но ты же почти ничего не ешь. Выпьешь стакан какао и уже позавтракала. А ты как, дядя Яша?
— Я готов слона съесть.
— Так пошли, вместе и поедим.
7
Завтракали втроем: мать, дочь и Яша. На столе все деликатесы, что он принес: осетрина, сардины, швейцарский сыр. Ядвига внесла кофе со сливками. Галина ела с аппетитом, только нахваливала, получая удовольствие от каждого куска: «Как пахнет! И прямо тает во рту!» Поджаренные рогалики только хрустели у нее на зубах. Эмилия прожевывала медленно каждый кусок, как и подобает воспитанной даме. Яша тоже ел с удовольствием. Он заранее предвкушал эти трапезы с Галиной и Эмилией. С Эстер не о чем было разговаривать. Она ни в чем не разбиралась, кроме работы по хозяйству и шитья. Здесь же беседа шла интересно и легко. Разговор коснулся гипноза. Эмилия постоянно предупреждала Яшу, чтобы он ни о чем таком не говорил с Галиной. Однако совершенно избежать этой темы оказалось невозможно. Ведь газеты писали о нем как о гипнотизере, а Галина была достаточно умна и любопытна. И ее было не убедить в обратном. Кроме того, она читала серьезные книги. Профессор Храбоцкий составил обширную библиотеку. А его коллеги по университету, да и некоторые ученики присылали Эмилии учебники, оттиски из научных журналов. Все это Галина просматривала. Она знала кое-что о месмеризме, о теории Месмера и его опытах, читала о Шарко, Жанэ. В польских газетах появлялись публикации о гипнотизере Фельдмане — сенсация номер один во многих польских салонах. Ему даже позволялось демонстрировать свои гипотетические возможности в госпиталях и частных клиниках. В мильонный, наверно, раз задавала Галина один и тот же вопрос: как это возможно, что один человек может передать свое желание другому? Как один может усыпить другого лишь взглядом? Как это получается, что кто-то дрожит от холода в летнюю жару или в жарко натопленной комнате мёрзнет по воле другого?
— Сам не знаю, — отвечал Яша. — Так уж получается. Это правда.
— Но вы же сами это делаете!
— Разве паук знает, как плести паутину?
— Ой, теперь он про пауков вспомнил! Я ненавижу пауков, боюсь ужасно! А вас, дядя Яша, люблю.
— Не слишком ли ты разболталась, Галина? — вмешалась Эмилия.
— Хочется правду узнать.
— Своего отца доченька. Только она, видите ли, хочет знать правду.
— А для чего же мы родились на свет? Зачем пишут книги, мама? Все для правды. Мамусенька, ужасно хочу попросить тебя.
— Знаю уже, о чем. Нет!
— Мамусечка! На коленях прошу! Сжалься.
— Ни за что. Нет!
Галина страстно желала, чтобы Яша продемонстрировал свои гипнотические силы прямо здесь и сейчас. Хотела, чтобы ее загипнотизировали. Однако Эмилия категорически отказывалась исполнить эту просьбу. Такими вещами не шутят. Где-то Эмилия читала: гипнотизер не смог вернуть в прежнее состояние объект гипноза. Жертва оставалась в трансе несколько дней.
— Приходи в театр и увидишь, как это делается, — сказал Яша.
— По правде говоря, не знаю, брать ли ее с собой. Там такая публика шляется.
— А что я буду делать? Сидеть на кухне и ощипывать перья?
— Ты еще ребенок, не барышня.
— Пускай он тогда сейчас меня загипнотизирует.
— Никаких таких сеансов в моем доме! — резко сказала Эмилия.
Яша хранил молчание. Все равно они обе уже под гипнозом. Любовь уже и есть гипноз. Как только увидал ее в первый раз, тут же и загипнотизировал. А то почему ждала она меня тогда на Маршалковской? Все они под гипнозом: Эстер, Магда, Зевтл, — и уже много лет. Да, он обладает силой, потрясающей силой. Что же это такое? Как у него получается? Сможет ли он загипнотизировать директора банка, чтобы тот открыл ему подвалы с сокровищами?
Он услыхал это слово «гипнотизм» лишь недавно, может, несколько лет назад. Попробовал, и успех превзошел все ожидания. Прикажет человеку заснуть — и тот впадает в транс. Скомандует женщине раздеться, и та все с себя снимает. Внушит девушке, что она не чувствует боли, колет ее булавкой, а она и не вскрикнет, и крови нет. Яша видел, как работают другие гипнотизеры, в том числе и знаменитый Фельдман. Но что это за силы? Как они действуют? Понять невозможно. Временами казалось, что гипнотизер и испытуемый сговорились о каких-то знаках, условных сигналах, используют тайные уловки. Но невозможно имитировать все. Например, испарину в холодную погоду. Невозможно остановить кровь, когда игла вонзается в тело. Скорее, это все же черная магия.
— Ох, мамуся, ну и упрямая же ты! — проговорила Галина, пожевывая гренку с сардиной. — Ну что это за силы такие, дядя Яша, расскажи, не то помру от любопытства!
— Это энергия. Что такое электричество?
— Да, а что такое электричество?
— Никто не знает. Здесь, в Варшаве, подают сигнал, и электричество переносит его мгновенно в Петербург, в Москву. Сигнал бежит через поля, через леса — за тысячи верст, и все же за одну секунду. А теперь есть еще такая штука, как телефон! Можно по проводам услышать голос. Наступит время, когда можно будет говорить из Варшавы с Парижем, вот как я с тобой говорю.
— Но как происходит все это? Ах, мама, так много всего, чему надо научиться! Есть же умные люди на свете! И откуда они берутся? Всегда это мужчины. Почему не учатся женщины?
— В Англии есть женщина-врач, — сказал Яша.
— В самом деле? — спросила Галина. — Это забавно. Невозможно удержаться от смеха!
— Что же тут смешного? — возразила Эмилия. — Женщины тоже люди.
— Конечно, конечно. Но женщина — доктор! Как она одевается? Вроде Жорж Занд?
— Ты знаешь про Жорж Занд? Запру от тебя библиотеку!
— Не надо, мамусенька. Я люблю тебя, люблю ужасно, а ты такая строгая со мной. Сама знаю, девочки такие надоедливые. Но дядя Яша так редко приходит к нам. Будто в кошки-мышки играет. Я скоро совсем погрязну в этих книгах. И почему вы не женитесь? — выпалила Галина, удивляясь собственным словам. И сразу побледнела. А Эмилия залилась краской до корней волос.
— Ты спятила или что?
— Она права. Мы скоро поженимся, — заявил Яша. — Все решено. И втроем поедем в Италию.
Так ужасно оскандалившись, сконфуженная, Галина потупилась. Принялась играть кончиком косы, как бы поправляя волосы. Эмилия опустила глаза. Сидела смущенная, растерянная, благодарная Яше за эти слова. Девочка без передыху болтала. Однако на сей раз ее глупый лепет был как нельзя кстати. Итак, он сделал официальное предложение. Эмилия подняла глаза.
— Галина, ступай к себе!
Глава пятая
1
Обычно Яша начинал репетиции за две недели до начала представлений. А в этом году, как раз когда он приготовил новый репертуар, сложные номера, репетиции все откладывались и откладывались со дня на день. Хозяин «Альгамбры» отказался увеличить плату. Вольский, его импресарио, без труда договорился с директором другого летнего театра — «Паласа». Частенько среди бела дня, когда Яша сидел в кафе у Лурса, пил себе кофе, листал журналы, его вдруг охватывало странное предчувствие: не выступать ему в этом сезоне. Ощущение это пугало, он пытался прогнать его прочь, оно возвращалось снова и снова. Может, он заболеет? Или, упаси Боже, суждено ему умереть? Что еще может случиться? Яша обхватывал руками голову, чесал в затылке, потирал щеки — полный мрак, кромешная тьма. Сам он, никто другой, поставил себя в такое положение, совершенно запутался. Перед ним — неразрешимая проблема. Он любит и желает Эмилию. Даже немного увлекся Галиной. Но как нанести такое смертельное оскорбление Эстер? Все эти годы она проявляла редчайшую преданность. Поддерживала его всегда, в любых затруднениях, выручала при любых обстоятельствах. Снисходительность ее была столь безмерна, что в ней уже было что-то от святости, — так снисходителен к человеку бывает лишь Бог. И так ей отплатить? Ей не перенести удара, Яша понимал. Ослабеет, увянет, угаснет, как свеча. Не раз доводилось ему видеть, как человек умирает от горя — просто потому, что ему незачем больше жить. Некоторые даже не были ничем больны, когда умирали. Быстро, без лишних слов, Ангел Смерти делает свое черное дело.
Последнее время он пробовал подготовить Магду к мысли, что ему придется уехать. Девушка и так была напугана. Когда бы он ни возвращался от Эмилии, в глазах Магды стоял немой упрек. Она почти перестала говорить. Как улитка забралась в раковину. В постели была холодна, молчалива, держалась отчужденно. В прежние годы с наступлением лета прыщики на лице засыхали, блекли, но на этот раз их стало даже больше, сыпь распространилась на шею и верхнюю часть груди. Все валилось из рук. Горшки опрокидывались прямо на горячую плиту, она ошпарила ноги. Потом порезала палец, чуть было не лишилась глаза. Как она сможет крутить сальто в таком состоянии, вертеть ногами бочонок, подавать ему мячи при жонглировании? Если даже он, Яша, ухитрится выступить в этом сезоне, где взять помощника в последний момент? Да, а что будет с Эльжбетой? Узнай она, что Яша оставил Магду, — это ее убьет.
Безвыходное положение. Тупик. Мертвая точка. Выход один: нужны деньги. Быть может, тогда ситуация разрешится хотя бы отчасти. Если б дать Эстер десять тысяч рублей — наверно, это смягчило бы удар. Чек на приличную сумму вполне устроил бы Магду и Эльжбету. Надо еще ему, Эмилии и Галине. Ведь они собираются нанять виллу в Южной Италии, где климат подходит для Галины, для ее легких. Он, Яша, не сможет начать выступления вот так, сразу. Сначала надо выучить язык, найти импресарио, завязать связи. Нельзя позволить себе продаться так дешево, как в Польше. В Европе успех должен прийти с первого раза. На все на это нужен резерв по крайней мере в тридцать тысяч лир. Эмилия сообщила ему то, что он уже и так знал: у нее ничего не было, кроме кучи долгов, с которыми следовало расплатиться до отъезда.
Обычно Яша не курил. Он отучил себя от трубки, полагая, что это вредно для сердца, для глаз, что курение влияет на сон. А теперь вдруг пристрастился к русским папиросам. Сидел в кавярне, прихлебывал из блюдечка черный кофе, просматривал журнал, сосал мундштук. Дым щекотал ноздри, кофе будоражил вкус. Статья в журнале — полная чушь: неистовые восторги, дифирамбы в честь парижской актрисы, некоей Фифи, ножки которой сводят с ума всю Францию. Автор полагал, что Фифи — бывшая дама полусвета. Почему вся Франция — у ног проститутки? — размышлял Яша. И что такое Франция? И Западная Европа, о которой Эмилия говорит с таким благоговением? И каково же искусство, каковы культура, эстетика, если журналы, захлебываясь от восторга, пишут об этой Фифи? Яша отложил в сторону журнал, и им тотчас же завладел некий господин с седыми усами. Загасил папиросу, ткнув ее в мокрое блюдце. Да, все размышления, предположения, все раздумья приводят к одному: нужна крупная сумма денег, и, если нельзя получить ее законным путем, придется украсть. Но когда совершить преступление? Где? Как? Странно: ведь он уже давно обдумывал, так и этак обмозговывал это дело, и даже ни разу не зашел в банк, не ознакомился с банковской процедурой, не имел ясного представления, где держат деньги ночью, не дал себе труд узнать, какого типа замки в банковских сейфах. Напротив, проходя мимо банка, ускорял шаги, отводил глаза. Одно дело — отпереть замок на сцене, перед публикой, или на глазах у этой шайки в Пяске, и совершенно другое — совершить кражу из здания, находящегося под вооруженной охраной. Тут надобно вором родиться.
Яша постучал ложечкой о блюдце, подзывая официанта, но тот либо не слышал, либо делал вид, что не слышит. Кавярня была полным-полнешенька. Группы, кружки, компании. Таких, как Яша, пришедших в одиночку, почти не было. Мужчины в визитках, панталоны в полоску, мягкие шейные платки. Острые бородки. И широкие брюки лопатой. Кто с висячими усами, у кого лихо закручены вверх. На женщинах — широкие шуршащие юбки, широкополые шляпы с искусственными цветами, гроздьями винограда, веточкой вишни, с перьями, цветными булавками. Патриоты, которых русские отправили в Сибирь, умирали тысячами — погибали от цинги, от водянки, угасали от чахотки, но главное, от горя, от тоски по отчизне. Но здесь, в кафе, люди, видимо, уже смирились с гнетом Российской империи. Болтали, смеялись, шутили, что-то выкрикивали. Женщины подталкивали друг друга локтями. Снаружи проехал катафалк, прошла траурная процессия. Но этим не было дела до чужого горя. Любопытно, о чем это они трещат так упоенно? От чего так блестят глаза? А этот вот старикан, с белой, клинышком, бородкой и мешками под глазами — зачем у него роза в петлице? Он, Яша, будто бы такой же, как они, по крайней мере, выглядит так, но все же есть между ними какая-то невидимая преграда. Что же это? Невозможно понять. Наряду с честолюбием, жадностью к жизни, постоянным ощущением тщеты всего сущего — постоянное чувство вины за то, что не может ни расплатиться, ни позабыть. На что такая жизнь, если даже не знаешь, для чего родился, для чего, почему умираешь? Какой прок во всех этих разговорах о позитивизме, промышленных преобразованиях, о прогрессе, если все кончается могилой? При всей этой гонке и спешке Яша постоянно подавлен, вечно тоскует. Лишь только он перестает думать о новых трюках, новых связях, сомнения гложут его, будто черви. Для чего он появился на свет? Прокрутить сальто несколько раз? Обмануть нескольких женщин? С другой стороны, может ли он, Яша, почитать Бога, которого кто-то придумал? Сидеть, посыпав голову пеплом, как правоверный еврей, и оплакивать и оплакивать разрушение Храма две тысячи лет назад? Или преклонить колени и молиться Иисусу из Назарета, рожденному якобы от Святого духа? Верить, что Иисус — сын Бога?
Подошел кельнер:
— Что пан желает?
— Расплатиться, — ответил Яша. Собственный ответ показался ему двусмысленным: надо расплатиться за жизнь, полную обмана и предательства.
2
В первом акте муж приглашает Адама Повольского провести лето в его имении, но пан Повольский отказывается: на это есть причины. У него любовница, юная супруга престарелого шляхтича. Хозяин имения непреклонен. Любовница подождет. Он желает, чтобы Адам Повольский на вакациях давал уроки музыки дочери и обучал английскому жену (французский уже вышел из моды).
Во втором акте Повольский флиртует с обеими — с матерью и дочерью. Чтобы избавиться от мужа, эти трое убеждают его, что из-за артрита необходимо отправиться на грязи в Песчаны.
В третьем акте обман раскрывается. «Вовсе не должен я ехать в эти Песчаны валяться в грязи!» — кричит помещик. Он вызывает Адама на дуэль, но вдруг появляется старый шляхтич, тот самый обманутый муж, супруга которого — возлюбленная Повольского. Он забирает Повольского с собой. Пьеса кончается тем, что старик читает пану Адаму нотацию об опасности любовных авантюр.
Этот фарс был перевод с французского. В летнем сезоне давали несколько премьер, но эта пьеса «Трудная жизнь Адама Повольского» собирала полный зал даже в самую жару. В зале начинали смеяться по поднятии занавеса, и смех не прекращался до конца третьего акта. Дамы прикрывали рот носовым платочком, вытирали слезы, выступавшие от безудержного, с трудом сдерживаемого смеха. Порой раздавался смех почти что нечеловеческий. Звучал как выстрел, переходя затем в тихое ржание. Это один рогоносец потешался над другим. Он хлопал по коленям и прямо-таки падал со стула. Жена пыталась привести его в чувство, усадить на место. Эмилию это забавляло. Яша едва улыбался. От газового освещения стояла жуткая духота. Он уже видел десятки подобных фарсов. Всегда одно и то же: глупый муж, неверная жена, коварный любовник. Внезапно улыбка сбежала с лица, брови нахмурились. Кто здесь над кем потешается? Такое творится повсюду. Танцуют на свадьбах, рыдают на похоронах, клянутся в верности у алтаря — и нарушают брачный договор. Плачут над вымышленными подкидышами, бедными сиротками — и безжалостно убивают друг друга: на войне, в революцию, при погроме. Он держал Эмилию за руку, но гнев уже закипал в нем. Не может он ни покинуть Эстер, ни креститься, ни пойти на преступление ради Эмилии. Яша искоса взглянул на неё. Смеялась она меньше других, вероятно, избегая показаться вульгарной. Однако же, видно было, ее тоже забавляли уловки Повольского, его ужимки, двусмысленные остроты. Кто может сказать? Наверно, он нравится ей. Он, Яша, небольшого роста, коренастый, а этот — статный, высокий. В Италии Яше будет трудно с языком несколько лет, а Эмилия сможет говорить по-французски, быстро выучит итальянский. Придется разъезжать, давать представления, рискуя свернуть шею, а Эмилия тем временем заведет салон, будет приглашать гостей, присматривать жениха для Галины, быть может, заведет итальянского Повольского. Все они таковы! Каждая плетет свою сеть…
Нет! Нет! Ни за что! — рвалось из него. Не позволю себя заманить! Завтра же прочь. Оставить все — Эмилию, Вольского, «Альгамбру», все фокусы и трюки, да и Магду. Хватит с меня, хватит уж — слишком долго я был кунцнмахер. Разгуливал по проволоке. Крутил сальто. Яша вдруг вспомнил про новый трюк, который намечал показать, — сальто на проволоке. Они там будут сидеть, развалясь в креслах, а он, еще энергичный и подвижный в свои сорок, крутить перед ними сальто на проволоке. А если упадет и разобьется? Да они вытолкают его через порог — попрошайничать, и ни один из прежних покровителей не бросит и грошика ему в шляпу.
Он убрал руку. Эмилия притянула ее снова, а он опять вырвался в темноте, пораженный собственным упрямством. Так бывало и прежде. Еще до встречи с Эмилией он ломал над этим голову: как можно так жадно желать женщин и одновременно ненавидеть их — так пьяница ненавидит водку. Задумывая новые номера, он при этом жутко боялся, что прежние его трюки наблюдают это, держась поодаль, и могут ослабить его силы, привести к безвременной гибели. Да, он надел на себя слишком уж тяжелое ярмо еще прежде, до Эмилии. Содержал Магду, Эльжбету и Болека. Платил за варшавскую квартиру. Месяцами таскался по глухой провинции, играл в стылых пожарных сараях, трясся в фургоне по ухабистым, грязным, опасным дорогам. И что он имеет со всего этого? У последнего батрака больше покоя на душе, меньше забот, чем у него, у Яши. Эстер постоянно ворчит, что он работает на дьявола.
Странным образом этот фарс помогал размышлять. Долго ли ему предстоит еще вот так крутиться? Сколько еще можно на себя взвалить? Есть ли этому предел? Сколько можно подвергать риску свою жизнь? Вызывали отвращение и актеры, и публика, и Эмилия, да и он сам. Все эти важные дамы и господа никогда не понимали его, Яшу, да и он их не понимал. Ловко это у них получается: религия вместе с материализмом, супружеская верность с прелюбодеянием, христианская любовь со вселенской ненавистью. Страсти раздирали его. Никогда, никогда не прекращались муки раскаяния, чувство стыда, страх смерти. Ночами он ворочался, пересчитывая свои годы. Сколько еще он останется молодым? Надвигается старость. Нет более жалкого зрелища, чем состарившийся циркач. Иногда ночью, в постели, не в состоянии сомкнуть глаз он припоминал давно забытые отрывки из Писания, слова молитв, мудрые бабушкины пословицы, отцовские поучения. В ушах звучал знакомый мотив, для него связанный с молитвами Дней Покаяния:
Зачем, зачем, к чему стремится человек? Погаснет его огонь… Кончится век…Вновь сомнения сокрушали его. А что, если Бог все-таки есть? Может, все, что написано в святых книгах, правда? Не может быть, что вселенная возникла сама или просто образовалась из туманности. Кто знает, вдруг День Искупления действительно приходит, и есть такие весы, на которых взвешиваются добрые и злые дела? Если так, дорога каждая минута. Если так, то он заслужил не один ад, а два: один на этом свете, другой — на том…
Ну, а все же конкретно что ему делать? Отпустить бороду? Отрастить пейсы? Облачиться в талес, надеть филактерии и молиться три раза на дню? А откуда следует, что «Шулхан-арух»[30] — непреложная истина? Может, истина сокрыта в христианстве, магометанстве или в какой-то другой религии? У всех — святые книги, пророки, предания о чудесах, свои тайны, откровения. Яша явственно ощутил, как внутри него борются добро и зло. Потом стал грезить наяву: о летательном аппарате, новых любовных связях, новых приключениях или же путешествиях, сокровищах, новых открытиях и еще — о собственном гареме.
Закончился третий акт, опустился занавес. Взорвались оглушительные аплодисменты. Публика кричала: «Браво! Браво!» На сцену полетели цветы. Вышла труппа. Держась за руки, актеры раскланивались, улыбались, обращаясь к ложам, где сидели богачи. Это ли было целью Творения? — вопрошал Яша. Этого хотел Бог? Если так, не лучше ли покончить с собой?..
— Что случилось? — спросила Эмилия? — Плохое настроение?
— Нет, ничего.
3
До Крулевской, где жила Эмилия, было совсем недалеко, но Яша взял дрожки. Приказал кучеру ехать не спеша. В театре было душно, а здесь, на улице, обвевал прохладный ветер с Вислы, со стороны Пражского леса. Газовые фонари бросали неверный отблеск. В ясном небе сверкали звезды. Просто смотреть вверх — уже одно это успокаивало душу. Яша плохо разбирался в астрономии, однако все же прочел несколько популярных книг на эту тему. Даже смотрел в телескоп и разглядел кольца Сатурна, горы на луне. Какова бы ни была истина, верно по крайней мере одно — небеса бескрайни, беспредельны. Только через тысячи лет свет звезды достигает наших глаз. Неподвижные звезды, мерцающие в небесах, — это солнца, каждое с собственными планетами, на которых существуют, вероятно, целые миры. Эта бледная длинная полоса, по всей видимости, Млечный путь, мириады небесных тел. Яша никогда не пропускал ни статей по астрономии, ни публикаций о научных открытиях в еженедельнике «Курьер Варшавский». Ученые постоянно что-то открывали, космос измерялся не в километрах или верстах, а в световых годах. Изобрели прибор, позволяющий анализировать химический состав далеких звезд. Конструировали все больших размеров и с большими возможностями телескопы, и они помогали открывать тайны мирового пространства, в точности предсказывали солнечное или лунное затмение, сближение с кометой. Если б я занялся своим образованием вместо всего этого циркачества, сожалел Яша. А теперь?.. Слишком уж поздно.
Дрожки вынесли их на Александерплац, покатили вдоль Саксонского сада. Яша вздохнул. Во мраке парка — свои тайны. Крошечные огоньки вспыхивали в глубине и тут же гасли. За решеткой парка воздух был напоен ароматом листвы. Яша поднес к губам руку Эмилии, затянутую в перчатку, и поцеловал запястье. Лицо ее окутывал полумрак. Глаза сияли, как два бриллианта, многое обещая в ночи. По дороге в театр он купил ей розу и теперь наслаждался ее тонким пьянящим ароматом. Склонясь к цветку, он как бы вдыхал аромат вселенной. Если из земли и воды можно создать этот запах, творение не может быть бессмысленным, дурным, решил он. Пора перестать мучить себя всякими глупостями.
— Что вы сказали, дорогой?
— Сказал, что люблю тебя и не могу дождаться, когда же ты будешь моей.
Она помедлила. Прикоснулась коленом. Будто электрическая искра пробежала к нему сквозь шелк ее платья. Его обуяло желание. По спине прошла дрожь.
— Мне еще труднее, чем тебе. — Она сказала «ты» в первый раз за все время, что они знакомы. Едва произнесла это слово. Он скорее угадал его, чем услышал.
Они сидели не шевелясь, лошади шли шагом. Спина у кучера склонилась, будто он дремлет. Оба, казалось, прислушиваются к тому тайному току, который шел от ее колена к нему и обратно. Тела их общались безмолвно, на собственном языке. «Я тебя хочу» — говорило одно колено другому. Угнетало напряженное молчание — так бывало, когда он шел по канату. Неожиданно она склонилась к нему. Поля шляпки — будто крыша над головой. Губы коснулись его уха.
— Хочу родить ребенка, — прошептала она.
Он обнял ее, впился в губы. И пил, пил. Эстер говорила о ребенке много раз, но прошли уже годы и годы с тех пор, когда она заводила разговор на эту тему. И Магда говорила об этом постоянно, однако он не принимал ее всерьез. Казалось, совсем позабыл об этой стороне жизни. А Эмилия не забыла. Она еще достаточно молода, чтобы зачать и выносить. Может, это и есть причина моих мучений. Нет у меня наследника.
— Да, сына, — сказал он.
— Когда?
Губы опять слились в поцелуе. Они вбирали друг друга в молчании, с животной страстью. Вдруг лошади стали. Кучер хлестнул их:
— Вьо!
Остановились перед домом, где жила Эмилия. Яша помог ей выйти. Она не стала сразу звонить в парадное, а стояла с ним на краю тротуара. Оба молчали.
— Ну, все же поздно, — и она дернула колокольчик. По шагам Яша определил, что не сам дворник идет отворять, а его жена. Было темно. Эмилия вошла, и Яша проскользнул вслед. Это получилось как-то само собой, очень быстро. Даже Эмилия не сразу поняла, что произошло. Дворничиха поплелась к себе в каморку. В темноте он взял Эмилию за руку.
— Кто это?
— Я…
— Боже милостивый, что ты наделал? — и она рассмеялась над его ловкостью и отвагой. Так они стояли во мраке, будто бы безмолвно совещаясь.
— Нет, это не дело, — прошептала она.
— Только один поцелуй.
— Но как ты войдешь? Ядвига выйдет отпереть дверь.
— Сам отопру, — ответил он.
Вместе поднимались по лестнице. Несколько раз останавливались, чтобы поцеловаться. Он что-то такое сделал с дверью, какие-то пассы, и она распахнулась. В передней было темно. Полуночная тишина царила внутри. Яша прошел в столовую, увлекая за собой Эмилию. Ее будто тянуло назад. Они молча боролись. Он повлек ее к дивану, и она безмолвно последовала за ним. Больше он не мог управлять собою.
— Не хочу начинать нашу жизнь во грехе, — прошептала она.
— Нет…
Захотелось раздеть ее, и шелковое платье затрещало, пробежали искры. Это просто статическое электричество, он знал это, но все равно поразился. Она тоже удивилась. Она сжала ему запястья, стиснула с такой силой, что причинила боль.
— Как ты уйдешь?
— Через окно.
— Галина может проснуться.
Вдруг она отстранилась и сказала:
— Нет. Уходи… Так надо.
Глава шестая
1
На следующий день Яша проснулся поздно. А потом еще провалялся до полудня. Магда же не могла расстаться со своими деревенскими представлениями. Никак не могла взять в толк, как это можно — полдня валяться на кровати. Хотя и понимала, что Яша не то, что другие. Может есть ужасно много, а может долго ничего не есть. Не спать ночами, а потом спать несколько суток напролет. Спал он крепко. Пробудившись, разговаривал с Магдой как ни в чем не бывало, никогда ни словом не обмолвившись о своих ночных видениях. Только брови да вены на висках выдавали, что он напряженно обдумывает что-то. Кто может знать? Может, он обдумывает новые свои фокусы? Всякие замысловатые кунштюки? Магда ходила на цыпочках. Подавала прямо в постель гречневую кашу, картошку с грибами. Яша ел — и снова засыпал. Магда ворчала под нос, ругалась по-польски грубо, как это делают в деревне: «Храпит тут, прости Господи, свинья этакая, пся крев. Что б ему сдохнуть с его паршивкой, этой благородной, как ее там…» Сама же Магда знала лишь одно лекарство ото всех печалей — работу. Яша был очень привередлив и в то же время скуп в отношении одежды, и постоянно приходилось все чинить. Пуговицы терялись, швы распарывались, рубашки он менял каждый день и с такой брезгливостью бросал рубашку в стирку, будто там вши кишмя кишат. За ним надо было все подбирать, стирать, чистить, зашивать. Да и вся его компания требовала ухода: лошади в конюшне, а дома — обезьянка, попугай, ворона. Магда была ему и жена, и прислуга, и помощница на представлении — и что она за это имела? Ничего! Корку хлеба. А он-то что из себя представляет? Простофиля! Кому не лень, все его надувают, обкрадывают, водят за нос. Да уж, умен, когда он в театре, гипнотизирует, читает мысли или посиживает с книжками да газетками. А как дойдет до дела, дурак-дураком. И здоровье свое разрушает. Нечего шляться ночи напролет. Хоть и здоровье пока отменное, иногда он слаб, как муха, может упасть в обморок. Валяется, будто его удар хватил.
Магда скребла, чистила, мыла, терла, вытирала пыль. Забежит иногда соседка — одолжить луковицу, дольку чеснока, чуток молока, кусочек смальца. Магда никому не отказывала. По сравнению с этой голью перекатной она была просто богачка. Да ведь надо было ладить с соседями, заискивать перед ними еще и потому, что у Магды была дурная слава. Официально она числилась как прислуга. Соседки в ссоре могли обзывать Магду шлюхой, ругали стервой, кричали, что у нее есть желтый билет. Мужчины, как напьются, приставали к ней, лапали, стоило ей выйти в лавку или к колонке, Мальчишки кричали вслед: «Жидовская подстилка!»
Часы на колокольне костела Святого Яна пробили два. Магда вошла к Яше в альков. Он уже не спал. Сидел, уставившись в одну точку.
— Как поспал? Хорошо вздремнулось?
— Да. Я устал ужасно.
— Когда же начнем репетировать? До премьеры всего неделя.
— Да. Знаю.
— Всюду афиши. Твое имя — огромными буквами.
— Пропади все пропадом. Пускай все катится к чертям…
Яша сказал, что ему хочется принять ванну, и Магда проворно засуетилась, побежала ставить на плиту чугуны с водой. Она намылила Яшу, окатила чистой водой, помассировала. Магда, как и все женщины, мечтала о ребенке. От Яши она готова была зачать даже незаконнорожденного. Но и в этом он ее постоянно обманывал. Он, Яша, хотел быть единственным ее ребенком. Магда купала его, баловала, ласкала. Он же обижал ее больше, чем мог бы обидеть худший из врагов. Однако стоило ему провести с ней лишь несколько часов, показать, что она очень нужна ему, она любила его с еще большим пылом.
Он вдруг спросил: «У тебя летние платья есть?» — Сразу же полились слезы: «Наконец-то сам вспомнил!» — «Что ты все меня попрекаешь? Знаешь же, какой я забывчивый». — «И не попрекаю вовсе. Не надо мне ничего. Пускай все эта твоей новой будет. С которой ты путаешься».
— Скоро я тебя разодену. Говорил же тебе: ты теперь навсегда в моем сердце. Что бы ни случилось, жди меня.
— Да. Буду ждать.
— Снимай-ка все. Будем купаться вместе.
Магду это очень смутило, такое предложение. Но Яша обнимал ее, помогал раздеться. Не так стеснялась она наготы, как худобы, тощего своего тела. Выпирающие ребра, плоская грудная клетка, острые коленки, руки, как палки. Прыщи с лица переходят на шею и покрывают всю спину. И вот она стоит перед ним, робкая, застенчивая, тощенький скелетик. Яша вылез, взял Магду на руки, посадил в ванну. Купал ее, намыливал, нежно ласкал. Щекотал до тех пор, пока она не начинала хохотать. Потом отнес в альков, завернул в простыню. Последнее время он занимался с ней любовью так часто и так подолгу, что страх сжимал ей сердце. Ясное дело, он колдун просто, и чары его сатанинские.
А ведь еще недавно он избегал ее. Целыми днями молчит и молчит. За день голоса его не услышишь. А теперь он говорил с ней как раньше. Расспрашивал про деревню, про крестьянские обычаи, и она рассказывала, как собирают урожай, какие существуют при этом поверья и обычаи. Про эльфов, живущих в колосьях. Как они убегают от серпа во время жатвы, как спасаются от цепа при молотьбе. Про соломенное чучело, которое мальчишки бросают в реку. Про дерево, которому крестьяне молятся о дожде, хотя священник это строго запрещает. Про деревянных петухов, которые есть в каждом доме, хранятся на чердаке — во время засухи их пускают по воде, чтобы вызвать дождь. Яша слушал внимательно, расспрашивал еще и еще. Потом спросил:
— Ты веришь в Бога?
— Конечно. Верю.
— Тогда зачем он создал все это?.. Возьми у меня там, в кармане брюк, десять рублей. Поди к портнихе.
— Мне не нравится лазать по карманам.
— Давай, давай. Бери, пока там еще есть.
Магда вышла в комнату, где висели брюки, достала десятку. Вернулась в альков. Яша заснул опять. Ей захотелось поцеловать его в лоб, но не хотелось будить. Долго стояла она в дверном проеме, глядела на спящего Яшу, с болью, но совершенно ясно сознавая, что, сколько бы она ни знала его, никогда ей не понять Яшу. Как он был загадкой для нее, так и оставался, и телом, и душой. И почему она так цепляется за него? Так трясется, так боится потерять? Наверно, есть тому причины. Наконец она отправилась прибрать ванну. В доме жила портниха, недалеко от других ворот. Магда поплевала на ассигнацию, сложила ее вчетверо, сунула за лифчик. Неожиданно день оказался счастливым!
2
Он проспал весь долгий летний день. Шел дождь. Потом перестал, небо снова очистилось. Яша открыл глаза. Альков окутывал полумрак. С кухни проникали запахи. Магда жарила котлеты с картошкой, тушила кислую капусту. Он с утра ничего не ел, кроме каши, и, проснувшись, прямо умирал с голоду. Быстро оделся, вышел на кухню. Поцеловал Магду. Похватал, что оказалось под руками: рубленую селедку с хлебом, схватил со сковороды недожаренную котлету. Магда добродушно поворчала на него, сказала:
— Каждый бы день такой, как сегодня.
Только она это проговорила, как у входной двери что-то заскреблось. Гремя засовами и цепочками, Яша открыл. Там стояла дворовая девчоночка, закутанная в тяжелую шаль. Наверно, она знала его в лицо, потому что сразу сказала:
— Пане Яша, там вас у ворот ждет одна паненка.
— Что еще за паненка?
— Ее зовут Зевтл.
— Ну, спасибо. Скажи, сейчас спущусь. — Он дал двухкопеечную монетку.
Еще не успел Яша закрыть дверь, как Магда вцепилась в него, схватила за руки: «Нет! Не пойдешь! Еда остынет!»
— Ну нельзя же, чтоб она там ждала.
— Знаю, кто там тебя ждет — та потаскуха из Пяска.
Магда вцепилась изо всех сил, так, что ему пришлось вырываться. В мгновение ока лицо исказила гримаса, волосы растрепались, глаза позеленели и горели, как у кошки. Пришлось отпихнуть ее, и Магда свалилась в лохань с водой. Вот всегда так. Стоит только проявить доброту, уступчивость, как тут же хотят поработить его. Закрывая за собой дверь, Яша слышал, как причитает Магда, выкрикивает что-то ему вслед, шипит, ну прямо змея. Жаль ее, но нельзя же допустить, чтобы там, внизу, Зевтл стояла и ждала. Не спеша спускался он по лестнице. Из квартир доносились разнообразные звуки и запахи. Вопили младенцы, кряхтел и стонал больной, девушка напевала о любви. Где-то на крыше орали коты. Чтобы обдумать план действий, Яша на минутку остановился.
«Дам ей что-нибудь, и пусть катится. И без нее тошно. Все и так слишком сложно». И только он это подумал, как в ту же секунду вспомнил, что Эмилия назначила ему свидание. Ему предложили обедать у нее дома каждый вечер. Эти последние ее слова — перед тем, как ему вылезти в окно накануне вечером. Боже, как можно было забыть об этом? — ужаснулся Яша. Господи Боже, все-то я позабыл. Обещал написать Эстер в ту же минуту, как приеду в Варшаву. Она, небось, уже извелась от беспокойства. Что же со мной творится? Болен я, что ли? Он прислонился к перилам, как бы надеясь хоть на что-то опереться, подвести итог своей жизни. Растратить неизвестно на что весь этот долгий день. Провести его в дремоте, в пустых мечтаниях. Предстояло так много сделать, столько обдумать. Нельзя было позволять себе задерживаться на всяких пустяках. Следовало тщательно продумать план открытия представления, а он и не начинал репетировать. Никогда не переставал думать об Эмилии, однако же ни к какому определенному решению так и не пришел. Ни на что не могу решиться, подумал он. Очень скверно. А что накануне было — что Эмилия в последнюю минуту вдруг решительно отказала ему, — прямо-таки удар для него. Не поддалась его гипнотическим силам. Прежде чем выпустить, Эмилия поцеловала его и снова призналась в любви, но все же в голосе слышался оттенок торжества. Может, к лучшему, что я забыл об обеде? — пришло ему в голову. Пускай думает, что я бросил ее! И вдруг подумалось: а что, если это конец? Может, в этот самый момент она перестала меня любить? Или даже стала моим врагом? Что за нелепые мысли его одолевают? Так было в детстве, когда он ходил еще в хедер. Забавлялся тайной игрой со всеми этими «возможно», «быть может», «а что, если»: вдруг его отец — сам Сатана, меламед[31] — черт, а бегельфер[32] — оборотень? А все вокруг — одно лишь воображение? Склонности, пристрастия, характер ведь остались прежние. Ничего не изменилось. Если никто не видел, он не шел по лестнице, а скакал — порхал, как птичка, и пальцем скреб по штукатурке. И темноты по-прежнему боялся — это он-то, который на спор мог провести ночь на кладбище. Из ночного мрака выступали призраки — ужасные рожи, со спутанными волосами, хищными клювами, с провалами вместо глаз. Он жил с постоянным ощущением, что лишь тонкая перегородка отделяет его от этих сил тьмы, этих непонятных созданий, которые всюду окружают его, кишмя кишат, то помогают ему, то мешают, устраивают всяческие проделки, и приходится бороться с ними без передыху. Иначе можно упасть с веревки, потерять дар речи, обессилеть, заболеть, стать импотентом…
Наконец он спустился и увидел Зевтл. Она стояла у ворот под фонарным столбом, в шали, накинутой на плечи, в желтом свете фонаря. Выглядела такой, какой и была на самом деле: женщина из провинции, приехала в Варшаву только-только. Да, так она и выглядела — человек, который ушёл из дому, порвал со всем. Волосы уложены по сторонам двумя крендельками — явная попытка выглядеть моложе. Яша окликнул ее:
— Так ты здесь?
Зевтл испуганно встрепенулась:
— Ой, я думала, ты уж никогда не выйдешь.
Она сделала движение, будто собираясь поцеловать его, но ничего из этого не вышло. Какая-то баба несла с колонки полную бадейку воды, кряхтя и охая, бормоча себе под нос. Задела Зевтл и пролила воду прямо на ее модные, с высокой шнуровкой ботинки.
Ох, чтоб ее разорвало! — Зевтл тщательно вытерла шалью ботинки, подняв сначала одну ногу, потом другую.
— Ты когда приехала?
Зевтл долго раздумывала, как будто не сразу поняла вопрос. Казалось, долгая дорога сбила ее с толку.
— Отправилась в путь, и вот я здесь. Думаешь, просить буду денег?
— Почему бы и нет? Все возможно.
— Пяск — это не город. Кладбище это. Все распродала, что было. Продешевила, конечно. Да и чего от этого ворья ждать? Хорошо еще, что сама жива осталась.
— Где ты остановилась?
— Вместе с женщиной, которая поступила в прислуги. Она и мне работу обещала, да что-то нету до сих пор. Такие сейчас дела: прислуги больше, чем хозяев. И еще хочу тебе сказать что-то.
— Меня ужин ждет.
— Яшеле — это прямо ад разыскать тебя. Никто ни улицу не знает, ни номер дома. А как номер увидишь, если темно? Пока я эту девчонку нашла, что тебя вызвала, чуть не умерла. Не хотела к тебе наверх подниматься. Понимаю, что там другая. Все равно что две кошки в одном мешке.
— Она как раз кончает готовить. Как насчет того, чтобы подождать полчасика?
— Пойдем со мной, ну пойдем. Где тут ждать? Каждую минуту какой-нибудь пьянчуга может пристать. Думает небось, она из этих… Купим что-нибудь, и ты поешь. Да уж, конечно, ты такой великий артист, знаменитые кунцнмахер, все в Варшаве тебя знают, а я из маленького местечка… Но мы же, как говорится, не чужие… тебе приветы прислали: и Слепой Мехл, и Бериш Высокер, и Хаим-Лейб…
— Премного благодарен.
— Не за что. Оставь при себе свою благодарность. На что она мне? Говорю с тобой, а тебя все равно что нет здесь. Ты уже все позабыл? Или что? — Она переменила тон: прихожу к этой женщине, и она говорит: «Не вовремя ты приехала. Столько вас тут ищет работу по дому, а все хозяйки разъехались по дачам». Я подобрала корзинку, ухожу, а она мне вслед: «Куда ты бежишь, ну куда?» Оказывается, она помогает таким девушкам, одалживает деньги под проценты. Так ли, этак ли, она уложила меня на полу, я улеглась. Там еще три кухарки. Храпят ужасно. А одна так, что я всю ночь глаз не сомкнула. Лежала там и плакала. У Лейбуша я хотя бы была сама себе хозяйка. Утром я собралась, надо идти искать что-то, как вдруг входит какой-то мужчина, важный такой тип. С часами, с цепочкой, и манжеты с запонками. «Ты кто?» — говорит. Я все рассказала. Так, мол, и так. Муж меня бросил, а куда девался, не знаю. Спрашивает и спрашивает, а потом и говорит: «Знаю я, где твой муж». Да где же он, как закричу… В общем, долго ли, коротко ли, оказывается, этот парень из Америки приехал, но это вроде бы какая-то другая Америка. И Лейбуш там. Как услыхала я про это, принялась рыдать, как в Йом-Кипур. «Ну что ты ревешь? — он мне говорит. — Такие прелестные глазки!» И так говорит, говорит завлекательно, почти как ты, и деньгами сорит, всех угощал халвой и шоколадки давал. «Идем со мной, — говорит, — к мужу тебя отвезу. Он или опять тебя возьмет, или разведется с тобой». Обратно через пару недель едет и дает мне в долг шифскарту. Но я все же боюсь.
Зевтл внезапно замолкла… Яша присвистнул:
— Какова птичка, а?
— Ты его знаешь, что ли?
— И знать тут нечего. Это же альфонс, ты понимаешь, что это такое? Сводник! Увезет тебя неизвестно куда — и сунет в бордель.
— Но у него такой приятный разговор.
— Он так же знает твоего мужа, как я твою прабабушку.
И они пошли по улице, по направлению к Длуге. Зевтл крепко сжимала концы шали, накинутой на плечи.
— Что мне делать? Нельзя же воду в ступе толочь. Надо найти работу. Он отправил меня к сестре. Я там эту ночь провела.
— К сестре? Вот как? Она ему такая же сестра, как я — внучатый племянник. — Яшу удивляло, как быстро он перешел на жаргон и усвоил ее тон. — Пожалуй, больше похоже на мадам… Наверно, она имеет долю в этом деле. Он продаст тебя кому-нибудь в Буэнос-Айрес или еще куда-нибудь. Заживо сгниешь.
— Что ты говоришь? Он и правда упоминал такой город. Так где же это? В Америке?
— Какая разница! Они приезжают сюда, покупают людей, женщин — торговля человеческим мясом, белые рабы. Дожидаются таких дур, как ты. Газеты только и пишут об этом. Где эта сестра живет?
— На Низкой.
— Ну-ка, пойдем поглядим. Почему это он предложил плату вперед? С чего это он так раздобрился, этот малый?
Зевтл помолчала.
— Да, вот поэтому я и пришла. Когда лежишь на полу, и клопы еще заедают, хватаешься за любую соломинку, за любым мужчиной пойдешь. У сестры у этой хотя бы чисто. Кровать есть, простыни. Она еще и кормит меня. Я предложила плату, а она и говорит: «Об этом не думай, потом сочтемся».
— Хватит, немедленно беги оттуда, если не хочешь стать проституткой в Буэнос-Айресе.
— Что ты такое говоришь? Я порядочная женщина. Если б Лейбуш меня ценил! Я была бы хорошей женой. Но он проводил больше времени под замком, чем дома. Три недели всего прошло, как мы поженились, и он уже оказался в тюрьме. А теперь убежал неизвестно куда. Что мне было делать? Я все же живая плоть и кровь, в конце-то концов. Весь Пяск за мной ухлестывал. Все его дружки. Но с ними я не хотела связываться. С тобой, Яшеле, другое дело. Я не навязывалась, у меня своя гордость есть. Но только ты вот здесь, у меня на сердце. Ты уходишь, и я в ту же минуту начинаю изнывать от тоски по тебе. Вот иду с тобой, а кажется, будто лечу. А ты не поцеловал меня еще. — Зевтл надулась и с упреком поглядела на Яшу.
— Не могу же здесь. Из каждого окна смотрят.
— Ну, дай, дай же мне поцелуй. Я все та же Зевтл.
Она распахнула шаль ему навстречу.
3
— Ну и ну! Только этого мне еще не хватало! — изумлялся про себя Яша. — Как странно! Он совершенно позабыл об ее существовании. А ведь именно он дал ей денег на дорогу до Варшавы. Все еще больше запутывалось, и это даже доставляло ему какое-то извращенное удовольствие. Будто читаешь роман, в котором ситуация становится все напряженнее, а читатель едва может дождаться возможности перевернуть страницу. То он просто помирал с голоду, а тут голод прошел. Была теплая ночь, даже немного душновато, а Яшу пробирал озноб, как бывает после болезни, если выйти на улицу раньше времени. Как-то надо было это прекратить. Хорошо бы взять дрожки. На Фрете не было. Он потащил Зевтл в сторону Францисканской. Отделаюсь от нее, и к Эмилии, решил Яша. Та не знает, что и думать. Это в первый раз, что он нарушил обещание. Как бы и в самом деле Эмилия не обиделась. Все и так висит на волоске. И жалко, что от Магды убежал. Вдруг до него дошло — перемена произошла в нем самом. Было времечко, по полудюжине любовных дел у него было, притом одновременно. Все с рук сходило — без сучка, без задоринки. Каждую он надувал, не задумываясь, запросто мог порвать с любой женщиной, без малейших угрызений совести. А теперь квохчет над какой-то ерундой, обращает внимание на пустяки, все стремится поступить по справедливости. Я святой стал? Или что? — вопрошал Яша. Стоит ли ссориться с Эмилией ради Зевтл? Или Магды? И что ему взбрело в голову, что надо было пойти с Зевтл? Какие такие резоны — заботиться об этой потаскухе? Зачем он тащится к этой якобы «сестре»?
Фрета — узкая улица, там темень непроглядная. А на Францисканской — газовые фонари, яркие витрины — все освещено, магазины открыты. Несмотря на запрещение, торгуют через полуприкрытые двери. И кожей, и юфтью, молитвенниками, книгами, перьями, чего тут только нет. В верхних этажах кипела работа — там помещались всевозможные фабрички, мастерские, даже мельком взглянуть на окна — все на виду. Мотали нитки, резали бумагу, шили простыни, делали зонтики, вязали трико, кальсоны, майки. Со двора доносились удары молотка, жужжание швейных машин. Стоял такой гул от всевозможных станков, как в разгар рабочего дня. И пекарни работали на полную мощность: из печных труб шёл дым, летел пепел. Из сточных канав, переполненных помоями, доносилась привычная вонь, приходило в голову сравнение с Люблином или же Пяском. Молодые люди в длинных кафтанах, в ермолках, со свисающими пейсами, прогуливались взад-вперед, держа том Талмуда под мышкой. Где-то здесь иешива, видимо, и хасидские молельные дома. Проехали дрожки: одни узлы с вещами, а сверху еле удерживаются пассажиры. Только на углу, уже на Налевках, Яше удалось взять дрожки. Зевтл шатало. Ее опьяняли и подавляли крики, толпа, шум. Она забралась наверх, неловко зацепившись за что-то кистями шали. Уселась, вцепилась Яше в рукав. Дрожки свернули за угол, и Зевтл перепугалась: ей показалось, что они перевернулись.
— Если б кто сказал, что сегодня буду с тобой кататься на дрожках, я б не поверила — решила, что надо мной издеваются.
— Да уж. И я не ожидал.
— А светло-то, как днем. Аж горох лущить можно. — Она сжала Яшину руку, притянула к себе, будто эта ярко освещенная улица вновь пробудила в ней любовные чувства.
А вот и Генся. Тут ночь опять вступила в свои права. Проехал катафалк. Тело не сопровождал ни единый плакальщик. Видно, так суждено покойнику: одиноко, во тьме и тишине сойти в могилу. Может, кто-то вроде меня, промелькнула мысль. А вот Дзикая. Уже вблизи нее уличные проститутки зазывали прохожих. Яша показал на них: «Вот что он из тебя хочет сделать».
На Низкой было уже совсем темно. Ламповые стекла уличных фонарей так закоптились, что стояла сплошная темень. Сточные канавы переполнены, будто не лето стоит, а осень, сразу после праздника Кущей, когда идут проливные дожди. Тут расположились дровяные склады, а также несколько мастерских, где работали резчики по камню — делали могильные плиты и памятники. Там, где проходит Смоча, у самого еврейского кладбища, отделенный от улицы деревянным забором, стоял дом, в котором остановилась Зевтл. Они прошли через калитку, поднялись по наружной лестнице, Зевтл открыла дверь, и вот они в нарядной кухоньке, ярко освещенной керосиновой лампой. На лампе — бумажная узорная салфетка. Все было покрыто такими салфеточками: плита, буфет, посудные полки. На стуле сидела женщина. Ореол желтых волос, желтые глаза, длинный с горбинкой нос, острый выступающий подбородок. Ноги в красных домашних мужских шлепанцах, покоились на табурете. Рядом дремала кошка. В руках у женщины — мужской носок, натянутый на стакан для штопки. Она удивленно подняла глаза.
— Фрой Милц, вот он — тот человек из Люблина, про кого я рассказывала — Яша-кунцнмахер, фокусник в общем.
Пани Милц воткнула в носок иголку.
— Она только про вас и говорит: Яша то, Яша это. А вы не похожи на циркача.
— А на кого же?
— На музыканта. На клейзмера[33].
— Если у меня в руках скрипка — это не скрипка, а пиликалка.
— Ха! Какая разница, что делать? Каждая вещь куда-нибудь да сгодится… — она провела пальцем по ладони. Яша сразу же принял этот тон.
— Да, деньги, деньги… Любые деньги — грабеж, воровство.
— Смотрите, первый раз в Варшаве и уже всюду готова бегать. — Мадам Милц указала пальцем на Зевтл. — И как только ты его нашла? Страшно боялась, что она потеряется. А почему вы живете на Фрете? Там евреи не живут. Там же только поляки живут, — обратилась она к Яше.
— Поляки не суют нос в чужие горшки.
— Если горшок прикрыть крышкой, то и еврей заглянуть не сможет.
— Еврей приподымет крышку и потянет носом, а то и попробует.
— Чтоб я так жила, никому меня не провести, — сказала женщина, обращаясь то ли к Зевтл, то ли сама к себе. — Садитесь же. Зевтл, принеси табуретку.
— А где ваш брат? — спросила Зевтл.
Желтые брови поползли вверх от удивления.
— Что такое? Хотите подписать с ним контракт?
— Вот этот человек, Яша-кунцнмахер, хочет поговорить с ним.
— Он там, в задней комнате. Одевается. Должен уйти скоро. Почему ты не снимешь шаль? Лето все же. Не зима.
Поколебавшись, Зевтл сняла шаль.
— Еще и дрожки придется брать. Ведь его коммерсанты ждут, — заметила женщина как бы про себя.
— А чем он торгует? — произнес вдруг Яша, удивляясь собственным словам. — Скотом?
— Почему бы и нет? Там, откуда он приехал, полным-полно всякой скотины.
— Брильянтами он торгует, — вставила Зевтл.
— Я тоже в бриллиантах понимаю, — похвастался Яша. — Взгляните-ка на этот. — Он протянул мизинец и показал кольцо с огромным бриллиантом.
Мадам Милц удивленно на него поглядела, и в глазах ее вдруг появилось выражение неизвестно к кому обращенного упрека. Она язвительно улыбнулась:
— Мой брат — деловой человек. У него нет времени на пустые разговоры.
— Я только хочу получить кое-какие сведения, — сказал Яша, удивляясь собственной наглости.
Дверь отворилась, вошел мужчина. Высокий, плотный. Желтые волосы — в точности как у пани Милц. Широкий нос, толстые губы. Тяжелая нижняя челюсть отвисла, будто он жует или задумался. Желтые глаза навыкате. Серпообразный шрам портил лоб. Пиджака на нем не было. Только брюки и рубаха без воротника. На ногах лакированные штиблеты. Обильная поросль желтых волос на необъятной груди — они выбивались из-под рубашки, сквозь незастегнутые пуговицы. Яша сразу понял, что это за тип — просто головорез, разбойник. Он улыбался — но так, будто следит за своим выражением лица во время разговора. Добродушный, уверенный в себе, импозантный — гигант, который знает себе цену. Увидав его, желтая женщина сказала:
— Герман, это кунцнмахер, Зевтл знакомый.
— А, фокусник! Так вот он какой! — сказал Герман приветливо, и глаза его блеснули. — День добрый. Шалом.
И он стиснул Яше руку. Это больше походило на демонстрацию силы, чем рукопожатие. Яшей овладел дух соперничества, и он сжал протянутую руку, что было силы. Зевтл присела на краешек металлической кровати. Видимо, она тут спала. Герман ослабил хватку.
— Откуда вы, а? — спросил Яша.
— Откуда? Да со всего света. Варшава это Варшава, а Лодзь это Лодзь. В Берлине меня знают, и в Лондоне не чужой.
— А сейчас где живете?
— А везде. Как сказано в Писании: «Небеса — мой трон и земля подножие…»
— О, так вы еще и Писание знаете?
— А вы тоже?
— Учился когда-то.
— Где же? В иешиве[34]?
— Нет, у меламеда и некоторое время в бейтмидраше.
— А что вы скажете, ведь и я был когда-то ешиботник, — проговорил Герман доверительно. Но было это очень давно, так давно… Я уже тогда любил поесть, а в ешиботе оставалось только класть зубы на полку. Подумал-подумал, да и решил, что не для меня это. Поехал в Берлин учиться медицине, но все эти «плюсквамперфектумы» ихней грамматики — не для меня. Немецкие «фройляйн» больше меня привлекали. Так я отправился в Антверпен шлифовать бриллианты. Быстро сообразил, что этим денег не заработаешь, — торговать надо бриллиантами, а не шлифовать. Люблю карты и верю в старую пословицу: свято место пусто не бывает. Словом, понесло меня дальше и занесло аж в Аргентину. Там еврей таскает мешок на плечах, торгует, делает жизнь, становится американцем. У нас это называется «квентник», в Нью-Йорке «педлер», в Германии «хойзерер»[35]. Ну какая, к дьяволу, разница? Эта рейферка[36] — опять забыл, как ее зовут, — у нее сын в Буэнос-Айресе, так он заботится о матери, деньги ей посылает. Там я эту вашу Зевтл встретил. Она вам кто? Сестра?
— Нет, не сестра.
— Как я погляжу, могла и теткой вам приходиться.
4
— Герман, тебе пора идти, — вмешалась желтоволосая. — Тебя же люди ждут.
— Пускай подождут. Я тоже долго ждал. Там, где я живу, никто не спешит. Испанец на все говорит «маньяна» — завтра. Он ленив и всегда желает лишь одного — убраться домой. Там у нас степи — «пампа» называется — и там скот пасут. Когда «гаучо», как они себя называют, проголодается, так ему даже лень бычка убить. Берет топорик и отрубает бифштекс прямо из живого бычка. Так и жарит. А уже потом обдирает шкуру. Лень даже заранее разделать. Говорит, так вкуснее. Евреи наши не такие ленивые и делают там «песо» — так деньги называются. Все хорошо, да вот незадача: слишком много мужчин туда приезжают и очень мало дочерей Евы. А мужчина без женщины — разве это человек? Полчеловека. Так сказано в Талмуде. Девушки там на вес золота. Я не в плохом смысле говорю. Они выходят замуж, и все. Дело сделано. Если не подошла, пиши пропало. Там развода не признают. Будь она хоть сущая змея, раз женился, все — так их законы говорят. Что же остается делать? Мужчина берет ноги в руки, рюкзак за плечи — и куда глаза глядят. Чем сестре вашей идти в прислуги, стирать чужие подштанники, пускай лучше попробует получить, что она хочет. Там, в Аргентине.
— Да не сестра она мне.
— А если и сестра, что из того? В Буэнос-Айресе нас метрики не интересуют. Хороший род — это на могильном камне выбить прилично. А когда к нам приехал — все равно что заново родился. Что за фокусы вы показываете?
— Да любые.
— А в карты играете?
— Случается.
— На пароходе делать совершенно нечего. Если бы не карты, спятить можно. Жарища адская. А когда пересекаешь это — как его? — экватор, сдохнуть можно. Солнце жарит прямо над головой. Даже по ночам жара. Выйдешь на палубу, вообще зажаришься — пекло, как в духовке. Так что остается? Карты. По дороге сюда один хотел надуть меня. Что делать? Смотрю на него и говорю: «Братец, а что у тебя торчит из рукава? Уж не пятый ли туз?» Он с кулаками, да меня на испуг не возьмешь. У нас там у каждого револьвер. Не будешь казак, из тебя кнедлей понаделают. Я там всегда с оружием. Хотите глянуть на аргентинский револьвер?
— Почему нет? У меня тоже револьвер есть.
— А вам для чего? Для фокусов этих ваших?
— Может, и так.
— Во всяком случае, он понял, что имеет дело не с деревенским простаком. И колоду метить хотел, но тут я его за руку схватил. Зевтл говорила, вы и карточные фокусы умеете показывать. А какие?
— У меня без обмана.
— И что?
— Давайте колоду. Покажу.
— Герман, тебе пора, — сказала фрау Милц раздраженно.
— Погоди, не лезь. Никуда дела не денутся. А если и так, черт с ними. Пускай катятся куда хотят. Знаете что? Пойдемте-ка в комнату и подзакусим немножко.
— Да я не голоден, — соврал Яша.
— И не надо. Аппетит приходит во время еды. Здесь, в Польше, не понимают, что это такое — есть по-настоящему. Лапша да куриный бульон, и опять куриный бульон с лапшой. А что такое лапша? Да одна вода и мука впридачу. Набил брюхо, и все. Другое дело испанец. Этот всегда позаботится о приличном куске мяса, душу в это вложит. Придешь к нему домой, а он средь бела дня валяется, как колода. Жарища адская, мухи кусаются, кровь пьют, прямо как пиявки. Жизнь начинается только ночью. Это летом. Ну, а если у кого найдутся деньги, чтобы заплатить за ужин или пойти к проститутке, он скорее выберет второе. Но с голоду никто не умирает. Водку пьете?
— Иногда.
— Пойдемте, выпьем по стаканчику. Рейзеле, собери нам чего-нибудь, — сказал Герман, обращаясь к желтоволосой. — Испанец страсть как любит всякие фокусы. Душу отдаст, только покажи, — продолжал Герман, обращаясь опять к Яше. В следующей комнате стоял лишь стол, накрытый клеенкой, диван да платяной шкаф. С потолка свисала керосиновая лампа. Она едва горела, и Герман вывернул фитиль. Повсюду стояли чемоданы с наклейками, масса ящиков и коробок. На спинке стула — пиджак, на стуле — трость с серебряным набалдашником, крахмальный воротничок. Даже в самом воздухе, казалось, витает аромат дальних берегов, заморских стран. На стене две фотографии: женщины в парике и мужчины с большой белой бородой.
— Сестрица принесет сейчас чего-нибудь вкусненького. Могла бы позволить себе квартиру получше, да так привыкла тут, что и переезжать не желает. Там у нас дома не такие высокие, и все происходит прямо во дворе. Называется «патио». Испанец терпеть не может подниматься по лестнице. Сидят во дворе всем семейством, пьют чай, «матэ» по-ихнему. Каждый делает по глотку через одну и ту же соломинку. Так это и переходит от одного к другому. Чтоб дать вам представление о вкусе — это нечто вроде содовой с лакрицей. А вот в Северной Америке, к примеру, там они табак жуют. Одно поймите — везде, во всем мире одно и то же. И в Буэнос-Айресе никто людей не ест. Вот хоть на меня поглядите — никто же меня не съел.
— Может, вы кого съели.
— Ого! Вот это да! Здорово сказано! Кто за словом в карман не лезет, своего не упустит. Так вы из Пяска?
— Нет, из Люблина.
— А Зевтл сказала, что вы пяскер.
— Сам ты вор.
Герман расхохотался.
— Да нет, не волнуйтесь, никакой вы не вор. Ведь не каждый пяскер — вор, как не каждый, кто из Хелма, обязательно дурак. Так только говорят. Впрочем, кто теперь не ворует. Мать моя, да почиет она в мире, бывало, говаривала: «Честный путь — трудный путь». Можно делать, что хочешь, только надо знать в деле толк. Вот я — такой, как сейчас перед вами, — я уж все перепробовал. Зевтл рассказала, что вы можете отомкнуть любой замок?
— Так и есть.
— У меня терпения не хватило бы. Зачем возиться с замком, если можно дверь выломать? На чем дверь держится? Всего лишь на петлях. Но это все там, в прошлом. А теперь я, как говорится, образцовый гражданин. Жена есть и дети. Зевтл рассказала про себя. Как ее муж бросил. И все остальное. Если развод получит, может выйти за самого что ни на есть богача в Южной Америке.
— Кто ж ей развод даст? Вы, что ли?
— Ну что такое развод, в самом деле? Клочок бумаги. Все на свете бумага, милейший, даже деньги. Я имею в виду настоящие деньги, а не карманную мелочь. Каждый, кто способен держать перо, пишет. Моисей был мужчина. И поэтому он написал, что мужчина может иметь десять жен, а женщина, если она поглядит на другого, надо ее побить камнями. Писала б женщина, написала бы наоборот. Понимаете или нет? Пошли со мной. На Ставках есть один, дайте ему десять рублей, так он вам такой развод напишет, абсолютно законный и подписанный свидетелями. Мне хочется купить ей заранее шифскарту…
Яша нахмурился:
— Пане Герман, я не простофиля. Оставьте Зевтл. Она не для купли-продажи.
— Что такое? Можете забрать ее отсюда хоть сию минуту. Она уже встала мне в несколько рублей, но запишу это в благотворительные расходы.
— Не нужны ваши одолжения. Сколько это стоило? Я заплачу.
— Полегче, не надо заводиться. А вот и чай.
5
Пили чай, ели кихелах и бабку. Рейзл и Зевтл тоже сидели за столом. Герман пил чай с вареньем, отломил кусок ромовой бабки, попыхивал сигарой. Время от времени он клал ее на блюдце. Предложил сигару и Яше, но тот отказался.
— Такую сигару в Варшаве не достать, — то ли сетовал, то ли бахвалился Герман. — Настоящая гавана. Не какой-нибудь там из этих ваших суррогатов. Настоящая — с Кубы. Нет-нет, да привезет кто-нибудь оттуда специально для меня. В Берлине приходится платить две марки штука. Я люблю, чтобы все было первый класс, но за все надо платить. А когда платишь, приходится платить слишком много. Что такое гаванская сигара? Листья, и только. А хорошенькая девчонка? Плоть и кровь, не более того. Испанцы жутко ревнивые. Улыбнешься его жене, и он уже хватается за нож. А за два квартала от дома у него есть и любовница, и дети от нее. Потом она стареет, он ищет другую. Читаешь тут ваши польские газеты и только диву даешься. Такие шманцы! Чушь невероятная! Вечером вышла девушка из дому — купить кринку молока, подъехал экипаж, ее затащили внутрь, забрали в Буэнос-Айрес и продали там, как скотину на базаре. Я здесь уже порядочно времени, и ничего такого не видел, никакого экипажа. Да и как ее перевезешь за океан? Ну, что будет на корабле? Ерунда все это. По правде говоря, они сами туда едут, никто их не заставляет, подите только в этот квартал, ну, вы понимаете, и найдете себе какую требуется. Хотите черную — пожалуйста, черная вам будет, белую хотите — получайте. Хотите литвачку из Вильны? Из Эйшишек? Может, варшавянки вас интересуют? Все есть, на любой вкус. Что до меня, я туда не хожу. Зачем это мне? Жена есть, дети. Но газета нуждается в читателях. У кого в руках перо, тот и пишет. В точности, как я сказал. Хочу еще что-то сказать: некоторые сами посылают туда своих жен. А знаете почему? Им лень искать работу. Такие они ленивые. Так как насчет фокусов? Вот колода.
— Если уж взялся за карты, теперь ты никуда уж не попадешь, — сказала желтоволосая.
— Завтра тоже будет день!
Яша понял сразу же, что имеет дело с карточным шулером. В руках у Германа карты вели себя так, будто жили собственной жизнью. Ну-ну! Резвая же пташка нам попалась! — веселился Яша. Ладно, сейчас увидит, что и половчей есть.
Сначала Герман показывал фокусы: с тремя картами, с четырьмя семерками, с подменой карты. Яша только качал головой и цокал: «Тц-тц-тц!». Чуть не сказал вслух, что это детские фокусы, и маленькая девочка могла бы их показать. Еле удержался.
Яша сознавал, что уже поздний вечер, и если он еще хочет сегодня увидеть Эмилию, надо немедленно подняться и идти. Сию же минуту. Но с места не двинулся. Такая она недотрога, такая чинная, пускай ее подождет, возражал внутри какой-то голос. Яша всегда знал, что худший враг человеку — он сам. Все глупости свои и сумасбродства он совершал только по собственной вине, когда его одолевала хандра, неизбывная скука. Его так и тянуло к этому, будто кто подстегивал. Вот почему он и взваливал на себя множество новых и новых обязательств. Однако же сейчас никакой тоски не было. Перенял у Германа колоду. Того ждали дела, люди, а он тут сидит. Видно, и у других тот же недуг. Вот она, страсть «дна» принадлежать к порядочному обществу: карточный жулик из воровской малины воображает себя игроком из Монте-Карло; шлюха из Буэнос-Айреса полагает, что она в гостиной у Дон-Жуана, а обыкновенный головорез представляется себе террористом-революционером. Тасуя колоду, Яша метил карты кончиком ногтя.
— Берите карту, — предложил он Герману. Тот вытащил короля треф. Яша снова сложил колоду. — А теперь кладите обратно и перетасуйте карты.
Герман сделал, как ему было сказано.
— А теперь я вытащу вам короля треф. — Большим и указательным пальцем Яша вытащил карту.
Потом он показывал фокус, и Герман показывал фокус. Казалось, Герман все эти фокусы знает. Желтые глаза его блестели. Блестели от тайного, что он, тонкий знаток, выступает в роли дилетанта. Уж наверняка в доме у него не одна колода. Дюжина, по меньшей мере.
— Смотришь на вас, так и кажется, что вы карты в рукаве прячете, — заметил Яша.
— Карты меня прямо завораживают. Умереть и не встать.
— Больше в карты не играете?
— Только в «шестьдесят шесть» с женой.
— Мне бы хотелось вам показать еще кое-что, — и снова собрал он колоду. — Выбирайте масть.
Теперь Яша показывал фокусы, которых Герман, кажется, не знал. Глядел на Яшу озадаченно. Супил брови, хватался за нос, огромной своей лапищей теребил желтые волосы. Рейзл таращила глаза, не в состоянии поверить, что кто-то может перехитрить Германа. Зевтл подмигивала Яше, показывая ему кончик языка. Затем послала воздушный поцелуй.
— Эй, Рейзл, у тебя морковки нету? — обратился Герман к сестре.
— А почему редиску не попросишь? — отшутилась она.
Было уже около одиннадцати, но оба они не могли остановиться — продолжали демонстрировать друг перед другом карточные трюки. Иногда требовалось блюдце, а то чашка, кусок картона. Кольцо, часы, цветочная ваза. Женщины приносили все, что требовалось. Герману стало жарко. По лбу катился пот, он вытирал его.
— Вдвоем можно было бы кое-чего достигнуть.
— Чего же, к примеру?
— Мир покорить можно.
Рейзл принесла водки, мужчины налили по рюмочке, чокнулись, сказали «прозит!», как по их мнению, полагалось, а женщины побаловали себя сладкой наливкой. Закусывали бисквитами, черным хлебом, швейцарским сыром. Герман приступил к разговору с грубоватой фамильярностью:
— У рейферки, у врачихи этой я увидел её. Хорошенькая. Да и умненькая видать. Откуда мне знать, что и как? Говорит, муж ее оставил. И я подумал: «Пускай идет куда хочет, муж этот. А я хоть как-нибудь ей помогу». А про вас она только потом рассказала. Правда, упоминала про кунцнмахера, да ведь фокусники разные бывают. Кто по дворам с шарманкой ходит, тоже говорит, что он кунцнмахер. Но вы, пане Яша, артист. Первый класс! Тип-топ! Однако же чуть старше вас и больше понимаю. Голову даю на отсечение, здесь вам ничего не добиться. С вашим-то мастерством необходимо показать себя в Берлине, Париже, в Нью-Йорке. Лондон тоже неплохой город. Англичане обожают, чтобы их дурачили, и неплохо за это платят. А там у нас, в Южной Америке, вы были бы просто бог. Зевтл говорит, вы умеете усыплять людей. Как это называется? Магнетизм? Что же это такое все же? Я уже слыхал об этом, слыхал.
— Гипноз.
— Вы умеете это делать?
— Капельку.
— Как будто бы я это видал. И каждого можно усыпить? Человек засыпает?
— Как бревно.
— Значит, можно усыпить Ротшильда и утащить у него все деньги?
— Я же гипнотизер, а не преступник.
— Да-да, конечно, а все же… Как это у вас получается?
— Напрягаю волю, навязываю ее другому, передаю желание.
— Но как… Да, мир велик. Всегда происходит что-то новое. Открывают новые явления… Вот раз у меня была женщина, так она все делала, что я пожелаю. Захочу, чтобы заболела, и заболеет. Чтоб выздоровела — тут же выздоравливает. А когда я хотел, чтобы она умерла, моментально закрыла глаза.
— Эй, это уж слишком! — сказал Яша. Помолчал немного.
— Но это правда, чистая правда.
— Герман, что за глупости ты говоришь! — сказала Рейзл.
— Она стояла у меня на пути. Любовь — это прекрасно, но слишком много любви — ничего хорошего. Эта женщина обвилась вокруг меня, как змея, так что я и дышать не мог. Она была на пару лет старше и тряслась от страха, что я ее оставлю. Гуляю как-то по улице, а она, как обычно, по пятам. Так и ходит за мной. Я почувствовал, что задыхаюсь, и сказал себе: «Так больше не может продолжаться». — «Что ты хочешь? — она меня спрашивает. — Чтобы я умерла?» — «Оставь меня в покое», — говорю ей. — «Не могу, — говорит, — но если ты хочешь, я умру». Сперва я перепугался, но она привела меня в такое бешенство, что я уже начал думать: или моя жизнь, или ее…
— Не хочу слышать ни единого слова! Ни единого! — Рейзл заткнула уши.
Некоторое время никто не нарушал тишину. Слышно было, как в керосиновой лампе фитиль всасывает керосин. Яша глянул на часы.
— Мамочка! Ну растяпа же я!
— А сколько сейчас?
— В Пинчеве уже рассвело. Ну, ладно, я должен бежать. Зевтл, останешься тут на несколько дней. Эти люди тебя не обидят. Я потом расплачусь, — сказал Яша.
— Ну, ну, все уладится, — успокоила Рейзл.
— Куда же вы бежите, ну куда же? — вопрошал Герман. — Здесь каждый, лишь чуть припоздает, впадает в панику. Чего вы испугались? Там, в Буэнос-Айресе, мы ночью не спим. Если пойдешь в театр, пьеса закончится только к часу ночи. Но мы не расходимся по домам, а идем в кафе или ресторан, заказываем бифштекс, и только после этого начинается настоящий разговор. Когда расходимся, белый день на дворе.
— Когда же вы спите? — спросила Зевтл.
— А зачем это — спать? Пару часиков из двадцати четырех вполне достаточно.
Яша поднялся уходить. Поблагодарил за угощение. Рейзл смотрела на него: немного заговорщицки, немного вопрошающе. Казалось, она подает какие-то знаки. Даже приложила палец к губам.
— Заходите еще. Здесь никого не едят.
— Когда придете? — спросил Герман. — Мне надо с вами кое-что обсудить. Надо поговорить с глазу на глаз.
— Загляну как-нибудь.
— Не забудьте же.
Рейзл взяла лампу, чтобы посветить Яше на лестнице. Зевтл шла с другой стороны. Она взяла его за руку. На Яшу нашло детское веселье. Ему приятно было говорить на идиш, показывать фокусы. Здесь было как в Пяске, только еще веселее. Конечно, этот Герман — белый рабовладелец, торговец живым товаром, а Рейзл — его сообщница. Уму непостижимо, не поддается никакому пониманию, но все это время — те несколько часов, что они знакомы друг с другом, Герман ведет себя, будто он всецело предан Яше. Рейзл он, видимо, понравился. Кто может знать, за что мужчина может понравиться женщине? Может, его эксцентричные слова, необычные поступки она приняла за выражение симпатии или даже страсти? Свет от керосиновой лампы на мгновение осветил кучи бревен и всякого хлама на дворе. Дверь наверху захлопнулась, стало темнее. Зевтл прижалась к Яше.
— Может, мне можно с тобой пойти куда-нибудь?
— Куда? Не сегодня.
— Яшеле, я тебя люблю!..
— Подожди. Предоставь все мне. Делай, что скажу, что бы я ни приказал тебе.
— Хочу быть с тобой.
— Ты со мной будешь. Поеду за границу, возьму тебя с собой. Если у меня все будет хорошо, у тебя тоже. Будь готова ко всему и не задавай никаких вопросов. Прикажу стоять на голове — стой на голове. Поняла или нет?
— Да.
— Будешь делать, как я говорю?
— Да. Все-все.
— Подымайся назад.
— Куда ты идешь, а?
— Да есть тут одна ерундовина, которой надо еще сегодня заняться.
6
Низкая как вымерла. Ни одного человека. И ни малейшего шанса взять дрожки. Пришлось идти пешком, и поступь его была необычайно легка. Освещения никакого. Над кривыми крышами деревянных домишек нависало низкое небо городской окраины, густо усеянное звездами. Яша поднял глаза. Что, к примеру, там, на небе, можно подумать про него? Прошел всю Низкую, вышел на Дзикую, направился по ней. Сказав Зевтл, что есть еще кое-что, чем надо заняться еще сегодня, что, собственно, он имел в виду? Проспав целый день, теперь он был свеж, как огурчик, и в прекрасной форме. Возникло весьма эксцентричное желание немедленно увидеть Эмилию. Это уж чистое безумие. Конечно, она спит теперь. Да и ворота, небось, заперты. Но вылез же он из окна предыдущей ночью. Это ему пара пустяков. Там балкон есть. Он в мгновение ока вскарабкается. Эмилия всегда жалуется, что плохо спит. Можно внушить ей, что она ждет его, и тогда она откроет балконную дверь, если только она не открыта всегда. У Яши было такое чувство, что сегодня она уже не станет сопротивляться. Казалось, чудесным образом вдруг на ногах у него — семимильные сапоги. Вот он только что был на Дзикой. И вот — несколько минут — и уже на Рымарской. Бросил взгляд на банк. И колонны охраняют его, как гиганты-часовые. Ворота заперты, в окнах темно. Где-то там, внизу, сводчатые подвалы, которые хранят сокровища. Но где? Громадное здание. Прямо целый город. Чтобы все сделать как следует, требуется долгая зимняя ночь. Тут Яша вспомнил, что Ядвига как-то рассказывала ему о Казимире Заруцком, бывшем помещике, который продал имение и хранил деньги у себя дома, в железном сейфе. Он жил на Крулевской, недалеко от Прозной, совершенно один, не считая глуховатой служанки, которая дружила с Ядвигой. Яша даже не потрудился записать или запомнить адрес, его не интересовали эти темы, и уж во всяком случае — эта подруга, к которой ходила Ядвига. А вот сегодня вспомнилось. Что-то надо сделать непременно сегодня, подумалось ему. Сегодня я в форме. Полон сил.
От Низкой до Крулевской неблизкий путь, но Яша покрыл эти несколько верст за двадцать минут. Варшава спала. Лишь кое-где сторож ударит в колотушку, другой проверит запоры, скорее, для собственного спокойствия, чем в самом деле ожидая какого-нибудь подкопа или грабежа. Все-то сторожат, сторожат, сказал про себя Яша. Ничего уберечь невозможно: ни женщину, ни имущество. Разве я все знаю? Может, даже Эстер не верна мне? Мысли лениво блуждали сами по себе. Что, если забравшись к Эмилии, он найдет ее там с любовником? Такое случается. И вот он стоит перед балконом и глядит наверх. Идея взобраться на балкон снизу, казавшаяся несколько минут назад так легко осуществимой и к тому же весьма замечательной, теперь представлялась полным абсурдом. Вполне вероятно, к примеру, что спросонья она примет его за воришку и, не разобравшись, подымет шум. Ядвига может услышать, да и Галина тоже. Времена рыцарей миновали. На дворе прозаический девятнадцатый век. Мысленно Яша приказал Эмилии проснуться и подойти к окну. Но, по-видимому, он еще не овладел мастерством гипноза до такой степени. Может, это и подействует, но не так быстро.
И он отправился по Маршалковской к Прозной. Раз уж это все равно неизбежно, почему бы не сегодня. Видно, так на роду написано. Как это называется? Предопределение? Раз на все есть причины, как утверждают философы, и человек чуть что не машина, значит, все вообще предписано заранее. Яша двигался по Прозной. Во всем этом квартале лишь один дом был заселен. Остальные лишь строились. Повсюду кирпичи, груды песка, кучи известки. А в том доме был галантерейный магазин и две квартиры над ним, обе с балконами. Ясное дело, квартира этого шляхтича выходит на улицу. Но которая из двух? И тут Яша догадался, что это квартира справа. Почему? Окна левой квартиры были задернуты портьерами, из-под которых выглядывали занавески, а в правой квартире — выцветшие, потрепанные гардины. Так и должно быть в доме у старого холостяка и скупца к тому же. Хорошо же! Теперь или никогда! — что-то как подгоняло его изнутри. Раз ты уже здесь, вперед. Как бы там ни было, не в могилу же с собой он деньги возьмет. Ночь не будет продолжаться вечно, снова напомнил ему внутренний голос. Говорил наставительно, будто проповедь читал.
Взобраться на балкон не представляло труда. Дверь магазина, а над ней балкон, который поддерживали три статуи. По фасаду шли какие-то фигуры, сплошные орнаменты. Яша поставил ногу на барьер, другой оперся на богиню, и вот он уже повис на краю балкона. Подтянулся вверх. Казалось, он уже ничего не весит. Немного постоял на балконе. Развеселился и про себя рассмеялся. Немыслимое оказалось вполне возможным. Труднее было открыть балконные двери. Они оказались заперты изнутри. Дернув дверь одной рукой, он подцепил цепочку с помощью отмычки, которая всегда с собой. Лучше один громкий и резкий звук, теоретизировал он, чем долго и неумело производить какой-то шум. На секунду замер, прислушиваясь, не раздастся ли какой-нибудь возглас. Потом вошел, вдохнул спертый воздух. Видимо, окна тут открывали весьма редко.
Да, это, должно быть, здесь, ликовал он. Пускай тут воняет грязью, пускай плесень и гниль… Внутри было не очень темно — светили уличные фонари. Страха не было. И все же сердце колотилось, как маятник. Минутку посидел, не двигаясь и удивляясь, как легко мысли претворяются в дела. Поразительно: тот самый сейф, про который так подробно рассказывала Ядвига, теперь перед ним. Стоит стоймя, длинный и черный, как гроб. Силы, правящие человеческой судьбой, привели его прямо к сокровищам пана Заруцкого.
7
Только не сдаваться, убеждал и подбадривал он себя. Уж раз за такое взялся, надо через это пройти. Яша навострил уши. Прислушался. Где-то рядом, в соседней комнате, спал Казимир Заруцкий. Спала и его глуховатая служанка. Ни звука. А что будет, если они проснутся? — размышлял Яша, но ничего подходящего в голову не приходило. Положил руку на сейф. Ощутил прикосновение холодного металла. Быстро нащупал замочную скважину. Провел по ней указательным пальцем, определил контур и размеры. Полез в карман за отмычкой. Только что он проверял, она была тут. А сейчас ее нет в кармане. Конечно, он просто переложил ее… Порылся в других карманах. Ключа не было! Ну куда же я его засунул? Может, на пол уронил?.. Начиналась плохая полоса. Яша заволновался. Если уронил, то это где-то здесь, рядом. Но ключ будто играл с Яшей в прятки. Снова обшарил все карманы — еще и еще раз. Главное — без паники. Надо только вообразить, что даешь представление. И опять он искал. Спокойно. Без спешки. Злые духи? Нечисть всякая? — прошептал он полушутя, но отчасти и всерьез. Выступила испарина, его бросило в жар, дыхание отрегулировать удалось, но тело оставалось перегрето. Ладно, придумаем еще что-нибудь. Нагнулся, расшнуровал один из башмаков. Шнурки были с металлическими кончиками. Раз как-то Яше удалось открыть замок такой штукой. Но сейчас этого, наверно, недостаточно. Отпереть железный сейф — такая штучка недостаточно прочна, решил он, уже расшнуровав ботинок наполовину. Наверно, на кухне есть штопор, или же кочережка, или еще что-нибудь. Нет, все же надо найти отмычку! Яша нагнулся и только тогда понял, что пол застелен ковром. Провел по ворсу ладонью. Может, в самом деле злые духи или лапетуты играют с ним, просто издеваются? А существуют ли они на самом деле? Духи эти? Или как их там назвать? Вдруг Яшу осенило: существует же ключ от сейфа, и наверняка старикан держит его под подушкой, когда спит. Это, безусловно, рискованно — добыть ключ из-под подушки у старого шляхтича. Он же сможет проснуться. Да и откуда такая уверенность? Может, ключ вовсе и не там. В доме есть еще масса укромных мест. Все же Яша был совершенно уверен, что ключ у Заруцкого под подушкой. Даже отчетливо представлял этот ключ: плоская головка, а ниже — много-много зазубрин. Снится, что ли? Или я уже спятил?.. Однако же невидимые, неведомые силы, которые на протяжении стольких лет вели и поддерживали Яшу, в эту минуту приказывали ему войти в спальню. «Этот путь проще, — как бы подсказывали они. — А вот и дверь».
Яша встал на цыпочки. Только б дверь не скрипнула, молил он. И она оказалась полуоткрыта. Яша очутился в спальне. Здесь было темнее, и потому сразу не определить, открыто ли окно. Оставалось лишь строить догадки. Постепенно глаза привыкли к темноте. Из неясных очертаний во тьме стали вырисовываться контуры: кровать, на ней постель и подушка, на подушке голова, глазные впадины, будто у скелета, вместо глаз. Яша похолодел. Дышит ли старик? Одышка у него? Или же предсмертные хрипы? Может, он в эту минуту испускает дух? Или же только притворяется мертвым? А может, лежит тут, а сам приготовился броситься на него, на Яшу? У стариков этих иногда столько прыти! Вдруг старикан захрапел. Яша подошел ближе. Раздался звон металла! Это же отмычка! Наверно, зацепилась за пуговицу. А теперь упала на пол. Не проснулся ли старик? Яша постоял минутку, готовый улепетнуть по первому же знаку. Не могу же убить его! Я не убийца. Но старик крепко спал. Яша нагнулся — подобрать отмычку. Нельзя же оставлять следов! А она опять исчезла. Получалось что-то вроде игры в кошки-мышки. Уж такая выдалась ночь! На сегодня злые силы выбрали меня для этой игры. Что-то подсказывало: бежать надо, спасаться бегством, удача покинула его. Вместо этого подошел ближе: надо все же попытаться вытащить ключ!.. — заставлял он себя наперекор всему.
Шаря под подушкой, нечаянно коснулся лица. Моментально отдернул руку, будто обжегшись. Старик издал какой-то звук, вроде «эх». Похоже, он только притворяется спящим. Яша помедлил. Приготовился к атаке. Приготовился схватить Заруцкого за горло и задушить. Но нет, он спал, а этот тонкий высокий звук издавал носом. Похоже, и вправду спит. Ему что-то снится. Теперь можно разглядеть его получше. Яша водил рукой под подушкой, убежденный, что вот-вот нащупает ключ. Но не было ключа! Даже немного приподнял голову старика вместе с подушкой. И все равно ключа нащупать не смог. На сей раз интуиция подвела. Самое правильное теперь — уйти. Бежать! — требовал внутренний голос. Все, все идет плохо!.. А он снова принялся искать на полу отмычку, понимая уже, что навлекает на себя беду. «Что с воза упало, навсегда пропало», — вспомнилась ему старая поговорка, известная еще с детских времен. Она возникла в памяти вдруг — так же, как возникли в памяти слова Писания, или же уроки в хедере внезапно вставали в памяти прямо посреди ночи. Его окатило потом — с головы до пят. Будто таз воды опорожнили. А жара-то, духота, как в горячей бане. Яша все шарил и шарил, все искал отмычку. Может, удавить старого ублюдка? Активно действовали те силы, та часть его существа, которая всегда давала плохие советы, шутила над ним жестокие шутки, и огромных усилий стоило не потерять остатки разума.
Ну, что ж, эта возможность упущена — то ли он про себя, то ли бормотал под нос. Яша поднялся, встал. Вышел обратно через полуотворенную дверь. Как, однако, светло здесь по сравнению со спальней! Все можно разглядеть, каждую мелочь. Даже картины на стенах — рамы, сами холсты. В воздухе обозначились очертания комода. Блеснуло что-то металлическое. Там лежали ножницы! Это-то ему и надо!.. Взял их, подошел к сейфу. Благодаря уличному освещению четко вырисовывалась замочная скважина. Прозондировал ножницами замочную скважину — спокойно, потом еще раз, прислушиваясь, как четко работает механизм замка. Что это за замок? В каком роде? Не английский, это уж точно. Ножницы оказались с тупыми концами, и потому тип замка трудно определить: нельзя просунуть их достаточно глубоко. Ясное дело, замок не сложный. Однако что-то все-таки не поддавалось, не мог Яша разгадать, во всяком случае вот так, сразу. Надо было время, чтобы спокойно это дело обмозговать, и требовалось что-нибудь тонкое и острое, чтобы проникнуть в сердцевину замка.
Вдруг его осенило: достал записную книжку из нагрудного кармана, вырвал несколько страниц. Скрутил жгутиком — получился конус с жестким кончиком. Таким орудием, конечно, сейф не откроешь, но понять, в чем там суть, можно. Однако же этому жгутику не хватает упругости и твердости металла. Да, от этой штуки толку не будет. Ладно, придется вернуться в другой раз. Будут другие ночи, потемнее. А сейчас не ждать же, пока совсем рассветет! Яша глянул на балконную дверь. Полный провал! Фиаско! Такое с ним в первый раз за всю жизнь! Что за ужасная ночь! Он просто изнемог от страха. И осознал — это чувство таилось глубоко внутри, — что неудача не ограничится уже происшедшим. Тот его внутренний враг, с которым Яша постоянно сражался, который сидел в засаде, и каждый раз надо было побеждать его силой, то хитростью, то чарами и заклинаниями, специально для этого выученными, — теперь этот враг берет над ним верх. Его присутствие внутри ощущалось постоянно: дибук, сатана, непримиримый, неумолимый противник — это он толкал его под руку во время жонглирования, мешал работать на канате, ослабляя его мужскую силу. Потное тело охватил озноб. Яша отворил дверь на балкон. Била дрожь. Будто вдруг пришла зима.
8
Яша уже собрался спуститься вниз, как услыхал внизу голоса. Говорили по-русски. Это, конечно, ночная стража. Быстренько втянул голову назад. Может, его уже заметили? Может, они его поджидают? Яша стоял во тьме и прислушивался. Если они обо мне знают, считай, я в ловушке. Да нет же, никто не мог видеть. Он же как следует посмотрел во все стороны, прежде чем подняться. Просто так случилось, что патруль прошел по улице. Никогда бы он себе не простил, если б провалился из-за такой малости. Да так безобразно и позорно. Может, еще раз поискать отмычку? — пришло ему в голову. Вернулся в спальню — игрок, потерявший все, — больше терять ему нечего. И в ужасе замер в дверях: перед ним предстала жуткая картина. На кровати лежит старик, лицо залито кровью, кровь на наволочке, на простыне, на стариковской ночной рубашке. Господь Всемогущий, что же случилось? Он убит, а я имею несчастье ограбить дом, где убили человека? Но я же слышал его дыхание! Или убийца еще здесь? Сейчас? Яша стоял, оцепенев от страха. И вдруг расхохотался. Это же не кровь вовсе. Это восходит солнце. Окна спальни выходят на восток.
Снова принялся он за поиски отмычки, но здесь, на полу, еще была тьма кромешная. Полный мрак. Яша бесцельно шарил по полу. Накатила усталость. Слабость в коленях, головная боль. И хотя сознание бодрствовало, начались какие-то грезы наяву: возникали смутные картины, образы и тут же рассеивались, даже до того, как Яша успевал их осознать. Ну, видно, не найти мне отмычку. Да и старик может проснуться в любую минуту! Вернулось ощущение, что этот хитрец, скряга этот только притворяется, а сам не спит. Собрался уж было подняться, да вдруг пальцы коснулись отмычки. Теперь-то уж никаких следов он не оставит. Спокойненько вернулся в гостиную. Туда уже проникал утренний свет. Стена при этом освещении — как выцветшая серая бумага, в воздухе пыль. На слабеющих ногах приблизившись к сейфу, сунул отмычку в замочную скважину. Начал поворачивать. Однако его воля, его честолюбие и упорство — все уже иссякло. Мозги тяжело ворочались. Хотелось спать. Не хватало ни сил, ни сообразительности поддеть пружину этого старенького замка. Конечно, местная работа. Сделано весьма заурядным слесарем. Был бы воск, сделал бы сейчас хотя бы слепок. С этого изобретения мирового значения. Вот он стоит здесь — без сил, без чувств, без желаний, — и не ясно, что более поразительно: недавний его азарт или же теперешнее безразличие. Помедлил еще с минуту. Услыхал храп. Вдруг понял, что этот звук издал он сам. Отмычку что-то зацепило, и было не повернуть ее ни туда, ни сюда. Может, так и оставить? Но еще одна попытка, и отмычка освободилась.
Яша вышел на балкон. Патруль исчез. На улице ни души. Уличные фонари еще светили в ночной тьме, свет падал на крыши, но это был, скорее, сумрак, как бывает, когда небо закрыто тяжелыми тучами, или похоже на освещение в вечерних сумерках. Воздух — влажный, холодный. Робко начинали щебетать птички. Вот теперь — самое время, так сказал себе Яша, вроде бы твердо, но при этом как бы предостерегающе. Начал спускаться. Однако недоставало привычной уверенности ногам. Хотел опереться на плечи статуи. Ноги оказались слишком коротки. Повис на краю балкона лишь на короткое мгновение, чувствуя, что готов задремать вот так, в подвешенном состоянии. Втиснул ногу в углубление на стене. Только не прыгать, уговаривал он себя. И при этом уже падал. Сразу же понял, что слишком резко приземлился на левую ногу. Этого ещё не хватало! За неделю до выступления! На тротуаре попробовал ступить на ногу — и только тут ощутил резкую боль. Раздались крики. Голос дребезжал по-стариковски, звучал тревожно. Может, это сам шляхтич? Яша поглядел наверх. Но крики неслись с улицы. К нему бежал сторож с белой бородой и размахивал толстой палкой. Он вынул свисток и засвистел. Скорее всего, сторож видел, как Яша спускался с балкона. Пришлось позабыть о поврежденной ноге. Яша побежал. Бежал он легко и быстро. Полиция может появиться с минуты на минуту. Яша не понимал, в каком направлении несется. Судя по скорости, никто бы не сказал, что нога повреждена. Однако сам он ощущал, что подволакивает левую ногу, и при каждом шаге чувствовал пронзительную боль: чуть ниже лодыжки, ближе к пальцам. Это или разрыв связок, или же перелом, одно из двух.
Так где же я теперь? Торопливым шагом вышел на Прозну, затем на Гжибов. Ни свистков, ни криков уже не было. Однако же стоило затаиться, так как полиция могла появиться и с другой стороны. Яша спешил на Навозную. Здесь по сточной канаве текли помои. Надо всем царил тяжелый запах конской мочи и навоза. А темень стояла такая, будто здесь солнце и не думало всходить. Ослепил уличный свет, и Яша стал, как вкопанный: шел яркий свет из отцепленного товарного вагона. Эта часть города представляла собою невероятную смесь товарных складов, маленьких базарчиков, пекарен. Повсюду запах паровозной гари, мазута, смазочного масла. Оказывается, Яша наткнулся на вагон для перевозки скота: там стояли лошади. Они подошли совсем близко, громко дышали, тыкались мордами, он вдыхал знакомый запах. Конюх выругался. И поделом Яше! Дворник замахнулся метлой в праведном гневе. Выйдя на тротуар, Яша увидел синагогу. Ворота открыты. Вошел старый еврей, под мышкой талес в сумке. Яша устремился туда. Уж здесь-то его не станут искать!
Синагога, по всей видимости, была заперта (свет не пробивался сквозь арочные окна). Яша приблизился. Вошел в помещение школы — бейтмидраша. На дворе огромные ящики: грязные, рваные страницы святых книг заполняли их доверху. Стоял пронзительный запах мочи. Яша отворил дверь. Так здесь же, оказывается, еще и ночлежка для бедных. Единственная поминальная свеча мерцала возле канторского возвышения, освещая лежащих на скамьях. Кто босой, кто в разношенных рваных башмаках, кто прикрыт тряпьем, а кто и так, почти нагишом. Стоял запах свечного сала, запах воска и пыли. Нет, конечно же, здесь уж искать не станут, убеждал он себя снова и снова. Подошел к свободной лавке. Сел. Сидел, ошеломленный, давая отдых поврежденной ноге. Куски навоза пристали к ботинкам, испачкались и брюки. Хотел было отряхнуться, но не пристало осквернять святое место. Кругом храпели, и в эту минуту глазам его предстала картина: пришли арестовать его, Яшу. Отворяется дверь, слышатся шаги полиции, стук копыт — это приближается отряд. Сейчас арестуют. Но все это одно воображение. Потом раздался зычный, хриплый голос: «Вставать! Вставать! Кончайте храпеть! Подымайте кости, лентяи вы этакие!» Это был шамес[37]. Спящие зашевелились. Кто вставал, потягиваясь и зевая, кто просто поднялся и сел. Шамес зажег спичку. На мгновение осветилась его рыжая борода. Подошел к столу и зажег керосиновую лампу. И в эту самую минуту до Яши дошло, какого типа замок был у Заруцкого, как его отпереть.
9
Оборванцы потихоньку подымались, шаркая ногами по полу. Понемногу стали собираться евреи к утренней молитве. При утреннем освещении свет керосиновой лампы казался мертвенно-бледным. Нет, еще не утро. Скорее, предрассветные сумерки. Кое-кто из пришедших уже начал распевать утреннюю молитву, другие просто расхаживали взад-вперед. Их неясно очерченные фигуры напомнили Яше разговоры о мертвецах, которые молятся по ночам в синагоге. Колебались тени. Евреи что-то бубнили утробными голосами. Кто же они? Почему подымаются в такую рань? Когда же спят? — любопытствовал Яша. Вот он сидит здесь, врасплох застигнутый судьбой, размышляя, ломая голову, прикидывая так ли, этак ли, а в глубине души сознавая, что голова его забита ерундой. Он уже не хотел спать, пробудился, но что-то там, внутри, продолжало дремать еще с полуночи. Яша немного передохнул, ощупал левую ногу. Пронзительная боль, дергающие толчки и какое-то тянущее ощущение: оно начиналось у большого пальца, шло через лодыжку до самого колена. Яша вспомнил про Магду. Что он сказал ей, когда пришел домой? Да, за годы, что они вместе, часто он обходился с ней жестоко. Однако сегодня обидел еще больше, чем когда-либо. Теперь ясно, что, пока нога повреждена, не удастся дать ни одного представления, но Яша не мог перестать думать об этом. Он неотступно глядел на карниз, поверх арнкодеша. Узнал Скрижали с Десятью заповедями. Припомнилось, что еще вот этой ночью (или же то днем еще было?) он говорил Герману, что не вор вовсе, а фокусник. И вскоре же после этого отправился совершать кражу со взломом. Он, не способный понять собственные свои действия, теперь в унынии и смущении. Евреи надевают талесы, накладывают филактерии, привязывают ремешки, покрывают головы. А он, Яша, наблюдает все это с таким удивлением, будто он и не еврей вовсе и никогда этого прежде не видел. Уже собрался миньян[38], можно начинать молитву. Юноши с пейсами, в ермолках[39], подпоясанные кушаками рассаживаются за стол, чтобы приступить к изучению Талмуда. Они вертят головами, жестикулируют, гримасничают. Наконец через довольно-таки продолжительное время наступает тишина. Они произносят нараспев Восемнадцать Благословений, и каждое слово здесь для Яши и привычно, и чуждо одновременно: «Благословен будь Господь наш, Бог наших отцов, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова… дарующий блага, сотворивший все… питающий по доброте своей живых, по великому милосердию возвращающий к жизни мертвых. Тот, который поддерживает падающего, исцеляет больного, исполняет обещание возвратить к жизни покоящихся в земле…»
Яша переводил древние слова и думал над каждым. И это в самом деле так? — вопрошал он? Господь Бог действительно столь добр? Слишком уж темнит он. Чересчур он ослаб, не может сам ответить. На мгновение кантор смолк. Яша замер в полудреме, хотя глаза оставались открыты. Потом опять пробудился, слушая, как распевает кантор: «…и в Иерусалим, город твой, по милосердию своему возвратись, и обитай в нем, как обещал ты…» Ну что ж, они говорят это уже две тысячи лет, подумал Яша, но Иерусалим все еще в запустении. И будут повторять это еще две тысячи лет, а может, и все десять тысяч.
Подошел рыжебородый шамес:
— Если хотите помолиться, могу дать талит и тфилин. Это стоит копейку.
Яша хотел было отказаться, но, однако, сунул руку в карман, достал монетку. Шамес предложил разменять, но Яша отказался:
— Оставь себе.
— Спасибо преогромное.
Ужасно захотелось сбежать. Он не накладывал филактерии уже Бог знает сколько лет. А талес вообще никогда не надевал. Но не успел он даже сделать движение, чтобы подняться, как уже появился шамес с талесом и филактериями. И еще предложил молитвенник.
— Может, вам нужно прочесть кадеш[40]?
— Кадеш? Нет.
Не было сил подняться. Будто силы вообще оставили его. Обуял ужас. Что, если полиция уже поджидает там, на улице? Сумка с талесом лежала рядом, на скамье. Не спеша достал талес. Сидел и перебирал пальцами кисти. Казалось, каждый тут на него смотрит и ждет, что же он будет делать. Яша был в трансе: наверно, все зависит от того, что он сейчас сделает с талесом и филактериями. Не сделает как положено — все поймут, что он прячется от полиции… Начал надевать талес. Пытался понять, как именно надо его надеть на голову: поискал полоску, нашивку, хотя бы знак какой-то. Но не нашел ни вышивки, ни отделки. Повертел в руках цицес. Одна кисточка даже нахально залезла ему в глаз. Им завладел детский страх, боязнь осрамиться. Над ним же смеются. Собрались тут и хихикают за его спиной. Постарался надеть талес так хорошо, как только мог, а он все равно соскользнул с плеч. Вынул филактерии, но никак не мог определить, которая надевается на руку, а какая на голову. И какую следует надеть вначале? Попытался найти разъяснение в молитвеннике, но перед глазами плясали черные точки. Ничего не разобрать. Теперь искры как будто сыпались из глаз. Только не упасть в обморок! Этого не хватало… Подступила тошнота. Яша взмолился: Господи Боже! Отец небесный! Все, что угодно, только не это! С обмороком справился. Вынул платок, сплюнул в него. Огненные точки так и плясали перед глазами: красные, голубые, зеленые. Они то появлялись, то пропадали. В ушах так звенело, будто колокол звонит. Подошел старик. Сказал: «Здесь это, погоди… дай-ка помогу… засучи рукав… Левую руку давай, не правую…»
— Которая же у меня левая? — спросил у себя самого Яша.
Стал засучивать левый рукав, и талес опять свалился. Вокруг собралась куча народу. Если б только Эмилия это видела! — подумал он вдруг, встревожился.
Его как перевернуло. Он теперь больше не Яша кунцнмахер, просто жалкий, ничтожный мальчишка, стоит среди этой кучки, просто один из них. Небеса помешали ему! Только теперь понял он, что пытался сделать! Это было наваждение какое-то. Да, небо, силы небесные помешали ему стать вором сегодняшней ночью! Сейчас как откровение снизошло на него. Все он понял. И вот он стоит здесь и позволяет им делать с собою все, что заблагорассудится. Старик привязал ремешки ему на руку. Он произносил нараспев молитву, и Яша повторял за ним, как маленький. Приказал Яше нагнуть голову, прикрепил оставшуюся филактерию, пропустил ремешки между пальцев, чтобы образовалась первая буква священного имени Шаддаи — шин. Какой-то парень сказал Яше:
— Ну и давненько ж ты, видать, не молился.
— Очень давно.
— Ну что ж, никогда не поздно начать…
Те же евреи, что перед тем глазели, насмехались над ним, теперь с интересом, благожелательно, с любовью смотрели на Яшу. Он прямо-таки ощущал волны любви, струившиеся от них. Эти евреи — братья мои, так думал Яша, знают, что я грешник, и все же прощают. Опять ему стало неловко. Но теперь уже не из-за неуклюжести своей, а потому, что он предает своих братьев, готов отринуть все это в любую минуту. Что им за дело до меня? Вообще-то я из рода благочестивых, почтенного рода евреев, прадед мой был мучеником за святую веру… Яша вспомнил отца, своего «татэ». На смертном одре тот взывал к сыну:
— Обещай мне, что останешься евреем… — и он взял Яшину руку в свою, и держал ее до тех пор, пока не начались смертные муки…
Евреи, собравшиеся вокруг него маленькой кучкой, уже разбрелись кто куда по своим делам, а он все стоял — один, в талесе, надев филактерии, с молитвенником в руке. Левая нога болела, что-то там дергало, но Яша не прерывал молитву. Он читал, про себя переводя святые слова на идиш: «Благословен Тот, по слову которого возник мир, благословен Он. Благословен Создатель Вселенной; благословен Тот, который милостив к творениям своим; благословен Тот, который щедро вознаграждает испытывающих трепет перед Ним…»
Удивительно, теперь он верил этим словам: Бог создал мир. Он сострадает своим созданиям. Воздает тем, кто почитает его и благоговеет перед Ним. Выпевая слова молитвы, Яша размышлял над собственной судьбой. Многие годы он обходил синагогу стороной, избегал ее. И вот уже второй раз за последние несколько дней он оказывается в синагоге. В первый раз — по дороге, когда они попали в грозу, и вот сейчас — снова… На протяжении многих лет без труда, с необычайной легкостью отпирал он любые замки, а вот сегодня ночью не смог открыть простой замок от обычного сейфа — незатейливый, он и труда не стоит. А вот не смог. Да еще пришлось прыгнуть, и теперь он еле-еле ковыляет. Наверно, сотни раз прыгал он с большей высоты, и ничего, а тут — спускался с низенького балкончика и повредил ногу. Видно, небеса не хотят допустить, чтобы он совершил преступление, покинул Эстер, крестился. Может статься, его покойные родители молили за него. Снова поднял он глаза и остановил взгляд на скрижалях… Он уже нарушил или же намеревался нарушить каждую из десяти заповедей. Как близок был он к тому, чтобы придушить старика Заруцкого! Желал Галину. Плел вокруг нее любовную сеть, хотел завлечь девочку. Дошел до самых глубин зла и беззакония. Как же это случилось? Когда? По природе он добросердечен. Зимой заботливо рассыпает крошки, чтобы покормить птичек. Редко пройдет мимо нищего, не подав милостыни. Терпеть не может шарлатанов, мошенников, жуликов. Всегда гордился своей честностью и порядочностью.
Вот он стоит здесь, коленопреклоненный, поражаясь, ужасаясь глубине собственного падения, и, что, быть может, еще хуже, собственной слепоте. Долгие годы он размышлял, тревожился, разрывался в противоречиях, отвергая самую суть вещей. Презирал других за непорядочность и нечистоплотность и не видел или же притворялся, что не видит, как глубоко сам увяз в грязи. Лишь тонкая-претоненькая ниточка удержала его от падения, от погружения в бездну, из которой нет возврата. Однако же силы, милосердные к нему, сжалились, устроили так, что вот он стоит здесь, в талесе, надев филактерии, держит молитвенник, а вокруг — набожные, благочестивые евреи. Прикрыв ладонью глаза, распевает: «Слушай, Израиль!» Он выпевает Восемнадцать Благословений, обдумывая каждое слово. Вера в Бога, позабытая с самого детства, — такая вера, которая не требует доказательств, страх Божий, раскаяние после плохого поступка — эта вера вернулась к нему.
Что узнал он из светских книг? Что мир возник сам. Что солнце, звезды, луна, земля, человек, животные — все сотворено из туманности. А как возник этот туман? Как это могло получиться, что сотворен человек, как он есть — с легкими, сердцем, желудком, мозгом? Смеются над верующими, которые думают, что все создал Бог, а сами? Приписывают необычайную мощь и мудрость слепой природе, и не подозревающей об этом… Яша прямо чувствовал, как от его облачения исходит свет, достигает мозга, пробирается в темные закоулки, распутывает узелки, освещает и проясняет все, что было не ясно до сих пор. Все молитвы говорили одно: существует Бог — тот, кто видит, кто слышит, кто милосерден к человеку, кто укрощает свой гнев, кто прощает грехи, кто хочет, чтобы люди стыдились плохих поступков и раскаивались. Кто наказывает за злые дела. Кто вознаграждает за добро. В этом мире, и даже более того — в мире ином!.. Да, что другие миры существуют, это Яша понимал. Даже почти что видел их своими глазами…
— Я должен остаться евреем! — сказал он себе. — Евреем, как и все они!..
Глава седьмая
1
Когда Яша снова оказался на улице, солнце светило вовсю. Навозную заливал солнечный свет. Лошади, подводы, с них идет торговля сельским товаром, продают в разнос, сидят уличные торговки. Чем тут только не торгуют! Каждый кричит свое: «Селедка! Копченая селедка!», «Сладкий горошек!», «Вареные яички!», «Горячие бублики», «Лепешки из картошки!». Из ворот выкатывают подводы, груженые бревнами, бочками, стеклом, мешками с мукой, разным другим товаром, — все это прикрыто рогожами, холстиной, мешковиной. В лавочках — чего только душа пожелает: от уксуса, мыла до колесной мази, даже граммофонов. Яша стоял во дворе синагоги, у самых ворот и глазел по сторонам. Евреи, которые только что с жаром молились и произносили нараспев: «Да будет Имя Твое благословенно в веках! Аминь!», теперь разбредались кто куда: в лавку, в мастерскую, а другие — на фабрику. Один из них — хозяин, другой — рабочий, один — мастер, другой — подмастерье. Яше пришло в голову, что улица и синагога отрицают друг друга. Если истинно одно, то другое — ложь. Это, конечно, грешные мысли. Но порыв, охвативший его, наивная детская вера, пришедшие к нему, когда он надел арбенкафес, талес и филактерии, — все растаяло, ушло. Он хотел было поститься весь этот долгий летний день, как постятся в Йом-Кипур, но голод не давал покоя, прямо-таки грыз его, и Яша решил не сопротивляться и поесть. Болела нога. Стучало в висках. Прежние сомнения насчет религии снова не давали ему покоя. Ну почему это так тебя волнует? — вопрошал внутренний голос. Есть ли доказательства того, что Бог существует? Что Он слышит молитвы? В мире множество религий, они противоречат друг другу. Правда, ты не сумел отпереть сейф у старика, ты повредил ногу, но что это доказывает? Что ты устал, что сдали нервы, да и легкомыслие… Пока молился, напринимал кучу решений, это он помнил, но за те минуты, что он стоит здесь, на улице, вся суть, вся необходимость их куда-то пропали. В самом деле, разве он сможет жить так, как жил отец: вернуться в еврейство, стать верующим, богобоязненным евреем? Нет! Забросить свое искусство, магию? Разорвать любовные романтические связи? Расстаться с современной одеждой, книгами и газетами? Те клятвы, те обеты, которые он давал в молельном доме, теперь казались надуманными, чрезмерными. Подобно тем словам, что шепчут женщины в порыве страсти. Яша поднял глаза, посмотрел на ветреное бледное небо. «Если ты хочешь, о, Господи Боже, чтобы я служил Тебе, соверши чудо, яви Себя, пускай услышу Твой голос, дай мне знак…» — произнес он про себя на одном дыхании.
В это время приближался к Яше уродец, крошечный человечек с головой, которая, казалось, пытается вырваться из шеи. Скрюченные ручки так и разламываются в запястьях, даже когда он просит подаяние. А ноги, похоже, хотят только одного: как можно больше закрутиться. И борода кривая. Рвется на волю, да и только! Пальцы растопырены, торчат в разные стороны, будто срывают плоды с невидимого дерева. Двигался он весьма причудливо, как бы танцуя джигу: одна нога впереди, другая сзади. Шаркал ногами, а «заднюю» подволакивал. Трясущийся язык вырывался из слюнявого рта, свешивался промеж кривых зубов. Яша вынул серебряную монету и попытался вложить нищему в руку. Что-то внутри противилось, не давало коснуться этого страшного подобия человека! «Тоже мне фокусник», — то ли пробормотал, то ли подумал Яша. Хотелось сунуть монетку и в тот же миг убежать. Но уродец, по-видимому, играл свою собственную игру — подтанцовывая ближе, стараясь коснуться Яши, как это делает прокаженный, решив заразить другого страшной болезнью. Огненные точки снова заплясали перед глазами. Что ли они всегда там, и нужен лишь случай, чтобы обнаружиться? Яша бросил монетку нищему прямо на землю, к ногам. Хотел немедленно убежать. Но теперь уже собственные его ноги начали трястись и дергаться, как бы повторяя движения убогого.
Яша заметил харчевню. Вошел. Пол чисто посыпан мелким речным песком. Еще очень рано, но за столиками посетители. Едят лапшу с курицей, креплах, фаршированную шейку, мясо с черносливом, цимес. От запаха еды Яшу аж затошнило. Не стоит есть такое с раннего утра, говорил он себе. Не уйти ли? Но перед ним уже возникла плотная, основательная еврейка, как бы отрезая всякий путь к отступлению… «Не убегайте, молодой человек, никто вас тут не укусит. У нас парное мясо, шхита, во-первых, строгий кошер»… «Какая связь между Богом и шхитой[41] — убийством, в сущности…» — подумал Яша. Женщина придвинула стул, и Яша уселся за длинный стол, где уже сидели другие обедающие.
— Может, водки и на закуску чего? — предложила она. — Гусиную печенку? Гусиную печенку с гренками? Куриную лапшу? Гречневую кашу?
— Да принесите что-нибудь.
— Уж будьте уверены, не отравлю.
И она принесла: бутылку, стопку, вазочку с плюшками. Яша взял бутылку, но руки дрожали, и он пролил водку на скатерть. Кто-то из сидящих за столом вскрикнул, то ли предостерегая, то ли насмехаясь над ним. Это все были бедные провинциальные евреи, в латаных-перелатаных выгоревших лапсердаках. У одного — черные кустистые баки растут, кажется, прямо от глаз. Другой — с огненно-рыжей бородой, как у петуха. Поодаль сидел еще один — в талесе и ермолке. Что-то в нем было от меламеда, который в детстве учил его Пятикнижию. «Может, и вправду он? — подумал Яша. — Нет, конечно. Учитель, наверно, умер. Может, сын его?..» Еще не прошло и часа, как Яша был счастлив среди правоверных евреев, а теперь был прямо болен от того, что среди таких находится. Интересно, полагается ли произносить благословение над водкой? Узнать бы. Он шевельнул губами. Сделал глоток. Обожгло горло. Потемнело в глазах. Пододвинул к себе вазочку, но не мог ухватить ни куска оттуда. Что со мною? Болен я или что? Он стыдился этих евреев. Они были неприятны ему. Еврейка принесла гусиную печенку, и Яша окончательно решил совершить омовение. Но здесь ничего для этого не приспособлено. Откусил кусочек хлеба, и сидящий рядом еврей в талесе спросил: «А как насчет омовения рук?»
— Он уже раньше вымыл, — откликнулся другой, с черной бородой.
Яша сидел молча, поражаясь тому, как быстро умиление и нежная любовь переходят в раздражение и досаду, как возникает гордыня, спесивое желание никого не видеть, остаться одному. Он уже не глядел ни на кого. Евреи принялись обсуждать собственные дела: торговля, хасидизм, святые чудеса, происходящие с добрыми евреями, и все это сразу. Так много чудес, но все равно на свете столько нищеты, болезней, эпидемий, размышлял Яша. Он ел лапшу с курицей, отгонял мух. Нога все еще болела. Пучило живот. Что мне теперь делать? Пойти к доктору? Но чем доктор может помочь? У них одно лекарство — наложить гипс. А йодом я и сам могу помазать. Вдруг лучше не станет? Да, с такой ногой не до сальто на проволоке. Чем больше Яша думал о происшедшем, тем серьезнее представлялось положение. Совершенно нет денег. А теперь, с больной ногой, разве заработаешь на жизнь? Что скажет Эмилия? Наверно, она в отчаянии, что он не появился накануне. Что сказать Магде? Что тут можно сказать? Как объяснить, где он провел ночь? И чего вообще стоит человек, если все так зависит от ноги? Даже любовь. Пожалуй, теперь самое время покончить с собой.
Он оплатил счет и вышел. Снова увидал убогого. Тот все также кружился и вертелся, на том же самом месте, будто пытаясь просверлить головою невидимую никому стену. И как он только не устанет? — подумалось Яше. Как может называться милосердным Бог, позволяющий человеку испытывать такие мучения? Нарастало желание немедленно, сию минуту увидеть Эмилию. Он тосковал по ней, только по ней, да и поговорить надо было. Но нельзя же пойти к ней вот так, как есть, грязным и небритым, с ошметками грязи на брюках, с комьями навоза. Яша взял дрожки и сказал ехать на Фрету. Откинулся на спинку экипажа и попытался вздремнуть. Допустим, я умер и направляюсь на собственные похороны! Сквозь полуприкрытые веки он глядел вокруг. Солнечный свет, уже теперь розовый, холодный, создающий четкие тени. Вслушивался в уличный шум, вдыхал резкие запахи. На повороте пришлось ухватиться обеими руками, чтобы не упасть. Нет, надо что-то делать! Это не жизнь!.. — рассуждал Яша. Ни минуты покоя… Надо бросать фокусы, магию, оставить женщин… Один Бог, одна жена, как у каждого… В любом случае мне это не вынести, так продолжаться не может…
Время от времени он слегка приоткрывал глаза, чтобы представлять, где же находится. Банковская площадь. Во дворе, у здания банка, накануне казавшегося столь таинственным, тихим и зловещим, теперь царило оживление: было много как штатских, так и солдат, во двор въезжает бронированный автомобиль с деньгами в сопровождении вооруженной охраны. Яша прикрыл глаза. Когда приоткрыл снова, проезжали новую синагогу на Тломацкем, где молились «немцы» — бритые, реформированные евреи, а раввин читал по-польски. Вот они тоже религиозные, раздумывал Яша, а не позволяют нищим молиться там, внутри, вместе с ними. Опять задремал, и когда снова бросил взгляд на улицу, увидал старый польский Арсенал, который русские превратили в тюрьму… Там, позади караульного помещения, находились такие же, как он, Яша.
На Фрете сошел, поднялся по ступеням к своему жилью. Только сейчас стало понятно, что нога сильно повреждена. Приходилось делать усилие, чтобы перенести тяжесть тела на здоровую ногу, а другую он подволакивал за собой. Подымая ногу, каждый раз чувствовал резкую боль около пятки. Легонько постучал в дверь. Магда не открывала. Она что, так разозлилась на него? Может, покончила с собой? Он стукнул по двери кулаком и подождал немного. Не взял ключ! Приложил ухо к двери. Там, как скрипит, разговаривает попугай. У него же с собой отмычка! Должно быть, в кармане. Но такое отвращение к этой штуке после всего, что было. Все же вынул и отпер дверь. Постели застланы, и не определишь уже, спал ли кто на них этой ночью. Прошел в комнату-клетку, где жили обезьянка, попугай и ворона. Они сразу заволновались. Все трое, каждый на своем языке, пытались что-то сказать ему. В каждой клетке была вода, был и корм. Они не страдали ни от голода, ни от жажды. Окна открыты, много воздуха и солнечного света. «Яша! Яша!» — выкрикнул попугай, щелкнул кривым своим клювом, искоса глядя на Яшу с видом напрасно обиженного. Казалось, птица говорит Яше: «Не только себе, но и мне навредил. Уж я-то всегда смог бы заработать для себя несколько зернышек…» Обезьянка сновала по клетке взад-вперед, безостановочно, и ее крошечное личико с низким лбом, плоским носиком, наморщенными бровками выражало тоску и беспокойство. Тоска стояла в глазах — все это напомнило Яше старую-старую сказку про человека, которого злое колдовство превратило в животное. Обезьянка безмолвно спрашивала: «Неужели ты еще не понял, что все вокруг — тщета и суета?» Ворона тоже пыталась говорить, но из ее горла вылетали какие-то каркающие звуки, лишь отдаленно напоминающие человеческий голос. Яшу даже развеселило, что она бранится, насмешничает, поучает его. «Ну, и ты тоже? — сказал Яша. — Зачем я попался в сети?..» Вспомнил про лошадей. Они стояли на дворе. Антон-дворник обихаживал их. Но сейчас Яше захотелось взглянуть на них самому, посмотреть на них — своих Кару и Шиву. И с ними он плохо обращается. В такой день, как сегодня, им надо бы пастись на зеленой травке, а не стоять в стойле в такую-то жару. Яша вернулся в спальню и улегся на постель как был, не раздеваясь. Надо бы снять ботинок и сделать холодную примочку, но слишком уж он устал, чтобы этим заниматься. Смежил веки. Лежал с закрытыми глазами, словно в трансе.
2
Ну и крепко же он спал! Это Яша понял, лишь проснувшись. Открыв глаза, не сразу сообразил, где ор, кто он и что с ним происходит. Кто-то барабанил по входной двери. Яша слышал стук, но ему не приходило в голову, что надо встать и пойти отпереть. Ужасно ныла нога, но никак было не припомнить, почему же она болит. Все внутри как закаменело, но он знал, что вскоре припомнит забытое. Лежал не двигаясь. Снова забарабанили в дверь, и теперь он понял, что надо встать и открыть. Все вспомнил. Кто же это? Магда? Но у нее есть ключи… Еще полежал с минуту. Ноги и руки затекли. Наконец собрался с силами, поднялся, пошел к двери. Он мог лишь едва-едва передвигать левую ногу. Видимо, там воспаление, потому что нога еле влезала в ботинок, чувствовался жар. Открыл дверь. За дверью стоял Вольский, в белых туфлях и соломенной шляпе. Вид нездоровый, лицо изборождено морщинами, будто всю ночь не спал. Черные его семитские глаза глядели на Яшу понимающе, с усмешкой. Казалось, Вольский знает, что произошло этой ночью. Яша моментально вышел из себя:
— В чем дело? — спросил он. — Чего это вы смеетесь?
— Вовсе нет. У меня телеграмма из Екатеринослава.
И достал из кармана телеграмму. Яша обратил внимание, что пальцы Вольского и ногти пожелтели от табака. Взял телеграмму. Прочел. Это было приглашение приехать в Екатеринослав дать двенадцать представлений. Гарантировали приличный гонорар. Директор просил немедленно ответить. Они прошли в смежную комнату. Яша изо всех сил старался не волочить ногу.
— Где Магда?
— Ушла за покупками.
— Как это так, вы одеты?
— А как надо? Голышом?
— Вы не надеваете пиджак и галстук с самого утра. И кто порвал вам брюки?
Яша еле сдержался:
— Где они порваны?
— Вот. Где это вы так перепачкались? В драку ввязались?
Только теперь до Яши дошло: ведь брюки порваны, и внизу, и на коленках, на них следы известки. Яша нерешительно помолчал. Потом сказал:
— Хулиганы напали.
— Где? Когда?
— Этой ночью. На Генсей.
— Что вы там делали, на Генсей?
— Надо было навестить кое-кого.
— Что за хулиганы такие? Почему они вам брюки порвали?
— Ограбить хотели.
— Во сколько это было?
— Что-то около часу ночи.
— Вы обещали, что будете рано ложиться. А в итоге шляетесь где-то, ввязываетесь в уличную драку. Ведите же себя благоразумно.
Яша ощетинился.
— Вы не отец мне. И не приставлены следить за хорошими манерами.
— Нет, конечно. Но у вас есть имя. Есть репутация. Надо поддерживать ее. Приходится смотреть за вами, будто я и есть отец. Едва лишь вы открыли дверь, я заметил, что вы хромаете. Будьте добры, заверните брючину, а еще лучше, снимите штаны совсем. Ничего у вас не получится. И чего вы добьетесь, меня обманывая?
— Да, я подрался.
— Наверно, и надрался.
— Ну, конечно, еще и убил несколько человек… — саркастически подхватил Яша.
— Ха! Осталась всего неделя до премьеры. И вы могли бы приобрести большое имя. Появились бы в Екатеринославе, и вся Россия перед вами. Вместо этого вас носит неизвестно где, и притом ночью. Заверните брюки повыше. И кальсоны тоже.
Яша сделал, как было велено. Под левым коленом кровоподтек, багрово-синий, сильно содрана кожа вокруг. Подштанники в крови. Вольский глядел на все это с немым упреком.
— Что они с вами делали?
— Меня ударили.
— Брюки в известке. А что там снизу? Конский навоз?
Яша хранил молчание.
— Почему вы не сделали примочку? Хотя бы холодной водой.
Яша не отвечал.
— Где Магда? Никогда она в это время не выходит.
— Пане Вольский, вы пока еще не следователь, а я — не грабитель банка. Прекратим этот допрос.
— Да, я не отец и не следователь, но это я, именно я за вас отвечаю. Это именно моя репутация поставлена на карту — не ваша. Простите, я не желал вас обидеть. Ведь когда вы пришли ко мне — то был простой фокусник, что представляет на базарной площади за несколько грошей. Это я вытащил вас из грязи. Теперь, когда вы на волне успеха, лезете на рожон, напиваетесь, и не знаю, что там еще… Идет уже последняя неделя, надо репетировать, а вы даже не показываетесь в театре. По всей Варшаве афиши, они кричат, что вы оставите позади любого фокусника, кто бы он ни был, хоть из нынешних, хоть из прежних. А вы калечите ногу и даже не зовете доктора. Не раздевались со вчерашнего дня. Небось, прыгнули из какого-нибудь окна, — произнес Вольский уже другим тоном.
По спине у Яши прошла дрожь.
— Почему это из окна?
— Без сомнения, убегали от какой-нибудь замужней красотки. Наверно, муж появился неожиданно. В таких делах вы понимаете. Я-то уже стар для этого… Раздевайтесь и ложитесь в постель. Да, вас одурачили, но это не кто иной, как вы сами. Сейчас вызову доктора… Все газеты только и пишут про ваше сальто на канате… Повсюду только об этом и разговору. И вдруг вы такое сделали… Если сейчас провалитесь, все кончено.
— К премьере я буду здоров.
— То ли да, то ли нет. Раздевайтесь. Хочу посмотреть и на другую ногу после вашего прыжка.
— А сколько сейчас времени?
— Десять минут двенадцатого.
Яша открыл было рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент услыхал, как поворачивается в двери ключ. Это Магда. Она вошла, и Яша вытаращил глаза. На ней было нарядное платье по последней моде, соломенная шляпка с цветами и вишнями, ботинки с высокой шнуровкой. Со вчерашнего вечера она как будто стала стройнее, смуглее, старше. Только прыщи и лишаи по-прежнему покрывали лицо и шею. Увидав Вольского, Магда пришла в изумление, попятилась обратно к двери. Вольский снял шляпу. Волосы на голове слиплись, будто на нем плохой парик. Поклонился. Черные глаза увлажнились. Он переводил взгляд то на Яшу, то на Магду — смотрел с изумлением и с отеческой заботой.
3
«Панна Магда, — проговорил Вольский не слишком твердо — тоном человека, который читает мораль, но делает это очень неохотно, — нам с вами, вдвоем, придется смотреть за ним… Это же ребенок… Артисты — как малые дети, иногда и того хуже… Погляди-ка, что он с собой сделал!..»
— Пожалуйста, пане Вольский, больше ни слова! — воскликнул Яша.
Магда ничего не сказала, только молча глядела на голую Яшину ногу, разглядывала рану.
— Куда это ты ходила в такую рань? — спросил Яша. Такой вопрос, мгновенно сообразил Яша, мог бы увести разговор в другое русло — чтобы не обсуждать, почему он не ночевал дома. Однако же было поздно. Магда подалась вперед. Зеленые глаза ее загорелись. Она шипела, как разъяренная кошка.
— Потом расскажу, я-то во всем отчитаюсь.
— Что такое между вами? — спросил Вольский ворчливо, тоном старого родственника. Никто ничего не ответил, и он продолжал: — Ну, ладно, пойду за доктором. Приложите холодный компресс. Может, в доме найдется йод? Если же нет, принесу из аптеки.
— Пане Вольский, не хочу я никакого доктора! — твердо сказал Яша.
— Вот еще! Почему нет? Всего шесть дней до премьеры. Люди уже заранее купили билеты. Полтеатра закуплено.
— Я готов к премьере.
— Нога не заживет сама по себе. И что это вы так боитесь доктора?
— Мне надо еще сегодня быть кое-где. А к доктору я после схожу.
— Куда это вы собрались? Да вы не доберетесь никуда с такой ногой!
— Он собрался к одной из своих потаскух! — прошипела Магда. Губы у нее дрожали. Глаза готовы были выкатиться из орбит. Это в первый раз тихая, робкая, застенчивая Магда произнесла такие слова, да еще при постороннем. Проговорила она тихо, но при ее деревенском произношении слова прозвучали резко, будто выкрик. Вольский стоял с кислой миной, будто проглотил какую-то гадость.
— Не желаю мешаться в ваши дела. Не желаю и не имею права. Всему свое время. Годы и годы ждали мы этого дня. Сегодня это ваш шанс стать знаменитым. Так нет же, вы, как гласит старая поговорка, бросаете ружье в сторону за час до победы.
— Ничего я не бросаю.
— Пшепрашам. Тогда позвольте вызвать доктора.
— Нет.
— Ну, нет так нет. Я уже тридцать лет или около того импресарио, и мне уж доводилось видеть, как артисты сами губят себя. Годы и годы взбираются наверх, а когда уже видна вершина, падают и разбиваются. Почему так происходит, не знаю. Может, им нравится барахтаться в грязи… Что сказать Кузарскому? Он спрашивал про вас. Там, в театре, против вас что-то такое… И что отвечать директору в Екатеринославе?.. Надо отправить депешу.
— Завтра дадим ответ.
— Когда завтра? Что вы такое узнаете завтра, что не знаете сегодня? И что вы все время ругаетесь? Вы оба? Из-за чего? Вам приходится работать вместе. Вам надо репетировать, как это было все годы. И сейчас тоже. Даже больше. Если, конечно, не хотите порадовать своих врагов и с треском провалиться.
— Все будет в порядке.
— Будет, если повезет. Ну, когда мне теперь прийти?
— Завтра.
— Буду здесь завтра утром. Но сделайте же что-нибудь с ногой, если не хотите ее совсем потерять. Ну-ка, сделайте шаг, я погляжу. Да вы же хромаете! И не морочьте мне голову. Или потянули ногу, или даже сломали что-то. Сделайте горячую ванну. Будь я на вашем месте, не стал бы ждать до завтра. Доктор может счесть нужным наложить гипс. Что будете тогда делать? Толпа разнесет театр. Вы же знаете, что за публика в летнем театре. Не лучшего сорта. Это вам не опера, где может на авансцене появиться импресарио и объявить почтеннейшей публике, что у примадонны заболело горло. Здесь не станут ждать. Забросают камнями да тухлыми яйцами…
— Говорю вам: все будет в порядке.
— Ну что ж, будем надеяться. Порою мне жаль, что я не торгую селедками…
И Вольский откланялся обоим: полупоклон Яше, полупоклон Магде. Идя по коридору, продолжал еще что-то бормотать. Наконец дверь захлопнулась.
Этот гой причитает и жалуется, как еврей, подумал про себя Яша. Хотелось рассмеяться. Но он осторожничал. Краем глаза поглядывал на Магду. Дома она не ночевала, понял он. Где-то бродила всю ночь. Где же она была? Где? На что она способна? На какую месть? Так и рвались из него эти вопросы. Обуяла ревность. И отвращение одновременно. Представлялось, что каждый прыщ у нее на лице становится больше и больше. Он еле сдерживал себя. Разжал кулаки. Опустил голову. Не отрываясь, глядел на голую ногу. Сердито глянул на Магду:
— Принеси холодной воды с колонки!
— Сам иди!
И она разрыдалась. Выскочила из комнаты. Хлопнула дверью так, что задребезжали окна.
Ну, видно, надо бы полежать еще с полчасика, решил Яша.
Вернулся обратно в спальню. Растянулся на кровати. Нога не сгибалась. Он едва мог ею пошевелить. Лежал, разглядывал небо за окном. Там, высоко в небе, пролетела птица. Отсюда она казалась крошечной, будто ягодка. Что будет, если это существо, эта крошка повредит лапку? Или крылышко? Наверно, ей останется только умереть. Так же, как и человеку. Смерть — это метла, которая выметает прочь все зло, все безумие, всю мерзость…
Яша закрыл глаза. Ногу дергало, что-то там давило. Хотел снять ботинок, но нечаянно затянул шнурок. Опухоль увеличилась! Возле пальцев нога отекла и раздулась, как подушка. Гангрена? Очень даже может быть. Ампутировать придется? Нет! Лучше уж смерть! Увы, мои семь лет удачи, все везение мое — все, все кончено! Ни на кого нельзя положиться, воскликнул он. И сам не понял, кого же он имеет в виду. Женщин? Гоев? Тех и других вместе? Конечно, в Эмилии сидит дьявол. Мысли разбегались. В голове пустота. Яша лежал так, пригревшись, в дремоте, как это часто бывает перед сном. Снилось ему, что Пасха сейчас, седер уже прошел, и отец говорит: «И о чем я только думал? Я деньги потерял!» — «Тателе! Что вы такое говорите?! Ведь Пасха сейчас…» — «Ох, правда! Я так опьянел от четырех бокалов!»
Сон продолжался лишь несколько мгновений. Он проснулся в мгновение ока: дверь отворилась, вошла Магда, неся таз с водой и салфетку, чтобы наложить компресс. Ненавидящими глазами смотрела она на Яшу.
— Магда, я тебя люблю…
— Мерзавец! Распутник! Убийца! — и Магда вновь разразилась слезами.
4
Что собирался сделать Яша — это было совершенное безумие: однако же пойти повидать Эмилию было совершенно необходимо. Он действовал так, будто в гипнотическом сне выполняет чьи-то приказания. Эмилия ждала его, и это ожидание притягивало, как магнит. Магда снова куда-то вышла. Ясное дело, надо идти сейчас. Назавтра может оказаться слишком поздно… Он поднялся. Не обращать внимания на ногу, игнорировать боль. Побриться, принять ванну, переменить белье. Нам с ней надо все обсудить, говорил он себе, не оставлять же ее в таком подвешенном состоянии… Сначала побриться… Но бритва куда-то делась. Магда имела обыкновение рассовывать вещи куда попало. Каждый раз после ее уборки что-нибудь пропадало. Она могла сунуть галстук на печку, тапки на подушку. Как была деревенщина, так и осталась! — посетовал Яша. Надел свежую рубашку, но куда-то закатилась запонка. Наверно, под гардероб. Нагнуться или же опуститься на колени Яша не мог. Надо бы поискать другие запонки, но где? Даже деньги Магда засовывала в такие странные места, что их потом месяцами приходилось отыскивать. Яша опустился на пол и шарил тростью под шкафом, отыскивая запонку. Нога заныла еще больше после этих его усилий. И живот разболелся. Ну вот, они уже здесь, эти черти, принялись за работу! — процедил он сквозь зубы. Теперь только и жди всяких пакостей.
Вернулась Магда. Она уже сняла выходное платье. Теперь он увидал, что она купила: из корзины торчали куриные ножки.
— Куда это ты собрался? Завтрак готов.
— Сама ешь. Без меня.
— Побежишь опять к своей шлюхе из Пяска?
— Куда хочу, туда и иду.
— Между нами все! Конец! Я сегодня домой еду. Грязный еврей!
Похоже, она сама испугалась этих слов. Так и стояла, с открытым ртом, подняв руки, будто защищаясь от удара. Яша побелел.
— Ну, что ж, это и вправду конец!
— Да, конец! Ты сам разбудил во мне дьявола!
Она бросила на пол корзинку с курами и принялась плакать — с деревенским подвыванием, будто ее кто побил или наказал. На полу валялись цыплята, торчали окровавленные шеи, вокруг свекла, картошка, лук. Магда выскочила в кухню, и оттуда раздались такие звуки, будто она задыхается или же ее выворачивает рвотой. Он поднялся, крепко сжимая палку, которой пытался нашарить запонку. Неизвестно зачем сложил цыплят, прикрыл свекольными листьями отрезанные шеи. И все продолжал поиски запонки. Хотел зайти в кухню, посмотреть, что там с Магдой, но сам себя остановил. Что ж, скоро и Эмилия скажет мне то же самое, вздохнул он. Да, все рушится, как карточный домик.
Кое-как оделся сам. Выйдя в коридор, через дверь на кухню услыхал, как Магда отскребает щеткой какое-то пятно. Проковылял вниз по лестнице, испытывая боль при каждом шаге. Еле-еле добрался до цирюльника, но там было пусто… Он покричал, постучал ногой. Никто не вышел. Бросили все и ушли! — проворчал он себе под нос. Вот вам Польша! А еще жалуются, что страна раздирается на куски… Небось убежали играть в карты, бездельники!
— Ну, ладно, пойду небритый! — бормотал он. — Пускай увидит, в каком я состоянии. Он постоял, надеясь взять дрожки. Не дождался. — Что же это за страна! — бормотал Яша. — Все, на что они способны, — это каждые несколько лет поднимать восстание и греметь цепями… — С трудом дотащился до Длуги, нашел там цирюльню, вошел. Цирюльник был занят — стриг клиента. Он сказал:
— Если бочка с капустой доверху полна, в нее больше не влезет. Капуста — это вам не пряжа и не вата. Ее не умнешь. А с тестом, проше пана, того хуже. Мне вспомнилась история про женщину, которая должна была что-то испечь для матери. Вот она замесила тесто, положила закваску и все, что полагается. А потом вдруг решила отнести тесто к матери на Прагу[42] и там испечь. То ли у нее дымоход в печке засорился, то ли еще что-то там такое. Вот она кладет тесто в корзинку, накрывает чистой тряпкой, садится на конку. А было жарко, и тесто стало подыматься; оно росло и подымалось, и дышало, как живое. Она его обратно заталкивает, а оно никак… С одной стороны нажмет, оно с другой лезет. Тряпка слетает, и корзинка — бац! — лопнула. Так я думаю, не иначе как лопнула…
— Тесто такую силу имеет? — спросил человек в кресле.
— Еще бы! Началась суматоха… Кто попроворнее, с конки попрыгали…
— Видать, она слишком уж закваски переложила в тесто…
— Не так закваски, как жара была. Жаркий летний день, и…
Что они там мелют? И к тому же: корзинка никогда бы не разорвалась, подумал Яша. А вот мой ботинок, да, он сейчас лопнет. Нога нарывает. И почему он меня не замечает, мерзавец этакий! Может, я человек-невидимка? Спросить, что ли?
— Долго ждать еще?
— Пока не закончу, пане, — ответил парикмахер вежливо, но все же с насмешкой. — У меня только пара рук, и не могу же я стричь ногами. А если б и мог, на чем бы я стоял? Может, на голове? А вы что думаете, пане Мечислав?
— Вы абсолютно правы. Абсолютно, — сказал клиент, коротышка с большой головой, плоским затылком, белесый, с торчащими в разные стороны волосами, напоминающими поросячью щетину. Он обернулся, поглядел на Яшу осуждающе. Глаза водянисто-голубые, маленькие, глубоко посаженные, Ясно было, что между мастером и клиентом полное согласие.
Все же Яша дождался, пока парикмахер закончит, да еще нафабрит клиенту усы. Лишь только клиент ушел, парикмахера как подменили. Он стал вежлив, приветлив, даже, пожалуй, слишком — до фамильярности. Принялся болтать:
— Чудесный денек, правда? Лето, настоящее лето. Лето я люблю. Что хорошего в зиме? Только холод и болезни. Правда, иногда уж слишком жарко бывает, и потеешь, но это не страшно. Вчера вечером я был на реке, гулял вдоль Вислы и собственными глазами видел: человек утонул.
— Прямо в купальне?
— Хотел показать себя и поплыл от мужской купальни к женской. Что он там хотел — на голых женщин посмотреть или еще что. Да, женщины так купаются там. Какой в этом смысл? Стоит ли жизнь отдавать ради глупой шутки? Когда его вытащили, казалось, он просто уснул. Я не мог поверить, что он мертв. К чему такая жертва? Только чтобы произвести впечатление.
— Да, люди прямо сумасшедшие.
5
Надо все решить сегодня же, размышлял Яша, сидя в дрожках. Сегодня для меня такой уж день, «йом-га-дин». И он прикрыл веки, чтобы остаться наедине с собственными мыслями. Проезжали улицу за улицей, однако решение так и не приходило. Сидя так, с закрытыми глазами, вслушивался он опять и опять в городские звуки, вдыхал запахи. Покрикивал возница, щелкал кнут, бежали сзади и дразнились дети. Из подворотен, с маленьких базарчиков веял теплый ветерок, донося резкий запах конского навоза, прогорклый — жареного лука, а еще пахло гниющими отбросами, помоями, доносились запахи из резницкой. Рабочие разломали деревянный тротуар, заменяли булыжник на брусчатку, проводили газовое освещение, рыли канавы для телефонного кабеля, для канализационных труб. Все внутренности города разворотили. Время от времени, приоткрывая глаза, Яша представлял, что дрожки несутся прямо в песчаную бездну. Похоже, скоро рухнет земля, развалятся здания. Вся Варшава выглядит так, будто собирается разделить судьбу Содома и Гоморры. Как можно сейчас что-то решить? Дрожки покатили мимо синагоги на Навозной. Когда я был здесь? Сегодня? Может, вчера? — в замешательстве пытался понять Яша. Два дня слились в один. Это его благочестивое настроение, чтение молитвенника, в талесе и филактериях… странно все это, похоже на сон. Что за силы владеют мною? Куда влекут? Видно, нервы совершенно расстроены. Кучер осадил лошадей у дома, где жила Эмилия. Яша расплатился, дал целковый. Тот предложил сдачу, но Яша махнул рукой. Он же нищий, пускай получит лишний злотый, подумал он. Это ему, Яше, зачтется на небесах… любое доброе дело засчитывается…
Не спеша поднялся по лестнице. Нога теперь досаждала меньше. Позвонил, и Ядвига тотчас же отворила. Улыбнулась и доверительно сообщила: «Пани ждет вас… Еще со вчера…»
— Что новенького?
— Да ничего. Ах, да, есть кое-что. Пан Яша, может, помнит, я рассказывала про пана Заруцкого и его глупую прислугу, мою колежанку. Так вот, вчера там ограбление было.
У Яши во рту пересохло.
— Что украли? Все ценности унесли?
— Нет, вор испугался и убежал. Прыгнул с балкона. Его ночной сторож видел. И не спрашивайте, что тут было. Старик устроил скандал. Ужасную сцену! Хотел ее уволить. Полиция была. Она так плакала, так плакала, что сердце разрывалось… Вы подумайте! Ведь тридцать лет в одном доме! Тридцать лет!
Она рассказывала это с каким-то тайным удовольствием. Неприятности подруги доставляли ей странное удовлетворение. Глаза зло сверкали. Такого за ней Яша раньше не замечал.
— Не везет ворам в Варшаве.
— Да, не каждому везет. Пусть пан пройдет в гостиную. А я пойду доложу хозяйке.
Яше казалось, Ядвига даже помолодела. Она теперь не ходила, а будто летала. Войдя в гостиную, он присел на диван. Конечно, заметит, что у меня с ногой не все в порядке. Скажу, что упал. А может, лучше упомянуть об этом самому, прямо сразу. Так будет меньше подозрений. Яша думал, Эмилия прибежит сразу же, но она почему-то медлила дольше обычного. Это она решила отплатить мне за последнюю ночь, подумал он. Наконец послышались шаги. Отворилась дверь, вошла Эмилия. На ней было светлое платье. Видимо, новое. Он поднялся, но не подошел к ней сразу.
— Что за прелестное платье!
— Вам нравится?
— Изумительно! Повернитесь. Позвольте рассмотреть сзади.
Эмилия повернулась, и Яша воспользовался моментом, чтобы прихромать поближе.
— Великолепно! Потрясающе!
Она опять обернулась.
— А я-то боялась, вам не понравится. Что случилось вчера? Из-за вас я всю ночь не спала.
— Что же вы делали, раз не спали?
— Что можно делать ночь напролет? Читала, ходила взад-вперед. В самом деле, я беспокоилась за вас. Подумала было, вы уже… — она оборвала себя.
Как могла она читать, подумал Яша, если в спальне не было света? Хотел возразить. Но не стал, понимая, что после такого признания ему ничего не останется, как уйти прочь. Эмилия наблюдала за ним. Во взгляде было и любопытство, и обида, и преданность. По некоторым незначительным признакам Яша понял: она жалеет, что отказала ему прошлой ночью, и теперь готова исправить ошибку. Эмилия нахмурила брови, будто пытаясь проникнуть в его мысли. Он тоже незаметно разглядывал ее. Казалось, за эти дни Эмилия постарела на несколько лет. Так бывает с человеком после тяжелой болезни или глубоких переживаний.
— Вчера случилась неприятность, — сказал он.
Лицо ее побледнело: «Что же?»
— На репетиции я упал и повредил ногу.
— Иногда думаю, и как вы выдерживаете все это, — проговорила она с упреком. — Много берете на себя: хотите быть сверхчеловеком. Даже если вам дарован талант, не стоит расточать его, особенно за те деньги, что вы получаете. Вас не ценят совершенно.
— Да, я слишком выкладываюсь. Такой уж у меня характер.
— Да, это и благословение, и проклятие, все вместе… Ходили уже к доктору?
— Нет еще.
— Чего же вы ждете? Ведь премьера через несколько дней!
— Да знаю я, знаю.
— Присядьте-ка. Я чувствовала, что-то плохое случилось. Вы собирались прийти, а не пришли. Не знаю, отчего, но я не спала. Проснулась в час ночи и больше глаз не сомкнула. Было странное чувство, что ты в опасности… — неожиданно было, что она обращается к нему так интимно, на «ты». — Уговаривала себя, что страхи мои смешны. Не хотелось быть суеверной, но никак было не избавиться от этих ощущений. Когда это случилось? В котором часу вы упали?
— И в самом деле, это было ночью.
— В час?
— Около того.
— Я знала это. Хотя и не могу представить, каким образом. Села в кровати и начала молиться за вас, безо всяких на то резонов. Галина тоже проснулась, пришла ко мне. Что-то такое есть в этой девочке, непонятное, необъяснимое. Какая-то странная связь между нами. Если я не могу заснуть, она тоже не спит, а ведь я стараюсь не производить ни малейшего шума. Что же случилось? Прыжок?..
— Да, я прыгнул.
— Надо немедленно пойти к доктору, и, если он запретит выступление, придется его послушаться. С этим не шутят, особенно в вашем случае.
— Театр прогорит.
— Пускай. Со всяким может случиться. Только бы нам быть вместе, а я о вас позабочусь. Вы не слишком хорошо выглядите. Подстриглись?
— Нет.
— А вид такой, подстриглись. Знаю, вы подумаете, это смешно. У меня несколько дней такое предчувствие. Нет, не надо слишком уж беспокоиться, не какое-то большое несчастье, но что-то определенно было. Пыталась сохранить присутствие духа. А уж когда вплоть до сегодняшнего утра от вас не было никакой весточки, я просто места себе не находила, впала в отчаяние, даже собралась к вам домой. Как объяснить такое?
— Ничего тут нельзя объяснить.
— Можно мне посмотреть твою ногу?
— Позже, не сейчас.
— Хорошо, дорогой. Но кое-что важное мне надо обсудить с тобой. Очень-очень важное.
— Что такое? Говори же.
— Нам надо иметь определенный план. Может, то, что я говорю, дурной тон. Но ведь мы оба, и ты, и я, уже не малые дети. Я больше не могу выносить это ожидание, неопределенность. Все повисает в воздухе… Я просто-напросто больна от этого. По натуре я вовсе не легкомысленна. Мне надо в точности знать, где я нахожусь, на каком я свете. Галина должна продолжать учебу, ей нельзя терять следующий семестр. Ты обещаешь и снова обещаешь, тысячи обещаний, но все остается по-старому. Теперь, когда ты обо всем сказал Галине, от нее покоя нет. Галина — умница, но ребенок есть ребенок. Понятно, мне не следует говорить с тобой сейчас, когда у тебя и так неприятность, но не могу выразить, что я переживаю. А в довершение всего я тоскую по тебе ужасно. В момент, когда ты говоришь «до свидания» и за тобой закрывается дверь, начинаются адские муки, возникает странное чувство: будто я на льдине, которая может разломиться в любую минуту, и я уйду под воду. Да, я, похоже, становлюсь вульгарной, теряю всякий стыд.
Эмилия прервала поток слов. И стояла — вот так, со склоненной головой, с опущенными глазами, трепещущая, стыдясь, что все выложила, назвала вещи своими именами.
— Ты это физически ощущаешь? — спросил Яша, раздумывая.
— Все вместе.
— Ну, ладно, все решим.
6
— Каждый раз ты так говоришь: мы решим. Так ли уж много надо нам решать? Если мы едем, надо сдать квартиру и продать мебель. Можно хоть что-то получить за нее — впрочем, она немного стоит. А может, есть смысл отправить ее в Италию. Вот практические дела, которые нам предстоят. Одними разговорами ничего не сделаешь. Надо выправить паспорта, ведь русские всюду чинят препятствия. Надо точно определить день отъезда. А деньги? Я о деньгах с тобой не говорила раньше, потому что это уж очень неприятная для меня тема. Лишь заговорю, краска заливает лицо — и она в самом деле покраснела, — но без этого ничего не сделаешь. И о твоих делах… ну, ты же сказал… что перейдешь в христианскую веру… Да, это все формальные вещи, я понимаю. Никто не приобретет веру, если его покропить несколькими каплями воды. Но без этого мы не сможем пожениться. Я все это говорю в предположении, что твои обещания — не пустой звук. Если это не так, то зачем все? Мы же не дети.
И Эмилия замолкла.
— Ты же знаешь, я всегда говорю искренне. Отвечаю за каждое слово, которое сказал.
— Ничего я не знаю. Что я про тебя знаю? Бывает, что я и про себя ничего не знаю. В таких случаях всегда винят женщину. У тебя есть жена, и, Бог тебя знает, ты ей не верен и ведешь себя, как вольная пташка. Я тоже грешница, но я хотя бы церкви верна. По католической вере, если кто крестился, то он будто родился заново, и все прегрешения ему отпускаются. Не знаю твою жену и не хочу знать. Иное дело, брак ваш бездетный. А брак без детей — брак наполовину. Я не молода уже, но могу еще иметь детей, и мне хотелось бы родить тебе ребенка. Будешь смеяться, но даже Галина говорит об этом. Она сразу сказала: «Как вы с дядей Яшей поженитесь, я хотела бы маленького братца». Человек с твоим талантом не должен умереть, не оставив потомства. Мазур — хорошая польская фамилия.
Яша сидел на диване. Эмилия — напротив, в шезлонге. Он глядел на нее, она на него. Внезапно он осознал, что так дольше продолжаться не может. Слова, которые ему придется сказать, должны быть произнесены. Притом в эту самую минуту. Однако так и не решил, что сказать и как действовать.
— Эмилия, мне надо тебе сказать кое-что.
— Ну, говори же. Я слушаю тебя.
— Эмилия, у меня нет денег. Все мое состояние — это дом в Люблине. Но не могу же я отбирать у нее и дом.
— Почему же ты раньше не говорил? Как ты себя ведешь, казалось, деньги для тебя не проблема.
— Я всегда знаю, что в последний момент их получу. Если премьера пройдет успешно, смогу выступать за границей. Здесь же выступают иностранцы.
— Да, но в наши планы входило еще и быть вместе. Как можно быть уверенным, что сразу найдешь ангажемент в Италии? Это может оказаться во Франции или даже в Америке. Странно было бы, если мы поженимся, тебе жить в одном месте, а мне — в другом. Галина должна некоторое время пробыть в Южной Италии. Зима, например, в Англии может убить ее. Да еще ты предполагал, что потребуется год, чтобы освоить европейские языки. Если путешествовать по Европе без знания языков, с тобой будут обращаться не лучше, чем здесь, в Польше. Ты уже забыл все, что мы решили. Мы же хотели купить дом с садом близ Неаполя. Такой был у нас план. Это не значит, что я тебя попрекаю — ни в коем случае, — но если хочешь поправить наше положение, надо следовать точному плану. Это жизненно важные вещи, и сделать это экспромтом, как свойственно людям театра… Ничего, кроме неприятностей, не будет. Сам подумай.
— Да, это так. Однако же я должен иметь в руках какие-то деньги. Сколько же нужно? Я хочу сказать, каков минимум?
— Мы же все посчитали. Надо по меньшей мере пятнадцать тысяч рублей. А лучше бы и сверх того.
— Я должен буду получить деньги.
— Как же? Насколько мне известно, в Варшаве деньги с неба не падают. У меня создалось впечатление, что ты уже собрал некоторую сумму.
— Нет у меня ничего.
— Да, это новость. Ты не подумай только, что мои чувства к тебе изменятся из-за этого. Но наши планы, очевидно, не могут быть прежними. Я уже намекнула кое-кому из близких друзей, что еду за границу. Галине нельзя здесь оставаться. Девочка в ее возрасте должна ходить в школу. Да здесь мы с вами и не сможем быть вместе. Это теряет смысл для нас обоих. У тебя есть семья, жена, и кто его знает, что еще. Меня терзает жалость к твоей жене, но если уехать из Польши — это все отдалится А так: увести мужа и иметь шанс, что его жена придет ко мне плакать, — это уж слишком!
И она потрясла головой, будто стряхивая с себя эту тяжесть. И передернула плечами.
— Я добуду денег.
— Как? Ограбишь банк?
Вошла Галина.
— А, дядя Яша!
Эмилия нахмурила брови.
— Сколько раз говорить, что сначала надо постучать, а уж потом входить. Тебе же не три года.
— Если помешала, уйду.
— Ничему ты не помешала. Какое чудесное платьице на тебе!
— Что же в нем такого хорошего? Я выросла уж из него. Но оно белое, а от белого я без ума. Хорошо бы наш дом в Италии был белый. Почему крыша не бывает белая? Да, это было бы потрясающе: дом с белой крышей!
— Может, тебе нравится, когда дымовая труба — тоже белая? — поддразнил Яша.
— Почему бы и нет? Можно и так. Я читала, когда выбирали нового Папу, белый дым выходил из трубы. А если бывает белый дым, то бывает и белая сажа. Разве нет?
— Да, да, все устроится, как ты хочешь. А пока отправляйся к себе в комнату, — прервала Эмилия. — Нам надо много обсудить.
— А о чем вы разговариваете?.. Ну не хмурься же так, мама. Уйду сейчас. Ужасно пить хочется, но это неважно. Только сначала одну вещь скажу: по-моему, у вас плохое настроение, дядя Яша. Что-то случилось?
— Лодка с прокисшим молоком пошла ко дну.
— Ха-ха! Что за смешное выражение?
— Так на идиш говорят.
— Ох, я бы хотела выучить идиш. Все языки хочу знать: китайский, татарский, турецкий. Говорят, у животных тоже свои языки. Один раз я проходила по Гжибову: евреи выглядят так смешно — в этих своих длинных кафтанах, с черными бородами. Что такое еврей?
— Тебе же сказано: уходи отсюда! — повысила голос Эмилия.
Галина повернулась уже, чтобы уйти, но тут в дверь постучали. У порога стояла Ядвига:
— Какой-то человек пришел. Хочет говорить с пани.
— Человек? Кто это? Что ему нужно?
— Не знаю.
— Что же ты не спросила, как его зовут?
— Вид такой, будто он с почты или что-то такое…
— Вот еще напасть! Одну секунду. Сейчас я выйду к нему, — и Эмилия вышла в коридор.
— Кто бы это мог быть? — сказала Галина. — Я взяла книжку в школьной библиотеке и потеряла. Вообще-то не потеряла, а уронила в канаву. Она была такая противная, там помои текли, и я не полезла за ней, побоялась домой принести. Побоялась, что мама увидит меня с такой грязной книжкой и разбранит ужасно. Она добрая, но и злая бывает. Недавно она так чудесно сделала. Мама не спит ведь ночами, а когда она не спит, и я не сплю, не могу уснуть, и все тут. Забралась к ней в постель, мы лежали и разговаривали, две потерянные души… Время от времени она присаживалась к маленькому столику, клала на него руки и ждала, что он предскажет будущее. Ой, она смешная иногда, но я люблю ее ужасно. Ночью она такая хорошая. Иногда мне хочется, чтобы всегда была ночь, и чтобы вы были с нами, дядя Яша, и нам втроем было бы так хорошо. Может, вам хочется меня загипнотизировать? Прямо сейчас… У меня страстное желание, чтобы меня загипнотизировали!
— Для чего это тебе надо?
— Ох, для того. Так мрачно все! Жизнь такая тоскливая!
7
— Твоя мама и слышать не хочет об этом, а раз она против, то и я не хочу.
— Наверно, все уже пройдет, пока она обратно придет.
— Не так-то быстро все это делается, как бы ты ни была восприимчива к гипнозу.
— О чем это вы?
— Ох, тебе придется любить меня. Навсегда меня полюбишь. Не сможешь позабыть.
— Это верно. Никогда! Мне хочется говорить глупости. Можно я скажу, пока мамы нет?
— Да, говори.
— Хорошо. Почему не все, как вы, дядя Яша? Каждый важничает, пыжится, все такие надутые. Я люблю маму, люблю ужасно, но иногда так ненавижу. Когда она в плохом настроении, то вымещает это на мне. «Не ходи туда! Не стой там!» Раз я разбила цветочную вазу, ну совершенно нечаянно, и она не разговаривала со мной целый день. Сегодня ночью мне приснилось, что конка — лошади, кондуктор, пассажиры — все-все проезжает через нашу квартиру. Куда они все несутся? И как это пройдет через нашу дверь? Но конка пронеслась мимо и остановилась. И мне пришло в голову: когда мама придет и увидит это, то-то подымет шум! Я принялась хохотать, и так, хохоча, проснулась. Мне и теперь смешно, как этот сон вспомню. Ну разве я виновата? И вы мне снились, дядя Яша, но пока вы не решитесь и не загипнотизируете меня, не расскажу сон.
— Что же тебе про меня снилось?
— Не скажу. Мне или смешное снится, или что-нибудь ненормальное. Вы думаете, я сумасшедшая. Но это и в самом деле ужасно, какие мысли в голову приходят. Хочу прогнать их и не могу.
— Что за мысли?
— Не могу я про это рассказывать.
— От меня ничего не надо скрывать. Я же тебя люблю.
— Ох, вы только говорите так. А на самом деле вы мой враг. Может, вы даже дьявол в облике человеческом? Может, у вас есть рога и хвост, как у бабы-яги.
— Да, у меня рога. — И Яша приставил два пальца к голове.
— Не надо так делать, мне страшно… Я жуткая трусиха. А по ночам я просто трясусь от страха. Боюсь привидений, боюсь духов, всяких таких вещей. У нас соседка есть, у нее девочка, шести лет, Янинка звали. Такая прелесть, белокурые локоны, голубые глаза. Как ангелочек. И вдруг она подхватила скарлатину и умерла. Мама не хотела, чтобы я узнала, но я все равно знаю. Даже видела в окно, как гроб выносили — узенький такой гробик и весь в цветах, Ох, смерть — это ужасно. Днем я не думаю об этом, а как только стемнеет, так думать начинаю.
Вошла Эмилия. Поглядела на Яшу с Галиной:
— Что за прекрасная пара!
— Кто это был? Что за человек? — спросил Яша, сам удивленный, что смеет задавать такие вопросы.
— Сейчас расскажу. Будете смеяться, хотя это вовсе не смешно. — Эмилия говорила, обращаясь то к Галине, то к Яше, то к ним обоим. — У нас есть знакомый, тут недалеко, богач, старик Заруцкий. Скряга, ростовщик. Даже не то что знакомый, а Ядвига дружна с его прислугой, и вот он теперь здоровается со мной. Через балкон к нему пробрался вор, и ночной сторож увидел, как тот спускается, погнался за ним, а вор удрал. Не смог сейф отпереть. А теперь оказалось, что он обронил бумажку с адресами других квартир, которые собирается ограбить. И наша среди них. Агент из полиции сразу пришел предупредить. А я откровенно сказала: «Немного же он украдет здесь». Ну, не чудно разве?
У Яши пересохло во рту.
— Зачем же он оставил листок с адресами?
— Обронил, наверно.
— Ну, вам теперь надо быть осторожнее.
— Как тут убережешься! Варшава стала теперь просто воровское гнездо. Галина, ступай к себе!
Девочка лениво встала, томно обернулась:
— Ну, хорошо, иду. То, о чем мы говорили, это секрет.
— Да, навеки.
— Я ухожу. Раз выгоняют, что делать. Но ведь вы еще не уйдете, дядя Яша?
— Нет, еще останусь недолго.
— До свиданья!
— Оревуар!
— Оревуар!
— Ариведерчи!
— Уходи давай, я же тебе сказала! — скомандовала Эмилия.
— Хорошо, ну хорошо, ухожу. — И Галина вышла.
— Что это за секреты? — то ли в шутку, то ли всерьез спросила Эмилия.
— Важнющие секреты.
— Бывает, я жалею, что у меня не сын, а дочь. Мальчики не такие домашние, не так вмешиваются в материнские дела. Я люблю ее, но временами она выводит из равновесия. Вы должны понимать, что она ребенок еще, а не взрослая.
— Я и говорю с ней как с ребенком.
— Как-то смешно с этим вором, Не мог найти дом побогаче моего? Откуда эта публика получает информацию? Наверно, входят в подворотню и читают список жильцов. Но я боюсь воров. Вор может и убийцей стать. В парадном есть засов, но балкон закрывается только на цепочку.
— Вы же на третьем этаже. Достаточно высоко.
— Да, верно. А откуда ты знаешь, что Заруцкий на втором живет?
— Потому что я и есть вор, — сказал Яша хриплым голосом, сам потрясенный словами, которые произносил. В горле пересохло. Из глаз посыпались искры. Кажется, это дибук говорит, не он сам. Мурашки побежали по спине. Подступила тошнота, как бывает перед обмороком. Эмилия помолчала немного.
— Ну, вот прекрасная идея. Раз можешь спуститься из окна, можешь и по балконам лазить.
— Так и есть.
— Что-что? Я не расслышала.
— Я сказал: «Так и есть».
— Почему же ты не открыл сейф? Раз начал, надо было до конца довести.
— Раз на раз не приходится. Не получилось.
— Почему ты так тихо говоришь? Ничего разобрать не могу.
— Говорю: «Иногда и я не могу».
— Не можешь, не суйся, по старой поговорке. Забавно, недавно мне пришло в голову, что воры могут забраться к нему. Каждый знает, что деньги он держит дома, рано или поздно их должны были украсть. Таков удел всех скупцов. Да, накопительство — настоящая страсть.
— Что-то в этом роде.
— Кто знает? В абсолютном смысле все страсти, быть может, или совершеннейший бред, или же истинная мудрость. Кто может знать это?
— Да, мы не знаем ничего.
Довольно долго оба молчали. Вот наконец она прервала молчание:
— Так что же с тобой? Дай же, я посмотрю ногу!
— Не теперь, только не теперь.
— Почему же не теперь? Все же, как ты упал?
Не верит она мне, подумал Яша, думает, шучу. Так и так, все пропало. Он глядел на Эмилию, но видел ее будто в тумане. В комнате царил полумрак. Окна выходили на север, да еще были задернуты вишневыми портьерами. Странное безразличие овладело им — так бывает, когда человек собирается совершить преступление или же рискнуть жизнью. Он понимает, что это все разрешит, но самого его уже ничто не заботит. Услышал свой голос:
— Я повредил ногу, когда прыгал с балкона. От Заруцкого.
Эмилия подняла брови:
— Право же, не время для шуток.
— А я и не шучу. Это правда.
8
В наступившей затем тишине было слышно, как щебечут за окном птицы. Ну что ж, худшее позади… Теперь надо довести до конца это дело. Слишком уж тяжкую ношу он на себя взвалил. Разорвать путы, освободиться от всего — вот что сейчас необходимо. Он кинул мгновенный взгляд на дверь, будто примериваясь, не сбежать ли немедленно, не сказав ни слова, без всяких объяснений. Сидел, не подымая глаз, но сквозь ресницы глядел прямо в лицо Эмилии. Не было тут ни наглости, ни отваги — просто страх, страх человека, которому нельзя позволить себе такую роскошь — бояться. А Эмилия глядела на него — не сердито, но с любопытством и некоторой долей презрения. Такое чувство испытывает человек, видя всю тщету и бесполезность усилий другого. И похоже было, еле удерживается, чтобы не рассмеяться.
— Право же, не верится…
— Да, это правда. Я стоял перед вашим домом сегодня ночью. Даже пытался вызывать вас…
— И вместо этого — туда?
— Побоялся разбудить Галину и Ядвигу.
— Надеюсь, вы просто дразните меня. Знаете же, как я доверчива. Меня легко обмануть.
— Нет. Нисколько не обманываю. Просто слыхал, как Ядвига рассказывала про него, и подумал, что это решило бы все наши проблемы. Но сдали нервы. Видно, такие дела не по мне…
Теперь взгляд Эмилии выражал раздражение и досаду.
— А сюда вы пришли, чтобы сделать это признание, так ведь?
— Вы же меня сами спросили.
— Что я спросила?.. Впрочем, это все равно… все равно… Если это не розыгрыш, можно только пожалеть. Нас обоих, и вас, и меня. Если же вы меня разыгрываете, презираю вас.
— Я пришел сюда не шутки шутить.
— Кто вас знает? Кто знает, что вы сделаете, что нет? Вас же нельзя воспринимать как нормального человека.
— Нет. Нельзя.
— Не так давно я читала про женщину, которая позволила соблазнить себя сумасшедшему.
— Это вы и есть.
Глаза Эмилии сузились:
— Штефан, мир праху его, тоже был психопат. Только в другом роде. Наверно, меня тянет к таким мужчинам.
— Не надо себя винить. Вы самая лучшая, самая благородная женщина, которую когда-либо я встречал.
— Кого это вы там встречали?.. Из голодранцев вышел, и сам голодранец. Прости за резкость, но это так. Некого мне винить, кроме себя. Действительно, вы ничего от меня не скрыли. В греческой трагедии есть такой персонаж — что-то вроде судьбы: фатум? — нет, как-то по-другому называется… Такая фигура: видит все, знает наперед, что случится с человеком, однако же вынуждена способствовать тому, что ссудил рок. Видит преисподнюю и все равно туда подталкивает.
— Вы еще не в преисподней.
— Ниже пасть невозможно. Если у вас осталась хоть капля человечности, избавьте меня от последнего позора. Уходите и никогда больше не приходите сюда. Я не собираюсь посылать за вами погоню. Пусть останутся хотя бы хорошие воспоминания.
— Простите.
— Не надо просить прощения. Вы сказали мне, что у вас есть жена. Не скрывали, что живете с Магдой. Говорили, что атеист, или же изображали это… Я все принимала. Так что мне теперь? Бояться вора? Забавно только, что из вас получился такой незадачливый вор. — У Эмилии вырвался короткий смешок.
— Остается только доказать, что я настоящий вор.
— Мне, видно, надо поблагодарить вас за это обещание. Не знаю только, что теперь скажу Галине. — Эмилия переменила тон. — Надеюсь, вы понимаете, что должны уйти. И никогда не возвращаться. И не писать тоже. Что же до меня — для меня вы умерли. Я, впрочем, тоже. Но и у мертвых есть свой последний приют.
— Хорошо. Ухожу. Можете быть уверены, что никогда больше… — Яша сделал движение подняться.
— Погодите минутку. Я же вижу, что вы даже встать не можете. Что же с вами такое? Растянули связки? Или сломали ногу?
— Что-то такое. Да.
— Что бы там ни было, вам не следует выступать в этом сезоне. Можете так остаться хромым на всю жизнь. Вам надо обратиться к Богу. Ведь он наказал вас прямо на месте преступления.
— Такой уж я неудачник. Шлимазл.
Эмилия закрыла лицо руками. Опустила голову. Казалось, она тщательно обдумывает что-то. Даже потерла пальцами лоб. Когда же отняла руки, Яша с изумлением увидел, как в эти несколько мгновений она переменилась, за несколько секунд постарела. Мешки под глазами. Растрепанные волосы. Морщины. Седина в волосах. Яша не мог поверить собственным глазам. Как в детской сказке, с нее спали колдовские чары, те, что оставляли ее вечно юной. Даже голос звучал тускло, невыразительно. Она взглянула на него с подозрением и, конфузясь, спросила:
— Почему там остался список с адресами? И почему там и мой адрес? Неужели же… — Эмилия не стала продолжать.
— Не оставлял я никаких адресов.
— Полицейский не выдумал же.
— Не знаю. Богом клянусь, не знаю.
— Не клянитесь Богом. Вы, конечно, могли составить список, и он выпал из кармана. Очень мило с вашей стороны, но лучше было не включать меня в этот список, — и она улыбнулась. Вымученная улыбка. Такая остается на лице после пережитой трагедии.
— Право же, это необъяснимо. Я начинаю сомневаться в собственном рассудке…
— Да, ведь вы больны.
И в это самое мгновение перед ним снова встало все, что произошло тогда. Он вырвал странички из записной книжки, сделал из них жгутик, с помощью которого пытался исследовать замочную скважину. Видимо, этот скрученный жгутик и остался там, а на нем записаны были адреса, в том числе и адрес Эмилии. Кто знает, какие там еще адреса? И в ту же секунду Яше пришло в голову, что там могли быть сведения и о нем самом! Адрес Вольского мог там быть. И адреса других импресарио, актеров, владельцев театров. Адреса фирм, от которых он получал снаряжение. Вполне вероятно, что там и его собственный адрес: ему нравилось развлекаться, записывая улицу и номер дома, а потом украшать их разными завитушками, хвостиками, фестончиками и цветочками. Страха не было, но внутри него что-то такое смеялось. Только первое его преступление — и вот уже он на себя донес… Видно, он из тех незадачливых воров, которые ничего не украдут, а наследят так, что полиции ничего не остается, как их арестовать. Настоящий шлимазл. И полиция, и суд беспощадны к этим неумехам. Яша вспомнил, что сказала Эмилия о тех, кто видит бездну, однако же падает в нее. Стыдно за свое ротозейство. Значит, нельзя появляться дома. Им ничего не стоит узнать адрес в Люблине. И нога эта еще…
— Ну что ж, — сказал Яша. — Не буду больше обременять вас. Все кончено между нами. — И он поднялся.
Эмилия тоже встала.
— Куда же вы? Куда бежите? Вы же никого не убили…
— Простите, если сможете. — И Яша заковылял к двери.
Эмилия тоже сделала движение, будто собираясь преградить путь.
— Как бы там ни было, обязательно пойдите к доктору.
— Да, конечно. Спасибо.
Показалось, Эмилия хочет что-то сказать еще, но он прошел в прихожую, взял пальто и шляпу, тут же вышел. Эмилия крикнула что-то вдогонку, но Яша бежал уже по лестнице, волоча за собой бедную свою больную ногу.
Глава восьмая
1
В подворотне Яша на минутку остановился и помедлил. А что, если агент полиции ждет его там, снаружи? Вспомнил про отмычку. Нет, она не в этом пиджаке. В том, что надевал накануне. А если обыск уже был? Тогда ее, конечно, нашли. Ну, все едино! Завтра меня посадят! Во всех газетах про меня напишут! Что скажет Эстер, когда узнает, что муж ее — вор? Ну, а эти маравихеры из Пяска будут в восторге: то-то посмеются! А Герман? Зевтл? Магда? И этот братец, Болек? А что будет с Вольским? Со всей этой бандой в «Альгамбре»? Как бы там ни было, меня поместят в тюремную больницу, с ногой… Яша, конечно, сбежал по лестнице, но сейчас почувствовал, как нога распухает, ее просто разносит, она давит ботинок. «Ну, что же, — сказал он себе, — Эмилию я уже потерял». Вышел из подворотни. Ни городового, ни сыщика там не было. Никто его не ждал. Может, засада устроена на той стороне? Яша прикинул, не пойти ли через Саксонский сад, но не стал этого делать: если Эмилия глядит в окно, может его увидеть. Пошел в направлении Граничной, снова вышел на Навозную. В окошке у часовщика увидал, что сейчас только без десяти четыре. Господи Боже, Отец небесный, как долог этот день! Кажется, будто год прошел… Он почувствовал, что ему необходимо присесть и передохнуть. Тут где-то должна быть синагога. Бейт-мидраш. И действительно, вот и двор. Он завернул туда. Что это стряслось со мною? — удивлялся, прямо-таки изумлялся Яша. Неожиданно для себя я стал настоящим правоверным евреем!.. В синагоге вечерняя служба шла полным ходом. Какой-то литвак громко распевал Восемнадцать Благословений. Молящиеся были в коротких пиджаках, в модных шляпах. Яша улыбнулся. Сам он родом из польских евреев, из хасидов. Там, в Люблине, почти нет литваков, а в Варшаве их великое множество. Они иначе одеваются, иначе говорят, иначе молятся. Стоял знойный летний день, но от синагоги тянуло прохладой. Ее не могли растопить жаркие лучи летнего солнца. Он услышал, как выпевает кантор: «… и в Иерусалим, город твой, по милосердию Своему возвратись, и обитай в нем, как обещал Ты…» Вот как? Они все еще хотят вернуться в Иерусалим? — подумал Яша. С самого детства он привык смотреть на литваков как на полуевреев, какую-то чужеродную секту. С трудом понимал их идиш. Среди молящихся он заметил несколько гладковыбритых мужчин. Разве это дело? Сначала бреются, потом молиться идут. Может, они ножницами пользуются? Это считается меньший грех… Но если уж веришь в Бога и Тору, то к чему компромиссы? Если Бог существует и заповеди Его непреложны, то соблюдать их надо везде и всегда: и днем, и ночью… Как вообще жить в этом мире, который так низко пал? Яша направился в бейт-мидраш. Там было полно народу. Все столики заняты. Евреи сидели над Талмудом. Сквозь окна проникало солнце, и в его лучах плясали косые столбы пыли. Юноши с закрученными пейсами невероятной длины сидели над Талмудом, раскачивались, распевали, выкрикивали что-то, размахивали руками, тыкали друг в друга пальцами. Один гримасничал так, будто у него где-то болит, другой грозит пальцем, третий крутит цицес. Грязные рубашки, расстегнутые воротнички… Несмотря на молодость, некоторые уже без зубов. У одного борода росла черными клоками: клок здесь, пучок там. А у другого — человечка маленького роста — борода рыжая, как огонь. Голова обрита, а из-под ермолки свешиваются рыжие пейсы, как косички, такие длинные… Ему кричали: «Запрашивают пшеницу, а он предлагает ячмень!» Как может Бог желать такого? Все эти дела… с пшеницей и ячменем… Все их познания касаются только торговли… Ему припомнилось, что кричат антисемиты: Талмуд ихний только учит евреев, как нас обмануть! Небось, у этого парня есть маленькая лавчонка. А если и нет, то вот-вот будет. Яша приглядел кусочек лавки у полок с книгами. Так хорошо было присесть. Закрыл глаза и вслушивался в чтение свитка. Детские и молодые голоса смешивались с хрипловатыми, дребезжащими звуками старческого голоса. Слышались выкрики, бормотание, пение, четко звучали лишь отдельные слова. Яше вспомнилось, как однажды, немного выпив, Вольский говорил ему, что он, Вольский, конечно же, не антисемит, но все же еврей в Польше устраивает Багдад посреди Европы. Даже китайцы или арабы, так выходило у Вольского, цивилизованные люди в сравнении с евреем. А с другой стороны, те евреи, которые бреют бороды и носят короткое платье, — эти евреи полны рвения русифицировать Польшу или же становятся революционерами. Почти все они и эксплуатируют, и баламутят рабочий класс, и притом одновременно и то, и другое. Они радикалы, франкмасоны, атеисты, интернационалисты, стремятся все захватить и надо всем господствовать… все осквернить…
Теперь вокруг Яши все стихло. Он для них — один из этих бритых евреев, но и они казались Яше весьма далекими от благочестия. С детства он рос в окружении набожных людей, правоверных евреев. Даже Эстер хранила еврейский уклад, соблюдала кошер. Такой образ жизни выглядит, возможно, слишком уж азиатским, как заявляют просвещенные евреи — «маскилим»[43], но во всяком случае, у этих людей есть вера, есть духовное отечество, есть история, есть надежда. В добавление к законам у них есть еще хасидская литература, они изучают книги по этике. А что имеют ассимилянты? Ничего своего. Одни говорят по-польски, другие — по-русски, третьи — по-немецки, по-французски. Сидят в кафе у Лурса, или у Семадени, или в «Страсбурге»… Пьют кофе, курят папиросы, читают разные газеты и журналы, пересказывают остроты, смеются над ними — особенным смехом, который Яша всегда находил неприятным. Их занимает политика, все — то они затевают революции и забастовки, а жертвами их бурной деятельности всегда, в конце концов, оказываются бедные евреи, их собственные братья… Что же до женщин, они всегда появляются на людях в мехах, в бриллиантах, в шляпах со страусовыми перьями, вызывая зависть и ненависть христиан…
Это было так странно: как только Яша оказался здесь, у стены, он успокоился, стал размышлять о душе, о жизни. Это правда, он очень далек от благочестия, однако же не перешел в лагерь ассимилянтов. Потерял все: Эмилию, удачу, здоровье, дом. Вновь звучали в нем слова Эмилии: «Должно быть, у вас с Богом есть договор, раз он наказывает вас столь быстро…» Да, на небе не спускают с него глаз. Возможно, потому, что он никогда не терял веру. Но чего же от него хотят? Лишь сегодня утром, когда молился, понял: ему следует стать евреем, как был евреем отец, а до этого — дед. Теперь же его вновь одолевали сомнения. Ну к чему Богу все эти капоты, пейсы, все эти ермолки, пояса, кисточки? Все эти поколения евреев, до хрипоты спорящих над Талмудом? Зачем еврею накладывать на себя столько ограничений? Зачем им так долго ждать Мессию — им, которые ждут уже две тысячи лет? Бог един, но люди различны. И разве можно служить Богу, не имея догматов? Как ему, Яше, справиться с этой катастрофой? Как найти выход? Конечно, он больше не станет впутываться в любовные дела и разные другие аферы, если наденет талес, будет накладывать филактерии и молиться трижды на дню. Религия — это как армия: чтобы проделывать все это, требуется дисциплина. Отвлеченная вера неминуемо ведет к греху… Бейт-мидраш — это как казарма, где муштруют солдат Божьих…
Больше Яша не мог здесь оставаться. Его лихорадило, и одновременно бил озноб. Конечно, у него жар. Решено: он пойдет домой. Пускай арестовывают, если им так хочется. Он уже примирился: надо испить чашу до дна…
Прежде чем уйти, Яша взял с полки книгу — наугад: так делал его отец, если надо было принять какое-то решение, а он не знал, что делать. Это была книга реб Лейба Прагера «Пути вечности». На правой стороне он прочел стих из Писания: «И закрыл он глаза, чтобы не видеть зло», с талмудическим комментарием: «Так мужчина не смотрит на женщин, когда они моются». Старательно, с трудом переводил Яша древние слова. Со святого языка — на идиш. Теперь он понимал, о чем это: «…закрывают глаза, чтобы не видеть дурного… Не глядит на женщин, когда они стирают и моются…» Должна быть дисциплина, во всем порядок. Если человек не смотрит, не возникает желания, он не совершает греха. Если же он нарушает дисциплину и смотрит, то кончит нарушением седьмой заповеди. Он раскрыл книгу и обнаружил текст, касающийся проблемы, которая единственно занимала его ум и была превыше всего в данную минуту.
Яша поставил книгу на место. Потом снова достал ее и поцеловал. Книга эта, по крайней мере, чего-то требует от него, указывает способ действий, хотя это будет, ох, как трудно. Но светская литература — вся! — вообще ничего не требует. Авторам даже нравится, что их герой может убить, украсть, соблазнить женщину, может истреблять себе подобных, может совершить самоубийство. Он встречал этих литераторов в кофейнях, в театре, в кондитерских: целуют дамам ручки, говорят комплименты, всем вместе и каждому в отдельности. Постоянно воюют с издателями и критиками.
Яша кликнул дрожки и приказал кучеру ехать на Фрету. Понимал, что Магда устроит сцену, но в уме повторял и повторял слова, которые ей сейчас скажет: «Магда, дорогая, я умер. Возьми все, чем я владею: золотые часы, кольцо с бриллиантом, пару рублей, что я имею, и ступай домой. И прости, если можешь».
2
В дрожках Яшу вдруг обуял такой страх, которого он не испытывал никогда в жизни. Чего-то он боялся — а чего, и сам не понимал. Стояла страшная жара, а ему, Яше, было холодно. Его прямо-таки трясло. Пальцы побелели и сморщились. Кончики пальцев приобрели восковую белизну, как это бывает у смертельно больного или же у покойника. Будто какой-то гигантский кулак сдавил сердце. Что со мною? — недоумевал Яша. Болен я, что ли? Или уже настал мой последний час? Так боюсь ареста? Тоскую по Эмилии? Его по-прежнему трясло, стучали зубы. Одна нога заледенела, другая горела огнем. Он едва мог дышать. Им овладело отчаяние до такой степени, что он даже принялся сам себя утешать: уговаривать, что еще не все потеряно. Не так уж все плохо! — говорил он себе. Можно прожить без ноги… Может, еще поправится… Вылечат его… А если меня арестуют, сколько придется сидеть? В конце концов, я же никого не ограбил, была только попытка ограбления… Он откинулся на спинку сиденья. Хотел было поднять воротник, чтобы согреться, но было неловко делать это в такой жаркий летний день. Может, у меня гангрена? — предположил он. А иначе что со мной такое?.. Хотел распустить шнурки, наклонился, но чуть было не свалился с сиденья. Извозчик, похоже, догадался, что с седоком неладно, постоянно оборачивался. Яша обратил внимание, что и прохожие на него смотрят. Некоторые даже останавливались и пялили глаза. Кучер опять повернул голову:
— Что с вами? Может, остановимся?
— Нет, поезжай дальше.
— Заедем в аптеку или как?
— Нет, спасибо. Не нужно.
Дрожки больше стояли, чем двигались, зажатые между подвод, груженых бревнами, малоповоротливых фургонов с мебелью, телег, груженых мешками с мукой. Ломовые лошади цокали тяжелыми копытами по булыжной мостовой. Летели искры. Одна из лошадей упала прямо на мостовой. Уже в третий раз за этот долгий день проезжает Яша мимо банка на Рымарской. На сей раз он даже и не взглянул на него. Не интересовали его теперь ни банки, ни деньги. Не только страх владел им теперь. Пришло омерзение к самому себе. Да такое сильное, до тошноты. Может, что-то случилось с Эстер? — вдруг пришло в голову. Припомнился недавний сон, но лишь начал он принимать определенные очертания, как тут же выскользнул из памяти, не оставив следа. Что бы это могло быть? Зверь? Стих из Писания? Покойник? Временами его мучили ночные кошмары. Снились похороны, ведьмы, чудовища, снились больные проказой. Он просыпался в поту. Но несколько последних недель вообще ничего не снилось. Так уставал, что сразу как будто проваливался. Несколько раз даже просыпался в том же положении, в каком заснул. И в то же время знал, что ночи не проходят без снов. Уснув, он вел другую жизнь, иное существование. Иногда он пытался припомнить какой-нибудь сон: летал ли он, или же во сне происходило еще что-то противоестественное, что-то по-ребячьи необычное, странное, основанное на детских недоразумениях или даже на словесных оговорках, на грамматических ошибках. Сны бывали так фантастичны, так абсурдны, что мозг не в состоянии был переварить все это, когда Яша бодрствовал. Припомнив сон, его следовало немедленно забыть.
Как только Яша ступил на тротуар, он вдруг успокоился. Медленно подымался по ступенькам, держась за перила. Ключа с собой не было, отмычки тоже. Если Магды нет, придется ждать на площадке. Впрочем, у дворника, у Антона ключ есть. Стучать Яша не стал. Сперва прислушался. Ни звука. Постучал, потом еще раз, еще и еще… Не сразу, но все же нажал ручку, и дверь распахнулась. Вошел в прихожую, и глазам его представилась жуткая картина. С потолка свисала Магда, а под нею валялся перевернутый стул. Что она мертва, Яша понял сразу. Он не закричал, не бросился резать веревку. Только стоял и смотрел. На ней была лишь нижняя юбка. Ноги уже посинели. Лица не видно, пряди волос свисают до самой шеи. Она выглядела, как огромная кукла. Надо было подойти и снять ее, перерезать веревку, но у Яши не хватало сил сдвинуться с места. Где нож? Надо звать на помощь, ясное дело. Да совестно выйти к соседям. В конце концов, Яша все же распахнул дверь и крикнул:
— Люди! На помощь!..
Но крикнул недостаточно громко, и никто не откликнулся. Пытался повысить голос, ничего не вышло. Он с трудом справился с собой — возникло детское желание сбежать, но нельзя же этого делать. Все же он открыл дверь в соседнюю квартиру и позвал:
— Помогите! Беда случилась!..
В квартире толклись босые, полуголые ребятишки. В кухне стояла плотная, приземистая женщина с крашеными волосами, по-видимому, полька. Она повернула к нему лицо, мокрое от слез, — женщина как раз чистила лук. Увидав Яшу, спросила:
— Что там случилось у вас? В чем дело?
— Идемте! Мне надо помочь! Магда!.. — и не смог продолжать.
Женщина пошла с ним. Увидав, зарыдала. Вцепилась ему в плечо:
— Отрежьте! Отрежьте немедленно!.. — требовала она.
Яша хотел сделать, как она велит, но женщина не отпускала его, вопила в ухо, а в руках все еще держала лук и нож. Чуть Яше ухо не отрезала. Сбежались и другие жильцы. Яша только смотрел: один из них нащупал веревку, распустил петлю, снял Магду, освободил голову. Сам же стоял не шевелясь. Теперь все хлопотали, пытались привести ее в чувство: поднимали и опускали руки, брызгали в лицо водой. Людей прибавлялось с каждой минутой. Пришел дворник с дворничихой. Кто-то сбегал за полицией. Яша не видел лица Магды, только остывшее тело, которое не отзывалось на попытки оживить его. Женщина щипала ей щеки, потом перекрестила. Две старухи, две старые карги, стояли, сцепившись руками, будто молчаливо сговариваясь о чем-то. Только сейчас до Яши дошло, что из соседней комнаты не доносится ни звука. Он прошел туда: все трое были мертвы. Видно, Магда их и придушила. Обезьянка лежала с открытыми глазами. Ворона, запертая в клетке, выглядела как набитое чучело. Попугай валялся поодаль, на клюве — капелька крови. Зачем она это сделала? Конечно, чтобы они не кричали. Яша поймал кого-то за рукав, чтобы показать, что случилось. Полиция уже была в квартире. Полицейский стал составлять протокол и записывать все, что рассказывал ему Яша.
Пришел еще полицейский. Потом доктор, чиновник в штатском платье. Яша думал, его сразу арестуют. Даже хотелось, чтобы его забрали в тюрьму. Но чиновник ушел, предупредив лишь, чтобы до трупа никто не дотрагивался. Ушло и остальное начальство. Соседи разошлись по своим делам: один — бондарь, другой — холодный сапожник. Остались только две женщины: та, коренастая, которая чистила лук, и седая страшная старуха, лицо безобразное, все в морщинах и бородавках. Покойницу уложили на одну из кроватей, и теперь коренастая обернулась к Яше:
— Надо унести ее… Она же католичка…
— Делайте, что нужно…
— Надо известить приход… Кацапы захотят сделать вскрытие…
Наконец все ушли, Яша остался один. Хотелось пойти к Магде в спальню, но было страшно — вернулись детские страхи перед мертвецами. Хотелось открыть окно, чтобы как-то соприкоснуться с улицей. Оставил открытой и входную дверь, выходящую на лестницу. Не смел снова взглянуть на своих любимцев, хотя очень хотелось. Их молчания он тоже боялся. Безмолвие смерти висело над ним — молчание, полное невысказанных стонов. В коридоре что-то тихо шуршало и шевелилось, слышались приглушенные голоса. Яша стоял у окна и глядел на бледное голубое небо, на порхающих, щебечущих птичек. Вдруг послышалась музыка. Бродячий музыкант зашел во двор. Он заиграл старинную польскую мелодию — печальную песню о девушке, которую покинул любимый. Играла шарманка, дети бежали за шарманщиком, и, странное дело, Яша был благодарен ему. Эта мелодия нарушила безмолвие смерти. Пока тот играл, Яша мог смотреть на Магду.
Все же он не подошел к кровати, остался стоять у дверного косяка. Женщины прикрыли платком лицо покойницы. Поколебавшись, Яша подошел и откинул платок. Это была не Магда. Что-то безжизненное, воск или парафин: нос, рот — неузнаваемые черты лица. Только высокие скулы выдавали сходство. Уши окостенели, веки сморщились, будто глазные яблоки под ними уже провалились. На шее — багрово-синий след от веревки. Губы сжаты в молчании — и все же она кричит!.. Этот смертный крик невозможно вынести. Распухший, потрескавшийся рот, казалось, взывает: «Погляди, погляди теперь, что ты со мной сделал! Смотри же! Смотри!» Яша хотел прикрыть лицо, но не мог двинуть рукой. Это, конечно, была та же Магда, что ссорилась с ним сегодня поутру, та, которая принесла ему воды с колонки. Но это была уже иная Магда — ее надо было просить о прощении и снисхождении. Она, лежащая здесь, на этом ложе, уже ушла в вечность, отрезав от себя добро и зло этого мира. Перешла через бездну, и нет ей пути назад. Яша потрогал лоб покойной. Не ощутил ни холода, ни тепла. Это было вне ощущения температуры. Приподнял веко. По зрачку могло показаться, что она еще жива. Но взгляд обращен в никуда, даже не внутрь себя.
3
Прибыл катафалк. Магду забрали. Дюжий малый в синем фартуке и дерматиновом картузе, едва прикрывающем копну соломенных волос, взял ее одной рукой, как цыпленка, бросил на носилки, прикрыл кулем из рогожи. Он что-то крикнул Яше и протянул свидетельство. Ему помогал маленький человечек с закрученными усиками, который, похоже, был чем-то не доволен. От помощника этого разило водочным перегаром, и Яше пришла в голову мысль о выпивке. Боль и страх стали непереносимы. Он стоял и слушал, как мужчины спускаются по лестнице. За дверью перешептывались. Вообще-то обычно родственники прятали труп, стараясь избежать вскрытия. Конечно, Яше тоже следовало договориться с ксендзом, но все произошло слишком быстро. Он только прособирался и ничего не сделал. Ясное дело, соседи осуждают его, поражаются такому странному поведению. Он даже не проводил тело к похоронным дрогам. Ребяческая застенчивость сковала его. Если б не надо было появляться на людях, ушел бы. А пока ждал, чтобы люди разошлись. В квартире стало совсем темно. Яша стоял, смотрел на контур дверной задвижки, чувствуя, как его окружает, как к нему подбирается сверхъестественное. Позади, в тишине, что-то шелестело, пофыркивало. Страшно повернуть голову. Причудливые, странные тени подкрадывались, готовясь прыгнуть, вцепиться клыками, когтями, зубами, — что-то чудовищное и не имеющее названия. К такому он привык с детства. Детские ночные кошмары снова вернулись к нему. Это, конечно же, плод ночного воображения, уверял он себя, но трудно было отрицать их присутствие. Больше нескольких секунд такое невозможно вынести.
Снаружи стало тихо, и Яша ринулся к двери. Попытался потянуть дверь на себя, но она не поддавалась. Меня не выпускают? Заперли? — ужаснулся он. Нажал на ручку, и дверь распахнулась, будто от порыва ветра. Во мраке метнулась какая-то тень: Яша чуть было не прибил кошку. Его прошиб пот. Захлопнув за собой дверь, Яша стремительно бросился по ступенькам — как гнались за ним. Увидав дворника, стоящего в одиночестве посреди пустынного двора, Яша постарался переждать, пока тот уйдет к себе в каморку. Сердце уже не колотилось так сильно, только билось неровными толчками. А голова трещала, будто иголки в череп вонзились. По спине бегали мурашки. Ужас отступил. Но Яша знал уже, что сюда он никогда не вернется…
Дворник запер за ним ворота, и Яша вприпрыжку выбежал на улицу. Опять возникла резкая боль в ноге. Он шел, держась близ стен, иногда опираясь рукой. Больше всего сейчас хотелось стать невидимым или, по крайней мере, не сознавать, что на него смотрят. Дошел до Францисканской и быстренько свернул за угол — как мальчишка, сбежавший из хедера. События последних суток похоже, снова сделали его ребенком; превратили в испуганного, всегда виноватого школьника, мучимого страхами, о которых невозможно никому рассказать, и трудностями, которые никто не в состоянии понять — никто другой, кроме него, иначе просто примут за сумасшедшего. Притом он понимал, как взрослый здравомыслящий человек, что сон есть лишь сон и не имеет отношения к реальности.
Напиться, что ли? Есть тут где-нибудь шинок поблизости? На Фрете их много, но там его каждая собака знает. А на Францисканской живут одни евреи, негде выпить… Какая-то забегаловка есть на Буге, смутно припоминал Яша, но как туда попадешь, не пересекая опять Фрету? Пошел по Новинярской, вышел на улицу, которая называлась Болешчь. Так надо бы назвать все эти улицы, пришло ему в голову. Весь белый свет одно непереносимое страдание… Яша опять шел по Буге — уже в обратном направлении. Вечер еще не наступил, а проститутки уже торчали у фонарных столбов. Никто не обратил на него ни малейшего внимания, никто ни разу не окликнул. Неужели я так отвратителен, что даже эти мной не интересуются? Навстречу шел высоченный малый, видимо, поляк, в голубой кепке, клетчатом пиджаке, коротких сапожках с широкими голенищами. Узкое застывшее лицо, будто обглоданное, а на месте носа — кусок пластыря, перевязанный шнурком. Крошечного роста проститутка, едва достававшая ему до груди, подошла и увела парня. На вид ей никак не дашь больше семнадцати. Чего ты испугался? — спрашивал его какой-то голос изнутри. Сифилиса?
Яша добрался до Буги, но трактира, о котором он помнил, не было. Что же теперь делать? Можно бы спросить у прохожих, но Яша стеснялся. Что им до меня? Чего я боюсь? Как козел в капусте!.. И продолжал искать трактир. Это где-то здесь, только в руки не дается. Он так беспокоился, чтобы его никто не увидал, что все теперь на него глядели: и уличные зеваки, и девки эти… даже старики какие-то… Откуда они меня знают? Может, бывали в «Альгамбре»? Не может быть… Шепчутся за спиной, смеются в лицо… Какая-то собачонка залаяла и цапнула его за штаны. Совестно убегать от этой шавки. Но собачонка так разъярилась, так визжала, так лаяла — будто это настоящий пес. Дьявол одерживал верх над Яшей. Но, конечно, ему этого было мало. Он добавлял ему пакость за пакостью. И вдруг Яша увидал трактир. Прямо перед собой. И все вокруг рассмеялись — словно это был общий розыгрыш.
Теперь Яше уже не хотелось туда, но нельзя же вот так просто повернуться и уйти. Приходится сдаваться… Он поднялся на три ступеньки, открыл дверь, и в лицо ударил поток спертого воздуха. Резкий запах водки и пива, смешанный с чем-то еще, наверно, горелого масла и чего-то тухлого… Кто-то играл на гармошке, вокруг мельтешили люди, раскачивались, хлопали в ладоши, приплясывали. Видно, собралась родня. Глаза у Яши заслезились, и некоторое время он вообще ничего не видел. Попытался найти столик. Не было ни столика, ни лавок… Слепота… Ни взад, ни вперед. Он как в западне. Желание выпить превратилось в свою противоположность: он уже думал о выпивке с отвращением. Каким-то чудом перед ним возникла буфетная стойка. Да не пробиться к буфетчику через толпу жаждущих выпить. Яша сунул руку в карман брюк за платком, но не нашел его. Со лба стекали крупные капли пота. Подступила тошнота. Вновь заплясали перед глазами огненные точки: две огромные вспышки, как два пылающих угля.
— Эй, вы! Чего хотите? — спросил его кто-то.
— Я? — переспросил Яша.
— Да, вы, а кто же?
— Может, можно получить стакан чаю? — сказал он, удивленный собственными словами. Тот поколебался.
— Это трактир, а не чайная!
— Тогда, должно быть, водки…
— Стакан? Бутылку?
— Бутылку.
— Четвертинку? Шкалик?
— Шкалик.
— Сороковку? Или шестидесятиградусной?
— Давай.
Чудно все это выглядело, но никто не засмеялся.
— Эй, и чего-нибудь на закуску?
— Да надо бы.
— Соленые сушки?
— Да, соленые сушки. Пойдет.
— Вам бы присесть хорошо куда-нибудь. Я мигом принесу.
— Да негде тут сесть.
— Вон там, у стола.
Теперь и Яша увидал стол.
Это было как на сеансе гипноза. Яша читал про такое в журналах.
4
Только теперь, сидя за столом, Яша понял, до чего же он устал. Дольше терпеть невозможно: надо снять ботинок. Сунул руку под стол и попытался расшнуровать его. Припомнил строку из Писания: «И вот я умираю. Что проку мне теперь в моем первородстве?» Неожиданно страхи, беспокойство, смущение оставили его. Неважно стало, разглядывает ли его кто-нибудь, смеется ли над ним. Никак не получалось развязать шнурок, он потянул сильнее, шнурок порвался. Снял ботинок. Нога пылала, как в лихорадке. Да, это начинается гангрена! Конечно же, гангрена! Уже недолго осталось, и я к ней присоединюсь! Нога его, он это чувствовал, раздувалась, как то тесто, о котором вчера рассказывал парикмахер. Кстати, когда они тут закрываются? Не слишком ли рано?..
Хотелось только одного: сидеть и не двигаться, дать ноге покой. Он прикрыл глаза и погрузился в размышления.
Где-то теперь Магда? Что с ней делают? Должно быть, разрезали. Студенты учатся анатомии. Навалилась страшная тяжесть. Бремя ужаса нависло над ним. Что скажет ее мать? А брат? Так много всего сразу! Такая жуткая кара!..
Кто-то принес шкалик, стопку и корзиночку с солеными сушками. Яша налил, до половины и выпил залпом, как лекарство. Защипало в носу, в горле, на глазах выступили слезы. Может, растереть водкой ногу? — пришло Яше в голову. Спирт в таком деле помогает… Он вылил на ладонь немного водки и растер лодыжку. Помогает или нет, все равно уже слишком поздно! Налил еще стопку и выпил. Водка ударила в голову, но лучше не стало. Ему представлялось: голова Магды отрезана от тела, живот распорот. А всего лишь несколько часов назад она принесла с базара цыплят, собиралась готовить обед. Зачем она это сделала? Почему? Почему? — взывал, вопрошал его внутренний голос. Он и прежде уходил. Она знала все его тайны, была снисходительна к нему. Это просто невероятно, что еще вчера он был в полном здравии, планировал репетиции, сальто на проволоке, и у него была Магда, была Эмилия. Несчастье настигло его, как Иова. Один неверный шаг, одна ошибка, и он потерял все… все… все…
Теперь ему одна дорога — самое время заглянуть, посмотреть, что там, по ту сторону занавеса. Но как? Броситься в Вислу? Это нельзя из-за Эстер. Нельзя, чтобы она осталась агуной — по крайней мере, надо устроить так, чтобы она снова смогла выйти замуж. Сделать то же, что и Магда? Яша едва удерживался — его снова чуть не вывернуло наизнанку… Да, пора умирать. Он уже один из таких, кого жизнь швыряет, преследует…
Взял в руки бутылку. Подержал. Но пить больше уже не мог. Сидел здесь, как слепой, но с открытыми глазами. Гармоника продолжала играть. Яша узнал старую польскую мазурку. Играла снова и снова. В трактире стало еще более людно и шумно. Яша твердо решил умереть. Но эту ночь надо же было где-то провести. Куда пойдешь с больной ногой? И надо еще кое-что обдумать. Вот если бы днем… А так скоро все и везде закроется. Гостиница? Но какая? И как добраться до гостиницы в таком состоянии? Вряд ли удастся найти дрожки тут, поблизости. Он хотел надеть ботинок, но это не удавалось. Пошарил ногой под столом — ботинка не было. Уже украли? Кто мог взять? Он поднял глаза: вокруг пьяные, разгоряченные лица, налитые кровью, дикие глаза. Одни махали руками, другие что-то выплясывали, кружились в танце, то ли веселясь, то ли примериваясь, не вступить ли в драку. Третьи целовались, обнимались… Приходили и уходили неопрятные подавальщицы в грязных передниках, разносили водку и закуску. А гармоника все играла, гармонист — черноволосый, с тонкими усиками — сидел, едва притрагиваясь к инструменту, полузакрыв глаза, с отрешенным взором. Он почти склонился до пола, посыпанного речным песком. Видно, в трактире было еще одно помещение. Оттуда доносились звуки фортепьяно. Колеблющееся пламя керосиновой лампы давало неверный свет. Напротив Яши сидел дюжий малый, рябой, весь в прыщах, с низко срезанным лбом и длинными усами. Сидел и передразнивал Яшу. Глаза бегали по сторонам, водянистые, косые глаза. Парень был в каком-то исступлении, на грани сумасшествия.
Наконец Яша нашарил ботинок и попытался надеть. Никак не получалось. Припомнилась история про императора Нерона, слышанная еще в хедере: как тот, узнав о смерти отца, сразу же решил, что теперь ботинки на него не налезут — малы! Как это там сказано: «От добрых вестей на костях сразу нарастает мясо». Все это так далеко: меламед Моше Годл, мальчишки в хедере, Гемара, текст, повествующий о разрушении Храма, день Девятого Ава, и эта история, которую перед тем читали… Но не сидеть же здесь до самого закрытия! Надо встать и уйти!
Он все же всунул ногу в ботинок, но не стал зашнуровывать. Попытался обратить на себя внимание, постучав стаканом по бутылке. Какой-то огромный детина погрозил Яше пальцем, рассмеялся, и Яша увидел его щербатый рот. Казалось, и этот человек, и Яша — участники грандиозного действа… Для чего живет этот тип? Он пьяница? Есть ли у него хоть какие-то мысли? Есть ли хоть кто-нибудь в целом свете? Ремесло в руках? Может, с ним случилось то же, что и со мной? Он так хохотал, что из глаз лились слезы, И сами глаза превратились в щелочки… А все же, наверно, он чей-то муж, отец, сын, брат… Дикий взгляд — он, конечно, не еврей. Он из тех девственных лесов, где зарождалось человечество… Такой и умрет, смеясь, пришло Яше в голову. Наконец подошел половой. Расплатившись, Яша поднялся. Он едва мог ступать. Каждый шаг вызывал непереносимую боль.
Было довольно поздно, но на Буге — полно народу. На ступенях, на табуретках, на ящиках сидели и судачили женщины. Холодные сапожники вынесли на улицу скамейки и сидели, работали: постукивали молоточками при свете свечей. Даже дети еще не спали. С Вислы дул теплый ветерок. Вонь подымалась из сточных канав. Над крышами светилось небо, будто отражение каких-то дальних огней. Яша попытался взять дрожки, но вскоре понял, что так можно прождать всю ночь. Пошел по Дзельной, по Швентоерской, вышел на Замковую площадь. За один раз мог сделать лишь несколько шагов. Все время приходилось отдыхать. Его тошнило, лихорадило. В каждой подворотне, у каждого столба — стайки проституток. Все вертелось в пьяном водовороте, собираясь упасть прямо на него, Яшу. Под балконом, у раскрытой двери, сидела женщина. Волосы растрепаны, а глаза горят — в каком-то радостном безумии. В руках сжимала корзинку с тряпками. Яша нагнулся. Его вытошнило, и во рту осталась невероятная горечь. Да, теперь я знаю, каков этот мир! В каждом втором или третьем доме — по трупу. Всякий сброд слоняется по улицам, спит на лавках, на набережной, прямо в грязи. А сам город — в окружении кладбищ, тюрем, больниц, сумасшедших домов. По каждой улице шныряют убийцы, воры, дегенераты. И все это — на виду у полиции.
Яша увидал дрожки и махнул рукой. Но кучер поглядел на него и проехал мимо. Снова появились дрожки, и опять не остановились. Только третий извозчик остановился, хотя как-то нерешительно. Яша взобрался на сиденье.
— Отвезешь в гостиницу?
— В какую?
— Да в любую. Все равно. В гостиницу.
— В «Краковскую»?
— Пусть будет «Краковская».
Кучер щелкнул, и дрожки покатили: вниз по Подвальной, на Медовую, Новосенаторскую. На Театральной площади еще толпился народ, стояли экипажи. По-видимому, в Опере давали премьеру. Мужчины что-то выкрикивали, женщины смеялись. Никто из этих людей и понятия не имел, что некая женщина, которая звалась Магдой, сегодня повесилась, а кунцнмахер из Люблина испытывает непереносимые физические и душевные муки. Веселье и смех будут продолжаться, пока все они не обратятся в прах, размышлял Яша. Надо же, дни и ночи напролет я только и думал, как мне позабавить этот сброд! Чтобы сорвать у них аплодисменты — у этих, что и на могилах танцевать будут!.. Из-за этого чуть было не стал вором! Чуть не убил человека…
Дрожки остановились у «Краковской». И в то же мгновение Яша понял, что приехал сюда напрасно, — у него не было с собою не только паспорта, но и вообще никаких документов.
5
Яша расплатился с кучером и велел ждать. Попытался уговорить клерка, который сидел за конторкой, все же дать ему комнату. Но малюсенького роста портье отказал категорически. Был тверд, как кремень:
— Ничего не могу сделать. Без паспорта строго запрещено.
— А что делать, если человек потеряет паспорт? Умереть, что ли?
Тот, за конторкой, пожал плечами:
— Мы исполняем распоряжение.
«Все эти распоряжения неизвестно для кого написаны», — всплыло вдруг в памяти. Так приговаривал отец, нарушая русские законы.
Яша вышел из гостиницы ровно в тот момент, когда дрожки тронулись с места и покатили прочь. Дрожки увели прямо из-под носа. Яша присел на парадном соседнего дома. Вот уже вторую ночь он болтается неизвестно где. Как это все быстро происходит, подумал Яша, может, завтра в это время уже буду лежать в могиле. Здесь тоже фланировали проститутки. Мимо Яши прошла одна — в черном, с длинными болтающимися сережками. Выглядела, как средних лет мать семейства. Но взгляд, который она на него бросила… Несомненно, это проститутка. Это одна из тех, незарегистрированных, что предлагают себя по подворотням да в подъездах, на лестницах. Глядела на него, как гипнотизировала, — прямо-таки пригвоздила его к месту своим пристальным умоляющим взглядом. Казалось, она говорит ему: вот, мы оба попали в переплет, почему бы нам не быть вместе? При желтом свете уличного фонаря отчетливо обозначились морщины на лице, на лбу, румяна на щеках, накрашенные ресницы, мешки под глазами. Не было сил даже посочувствовать — все, что он испытывал, это любопытство и удивление. Что за силы управляют человеком? — размышлял Яша. Развлекаются, будто человек — это игрушка, а потом отбрасывают его прочь, как падаль, как ненужную требуху. Как понять то, что с ним случилось? А эта женщина? Почему она здесь? Чем она хуже тех, избалованных дам, что сидят в ложе, в опере и сквозь лорнет рассматривают публику внизу? Все только случай?.. Но если так, то и Бог — случайность? А что такое случайность? Вселенная — случайность? А если ж это не так, может ли частичка вселенной быть случайной?..
Яша увидел дрожки и подозвал, махнув рукой. Дрожки остановились. Яша взобрался. Женщина через дорогу глядела с упреком. Казалось, глаза ее говорят: «Ну, зачем ты меня бросил?» Извозчик обернулся, ожидая приказаний, но Яша никак не мог придумать, что бы приказать ему. Хотел было поехать в больницу, но вдруг услыхал с удивлением собственный голос:
— На Низкую.
— Какой номер?
— Номер не помню. Я покажу. Недалеко от Смочи.
— Ну…
Конечно, это чистое безумие — ехать к желтоволосой и ее брату — своднику из Буэнос-Айреса, но выбора не было. У Вольского — жена и дети. Он, Яша, понимает, что нельзя вваливаться в семейный дом посреди ночи. Может, разбудить Эмилию? — прикинул он. Нет. Нельзя. Гордость не позволяет. Да и Зевтл не очень-то будет рада меня видеть… А что, если успеть на поезд — и прямо в Люблин?.. Прекрасная идея! Нет. Это тоже нельзя. Сначала надо похоронить Магду. Нельзя вот так бросить ее, покойницу, и бежать. Нет сомнения, полиция знает, кто забрался к Заруцкому прошлой ночью. Пускай уж лучше его арестуют здесь, в Варшаве, чем в Люблине. Хотя бы Эстер будет избавлена от этого позорища. Да, а еще есть Болек в Пяске. Разве он не предупреждал, еще несколько лет назад, что все равно убьет? Самое лучшее — вообще уехать из Польши. Может, в Аргентину… Да, но только не с такой ногой!.. Дрожки ехали по Тломацкой, по Лешно, затем выехали на Желязную. Там завернули на Смочу. Яша не дремал, а просто сидел, скрючившись. Его трясло как в лихорадке…
Сейчас он все больше осознавал, насколько неприлично появиться в такой час, и как неловко говорить о своем безвыходном положении Зевтл и ее хозяевам: расскажет ли он о Магде или только о поврежденной ноге. Яша достал расческу из нагрудного кармана, провел по волосам. Поправил галстук. Мысли о своих денежных делах страшили. Похороны, наверно, станут в сотню-другую рублей. У него же ничего нет! Можно продать лошадей… Но полиция наверняка следит за ним и арестует, как только он появится в квартире на Фрете. Самое лучшее — отдаться в руки полиции. У него будет все, что нужно: постель, кров, медицинская помощь. Да, это единственно правильное решение.
Да, но как это осуществить? Подойти к околоточному? Попросить отвести в полицейский участок? В обычное время, днем, на улице полным-полно этих стражей порядка, а сейчас, как назло, именно сейчас никого и нет. Безлюдные улицы. Запертые ворота. Наглухо закрыты ставни. Можно бы попросить кучера отвезти в ближайший полицейский участок, но Яша постеснялся. Он подумает, что я ненормальный, решил Яша. Уже одно то, что я хромаю, должно вызывать подозрения. Неприятностей по самое горло, но не настолько они его сокрушили, чтобы окончательно потерять гордость и самолюбие. Самое лучшее — умереть! — так решил Яша. Покончу с собой — покончу со всем. Может быть, даже этой ночью…
Приняв решение, сразу же успокоился. Пожалуй, перестал думать. Дрожки повернули на Низкую, развернулись и покатили в восточном направлении — к Висле. Яше никак не удавалось вспомнить номер дома. Хорошо запомнились и ворота, и забор, но такого двора по дороге не было. Кучер дернул вожжи, дрожки стали.
— Может, это ближе к Окоповой?
— Может быть.
— Тут нельзя развернуться.
— Пожалуй, выйду и поищу сам, — сказал Яша, прекрасно понимая, насколько это глупо: с трудом давался каждый шаг.
— Как хотите…
Он расплатился и слез. Больная нога будто бы заснула, от колена и вниз. Только когда дрожки уехали, понял, как здесь темно. Улицу освещали лишь несколько коптящих газовых фонарей, на значительном друг от друга расстоянии. Немощеная улица вся в буграх, колдобинах и ямах. Яша попытался оглядеться, но разглядеть ничего не смог. Может, это вообще не Низкая? Милая или Ставки? Пошарил в кармане, нет ли спичек, хотя наверняка знал, что их там нет. Что он здесь — это чистое сумасшествие. Покончить со всем? Но как? Как это сделать? Не может же он повеситься или отравиться посреди улицы. Пойти к Висле? Но отсюда до Вислы будет верста или даже больше… С кладбища повеял ветерок. Стояла ли перед кем-нибудь еще такая дилемма? Он поковылял потихонечку к Окоповой, но дом как провалился. Подняв глаза, Яша увидел черное небо, усеянное звездами, занятое лишь своими небесными делами. И какое ему дело до фокусника здесь, на земле, попавшего в эдакую передрягу?.. Яша поковылял к кладбищу. Те, кто там лежит, уже завершили свой путь, покончили счеты с жизнью. Если б найти открытые ворота, а там — открытую могилу, он улегся бы в нее, устроил себе настоящие еврейские похороны…
А что еще ему остается?
6
Все же Яша повернул назад. Боль в ноге притупилась. Пускай ломается, пускай горит, пускай уже будет абсцесс! Он дошел до Смочи, пошел дальше. И вдруг возник этот дом. Все на месте: двор, ворота, забор, парадное. Тронул ворота, они отворились, и там сразу же обнаружилась лестница, которая вела в квартиру к сестре Германа. Хозяева были дома: сквозь занавески пробивался свет. Да, видно, судьбе пока не угодно, чтобы он умер! Неудобно входить без приглашения, с хромой ногой и такому растрепанному, небритому, неопрятному. Он сам себя уговаривал, подбадривал: ничего, в конце концов, и не такое бывает. Не выгонят же меня. А если и так, Зевтл уйдет со мной. Она меня любит… Свет, пробивающийся сквозь тьму, возвращал Яшу к жизни. Что-нибудь сделают с моей ногой, продолжал рассуждать он, может, еще можно ее спасти. Подумал, не вызвать ли Зевтл, чтобы подготовить их. Решил, что это все же глупо. Подымаясь по ступенькам, ковыляя и волоча ногу, Яша подымал столько шума, будто заранее решил предупредить о своем приходе. Уже заготовил первую фразу: «Вот вам нежданный гость!»… Но странная вещь. Внутри квартиры, видимо, были чем-то слишком поглощены, чтобы вообще обращать внимание на то, что происходит снаружи. Да, все приходится испытать, утешал себя Яша. Что там выгравировано на золотом кольце? «Все проходит». Он легонько постучал. Никакого ответа. Они, видно, в другой комнате. Постучал сильнее. Не слышно, чтобы кто-нибудь шел открывать. Постоял еще: смущаясь, покорно, готовый спрятать в карман все свое самолюбие. Пусть… Это мне дается во искупление грехов — так утешал его голос, идущий изнутри. Постучал еще три раза, очень громко, но опять никто не вышел. Яша ждал и прислушивался. Заснули они там, что ли? Повернул ручку, дверь отворилась. В кухне горела лампа. На железной кровати лежала Зевтл, а рядом Герман. Герман похрапывал — звучно, глубоко. Все внутренние голоса замолкли. Яша постоял, уставившись, потом отошел в сторону — в страхе, что кто-нибудь из двоих откроет глаза. Теперь им овладел стыд, какого он никогда не испытывал прежде, — стыд не за них: за себя, за унижение — унижение человека, которого, несмотря на всю его умудренность, на его жизненный опыт, оставили в дураках.
После он никак не мог сообразить, сколько же он простоял так. Минуту? Несколько минут? Зевтл лежала лицом к стене, со спутанными волосами, обнаженной грудью, будто совершенно раздавленная огромным брюхом Германа. А Герман был не совсем раздет — что-то вроде исподней рубахи, только заграничного производства, на нем было. Пожалуй, самое замечательное во всем этом зрелище — как хрупкая на вид кровать выдерживает эдакую тяжесть. Безжизненные, неподвижные лица. Если бы Герман не храпел, можно было бы предположить, что их убили. Две потрепанные фигуры, пара истрепанных рваных кукол лежит под одеялом. А где же сестра? И почему они оставили лампу?.. Яша удивлялся. И удивлялся, почему это он удивляется. Им овладело бессилие, горечь, опустошенность. Не то, что он испытал, когда обнаружил, что Магда мертва. Уже дважды за сегодняшний день раскрывалось перед ним такое, о чем лучше бы не знать. Он смотрел в лицо смерти и в лицо распутству и увидел, что все — одно. Даже стоя здесь и тараща на все это глаза, сознавал: с ним что-то происходит, какое-то превращение, трансформация, никогда ему уже не быть тем Яшей, каким был прежде. Последние двадцать четыре часа не похожи ни на один из предыдущих дней его жизни, не сравнятся со всем его прежним жизненным опытом. Это накладывает на него печать. Он увидел руку Бога. Приблизился к концу пути.
Эпилог
1
Прошло три года. У Эстер в передней комнате стоял гомон: она, а с ней две ее помощницы клали последние стежки на подвенечное платье. Платье было столь пышным, а шлейф — такой длинный, что оно занимало весь рабочий стол у Эстер, а девушки — те суетились, как гномы, делающие доспехи для великана. Одна сметывала, другая стучала на машинке, а Эстер управлялась с утюгом, то и дело пробуя его пальцем. И все время брызгала водой из кружки на то место, которое собиралась прогладить. Эстер даже в жару не потела, так она была устроена, но сейчас у нее от напряжения выступили на лбу капельки пота. Что может быть хуже, чем прожечь дыру на свадебном платье? Одна подпалина — и вся работа насмарку! Ее черные, как вишни, глаза глядят внимательно. Маленькая ручка, узкое запястье — несмотря на это, она крепко держала утюг. Нельзя прожечь дырку!
Снова и снова выглядывала она в окошко, выходящее во двор. Небольшое каменное сооружение: тюрьма — так Эстер о нем думала, стояло здесь уже более года, а она все не могла привыкнуть. Иногда случалось, на мгновение лишь, что она забудет случившееся и представит себе, будто пришел праздник Кущей, и во дворе шалаш из ветвей и зелени. Как и положено в такие дни. Вообще-то обычно она прикрывала это окно занавеской, но сегодня нужно было много света, и солнце светило в комнату. Три прошедших года состарили Эстер. Под глазами — сеточка морщин, на широком лице — стойкий перезрелый румянец. На голове, как обычно, платок, но теперь в волосах гораздо больше седых прядей, чем черных. Только глаза остались молодыми: по-прежнему блестели, как спелые вишни. Сколько всего пережила она за прошедшие годы — от этого болело сердце. Да и сегодня на душе нелегко. Однако Эстер смеялась и шутила со своими помощницами: обычные добродушные шутки, подтрунивание над женихом и невестой. Девушки иногда понимающе переглядывались. Не простая тут швейная мастерская. Ни на минуту не забыть об этом маленьком домишке с узким оконцем без двери. Там теперь находился Яша-кунцнмахер, или же, как теперь его называли, Яша-затворник, кающийся грешник.
Сначала в городе поднялся необычный переполох. Реб Абрахамле Эйгер вызвал Яшу к себе и предостерег: не еврейское это дело! Правда, было: один еврей в Литве замуровал себя, но настоящий польский еврей не позволит себе такое! Мир создан для того, чтобы проявлять свободную волю, и сыны Адама должны постоянно выбирать между добром и злом. Почему это надо замуровать себя? Закупорить в каменном мешке? Назначение жизни — свобода и воздержание от зла. Человек, лишенный свободной воли, подобен трупу. Но Яшу было не так-то легко разубедить. За те полтора года, что провел в покаянии и воздержании, многому Яша научился. Нанял учителя, чтобы изучать Мишну, Гемару[44], Мидраши[45], даже Зогар[46], и теперь приводил рабби примеры — было много святых, которые сами себя ограничивали из страха, что не смогут противиться искушению. Разве не был святым тот, который выколол себе глаза, чтобы не видеть свою госпожу-римлянку? Разве не поклялся еврей из Шебрешина молчать, боясь произнести хоть слово клеветы? Разве не притворялся слепым клезмер из Ковеля, чтобы только не смотреть на жену другого, на протяжении целых тридцати лет? Суровые законы не служат защитой от греха — человек слаб… Молодые люди, которые присутствовали при Яшиных дебатах с рабби, продолжали обсуждать все это и потом. Трудно было поверить, что за полтора года этот шарлатан, этот вольнодумец смог переварить так много Торы. Рабби спорил с ним как с равным. Но Яша оставался тверд в своем решении. В конце концов рабби возложил руки ему на голову и благословил: «Поступок твой да послужит к славе Господней. Да поможет тебе Всемогущий!» И он одарил Яшу — подарил ему медный подсвечник, чтобы тот мог жечь свечу по ночам и в ненастные дни.
По трактирам да шинкам Пяска и Люблина много судили и рядили о том, как долго продлится Яшино добровольное заточение. Кто давал ему месяц, кто лишь неделю. Даже городские власти обсуждали это событие — начальство не знало, насколько законны Яшины действия. Уже и губернатору доложили. Сам Яша спокойно посиживал в кресле посреди двора, наблюдая, как работают каменщики, а в дом к нему и Эстер стекались сотни любопытных, желающих поглазеть на это. Дети залезали на деревья, усаживались на конек крыши. Благочестивые евреи выходили вперед, чтобы побеседовать с Яшей, обсудить, почему он это делает. Набожные женщины тоже говорили с ним, пытаясь убедить отказаться от своих намерений. Эстер плакала, взывала к нему, к его жалости и благоразумию — до того, что охрипла. А еще вместе с несколькими женщинами она отправилась на кладбище, чтобы измерить, какой длины бывает могила, — она хотела пожертвовать свечу такой длины похоронному братству: надеялась, что души святых праведников, глядя на такой дар, может, повлияют на ее мужа, и он переменит решение. Не должен он так делать, ведь она тогда будет все равно что агуна — покинутая жена, хотя ее муж будет здесь, на расстоянии протянутой руки. Но не помогали ни праведники, ни горестные ее стенания, ни угрозы — все напрасно. Стены маленького домика росли день ото дня. Яша определил размеры домика: не более четырех локтей в длину и столько же в ширину. Он отрастил бороду и пейсы, накладывал тфилин, надел талес, долгополый лапсердак и атласную ермолку. Пока каменщики работали, он сидел с книгой в руках и бормотал молитвы. Там, внутри, нет даже места для кровати. Только нары, соломенный тюфяк, стул, крошечный столик, плед, чтобы накрываться, медный подсвечник, подаренный рабби, кувшин с водой, несколько святых книг — да еще лопата, чтобы закапывать экскременты, и ковшик для омовения рук. Росли стены, громче становились причитания Эстер. Яша сердился на жену:
— Что ты ревешь? Я же не умер!
— Если б только это, — язвительно отвечала Эстер и продолжала рыдать.
Собиралось так много евреев, и стоял такой гвалт, что иногда даже приезжали конные жандармы и разгоняли толпу. Городской голова приказал каменщикам работать день и ночь, чтобы поскорее положить конец этим волнениям. И вот за сорок восемь часов все было готово. Крышу покрыли дранкой, а окошко закрывалось ставнями изнутри. Множество любопытных толклось тут — всем хотелось поглазеть. Только с началом проливных дождей их стало меньше. Днем ставни были закрыты. А вокруг дома Эстер пришлось поставить забор, чтобы оградить себя от нежеланных посетителей. Очевидно, — это скоро выяснилось, — те, кто говорил, что Яша продержится неделю или даже месяц, сильно просчитались. Прошла зима, наступило лето, снова пришла зима, а Яша-кунцнмахер, больше известный теперь как Яша-затворник, оставался в добровольном заточении. Трижды в день Эстер приносила ему еду: хлеб, кашу, картошку в мундире, холодную воду. Трижды в день Яша ради этого оставлял свои святые книги и благочестивые размышления — чтобы поговорить с Эстер пару минут.
2
Светило солнце, стоял знойный летний день, но в каморке у Яши было темно и холодно, несмотря на то, что лучи солнечного света и дуновение теплого ветерка проникали сквозь ставни. Когда Яша отворял оконце, к нему прилетала бабочка, иногда шмель. Снаружи щебетали птички, мычала корова, плакал ребенок — все это он слышал. Днем не надо было зажигать свечу. Он сидел на стуле, перед маленьким столиком, вглядываясь в Скрижали Завета. Этой зимой бывали дни, когда ему хотелось проломить стену, выйти наружу, выбраться отсюда, из холода и сырости. У него появился резкий, лающий кашель. Мучительные боли в суставах. Стал часто мочиться. По ночам наваливал на себя все, что было: и одежду, и плед, и одеяло, которое Эстер просунула к нему через окно, но все равно дрожал от холода. От земли тянуло холодом, и мороз пробирал до костей. Часто представлялось, будто он лежит в могиле, а иногда даже желал смерти. Прямо перед хибарой росла яблоня, и он слышал шелест листьев. Ласточка свила там гнездо и целыми днями суетилась, порхала туда-сюда, приносила в клюве еду своим птенчикам. Высунувшись далеко из окна, Яша мог видеть перед собою поля, голубое небо, крышу синагоги, церковную колокольню. Вынуть несколько камней — Яша знал это, — можно выбраться отсюда через окно. Но стоило ему лишь представить, что в любой момент так можно получить свободу, как желание покинуть свое убежище тут же оставляло его. Он прекрасно понимал, что по ту сторону стены его ожидают тайные страсти, похоть, страх перед грядущим днем.
За время, что он тут просидел, в нем произошли серьезные перемены. Даже тревоги его и заботы стали иные, чем у тех, кто находился снаружи. Было так, будто снова он — зародыш в материнском чреве, и отсвет сияния, исходящего от Талмуда, падает на него, и ангелы небесные учат его Торе. Он свободен ото всяких забот. Еда его стоит лишь несколько грошей в день. Не требуется ни одежды, ни вина, ни денег. Теперь, когда Яша вспоминал свои траты во время скитаний по провинции или расходы на жизнь в Варшаве, его смех разбирал. Сколько бы он ни зарабатывал, денег никогда не хватало. Он содержал целый зверинец. Требовался полный гардероб одежды. Приходилось влезать в новые расходы. Он постоянно был должен: и Вольскому, и ростовщику в Варшаве и в Люблине тоже. Беспрерывно подписывал векселя, искал поручителей, должен был всем и каждому, одалживал и переодалживал, платил проценты, что-то кому-то дарил… Погрязнув в страстях, он сам попал в сеть, которая затягивала его все туже и туже. Мало ему было ходить по канату. Нет, надо было придумывать смелые трюки, которые, без сомнения, разрушали его, и он, конечно, свернул бы себе шею. Стал вором, и лишь чистая случайность помешала ему совершить настоящее преступление и попасть в тюрьму… Здесь, в этой каморке, в полном уединении все внешние заботы улетели прочь, как шелуха, как звук, пропадающий в пустоте. Все путы он как ножом отрезал. Эстер устроена — она сама зарабатывает. С долгами он рассчитался. Отдал Эльжбете и Болеку свой фургон и упряжку лошадей. Оставил Вольскому всю мебель из квартиры на Фрете, а также костюмы, снаряжение и прочие причиндалы. Теперь у Яши ничего не было, кроме рубашки на теле. Все так… Но в должной ли мере очистился он от грехов? В состоянии ли искупить вину за все то зло, что он причинил другим, увлекая их за собою в бездну?
Только здесь, в тишине своего убежища, Яша мог теперь думать и передумывать, какова степень содеянного зла: как велико число душ, которые из-за него претерпели страдания, безумие, приняли смерть. Он не разбойник с большой дороги, который сделал убийство своим ремеслом. Однако же и он убивал. Какая разница для жертвы? Можно оправдать себя перед судом смертных (который сам есть зло), но Создателя нельзя ни купить, ни обмануть. Он, Яша, тоже уничтожал, и притом обдуманно, намеренно, вовсе не невинно. Магда взывала к нему из могилы. Ее кровь на нем. Ужас владел им не только от сознания вины. Просиди он тут хоть сотню лет, ему не искупить то зло, которое он причинил другим. Раскаяние само по себе не искупает смертный грех. Можно ведь молить о прощении и получить его от жертвы. Если ты остался должен хоть полушку тому, кто ушел в мир иной, следует найти кредиторов и расплатиться. Так написано в святых книгах. Яша припоминал каждый грех, который был на нем, каждое злое дело, которое совершил. Он нарушил законы Торы, нарушал каждую из десяти заповедей. Однако считал себя честным человеком, которому можно судить других. Что по сравнению с этим те неудобства, что он испытывает теперь? Он-то ведь жив и более или менее здоров. Даже нога его в порядке, обошлось без хромоты. Справедливое возмездие будет дано ему лишь на том свете, это он знал твердо. Там взвесят каждый его поступок, каждое слово, каждый шаг. Одно только утешение: Господь милосерден и благ, и при окончательном приговоре добро торжествует над злом. Но что есть зло? Он изучал каббалистические книги все три года.
Теперь он знал: зло служит уменьшению силы Божьей к созиданию мира. Надо стараться быть призванным Создателем и быть милосердным к Его созданиям. У короля есть его народ, подданные. Благодетель должен иметь тех, кто в нем нуждается. Творец должен творить. При этом Творец Вселенной полагается на своих детей. Однако Его милосердной руки недостаточно, чтобы вести их по пути праведности. Они должны идти сами, по своей свободной воле… Небесные миры ожидают их: ангелы и серафимы ведут их и наблюдают за тем, чтобы сыны Адама исполняли заветы Господа, чтобы молились со смирением и давали с состраданием. Каждый праведный поступок, каждое доброе дело, каждое слово Торы делает мир лучше, добавляет лучи, сияющие в короне Славы Господней. Напротив, даже ничтожные проступки отзываются в других мирах, отдаляя Дни Избавления.
Случались дни, когда Яша снова колебался в вере — даже здесь, в этом домике. Читая святые книги, он вдруг становился ворчуном и придирой. Как я могу быть уверен, что они говорят правду? А может, Бога нет? И Тора — изобретение человека? Быть может, я мучаю себя понапрасну? Будто наяву, он слышал, как злой искуситель спорит с ним, напоминает о былых наслаждениях и удовольствиях, советует вернуться к распутству и разврату. Яша справлялся с ним каждый раз по-разному. Когда тот слишком уж напирал, Яша для виду соглашался: да, ему надо вернуться в мир… Но тогда исчезнет свобода выбора! В другой раз он отвечал резко и отвергал доводы противника: пусть Сатана утверждает, что Бога нет, пусть приводит доказательства. Но слова, произнесенные Им, есть истина. Если счастливым может быть человек только тогда, когда несчастен другой, то несчастливы все — никому не достанется счастливый удел. Если Бога нет, тогда человек должен быть как Бог… В другой раз он, Яша, спросил Сатану: «Ну, а кто же создал этот мир? Откуда взялся я? И ты? Кто устроил так, что падает снег, дует ветер, дышат мои легкие, думает голова? Откуда взялась земля? Как возникли солнце, луна и звезды? Этот мир, с его бесконечной мудростью, создан же, видимо, чьей-то рукой? И если я постигаю Божию мудрость, почему же мне не верить, что за этой мудростью есть еще и милосердие Создателя?»
Днями и ночами размышлял Яша, был занят этими спорами с Сатаной. Порою он доходил до сумасшествия. Снова и снова Вельзевул удалялся, вера возвращалась к Яше, и он в самом деле видел Бога, ощущал на себе Его незримую руку. К нему приходило понимание, почему так необходима доброта, он вновь ощущал вкус молитвы, вкушал сладость Торы. День ото дня ему становилось яснее, что святые книги, которые он читает, ведут к совершенству, целомудрию и вечной жизни, что они указывают пути к познанию цели Творения, а позади остается зло: унижение, воровство, убийство. Нет средней дороги. Один шаг в сторону ввергает человека в бездну.
3
Святые книги предупреждали Яшу, чтобы он всегда был начеку. Сатана не унимается никогда. Соблазны следуют один за другим. Даже на смертном одре — и то приходит он, становится с левой стороны и пытается увести человека от Бога, совратить в язычество. Это правда, Яша знает. Как раз сейчас Эстер стала приставать к нему — чуть ли не каждый час приходит она, стучит в ставень, стеная и набрасываясь на него со своими заботами и ласками. По ночам будит его и пытается поцеловать. Какие только женские уловки она не применяет!.. Но все они смешны, все ведут ко греху. Мало этого, разные люди, и мужчины, и женщины, стали приходить к нему, будто он, Яша, чудотворец! Они искали его совета, умоляли о помощи. Яша просил оставить его в покое, ведь он же не рабби, не сын раввина, а простой еврей, да и грешник к тому же. Но все было напрасно. Женщины пробирались во двор, стучали в ставни, даже пытались выломать окошко. Они плакали, причитали, некоторые проклинали его, изрыгали ругательства. Эстер жаловалась, что они не дают ей работать. Яшу обуял страх. Уж чего-чего, а этого он не ожидал. Ему самому требовались совет и утешение. С другой стороны, какое он имеет право отказывать людям, причинять им огорчения? Разве это само по себе не есть проявление гордыни? Но ведь он же не рабби… Может ли он выслушивать их просьбы и мольбы, давать советы? И так плохо, и этак. После долгих размышлений и нескольких бессонных ночей Яша решил написать письмо люблинскому раввину. Он составил письмо на идиш и обещал, что подчинится решению, которое он вынесет, и выполнит все, что тот прикажет. Ответ не заставил себя ждать. Ответ, тоже на идиш, приказывал Яше принимать тех, кто приходит к нему, два часа в день, но не брать от них никакой платы. Рабби написал ему: «Тот, к кому евреи приходят, и есть рабби».
Теперь Яша принимал тех евреев, кто приходил к нему, ежедневно, с двух часов дня до четырех. Чтобы не было ссор и обид, Эстер писала номера на карточках и раздавала их, как это делается на приеме у известных докторов… Но это не помогало. Те, у кого случилось большое несчастье, или кто привел тяжелого больного, требовали, чтобы их приняли первыми. Другие пытались подкупить Эстер или задобрить подарками. В городе пошли разговоры о чудесах, совершенных Яшей-затворником. Стоит ему только захотеть, и больной выздоравливает. Рассказывали, как удалось вытащить рекрута прямо из воинского присутствия, как заговорил немой, прозрел слепой. К Яше теперь обращались не иначе, как рабби праведный, святой цадик… Как он ни противился, домик его забрасывали деньгами, монетками. Он велел раздавать это бедным. Молодые хасиды, боясь, что приверженцы их собственных рабби переметнутся к Яше, насмехались над ним, составляли списки его старых и новых грехов. Эти списки подбрасывали во двор к Эстер…
Искушениям не было конца. Яша удалился от мира, но сквозь крошечное оконце, оставленное для воздуха и света, проникали к нему зло, сплетни, клевета, ярость и злоба людская. Теперь понятно, почему в древности святые обрекали себя на скитания и никогда не спали дважды в одном доме, почему притворялись слепыми, глухими, немыми… Нельзя служить Богу, находясь среди людей, даже если ты отгородился от них каменной стенкой. Хорошо бы — мешок за плечи, палку в руки, и в путь — куда глаза глядят. Но для Эстер это будет нестерпимая, невыносимая обида. Кто может сказать, что тогда с ней станет? Она может даже заболеть с горя. Он замечал, что здоровье ее становится все хуже. Годы потихоньку подкрадываются к ней. Магда, мир праху ее, уже показала ему, что может случиться.
Нет, в этом мире не обрести покоя. Ни дня, ни мгновения без печали, без горестей. Но сильнее искушений внешнего мира те искушения, что рождаются в мозгу человека, в его сердце. Здесь, в заточении, не было ни часу, чтобы Яшу не одолевали страсти. Невозможно про них забыть, ведь они окружают его: пустые фантазии, дневные грезы, скверные, греховные желания. Из тьмы вдруг возникало лицо Эмилии и не желало исчезать. Она улыбалась, шептала что-то, подмигивала… Он изобрел новые трюки, придумывал новые фокусы, чтобы выступить перед публикой, все новые и новые хитрые штуки, которые приведут публику в изумление и восхищение. Снова он танцевал на проволоке, делал сальто, проносился над крышами большого города, убегая от ревущей толпы. Яша старательно гнал прочь эти мысли и фантазии, но они возвращались вновь и вновь — как мотыльки, летящие на огонь. Ему хотелось мяса, вина, водки. Снедала тоска по Варшаве — хотелось бы увидеть все это: дрожки, конку, кофейни, кондитерские… варшавскую толпу… Несмотря на все лишения: холод, ревматизм, постоянные боли в желудке, не убывало ни вожделение, ни желание и похоть. Не имея рядом женщины, он все равно думал о грехе, подобно Онану. Только два средства были у него для защиты: Тора и молитвы. Днем и ночью он учил, повторял, читал главы из Торы, распевал их, лежа на соломенном тюфяке: «Благословен муж, который не идет на совет нечестивых и не стоит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его и о законе Его размышляет он день и ночь!.. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня; многие говорят о душе моей: „Нет спасения ему в Боге!“» Он повторял строки Торы так часто, что распухали губы. На ум приходило сравнение: мировое зло сравнивал с собакой, которая тявкает, не переставая, и хватает человека за штаны. И надо постоянно держать в руках палку, чтобы отогнать ее, а если укусит, наложить пластырь… Или как блохи, которые не дают спать, и так до последнего дыхания…
Конечно же, он умрет, успокоится в свое время. Собака египетская не всегда набрасывается с одинаковой злобой. Но кто-то должен стоять на страже, вновь и вновь пытаясь не допустить, чтобы в мир возвращалось Зло…
4
Евреи шли и шли к Яше со своими заботами, своими бедами. Обращались к нему, к Яше-кунцнмахеру, будто он и есть сам Господь Бог: у меня больна жена, сын должен идти в армию, у меня конкурент перебил цену… дочь сошла с ума… дочь погрязла в грехе… помещик не хочет сдавать в аренду… Пришел маленький, как ссохшийся, человечек с огромной гулей на лбу. Дочь начала икать, и вот уже несколько дней не может остановиться. По ночам, когда светит луна, она издает такие звуки, будто лает собака. Наверно, в нее вселился дибук, потому что она распевает псалмы голосом кантора, читает молитвы. А то вдруг начнет говорить то по-польски, то по-русски — языков этих она не знает, и тогда она хочет пойти к священнику и креститься. Яша молился за всех за них… Каждый раз напоминал, что он, Яша, не рабби, а самый обыкновенный еврей и грешник вдобавок. Но просители не уставали снова и снова молить его о помощи. Агуна, у которой муж исчез шесть лет назад и которая искала его по всей Польше, рыдала так громко, что Яше пришлось заткнуть уши. Она прямо-таки бросалась на домик с невероятной, с бешеной силой, пытаясь разрушить сооружение.
Меланхолический юноша признавался, что демоны одолевают его, завязывают узелки на филактериях, связывают волосы в бороде, проливают воду, приготовленную для утреннего омовения рук, пригоршнями сыплют в еду соль и перец, подкладывают туда червяков и козьи катышки. Каждый раз, только он соберется отправлять естественные надобности, дьявол в образе женщины мешает ему. У него с собой было письмо от рабби, подписанное и другими свидетелями, подтверждающими, что он говорит правду… Приходили к нему и «маскилим», просвещенные современные евреи, спорили, задавали разные хитроумные вопросы. Добирались сюда и молодые бездельники, чтобы посмеяться, посрамить его ученость малоизвестными цитатами из Талмуда или даже из халдейских книг. Несмотря на то, что он давал себе слово принимать людей не больше двух часов в день, приходилось стоять у окошка с утра до позднего вечера. Ноги так уставали, что он лежал потом в полуобморочном состоянии на соломенном тюфяке. Не в состоянии был даже сесть, чтобы прочитать вечернюю молитву.
Как-то раз пришел Шмуль-музыкант, прежний собутыльник. Пришел просто повидаться. Шмуль жаловался на сильную боль в руке — из-за этого он не может играть на скрипке. Только возьмет инструмент в руки, начинаются боли. А правая рука, в которой держит смычок, плохо гнется, мерзнет, кровь не течет по жилам: и он показал желтые скрюченные пальцы — как у мертвеца… Шмуль хотел отправиться в Америку. Он передал Яше приветы от воровской шайки из Пяска. Эльжбета умерла. Болек сидит в Яновской тюрьме. Хаим-Лейб — в богадельне. Слепой Мехл и на второй глаз ослеп. Бериш Высокер уехал в Варшаву.
— Крошку Малку помнишь? — спросил Шмуль.
— Да. Как она там?
— Ее муж уже на том свете. Ему в тюрьме отбили легкие, — сказал Шмуль.
— И где же она?
— Вышла за сапожника из Закелкова. Всего три месяца и вдовела.
— Да, да.
— Зевтл помнишь?.. Ну, та, Лебуша Лекаха жена? — спросил Шмуль, понижая голос и немного с хитрецой.
У Яши кровь прилила к щекам:
— Да, помню.
— Теперь она мадам в Буэнос-Айресе. Вышла за какого-то Германа. Он ради нее оставил жену. У них самый большой бордель в Буэнос-Айресе.
Яша немного помолчал, а потом спросил:
— А ты откуда знаешь, а?
— Герман приехал в Варшаву. Назад везет с собой целый вагон женщин… У меня есть знакомый клезмер, который хорошо знает его сестру. Она живет на Низкой и ведет все дело…
— Да, да.
— Ну, а ты прямо такой рабби стал, да?
— И не рабби вовсе.
— Все только про тебя и говорят. Можешь, говорят, и мертвого воскресить.
— Такое только Бог может.
— Сначала Бог, а после — ты.
— Не болтай чепуху.
— Хочу, чтобы ты помолился за меня.
— Да поможет тебе Всемогущий.
— Яшеле, гляжу на тебя и не узнаю. Не могу поверить, что это и в самом деле ты.
— Все стареют.
— Для чего ты сделал это, а? Ну почему?
— Дышать стало невозможно.
— Ну и что? Полегчало?.. Я думаю о тебе… Думаю о тебе день и ночь…
Шмуль приехал под вечер. Эстер, сияя, объявила о его приходе. Стояла теплая летняя ночь. Зашла луна, высыпали звезды. Слышно было, как в пруду квакают лягушки, иногда каркает ворона, стрекочут в траве кузнечики. Старые друзья глядели друг на друга, стоя по разные стороны маленького оконца. Яшина борода совершенно поседела, и только прежние золотые искорки пробегали иногда в глазах. Да и у Шмуля тоже: сивые бачки, запали щеки. Он печально проговорил:
— Все мне осточертело, вот это правда… Играю здесь, играю там. Проходит свадебная церемония, потом танцы… На свадьбе бадхен повторяет те же шутки. Иногда прямо посреди всего этого — бросить бы все и бежать, куда глаза глядят…
— А куда бежать?
— Сам не знаю. Может, в Америку? Каждый день кто-то умирает. Только открою глаза, спрашиваю: Ентл, кто сегодня умер? Подружки ее приносят новости прямо с раннего утра. Как услышу про кого, тут мне сердце и схватит.
— Ну, а что, в Америке не умирают?
— Я там не так много кого знаю.
— Умирает только тело. Душа живет. Тело — все равно что оболочка. Когда она рвется, снашивается или пачкается, ее выбрасывают.
— Не в обиду, как говорится, тебе будет сказано, но разве ты был на небе и видел души?
— Пока живет Бог, живет все. Смерть не может одолеть жизнь.
— Но люди боятся смерти.
— Без страха Божьего человек хуже зверя.
— Да он в любом случае хуже.
— Он может стать лучше. Это в его власти.
— Но как? Что надо делать, а?
— Прежде всего никому не причинять зла…
— Как это?
— Не причинять никому вреда. Не злословить. Даже не думать про злые дела.
— И чем это поможет?
— Если бы каждый избрал этот путь, мир стал бы раем.
— Этому не бывать. Не пойдут люди по этому пути.
— Каждый должен поступать по силе его.
— И тогда придет Мессия?
— Нет другого пути. И быть не может.
5
Сразу же после праздника Кущей зарядили дожди. Подул холодный ветер, пожелтела трава, гнили на земле яблоки. Поутру птички чирикнут разок и замолчат на весь день. Яшу одолевал холод, нос был забит, стало невозможно дышать. Сильно болела голова, боль отдавала в висок и ухо. Он охрип. По ночам Эстер слышала, как он кашляет. Тогда поднималась и шла к нему, в халате и шлепанцах, умоляя оставить наконец добровольную тюрьму. Но Яша отвечал только:
— Зверь должен сидеть в клетке!
— Ты же себя убиваешь!
— Лучше убивать себя, чем других!..
Эстер возвращалась в постель, а Яша — к себе на соломенный тюфяк. Не раздеваясь, он заворачивался в одеяло. Уже не мерз, но заснуть не удавалось. Слушал дождь, барабанящий по крыше.
Земля шуршала и шевелилась, будто рыли свои подземные ходы кроты, или же мертвецы переворачивались в могилах. Он, Яша, убил обеих: и Магду, и Эльжбету. Он виноват, что Болек в тюрьме. Он помог Зевтл стать такой, какая она теперь. Эмилия, он предчувствовал, тоже не слишком долго задержится на этом свете. Она часто повторяла, что Яша — ее последняя надежда. Конечно, она уже что-нибудь над собой сделала. И где теперь Галина? Он думал о них каждый день, каждый час. В мыслях призывал души умерших и молил подать ему хоть какой-то знак. «Где ты, Магда? — молча взывал он во тьме. — Что случилось с твоей многострадальной душой?» Знает ли она, что я тоскую по ней? И что наложил на себя наказание? Или же все так, как сказано у Экклезиаста: «Мертвые не ведают ничего». Если так, то все напрасно. На мгновение ему представилось, что он различает во тьме ее лицо, ее фигуру. Но тут же видение растаяло. Молчит Бог. Молчат и ангелы Его. Мертвые тоже молчат. Даже демоны не говорят ничего. Пути веры закрыты — как его нос. Он услыхал, что кто-то скребется, — всего лишь полевая мышка.
Глаза закрылись, он задремал. Пришли мертвые, но ничего не открылось ему, они только несли бессмыслицу, с какими-то дурацкими ужимками. Внезапно он проснулся. Попытался припомнить, что ему пригрезилось, но все расплывалось, как в тумане. Одно только он знал наверняка — нечего вспоминать, не нужно это. Ночные его фантазии порочны, несообразны ни с чем — детский бессмысленный лепет, бред сумасшедшего.
Чтобы отогнать прочь дурные мысли, Яша напевал речитатив из трактата «Брахот»: «В какое время вечером надо произносить „Шема“[47]? От времени, когда первосвященник входит во храм, чтобы вкусить от тука жертв…» Когда он переходил от первого раздела ко второму, появилась новая фантазия. Эмилия жива. Она купила дом с усадьбой здесь, в Люблине, и прорыла тайный ход прямо к нему в домик. Пришла и отдалась ему. А сейчас, перед рассветом, торопится назад. Яшу трясло. В какой-то момент он полностью предался воображению. Все эти фантазии живут в нем, копошатся, словно мыши или домовые, всегда готовы ввести его в соблазн… Что они такое? Каково их назначение в биологии человека? Он быстренько перешел ко второму разделу: «С какого времени утром надо читать „Шема“?» Как только сможешь отличить голубое от белого… Рабби Элиезер говорит: «Голубое и зеленое». Яша хотел читать дальше, но не хватало сил продолжать. Он провел рукой по истощенному телу, по густой бороде, потрогал язык, обложенный белым налетом, зубы — большинство он уже потерял… Может, это почти конец? Наверно, никогда не обрести мне покоя! А если так, пусть уже будет конец!..
Ему хотелось повернуться на другой бок, но он побоялся сбросить одеяло и сбросить то тряпье, которым был укрыт. Стояли морозы, и только раскроешься, сразу замерзнешь. Захотелось еще раз помочиться, но все равно не стал вылезать из-под одеяла. И откуда в человеке столько жидкости?.. Яша собрался с силами и принялся за третий отрывок. «Школа Шаммая учит: вечером следует сидеть, когда читаешь „Шема“, утром же следует встать и читать „Шема“ и повторять детям своим… Произносить, сидя в доме, находясь в дороге, ложась и вставая…»
Он уснул опять, и во сне вышел из домика помочиться. Вышел, а там стоит Эмилия. Она смутилась, но все же сказала:
— Сделайте, что вы хотели…
С рассветом дождь прекратился, пошел снег — первый снег за эту зиму. На востоке собрались облака, но взошло солнце, окрасило небо в розовые и золотистые тона. Зарево охватило облака, прошлось по ним огненным зигзагом. Яша поднялся, сбросил ночную усталость, ночные сомнения. Однажды он прочел про снежинки, теперь проверял, что ему довелось узнать когда-то. Каждая снежинка, попавшая на подоконник, шестиугольник совершенной формы, с четко обозначенным центром и шестью лучами, с узорами и ответвлениями, сотворенными невидимой рукой, которая есть везде — на земле и в облаках, в золоте и отбросах… На самой далекой звезде и в сердце человеческом… Как еще назвать эту силу, если это не Бог? И какая разница, если это называть природой? Яша вспомнил стих из псалма: «Он даровал нам уши, а мы не слышим! Глаза дал Он нам, а мы не видим!»
Яша ждал знака, ждал каждую минуту, каждую секунду, изнутри или снаружи, все равно… Пусть только Он обнаружит свое присутствие.
Эстер уже поднялась: Яша видел, как подымается дым из печной трубы. Это она готовит для него еду. Снег продолжал идти, но сегодня птицы пели дольше обычного. Эти Божьи создания, у которых нет ничего, кроме собственных перьев да случайно добытых крошек, весело щебетали в укромных гнездышках.
Да, долго же я бездельничал! — сказал себе Яша, скинул фуфайку, снял рубашку и принялся за стирку, благо в кувшине оставалась вода. Подбирал снег с подоконника и растирался. Глубоко вдыхал морозный воздух, откашливал мокроту. Забитый нос прочистило. Прямо чудо какое-то. Еще разок глотнул морозной свежести. С горлом тоже стало полегче, и он принялся читать утреннюю молитву. Теперь голос звучал нормально: «Благодарю тебя, Господи!.. Как прекрасны заповедания Твои… Ты, очищающий душу мою… Ты, Создатель всего… Ты вылепил это из праха… Вдохнул в меня жизнь… Ты возвышаешь мой дух… Ты, который ведешь меня сейчас и будешь вести всегда…» Теперь он надел талескотн и филактерии. Благодарение Богу, что он, Яша, не оказался в настоящей тюрьме. Здесь, в этой келье, можно молиться в полный голос. Здесь можно учить Тору. И в нескольких шагах — преданная жена. Почтенные евреи, внуки цадиков, внуки святых мучеников ищут его совета, просят благословения, будто он настоящий рабби. И хотя он, Яша, великий грешник, Господь не оставил его своей милостью, не дал ему погрязнуть во грехе. Так предначертано судьбою — стать ему затворником. Быть может, существует высшее милосердие? Чего еще может желать убийца? Как судить его земным судом?
После «Шема» он произнес Восемнадцать Благословений. Когда ж дошел до слов: «И верен Ты своему обещанию возвратить к жизни усопших…», прервал молитву. Тут надо хорошенько подумать. Да, Бог, который смог создать такие совершенные снежинки, смог создать человека из семени, управлять луной, солнцем, звездами, планетами и созвездиями, — такой Бог, конечно, в состоянии воскресить мертвого. Отрицать это могут только глупцы. Господь всемогущ. От поколения к поколению растет это могущество, нет сомнения. То, что раньше казалось не под силу Богу, теперь может человек. Всякая ересь основывается на допущении, что человек мудр и всемогущ, а Господь — слаб. Что человек добр, а Бог — несправедлив. Человек — нечто живое, а Бог — неподвижное и окаменелое. Стоит лишь оставить эти нечестивые мысли, как перед человеком распахнутся врата истины. Яша раскачивался, бил себя в грудь, мотал головой. Открыв глаза, увидел в окне Эстер. Глаза ее сияли, она улыбалась. Жена принесла кастрюлю, над которой подымалось облачко пара. Так как Яша уже произнес Восемнадцать Благословений, он кивнул жене и поздоровался. Горькие и мрачные мысли оставили его. Душа снова была полна любви. Эстер, разумеется, сразу поняла это по его лицу. Да, человек в конце концов может многое понять сам. Может увидеть все, если пожелает увидеть.
Эстер принесла и письмо. В измятом конверте на нем — только фамилия и название города. Ни улицы, ни номера дома.
Яша снял филактерии и вымыл руки. Эстер принесла рис и горячее молоко. Он сидел за столом и завтракал, положив рядом письмо: он решил не вскрывать его, пока не кончит завтракать. Эти полчаса принадлежали Эстер. Жена стояла рядом, глядя на него и беседуя с мужем, пока он ест. Старая песня: его здоровье, он себя убивает, разрушает ее жизнь… Но в это утро она не давала воли обычным своим жалобам.
Вместо этого жена, глядя на Яшу материнским взглядом, говорила о заказах, которые получила, о толках и сплетнях, которые ходят по городу, о своих мастерицах. Рассказала, как она собирается украсить дом к Пасхе. Ему не хотелось доедать рис, но Эстер настаивала, клялась, что не двинется с места, пока он не доест последнюю ложку. Молоко он пил от своей коровы, а рис вырастили где-то в Китае. Тысячи рук работали, чтобы донести еду до его рта. Каждое зернышко риса содержало живые силы — силы неба и земли.
Доел рис, выпил кофе с цикорием, разорвал конверт. Глянул на подпись, и глаза затуманились слезами. Затем, утирая глаза платком, принялся за чтение:
Дорогой пане Яша! (или мне следует называть вас рабби Якоб?)
Сегодня утром я раскрыла «Курьер поранный» и увидела ваше имя, в первый раз за эти три с лишним года. Была так поражена, что не смогла сразу продолжить чтение. Первая мысль: Вы снова на сцене, выступаете здесь или за границей. Но потом я прочла всю статью, и мной овладели грусть и печаль. Вспомнилось, как мы часто беседовали на религиозные темы. Взгляды, которые Вы высказывали, я бы назвала деизмом, верой в Бога без догм и откровений. После того, как Вы оставили нас, столь неожиданно и таким необычным образом, я много раздумывала, как мало помогает вера без внутренней дисциплины человеку в состоянии душевного кризиса. Вы ушли прочь, не оставив следа. Сгинули, пропали из вида, как пропадает камень, брошенный в воду. Часто я пыталась в уме составить для Вас письмо. Если письмо это дойдет до Вас, прежде всего хочу сказать, что всю вину я принимаю на себя. Только после Вашего ухода я осознала, как недостойно вела себя: знала, что у Вас есть жена, и вовлекла Вас во все это… Поэтому вся моральная ответственность — на мне. Не раз мне хотелось сказать Вам это, но я была уверена, что Вы в Америке или еще Бог знает где. Статья в сегодняшней газете — о том, как Вы заключили себя в каменном мешке, как стали святым, как мужчины и женщины ждут у окошка Вашего благословения, произвела на меня неизгладимое впечатление. Слезы застилали глаза, я не могла читать дальше. Часто плакала я, вспоминая о Вас, но на сей раз это были слезы радости. Уже двенадцать часов прошло, а я все сижу здесь и пишу это письмо, и все плачу: во-первых, потому что Вы оказались таким глубоко совестливым человеком, а во-вторых, потому что Вы искупаете мою вину, страдаете за мои грехи. Я сама всерьез подумывала о том, чтобы уйти в монастырь, но приходится думать о Галине. Я не смогла скрыть от нее того, что случилось. На свой собственный лад она тоже любила Вас, восхищалась Вами безмерно. И потому для нее происшедшее тоже было большим потрясением. Ночь за ночью лежали мы вместе, в одной кровати, и плакали. Галина по-настоящему тяжело заболела, и пришлось отправить ее в Закопане, в Высокие Татры. Мне не удалось бы устроить все это (Вы прекрасно помните, как обстояли мои денежные дела), если бы не ангел в образе человеческом — профессор Мариан Рыжевский, друг моего покойного мужа. Он пришел на помощь. Того, что он для меня сделал, не перескажешь в одном письме.
Так сложилась судьба: его жена только-только умерла (ее многие годы мучила астма), и, когда этот хороший, достойный человек предложил мне стать его женой, у меня не хватило духу отказать. Вы исчезли. Галина была в санатории. Я осталась одна на белом свете. Все рассказала ему, всю правду, не пропуская ничего. Он уже старый человек, получает пенсию. Но еще чрезвычайно деятельный. Пишет и читает весь день напролет. Необычайно добр ко мне и Галине. Вот и все, что я могу здесь рассказать. В Закопане Галина поправила здоровье, и, когда вернулась в Варшаву, ее было не узнать, так она выросла и похорошела. Ей уже почти восемнадцать, и я надеюсь, ей больше повезет, чем ее матери. Профессор Рыжевский добр и снисходителен к ней, как настоящий отец, прощает все ее капризы. Это новое поколение растет эгоистичным, ни в чем себе не отказывает. Они убеждены, что должны получить все, чего ни пожелают.
Впрочем, хватит о себе. Нелегко мне писать к Вам. Не могу представить Вас с длинной бородой и пейсами, как описывает журналист. Может, Вам теперь даже не подобает читать мое письмо. Если так, простите. Все эти годы я не переставала думать о Вас. Дня не проходило, чтобы я о Вас не думала. Не знаю, почему, по какой-то необъяснимой причине я плохо спала. Ведь человеческий мозг — такое капризное устройство. Мое воображение всегда рисовало Вас выступающим в Америке, в цирке или огромном театре, в окружении прекрасных женщин, в блеске и славе. Однако жизнь полна неожиданностей. Не смею судить, верно Вы поступаете или нет, только мне кажется, Вы наложили на себя слишком жестокое наказание. Несмотря на Вашу силу, Вашу ловкость, Вы тонкая, хрупкая натура, и Вы не должны подвергать такой опасности свое здоровье. Ведь на самом-то деле Вы не совершили преступления! По природе своей Вы добры, умны, интеллигентны, я всегда видела это. То короткое время, что я Вас знала, было счастливейшим временем моей жизни.
Это письмо вышло слишком длинным. Опять о Вас говорит вся Варшава, но на этот раз не просто с восхищением, но и с почтением. У нас дома есть телефон, и многие из наших друзей, кто знал о нашем знакомстве, сразу же позвонили мне. Профессор Рыжевский сам предложил, чтобы я написала Вам. Он передает Вам привет и пожелания всего наилучшего в жизни, хотя и не знает Вас. Галина счастлива была узнать, что Вы живы, и напишет Вам коротенькое письмо. Длинное она предоставляет мне.
Да хранит Вас Бог.
Навеки преданная Вам Эмилия.Братья Зингеры. Две писательские судьбы
В литературе на идиш есть два Зингера, два прекрасных, но совершенно разных писателя. Старший Израиль Иошуа Зингер (1893–1944) — один из немногих романистов, писавших на идиш. Исаак Башевис Зингер (1904–1991), младший брат, — лауреат Нобелевской премии по литературе за 1978 год — стал заметным явлением в литературе благодаря многочисленным удачным переводам на английский язык. Младший Зингер — автор нескольких романов самого различного жанра и непревзойдённый мастер короткого рассказа.
Оба талантливых брата сыграли свою роль в литературе, только на разных этапах её развития.
* * *
Зингеры — семья потомственных раввинов. В семье четверо детей: старший брат Израиль Иошуа, сестра Гинда Эстер, впоследствии писательница и переводчик, и двое младших — Исаак и Моше. Последний, став раввином в старом Дзикове, единственный из детей сохранил верность семейной традиции.
Бесконечные переезды: Билгорай, Леончин, Радзимин и наконец Варшава. Традиционная еврейская жизнь. Двор на Крохмальной — улице еврейской бедноты. Хедер. Иешива. Дома — бет-дин (раввинский суд). Старший брат оставляет иешиву, пытается стать художником. Пробует писать. Несколько его новелл из жизни хасидов печатаются в варшавском еженедельнике «Дос Идише Ворт». В 1918 году он переезжает в Киев, работает корректором и рассыльным, ведет редакторскую работу, много печатается (бытовые зарисовки, рассказы, очерки), ездит по Галиции. С 1921 года живет и работает в Варшаве.
А что же Исаак? После начала Первой мировой войны мать с двумя младшими детьми уезжает к себе на родину в Билгорай, небольшой городок в Привислинском крае. Там жизнь евреев течет, как и сто лет назад, словно время повернуло вспять. Дед Исаака, отец матери, не мог позволить новым веяниям нарушить устоявшуюся, размеренную — или же просто остановившуюся — жизнь… Здесь мальчик слушал бесконечные рассказы тетки Ентл.
Впечатления детства… Сколь важны они для писателя, художника или музыканта? Не слишком ли мы преувеличиваем их значение? Столько сказано-пересказано о чудесной няне Пушкина Арине Родионовне… А может, просто дело в самом Александре Сергеевиче? Наверно, у каждого в детстве была своя Арина Родионовна, но не каждому дано её услышать. Впечатлительная натура Исаака восприняла и услышала многое: прелестный сборник рассказов «Бет-дин моего отца» целиком основан на детских впечатлениях, а большинство рассказов — это билгорайские истории тётки Ентл. Сборник новелл и воспоминаний Израиля Иошуа «Мир, которого уже нет» тоже основан на впечатлениях детства. Но сколь разнятся они друг от друга: разные поколения, разное восприятие мира…
* * *
Что же такое еврейская литература начала нашего столетия? Классики литературы на идиш: Мендель Мойхер-Сфорим, Шолом-Алейхем, Ицхак-Лейбуш Перец — тяготели к жанру короткого рассказа. Они и задавали тон всей еврейской литературе. Видимо, для описания простых горестей и радостей повседневной жизни местечка («штетла») эта форма подходила наилучшим образом. Кроме того, писатель выступал и в роли этакого резонера, наставника и советчика в вопросах этики, представляя изображаемые им характеры и в роли подсказчика, и проводника читателя.
В Европе же в первые десятилетия нашего века набирает силу «полифоническая форма» — роман. Это, конечно, напрямую связано со все более бурным техническим прогрессом: жизнь идет все быстрее, и у людей возникает чувство собственной ничтожности на фоне «великой истории», человек ощущает себя песчинкой, влекомой мощным потоком. На первое место выходит жанр семейного романа-хроники — неспешное повествование о жизни семьи на протяжении нескольких поколений.
Урбанизация восточноевропейского еврейства и его резкое имущественное расслоение приводят к тому, что евреи включаются в темп современной жизни, и как следствие происходит европеизация еврейской культуры. Еврейская литература начинает отходить от традиций. Возникает тревожное чувство: не отстать! Догнать уходящий поезд! На первый план выходят такие писатели, как Израиль Иошуа Зингер. Его первое большое произведение — повесть «Иосе Кальб» о жизни галицийских хасидов, затем большой роман-хроника «Братья Ашкенази». Способный журналист и издатель становится известным писателем. Он — рационалист и скептик. Он старается отстраниться, оттолкнуться от еврейской культуры. Что это? Простое следование веяниям европейской культуры? Или же свой, параллельный путь, на который выводит жизнь? Трудно сказать. Но так или иначе — это один из наиболее читаемых писателей своего времени.
Читая «Братьев Ашкенази», я не могла отделаться от впечатления, что он чем-то напоминает роман Владислава Реймонга «Мужики» (Chlopy), хотя один — о жизни евреев промышленной Лодзи, другой — бытописует жизнь польского крестьянства. Через некоторое время, «к вящему своему удивлению», как говорили в старину, увидела то же сравнение в большом и подробном очерке — предисловии Ирвинга Хоува к сравнительно недавно появившемуся американскому изданию романа. В свое время (роман был опубликован в 1936 году) книга пользовалась огромным успехом.
Сейчас этот роман может показаться старомодным. Но тогда эта вещь сразу завоевала симпатии читателей, тех, кто любит толстые неспешные семейные романы-хроники в традиционном стиле, преобладавшие в европейской литературе на протяжении по меньшей мере столетия. Для еврейского писателя не просто было преодолеть традиционность литературы на «жаргоне» — жанр короткого рассказа и создать масштабную картину исторических изменений в еврейской жизни.
Пришла известность. И вот появляется еще один роман-хроника, да какой! «Семья Карновских». Такое впечатление, будто писатель, который старался написать просто доброкачественный роман, — не хуже других, а может, и лучше (и ему это удалось!) — вдруг обретает себя, обретает удивительный, неповторимый собственный голос. Сколь различны две эти вещи! Фабулу романа изложить сложно и, вероятно, не нужно. Надеюсь, рано или поздно читатель сумеет познакомиться с этим произведением поразительной трагедийной силы.
* * *
В 1933 году Израиль Иошуа переезжает в Америку и начинает работать в еврейском еженедельнике «Форвертс». Именно там и созданы самые крупные его произведения: «Братья Ашкенази» (1936 год) и «Семья Карновских» (1943). В 1944 году он умер.
Израиль Иошуа был одним из самых известных еврейских писателей, но мировая известность пришла к нему только после переводов на английский язык. В основном его знает и любит старшее, уже уходящее поколение. Быть может, он вернется к нам вновь?..
* * *
В 1921 году Исаак вслед за братом приезжает в Варшаву. Через год он опять в Билгорае. Преподает иврит — современный иврит! — юношам и девушкам. Его первый литературный опыт — поэма на иврите. Проходит еще год, и он снова в Варшаве. Работает корректором в еженедельнике «Литерарише блетер», возглавляет который его брат Израиль Иошуа, кроме того, пишет рецензии, переводит на идиш Гамсуна, Ремарка, Томаса Манна. Начинает писать сам, теперь уже на идиш. Здесь окончательно сложилось его литературное имя — Башевис-Зингер: должно же оно хоть чем-то отличаться от имени брата, с которым даже инициалы совпадают!
* * *
«Век шествует своим путём железным». Так Евгений Баратынский говорил о своём веке. И пушкинское: «Ужасный век! Ужасные сердца!» Тоже о нас? Всегда ли людям казалось, что именно они живут в страшные, апокалиптические времена?
Что же за время — первая половина двадцатого века? Пожалуй, этот век начинается не в 1900 году, а значительно раньше.
Невероятный технический прогресс. Секуляризация образования. Массовый отказ молодого поколения от религии, независимо от вероисповедания. Надежда на всеобщее братство и согласие. Всё возможно на этом свете, все в активном залоге: всё могу понять, всё могу делать. О, бойтесь того, кто скажет: «Я знаю, как надо!» Стремительный научный прогресс. Фетишизация науки. Непреложность открытых законов природы. «Вера в науку» — невероятная, всеобъемлющая: можно исправить реальность, сделав практические выводы из наук социальных. Отсюда незначительность и ничтожность человека. Не личность, а человек-винтик. Появляется термин «массы». К «массам» можно относиться хорошо, можно даже жизнь за них положить, а можно — иначе. Но человек — человек исчезает. Этот психологический тип — вне нормы. Изолировать. Уничтожить. Этот народ вреден для всего человечества. Изолировать. Потом уничтожить. Сию задачу Адольф Эйхман поставил перед высшим офицерским составом германской армии на конференции в Ванзее: окончательно решить еврейский вопрос, сохранив при этом порядочность и благородство.
«Борьба с мелкобуржуазной стихией» — ещё один памятный нам лозунг. Создать, «выковать» нового человека, «перековать» несознательных и остаться порядочными, честными, с чистыми руками. Такова была задача ЧК. Не будем говорить здесь о «рыцаре революции» Феликсе Эдмундориче, но любимец партии, знаток литературы, ценитель поэзии, «мягкотелый интеллигент» Николай Иванович Бухарин — почитайте его. Что он говорит! Боже, что он говорит?! Да примерно то же самое: всего лишь миллион уничтожить, зато какая наступит жизнь!
Пастернак обмолвился: «Я нам не нужен». «Мне на шею бросается век волкодав…» — провидел другой. А вот и ещё:
…Не разберёшься, который век, А век поджидает на мостовой, Сосредоточен, как часовой. Иди — и не бойся с ним рядом встать. Твоё одиночество — веку под стать. Оглянешься — а вокруг враги; Руки протянешь — и нет друзей; Но если он скажет: «Солги», — солги. Но если он скажет: «Убей», — убей. ……………………………… О мать-революция! Нелегка Трёхгранная откровенность штыка…* * *
Эти строки принадлежат одесситу Эдуарду Багрицкому, птицелову, жизнелюбу. Гениально и лаконично.
Жизнь идет, неизвестно, вперед ли, но по-новому. А жизнь в местечке, в еврейском доме остановилась. И вот ушел из дома — традиционного еврейского дома — Багрицкий. Ушел из дома Израиль Иошуа. Вслед за ним ушел Исаак. Происходит неизбежное. Молодые рвутся на волю.
Есть такое выражение: «местечковый еврей», выражение с оттенком неприязни и уничижительности. Но не бывает дыма без огня, и, видимо, за этими словами — реальность, люди и характеры. Это теперь, после всего, что случилось, после Катастрофы европейского еврейства, после уничтожения еврейской жизни, еврейского быта — теперь, когда местечко ушло, жизнь его представляется нам необыкновенно милой, поэтичной, исполненной нравственной чистоты. Современное поколение романтизирует местечко, тоскует по «идишкайтности». Им, живущим после великой трагедии народа — после Катастрофы, необходим этот исчезнувший мир.
* * *
В 1925 году в «Литерарише блетер» появляется первый рассказ Исаака Зингера. И почти десятилетнее молчание. Он работает в еврейском журнале «Глобус», много переводит, пишет критические статьи, рецензии. Старшего брата он всегда считал своим учителем. И вот в 1933 году в «Глобусе» печатается (в отрывках) повесть Исаака «Сатана в Горае», совершенно не похожая на произведения брата: в местечке под Люблином (дело происходит в XVII веке) появляется посланец Саббатая Цви и возглашает скорый приход мессии.
Совершенно иной, индивидуальный стиль! Изумительно живой, не слишком серьезный язык. Ироничный и насмешливый тон, описание необычных проявлений человеческого бытия. Имя у него тоже другое: Башевис-Зингер (Башева — имя матери).
Поколение писателей, к которому относится Израиль Иошуа, — это те, кто стремился уйти прочь от самоанализа и от прежней традиции «местечковых» писателей, подобных Менделе-Мойхер-Сфориму и Шолом-Алейхему. Эта писатели пытались привнести в еврейскую литературу повествовательность, многообразие сюжетных линий, свойственные европейскому роману, представить современные еврейские характеры: капиталисты, революционеры, политические лидеры вместо пассивных богобоязненных евреев «штетла». Это импонировало поколению ушедшему, нравится нынешнему старшему поколению.
Младший брат, Исаак, безусловно, тоже мастер, но он резко отделяет себя от мира светской еврейской культуры, ее норм и стиля. Ухитряется вернуться к допросвещенческому восприятию мира, то есть до эпохи «гаскалы»[48], и при этом остаться современным писателем.
* * *
У Башевиса-Зингера — самые разнообразные, типажи. Ему не раз доставалось от критиков за недостаточную, так сказать, идеализацию еврейской жизни. Но какие бы персонажи и характеры ни встречались в его романах, повестях и рассказах, отношение автора к героям неизменно — он любит их. Иногда посмеивается, порой иронизирует, но никогда не высмеивает их. Мир его героев добр.
В 1935 году Израиль Иошуа, к тому времени известный, признанный писатель, помог Исааку переехать в Америку. Исаак работает в «Форвертс», издающемся на идиш еврейском еженедельнике. Там же и печатается. «Сатана в Горае» выходит отдельной книгой. 1945-й — «Гимпель-дурень», сборник рассказов. Наконец, 1946-й — роман-эпопея «Семья Мушкатов» о жизни огромного варшавского клана с начала века до Второй мировой войны.
Мировая известность приходит к Башевису-Зингеру после выхода в английском переводе «Семья Мушкатов» (1950). В 1953 году Сол Беллоу перевёл на английский его рассказы. Публикуется в «Форвертс» — из номера в номер — и «Фокусник из Люблина».
* * *
В 1978 году Исааку Башевису-Зингеру была присуждена Нобелевская премия по литературе. К этому времени вышли в свет 7 сборников его рассказов, 8 романов и 11 детских книг. Ранее, в 1966 году, Нобелевский комитет присудил премию Шмуэлю Агнону — еврейскому писателю, который пишет на иврите, современном языке. О, как быстро все меняется! На протяжении веков мертвым языком был древнееврейский. Так было и в начале века. И вот иврит живет, а идиш, разговорный язык подавляющего большинства евреев Европы, умирает.
«Язык рабства, который надо забыть» — точка зрения сионистов. «Зачем нам идиш, если мы уже принадлежим другой культуре?» — говорят ассимилированные евреи. Но Башевис-Зингер возражает: «Некоторые считают, что идиш — мертвый язык. То же самое говорили про иврит две тысячи лет подряд. Его возрождение в наше время просто чудо… Идиш еще не сказал своего последнего слова. Он таит в себе сокровища, не ведомые миру…». И еще: «Меня часто спрашивают, почему я пишу на мертвом языке? Мне нравится писать и рассказывать о духах, призраках и привидениях. Язык, который умирает, больше подходит для того, чтобы писать о лапетутниках, о проказливых чертенятах, о злых бесах. И чертям, и привидениям нравится идиш. Насколько я знаю, именно на идиш они и разговаривают».
До сих пор здесь ничего не сказано о «литературных достоинствах» произведений писателя. Об этом написано достаточно. Но мой очерк — не литературоведческая работа. Могу сказать лишь о своих впечатлениях и ощущениях. Что же так завораживает и привлекает в произведениях Зингера? Великолепные, мастерски сделанные описания природы? Нет, пожалуй. Этим он нас не балует, да и не удивишь нас, избалованных, читающих по-русски. Изумительно выписанные психологические типы? Тоже нет. Писатель говорит и говорит, рассказ течёт и течёт, и действуют не слова, а вот этот вялый, как будто безразличный тон. Ведется монотонное, неторопливое повествование на так называемом «мёртвом языке», и язык возвращается к жизни — язык, полный оптимизма, человечности, неизбывного мягкого и горького юмора. А мы — мы не можем оторваться, мы следуем за автором, пусть даже и с помощью переводчика. Так в чём же секрет? В чём «тайна творчества писателя»? Не знаю. Наверно, понять это нам пока не дано. А может, и не надо пытаться. Должны же иногда оставаться на белом свете неразгаданные тайны.
* * *
И последнее. Об этом трудно и не хочется говорить, но не говорить — нельзя. Основная тема прозы Башевиса-Зингера — ушедший мир польского еврейства: образ жизни, традиции, легенды и предания. Чудотворцы, мистики…
Но произошла КАТАСТРОФА. Мир после Освенцима стал другим. «После Освенцима нельзя писать стихи» — вот чувства и мысли многих. А немецкая еврейка Нелли Закс, чудом спасшаяся, уехала из Германии в мае 1940 года при энергичной помощи Сельмы Лагерлёф — только тогда и стала писать стихи. «Страшные переживания, которые привели меня на край сумасшествия и смерти, выучили меня писать. Если бы не умела писать, не выжила бы. Писать меня учила смерть. Мои метафоры — это мои раны» — её слова[49].
После Освенцима появилась Декларация прав человека. ЧЕЛОВЕКА! После Освенцима не могло, не должно было оставаться прежним христианство. После Катастрофы — только тогда! — христианский мир очнулся. Не сразу. Однако папской Буллой с евреев снято обвинение в распятии Христа. Появилась надежда на диалог. Но такому диалогу должно предшествовать покаяние. Западное христианство через покаяние прошло. Православию покаяние только предстоит. Одним из первых шагов на этом пути должно стать разрушение ложных мифов и стереотипов. Что знают в России о евреях, об иудаизме? Зачастую — увы! — почти ничего. Необходим диалог. Узнавание друг друга. И эта книга издательства «Амфора» — неоценимый подарок читателю.
Нина БрумбергПримечания
1
Рош-гашоно — Новый год по еврейскому календарю (1 тишри). Летоисчисление от сотворения мира.
(обратно)2
Йом-Кипур — Судный День, день поста, покаяния и отпущения грехов. Десятый день после Рош-гашоно.
(обратно)3
Кошер — еврейские законы о пище.
(обратно)4
Швуэс — праздник дарования Торы Моисею на горе Синайской. Отмечается шестого Сивана (третий месяц еврейского календаря), в начале лета.
(обратно)5
Ам-гаарец (букв. «человек земли», так сказать, «от сохи») — необразованный человек, невежда.
(обратно)6
Гемара — свод комментариев к Мишне. Вместе они образуют Талмуд.
(обратно)7
Гой — нееврей, иноверец.
(обратно)8
Шикса — девушка-нееврейка.
(обратно)9
Идише тохтер — букв. «еврейская дочь».
(обратно)10
Цадик (букв. «праведник») — набожный, благочестивый человек. У хасидов — духовный вождь общины. В некоторых случаях после смерти цадик становился объектом поклонения, напоминающего культ святых.
(обратно)11
Хедер — начальная школа.
(обратно)12
Бейт-мидраш (букв. «дом толкования») — учебное заведение, где особое внимание уделялось изучению Талмуда и послеталмудической литературы.
(обратно)13
Шмоне-Эсре — «Восемнадцать Благословений». Литературная молитва, одно из основных произведений синагогальной службы.
(обратно)14
Дибук — по народному поверью, злой дух, который вселяется в человека и овладевает его душой Он говорит устами своей жертвы, но не сливается с ней, сохраняет самостоятельность.
(обратно)15
Акдомут — мистический гимн одиннадцатого века на арамейском языке. Исполнялся в праздник швуэс.
(обратно)16
Креплах — пельмени.
(обратно)17
Цимес — сладкое блюдо из тушеной моркови и фруктов.
(обратно)18
Ав — пятый месяц еврейского календаря. Девятое Ава — день разрушения Храма, день поста и траура.
(обратно)19
Агуна — замужняя женщина, которая разъединена с мужем: либо он не дает развод, либо она не знает, где он находится. Поэтому она не имеет права выйти замуж.
(обратно)20
Кущи — праздник, посвященный Исходу из Египта и странствиям по Земле обетованной. Отмечается с 15 по 22 тишри — седьмого месяца еврейского календаря. На это время принято сооружать около дома шалаш, символизирующий образ жизни евреев во время сорокалетних скитаний по пустыне.
(обратно)21
Хлопы — крестьяне, мужики (польск.).
(обратно)22
Галут — изгнание (ивр.).
(обратно)23
Арнкодеш — Ковчег Завета, в котором хранились Скрижали с высеченным текстом Закона. В современной синагоге — шкаф (киот), в котором хранятся свитки Торы.
(обратно)24
Талес — молитвенное покрывало.
(обратно)25
Цицес — кисточки из шерстяных или шелковых нитей, которые прикрепляются к углам талеса и талескотна.
(обратно)26
Филактерии (тфилн) — прямоугольные кожаные футляры, содержащие изречения из Торы (на пергаменте). Прикрепляются ко лбу и к левой руке.
(обратно)27
Мезуза — прибитая к дверному косяку коробочка, в которой хранится пергамент с отрывком из Писания.
(обратно)28
Талескотн (Арбанкафес) — прямоугольник из шерсти или ситца, который ортодоксальные евреи постоянно носят под одеждой.
(обратно)29
Франкисты — последователи лжемессии Якоба Франка, принявшие впоследствии католичество (XVIII век).
(обратно)30
Шулхан-арух (букв. «накрытый стол») — сочинение Иосифа Каро, выдающегося ученого XVI века. Содержит свод правил, необходимых для повседневной жизни религиозного еврея.
(обратно)31
Меламед — учитель в начальной школе (хедере).
(обратно)32
Бегельфер — помощник меламеда.
(обратно)33
Клейзмер — музыкант, играющий на праздниках.
(обратно)34
Иешива (Ешибот) — религиозное учебное заведение.
(обратно)35
Квентник, педлер, хойзерер — торговец-разносчик, «коробейник».
(обратно)36
Рейфер — врач (идиш).
(обратно)37
Шамес — служка в синагоге.
(обратно)38
Миньян — необходимый кворум для коллективной молитвы: не менее десяти мужчин не моложе тринадцати лет.
(обратно)39
Ермолка — традиционный головной убор религиозного еврея: маленькая круглая шапочка, прилегающая к голове.
(обратно)40
Кадеш (Кадиш) — номинальная молитва.
(обратно)41
Шхита — правила убоя скота и птицы в соответствии с требованиями кошера.
(обратно)42
Прага — предместье Варшавы.
(обратно)43
Маскил — «просвещенец».
(обратно)44
Мишна, Гемара — вместе составляют Талмуд.
(обратно)45
Мидраши — общее название сборников раввинистических толкований священных текстов периода III–IX веков, не вошедшие в Талмуд. Особый литературный жанр, представляющий собой притчи и легенды, отвечающие на вопросы учеников.
(обратно)46
Зогар — «Книга Сияния». Сочинения рабби Симона бен Иохаи, где изложены основные положения Каббалы.
(обратно)47
«Шема» — начало молитвы: «Слушай, Израиль, Господь наш един…» Эту первую фразу, ставшую символом иудаизма, произносят в момент крайней опасности, а молитву — четырежды в день. Две тысячи лет еврейские мученики шли на смерть со словами: «Шема, Исраэль!»
(обратно)48
Гаскала — еврейское просветительское движение, возникшее во второй половине XVIII века.
(обратно)49
Нелли Закс — лауреат Нобелевской премии по литературе (1966).
(обратно)


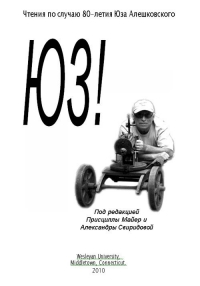
Комментарии к книге «Фокусник из Люблина», Исаак Башевис-Зингер
Всего 0 комментариев