Александр Дюма Прусский террор
Часть первая
I ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ В БЕРЛИНЕ
Каждый знает, что Берлин — один из тех городов симметрической планировки, строители которых словно расчертили их по линейке, чтобы придать им вид, противоположный тому, что называется живописным, и сделать из них столицы скуки.
Если посмотреть на Берлин с кафедрального собора, то есть с самого высокого сооружения, он выглядит огромной шахматной доской, а главными фигурами на ней кажутся Бранденбургские ворота, театр, Арсенал, Большой дворец, Домский собор, Опера, Музей, католическая церковь, Малый дворец и французская церковь.
Подобно тому как Сена делит Париж надвое, Берлин разделен на две почти равные части рекой Шпрее. Только эта река не раскрывает объятий и не заключает в них остров, подобный острову Сите; здесь вырытые руками людей два канала, напоминающие ручки кувшина, один с правого берега, другой — с левого, образуют в самой середине города два острова неравной величины. На одном из этих двух островов, занимающем исключительное положение словно для того, чтобы подтвердить право Берлина быть столицей исключительного права, — так вот, на одном из этих двух островов, повторяю, находятся Большой дворец, кафедральная церковь, Музей, Биржа и примерно двадцать домов, которых в Турине, этом южном Берлине, назвали бы дворцами. Другой же остров, не обладая ничем примечательным, соответствует нашей улице Сен-Жак и нашему кварталу Сент-Андредез-Ар.
Весь красивый Берлин, аристократический Берлин, высится по правую и по левую стороны Фридрихштрассе — улицы, тянущейся через весь город, от площади Бель-Альянс, откуда вы входите в город, до площади Ораниенбургер, где вы из него выходите.
На уровне двух третей своей длины Фридрихштрассе пересекается Липовой аллеей — единственным городским бульваром; пересекая аристократический район, она тянется от Оружейной площади до Большого дворца. Споим названием она обязана двум рядам великолепных лип: они образуют с права и слева от мостовой, предназначенной для проезда карет и верховых, очаровательные дорожки для пешеходов.
По обе стороны улицы открыты, в особенности летом, кафе и пивные; они выплескивают своих посетителей прямо на прогулочные дорожки, создавая тем самым большое движение на бульваре; впрочем, это движение не переходит в веселье и толчею: пруссаки развлекаются тайком и держат свою веселость в себе.
Но 7 июня 1866 года, около шести часов пополудни, прекрасным, насколько это возможно в Берлине, вечером, Липовая аллея являла собой зрелище настоящего оживления. Его породили прежде всего нараставшая враждебность Пруссии к Австрии и ее отказ собрать сейм Гольштейна для избрания герцога Августенбургского; весть о повсеместном вооружении; слухи о предстоящей мобилизации ландвера и роспуске Ландтага, а еще — телеграфные сообщения из Франции, якобы содержавшие угрозы в адрес Пруссии, угрозы, исходившие из уст самого императора французов.
Тот, кто не бывал в Пруссии, никогда не представит себе той ненависти, которую питают к нам ее жители. Она сродни навязчивой идее и мутит здесь даже самые ясные умы. В Берлине полюбят лишь того министра, который даст понять, что в один прекрасный день будет объявлена война Франции. Оратором здесь можно быть только при условии, если всякий раз, поднявшись на трибуну, бесцеремонно отпустишь против Франции очередную бойкую эпиграмму или остроумную двусмысленность из тех, что гак удаются северным немцам. Наконец, поэтом можно здесь быть только при условии, если уже сочинил или собираешься сочинить какой-нибудь направленный против Франции ямб под названием «Рейн», «Лейпциг» или «Ватерлоо».
Эта глубокая, застарелая, неистребимая ненависть к Франции неотъемлема от самой здешней почвы, она витает здесь в воздухе.
Откуда она происходит? Не имею представления. Возможно, еще с тех времен, когда некий галльский легион, составив авангард римских войск, вошел в Германию.
Трудно сказать, откуда идет эта вековая ненависть пруссаков к нам, разве что, отбросив предположение о галльском легионе, мы попробуем обратиться ко временам Росбахского сражения; но такого рода исторические отступления явно доказывают, что у пруссаков очень плохой характер, ибо именно тогда они нас разбили. Но это их чувство ненависти, пилимо, легче можно бы было объяснить, справившись о более близких нам по времени событиях: на этот раз наши предположения коснулись бы военной слабости учеников Фридриха Великого, которую они проявили it сравнении с нами после пресловутого манифеста, когда герцог Брауншвейгский пригрозил Франции не оставить камня на камне от Парижа.
И в самом деле, it 1792 году хватило лишь одной битвы при Вальми, чтобы выставить пруссаков из Франции; в 1806 году единственной битвы при Йене оказалось достаточно для того, чтобы перед нами распахнулись ворота Берлина. При этом нужно все-таки сказать, что этим двум датам нашего триумфа враги наши — ошибаюсь, соперники — противопоставляют Лейпциг и Ватерлоо.
Но в Лейпцигском сражении — сами немцы назвали его «Битва народов» — на долю пруссаков выпадает только четвертая часть победы, ибо вместе с ними в нем участвовали австрийцы, русские, шведы, не считая при этом еще и саксонцев, заслуживающих, однако, чтобы о них не забывали. Что же касается Ватерлоо, то для пруссаков это только полупобеда, поскольку Наполеон, оставаясь хозяином положения ко времени их прибытия, уже истощил свои силы в шестичасовом бою с англичанами.
При таком наследственно враждебном к нам расположении умов в Пруссии (в сущности, пруссаки никогда не имели намерения от нас это скрывать) не стоит удивляться оживлению, которое возникло из-за пока еще неофициальной, однако уже распространившейся и даже утвердившейся новости, будто Франция вполне может с мечом в руках броситься в готовившуюся схватку.
Но все же многие отрицали эту новость, ведь в утреннем выпуске «Staats Anzeiger»[1] о ней не было ни слова. Как и в Париже, в Берлине есть свои приверженцы «Вестника» и свои поклонники правительства, считающие, что «Вестник» не способен лгать, а правительство слишком прямодушно, чтобы в течение целых суток скрывать какое-либо сообщение, которое затрагивает интересы доверяющей ему добропорядочной публики. К последним присоединились и читатели «Tages Telegraph»[2], ежедневного телеграфного листка, считавшие, что этот ими предпочитаемый источник новостей слишком дорожил возможностью оправдать свое название и поэтому не позволил бы какому-либо сообщению попасть в чужие руки, прежде чем оно пройдет через его собственные.
Подписчики же «Кгеи/ Zeilung»[3] (а их было много, ибо само собою разумеется, что «Крестовая газета» не только орган аристократии, но и печатный листок премьер-министра) и спою очередь заявили, что поверят в сообщение подобной важности, только когда прочтут о нем у себя в газете, считавшейся — и, надо признаться, по праву — одной из наиболее осведомленных в Берлине. Но, кроме как на эти три упомянутые нами газеты, в толпе ссылались еще на десятка два других изданий, и ежедневных, и еженедельных, таких, как «Burger Zeitung», то есть «Городская газета», «National Zeitung»[4] и «Volks Zeitung»[5].
Но вдруг над всеобщим шумом раздались голоса двух-трех продавцов газет; они ворвались на бульваре воплями:
— Franzosische Nachrichten! Telegraphische Depesche! Ein Kreuzer! (Это означало: «Вести из Франции! Телеграфное сообщение! Один крейцер!»)
Понятно, какое действие могли произвести такие выкрики на умы, уже озабоченные подобными событиями. Несмотря на общеизвестную скупость пруссаков, каждый сунул руку в карман и, вытащив крейцер, купил себе драгоценный квадратный листок бумаги, где объявлялась неожиданная, а вернее, столь долго ожидаемая весть.
Правда и то, что долгое ее ожидание вполне искупалось той важностью, что была в ней заключена.
И в самом деле, вот точный, слово в слово, текст сообщения:
«Сегодня, 6 июня 1866 года, Его Величество император Наполеон III, направляясь из Парижа в Осер, чтобы присутствовать там на местной выставке, был встречен в воротах города господином мэром, обратившимся к императору от себя лично и от имени своих сограждан с речью, на которую Его Величество ответил следующими словами, и нам, право, нет нужды, цитируя их, взывать к проницательности наших соотечественников. Загадка весьма несложная, и всякий может ее разгадать:
"Счастлив видеть, что память о Первой империи не стерлась в ваших сердцах. Поверьте, я со своей стороны унаследовал чувства главы нашей семьи по отношению к этому деятельному и патриотическому населению, поддержавшему императора как в его счастливой судьбе, так и в его злосчастии. Впрочем, к жителям департамента Йонны я испытываю особую благодарность: этот департамент одним из первых отдал за меня свои голое в 1848 году. Ведь жители его шали, как и большая часть всего французского народа, что их интересы совпадали с моими и что я относился, как и они, с ненавистью к договорам 1815 года, из которых сегодня хотят сделать единственную опору нашей внешней полити-
На этом сообщение заканчивалось. Тот, кто его передал, не посчитал, что, кроме упоминания об отношении императора Наполеона к договорам 1815 года, остальная часть его речи тоже заслуживала публикации.
По правде говоря, то, что были опущены четыре или пять последних строчек ни в коей мере не уменьшало ясности этой речи.
Между тем, как бы ни было ясно сообщение, все же потребовалось некоторое время, чтобы, проникнув в умы многочисленных читателей, оно разбудило и растравило в них чувство ненависти.
Когда люди постигли смысл этой речи, им прежде всего представилось, что племянник Наполеона I занес руку над Рейном.
И тогда от одного конца аллеи к другому внезапно поднялась буря угроз, воплей, криков «ура» — для ее описания можно было бы воспользоваться ярким образом Шиллера в его «Разбойниках»: все обручи небесной бочки вот-вот должны были лопнуть.
Нашей бедной Франции угрожали поднятыми кулаками, ей посылались проклятия, в ее адрес раздавались призывы к мести. Один студент из Гёттингена, вскочив на стол, принялся читать с немецким выспренним пафосом одну из самых гневных поэм Фридриха Риккерта — «Возвращение».
Из-за ненависти, которая буквально грохочет в этой поэме, можно подумать, что она была сочинена специально к данному случаю, и мы отправляем тех читателей, кому любопытно было бы сравнить наш перевод с оригиналом, к книге этого поэта, озаглавленной «Железные сонеты».
Прусский солдат возвращается к семейному очагу после объявления мира и жалеет о том зле, что ему не удалось причинить:
Идите медленнее, ноги; до границы Уже дошли вы. Родина, с тоской И радостью тебя я вижу; не излиться Всей ненависти нашей — возвратится Она хотя бы камнем в их покой!
Покой бесчестной Франции нарушит Хотя бы камень этот! Пусть живет,
Не забывая то, что наши души
Отмщении полны — оно задушит Любое порождение ее!
Ее сыны уж двадцать лет бесчинно Сосут и з сердца твоего, о мать.
Святую кровь и девушек невинных.
Немецких девушек, со страстию — звериной Уж двадцать лет влекут в свою кровать!
Но вот взошла заря святого мщенья —
Березины предсмертный крик нас оглушил — Победа-ветреница кубок белопенный Нам протянула в день благословенный,
И цепи Йены Лейпциг разрубил!
И я бросался в бешеную схватку.
Моля Всевышнего, — коль смерть мне суждена. Пусть я сперва увижу, как в припадке Агонии, как в смертной лихорадке.
Хрипит и корчится проклятая страна!
Мольба оборвалась на полуслове:
Когда к нам слава обратила речь,
Когда победа веселящей новью Стучалась в сердце, жаждавшее крови,
Из рук моих был выбит острый меч!
Мир! Но по какому праву нас так обманули? Едва-едва забрезжил славы свет.
Как нас уже обратно повернули!
Весь их Париж мы в кровь бы окунули!
Теперь француз уже «наш друг». О нет!
Мой друг — француз?! Смеется надо мною Тот, кто такое только вздумать мог!
Ни во дворце, ни за глухой стеною Тюрьмы я не смирюсь с его виною —
Из рук не выпущу карающий клинок!
Лишь появлюсь я на пороге дома Такого друга, в сердце ничего Не пробудится, ненависти кроме К тому, кто, черной злобою влекомый,
Штыком увечил брата моего!
Вот я иду по набережной Сены В толпе довольных и трусливых лиц;
Я ненавистью исхожу священной,
Когда на статуе читаю: «Йена»
И вижу на мосту: «Аустерлиц»!
У ног моих внезапно вырастает Колонна бронзы, а на ней.
На золоченом пьедестале,
Победа — и * снимца и стали, —
Держащая и цепях Дунай и Рейн.
Но если б сила взгляда и движений Моих подобна молнии была,
То все, что мне кричит о пораженье —
Ту башню, статую и мост, — в отмщенье Я б с ликованием спалил дотла!
О, сердце матери, воистину, прекрасно!
Оно простило, а могло бы затаить
Обиду; я ж, проливший кровь свою напрасно.
Готов ответить карою ужасной И кубок мести с радостью испить!
Все впереди — о, я даю вам слово:
Еще придут другие времена,
И вот тогда на Францию мы снова Обрушимся и во второе Ватерлоо Заплатит побежденная сполна![6]
Не стоит и говорить, что весьма популярная во всей Германии, а в особенности в Пруссии, поэма, где так ясно выражается ненависть к нам прусского народа, вызвала у слушателей воодушевление. Крики «ура» и «браво», аплодисменты, возгласы «Да здравствует король Вильгельм!», «Да здравствует Пруссия!», «Смерть французам!» составили сопровождение, ничем не противоречившее поэтическому тексту и, несомненно, требовавшее продолжить чтение стихов, ибо декламатор объявил о желании прочесть еще одну вещь, на этот раз из сборника Кёрнера «Лира и меч».
Это заявление было встречено радостным одобрением.
Но не только в этом проявилось всеобщее воодушевление: понадобилось открыть не один предохранительный клапан для того, чтобы выпустить пар, нагнетаемый крайне возбужденной толпой.
Все там же, на аллее, но чуть дальше, на углу Фридрих-штрассе, люди узнали певца, возвращавшегося с репетиции из Большого театра. Однажды этому певцу пришла в голову мысль исполнить в театре известную песню Беккера «Свободный немецкий Рейн!», а сейчас здесь оказался человек, слышавший его там. Он сообразил, что теперь как раз подходящий случай еще раз послушать патриотическую песню, и принялся кричать: «Генрих! “Немецкий Рейн!”, “Свободный немецкий Рейн!”»
Услышав эти призывы, люди узнали певца (у него в самом деле был прекрасный голос, и он действительно превосходно исполнял эту песнь), окружили его, и он не заставил себя долго упрашивать.
Итак, посреди улицы, до отказа запруженной народом, der Herr Heinrich[7] запел, да самым раскатистым голосом, песню, о которой наш перевод, скорее точный, чем изящный, даст вам представление:
Воронья бешеная стая Кричит на все лады: «Убей!»
Но не получит свора злая Немецкий наш свободный Рейн!
Пока блестят его одежды,
И воды спят зеленым сном,
Пока челноке шептаньем нежным Взбивает пену под веслом.
Пока вино в мехах играет.
Подобно крови наших вен.
Не взять им — я уж верно знаю —
Немецкий наш свободный Рейн!
Пока в туманном полумраке Чуть различима Лорелей,
И рыбаку неверным знаком Приблизиться велит смелей,
Пока скала суровым взором Глядит в безудержный поток,
Пока готическим соборам Еще не вышел жизни срок,
Не заполучит вражье семя Немецкий наш свободный Рейн —
Пока живет последний немец,
В бою святом не убиен!
Если поэма, представленная нами читателю, имела успех, то песня вызвала уже безграничный восторг и произвела ошеломляющее впечатление. Но тут вдруг, совершенно неожиданно для всех, раздался мощный свист, казалось вырвавшийся из гортани локомотива: перекрывая крики восхищения и как бы протестуя, он обрушился на распалившихся слушателей и хлестнул, если можно так сказать, певца по лицу.
Даже если бы в гущу толпы упал снаряд, он не произвел бы более сильного действия. Послышался глухой рокот, похожий на тот, что предшествует грозе, и глаза людей обратились в сторону, откуда послышался этот протест.
И тогда нее увидели сидевшего та отдельным столиком красивого молодого человека двадцати пяти или двадцати шести лет, блондина с белой кожей, скорее изящного, чем могучего телосложения, с короткой остроконечной бородкой и тонкими усиками Ван Дейка, которого он несколько напоминал как лицом, так и костюмом.
Он держал и руке бокал шампанского, налитый им из только что откупоренной бутылки.
Не опасаясь злонамеренных помыслов, объектом которых он стал, и обращенных к нему угрожающих взглядов и поднятых кулаков, он встал, поставил ногу на стул и, подняв бокал над головой, сказал:
— Да здравствует Франция!
Затем он поднес бокал к губам и в один прием проглотил все его содержимое.
II ДИНАСТИЯ ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ
На мгновение в широком кругу зрителей, обступивших молодого француза, наступило оцепенение. Многие не знали нашего языка, и они не поняли тоста. Другие поняли, но, оценив смелость, с какой молодой человек бросил вызов разъяренной толпе, смотрели на провинившегося больше с удивлением, чем с негодованием. Наконец, были и такие, что все поняли и посчитали как намерение, так и действие француза оскорбительными, а значит, за такое двойное оскорбление положено было ему отомстить. При медлительности, всегда свойственной немцам, когда они принимают решения, эти люди могли бы дать ему время сбежать, но у него самого не возникло на то ни малейшего желания. Как раз напротив: всем своим поведением он показывал, что ждал последствий своего поступка и, каковы бы они ни были, готов был встретить их.
И, словно в ожидании более серьезного нападения, которое зрело против него, ибо слово «Franzose![8]» звучало уже угрожающе, он сказал на превосходном саксонском, наилучшем, какой только можно услышать от Тьонвиля до Мемеля:
— Да, я француз. Меня зовут Бенедикт Тюрпен. Я мог бы сказать вам, что я немец, раз говорю по-немецки так же хорошо, как и вы, и даже лучше, пасколь я получил образование к Гейдельберге. Берусь сразиться на рапирах, пистолетах, палках, шпагах, саблях, потягаться в рукопашном бою, возьмусь за любое другое оружие, какое вы пожелаете выбрать. Я живу в гостинице «Черный Орел» и готов дать удовлетворение любому, кто его потребует.
Как только был брошен вызов, из толпы на француза двинулись четверо мужчин, явно принадлежавших к низшим слоям общества, и, поскольку ничто еще не нарушило тишины, все услышали его слова, произнесенные в высшей степени презрительно:
— Прямо как под Лейпцигом, четверо против одного! Это еще не так много!
И, не ожидая нападения, прыжком настигнув того, кто оказался поближе, он разбил бутылку с шампанским об его голову, тут же покрывшуюся красноватой пеной; подставил подножку второму, отбросив его на десяток шагов в сторону; нанес кулаком мощный удар под ребра третьему, усадив его на стул; схватив четвертого за шиворот и за пояс, словно вырвал его с корнем из земли, приподнял, держа в горизонтальном положении, затем изо всех сил бросил на землю и, поставив ему ногу на грудь, процедил сквозь белые зубы, сжатые под торчащими и двигающимися усами;
— Вот Лейпциг и выигран!
Только тогда и разразилась настоящая буря. Люди ринулись на француза, но тот, не убирая ноги с груди поверженного им человека, схватил стул за одну из перекладин спинки и описал им по четырех-пятиметровой окружности такое молниеносное и могучее мулине, что на какой-то миг ошеломленная толпа ограничилась одними угрозами.
Но круг все сужался; вот уже чья-то рука схватила стул, остановившийся в своем вращательном движении, и стало ясно, что под натиском со всех сторон французу скоро придется сдать позиции; однако до него добрались два-три офицера прусского ландвера и оградили его собственными телами, а один из них сказал:
— Ну-ну, вы же не станете убивать этого смелого парня только за то, что он француз и, вспомнив об этом, крикнул «Да здравствует Франция!». Теперь он крикнет «Да здравствует Вильгельм Первый!», и мы будем квиты.
Затем он вполголоса сказал молодому человеку:
— Крикните: «Да здравствует Вильгельм Первый!», — или я за вас не отвечаю.
— Да, — завопила толпа, — да, пускай крикнет: «Да здравствует Вильгельм Первый!», «Да здравствует Пруссия!», и тогда с этим будет кончено.
— Хорошо, — сказал Бенедикт, — но я хочу сделать это свободно, так, чтобы меня к лому не принуждали. Отпустите меня и дайте мне влезть на стол.
— Ну же, расступитесь, дайте этому господину пройти, — обратились к собравшимся офицеры, подавая пример тем, что отпустили художника, — он хочет говорить.
— Пусть говорит! Пусть говорит! — закричала толпа.
— Господа, — сказал Бенедикт, а самом деле забравшись на стол, но выбрав себе тот, что стоял ближе всех других к окну кафе, — послушайте меня хорошенько. Я не хочу кричать «Да здравствует Пруссия!», потому что в момент, когда Франция, возможно, вступит в войну с Пруссией, кричать что-нибудь другое, кроме «Да здравствует Франция!», для француза было бы подлостью. И вовсе я не хочу кричать «Да здравствует король Вильгельм!», потому что Вильгельм мне не король и у меня нет никаких оснований желать ему жизни или смерти. Но я прочту вам чудесные стихи в ответ на ваш «Свободный Рейн».
Слушатели, не зная, каковы же были те стихи, которые собирался им прочесть Бенедикт, ждали их с нетерпением; их постигло первое чувство растерянности, когда они уразумели, что стихи были французскими, а вовсе не немецкими, но прислушиваться к ним они стали с еще большим вниманием.
Как их и предупредил Бенедикт, это был на самом деле ответ на «Немецкий Рейн», и ответ этот дал Мюссе.
Представившись толпе, Бенедикт забыл упомянуть о своих способностях актера-любителя, на что он имел несомненное право, превосходно читая стихи.
Кроме того, он вложил в чтение этих стихов всю свою душу, поэтому не стоит и говорить, что следующие строки были прочитаны и пылко, и с достоинством:
Его мы взяли, ваш немецкий Рейн!
Он плещется у нас в стаканах;
Напев ваш с каждым часом злей,
Но заглушит ли топот рьяный Копыт в крови врага омывшихся коней?
Его мы взяли, ваш немецкий Рейн!
Взгляните на речное лоно:
Одной рукой своей Конде Сорвал реки покров зеленый;
А где отец прошел — уж сын пройдет везде.
Его мы взяли, ваш немецкий Рейн!
Где ваш хваленый немец бродит,
Которого, мол, нет смелей?
Его наш Цезарь не находит Среди притихших и безропотных людей!
Его мы взяли, наш немецкий Рейн!
Как под забудете — спросите Об этом наших дочерей,
Невест и жен, нельзя не забыть им.
Как угощать вином непрошеных гостей!
Споим хотите знать вы Рейн?
Тогда стирайте в нем кальсоны И рассуждайте холодней О нем — недь схожи вы с вороной,
С орлом сцепившейся, а надо быть скромней!
Немецкий пусть течет спокойно Рейн!
Нам не нужна река чужая:
Готические пусть соборы н ней Спои фасады мирно отражают,
Но пьяной песней не тревожьте воинских теней.[9]
По мере того как наш художник продолжал свое выступление, слушатели, по крайней мере те, кто говорил по-французски, стали убеждаться в том, что их ввела в обман новая выходка Бенедикта, взявшего слово, как оказалось, только затем, чтобы сказать своим слушателям те истины, каких они не ждали.
И с той минуты, когда у них уже не возникало никаких сомнений на этот счет, на время утихшая буря вновь загремела угрозами, и их стало еще больше, чем раньше. Вот почему, чувствуя, что гнев поднимался в толпе, словно прилив на море, и понимая, что на этот раз у него не оставалось ни одного шанса на какую бы то ни было помощь, Бенедикт уже стал оценивать расстояние между столом, на который он взобрался, и окном кафе, как вдруг всеобщее внимание привлекло несколько пистолетных выстрелов, которые раздались шагах в двадцати от толпы, в центре внимания которой находился Тюрпен.
Шум и дым указывали то место на аллее, откуда раздались эти выстрелы.
Элегантный молодой человек в штатском пытался убить другого человека, одетого в мундир полковника ландвера и казавшегося вдвое старше, чем нападавший.
Оба ожесточенно боролись: один за то, чтобы отнять жизнь противника, другой — защищая свою собственную.
В ходе этой борьбы грянул новый пистолетный выстрел, но тот, кому предназначалась пуля, не был ею задет.
Напротив, тот, жизни кого угрожала опасность, только удвоил свои усилия, ибо он схватился с врагом врукопашную и, нс помышляя лаже знать на помощь — хотя ему стоило только крикнуть и она была бы ему оказана, — принялся трясти противника до тех пор, пока тот совсем не обессилел, опрокинул его на спину, потом упал на нею, а затем, приподнявшись, встал ему коленом на грудь.
Вот тогда все бросились к борцам, и в том, кто только что подвергся столь великой опасности, люди с удивлением узнали графа Эдмунда фон Бёзеверка — министра короля Вильгельма.
А тот уже успел вырвать из рук убийцы револьвер, так дурно послуживший его владельцу. Первым движением министра было приставить револьвер к голове молодого человека и размозжить ее последней пулей, которой еще было заряжено оружие. Этого ждал и сам побежденный; почувствовав у своего виска холодное дуло, он сказал:
— Стреляйте! Стреляйте же!
Но граф передумал. Он сунул револьвер себе в карман и, передав убийцу в руки двух офицеров, сказал:
— Господа, этот молодой человек, должно быть, безумец, к тому же он крайне неловок. Без всякого подстрекательства с моей стороны он набросился на меня и пять раз выстрелил в упор из револьвера, но не задел. Отведите его в ближайшую тюрьму, а я тем временем дам отчет королю об этом покушении. Не стоит и объяснять, не правда ли, что я премьер-министр, граф фон Бёзеверк.
Затем, достав носовой платок, он обернул легкую царапину на руке и, направившись обратно по дороге, что привела его сюда, пошел к Малому королевскому дворцу, находившемуся на расстоянии не более двухсот шагов от места, где было совершено покушение.
Оба офицера передали убийцу в руки подбежавшим стражникам, и, так как тот отказался ответить на заданные ему вопросы, один из стражников, сознавая возложенную на него ответственность, отконвоировал преступника до городской тюрьмы, куда и сдал его.
Когда же люди в толпе вспомнили о Бенедикте Тюрпене, оказалось, что тот исчез. Впрочем, он более их не занимал, так как серьезное второе событие заставило толпу почти забыть о первом.
Мы же воспользуемся этой минутой и бросим взгляд на тех действующих лиц, кому предстоит сыграть значительную роль в настоящем повествовании. Но начнем мы все же с описания той земли, где, как мы увидим далее, они будут действовать.
Наименее немецкая из немецких областей, Пруссия многонациональна. Кроме немцев, в ней проживают большое число славян. Тут встречаются пеням, галлоры, кашубы, куроны, латыши и литоты, поляки и потомки франкских беженце». Король Пруссии и сегодня еще с гордостью носит титул герцога Кашубского.
Герцог Фридрих —»от кто основал не величие, но процветание дома Гогенцоллерно». Это был самый великий ростовщик своего времени. Не сосчитаешь, сколько он выколотил золота у евреев, и не скажешь теперь, каким способом он это делал. Вначале он служил императору Венцеславу; потом, увидев, что тот близок к падению, переметнулся в лагерь императора Оттона, соперника Венцеслава; затем, поняв, что и над тем нависла угроза потерять корону, объявил себя сторонником Сигизмунда, брата Венцеслава.
В 1400 году, в то самое время, когда Карл VI возвел в дворянство золотых и серебряных дел мастера Рауля, давшего ему взаймы денег, Сигизмунд, попав в затруднительное положение, занял 100 000 золотых флоринов у Фридриха, взявшего у него в залог маркграфство Бранденбургское. Через пятнадцать лет Сигизмунд, вынужденный оплачивать безумные траты на церковный собор в Констанце, задолжал Фридриху на этот раз 400 000 золотых флоринов. Не будучи в силах выплатить ему подобную сумму, он продал ему, вернее уступил в счет долга, Бранденбургскую марку и курфюрстское достоинство. В 1701 году курфюршество было возвышено до королевства. Герцог Фридрих III стал королем Фридрихом I и принял титул короля Пруссии.
Недостатки и достоинства Гогенцоллернов были недостатками и достоинствами их страны, другими словами, прусские финансы всегда были в превосходном порядке. Но моральное состояние правительства редко оказывалось в равновесии с финансовым; все Гогенцоллерны вели одну и ту же политику, с большим или с меньшим лицемерием, но с неизменной алчностью.
Так, в 1525 году Альбрехт Гогенцоллерн, великий магистр Тевтонского ордена, которому принадлежала Пруссия, изменил своей вере и, перейдя в лютеранство, был признан прусским наследственным герцогом под сюзеренитетом Польши. В 1613 году курфюрст Иоганн Сигизмунд, желая заполучить для дома Гогенцоллернов герцогство Клеве, последовал примеру Альбрехта и стал кальвинистом.
Итог политике бранденбургского курфюрста в двух словах подвел Лейбниц: «Союз с тем, кто больше платит». Это Иоганну Сигизмунду Европа обязана повсеместному распространению постоянных войск. Он женился вторым браком на знаменитой Доротее, учреди вшей в Берлине молочные лавки и таверны, где она продавала молочные продукты и пиво собственного производства. Что же касается Фридриха II (мы оставляем за ним всю его репутацию военного деятеля), то он, дабы расположить к себе Россию, предложил великим князьям Московским поставлять (этим термином он пользовался) немецких принцесс по самой сходной цене. Именно так он и поставил принцессу Ангальтскую, ставшую Екатериной Великой. Мимоходом отметим, что именно он совершил первый раздел Польши. Это злодеяние короля вечно будет отягощать прусскую корону проклятием народов. Совершая этот акт каннибализма, он написал своему брату, принцу Генриху, следующую нечестивость: «Приезжай, мы причастимся от одного и того же евхаристического тела — от Польши!»
Наконец, Фридриху Великому принадлежит и такое высказывание: «Обедать всегда лучше за чужим столом».
Известно, что Фридрих II не оставил детей, и — как странно! — его в этом упрекнули, словно подобное случилось по его собственной вине, а историки до такой степени несправедливы, что даже не говорят, на чем, собственно, они основывают этот упрек. Его племянник, Фридрих Вильгельм II, занял трон после него, и он же в 1792 году вторгся во Францию. Вошел он туда с большим шумом вслед за провозглашением манифеста герцога Брауншвейгского, но уходить ему оттуда пришлось без барабанов и фанфар и в сопровождении Дантона и Дюмурье.
Наследовал ему его собственный сын, Фридрих Вильгельм III.
Это уже человек, связанный с Йеной! К числу раболепных писем, какие Наполеон I получал в дни своего величия, нужно причислить и письма от Фридриха Вильгельма III.
Фридрих Вильгельм IV — мы в ускоренном темпе приближаемся к нашему времени — взошел на трон в июне 1840 года. По обычаю Гогенцоллернов, сначала он создал либеральное министерство и, всходя на прусский трон, сказал Александру фон Гумбольдту:
— Как представитель знати я первый дворянин в королевстве, но как король я только первый гражданин.
Карл X, всходя на французский трон, сказал примерно то же самое, вернее, г-н де Мартиньяк сказал это за него.
Между тем, первым доказательством либерализма Фридриха Вильгельма III явилось то, что он организовал в своем государстве единомыслие по принципу ландвера духа. Эту заботу он поручил министру Эйххорну.
Имя его, означающее «белка», оказалось пророческим. Он превратил искусство и нечто вертящееся вокруг самого себя. За десять лет существования министерства искусство н стране не сделало ни шагу, хотя нее время вращалось.
Но реакция при этом была очень сильна: пресса подвергалась гонениям, продвижение по службе и награды получали только доносчики и лицемеры; если человек хотел дослужиться до высоких чинов, он вынужден был стать услужливым орудием для пиетистической партии, главой которой был сам король.
Среди прочих монархов Фридрих Вильгельм наряду с королем Людвигом Баварским был самым большим любителем литературы, только король Людвиг Баварский поощрял искусство в любой его форме, тогда как Фридрих Вильгельм дисциплинировал его на пользу своему абсолютизму, принуждая его двигаться вспять.
Он поддерживал переписку с королем Людвигом, вынужденный, по воле случая, как наш сатирик Буало (у того все же было оправдание, которого не мог представить Фридрих Великий), — вынужденный, повторяем, подавать пример добрых нравов своему двору и городу.
Однажды в сочиненном им четверостишии он упрекнул баварского короля в том, что тот возмутил мир коронованных особ своей близостью с Лолой Монтес. Король Людвиг ограничился тем, что ответил ему четверостишием, которое обошло всю Европу:
Ханжа! Король любовью пьян, ты это знаешь,
И все ж, в оценках добродетели суров.
Меня пленительною Лолой попрекаешь. —
Ты сам — ужели ты презрел любовь?
Любители посмеяться, и в особенности люди остроумные, были на стороне короля Людвига, тоже человека остроумного.
В 1847 году, после продолжавшихся в течение семи лет домашних обысков, высылок в двухчасовой срок, в Берлине, наконец, собрался прусский Ландтаг.
Речь Фридриха Вильгельма по случаю открытия Ландтага была примечательна вот такой фразой, с которой король обратился к депутатам:
— Помните, господа, что вы представляете здесь не только чувства народа, но и его интересы.
Немногим позже, и в тот же год, Фридрих Вильгельм IV узаконил свое божественное право, когда, разрывая конституцию, он сказал:
— Не желаю, чтобы клочок бумаги оказался между моим народом и Богом.
Вне всякого сомнения, он не осмелился сказать: «Между моим народом и мною».
Когда разразилась революция 1848 года, ей эхом откликнулся и Берлин. Вскоре столица Пруссии вверглась в пучину восстания. Король совсем потерял голову. В те минуты, когда, покидая столицу, он проезжал мимо трупов повстанцев, ему крикнули: «Шляпу долой!» — и он вынужден был обнажить голову, а в это время толпа пела знаменитый гимн, сочиненный великой курфюрстиной:
Иисус, лишь на тебя я уповаю!
Всем известно, каким образом абсолютизм сумел сломить сопротивление Национального собрания и как в скором времени к власти пришла реакция:
Мантёйфель, политика которого завершилась полным провалом в Ольмюце, когда Австрия одержала верх, причем самым внушительным образом;
Вестфален, воскресивший провинциальные ландтаги и приведший короля к пресловутой варшавской встрече;
Шталь, крещеный еврей и иезуит-протестант, ставший чем-то вроде несостоявшегося великого инквизитора;
наконец, оба Герлаха, эти гении интриги, историей своей связанные с историей двух шпионов — Ладенберга и Техена.
Хотя Фридрих Вильгельм IV присягнул конституции, учредившей две палаты еще 6 февраля 1850 года, только при Вильгельме Людвиге, его наследнике, то есть при государе, который и в наши дни занимает трон, Палата господ и Палата представителей начали действовать.
Из чиновничества, правоверного духовенства, мелкой провинциальной знати и части пролетариев сформировалась лига. Эта лига явила на свет знаменитую ассоциацию, названную, конечно иносказательно, «Патриотический союз» и имевшую целью отмену конституции.
Тогда-то и появился в Кёнигсберге в качестве первого председателя граф Эдмунд фон Бёзеверк; до сих пор игравший весьма значительную роль в делах Пруссии, он был призван и далее играть там не менее значительную роль. Вследствие этого придется сообщить о нем не меньше, чем мы рассказали о Гогенцоллернах, а это значит, что нам не обойтись без того, чтобы не посвятить целой главы этому человеку и сегодняшней Пруссии.
Разве граф Эдмунд фон Бёзеверк не больше король, чем сам король?
III ГРАФ ЭДМУНД ФОН БЁЗЕВЕРК
Многие искали причины того, что граф Эдмунд фон Бёзеверк занял столь высокое положение при споем государе, и утверждают, что они обнаружили их.
Первой и, на наш взгляд, даже единственной причиной, возможно, является его неоспоримая гениальность, которую признают за ним даже его враги.
Правда, гениальность не всегда становится условием успеха, а короли, особенно в отношении этого качества, часто оказываются слепы.
Расскажу одну-две истории, где главным действующим лицом явился премьер-министр.
Известно, что в Пруссии вопрос военного этикета доведен до абсурда. Позвольте мне предварить связанный с этим анекдот про г-на фон Бёзеверка первым анекдотом, который мне довелось услышать во время моей последней поездки во Франкфурт.
Один померанский генерал (попутно заметим, что Померания — это немецкая Беотия), стоя с гарнизоном в Дармштадте, скучал, как скучают в Дармштадте, то есть так, когда захочешь, чтобы занялся пожар, или вспыхнула революция, или началось землетрясение, и когда подумаешь: пускай нагрянут самые великие беды, только бы хоть на миг развлечься.
Генерал встал у окна, чтобы посмотреть на прохожих, а их все не было. Вдруг он увидел вдалеке офицера без сабли. О, вот оно — отсутствие дисциплины!
— А, — вскричал обрадованный генерал, — вон идет лейтенант, он-то и заплатит за все! Десять минут выговора и две недели ареста! Вот денек и не потерян!
Между тем лейтенант, ничего не подозревая, подходил все ближе.
Когда он подошел настолько, что мог расслышать голос генерала, тот крикнул ему:
— Лейтенант Руперт!
Офицер поднял голову и увидел генерала в окне. Мигом он вспомнил, что оставил саблю дома, и понял, насколько ужасно положение, в каком он оказался. К несчастью, нечего было и думать о том, чтобы вернуться, теперь предстояло выдержать бурю, какой бы она ни была. Лицо у генерала сияло.
Он потирал руки как человек, наконец нашедший то, что искал, то есть подходящий случай развлечься.
Лейтенант Руперт подчинился судьбе и приготовился встретить неизбежное; пойдя ядом, он заметил в передней висевшую на стене саблю ординарца.
«Ага, черт возьми! — сказал он себе. — Вот мне и повезло!»
Он снял саблю со стены и пристегнул ее себе к поясу.
Затем, как ни в чем не бывало, он вошел к начальству и, остановившись в дверях, произнес;
— Вы оказали мне честь, генерал, позвав меня.
— Да, лейтенант, — ответил генерал, придав лицу суровое выражение, соответствовавшее случаю, — я хотел вас спросить…
И в эту минуту генерал заметил, что сабля у офицера на месте. Тогда физиономия у него резко изменилась и на губах появилась улыбка:
— …я хотел вас спросить… Что же, черт возьми, я хотел вас спросить? Ах, вот! Как там дела у вас в семье, дорогой господин Руперт, особенно меня интересует ваш отец.
— Если бы он только мог знать о ваших добрых чувствах к нему, он был бы очень рад, генерал. К несчастью, вот уже двадцать лет, как он умер.
Генерал смотрел на лейтенанта в совершенном оцепенении.
— Так что, — продолжал лейтенант, — вы не хотите мне сказать ничего другого?
— Честное слово, нет, — ответил генерал. — Только никогда не выходите без сабли, я ведь вынужден был бы посадить вас под арест на две недели, если бы на вас не оказалось ее.
— О, не дай Бог, я остерегаюсь этого, генерал! Вот посмотрите!
И он смело показал генералу висевшую у него на боку саблю.
— Да, да, вижу, дорогой мой Руперт, идите!
Офицер с удовольствием воспользовался этим разрешением, отдал честь генералу, вышел из гостиной и, повесив саблю на тот же гвоздь в передней, удалился. А генерал тем временем опять встал у окна и, вновь увидев, что офицер шел без сабли, позвал жену. Та прибежала.
— Смотри, — сказал он ей, — видишь того офицера, вон он уходит?
— Смотрю на него.
— Видишь его?
— Превосходно.
— Есть у него сабля?
— Нет.
— Так вот, ты ошибаешься. Это только кажется, что сабли нет, а она у него есть.
Жена не стала возражать: она привыкла верить своему cyпpyгy на слово. Что же касается офицера, тот отделался легким испугом и, никогда больше не выходил без сабли.
Так кот, такая же беда, даже более чем беда, унижение к таком же роде, чуть было не мало на голову самого короля Пруссии, когда он был еще принцем-наследником. Господин граф Эдмунд фон Бёзекерк занимал должность атташе посольства ко Франкфурте и знался просто Эдмундом фон Бёзенерком. Однажды принц-наследник сделал остановку к стольнем городе, собираясь пронести смотр гарнизона Майнца, и г-н фон Бёзекерк был удостоен чести сопровождать принца из Франкфурта к Майнц.
Ехали они железной дорогой; стоял август, была удушливая жара, и, к нарушение прусского этикета нее, к том числе принц-наследник, были вынуждены расстегнуться.
В Майнце их встречали: по обе стороны вокзала были выстроены прусские войска. Принц застегнулся, но пропустил одну пуговицу. К счастью, к ту минуту, когда он должен был выйти из вагона, г-н фон Бёзекерк заметил беспорядок к его одежде и бросился к нему.
— О принц, — вскричал он, — как же вы будете выглядеть?
И, к свою очередь забыв прусский этикет, запрещающий касаться принцев крови, продел пуговицу к петлю.
Именно после этого происшествия, по словам того человека, который рассказывал мне эту историю, г-н фон Бёзеверк и оказался в милости.
События 1858 года ввергли короля в весьма затруднительное положение, и он подумал, что лишь тот человек, который спас его честь тогда в Майнце, теперь может спасти его корону в Берлине.
Господин граф фон Бёзеверк стал тогда главой Junker Partei[10], взгляды которой выражала «Крестовая газета».
Граф и на самом деле был человеком, подходившим для партии. Он обладал красноречием, энергией мысли и действия. Он не скрывал, что для достижения его цели все средства хороши. И когда он ее достиг, то с высоты трибуны бросил застывшей в оцепенении Палате слова, которые не только подводили итог всей его политике, но были и следствием ее; «Сила выше права».
Вы понимаете, сила выше права, то есть выше правосудия, справедливости — того, за что человечество борется вот уже шесть тысяч лет и что Франция завоевала только 4 августа 1789 года.
Именно с того дня как Франция совершила это завоевание, она стала знаменем наций, символическим светочем человеческого разума на пути к прогрессу — столпом облачным днем и столпом огненным ночью. Ее политику можно свести к двум принципам: «Никогда не медлить с тем, чтобы остановить Европу» и «Никогда не спешить с тем, чтобы помешать миру идти за ней».
Венские договоры как раз и доказали бесполезность принятых против нее предосторожностей. Францию не ослабишь, ее только разгневаешь. Если Франция спокойна — она движется к прогрессу, если разгневана — она совершает революции.
Живительное начало на земле могло бы быть олицетворено тремя народами:
торговая деятельность — Англией;
распространение нравственных истин — Германией;
духовное воздействие — Францией.
Кто же мешает Германии занять в Европе то значительное место, которое мы ей приписываем?
Те, кто, в то время как у нас есть свобода мыслить, оставляют ей только свободу мечтать!
В Пруссии есть лишь один воздух, которым можно дышать свободно.
Это воздух крепостей и тюрем!
Как же Германия дошла до того, что ее поработила Пруссия? Попробуем объяснить.
Прежде всего, оставим в стороне короля, скажем только, что Вильгельм I, союзник Виктора Эммануила, — тот самый человек, кто после битвы у Новары через прусского генерала Виллизена послал похвалы Радецкому, палачу Милана. Между тем, не все еще потеряно. Нет более немецкой морали, но ведь существует же еще немецкий г е н и й.
Немецкий гений стремится к миру и свободе — причем без революции, — но более всего желает независимости интеллекта.
Вот здесь и возникает то великое препятствие, с каким Пруссия столкнулась на своем пути. Именно против него она борется, старается его ослабить и надеется превозмочь.
Первый вопрос, который приходит на ум: как увязать прусское невежество со знаменитой системой обязательного образования?
Ведь в прусских школах дети изучают все, но зато, когда они заканчивают школьный курс, правительство не разрешает им применить какие бы то ни было полученные ими знания. Таковы и недавние выборы при всеобщем избирательном праве, которыми полностью руководило правительство, и махинации на выборах прошли тем успешнее, что избирателями командовали, словно регулярной армией, ландвером и отставными солдатами. Последних, кстати, всех без исключения прилюдно наградили.
Теперь несколько слов о Junker Partei — главой ее является граф фон Бёзеверк, а органом — «Крестовая газета». Это даст понять, до чего же слаба тактика прусских Палат в их нападках на министерство.
Junker Partei состоит из младших сыновей дворянских семей; они вынуждены зарабатывать на жизнь — служить либо в армии, либо в государственных ведомствах и в случае неудачи возвращаются на иждивение к своим старшим братьям, которым приходится кормить их и содержать с известной долей роскоши. Однако в Пруссии, за очень небольшим исключением, нет уже старой аристократии, а прусская знать не отличается ни богатством, ни силой духа.
Лишь несколько имен восходят к древней немецкой истории, лишь несколько их появились в военных летописях Пруссии. Но остальная знать не имеет никаких корней в истории, и владения таких семейств были приобретены только сто или сто пятьдесят лет тому назад.
Вот почему большая часть членов либеральной и прогрессистской фракции Палаты представителей в отношении своего положения и своих должностей зависит от правительства. Так обстоит дело с Вальдеком, называемым крестьянским королем; Гаркортом, раненным у Линьи; Шульце-Деличем — родоначальником кооперативных обществ; Якоби — известным памфлетистом; Вирховым — знаменитым профессором-медиком, и с Гнейстом — лучшим оратором партии. Ни один из них не в силах был бы выдержать борьбы с деспотизмом; он хватает младенца при рождении, направляет в молодости и не выпускает в течение всей остальной жизни.
Господин фон Бёзеверк мог, таким образом, безнаказанно оскорблять членов Палаты и депутатов в полной уверенности, что их жалобы не нашли бы никакого отклика в стране. А потому невозможно вообразить себе, с какой грубостью обращались при дворе с депутатами: их положение не ставили там ни во что, они имели преимущество только перед слугами.
Однажды председатель Грабов, приглашенный на концерт в королевский дворец, захотел сесть в кресло в зале, менее переполненном посетителями, чем другие, но лакей, несший гам службу, остановил его, сказав;
— Сударь, эти кресла предназначаются для их превосходительств.
— Хорошо, друг мой, — отмстил ему председатель Грибом, — вижу, что я здесь не на своем месте.
У председателя Грабома, вероятно, нет ордена, зато король наградил крестом и моего камердинера и медалями — полотеров королевских замков.
И все же, почему же так падает нравственное чувство в Пруссии и даже в прочих тевтонских землях?
Тому виною давление на умы, какое Гогенцоллерны оказывали с того самого дня, когда началось их главенство в Германии.
Свобода — это воздух жизни, которым дышат люди. Мы по себе это знаем: в день, когда у Франции урежут часть ее свободы, она заболеет, она станет страдать чахоткой и ей придется дышать только одним легким.
Откуда происходит преимущество Франции перед Европой? От ее литературы, стоящей во главе всех литератур, а в особенности от ясности ее языка, ибо он яснее всех остальных.
Ясность — это честность языка.
Вспоминая о бравом померанском генерале, скучавшем в Дармштадте, я уже говорил, что Пруссия включает в себя немецкую Беотию, то есть Померанию; династия Гогенцоллернов не только никогда в том, что касается поощрения литературы и борьбы за ясность языка, не оказывала просветительского влияния, но напротив — и я говорю это и повторяю, — с того дня, когда она захватила политическое господство, началось нравственное падение Германии и ее превращение из Минервы в Палладу, то есть из богини Науки и Мудрости в богиню Войны.
Награды здесь всегда были военными, хотя необходимы были и гражданские. И если король оставался доволен той гражданской службой, которую нес для него г-н фон Бёзеверк, не подумайте, что он наградил его большим крестом «За заслуги». Нет, он просто назначил его полковником ландвера.
Кроме того, и всякий это знает, перья оттачивают отнюдь не саблями. Что касается репутации Берлинского университета, то она заимствованная, ибо, по существу, университет обязан ею умам, прибывавшим извне. Даже Коперник, которым пруссаки так гордятся, родился в Торне, когда этот город принадлежал еще Тевтонскому ордену.
В начале XVII века Силезия стала родиной поэтов: Опица, Грифиуса и Гофмансвальдау.
В 1741 году пруссаки захватили этот край и очень скоро о себе заявил литературный голод.
Среди великих писателей, ученых, философов и поэтов есть всего два пруссака: Гумбольдт, который в течение всей своей жизни не осмеливался высказать все, что он думал о Фридрихе Вильгельме и о Пруссии, но и переписке, опубликованной Варнхагеном, сказал нам об этом после своей смерти; и Кант, который пропел жизнь и споем небольшом городке Кёнигсберге, подальше от королевских милостей. У них, конечно, еще есть и Гейне, по Гейне родился и Дюссельдорфе до того, как этот город стал прусским, и, в свои двадцать пять лет став изгнанником, провел двадцать два года среди своих новых сограждан, предпочтя их прежним.
Величию нравов в Германии способствовал дух соревнования, благородного соперничества, когда-то существовавший между различными интеллектуальными центрами. Ныне он уничтожен тщеславием Гогенцоллернов, подменивших соревнование поощрением.
Виланд, Лессинг, Гёте, Шиллер, Иффланд, Коцебу, Герстенберг, Грильпарцер, Гейнзе, Клопшток, Ноиалис, Штольберг, Фосс, Хебель, Пфеффель, Геллерт, Кёрнер, Уланд, Анастазиус Грюн, Ленау, Платен, Клаудиус, Гейне…
Эти имена, которые вкратце представляют всю литературную славу Германии, одновременно являют собою самый торжественный и живой протест против прусского деспотизма. Если этому деспотизму суждено продолжаться, если ему удастся окончательно укрепиться, он задушит немецкий гений в самом корне и там, где некогда было настоящее изобилие, окажется лишь полное бесплодие!
Весь период правления Вильгельма I, протянувшийся от начала 1862 года до войны в Дании, был употреблен на проведение абсолютистской политики, направленной против Палаты и против всей страны; в это же время втайне занимались реорганизацией армии.
В 1866 году граф фон Бёзеверк достиг своей двойной цели: править страной без бюджета, оскорблять национальное представительство, подвергать гонениям прессу, нарушать все договоры, лишь бы только оставаться при этом хозяином положения. В глазах прусских либералов именно в этом и заключается деятельность правительства, заслуживающая их одобрение и даже восхваление.
Наконец, на том стоял и сам граф Эдмунд фон Бёзеверк, и в первые дни июня некий депутат, уж конечно менее либерально настроенный, но больший патриот, нежели другие, сказал ему в Палате во всеуслышание:
— На какой-то срок даже невозможное бывает возможным. Но не забывайте, что всему есть срок!
IV ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГРАФ ФОН БЁЗЕВЕРК СОВЕРШАЕТ НЕВОЗМОЖНОЕ
Итак, йот уже и течение трех месяце» граф фон Безеверк пребывал в невозможном положении, и все еще нельзя было предугадать, когда и как он из него выйдет: как бы значительны ни были события, происходившие тогда от Китая до Мексики, глаза всей Европы не отрывались от него.
Старые министры, изощренные во всех хитростях дипломатии, следили за ним, приставив к глазам подзорную трубу, нисколько не сомневаясь, что этот министр-новатор на самом троне обрел себе единомышленника и помощника в политике, примеры которой они напрасно пытались найти в мировой истории. В противном случае они готовы были объявить графа Эдмунда буйным сумасшедшим.
Молодые дипломаты, признававшиеся самим себе, что они не дотягивают до силы Талейранов, Меттернихов и Нессельроде, изучали его деятельность с большим прилежанием, веруя в начало некоей новой политики, способной привести их эпоху к ее вершине, и при этом без конца задавая себе тот вопрос, который Германия повторяет в течение трехсот лет:
— Ist es der Mann?[11]
Для того чтобы этот вопрос, обращенный молодыми дипломатами к г-ну фон Бёзеверку, стал понятен, мы обязаны сказать нашим читателям, что Германия ждет своего освободителя, как евреи ждут Мессию. Германия призывает этого освободителя, и всякий раз, когда цепи особенно тяжело давят на нее, она восклицает:
— Wo bleibt der Mann?[12]
Ведь и сегодня думают, что в Германии вот-вот возникнет четвертая партия, до сих пор прятавшаяся где-то в тени, и что она ужасна, если верить светловолосым германским поэтам.
Послушайте, что говорит Гейне по этому поводу:
«Гром в Германии, по правде говоря, тоже немецкий, он не особенно подвижен и чуть доносится медленным рокотом, но он грянет.
И когда вы услышите такой грохот, какого никто никогда еще не слышал во всемирной истории, знайте, что немецкий гром добрался, наконец, до цели.
При том грохоте орлы замертво падут с небесных высот. И в самых отдаленных африканских пустынях львы подожмут хвосты и заползут в свои царственные логовища. Тогда в Германии разыграется драма, перед которой Французская революция покажется только невинной идиллией».[13]
Если бы пророчеств ограничилось только тем, что его изрек Генрих Гейне, я не стал бы и говорить об этом. Гейне был мечтателем. Но нот что говорит со своей стороны Людвиг Б.:
«По правде говоря, Германия ничего не совершила за три столетия и только терпеливо страдала от всего, что другие пожелали дать ей выстрадать, но именно поэтому труды, страсти и утехи не изнурили ее неиспорченного сердца и ее целомудренного духа! Она накопит себе запас свободы и добьется победы.
День ее настанет, и малого потребуется, чтобы ее разбудить: доброго расположения духа, улыбки сильного, небесной росы, оттепели, одним безумцем больше или одним безумцем меньше, наконец, просто не потребуется ничего — хватит колокольчика, дребезжащего на шее у мула, чтобы с гор покатил обвал. И тогда Франция — ее малым не удивишь, — эта Франция, что одним ударом в три дня завершила дело трех веков и перестала восхищаться своими собственными свершениями, посмотрит в оцепенении на немецкий народ и великое ее удивление не будет изумлением: оно будет восхищением».
Однако кем был или кем не был этот человек, привлекший всеобщее внимание тем, как он устанавливал европейское равновесие, складывая все только на одну чашу весов, ничего не отдавая на другую; относился ли он к старой или к новой дипломатии — все это не имело особого значения! Не было человека, не ожидавшего, что с минуты на минуту граф потребует роспуска Палаты или Палата возведет обвинение на графа.
Победа над Шлезвиг-Гольштейном подвела его к вершине удачи, но новые осложнения, возникшие по поводу избрания герцога Августенбургского, опять поставили под вопрос все, вплоть до гениальности графа; вот почему во время продолжительной встречи с королем, в тот самый день и час, с каких началось наше повествование, графу показалось, что его власть качнулась, и охлаждение к себе Вильгельма I он отнес на счет вечного недружелюбия королевы по отношению к нему.
Прайда, до того времени граф Эдмунд трудился некоих собственных интересах, никою не извещая о своих планах, и хранил до подходящего случая объяснения, надеясь перетянуть монарха па спою сторону поличном и четкостью замыслов, и тогда, приняв за основу действий смелый государственный перепорот, создать класть более крепкую и неуязвимую, чем когда-либо прежде.
Итак, он только что расстался с королем, решил подтолкнуть обстоятельства к такому объяснению, как можно более близкому, и рассчитывая на телеграфные сообщения, ему самому уже известные, чтобы побудить город к волнению, что совпадало бы с его интересами и вновь позволило бы ему обратиться к вопросу о войне, которая одна только и давала ему надежду на спасение.
И вот, целиком погрузившись в эту мысль, глубоко озабоченный, он вышел из дворца и не только едва заметил взбудоражившее столицу огромное оживление, но и не увидел, проходя мимо театра, как молодой человек лет двадцати пяти-двадцати шести отделился от одной из колонн театрального здания — перед этим он стоял, опершись о нее, — и пошел вслед за графом, как тень, повторяя все зигзаги, к которым того принуждали на его пути группы собравшихся людей.
Пару раз, однако, граф Эдмунд оборачивался, как если бы такое преследование на близком расстоянии открывалось ему под действием магнетических токов, дающих человеку предчувствие опасности, которой он подвергается. Но всякий раз, замечая в трех шагах от себя лишь изящного молодого человека, явно из того мира, к которому он и сам принадлежал, граф весьма равнодушно смотрел на него. Только миновав Фридрихштрассе и пересекая мостовую, чтобы перейти с правой стороны прогулочной аллеи на ее левую сторону, он наконец заметил это непонятное стремление молодого человека обязательно пересечь мостовую как раз за его спиной.
После чего граф принял решение спросить у этого господина, настойчиво старавшегося исполнять роль его тени, ради чего он следует за ним. Находясь еще на некотором расстоянии от толпы, граф вполне мог, не поднимая скандала, потребовать объяснений.
Но молодой человек не дал ему на это времени. Граф Эдмунд успел сделать четыре-пять шагов подругой стороне аллеи, как вслед за резко прозвучавшим в его ушах выстрелом он почувствовал, что на уровне его воротника, у самой шеи, пронесся вихрь ветра от пули.
Тогда граф резко остановился, мигом обернулся, и ему хватило одного взгляда, чтобы все увидеть: дым от выстрела, направленный на него револьвер, убийцу с пальцем на курке, готового выстрелить но торой раз.
Но, как мы сказали, граф Эдмунд по природе своей был очень смелым человеком, и мысль бежать, знать на помощь даже не пришла ему в голому. Он бросился на врага, чтобы сразиться с ним.
Тогда убийца выстрелил к него наудачу, как попало, подряд во второй и в третий раз, но, как и раньше, не задел его. Толи из-за неизбежного в подобных обстоятельствах волнения, которое отводит руку убийцы в сторону при свершении им преступления, то ли, как говорят в таких случаях люди, верующие в божественное вмешательство в дела мира сего, Провидение не пожелало, чтобы это преступление свершилось (однако то же самое Провидение некогда допустило убийство Генриха IV и Густава Адольфа), — короче говоря, обе пули на этот раз пролетели одна правее, другая левее г-на фон Бёзеверка, принеся ему не более вреда, чем злоумышленник добился своей первой пулей.
Кажется, после этого убийца совсем потерял веру в себя и захотел бежать.
Но в тот миг, когда он уже поворачивался, граф Эдмунд схватил его одной рукой за воротник, другой взялся за ствол его пистолета. На всякий случай тот еще раз нажал на курок, и граф почувствовал легкую царапину на пальце, но при этом не отпустил врага, а обхватил его обеими руками. Не опасаясь больше и пятого выстрела, имевшего тот же результат, что и предыдущие, он повалил убийцу и подмял под себя, выхватив у него из рук оружие, затем уперся ему к грудь коленом и, оказавшись победителем, отдал его, однако, и руки прусских офицеров, вместо того чтобы прострелить ему голову, как он намеревался вначале.
Уловив с находчивостью гения, что ему подвернулся благоприятный случай, он направился к дворцу, решив устроить из того, что с ним несколько минут назад приключилось, развязку сложившегося положения вещей.
Следуя вдоль двойного ряда любопытных зрителей, он направился обратно той же дорогой, какой явился сюда. Раньше, когда он шел сюда, люди были так сильно озабочены, что его никто не заметил. Но сейчас получилось совсем по-другому: покушение, мишенью которого он только что стал и с которым справился с таким великим мужеством, если и не вызвало всеобщей симпатии, то приковало к нему все взгляды.
Любили его или нет, но люди расступались у него на пути и приветствовали его вдогонку.
Не скрывать своего восхищения перед мужественным поступком всегда было хорошей чертой добропорядочных людей.
Вот так и случилось, что г-н фон Бёзеверк мог прочесть на всех лицах если уж не симпатию, то восхищение.
Господину фон Бёзеверку было от пятидесяти до пятидесяти двух лет; он был высок, пропорционально сложен, имел несколько одутловатое лицо, почти лысую голову (только на висках еще виднелись белые волосы) и носил пышные усы. По щеке у него проходил шрам — память о дуэли, случившейся в Гёттингенском университете.
Слух о событии, которое только что произошло, уже докатился до охраны дворца; гвардейцы вышли к самым воротам, чтобы встретить графа (впрочем, он, как человек, носивший мундир полковника ландвера, имел право на проявление по отношению к нему такого уважения). Он изящно раскланялся направо и налево и поднялся по лестнице, что вела в приемные комнаты короля.
Будучи премьер-министром, граф мог входить сюда в любое время, в любой час. Он пожелал воспользоваться этим правом и положил уже руку надверную ручку, однако вперед выступил придверник и сказал:
— Прошу прошения у вашего превосходительства, но в данную минуту никто не вхож к королю.
— Даже я? — спросил граф.
— Даже ваше превосходительство, — кланяясь, ответил придверник.
Граф шагнул назад, покусывая губу, что можно было свободно принять за улыбку, но что конечно же никак ею не было.
Затем он принялся разглядывать, при этом решительно ничего не видя, большую картину с морским пейзажем, украшавшую прихожую; ее огромная позолоченная рама богато выделялась на казенных обоях зеленого цвета, которые встречаются во всех королевских кабинетах и канцеляриях.
Через четверть часа ожидания дверь распахнулась; граф услышал шелест атласного платья, живо обернулся и тотчас же склонился перед женщиной сорока — сорока пяти лет, в прошлом удивительной красавицей, остававшейся и поныне все еще красивой.
Может быть, если с пристрастием поискать в «Готском альманахе», там удалось бы обнаружить, что эта женщина была на несколько лет старше того возраста, который мы ей дали, но ведь не напрасно говорят, что у женщины возраст тот, на какой она выглядит, и я не вижу, почему для королев нужно делать исключения.
И в самом деле, эта женщина была королева Мария Луи in Аш уста Km ери на, дочь Карла Фридриха, пел и кого герцога Саксен-Веймарского, известная всей Европе под именем королевы Августы.
Ома была среднего роста, между тем как выглядела скорее высокой. Весь облик ее нельзя было передать иначе как чисто французским выражением: «притягательная женщина».
На левом рукаве ее платья красовалась эмблема женского ордена Королевы Луизы.
Величественно и гордо она прошла мимо министра, поклонилась ему, но, против обычного, без благожелательности.
По дверям, из которых она вышла и в которые затем вошла, граф Эдмунд понял, что королева выходила от короля и возвращалась к себе.
За ней осталась открытой дверь, ведущая в покои короля, и придверник дал понять министру, что ему можно пройти к его величеству.
Граф ждал, когда скроется за дверью прошедшая мимо него королева, и, склонившись в низком поклоне, следил за ней взглядом.
«Да, — размышлял он, — прекрасно знаю, что мне не довелось родиться бароном, но это не помешает мне умереть герцогом».
И он пошел в направлении, указанном придверником.
Лакеи и камергеры, встреченные им на пути в королевские покои, торопливо раскрывали перед ним одну задругой все двери.
Когда же министр дошел до комнаты, где находился король, камергер объявил громким голосом:
— Его превосходительство граф Эдмунд фон Бёзеверк!
Король вздрогнул и обернулся.
Он стоял у камина. С некоторым удивлением король выслушал имя графа фон Бёзеверка, с кем он, едва ли четверть часа тому назад, расстался. Граф спрашивал себя, не знал ли уже король о несчастном случае, приключившемся с ним.
Король Пруссии, хорошо знакомый большей части лиц, призванных сыграть ту или иную роль в нашей книге, почти неизвестен большинству тех, кто ее прочтет. Поэтому стоит попытаться дать по возможности самое полное описание его внешности. Нам уже пришлось сказать, какого мнения мы придерживаемся в отношении его морали.
Когда дверь открылась, король стоял, как было сказано, у камина, локтем опершись на его доску. Его взгляд был озабоченным.
В то время это был шестидесятидевятилетний человек, достаточно некрасивый; глаза его, иногда поблескивая искрами, почти всегда прятались, теряясь к густых ресницах и широких бронях; торчащие ежиком бакенбарды и взъерошенные усы прилагали ему на первый взгляд вид дикой кошки. На нем был застегнутый снизу доверху на псе пуговицы синий редингот с двумя рядами серебряных пуговиц; эполеты были тоже серебряные и с крупной кистью; красного цвета кант шел по вороту и обрисовывал рукава редингота, в котором было сделано специальное отверстие, чтобы пропускать через него рукоять и темляк его шпаги.
Наряд его завершался брюками серо-стального цвета с кроваво-красными лампасами — иными словами, в ту минуту, когда мы представляем его нашим читателям, он был одет в будничную одежду. На шее король носил большой крест с Черным Орлом, висевший на бело-оранжевой ленте. Король был очень высок и довольно худ; у него были привычки старого солдата без тени изящества.
Либо подделываясь под манеру речи Фридриха Великого, либо это было у него от рождения — он слегка гнусавил.
Министр склонился перед ним.
— Государь, — сказал он, — только важность событий привела меня к вашему величеству, но, к большому моему огорчению, вижу, что время выбрано плохо.
— Почему же, граф? — спросил король.
— Потому что, собираясь предстать перед вашим величеством, я имел честь встретиться в прихожей с королевой и, не имея счастья быть в милости у ее величества…
— Должен признаться, граф, что по отношению к вам она еще…
— Она ошибается, государь, ибо в моей преданности я вовсе не разделяю в своих упованиях короля Вильгельма и его августейшую супругу, ведь король не станет германским императором без того, чтобы королева не стала императрицей.
— Это мечта безумца, мой дорогой граф; королева Августа имеет несчастье поддаваться ей, хотя такое не может исходить из здравого рассудка.
— Государь, единство Германии столь же неизбежно вписано в расчеты Провидения, как и единство Италии.
— Хорошо! — смеясь, сказал король. — Разве получится Италия, если у итальянцев не будет Рима, не будет Венеции?
— В настоящее время Италия совершает свое становление; она двинулась в путь в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году и никоим образом не остановится на полови-полороги. Если даже покажется, что ома оста молилась, это будет только передышкой. Вот и лее!
— Да и в самом деле, разве мы не обещали ей Венеции?
— Да, но не мы ей ее огладим.
— Кто же ее отдаст?
— Франция, которая уже отдала ей Ломбардию и позволила ей взять герцогства и Неаполь.
— Франция! — сказал король. — Франция оставила ей все это как бы не но своей воле.
— Ваше величество разве не знает о телеграфных сообщениях, прибывших к нам в то время, пока я был во дворце? Мне передали их как раз в те минуты, когда я выходил из него.
— Да, да, речь его величества Наполеона Третьего, — в некотором замешательстве ответил король, — об этом вы и пришли сказать, не правда ли?
— Так вот, государь, речь его величества Наполеона Третьего — это война, и война не только с Австрией, но и с Францией. Для Италии это возврат Венецианской области, а для Франции — рейнских провинций.
— Вы в этом уверены?
— Уверен, и если мы дадим Франции время, чтобы вооружиться, то вопрос этот для нас хотя и не становится безнадежным, но определенно приобретает серьезность. Если же мы быстрым и мощным натиском обрушимся на Австрию, то окажемся на Молдау с тремястами тысячами солдат до того, как Франция со своими пятьюдесятью тысячами достигнет Рейна.
— Граф Эдмунд, вы недооцениваете австрийцев; бахвальство наших молодых людей вскружило вам голову.
— Для начала заверю ваше величество в том, что в меня вселяется великая сила, когда я опираюсь на мнение наследника короны и на мнение принца Фридриха Карла, и, кстати, позволю себе мимоходом напомнить вашему величеству, что принц Фридрих Карл, родившийся двадцать девятого июня тысяча восемьсот первого года, не столь уж молод, и что в отношении такого рода вопросов у меня выработалась привычка прислушиваться только к своему собственному мнению; и сейчас, не ссылаясь ни на какие другие точки зрения, я говорю вам: в войне с Пруссией австрийцы неизбежно должны быть разбиты.
— Разбиты! Разбиты! — с видом сомневающегося повторил король. — Я же слышал, как вы сами расхваливали их генералов и солдат!
— В этом не может быть никаких сомнений.
— Так что же, цель не скажешь, что так уж легко побелить хороших солдат под командой хороших генералов.
— У них есть хорошие солдаты, у них есть хорошие генералы, и при этом мы их победим, ибо наша организации войск и наше вооружение окажутся лучше, чем у них. Когда я побуждал каше пел и честно воевать со Шлезвигом, когда каше величество не желали…
— Если бы на самом деле я не пожелал войны со Шлезвигом, ее и не было бы, господин фон Бёзеверк.
— Вне всяких сомнений, государь. Но все же ваше величество пребывали в сильном сомнении, вы согласны со мной? У меня хватило смелости настоять, и ваше величество согласились с моими доводами.
— Ну хорошо, так что же положительного получилось из вашей войны со Шлезвигом? Война в Германии?
— Да, для начала: люблю, когда о делах высказываются четко, вот почему я смотрю на войну в Германии как на неизбежность, с чем вас и поздравляю.
— Ну-ну, объясните-ка, откуда в вас вселилась эта великая вера?
— Ваше величество забыли, что я провел большую работу с прусской армией. И делал я это вовсе не ради глупого удовольствия слушать пушечную пальбу, считать убитых и проводить ночи на поле боя, где обычно очень дурно спится, или же ради того, чтобы дать вам, что само по себе и неплохо, два порта на Балтике, которых вам недостает. Нет, я начал эту работу с целью изучить австрийцев; так вот, я повторю: австрийцы отстают от нас во всем: и в дисциплине, и в вооружении, и в обученности войск; у них плохие ружья, плохие пушки, плохой порох. А то, что у них плохо, у нас как раз в превосходном состоянии, поэтому в борьбе с нами австрийцы заранее побеждены. И как только австрийцы окажутся побеждены, главенство в Германии, выскользнув из их рук, с необходимостью попадет в руки Пруссии.
— Пруссия! Пруссия! Она и выкроена так, чтобы со своими восемнадцатью миллионами верховодить над шестьюдесятью. Разве вы не видели как красиво выглядят ее очертания на карте?
— Вот именно. Вот уже три года как я смотрю на это и поджидаю случая, когда можно будет перекроить Пруссию по-новому. Нужно же было, чтобы так поспешно, черт знает как, Венский конгресс накроил все эти монархии. Что из этого вышло? Германия вся целиком оказалась только смётана, даже не сшита. А Пруссия? Это же огромная змея: голова ее доходит до Тьонвиля, хвост — до Мемеля, а на животе ее — горб, потому что она заглотнула половину Саксонии. Королевство перерезано надвое другим королевством — Ганновером, да так, что вы не можете передвигаться но своим землям, не покидая своих владений. Разве вы не согласны, государь, с той очевидностью, что вам нужен Ганновер?
— Хорошо! А Англия?
— В Англии уже прошли времена Питта и Кобурга. Англия — покорная служанка Манчестерской школы, Гладстонов, Кобденов и их учеников; Англия не произнесет ни слова по поводу Ганновера, как это случилось и в отношении Дании. И разве вам не нужна и Саксония?
— Франция не позволит до нее дотронуться, хотя бы даже в память старого короля, который остался ей верен в тысяча восемьсот тринадцатом году.
— Если мы вознамеримся захватить слишком большой кусок, безусловно не позволит, но если мы станем довольствоваться обрезками, то она закроет глаза или, по меньшей мере, один глаз. Теперь посмотрим, не нужен ли нам Гессен?
— Союз никогда не оставит нам всего Гессена.
— Лишь бы он оставил нам половину, мы только этого и просим. А не нужен ли нам Франкфурт-на-Майне?
— Франкфурт-на-Майне! В полном смысле слова вольный город! Город, где заседает Сейм!
— Сейм отомрет, как только Пруссия станет насчитывать тридцать миллионов человек вместо восемнадцати. Пруссия — вот он, Сейм! Только вместо того чтобы говорить: «Мы хотим!» — она скажет: «Я хочу!»
— Против нас окажется весь Союз, ведь он будет на стороне Австрии.
— Тем лучше!
— Как тем лучше?
— Как только Австрия окажется побежденной, Союз падет вместе с ней.
— Но нам придется иметь дело с целым миллионом солдат.
— Посчитаем.
— Четыреста пятьдесят тысяч в Австрии.
— Так!
— Двести пятьдесят тысяч, которые высвободит Венецианская область.
— Австрийский император слишком упрям, чтобы отдать Венецианскую область, не устроив двух-трех битв, если он выйдет из них победителем, и не менее десятка, если его побьют. Не станем считать Венецианской области.
— Bin три я — сто шестьдесят тысяч человек.
— Баварией я займусь сам: ее король слитком любит музыку, и ему не понравится шум пушечной пальбы.
— Ганновер — двадцать пять тысяч.
— Этот кусок мы проглотим в первую очередь.
— Саксония — пятнадцать тысяч.
— Еще один кусок.
— Плюс сто пятьдесят тысяч солдат от Союза.
— У Союза даже не окажется времени для того, чтобы их вооружить, эти свои сто пятьдесят тысяч. Однако не стоит терять ни минуты, государь; вот почему я только что сказал: война, победа, главенство в Германии — все это будет со мной; иначе, государь…
— Иначе?..
— …иначе будет моя отставка, которую я возложу с глубоким смирением к стопам вашего величества.
— Что это у вас с рукой, господин граф?
— Ничего, государь.
— Как будто кровь?
— Возможно.
— Так это правда, что вас пытались убить и дважды стреляли в вас из пистолета?
— Пять раз, государь.
— Пять! Ну и ну!
— Пуль на меня не жалеют.
— И вас никуда больше не ранили?
— Ссадина на мизинце.
— Кто же ваш убийца?
— Я не знаю его имени.
— Он отказался его назвать?
— Нет, я забыл у него спросить. Впрочем, это дело генерального прокурора, а я занимаюсь только своими делами. И вот они, мои дела, дела, которые касаются меня, другими словами — ваши дела.
— Говорите же, — сказал король, — говорите!
— Завтра — роспуск Ландтага, послезавтра — мобилизация ландвера, а через неделю — объявление о начале военных действий.
— Или же? — спросил король.
— Или же, имею честь повторить вашему величеству, моя отставка.
И не ожидая ответа короля, граф фон Бёзеверк отвесил поклон и, следуя этикету, вышел, пятясь задом, из кабинета его величества. Король не произнес ни слова, чтобы удержать своего министра, но тот, прежде чем закрыл за собою дверь, смог услышать, как на весь дворец прозвенел колокольчик.
V ОХОТНИК И ЕГО СОБАКА
На следующий лень после рассказанных нами событий, ближе к одиннадцати часам утра, молодой человек двадцати четырех — дцадцати пяти лет, весьма артистической походкой вышел в Брауншвейге на вокзал, прибыв из Берлина на экспрессе, который отправился из прусской столицы в шесть часов утра.
В багажном вагоне он оставил свой чемодан и дорожную сумку; веши его следовали дальше, до Ганновера, а с собой он взял только сумку вроде военной; сзади к ней был прикреплен альбом для набросков и стульчик, какие обычно бывают у художников-пейзажистов. Молодой человек привязал к поясу охотничий патронташ и, надев на голову широкополую фетровую серую шляпу, небрежно накинул на плечо ремень с двустволкой системы Лефошё.
В остальном костюм его был охотничьим или туристическим: он состоял из серой куртки с большими карманами, наглухо застегнутого жилета из буйволовой кожи, тиковых штанов и кожаных гетр.
За ним следовал совершенно черный красавец-спаниель; вполне оправдывая свою кличку Резвун, он проворно выскочил из ящика и весело запрыгал вокруг хозяина. А тот, выйдя из вокзала, нанял открытый экипаж, запряженный одной лошадью, куда собака, как только увидела его, вспрыгнула первой и без стеснения устроилась на передней скамье, пока хозяин усаживался на скамью сзади, принимая затем небрежную позу человека, привыкшего чувствовать себя удобно повсюду, где бы он ни находился. Голосом, в котором одновременно слышался оттенок любезности и приказной тон и который обнаруживал в молодом человеке привычку к обращению изысканно одетого господина с людьми, стоящими ниже его по положению, он сказал извозчику на великолепном немецком языке;
— Извозчик, отвезите меня в самый лучший ресторан в городе или, во всяком случае, в тот, где я смогу позавтракать наилучшим образом.
Возница кивнул, показывая тем самым, что других разъяснений ему не требуется, и повез нашего путешественника в гостиницу «Англетер» на Большой площади.
Несмотря на несколько ухабистую мостовую очаровательного городка Брауншвейг, наш молодой человек сохранял свою небрежную позу, полулежа в карете, в то время как Резвун, строго соединив передние лапы с задними, сидел раскачиваясь из стороны в сторону, с большим трудом сохраняй равновесие и не отводя глаз от глаз хозяина, в которых он будто хотел что-то прочесть.
Между гем такая поза ему, безусловно, наскучила, ибо, едва карета остановилась перед гостиницей «Англетер», нес тотчас кинулся через борт, отнюдь не ожидая, пока извозчик подойдет и от кроет дверцу, и, резвясь и прыгая, стал как бы приглашать своею хозяина последовать его примеру.
Отчасти последовав совету своей собаки, молодой человек тоже одним прыжком покинул экипаж, однако оставил там сумку и ружье.
— Я вас не отпускаю, — сказал он вознице, — присмотрите за моими вещами и подождите меня.
Во всех странах мира у извозчиков есть восхитительное чутье, помогающее им отличать честных седоков от злонамеренных.
— Пусть ваше превосходительство будут спокойны, — ответил, подмигнув, лихой возница. — Я присмотрю.
Путник вошел it кафе и, увидев столики, расставленные в небольшом саду, прошел на другую сторону дома и в самом деле оказался в своего рода дворе под сенью шести прекрасных лип.
На одном из этих столов лежал прибор, а перед столом стояли два стула.
Резвун вскочил на второй стул, а хозяин воспользовался тем, который ему оставила собака: он стоял прямо перед прибором.
Оба приятеля позавтракали, сидя друг против друга, и нужно признаться, к чести хозяина Резвуна будет сказано, что он постарался проявить по отношению к собаке все возможные знаки внимания.
Даже к любовнице не обращаются столь нежным голосом и с такой предупредительностью, ухаживая за нею во время еды. В течение часа, пока продолжалась трапеза, Резвуну удалось отведать всего, что ел его хозяин, за исключением зайца под вареньем, так как, будучи охотничьей собакой, он не ел дичи, а будучи четвероногим, он не любил варенья.
Что касается извозчика, то он, со своей стороны, получил прямо на сиденье хлеб, сыр и полубутылку вина.
В итоге, когда по окончании завтрака извозчик и хозяин со своей собакой вновь заняли каждый свое место: один на козлах, два других — в карете, все трое обнаруживали признаки самого полного удовлетворения.
— Куда едем, ваше превосходительство? — спросил извозчик, обтирая себе рот рукавом куртки с видом человека, расположенного ехать куда только будет угодно.
— Я сам не очень-то знаю, — ответил молодой человек, — это немного и от нас будет зависеть.
— Как от меня?
— Да, если им покажете себя славным малым: я хотел бы нанять вас на некоторое время.
— Если хотите, можно на год!
— Нет, это слишком.
— Тогда на месяц.
— Ни на год, ни на месяц, но на день-дна!
— Это мало! Я-то думал, что мы составим целый договор.
— Так нот, прежде всего, сколько вы запросите за поездку в Ганновер?
— Туда шесть льё, вы знаете?
— Вы хотите сказать, верно, четыре с половиной.
— Да, но нужно нее время то подниматься, то спускаться.
— Дорога туда ровная, как бильярд.
— Вас не проведешь, — засмеялся возница.
— Да нет, есть способ.
— Какой?
— Оставаться честным.
— А! Это новая точка зрения.
— Ее ты еще вроде бы не усвоил, да?
— Ну хорошо, посмотрим, назовите вашу цену сами.
— Это стоит четыре флорина.
— Не считая того часа, который прошел, пока мы ехали с вокзала и пока вы завтракали.
— Совершенно верно.
— А на чай?
— Это по моему усмотрению.
— Так! Согласен; не знаю почему, но я вам доверяю!
— Однако, если я оставлю тебя больше, чем на неделю, то платить буду по три с половиной флорина в день, причем без чаевых.
— Я не могу согласиться с такими условиями.
— Почему же?
— Это значит без всякой причины лишить вас, когда я, к своему огорчению, вас покину, удовольствия нравиться мне.
— Черт возьми! У тебя будто даже и мозги имеются.
— У меня их столько, что я кажусь глупым, когда хочу сделать глупый вид.
— Вот это сказано сильно. Ты откуда будешь?
— Из Саксенхаузена.
— Что это такое, Саксенхаузен?
— Предместье Франкфурта.
— А! Да, да, саксонская колония со времен Карл» Великого.
— Именно так, вы даже это знаете?
— Я знаю еще, что вы славные ребята, вроде онерпцеи, только немецких. Так что мы сочтемся, когда будем расставаться.
— Это мне еще больше подходит.
— Твое имя?
— Лен гарт.
— Ну что ж, вперед. Лен гарт!
Карета отъехала и покатила мимо успешней собраться вокруг нее толпы зевак, как это обычно случается и Провинциальных городах.
Скоро они оказались в конце улицы, выходившей в поле. День был великолепный, на ветках только что полопались почки, и деревья покрылись первой легкой зеленью.
Земля оделась в зеленое платье, а от многочисленных лугов, тянувшихся по обе стороны дороги, будто поднимался легкий пар из первых весенних ветерков и первых ароматов цветов. Птицы парами порхали с дерева на дерево, неся пищу своим птенцам, и, пока самка занималась своими материнскими заботами, самец, сидя на ветке по соседству с гнездом, выводил в чистом воздухе первые звуки песни любви, от которых просыпается природа.
Время от времени жаворонок взлетал с песней над взошедшими хлебами, замирая на несколько секунд на вершине этой пирамиды из мелодичных звуков, потом падал, сложив крылья, и раскрывал их опять только в тот миг, когда уже касался земли.
При виде этого чудесного края молодой человек воскликнул:
— Ах! Здесь же должны быть превосходные охотничьи угодья! Так ведь, скажи?
— Да, только их сторожат, — ответил возница.
— Тем лучше, — сказал путник, — от этого только дичи будет больше.
И в самом деле, едва они отъехали от города на километр, как Резвун, не раз уже проявлявший признаки нетерпения, ринулся с кареты, влетел в густой клевер и сделал стойку.
— Мне что, ехать шагом или вас обождать? — спросил Лен гарт, видя, что молодой человек взялся за ружье.
— Езжай вперед на несколько шагов, — ответил путешественник. — Сюда!.. Так!.. Теперь остановись как можно ближе к полю с клевером.
И путник, встав во весь рост в карете и держа в руках ружье, оказался в тридцати шагах от Резвуна.
Возница смотрел за происходящим с интересом, который мне не раз приходилось видеть у кучеров, наблюдающих за подобными сценами; такой интерес обычно ставит их на сторону охотника и восстанавливает против владельца земли и полевых сторожей.
— А! У вас собачка напористая, — сказал он.
— Да, неплохая.
— Кого она может вот так поднять?
— Зайца.
— Вы думаете?
— Да я просто уверен в этом. Если бы это была птица, Резвун вилял бы хвостом. Вот, смотри.
И в самом деле, как раз в эту минуту в трех шагах от собаки выскочил крупный молодой заяц; пригнувшись, ом побежал, пытаясь спрятаться в клевере.
— Пр… тысяча чертей! Стреляйте же, ну, стреляйте! — закричал уроженец Франкфурта.
— Ты очень спешишь, — сказал молодой человек, — подожди.
И он выстрелил. Заяц высоко подскочил, показав свой белый живот, и упал на спину.
Ленгарт хотел спрыгнуть с кареты.
— Куда это, — спросил его путешественник, — ты направился?
— Да за зайцем.
— Напротив, не двигайся.
— Надо же, — удивился Ленгарт.
Резвун замер и вытянулся в стойке еще сильнее, чем раньше.
— Я ошибся, — сказал охотник, — Резвун поднимал не зайца.
— А кого же? — спросил Ленгарт.
— Двух зайцев.
— Ага, честное слово, вот это да!
Этот возглас вырвался у славного возницы, когда он увидел второго зайца: как и первый, тот сначала выскочил, а потом, сраженный на бегу, повалился рядом с первым.
— А теперь можно за ними сходить? — спросил Ленгарт.
— Не стоит труда, — ответил молодой человек, — Резвун принесет.
И в самом деле. Резвун, схватив последнего из убитых зайцев, принес его хозяину, а потом отправился за первым.
— Положи это к себе на козлы, — сказал охотник кучеру, — и в дорогу!
Не проехали они и четверти льё, как Резвун опять сделал стойку.
Ленгарт уже сам остановил карету, и точно там, где следовало сделать.
— Ага! — нос кликнул он. — На этот раз перо: наша собака виляет хвостом.
Резвун не только вилял хвостом, но быстрым движением головы, бросив взгляд на хозяина, казалось, подал ему особый знак.
— Да, да, и не просто перо, но перо золотое. Знаешь, что такое золотое перо?
Ленгарт с сомнением покачал головой.
— Фазанов в этих краях нет, — произнес он.
— Воз уж злой вещун! Раз Резвун утверждает, что эго фазан, гак это и есть фазан. Правда, Резвун?
Резвун опять сделал го движение головой, о котором мы говорили, и тем самым еще раздал знать своему хозяину, какую именно дичь он поднимал.
— Ну, видишь, — сказал охотник, — по тому, как он держит стойку, это и есть фазан. Куропатка бы уже полетела. Здесь в округе где-то разводят фазанов, черт возьми!
— Здесь есть замок и парк господина де Резе, французского посла; но замок и фазаний двор — за два льё отсюда, самое малое.
— Ну этот чудак, видно, и прилетел сюда пастись. А доказательство — вот оно!
В самом деле, как только было произнесено слово «пастись», великолепный фазан, красуясь, отлетел; но ему не удалось подняться на высоту и четырех метров, как выстрел пробил оба его крыла и поверг в густую поросль колючего кустарника, где он и скрылся.
— Неси, Резвун! Неси! — приказал ему хозяин, уже более не думая об убитом фазане и перезаряжая ружье.
— Ого, — вдруг закричал Ленгарт, — вот так фокус! Вы убили фазана, а собака несет кролика.
— Как? Ты не понимаешь? — засмеялся охотник.
— Нет, пусть меня черти возьмут!
— Я убил фазана, это так! Но в том же кустарнике был и кролик. Резвун, отправившись за фазаном, не подал виду, что кролик был ему нужен, и взял его хитростью. Проходя мимо этого дурачка, он хапнул его и несет мне, будучи в полной уверенности, что за фазаном еще успеет сбегать.
Едва положив кролика у подножки кареты, собака мигом вернулась к кустарнику, и пяти секунд не прошло, как она принесла фазана.
— Положи это вместе с зайцами, — сказал молодой человек, — и в дорогу! Думаю, теперь нам не стоит задерживаться.
Так это и было на самом деле, ибо, проехав шагов пятьсот, они заметили, как за небольшим пригорком показалась фуражка сторожа охотничьих угодий.
— У тебя лошадь хорошо бегает, Ленгарт? — спросил путешественник.
— Хорошо или плохо, — отвечал Ленгарт, — а все же постараюсь не дать им захватить вас как браконьера! Уж очень мне нравится вот так путешествовать.
— Ты, вроде бы, любитель охоты?
— То есть я тоже браконьерствую то там, то сям, понемногу, но до вас мне не дотянуть. Черт побери! Ну и собачка у вас! А, вот и сторож: он делает нам знак остановиться и подождать его. Думаю, как раз время с ним распрощаться.
Так он и сделал. Во всю мощь своих легких он крикнул сторожу: «Gute nacht![14]», пуская лошадь в галоп.
Стоило им проехать еще одно льё, как Резвун опять сделал стойку, подняв целый выводок куропаток. Но они были слишком молоденькими, чтобы представлять какую-то ценность, а убив отца и мать, охотник обрекал птенцов на верную смерть, поэтому Резвуна отозвали, а птиц помиловали, как и должен был сделать настоящий охотник, каким был наш герой.
Проехав еще два льё, они ничего больше не увидели.
Они уже подъезжали к городу, когда в пятидесяти — шестидесяти метрах от кареты поднялся испуганный заяц.
— Ага, — сказал Ленгарт, — вот этот поступает правильно!
— Это смотря как, — ответил охотник.
— Вы же не собираетесь бить его на таком расстоянии, я думаю?
— Ленгарт! Ленгарт! И ты еще хвастаешься, что браконьерствуешь! Неужели тебя надо учить тому, что для хорошего охотника и для хорошего ружья не бывает расстояния.
— И вы его отсюда убьете, да?
— Увидишь.
Охотник заменил в ружье два находившихся там патрона с дробью на два патрона с пулями.
— Ты знаешь заячий характер? — спросил он у Ленгарта.
— Ну да, думаю, знаю настолько, насколько можно знать характер животного, на чьем языке не говоришь.
— Ну так вот, я тебя, Ленгарт, научу следующему: любой заяц, который поднялся от страха и которого никто не преследует, останавливается через пятьдесят шагов, осматривается и начинает чистить себя. Смотри!
Заяц, действительно, отбежав на расстояние примерно в сотню шагов от кареты, остановился, сел и при помощи передних лапок стал умываться. Этот момент заячьего кокетства, предсказанный охотником, погубил бедное животное. Выстрел раздался почти одновременно с тем мигом, когда приклад коснулся плеча охотника. Заяц скакнул на три фута и упал замертво.
— Извините меня, сударь, — сказал Ленгарт, — если, как об этом говорят, начнется война, вы за кого будете?
— Вероятно, я не буду ни за Австрию, ни за Пруссию, а буду за Францию, коль я француз.
— Лишь бы вы не встали за этих прощелыг-пруссаков, вот о чем я хотел бы вас попросить. Но если вы пожелаете встать против них, тогда — тысяча чертей! — я бы вам сделал одно предложение.
— Какое же?
— На койне сражайтесь из моей коляски, причем бесплатно.
— Спасибо, друг мой, не отказываю тебе. Если только я буду сражаться на этой войне, может быть, я именно так и поступлю. Я всегда мечтал повоевать из коляски.
— Вот-кот, именно так! А лошадь и коляска, которые вам понадобятся, — кот они! Что до лошади, не могу нам сказать точно, какого она возраста, поскольку, когда я ее купил, а тому уже лет десять, она была в годах. Но с этой лошадью, поверите ли, я бы отправился на Тридцатилетнюю войну и не стал бы беспокоиться, уверенный, что она провозит меня до конца. Ну а карета, вы можете убедиться, она совсем новая. Три года тому назад я отдавал подновить оглобли, год как я заменил пару колес и ось. Наконец, полгода назад я заменил у нее кузов.
— У нас ко Франции рассказывают историю вроде этой, — бросил в ответ молодой человек, — это история про нож Жано: к ноже заменили лезвие, потом и рукоять, но это все тот же нож.
— Эх, сударь! Ножи Жано есть во всех странах, — философски заметил Лен гарт.
— А также и сами Жано, мой славный друг, — ответил охотник.
— Во всяком случае, поставьте и вы новые стволы на ружье, а мне отдайте старые. Честное слово! Вот ваша собака с зайцем: пуля попала ему прямо в середину груди.
И взяв мертвого зайца за уши, он сказал ему:
— Иди к другим, щёголь, будешь знать, как не вовремя умываться. Ах, сударь! Если хотите, не сражайтесь против пруссаков, но… тысяча чертей! Не сражайтесь только та них!..
— О, та это уж будь спокоен. Если я буду драться, то только против них и, может быть, даже по буду дожидаться, пока объявят войну.
— В таком случае, ура! Бей пруссаков! Смерть пруссакам! — закричал Ленгарт, сильным ударом хлыста полосну» лошадь, и та, словно бы и оправдание похвалы, которой ее наградили, пошла галопом и, перевозбужденная ударами хлыста и проклятиями своего хозяина, мигом проскакала предместье и дне улицы города Ганновера, ведущие к манной площади, на которой высится конная статуя короля Эрнста Августа, и остановилась только у двери гостиницы «Королевская».
VI ВЕНЕДИКТ ТЮРПЕН
Конечно же, франкфуртский житель Ленгарт, живя а Брауншвейге и давая кареты напрокат, не в первый раз приезжал к владельцу гостиницы «Королевская». У путешественников, англичан или французов, не раз уже возникала мысль поступить так же, как теперь делал Бенедикт, то есть, проехаться по прелестной дороге от Брауншвейга до Ганновера, и Ленгарт, всегда готовый прийти им на помощь, чтобы содействовать претворению в жизнь подобной мечты, отдавал свои кареты в распоряжение этим людям и отправлял их с другими возницами или же сам садился на козлы и вез их до места назначения. Метр Ленгарт и метр Стефан (то был владелец гостиницы «Королевская»), таким образом, разделив между собою услуги, стали добрыми друзьями, насколько это могло позволять различие в их положении.
Как обычно, Стефан встретил Ленгарта радушно, и тот начал с того, что отозвал его в сторону и принялся объяснять, какого значительного гостя он привез. Он рассказал ему, что этот путешественник, смертельный враг пруссаков, приехал в преддверии близившейся войны предложить королю Ганновера свое ружье, которое никогда не промахивалось. И в доказательство того, что он говорил чистую правду, Ленгарт под строжайшим секретом сунул Стефану трех зайце», фазана и кролика — итог охоты, которая велась прямо на дороге из Брауншвейга в Ганновер.
Мы говорим «мол строжайшим секретом», поскольку охота тогда была уже запрещена, а против тех, кто осмеливался нарушать запрет, были установлены самые суровые меры наказания. Поэтому его седок, надо сказать, оказывался под угрозой пяти-шести дней тюремного заключения и двух-трех сотен франков штрафа.
Метр Стефан с живым интересом прослушал то, что ему рассказал Ленгарт, причем интерес этот разросся до восхищения, когда Ленгарт указал ему на того зайца, что был убит выстрелом без упора на расстоянии в сто двадцать шагов.
— И это еще не все, — продолжал Ленгарт, ибо не превосходный выстрел вызывал его наибольшее восхищение, а тот спектакль, что ему предшествовал, — это не все; вы, трактирщик, через чьи руки проходит столько зайцев, знаете ли вы что-нибудь о нравах зайцев, их привычках и обыкновениях?
— По чести сказать, — ответил Стефан, — нам же их приносят всегда уже убитыми, а уж если они в таком состоянии, то им остается только одно обыкновение — быть съеденными либо в виде рагу в винном соусе, либо в виде жаркого с черносливом или с вареньем.
— А вот путешественник этот знает их привычки. Он сказал мне, слово в слово, что будет делать вот этот заяц и как он его убьет, и все так и было, как он сказал.
— Ваш путешественник из какой будет страны?
— Говорит, что француз, но я не верю: ни разу не слышал, чтобы он хвастался. Да и для француза он слишком хорошо говорит по-немецки. Но, смотрите, вон он вас зовет.
Метр Стефан поспешил спрятать дичь в кладовую — такая забота у хозяина трактира, конечно, на первом плане; затем он отправился на зов посетителя.
Он нашел его за беседой с английским офицером из свиты короля, и Бенедикт разговаривал с ним на английском с тем же совершенством, с каким он говорил по-немецки с Ленгартом.
Заметив Стефана, Бенедикт полуобернулся к нему.
— Дорогой хозяин, — сказал он ему по-немецки, — вот полковник Андерсон оказался так добр, что ответил мне на первую половину вопроса, который я ему задал, и уверяет, что вы окажете мне любезность ответить на вторую половину.
— Постараюсь сделать все от меня зависящее, ваше превосходительство, когда вы окажете мне честь и доверите суть дела.
— Я спросил у господина Андерсона, — и путешественник кивнул к сторону английского офицера, — название главной газеты королевства, и он ответил мне, что она называется «Новая ганноверская газета». Затем я спросил имя ее главного редактора, и с этим вопросом господин полковник отправил меня к вам.
— Подождите, подождите, ваше превосходительство… Главный редактор «Ганноверской газеты»… Нуда, конечно, это же господин Бодемайер, высокий, худощавый, с такой бородкой, правда?
— Его внешности я совсем не знаю. Мне хотелось бы знать его имя и адрес, чтобы послать ему свою визитную карточку.
— Его адрес? Я знаю только адрес газеты: улица Парок.
— Это все, что мне нужно, дорогой хозяин.
— Подожди же, — сказал Стефан, посмотрев на часы с кукушкой. — Вы будете обедать за табльдотом?
— Если вы сами не видите в этом ничего неподходящего.
— Табльдот будет в пять часов, а господин Бодемайер — один из наших завсегдатаев. Через полчаса он будет здесь.
— Еще одна причина для того, чтобы к этому времени у него уже была моя визитная карточка.
И, вынув из кармана визитную карточку, он над словами «Бенедикт Тюрпен, художник» написал: «Господину Бодемайеру, главному редактору “Ганноверской газеты ”».
Затем он подозвал гостиничного рассыльного и, получив его обещание, что карточка будет вручена по назначению через десять минут, вынул из кармана флорин и дал ему.
Едва рассыльный ушел, как Стефан отозвал в сторону Бенедикта.
— Ваше превосходительство, — сказал он ему, — будьте любезны, прежде всего, простить мне, если я вмешиваюсь в то, что меня не касается.
— Продолжайте.
— Мне кажется, что если уж вы посылаете вашу карточку господину Бодемайеру, то намереваетесь сказать ему что-то необыкновенное.
— Безусловно.
— Так не лучше было бы приготовить прекрасную дичь, которую ваше превосходительство сейчас привезли, поставить столик в отдельный кабинет и обслужить вас особо?
— Честное слово, вы правы, мне только нужно узнать мнение одного человека, чтобы вам ответить.
Подойдя затем к полковнику Андерсону, он сказал:
— Полковник, наш хозяин только что подсказал мне мысль, показавшуюся мне превосходной, если только вы с нею согласитесь: не окажете ли вы мне честь отобедать со мной а обществе господина Бодемайера. Стефан утверждает, что приготовит нам отличный обед, сопроводит его лучшими немецкими и венгерскими винами и подаст в отдельной комнате, где мы сможем побеседовать, как нам будет угодно. К тому же, пять-шесть месяцев прошло с тех пор, как я уехал из Франции, и вследствие этого мне еще не случилось участвовать в беседе. Во Франции люди беседуют, в Англии — разговаривают, в Германии — мечтают. Устроим же маленький обед, за которым мы будем и беседовать, и разговаривать, и мечтать. Я прекрасно знаю, что не имел чести быть вам представленным, но в ста пятидесяти льё от Англии этикет слабеет, и я принял в расчет то, что, даже не будучи со мною знакомым, вы уже оказали мне услугу тем, что дали справку. Будьте любезны, согласитесь отобедать со мною, когда я скажу вам, кто я таков. Вот моя визитная карточка. Карточка художника! Она без гербов и корон, только с простым крестом Почетного легиона. Карточка настоящего пролетария, единственным титулом которого является то, что он — ученик двух людей, обладающих великим талантом.
Полковник с поклоном взял карточку.
— Добавлю, господин полковник, — продолжал Бенедикт более серьезным тоном, — возможно, завтра или послезавтра у меня появится необходимость просить вас о серьезном одолжении, а пока мне бы очень хотелось вам доказать, что я заслуживаю чести пригласить вас отобедать со мною, на что и прошу вашего согласия.
— Сударь, — ответил с совершенно английской любезностью, то есть с примесью некой напряженности, полковник Андерсон, — надежда, которую вы в меня вселили, надежда оказать вам услугу, совершенно утверждает меня в согласии на ваше предложение.
— Если, однако, у вас имеются причины отказаться от обеда в обществе господина Бодемайера…
— У меня нет таких причин; напротив, у меня найдется тысяча причин, чтобы обедать с вами и, надеюсь, вы позволите мне считать самой важной ту симпатию, что я почувствовал к вам.
Бенедикт поклонился.
— Теперь, раз вы согласились, полковник, — сказал он, — и по вашему примеру господин Бодемайер, возможно, тоже даст согласие, долг мой — сделать, чтобы обед прошел как можно лучше. А потому, позвольте мне проследить за приготовлением нашей трапезы и обменяться с шеф-поваром несколькими слонами исключительной важности.
Мужчины раскланялись. Полковник Андерсон направился в гостиную, а Бенедикт Тюрпен пошел в служебные помещения.
В Бенедикте Тюрпене было смешано несколько разных характеров, мы даже скажем, несколько разных темпераментов. В нем уживался большой художник и славный малый, в нем, что бывает редко, сочетались вместе оригинальность и решительность, уважение к природе и религиозное поклонение идеалу.
А потому, что бы он ни рисовал: будь это прекрасные дубы в лесу Фонтенбло или великолепные сосны на вилле Памфили в Риме, будь это набросок турецкой кофейни, как у Декана, или кавалерийской стычки, как у Беранже, — деревья, пейзажи, люди, лошади всегда представлялись ему в поэтических образах.
Став полновластным хозяином своего состояния в том возрасте, когда люди обычно понятия не имеют, как обращаться с деньгами, он превосходно распорядился своими скромными, хотя и достаточными для художника средствами (у него было двенадцать тысяч ливров ренты). Утвердившись во мнении, что человек вдвое разнообразит свою жизнь, изучив какой-нибудь иностранный язык, он обогатил себя вчетверо — провел по году в Англии, в Германии, в Испании и в Италии.
В восемнадцать лет, не говоря уже о языке Руссо, он изъяснялся на языке Мильтона, Гёте, Кальдерона и Данте.
В период от восемнадцати до двадцати лет он завершил свое филологическое образование и достиг в нем настоящего совершенства.
Эта способность к изучению языков, происходившая у него от его большой музыкальности, дала ему также знание латинского и греческого (впрочем, сам он называл изучение их потерянным временем) — этих двух древних языков, без которых образование не имеет твердой основы.
За чтением поэтов и прозаиков времен, предшествовавших Иисусу Христу, он страстно увлекся древней историей и в результате знал ее полностью — начиная от поверхностных анекдотических преданий до самых удаленных глубин.
Увлекшись чудесами, он изучал оккультные науки, кабалу, тайны учения орфиков, хиромантию и, наконец, хирогномонию, то есть современную науку д’Арпантиньи и Дебароля, причем оба они были не только его учителями, но и его друзьями.
Ею врожденные способности ко пси кого рода гимнастике позволяли ему, не ограничивая себя получением серьезного образовании, отдавать должное и физическим упражнениям, и том числе и самым распространенным.
Может быть, при этом нелишне было бы обеспокоиться тем, что подобного рода упражнения отвлекут его от занятий более серьезных и более необходимых. Но так не случилось.
Бенедикт легко добился самых больших успехов в фехтовании, стрельбе из пистолета и бое с палкой, во французском боксе, в игре в мяч, в бильярде, наконец, во всех играх, где требуется одновременно сила, ум и ловкость; ко всему этому он обладал еще и несравненным природным остроумием, совершенным изяществом, а в манере держаться — некоторым сходством с художниками XVII века, носившими шпагу, обладал он и непоколебимым мужеством и в самые грозные мгновения опасности смеялся над ней. Наделенный такими качествами, Бенедикт в двадцать лет уже был замечательным человеком, обещавшим к тридцати проявить себя еще и гениальным.
Когда Франция совместно с Англией решила совершить экспедицию в Китай, Бенедикт знал только Европу, и он подумал, что для него настало время познакомиться с другими частями света.
Он испросил себе место рисовальщика при штабе армии и легко добился этой милости. Но Бенедикта тянуло не только к художественным занятиям, но и к солдатским подвигам, поэтому его чаше видели с ружьем на плече, нежели с карандашом в руке. Так, в англо-французском авангарде он форсировал отмель на реке Пей-хо и одним из первых вошел в Пекин, в императорский дворец.
Он знал цену вещам, сделанным со вкусом; к тому же у него были и некоторые средства и, так как он увез с собою в Китай свою ренту за четыре года вперед, то смог покупать чудеса искусства и диковинки у солдат, которые относились к ним как к безделушкам.
Когда он был еще в Пекине и отправил оттуда две картины на Выставку, ему исполнился двадцать один год.
Один из его товарищей тянул за него жребий на рекрутском наборе и вынул номер достаточно большой, чтобы навсегда избавить Бенедикта от опасности оказаться на военной службе.
Посмотрев все, что ему хотелось увидеть в Китае, он решил вернуться домой через Яву, но в Малаккском проливе на него напали малайские пираты; он сразился с ними с яростью, которую вызывают такого рола противники; у немо были два великолепных карабина-револьвера, и он взял на себя жестокую бойню, поочередно разрядив их в нападавших; отправившись на месяц в Чандернагор, он вместе с самыми рьяными и самыми отважными охотниками добывал тигров и пантер в бенгальских джунглях. Затем он остановился на Цейлоне с тщеславным намерением поохотиться на слона, и через две недели удовлетворил свое желание: ему удалось дуплетом убить двух слонов.
Вскоре после этого он уехал с Цейлона и в Джидде встретился со знаменитым охотником Вессьером, в течение уже десяти лет жившим тем, что он продавал шкуры тигров и львов, убиваемых им в Нубии, и бивни слонов, убиваемых им в Абиссинии. Вместе с Вессьером Бенедикт отправился в Абиссинию, охотился с ним на льнов и тигров и через Каир, Александрию и Мальту вернулся в Париж, привезя с собою чудесные ткани, мебель, драгоценности, а также наброски и рисунки. Он устроил себе одну из самых артистических квартир в Париже, однако положил ключ от нее в карман и уехал, оставив две картины для первой Выставки.
С давних пор Бенедикту хотелось увидеть Россию, и он отправился в Санкт-Петербург. В снежную пору он охотился на медведя и волка, потом по Волге спустился до Казани, проехал киргизские степи и охотился с соколом у князя Тюмени; затем он вернулся через Ногайские степи, посетил Кизляр, Дербент, Баку, Тифлис, Константинополь и Афины; совершил экскурсии в Марафон, в Фивы, на Саламин, в Аргос, Коринф и возвратился через Мессину, Палермо, Тунис, Константину, Алжир, Тетуан, Танжер, Гибралтар, Лиссабон и Бордо; прибыв на родину, он получил орден Почетного легиона.
Наконец, в 1865 году, взяв с собою письма ко всем известным немецким художникам и посетив Брюссель, Антверпен, Амстердам, Мюнхен, Вену и Дрезден, он оказался в Берлине, причем, как мы это видели, во время крайнего возбуждения на Липовой аллее, и поддержал там часть Франции, о чем мы также рассказывали; как всегда, бросив вызов опасности, он, как всегда, сумел выпутаться из нее с той неслыханной удачливостью, которая заставляла думать о предопределении его судьбы.
Когда пистолетные выстрелы в г-на фон Бёзеверка отвлекли от Бенедикта внимание толпы, он протрубил отступление и укрылся в посольстве Франции, куда у него имелась особая рекомендация. Здесь же он узнал о последних новостях, то есть о демонстрации под окнами премьер-министра, имевшей целью высказать протест против покушения, жертвой которого едва не оказался i — н фон Бёзеверк.
Что же касается самого убийцы, то после допроса, продлившегося с одиннадцати часов утра до полуночи, стадо известно следующее: его зовут Блинд, он сын человека, изгнанного в 1848 году из страны и носившего то же имя.
В половине шестого утра в сопровождении начальника канцелярии посольства Бенедикт прибыл на вокзал, взял там билет до Ганновера и уехал без всяких осложнений, а начальник канцелярии вернулся в посольство и отчитался об его отъезде.
Мы видели, какой приехал в Брауншвейг, и неотступно сопровождали его из гостиницы «Англетер» в гостиницу «Королевская».
Все это длинное отступление, имеющее целью показать Бенедикта как человека незаурядного, послужит еще одному — теперь мы никого не удивим, если покажем, что кулинарное искусство было одним из талантов нашего путешественника.
Всякий гениальный человек любит вкусно поесть.
Однако этот человек умел как нельзя лучше обойтись даже без необходимого, когда достать его было невозможно. Он без единой жадобы переносил жажду, когда ему пришлось путешествовать в Амурской пустыне; он безропотно переносил голод, проезжая по Ногайским степям.
Но в цивилизованной стране, где имелось все, о чем можно было только мечтать в отношении еды, Бенедикт считал преступлением против гастрономии не предложить своим гостям (то есть людям, чьим счастьем он распоряжался в течение двух часов, как говаривал Брийа-Саварен) все, чего только можно пожелать самого изысканного и самого лучшего из вина, мяса, овощей и т. д.
Едва Бенедикт дал последние указания шеф-повару, как ему сообщили, что г-н Бодемайер уже появился на другой стороне площади и направился к гостинице «Королевская». Таким образом, ему следовало поспешить, если он желал встретить его на пороге гостиницы в соответствии с заявленным им намерением.
Бенедикту оставалось сделать только прыжок к двери в ту минуту, когда г-ну Бодемайеру предстояло еще пройти шагов двадцать до гостиницы. Редактор местной газеты держал в руке карточку, отправленную ему Бенедиктом, и время от времени заглядывал в нее, казалось сильно заинтригованный тем, что мог хотеть от него французский художник.
VII КАК БЕНЕДИКТ ТЮРПЕН ОБЪЯВИЛ ЧЕРЕЗ «ГАННОВЕРСКУЮ ГАЗЕТУ» О СВОЕМ ПРИБЫТИИ В СТОЛИЦУ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ ГЕОРГА V
У нас, жителей той Галлии, что задала столько работы Цезарю, так ярко выражена индивидуальность и такая своеобразная внешность, что, как бы далеко от нашей страны нас ни встретить, пешими ли, верхом ли, в дороге или на отдыхе, тот, кто нас увидит, тотчас же воскликнет:
— Смотри! Вон француз!
Помню, как семь-восемь лет тому назад мне пришлось заехать в Мангейм, город, где раньше пяти часов вечера не встретишь на улице ни одной живой души. Помню, я заблудился там и, разыскивая хоть кого-нибудь, у кого можно было бы спросить дорогу, увидел одетого по-домашнему господина: он стоял и курил сигару у окна в нижнем этаже.
От того места, где я был, до его окна было что-то около двухсот — трехсот шагов, то есть целая пробежка для уже уставшего человека. Но, оглядевшись и увидев, что вокруг совершенно никого не было, я решил пойти и навести справки у единственного указательного столба, который мог мне их дать. Я находился на одной стороне улицы, а господин с сигарой — на другой, поэтому я перешел улицу наискось, стараясь оказаться к нему поближе; по мере того как я подходил, стали видны черты его лица.
Это был мужчина лет тридцати пяти — сорока. В то мгновение, когда я стал пересекать улицу, его взгляд остановился на мне, так же как мой — на нем. Пока я продвигался вперед, улыбка на его лице становилась все явственнее и выглядела она такой искренней, что со своей стороны я не смог воспротивиться самому себе и тоже улыбнулся.
Подойдя на расстояние, позволявшее мне заговорить, я открыл было рот, чтобы попросить его указать мне дорогу, но, прежде чем я успел произнести хотя бы один слог, он сказал:
— Не стоит меня спрашивать, я такой же француз, как и вы, и знаю не более вас.
Затем, отступив в глубину комнаты, он позвонил. Появился слуга.
— Ты говоришь по-французски? — спросил он его.
— Да, ваша милость.
— Так вот этот господин заблудился, скажи ему, куда идти.
Я сказал слуге, куда мне нужно было попасть, и гот объяснил все, что меня интересовало.
Когда он закончил объяснения, а я его поблагодарил, мне захотелось выразить признательность своему соотечественнику, но он прервал меня:
— Извините, вам обязательно нужно куда-то пойти?
— Вовсе нет.
— Где вы собираетесь обедать?
— За табльдотом.
— У вас в гостинице есть французы?
— Ни одного.
— Ну тогда пообедаем вместе.
— Где?
— Ничего не знаю, где хотите, но только вместе. Иоганн, скажи моему дяде, что я встретил соотечественника и обедаю вместе с ним.
Затем, выпрыгнув прямо в окно, он сказал:
— Я только вчера приехал, и без вас наверняка умирал бы со скуки весь сегодняшний вечер.
Мы вместе пошли обедать, и в памяти моей сохранилось приятное воспоминание о том, как мне удалось спасти жизнь человеку, охваченному немецкой хандрой, у которой перед английским сплином есть то преимущество, что она щадит местных жителей и докучает только иностранцам.
И его, и меня мигом признали за французов еще до того, как мы произнесли хотя бы слово.
Теперь то же самое случилось и с Бенедиктом: едва г-н Бодемайер заметил его, он обратил к нему любезную улыбку и протянул ему руку.
При виде такого проявления любезности, Бенедикт прошел сам три четверти разделявшего их расстояния. Оба они обменялись обычными словами вежливости, затем г-н Бодемайер, будучи жаждущим новостей журналистом, спросил у Бенедикта, откуда он приехал.
Когда он узнал, что наш художник выехал из Берлина всего только в шесть часов утра, тут же, конечно, понадобилось, чтобы он рассказал ему обо всех волнениях в городе, о которых здесь знали только по телеграфным сообщениям, также как и о покушении на графа Эдмунда.
Хотя вся интересовавшая г-на Бодемайера история произошла не более чем в двадцати шагах от Бенедикта, он о ней мог рассказать только то, что знали все: он слышал все пять выстрелов из револьвера, он видел, как два человека дрались и при этом катались в пыли, а затем один из них встал и отдал другого в руки прусских офицеров. В эту самую минуту, опасаясь, что всеобщее внимание, отвлеченное так вовремя, вновь обратится на нею, он бросился внутрь кафе, выбрался из пего с яругой стороны, что выходила на Веренитрассе, и добрался до французского посольства.
Ему известно было также, и мы об этом уже говорили, что убийцу допросили, что гот возвел на графа тяжелые и самые ужасные обвинения, но обвинения эти, исходившие из уст сына человека, изгнанного из страны в 1848 году, не имели ровным счетом никакой цены, какую могли бы приобрести в устах кого-нибудь другого.
— Так вот, — сказал г-н Водемайер, — мы из восьмичасовых утренних сообщений знаем немного больше, чем вы. У Блинда был маленький перочинный ножик, его лезвием он несколько раз пытался перерезать себе горло. Позвали врача, тот перевязал ему раны и признал их легкими. Но, — добавил г-н Водемайер, — вот «Крестовая газета» еще только должна появиться, и, так как она вышла уже сегодня, в восемь утра, у нас будут сведения о том, что там произошло ночью.
В эти самые минуты продавцы газет, пробегая по улице, закричали: «“Kreuz Zeitung”!», и их стали подзывать со всех сторон. Ганновер был возбужден почти так же, как и накануне Берлин. Бедное маленькое королевство уже чувствовало себя наполовину в пасти у змея.
Бенедикт сделал знак, и один из продавцов газет подбежал и за три крейцера продал ему экземпляр «Крестовой газеты».
— Кстати, — сказал Бенедикт главному редактору «Новой ганноверской газеты», — да будет вам известно, что вы обедаете со мною и полковником Андерсоном, что у нас отдельный кабинет и мы сможем вдоволь побеседовать о политике. Да и услуга, о которой я намерен вас просить, не из тех, что обсуждают за табльдотом.
В эту минуту к ним подошел полковник Андерсон. Он уже успел просмотреть свой экземпляр газеты. Водемайер и он знали друг друга в лицо, так как они встречались за табльдотом. Бенедикт представил их друг другу.
— Знаете, — сказал полковник, — хотя врач заявил, что раны у Блинда были несерьезны, тот умер к пяти часам утра. Один ганноверский офицер, выехавший из Берлина в одиннадцать часов, рассказал, что в четыре часа утра какой-то человек, в просторном плаще и в широкополой шляпе с опущенными полями пришел в тюрьму, имея при себе приказ свыше, разрешавший ему поговорить с заключенным. Его провели в камеру. Блинд был в смирительной рубашке. Что там произошло между ними — неизвестно, но, когда в восемь часов утра вошли к Блинду в камеру, его нашли мертвым. Вызванный к трупу врач заявил, что смерть наступила примерно за четыре часа до этого, то есть кто время, когда таинственный посетитель вышел из камеры.
— Это известие официальное? — спросил г-н Бодемайер.
— О нет! — сказал Андерсон.
— Я, — продолжал журналист, — как главный редактор правительственной газеты доверяю только официальным сообщениям или же тому, что скажет «Kreuz Zeitung». Посмотри же, что говорит «Kreuz Zeitung».
Все трое тем временем вошли в приготовленный для них кабинет, и главный редактор «Новой ганноверской газеты» принялся отыскивать важные сообщения, которые могли содержаться в «Крестовой газете».
Первое из важных сообщений оказалось следующим:
«Утверждают, что официальная газета напечатает завтра указ короля о роспуске Ландтага».
— О! — воскликнул полковник Андерсон. — Вот для начала небольшая новость не без значения.
— Подождите же, мы же не прочли до конца.
«Еще говорят, — продолжал Бодемайер, — что указ, объявляющий о мобилизации ландвера, будет опубликован в официальной газете послезавтра».
— Больше можно не трудиться, — сказал полковник, — поскольку и так видно, что министр торжествует, и ясно, что через две недели будет объявлена война. Переходите к разделу разных новостей, ибо в области политики мы уже узнали все, что хотели. Только вот, с кем же пойдет в ногу Ганновер?
— Здесь не возникает вопроса, — ответил г-н Бодемайер, — Ганновер пойдет с Союзом.
— А Союз, — спросил Бенедикт, — с кем он пойдет?
— С Австрией, — не колеблясь, ответил журналист. — Но подождите же, вот и новая подробность сцены, разыгравшейся на Липовой аллее.
— Ах! Ну же, читайте! — живо воскликнул Бенедикт. — Я сам там был и скажу, правдивы ли эти подробности.
— Как? Вы там были?
— Да, я лично там присутствовал и даже, — добавил он, смеясь, — могу сказать, как Эней: «Et quorum pars magna fui[15]». Читайте же!
Господин Бодемайер прочел:
«Новые известии позволяют нам рассказать сегодня во всех подробностях о факте единственного протеста против обширной манифестации национальных чувств, которой вчера жители Берлина, и в особенности mi Липовой аллее, встретили речь его величества императора французов. В ту самую минуту, когда наш знаменитый артист Генрих среди возгласов “ура", аплодисментов и криков “браво " заканчивал пятый и последний куплет нашей прекрасной национальной песни “Свободный немецкий Рейн ”, раздался свист.
Справедливо полагают, что только иностранец мог позволить себе подобную выходку. Да и в самом деле, было выяснено, что протестовавший, находившийся в состоянии опьянения, оказался французским художником. Безусловно, он мог оказаться жертвой своей дерзости и пасть под напором множества осаждавших его людей, готовых отомстить ему за такое святотатство, но в этот миг между всеобщим возмущением и им встало благородство нескольких прусских офицеров. Молодой же безумец имел наглость бросить своим противникам вызов, дав им свое имя и свой адрес. Но, когда сегодня утром к нему в гостиницу “Черный орел " пришли, чтобы потребовать удовлетворения, оказалось, что он уже уехал. Мы можем только аплодировать его предусмотрительной осторожности и пожелать ему счастливого пути».
— Статья подписана? — спокойно спросил Бенедикт.
— Нет, а что, разве и ней есть неточность? — спросил а спою очередь Бодемайер.
— Осмелюсь ли сказать вам, господин Бодемайер, что из четырех частей света… Из пяти, я ошибся, если посчитать Океанию, я уже побывал в трех и заметил, что во всех газетах, в северных и южных, в петербургских и в калькуттских, в парижских и константинопольских, редакторы такого рода разделов происшествий проявляют обычно малое уважение к правде. Такая-то газета обязана давать столько-то ударов тамтама вдень. Хороши они или плохи, фальшивы или правдивы, она все равно осуждена на то, чтобы их давать. И напрасно опускается на них ферула негодующего Аристарха.
— Так в этом самом случае, — спросил полковник Андерсон, — по вашему мнению, сударь, в изложении фактов есть неточность?
— Оно не только неточно, но еще и неполно: «молодой безумец», о котором речь, не только свистнул, но и крикнул «Да здравствует Франция!», и не только крикнул «Да здравствует Франция!», но и выпил за благополучие Франции. Он еще не только выпил за благополучие Франции, но и вывел из строя четверых первых напавших на него. И только тогда, действительно при покровительстве трех прусских офицером, пожелавших заставить его крикнуть «Да здравствует король Вильгельм!», «Да здравствует Пруссия!», он метал на стол и, вместо того чтобы кричать «Да здравствует король Вильгельм!» и «Да здравствует Пруссия!», громким голосом прочел от первого до последнего слона победный ответ Альфреда де Мюссе на «Немецкий Рейн». Является правдой еще и то, что его могли разорвать на куски, но в это время раздались револьверные выстрелы Блинда, и они отвлекли внимание толпы. Посчитав бесполезным драться с пятьюстами людьми, он отступил, как и говорится в газете, и отправился искать покровительства в посольстве Франции… Его вызов был брошен одному противнику, двум противникам, четырем противникам, но не всему же населению города. Из посольства Франции он передал в «Черный орел», что, вынужденный покинуть Берлин, он остановится в какой-нибудь близко расположенной от Пруссии стране, специально чтобы не слишком утруждать тех, кто, будучи им недоволен, захотел бы поехать вслед за ним. Вот что должны были ответить в «Черном орле» тем, кто приходил туда и справлялся о нем, и ничего другого. Именно для того, чтобы не выходить из такой программы действий, он поехал в Ганновер по железной дороге в шесть часов утра и прибыл сюда всего час назад, и первой его заботой было отправить свою визитную карточку уважаемому господину Бодемайеру, чтобы попросить у него, во имя международного понятия о чести, через его газету объявить о городе, где он остановился, и о гостинице, где можно будет его найти тем, кто не обнаружил его сегодня утром в «Черном орле».
— Как! — вскрикнул редактор газеты. — Так это вы и вызвали весь этот переполох в Берлине?
— Да, я; видите, как мала причина для такого большого события! И вот почему также, — продолжал он, повернувшись к английскому офицеру, — я говорил недавно уважаемому полковнику Андерсону, что, весьма возможно, у меня появится необходимость просить его об одной любезности, а именно: послужить мне секундантом в случае если — и я вовсе не сомневаюсь в такой возможности — некие обидчивые господа приедут сюда и спросят о причине того, почему я, находясь за границей, захотел поддержать честь моей страны.
Оба собеседника в одинаковом порыве протянули ему руки.
— А теперь, — продолжал Бенедикт, — чтобы доказать вам, что я не совсем первый встречный, вот у меня есть письмо от нашего директора изящных искусств к господину Kayшбaxy, придворному художнику короля Георга. Ом ноль живет и Гам ноне ре, не правда ли?
— Да, в очаровательном домике, который король приказал выстроить для него в саду.
— Сегодня же вечером я буду иметь честь доставить ему это письмо.
В эту минуту дверь комнаты, смежной с той, где подавался обед, распахнулась, в ней показался живот метра Стефана, на секунду опередив его голову, и с высоты большого роста этого человека раздался властный голос:
— Господа, кушать подано.
Метр Стефан превзошел самою себя, а повар либо сам признал толкового учителя в человеке, давшем ему советы, либо получил форменный приказ следовать им и ни в чем не отклонился от предписания, но приготовленный им обед оказался не французским, не английским, не немецким, а таким европейским обедом, который вполне можно было подавать на каком-нибудь совещании, если не на конгрессе.
Господин Бодемайер, как все немецкие журналисты, был человеком образованным, только он почти никогда не выезжал из своего Ганновера. Андерсон же, напротив, мало читал, но много видел, много путешествовал. Он побывал в тех же странах, что и Бенедикт, знакомился с теми же людьми. Они оба участвовали во взятии Пекина, майор Андерсон ездил в Индию позже Бенедикта, но раньше него посетил Россию. Они оба говорили о своих путешествиях, но по-разному: один флегматично и с английским юмором, другой вдохновенно и с французским остроумием.
Один, настоящий современный карфагенянин, все видел с позиции интересов промышленности и торговли, другой — с точки зрения прогресса и идеи. Два эти мироощущения, управляемые горячностью и любезностью двух утонченных и незаурядных людей, притирались друг к другу, словно две рапиры в опытных руках, время от времени исторгая искры, и каждая из них высвечивала некую мимолетную, как искра, идею, но и сиявшую, как эта искра.
Неловкий в разговоре о политике, когда перебиралось множество тех теорий, каким было суждено стать фактами будущего, ганноверский собеседник попытался повернуть разговор к философии и доказать, уже с философской точки зрения, превосходство Германии над Францией. Но, скажем так, именно здесь его и поджидал Бенедикт, зная до самых недр все то пустословие, что называют гуманитарной наукой. Казалось, Бенедикт превратился в того льва, о котором говорит Жерар и который всякий раз встречал несчастного араба на опушке леса, как бы тот ни пытался сбить зверя со следа. Венедикт соглашался, что Германия — эго страна мечтаний, а иногда даже страна идей; но он настаивал на том, что Франция — страна принципов, и то время как из других стран исходят только факты.
В противовес полковнику Андерсону он утверждал: море изолировало не только народы, но и идеи и события; для всего мира то, что не сделано во Франции, вообще не сделано; когда голова Людовика XVI упала на площади Революции, для Европы и даже для всего мира это имело совсем иные последствия, чем когда голова Марии Стюарт упала в Фотерингее, а голова Карла I — в Уайтхолле; Франция заняла в мире такое место в моральном отношении, что сколь бы ни было плачевным ее материальное положение, все равно любой человек, родившись на земле, имеет две родины: сначала свою собственную, затем — Францию.
— Хорошо! — воскликнул журналист. — Разве у нашего Канта не было ваших французских идей раньше, чем у французов! Вы, вы уничтожили Бога только в девяносто третьем, а он обезглавил его еще в восемьдесят шестом.
Бенедикт кивнул, но с улыбкой на губах.
— Да, вне всяких сомнений, — сказал он, — Кант был великим астрономом, он предсказал существование планеты Уран; но согласитесь, что его система нелепа, когда он утверждает, что умственное совершенство миров увеличивается пропорционально их удалению от Солнца. Правда, Кант и разоблачал себя, он любил предлагать доводы и за и против и доказывать и то и другое. Так, он нам доказывает, что мы ничего не можем знать об этом ноумене, которого называют Богом, что любое доказательство его существования невозможно и что, таким образом, Бог не существует.
Сначала вы с некоторым трудом привыкаете к этой мысли о несуществовании Бога, но наконец вы говорите себе: «Впрочем, если Бог существует и желает, чтобы об этом знали, почему бы ему не дать доказательств своего существования?» В конце концов, это его касается. И вот, когда вы вместе с Кантом и согласно Канту вполне утвердитесь в том, что отныне не стоит ждать ни милости Божьей, ни отеческой доброты его, ни будущего вознаграждения за лишения нынешние, ни кары Небесной за совершенные на земле преступления, когда бессмертие души пребывает в агонии, — вот в эту-то минуту неожиданно в кабинет Канта входит его старый слуга, роняет зонтик и в глубоком горе принимается плакать и причитать:
«Как, сударь, неужели же правда, что больше нет Бога?»
Тогда Кант смягчается, ибо к глубине души он добрый человек, при всем споем атеизме. Какую-то минуту он размышляет про себя, а потом говорит:
«Впрочем, нужно, чтобы у старика Лампе был Бог, без этого у бедняги больше не будет счастья. В нем говорит практический ум, и я с этим согласен. Так пусть практический ум утвердит в моем старике Лампе мысль о том, что Бог есть».
И вот, согласно учению Канта, Бог есть для бедных людей, слуг и глупцов. Умные люди, аристократы и счастливцы мира сего могут обойтись и без него.
Смотрите, я говорил вам о фактах и о идее. Послушайте же, что говорит немец Гейне о своем соотечественнике Канте (это говорит Гейне, а не я):
«Говорят, ночные духи пугаются, увидев меч палача. Каким же ужасом должно их обдавать, когда им подносят “Критику чистого разума ” Канта! Эта книга — меч, который в Германии убил Бога деистов…
Хотя Иммануил Кант, этот великий разрушитель в царстве мысли, далеко превзошел в смысле терроризма Максимилиана Робеспьера, этого великого разрушителя в царстве реалий, кое в чем он имел с ним сходные черты, побуждающие к сравнению обоих мужей…
Они оба в высшей степени выражают тип зеваки и лавочника: природа предназначила им взвешивать сахар и кофе, но судьба пожелала, чтобы они взялись за другие весы. Она философу отдала Бога, трибуну — короля!
И они взвесили точно».'
Господин Бодемайер, после того как он вместе с Кантом оказался в проигрыше, попробовал спастись, обратившись к Лейбницу. Но Лейбниц в свою очередь был всего лишь учеником Декарта, как Кант был плагиатором Сильвена. Бенедикт доказал журналисту, что Декарт не только явился отцом современной философии, но и сказал правду, когда вообразил себе, что животный дух состоит из самых легких частей крови, спускающейся из мозга в нервы и мускулы или же поднимающейся из сердца в мозг. Замените животный дух электричеством и флюидом жизни, и Декарт окажется близок к правде, он прикоснется к тому, что Клод Бернар скажет 22 октября 1864 года:
«Организация нашего тела представляет собою лишь скопление простейших организмов, настоящих инфузорий, что живут, умирают и обновляются каждая по-своему. Наше тело составлено из миллионов миллиардов малых существ или разных видов животных особей».
Так разговор их, то забираясь на высоты сияющей бесконечности, то внедряясь в потемки неизвестного, начал ускользать от разумения полковника Андерсона, затем от журналиста Бодемайера и постепенно становился всецело владением Бенедикта, который, разговаривая на языке Лейбница и Канга, сумел остаться совершенно ясным, а ведь при этом его мысль, приходя ему в голову по-французски, переводилась им на немецкий язык. Андерсон напрасно пытался вникнуть в смысл того, что говорил журналист, а вот когда говорил Бенедикт, он понимал все.
Пробило восемь часов.
Редактор, сосчитав удары, вскочил в удивлении.
— А моя газета, — вскричал он, — еще не сделана, моя газета!
Никогда прежде он не позволял себе подобной невоздержанности ума.
— Ах, эти чертовы французы! — говорил он, примеряя все шляпы, попадавшиеся ему под руку, но ни одна ему не подходила. — Французы — это какое-то шампанское среди прочих наций. Они ясны, крепки и пенятся!
Бенедикт тщетно настаивал, чтобы Бодемайер подождал еще пять минут, пока он напишет свой протест.
— У вас есть время до одиннадцати часов, чтобы мне его прислать! — крикнул г-н Бодемайер на ходу, убегая после того как, наконец, он нашел свою трость и шляпу.
На следующий день в «Новой ганноверской газете», выходившей в полдень, можно было прочесть следующее объявление:
«Седьмого июня 1866 года, от четырех до половины пятого пополудни, на Липовой аллее в Берлине, в стычке с бравыми гражданами города, хотевшими разорвать меня на куски только потому, что я поднял тост за Францию, мы взаимно обменялись некоторым количеством ударов кулаками. Не имея чести знать тех, кто нанес мне удары, но желая объявить о себе тем, кому я их вернул, заявляю, что в течение недели буду ждать в гостинице “Королевская ” на Большой площади в Ганновере любого, кто пожелает сделать мне какое бы то ни было замечание по поводу моих действий и поступков в указанный день. Живейшим образом хотел бы, чтобы журналист отдела происшествий газеты “Kreuz Zeitung", автор того текста, который касается меня, оказался среди моих посетителей. Не зная его имени, не имею возможности вызвать его другим способом.
Благодарю господ прусских офицеров, любезно пожелавших защитить меня от добрых берлинских жителей. Но, если кто-нибудь из них сочтет себя недовольным мною, моя благодарность не окажется столь велика, чтобы отказать ему в удовлетворении.
Я уже сказал во всеуслышание и повторяю, что мне подходит любой вид оружия.
Бенедикт Тюрпен.
Гостиница “Королевская”, Ганновер».
VIII МАСТЕРСКАЯ КАУЛЬБАХА
Бенедикт сказал, что в тот же вечер принесет в ганноверскую газету свое объявление, так он и сделал и заодно отослал Каульбаху свое рекомендательное письмо и визитную карточку, на которой написал карандашом: «Честь имею явиться к Вам завтра».
И в самом деле, на следующий день метр Ленгарт получил приказ заложить карету к одиннадцати часам утра, так как Бенедикту предстояло сделать два визита: поблагодарить г-на Бодемайера и познакомиться с Каульбахом.
Каульбах жил на другом конце города, на площади Ватерлоо, в чудесном доме, который ему построил ганноверский король. Поэтому Бенедикт начал с выражения благодарности в адрес г-на Бодемайера: он жил ближе, на улице Парок.
Там допечатывались последние номера «Новой ганноверской газеты». Господин Бодемайер вручил Бенедикту один ее экземпляр, и тот смог убедиться, что его объявление напечатано.
У «Новой ганноверской газеты» было триста подписчиков в Берлине, и из них человек тридцать — владельцев кафе. Поэтому огласка, которой желал Бенедикт, таким образом была ему обеспечена.
Отправленные по почте в час дня, номера прибывали в Берлин к шести часам, а к семи уже разносились.
Как и предсказала накануне «Крестовая газета», утренние телеграммы сообщили о роспуске Ландтага. Не было сомнения, что берлинский «Вестник» объявит на следующий день о мобилизации ландвера.
Вследствие важности известия «Ганноверская газета» разошлась на час раньше обычного.
Бенедикт оставил г-на Бодемайера на его поле битвы, то есть за бомбардированием ирониями и газетами, и направился к Каульбаху.
Как и накануне, он проехал весь город, чтобы добраться до площади Ватерлоо, но то, что он не смог увидеть it темноте, теперь ему довелось увидеть при свете дня. Дом, подаренный королем своему любимому художнику Каульбаху, был прелестной маленькой итальянской постройкой с террасой и крыльцом в стиле Ренессанса, окруженной садом, который в свою очередь был обнесен решеткой. Решетка была открыта, ворота, находившиеся прямо перед крыльцом, казалось, приглашали прохожего войти и посетить дом.
Бенедикт вошел в ворога, поднялся по лестнице и позвонил.
Ему открыл слуга в ливрее. Легко было заметить, что Бенедикта ждали. Едва он назвал свое имя, как слуга сделал жест, означавший: «А, знаю, it чем дело» — и провел Бенедикта прямо в мастерскую хозяина.
— Господин Каульбах заканчивает обедать, — сказал он ему (Каульбах обедал в полдень), — и через минуту он будет к вашим услугам.
— Скажите вашему хозяину, — ответил Бенедикт, — что он оставляет меня в слишком хорошей компании, чтобы я успел соскучиться.
И в самом деле, мастерская Каульбаха, полная оригинальных живописных полотен, эскизов, а также копий, сделанных им самим в молодые годы с картин лучших итальянских, фламандских и испанских живописцев, была крайне интересна для такого человека, как Бенедикт, неожиданно оказавшегося в святилище одного из самых великих немецких живописцев.
У Бенедикта не было той дурной привычки, что присуща большинству наших художников, — считать французское искусство превыше всего. Он попытался соединить Каба и Бонингтона; ученик Шеффера по исторической живописи, он сохранил идеализм своего учителя, увлеченно изучая колористические приемы Делакруа. Бенедикт принадлежал к эклектической школе, и никакое усвоение не казалось ему кощунственным; любой способ живописи казался ему не только разрешенным, но и святым, только бы он вел к прекрасному. Он въехал в Германию, располагая двумя суждениями о немцах: одно он почерпнул от гениальной женщины, относившейся к немцам дружелюбно, — от г-жи де Сталь; другое от остроумного мужчины, питавшего к немцам мало симпатий, — от г-на Виардо.
Госпожа де Сталь говорит о немцах:
«Занимаясь искусством в Германии, приходишь к тому, что начинаешь рассуждать скорее о писателях, чем о художниках. Во всех отношениях немцы сильнее в теории, чем на практике. И Север так мало благоприятствует искусствам, воздействующим на зрение, словно дар размышления дан ему для того, чтобы служить зрителем только на Юге».
Господин Виардо говорит о немцах так:
«Вместо того чтобы, как и идеи, вести искусство вперед, немцы повернуты назад, и, вместо того чтобы решительно направиться навстречу будущему, неизвестности, они считают более благоразумным возвращаться к прошлому и прятаться в архаику. Вот уже три века художественная Германия спит в пещере Эпименида; пробужденная шумом возрождающейся Франции, она возобновила свой труд с того места, на котором его оставила, и оказалась, таким образом, в конце XV века».
От своего позднего пробуждения Германия и проиграла и выиграла: она проиграла в том, что не пошла вперед, но выиграла в том, что сохранила свою веру.
Каульбах — один из тех людей, кто не потерял веры, и его мастерская, подобно церкви, набитой благочестивыми подношениями, заполнилась эскизами и копиями, удостоверяющими его верования. Там были копии Альбрехта Дюрера, Гольбейна, Лукаса Кранаха. Там были почти такие же оконченные эскизы, как и оригинал его фресок в Берлинском музее: «Битва друзов», «Рассеяние народов», «Взятие Титом Иерусалима», «Обращение Видукинда» и «Крестоносцы под стенами Иерусалима». Там были готовые к сдаче портреты, оставалось только сделать несколько мазков, последний штрих кистью — и все; среди них была настоящая картина с изображением пяти фигур.
На ней был представлен во весь рост высокопоставленный офицер в гусарском мундире; он протягивал руку ребенку лет десяти-одиннадцати, готовясь сесть верхом на лошадь, которая ждала его внизу у террасы; около стоявшего офицера находилась женщина в расцвете лет: она сидела на диване и держала на коленях девочку, обнимая ее, а в это время другая девочка играла на полу с собачкой и розами.
Видно было, что Каульбах приложил особые старания к этой картине и был к ней расположен: либо он очень любил эту картину, либо был глубоко благодарен людям, которых он на ней изобразил.
Эта исключительная любовь к своему полотну даже привела живописца к некоему недостатку: он тщательно проработал сю вплоть до самых мельчайших подробное гей, удели» им такое же внимание, как и лицам, и поэтому общее впечатление при первом взгляде терялось.
Бенедикт всецело погрузился в изучение этого прекрасного полотна и не услышал, когда вошел Каульбах, а тот, с минуту понаблюдав за мимикой лица своего гостя, с улыбкой сказал ему:
— Вы правы, все в одном плане, и это недостаток; вот почему я снова принимался за картину не для того, чтобы ее закончить, а чтобы пригасить или вовсе убрать некоторые ее части. Такой, как она есть, картина не понравится французской публике. Если говорить о чистой живописи, Делакруа вас испортил.
— И это означает, что Делакруа присуща грязная живопись? — смеясь, сказал Бенедикт.
— О! Да сохрани Боже! Я один из тех, кто более всего жалел о его смерти. Делакруа делал восхитительные полотна! Но признайтесь, что вы, французы, привыкшие к живописи господ Жироде, Жерара и Герена, его признали с трудом.
— Да, но вы же видели, как потом восторжествовала справедливость.
— После смерти, — смеясь, сказал Каульбах. — Увы! Всегда так и бывает.
— По крайней мере, не с вами. Ваше имя, любимое во Франции, в Германии тоже почитается, и, благодарение Богу, вы вполне живы.
Оба они поклонились друг другу. Действительно, Каульбах, человек в возрасте пятидесяти пяти лет, седеющий, с желчным цветом лица, с черными глазами, очень нервного склада и вследствие этого очень живой, высокий и худой, был в расцвете таланта и, я бы сказал, почти в расцвете своих лет.
Пока Тюрпен смотрел на него, Каульбах тоже смотрел на Тюрпена с некоторым любопытством.
Затем он рассмеялся.
— Знаете ли, что я в вас изучаю? — сказал Каульбах Бенедикту.
— Скажите.
— Пытаюсь отделить человека от художника и спрашиваю себя, как же вы находите время, путешествуя из Китая в Петербург и из Астрабада в Алжир, посылать в Музей полотна таких размеров, как ваши картины — «Продавец рабов», «Коринфская куртизанка, сжигающая свои одежды после клятвы святому Павлу», «Битва на Пейхо» и «Вид Танжера».
— Как, — сказал Бенедикт, — вы знаете мои скромные полотна?
— К сожалению, только по тому, что о них говорят. Но один из моих коллег, видевший их, рассказывал мне о них много хорошего. Вы ученик Шеффера, так?
— И Каба
— Оба были мастерами.
— Но прежде, — сказал Бенедикт, — я солдат, путешественник, француз и, извините меня, дитя Парижа.
— Это, конечно, вы устроили себе такую нехорошую историю в Берлине?
— Кто вам о ней рассказал?
— Я только что прочел ваше письмо в «Новой ганноверской газете».
— И вы думаете, что это нехорошая история?
— Безусловно, у вас будет две-три дуэли.
— Тем хуже для тех, кто будет драться со мной!
— Позвольте мне сказать вам, что вот такая вера в себя…
— … основывается на моей вере в науку.
Бенедикт посмотрел себе на руку и затем показал ее Каульбаху.
— Посмотрите, — сказал он, — на эту линию или скорее на эти две линии, ибо линия жизни у меня двойная, — и он показал Каульбаху ту часть руки, которую хироманты называют холмом Венеры. — Так вот, ни малейшего перерыва, который указал бы на болезнь, несчастный случай, укол булавки; я проживу сто лет, и не сказал бы того же о тех, кто ищет со мною ссоры.
— В самом деле, — улыбаясь, сказал Каульбах, — в конце вашего рекомендательного письма есть подчеркнутая приписка.
— И что же говорит эта подчеркнутая приписка?
— Она говорит о том, что вы занимаетесь оккультными науками, и еще там добавлено, что вы отдаетесь им больше, чем вашим талантам.
— По правде говоря, дорогой великий мастер, меня не очень-то занимает ни то ни другое. Я человек темперамента и впечатления. Что-то меня захватит — и я это изучаю. Если я на этом пути встречаюсь с истиной — преследую ее со страстным увлечением. Я усмотрел науку в хиромантии и отдался ей. Занятия этой наукой дали мне результаты, и я продолжил их изучение. И вот, читая по руке, я думаю, что, как и оба мои учителя, д’Арпантиньи, создатель этого искусства, и Дебароль, его продолжатель, могу с помощью руки приподнять уголок завесы будущего. Рука — это книга, где записана судьба, и не только прошлое, но и будущее. Ах! Если бы я смог подержать лишь несколько минут руку прусского короля или же руку господина фон Бёзеверка, я бы непременно рассказал вам о том, что произойдет в Германии.
— А пока, — сказал Каульбах, — если у нас поникнет какая-нибудь история после нашей отчаянной выходки в Берлине, с нами ничего не случится?
— Совершенно ничего.
— От всего сердца желаю вам этого…
— Но весь этот вздор отвлек нас от темы нашего интересного разговора. Я говорил о нас, о том, что им сделали. А я ведь знаю нее, что вы сделали.
— Все?
— Или почти нее.
— Спорю, что вы не знаете моей лучшей картины.
— «Император Отгон, посещающий могилу Карла Великого»?
— Вы и это знаете! — прокричал Каульбах с выражением большой радости на лице.
— Это ваш шедевр, и осмелюсь сказать, что это шедевр всей современной немецкой живописи.
Каульбах с искренним чувством протянул руку молодому человеку.
— Если не ставить картину на ту высоту, на которую вы ее возносите, то скажу, что сам я люблю ее больше всех прочих. О! Но простите, — вздрогнув, воскликнул Каульбах, — вот идут два человека, они пришли позировать.
— Я предоставляю вас вашим делам, но не освобождаю вас от себя.
— Надеюсь, да. Но подождите… Это мои близкие друзья, может быть, вы их не стесните? Пойду им навстречу, скажу, кто вы, и если они не усмотрят помехи в том, чтобы вы остались на время сеанса, то от вас будет зависеть, оставаться ли вам или уходить.
И Каульбах, выйдя из мастерской, пошел навстречу двум своим посетителям. Те же вышли из очень простой кареты без гербов, однако Бенедикт, великий знаток лошадей, сразу оценил их: обе лошади, что везли карету, стоили от четырех до пяти тысяч франков каждая.
Один из них, тот, что был постарше, выглядел на сорок-сорок пять лет; на его будничном мундире гвардейских егерей, то есть на темно-зеленом кителе с воротом и позументами из черного бархата, были генеральские эполеты. Обменявшись с Каульбахом несколькими словами, он отцепил орденский знак, прикрепленный у него на груди вместе с двумя другими крестами, и положил его в карман; два оставшихся на нем креста были: один — орденом Вельфов, другой — орденом Эрнста Августа.
Собираясь пройти сад, куда карета не въехала, и подняться по лестнице на крыльцо, он оперся на руку молодого человека, которого можно было принять за его сына.
Этот очень стройный и весьма худощавый молодой человек мог быть в возрасте примерно двадцати одного года. На нем был мундир гвардейских гусаров, то есть голубой китель с серебряными петлицами, и небольшая военная фуражка.
Каульбах поспешил раскрыть перед ними дверь в мастерскую и отступил, чтобы дать им войти. Бенедикт поклонился им, узнав двух персонажей портрета, который подрисовывал перед этим Каульбах.
Бенедикт бросил быстрый взгляд на картину. На портрете уже никак нельзя было снять орденского знака. И Бенедикт узнал в этом ордене большой крест Святого Георга — его имели право носить только государи.
В его мозгу молнией пронеслось: этот генерал, что по-дружески пришел к Каульбаху, был король Георг; этот молодой человек, на чью руку опирался его слепой отец, был наследный принц.
Бенедикт был далек от того, чтобы из угодливости воспрепятствовать их инкогнито, которое давало ему возможность увидеть с близкого расстояния одного из самых образованных, артистичных и выдающихся государей в Германии.
— Милорды, — сказал Каульбах, обращаясь к двум офицерам, — честь имею представить вам одного из моих собратьев по ремеслу, уже известного, хотя и очень еще молодого. Он горячо рекомендован мне директором французских изящных искусств. И спешу добавить, что он весьма зарекомендовал себя уже сам.
Генерал кивнул в знак милостивого приветствия; молодой человек приподнял свою фуражку.
И тут королю пришла в голову прихоть.
— Сударь, — сказал он Бенедикту по-английски, — я сожалею, что говорю так плохо на французском и на немецком, на котором, по утверждению моего друга Каульбаха, вы говорите как Лейбниц, как истинный саксонец… Но я довольно хорошо понимаю, когда говорят на этих языках, и мой сын тоже, поэтому говорите по собственному выбору на языке, наиболее близком вам.
— Прошу прошения, милорд, — сказал Бенедикт на великолепном английском, — но думаю, что говорю достаточно вразумительно по-английски, чтобы поддержать беседу и на этом языке.
— Ода! — воскликнул король Георг. — Вы говорите по-английски, словно это ваш родной язык.
— Я слишком большой ценитель Шекспира, Вальтера Скотта и Байрона, — поклонившись, ответил Бенедикт, — чтобы не постараться прочесть их в оригинале.
Разговор установился на английском языке, на котором Каульбах говорил довольно легко и без оглядки на королевский этикет.
Уверенный, что его совершенно не узнали, король поддался своему художественному вдохновению; он рассуждал о живописи намного лучше, чем некоторые критики, сохранившие оба своих глаза. Король говорил о литературе, жалел об упадке театра в Германии, удивлялся энергии в области драматического искусства, которой Париж питает весь мир. Пока он говорил, Каульбах подправлял, как он сказал, некоторые детали картины, довольствуясь тем, что приглушал их тона. Особенно приметным в короле было его восхитительное изящество, с которым он умел скрыть свой физический недостаток. Вместо того чтобы поворачиваться, как обычно делают слепцы, ухом в сторону, откуда доносился звук, он смотрел в лицо собеседнику, словно мог видеть его. Узнав, что французский художник побывал на войне в Китае, путешествовал в Индии, Абиссинии, России, на Кавказе, в Персии, он забросал его вопросами, тем более лестными для Бенедикта, что они свидетельствовали о высоком уме короля, которому мог соответствовать лишь столь же высокий ум его собеседника.
Что касается молодого принца, то он, страстный охотник, охотившийся, однако, только на европейских зверей и не встречавший более страшного противника, чем олень или кабан, с замиранием сердца слушал рассказы об охоте на пантеру, тигра, льва и слона. И когда Бенедикт предложил ему показать свой набросок, сделанный во время путешествия в Индию, принц воззвал к отцу с настоящей мольбой.
Король уступил желанию своего сына.
— Но когда и где? — спросил принц.
— Да у тебя, — ответил король. — Пригласи своего доброго друга Каульбаха на завтрак вместе с господином Бенедиктом. И если оба окажут тебе честь принять приглашение…
— О! Завтра! Господа, завтра! — обрадовался молодой принц.
Бенедикт озабоченно посмотрел на Каульбаха.
— Боюсь, что завтра, — сказал он, — у меня окажется слишком много работы.
— У вас есть начатые портреты? — спросил молодой принц.
— Я только вчера приехал.
— Да, — сказал Каульбах, — но мой дорогой собрат оказался очень горячим и уже успел дать в «Новой ганноверской газете» объявление, — оно сейчас совершает свой путь в Берлин.
— Как, то письмо, что я прочел опту и нашел cm столь забавным, написано нами, сударь?
— Да, Бог мой, именно мною.
— Но у нас же теперь без конца будут стычки!
— Я рассчитываю на три. Число три угодно богам.
— А если нас убьют или ранят?
— Если меня убьют, прошу у вас, господа, разрешения оставить вам в наследство мой альбом. Если меня опасно ранят, господин Каульбах возьмет на себя труд показать вам его вместо меня. Наконец, если у меня окажется только царапина, я собственноручно принесу его нам. Но успокойтесь, милорд, раз уж вы любезно пожелали немного мною поинтересоваться, могу заверить вас, что со мною совершенно ничего не случится.
— Но как вы это можете знать?
— Вы знаете имя этого господина? — спросил Каульбах наследного принца.
— Бенедикт Тюрпен, полагаю, — ответил принц.
— Так вот, он по прямой линии потомок волшебника Турпина, дяди Карла Великого, и занимается in partibus[16]ремеслом своего предка.
— Ах! Боже милостивый! — сказал молодой принц. — Вы, случайно, не спирит, не врач?
— Нет, не имею чести. Я просто развлекаюсь, узнаю прошлое, настоящее и немного будущее, читая по руке.
— Перед вашим приходом мой дорогой собрат — по живописи, разумеется, — сказал Каульбах, — жалел, что не имел случая взглянуть на руку прусского короля. Он бы заранее предсказал нам исход войны. Милорд, — продолжал Каульбах, сделав ударение на титуле, нельзя ли где-нибудь найти королевскую руку и показать ее господину Бенедикту?
— Ода, — сказал король, улыбаясь. — Нет ничего легче. Но для этого нужен был бы настоящий король или настоящий император. Император такой, как китайский император, у которого сто пятьдесят миллионов подданных, или как император Александр, чье царство занимает девятую часть света. Вы ведь придерживаетесь того же мнения, господин Тюрпен?
— Мое мнение, государь, — ответил Бенедикт, глубоко склонившись перед королем Георгом V, — заключается в том, что великих королей делают вовсе не большие королевства: ведь Фессалия дала Ахилла, а Македония — Александра.
И склонившись в еще более глубоком поклоне, он вышел.
IX ВЕЛЬФЫ
Поскольку мы хотим вывести на сцену короля Ганновера и его сына, нам кажется справедливым, раз уж мы посвятили целую главу нашего рассказа династии Гогенцоллернов, посвятить также несколько страниц этому великому и знаменитому роду, Вельфам, которые так долго боролись против императоров, то есть против принципа абсолютизма, и которые своей борьбой заняли такое большое место в мире и наделали столько шума в Германии и в Италии.
Вельфы происходят, как каждый это знает, от Генриха Льва, герцога Нижней Саксонии, одного из самых заметных государей XII века.
Он был сын Людвига Гордого, герцога Нижней Саксонии, то есть той земли, где сегодня расположены Ольденбург, Ганновер, Брауншвейг, Мекленбург и часть Шлезвиг-Гольштейна.
Его мать была дочь германского императора Лотаря.
Какое-то время его владения простирались от Зёйдер-Зе и Северного моря до Адриатики, от Ольденбурга до Венеции, а вассалы наследственных владений Вельфов в Италии должны были приносить ему феодальную клятву верности.
Его гербом был золотой идущий лев на лазоревом поле. Его девизом было: «Nec aspera terrent».
Это означает: «Трудности меня не страшат».
Его прозвище — Генрих Лев — пришло к нему оттого, что он приручил льва, который всегда был при нем, следовал за ним и слушался его, как собака.
Этот лев, изваянный из мрамора, и сейчас еще венчает колонну посреди рынка в Брауншвейге.
Разведясь со своей первой женой, он женился на Матильде, дочери Генриха II Английского и сестре Ричарда Львиное Сердце.
Вот почему, когда королева Анна умерла бездетной, англичане, за исключением Якова III, все как один обратили взоры в сторону ганноверского дома и взяли себе королем Георга I, который через Матильду происходил от Плантагенетов.
Военным кличем Генриха Льва было: «Hieen! Welfen!» («Сюда, Вельфы!»)
Люди, которыми он правил как герцог Нижней Саксонии, были из тех же самых ганноверских и брауншвейгских саксов, что отвоевали Англию у пиктов и кимров и образовали такую могучую расу англосаксов, что Вильгельму Нормандскому оказалось легче завоевать их, чем покорить.
Их герб вплоть до дня, когда Карл Великий проник в сердце Нижней Саксонии, представлял собой бегущую лошадь на зеленом поле, с девизом: «Nunquam retrorsum!» («Никогда вспять!*»)
Согласно традиции, ни один рыцарь не сумел обуздать эту геральдическую лошадь, даже Карл Великий.
А между тем у Карла Великого, по рассказам вестфальцев, был ужасный хлыст, и до сих пор еще на дороге, по которой он ехал из Касселя в Брауншвейг, показывают те скалы, какие он, проезжая мимо, разбил ударами своего хлыста.
Карл Великий так и не смог подчинить себе этот народ, более ретивый, чем та лошадь, которая его символизирует, хотя он заставил упасть десять тысяч голов у Ирменсаба.
Вы знаете, как совершалась та ужасная казнь.
Карл Великий воткнул в землю свой меч — он называл его «Весельчак*», так как ему всегда становилось весело, когда он обнажал его. Этот его меч обычный человек едва мог нести, а он разрубал им надвое воина в шлеме и в латах — от головы до пояса.
Стали сгонять целые толпы людей к этому воткнутому в землю мечу, и все головы, что оказывались выше его рукояти, срубали.
А народ, отвечавший упорством на тиранию, не изменился, единственно, что у него изменилось, — это его герб.
Лошадь, раньше бежавшая по зеленому полю, теперь мчалась по красному, то есть по полю, залитому кровью.
И в самом деле, борьбу продолжал Видукинд.
Он отступил в Данию, возобновил попытку освободиться, отбросил франков к самому Рейну и угрожал Кёльну и Майнцу; разбитый во второй раз, он вернулся в Данию и вышел из нее, чтобы снова побить франков, таким образом вынудив Карла Великого предпринять еще один поход, в котором, как мы уже сказали, тот был неумолимым.
Нужно было, чтобы произошло чудо, способное обратить восставшего предводителя саксов в христианство. Бог, пожелавший склонить к себе этого гордого воина-победителя, решил такое чудо совершить.
Однажды Видукинд был в Вестфалии, на вершине горы под названием Берг-Кирхен. За ним против его воли следовал католический священник, пытавшийся обратить его в христианскую веру.
Видукинд все время гнал его от себя. Священник же все время возвращался.
И вот Видукинд садится на белую лошадь как раз той породы, что и выбранная древними саксами для своего герба.
В это самое время священник объяснял ему таинства рождения Господа нашего Иисуса Христа. Не желая верить ни одному слову, Видукинд сказал:
— Священник, все, что ты говоришь, — ложь, и это так же верно, как то, что вот эта скала не породит воды.
Но в эту минуту белая лошадь, на которой сидел Видукинд, заржала, ударила копытом о скалу, и из того места, куда пришелся этот удар, вырвался источник.
У Видукинда более не оставалось возражений: чудо было явным. Ему пришлось уступить, и водою именно из этого источника крестились и он, и его солдаты, от первого до последнего.
Источник и поныне течет, а около него и сегодня еще высится часовня, построенная тысячу лет тому назад по приказу Видукинда.
Порода белых лошадей, таких самых, что были у Видукинда, лошадей с красными ноздрями, розовыми глазами и прозрачными ушами, до сих пор существует в Ганновере.
Только она стала такой редкой, что сам ганноверский король владеет всего дюжиной их.
К тому же, порода эта существует лишь в Ганновере, и король пользуется этими своими лошадьми только по дням великих торжеств.
Двух англосакских вождей, возглавлявших поход в Англию, звали Хенгист и Хорса. И сегодня еще «Hengst» — означает по-немецки «жеребец», a «Horse» — по-английски «лошадь».
Ганноверский дом имел еще в своем роду только курфюрстов, когда 28 мая 1660 года в Ганновере родился ребенок, отец которого был Эрнст Август, герцог Брауншвейг-Люнебургский. Мать ребенка была умнейшая принцесса София, внучка короля Якова I Английского от его дочери Елизаветы.
В 1682 году принц Георг женился на Софии Доротее, дочери последнего герцога Целльского, и эта женитьба сделала принца Георга наследником владений Люнебург-Целле.
От этого союза родились Георг II и София, мать Фридриха Великого.
Тринадцатого августа 1714 года Георг был провозглашен королем Великобритании и Ирландии, хотя он никогда не ступал на английскую землю.
Первого октября того же года он торжественно выехал в Лондон, где 31-го числа того же месяца его короновали.
Замечательно то, что этот первый король из ганноверского лома так никогда и не смог привыкнуть ни к английским нравам, ни к английскому языку.
Он пытался объясняться со своим премьер-министром Уолполом только одним способом — говоря на очень плохой латыни.
Хотя и оставаясь на троне Англии, он совершал частые поездки в Ганновер, в чем его весьма упрекали англичане, ревностно относившиеся к своей национальности.
Волею случая умер он именно во время предпринятого им объезда своих немецких владений, так что ему не пришлось лишний раз огорчаться, как это с ним случалось всякий раз, когда ему надо было возвращаться в Англию, и он был похоронен в своем любимом Ганновере.
С того времени и до 1837 года в Ганновере правили английские короли, однако при этом Ганновер не составлял части их королевства.
С 1814 года Ганновер повысился до уровня королевства, и короли Англии были королями Ганновера, совсем так же, как австрийский император одновременно является королем Богемии и Венгрии.
В 1837 году, после смерти Вильгельма IV, английский трон достался юной принцессе Виктории, потому что ее отец, герцог Кентский, был старше Эрнста Августа, герцога Кумберлендского.
Вот тогда-то Эрнст Август, герцог Кумберлендский, пятый сын короля Георга III и младший брат Вильгельма IV, принял титул короля Ганновера, так как Ганновер наследовался только по мужской линии и не мог быть управляем женщиной.
Его сын, Георг V, родившийся в 1819 году, наследовал ему в 1851 году.
Одна из странностей ганноверского трона заключалась в том, что ганноверский народ никогда не выплачивал своим герцогам, курфюрстам и королям никакого цивильного листа.
Состояние ганноверских правителей, то есть Вельфов, составляют переходящие по наследству земельные владения.
Первые герцоги Брауншвейгские и Люнебургские получили герцогские титулы потому, что они были самыми крупными землевладельцами в Нижней Саксонии.
Такая преемственность государей, живущих от своих личных средств, дала королю Георгу V великолепную коллекцию столового серебра, может быть лучшую в мире.
Эта коллекция столового серебра, первые предметы которой относятся еще к временам Генриха Льва, сохранялась в веках и постоянно увеличивалась. И каждый век привнес в мое свое искусство. В Ганновере таким обратом собралась чудесная коллекция, лучшая из всех возможных, ибо она прошла сквозь времена как самые варварские, гак и времена высочайшею искусства, и вот уже в течение шестисот семидесяти лет предлагает образцы искусства серебряных дел мастеров всех веков.
С таким количеством серебра король Ганновера мог накрыть стол на восемьсот человек.
Так же как казна и серебро ганноверского лома, бриллианты короны тоже принадлежали лично ганноверскому королю.
С точки зрения важности событий, что пройдут перед глазами наших читателей, л и подробности не столь малоценны.
X ВЫЗОВ
Случилось то, что и предвидел Бенедикт. На следующий день, в то время, когда Бенедикт проснулся, Ленгарт, служивший ему теперь камердинером, на красивом серебряном подносе, полученном заимообразно для этого случая от Стефана, подал ему три визитные карточки, вернее, две карточки и листок бумаги.
На карточках имена были напечатаны, а на листке бумаги имя было написано карандашом.
Имена на визитных карточках принадлежали майору Фридриху фон Белову и г-ну Георгу Клейсту, редактору «Kreuz Zeitung».
Имя, написанное карандашом на бумажке, принадлежало Францу Мюллеру, рабочему-столяру.
Таким образом, Бенедикт получил от прусского общества столь полную выборку, о которой можно было только мечтать: офицер, журналист, ремесленник.
Он встал с кровати, поинтересовался, где остановились эти господа, и узнал, что все трое поселились в одной гостинице с ним; он поручил Ленгарту сбегать к полковнику Андерсону и попросить его незамедлительно прийти к нему.
Полковник, догадываясь о причинах срочного призыва Бенедикта, явился сразу же.
Бенедикт вручил ему обе визитные карточки и клочок бумаги в той же очередности, в какой сам их получил, попросив следовать в предстоящих посещениях и улаживаниях вcex трех дел точно такому же порядку, то есть начать с майора фон Белона, от того пройти к г-ну Георгу Клейсту и в завершение встретиться с Францем Мюллером.
Полковнику Андерсону было поручено соглашаться на нее условия, какие будут ему предлагаться, н выборе оружия, времени и места.
Напутствованный такими указаниями, весьма облегчавшими ему задачу, полковник отправился в путь. Он хотел было обсудить их, но Бенедикт положил ему руку на плечо и сказал:
— Будет так или вовсе не будет.
Через каких-то полчаса полковник вернулся. Все было сделано.
Майор Фридрих избрал саблю. Однако, поскольку у него были дела во Франкфурте и по пути туда он вынужден был свернуть с дороги, чтобы с честью ответить на вызов г-на Бенедикта Тюрпена, он просил назначить предстоящую им встречу на самое ближайшее время.
— Да немедленно, — смеясь, сказал Бенедикт. — Это самое малое, что я могу сделать для человека, вынужденного из-за меня свернуть с дороги.
— Нет, ему лишь бы уехать вечером — вот все, что он желает.
— Но, — сказал Бенедикт, — я вовсе не отвечаю за то, что он действительно уедет, даже если мы с ним будем драться днем.
— Это будет досадно, — сказал полковник, — дело в том, что господин майор фон Белов — настоящий дворянин. Кажется, три прусских офицера оказали вам помощь там и спасли вас от черни на условии, что вы крикнете «Да здравствует Вильгельм Первый! Да здравствует Пруссия!»
— Извините, но все произошло без всяких условий.
— С вашей стороны — да. Но они взяли на себя это за вас.
— Я не мешал им кричать «Да здравствует Вильгельм Первый! Да здравствует Пруссия!» столько, сколько им было угодно.
— Нет, но вы, вместо того чтобы последовать…
— Я прочел одно из самых прекрасных произведений Альфреда де Мюссе; так что же их не устраивает?
— Они говорят, что вы посмеялись над ними.
— О! Если уж на то пошло, признаюсь в этом.
— Тогда, прочитав ваше объявление, они решили, что один из них приедет и будет с вами драться, а два других будут секундантами тому, на кого укажет судьба. Они положили в кепи бумажки со своими именами. Вышло имя господина Фридриха фон Белова. А через минуту его направили к военному министру, и тот доверил ему особое поручение. Это был приказ прусским поискам но Франкфурте, стоящим гарнизоном перед городом. Тогда оба его приятеля предложили — ведь поручение это было неотложным делом — заменить его на дуэли с нами. Но тот отказал им, заявив, что раз они были его секундантами, то н случае если он окажется убитым или опасно раненным, он возложит доставление депеши на одного из них, и тогда она задержится всего лишь на несколько часов.
— Таким образом, я договорился с секундантами господина Фридриха фон Белова, что встреча ваша будет иметь место сегодня в час дня.
— Отлично, а что другие?
— Господин Георг Клейст — это ни то ни се, типичный немецкий журналист. Он выбрал пистолет и из-за своего плохого зрения просил драться на очень близком расстоянии. Держу пари, что зрение у него великолепное, впрочем, он носит очки. Я сошелся с ним на том, что вы встанете на расстоянии сорока пяти шагов.
— Как, сорок пять шагов? Да это же целый полигон!
— Подождите же… я решил, что каждый из вас будет иметь право сделать пятнадцать шагов, и это сводит окончательное расстояние между вами до пятнадцати шагов. Тут между нами возник спор, его секунданты стали утверждать, что, поскольку вы были зачинщиком, он имеет право на первый выстрел.
— Надеюсь, вы согласились на это?
— Ни за что на свете! Я настоял на том, что, по крайней мере, вы должны стрелять одновременно, по сигналу. Но решать этот вопрос вам. Я посчитал, что такой вопрос слишком серьезен, чтобы мне самому оказаться ответственным за него.
— Все решено: господин Георг Клейст будет стрелять первым, черт возьми! Но вам, конечно, нужно было назначить с ним свидание сразу же после первой дуэли. Тогда мы одним камнем нанесли бы два удара.
— Все устроено, как вы хотите.
— Браво!
— В час дня — с господином фон Беловым на саблях, в четверть второго — с господином Георгом Клейстом на пистолетах, в половине третьего — с господином Францем Мюллером…
Здесь полковник запнулся.
— Ну так что, — спросил Бенедикт, — в половине третьего с господином Францем Мюллером, и на чем?
— Знаете ли, вы вполне можете отказаться.
— На чем?
— В Англии, я не говорю… так уже не принято.
— На чем же, наконец?
— На кулаках. Он цель рабочий и сказал, что не владеет никаким оружием, кроме того, которое дала ему сама природа для нападения и для зашиты. Впрочем, на его собственных глазах вы не пренебрегли этим оружием: это его вы отправили своей подножкой катиться за десять шагов.
— Да, это верно, бедняга! — смеясь, сказал Бенедикт. — Припоминаю: толстяк, коротышка, блондин, так ведь?
— Именно так.
— Я к его услугам, гак же как и к услугам остальных. Таким образом, дорогой полковник, пока я закажу завтрак, пойдите и скажите, прошу вас, пожалуйста, господину Клейсту, что он будет стрелять первым, а господину Мюллеру, что мы будем драться при помощи данного нам от природы оружия, то есть на кулаках.
Полковник Андерсон был уже в дверях, когда Бенедикт окликнул его.
— Условимся, — сказал он, — что я сам не занимаюсь никаким оружием. Я буду драться на саблях и пистолетах, доставленных противниками.
— Хорошо, хорошо, — сказал полковник.
И он вышел.
Было одиннадцать часов утра. Бенедикт призвал метра Стефана и заказал завтрак.
Через десять минут полковник вернулся.
— All right![17] — сказал он.
Это означало, что все устроилось.
— Тогда сядем за стол! — сказал Бенедикт.
И больше уже ничего не обсуждалось.
Часы пробили полдень.
— Проследите, чтобы мы не опоздали, полковник, — сказал Бенедикт.
— Нет, это примерно в четверти льё отсюда. Мы деремся в очаровательном месте, сами увидите. Место может повлиять на вас?
— Я предпочитаю драться на траве, а не на пахотной земле.
— Мы едем в Эйленриде. Это ганноверский Булонский лес. В лесу есть небольшая полянка с ручьем — все словно сделано там для такого рода встреч. Вы увидите. Это место называется Ханебутс-Блок.
— Вам оно известно? — спросил Бенедикт.
— Я два раза там был с собственными делами и три или четыре — ради других.
Вошел Ленгарт.
— Карета заложена, — сказал он.
— Вы подыскали себе второго секунданта? — спросил полковник.
— Тех господ ведь пятеро. Один из них будет мне секундантом.
— А если они откажутся?
— О!
— Так если они откажутся?
— Вас мне вполне хватит, полковник, и, поскольку они сами спешат покончить с этим, так или иначе, мы на чем-нибудь сойдемся.
Ленгартждал их со своей каретой у дверей. Полковник объяснил ему дорогу, по которой им предстояло проехать.
Через полчаса они уже оказались на поляне.
Приехали они туда на десять минут раньше назначенного срока.
— Прелестное местечко! — сказал Бенедикт. — Раз эти господа еще не приехали, сделаю набросок.
Он вытащил из кармана альбом и ловко, с замечательной скоростью, зарисовал на память вид этого места.
— И вы говорите, что это очаровательное место называется…
— Hanebuts-Block — из-за вот этой скалы.
В это время появились две кареты.
— А! — сказал полковник. — Вот и ваши противники!
Бенедикт снял шляпу.
Три прусских офицера, журналист и городской хирург (его призвали на всякий случай) вышли из одной кареты, но братство «Союз добродетели»1 не дошло все-таки до того, чтобы принять в свою компанию рабочего Мюллера.
Бедный малый ехал в отдельной карете.
Еще издали Бенедикт узнал всех троих офицеров. Это были в самом деле те, что пришли ему на помощь на Липовой аллее, и среди них он узнал и своего противника в мундире гвардейского офицера.
На нем была позолоченная каска с распростершим крылья орлом, серебряные эполеты, белый китель с красной, как кровь, каймой, белые обтягивающие панталоны и высокие сапоги. На двух других офицерах, принадлежавших к гвардейской пехоте, были черные с золотом каски с белыми султанами, голубые кители с красными позументами, эполеты без бахромы, серебряный пояс и белые панталоны.
Господин Георг Клейст был одет во все черное: на нем не было ни малейшего белого пятнышка, которое могло бы послужить прицельной точкой. Это был высокий и худой человек в очках, блондин с пышными усами.
Франц Мюллер был простой рабочий — толстый блондин и коротышка, как и сказал Бенедикт; с намерением оказать честь своему противнику, а может быть, и угодить себе самому, он надел свой праздничный костюм: голубой пиджак с золотыми пуговицами, белый жилет и белые штаны, пышный галстук.
Что же касается Бенедикта, то его оригинальный костюм был элегантен и, казалось, вполне подходил к этому случаю. На голове у художника красовалась фетровая шляпа на манер Ван Дейка, мягкая и широкополая, украшенная серой лентой с маленькими кисточками под цвет фетра; на нем была бархатная черная шелковая куртка с опущенным на плечи воротником. Черная лента шириной с палец служила ему галстуком и подчеркивала его молодую и сильную, как у Поллукса, шею. Он надел брюки из белого тика и батистовую рубашку, такую тонкую, что, когда он снял куртку, сквозь ткань просвечивало все его тело. На ногах у него были туфли-лодочки с очень глубоким вырезом и носки из некрашеного шелка.
Прибывшие офицеры вышли из кареты в двадцати шагах от поляны и любезно отозвались на приветствие полковника и своего противника.
Полковник направился к ним и объяснил, что Бенедикт никого не знает в Ганновере и у него только один секундант, поэтому он просит одного из офицеров пройти вместе с ним на сторону Бенедикта в качестве его секунданта.
Офицеры посовещались, и один из них отделился от группы, подошел к Бенедикту и раскланялся с ним.
— Благодарю вас, сударь, за любезность, — сказал Бенедикт.
— Мы на все готовы, сударь, — ответил пруссак, — только бы поединок произошел без задержки.
Тогда Бенедикт поклонился ему в свою очередь, но покусывая губы.
— Полковник, — сказал он по-английски Андерсону, — осмотрите оружие и не заставляйте этих господ ждать.
А в это время майор Фридрих уже снимал свой китель, каску, галстук и жилет.
Бенедикт тем временем стал внимательно его изучать.
Это был человек тридцати двух — тридцати четырех лет, привыкший к мундиру: ему явно было бы неловко носить любую другую одежду, кроме военной. Кожа у него была смуглая; волосы — короткие, черные, блестящие, гладко причесанные на висках, усы — черные; подбородок — резко очерченный; нос прямой и изящный; в глазах его светилось мужество.
Если бы Бенедикту пришлось взглянуть ему на ладонь, он увидел бы, что у майора Фридриха на Сатурновом холме, то есть у основания среднего пальца, была та самая роковая заезда, которая предсказывает насильственную смерть.
Сабли были у майора, и Бенедикту предложено было выбрать себе одну из них. Не глядя, он взял первую попавшуюся.
Лишь взяв саблю в правую руку, он попробовал левой рукой лезвие и дотронулся до острия.
Лезвие оказалось острым как бритва, острие — как игла.
Свидетель майора, заметив двойное движение Бенедикта, отвел полковника Андерсона в сторону и сказал:
— Полковник, будьте любезны заметить господину Бенедикту, что в Германии не принято наносить во время дуэлей колющие удары, а только рубящие.
Полковник Андерсон пошел к Бенедикту и передал ему только что сделанное замечание.
— Черт! — заметил Бенедикт. — Вы хорошо сделали, что сказали мне об этом. Во Франции, где все дуэли, а в особенности между военными, почти всегда бывают серьезными, мы используем разные удары, и бой саблями называется игрой в стежки.
— Да нет же! Нет! — сказал прусский майор. — Пользуйтесь своей саблей как хотите, сударь.
Бенедикт поклонился.
XI САБЕЛЬНЫЙ УДАР ПО РУКЕ
Немцы не пользуются острием шпаги, и дуэли у них безопасные — обычай этот пошел от студентов. Их удары обычно направлены в голову, всегда покрытую фетровой шляпой, прочной и непроницаемой для лезвия, а еще чаще — в лицо. В университетских дуэлях локтевой сгиб и запястья обычно бывают неуязвимы благодаря плотным шейным платкам (ими обвязывают эти места).
Но руки — это мишень для порезов и шрамов.
Принесенное секундантами оружие было того рода, что военные используют в драке со студентами — единственными штатскими, от дуэли с которыми они не могут отказаться.
Впрочем, повсеместно благородный человек нм ране отказаться от дуэли, если ему ее предлагает простой горожанин.
Такие сабли называются рапирами и у нас. Кисть руки на них полностью окружена металлической сеткой, ироде сетки шотландских палашей. Лезвие у них тоже прямое, но гораздо тоньше и чуть длиннее, слегка гибкое и наточенное как бритва.
У студентов есть два дуэльных положения к бою. Одно: сабля острием вниз, постановка в первой позиции — таким образом парировать можно и в первой, и во второй позициях, а лицо защищено железной сеткой рукояти. Удары наносятся либо снизу, из-под руки противника, либо тогда, когда шпага совершает поворот из второй в первую позицию.
Другое похоже на французскую боевую стойку — кварту, но, тем не менее, в нем есть и чуточку от третьей позиции; однако оно выше нашего, потому что, как я уже сказал, немцы не отражают ударов, нанесенных по низу живота и бедрам; впрочем, такие удары отводятся саблями секундантов.
Есть и еще разница между немецким и нашим фехтованием: бойцы с противоположного берега Рейна наносят свои рубящие удары, не поворачивая руки, только тыльной стороной сабли, не лезвием. Таким образом, только острие оружия покачивается с некоторой быстротой, в то время как грудь прикрыта сеткой рапиры.
Опасаясь ударов острием сабли, майор принял вторую позицию.
Бенедикт встал небрежно: ему известен был немецкий способ фехтования — к его обычаям он присмотрелся во время своей учебы в Гейдельберге, где у него было семь или восемь дуэлей.
Эта сабля с сеткой, тяжестью своей облегчающей лезвие, не раздражала его.
В Германии оскорбленная сторона первой наносит удар. При этом вызов может рассматриваться как оскорбление.
Бенедикт подождал.
— Начинайте, господа! — дал команду полковник.
Первый удар был нанесен майором с быстротой, способной поспорить с молнией.
Но при всей своей стремительности, удар провалился в пустоту. Бенедикт, предупрежденный ощущением клинка, которое столь четко вырабатывается с привычкой к фехтованию, отпрыгнул на три шага в тот самый миг, когда лезвие противника отделилось от его собственного, и так и стоял открытый, держа острие вниз и насмешливо улыбаясь, отчего стали видны его превосходные зубы.
Майор на миг растерялся. Он повернулся на месте, по не сделал ни шагу.
Однако, поскольку немец твердо решил устроить из дуэли серьезный бой, он шагнул вперед, и туз же, угрожая, дорогу ему преградило острие сабли. Он невольно отступил.
Тогда Бенедикт устремил свой взгляд и глаза противнику, и стал кружить «округ него, наклоняясь то «право, то «лево, но нее время с опушенной саблей, готовой к удару.
Майор почувствовал, что против воли заворожен. Ему захотелось побороть такое влияние на себя, и он решительно шагнул вперед, держа саблю в воздухе.
В тот же миг он почувствовал холод металла. Бенедикт сделал выпад, и острие его рапиры, пройдя сквозь рубашку майора, появилось с другой стороны.
Все решили, что сабля проткнула его тело насквозь, но майор продолжал неподвижно стоять перед своим противником всего в трех шагах от него.
Подбежали секунданты.
— Ничего, ничего, — сказал им майор.
Затем, поняв, что Бенедикт пожелал только проткнуть ему рубашку, он сказал:
— Сударь, будем продолжать бой, и серьезно.
— Э, сударь! — отозвался Бенедикт. — Если бы я сделал серьезный выпад, вы, понятно, были бы уже мертвы.
— Защищайтесь же! — с яростью крикнул майор. — И не забывайте, что я борюсь, чтобы убить или быть убитым.
Бенедикт сделал шаг назад и опустил саблю.
— Прошу прошения, господа, — сказал он, — вы видите, что со мною только что произошла беда. Хотя я твердо решил не пользоваться острием, случилось так, что я сейчас в двух местах продырявил рубашку этого господина. Рука могла продолжить свое движение, не желая подчиниться мысли. А ведь я приезжаю в страну не для того, чтобы восставать против ее обычаев, особенно если они человеколюбивы.
И, подойдя к скале, давшей название поляне, он вставил острие своей сабли в трещину на каменной глыбе и отломил его на дюйм.
Майор пожелал последовать его примеру.
— Вам это ни к чему, сударь, — возразил Бенедикт, — вы же не пользуетесь острием.
Вынужденный вести простой бой саблей, Бенедикт скрестил со своим противником лезвия; они могли драться только на близком расстоянии, впрочем, Бенедикт то и дело покидал своего противника и отступал на полшага назад, а потом наступал опять, и делал это так, чтобы, благодаря его действиям, сабле майора оставалось состязаться лишь с пустотой. Наконец, приди к нетерпение, майор захотел шагнуть подальше и сделал выпад. Его оружие, не встретив сопротивления, опустилось и непроизвольно оказалось направлено вперед.
Бенедикт отразил удар из второй позиции и, ответным выпадом уткнув саблю в грудь противнику, сказал ему:
— Видите, я правильно сделал, что отломил острие рапиры. Без этого ваша рубашка была бы проткнута насквозь вместе с телом.
Майор ничего не ответил, но быстро снова встал в боевую стойку.
Перед ним был опытный боец, уверенный в своих движениях, владевший собой, умевший сочетать вместе с французской живостью хладнокровие человека, отважного и знающего свои силы.
На этот раз Бенедикт, полагая, что пора кончать, остался на месте, спокойно, но угрожающе сдвинул брови, не отводя пристального взгляда, опустив лезвие и все время держась полусогнутым в своей оборонительной позиции. Похоже, на этот раз он решил подождать, но, поскольку все в его поведении оставалось непредсказуемым, он вдруг прыгнул на шаг вперед без подготовки, без вызова, словно ягуар, резко опустил голову и из-под руки противника, внезапно призванного к защите, провел удар, оставивший след на его груди; после этого он тут же отпрыгнул назад и опустил саблю, оказавшуюся в исходном положении.
Разрезанная словно бритвой, рубашка окрасилась кровью.
Секунданты бросились было к ним.
— Не беспокойтесь, — вскричал майор, — ничего нет, простая царапина! Не стану отрицать, что у этого господина рука не легкая.
И он встал в положение к бою.
Однако, несмотря на свою смелость, он колебался. Его поражало это проворство, и он инстинктивно почувствовал ожидающую его очень большую опасность. Сомнений не было, противник сохранял дистанцию и все время оказывался вне досягаемости его сабли, выжидая, когда враг, атакуя, раскроется. Майор понимал, что его противник до сих пор только развлекался, но дуэль подходила к концу и при первой и самой малой ошибке он будет жестоко наказан. В замешательстве не находя обычной опоры о клинок противника, держа свою саблю в руке, он лишался чутья и терял сообразительность.
Все его умение фехтовать было повергнуто в ничто. Этот клинок, с которым ему не удавалось скреститься и который внезапно возникал перед ним, действуя разумно и умело, опытный в такого рода борьбе, парализовал всю его отвагу.
Он нс мог позволить ни одного опрометчивого движения перед врагом, все время находившимся вне дистанции, столь бесстрастным и столь проворным, явно желавшим завершить этот бой как артист, каковым он и был, то есть каким-нибудь блестящим выпадом или же, что казалось невозможным, желал, подобно античному гладиатору, умереть в величественной позе.
Но вот, в отчаянии видя перед собою это красивое тело, эту вызывающую и полную изящества защиту, эту подзадоривающую улыбку на губах, майор почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо, и, не сдержавшись, он процедил сквозь зубы:
— Der ist der Teul'el! («Но это же дьявол!»)
И, сделав прыжок вперед, забыв об острие противника — ведь оно все равно было сломано, — он поднял руку и обрушил на Бенедикта удар саблей со всей силой, но при этом совершил ошибку — подался вперед вслед за рукой.
Подобный удар сабли, если от него не увернуться или его не отразить, должен был рассечь голову, как рассекают яблоко.
Но и на этот раз клинок встретил только пустоту, Бенедикт в легкой и изящной уловке, хорошо известной французским мастерам, опять ушел от него.
В тот же миг зрителям показалось, что вспыхнула молния, рука майора вся покрылась кровью и бессильно повисла вдоль тела. Кисть выронила оружие — теперь саблю поддерживал только темляк, и она повисла острием к земле.
Секунданты поспешили к майору, который, все больше бледнея, тем не менее кивнул своему врагу, улыбнулся и сказал:
— Благодарю вас, сударь; первый раз вы могли проткнуть меня насквозь, а продырявили только рубашку, второй раз вы могли разрезать меня пополам, а я отделался только бритвенным порезом, третий раз вы могли по своему выбору рассечь мне голову или лишить меня руки, а я отделался всего лишь легким ударом. Теперь вам остается сказать мне, сударь, чтобы остаться со мною до конца любезным, по какой причине вы пощадили меня.
— Сударь, — произнес Бенедикт с улыбкой, — однажды, будучи в гостях у господина Фелльнера, бургомистра Франкфурта, я был представлен красавице, прелестной женщине, обожающей своего мужа. Ее зовут госпожой баронессой фон Белов. Получив вашу карточку, я подумал, что эта дама, возможно, ваша родственница, и хотя она, и без того прелестная, в трауре должна была бы стать еще красивее, я не захотел, чтобы подобному расцвету красоты она была бы обязана мне.
Майор посмотрел Бенедикту прямо клико, и, как бы ни владел собой солдат со стальным сердцем, на глазах у него проступили слезы.
— Госпожа фон Белок — мои жена, сударь, — сказал он, — и поверьте, что, где бы вы ее ни встретили отныне, к ее приветствии, обращенном к вам, будет заключаться следующий смысл: «Мой муж глупо искал с нами ссоры, сударь; из любви ко мне вы избавили его от смерти, так будьте же благословенны!» — и она протянет вам руку с такой же благодарностью, с какой я теперь протягиваю вам мою.
Затем, смеясь, он прибавил:
— Извините, что я протягиваю вам левую руку. По вашей вине я не могу дать вам правую.
И на этот раз, хотя рана его коксе не была опасной, майор Фридрих не оттолкнул хирурга.
Мгновенно рукав рубашки у майора был разорван, и стала видна продольная рана, неглубокая, но страшная на вид: она тянулась от дельтовидной мышцы до предплечья.
Хирург пошел смочить полотенце к ледяной коде ручья у подножия скалы и обернул им руку майора. Затем он соединил края раны пластырем.
Все приходили в ужас от того, чем все могло бы обернуться, если бы тот, кто нанес рану, не отдернул саблю к себе, вместо того, что было так легко, ударить ею со всего размаха.
Хирург подбодрил майора, заверив, что тому ничто не помешает этим же вечером уехать во Франкфурт.
Бенедикт предложил свою карету недавнему противнику, но тот, поблагодарив, решил не спешить с отъездом, поскольку ему было любопытно посмотреть, как развернутся события у других дуэлянтов. Он объяснил причину своей задержки тем, что обязан, дабы не нарушать правил учтивости, подождать г-на Георга Клейста.
Господин Георг Клейст, уже по первой дуэли имевший возможность судить о том, с каким человеком он связался, предпочел бы оказаться за двадцать льё от места дуэли, но он сохранил самообладание и, хотя и сильно побледнел, наблюдая за первой схваткой, а еще больше — когда увидел, как перевязывали рану майора, сказал первым:
— Извините, что я беспокою вас, господа, но теперь моя очередь.
— Подчиняюсь вашим приказаниям, — сказал Бенедикт.
— Вы не одеты так, как это полагается человеку, собирающемуся стреляться на пистолетах, — заметил Бенедикту, осмотрев его костюм, полковник Андерсон.
— Честное слово, — ответил Бенедикт, — меня не заботит, каким оружием я буду драться; меня заботит лишь то, чтобы чувствовать себя непринужденно во время дуэли. Вот и все.
— Вы можете, по крайней мере, опять надеть свою куртку и застегнуть ее.
— Уф! Слишком жарко!
— Может быть, нам следовало начать с пистолетов. Дуэль на саблях должна была до крайности натрудить вам руку.
— Моя рука — моя рабыня, дорогой полковник, она знает, что обязана меня слушаться, и вы сейчас посмотрите ее в работе.
— Хотите посмотреть на пистолеты, на которых вы будете стреляться?
— Вы их видели?
— Да.
— Что это за система?
— Дуэльные пистолеты, их взяли напрокат с утра у одного оружейника с Большой площади.
— Двуствольные?
— Нет, одноствольные.
— Позовите моего второго секунданта и проследите за тем, как зарядят оружие.
— Иду.
— Главное, чтобы не выскользнули пули.
— Я сам всажу их в ствол.
— Полковник, — сказали дна прусских офицера, — хотите руководить заряжанием?
— Я пришел для этого. Но, послушайте, как же такое случилось, — сказал полковник Андерсон, — у господина Георга Клейста теперь будет только один секундант?
— Пусть оба эти господина останутся со стороны господина Клейста, — сказал майор, — а я перехожу на сторону господина Бенедикта.
И так как его уже перевязали, он пошел и сел на скалу, давшую название поляне.
— Спасибо, сударь, — с улыбкой сказал Бенедикт, — вы знаете, что мы бьемся не на жизнь, а на смерть.
В это время заряжались пистолеты, и полковник Андерсон, как и обещал, собственноручно вогнал пули в стволы пистолетов.
Бенедикт подошел к майору.
— Итак, — сказал ему тот серьезным тоном, — вы что, его убьете?
— Что вы хотите! С пистолетом не шутят, это ведь не сабля или шпага.
— У вас, должно быть, есть какой-нибудь способ увечить людей, когда вы не хотите нанести им смертельную рану или убить их наповал.
— И все же я не могу не попасть I» пего ради пашет удовольствия. Он цель пойдет распекать на все лады, что я никудышный стрелок.
— Так! Выходит, я наставляю праведника. Спорю, вы что-то задумали.
— Уж конечно, задумал, но нужно, чтобы он сам поступал благоразумно.
— Что же ему нужно делать?
— Ничего, пусть не двигается, это ведь нетрудно.
— Вот они гам закончили.
И в самом деле, секунданты определяли шаги. Отмерив сорок пять шагов, полковник Андерсон отмерил еще с каждой стороны по пятнадцать и в виде барьера, который нельзя было переступать, положил с каждой стороны сабельные ножны, тогда как воткнутые в землю сабли отмечали точки отправления.
— По местам, господа! — крикнули секунданты.
Более всех прочих, несомненно, был увлечен всей этой подготовкой Франц Мюллер. Он первый раз видел, как люди играют жизнью, встав один против другого, и все больше восхищался тем, кто делал это легко и весело.
А ведь тот, кто делал это легко и весело, был Бенедикт, его противник, этот ненавистный француз.
Таким образом, Францу Мюллеру пришлось в душе превозносить и ненавидеть одного и того же человека, и притом одновременно.
Но его восхищение достигло полного восторга, когда, после того как г-н Георг Клейст выбрал себе пистолет, полковник принес другой Бенедикту, а тот за беседой с майором даже не взглянул на оружие и, продолжая болтать с раненым г-ном Фридрихом, пошел и занял свое место.
Противники стояли на наибольшем расстоянии друг от друга.
— Господа, — произнес полковник Андерсон, — вы стоите в сорока пяти шагах друг от друга. Каждый из вас может по собственному усмотрению сделать пятнадцать шагов перед тем как выстрелить или же стрелять прямо со своего места. Сигнал даваться не будет. Господин Георг Клейст стреляет первым и когда захочет. Господин Георг Клейст сможет защитить своим уже разряженным пистолетом ту часть тела, которую он пожелает. То же самое я говорю и в адрес господина Бенедикта.
— Начинайте, господа!
Оба противника начали сходиться. Подойдя своим обычным шагом к барьеру, Бенедикт подождал и, вместо того чтобы постараться как можно меньше выставлять себя, подставил себя под огонь, встав перед противником и скрестив руки. Легкий ветерок трепал ею полосы и раздувал рубашку, расстегнутую на груди.
Одетый во все черное, с непокрытой головой, и наглухо застегнутом рединготе, г-н Клейст шел, шаг за шагом, усилием ноли преодолевая свое внутреннее сопротивление. Подойдя к барьеру, он остановился.
— Вы готовы, сударь? — спросил он у Бенедикта.
— Да, сударь.
— Вы не стараетесь прикрыться?
— Это не в моих привычках.
Тогда г-н Клейст, съежившись, словно именно в него сейчас должны были стрелять, медленно поднял пистолет и выстрелил.
Бенедикт услышал у самого уха легкий свист, почувствовал быстро пронесшийся ветер у себя в волосах: пуля противника прошла в пяти сантиметрах от его головы…
В тот же миг противник поднял пистолет и загородил им себе лицо, но от невольного нервного напряжения рука его слегка дрожала.
— Сударь, — сказал ему Бенедикт, — вы были любезны, обратившись ко мне с разговором перед выстрелом, что между противниками обычно не делается, и вы поступили так для того, чтобы напомнить мне, что я должен был прикрыться. Не будет ли вам угодно позволить мне в свою очередь дать вам совет или скорее обратиться к вам с просьбой?
— Какого рода, сударь? — откликнулся журналист, все так же прикрываясь своим оружием.
— Мне хотелось бы, чтобы выдержали пистолет твердо! Он не стоит на месте. А я хотел бы всадить пулю в ложе вашего пистолета, что мне очень трудно будет сделать, если вы не станете держать его крепко, и совершенно против моей воли приведет к тому, что я попаду вам пулей либо в щеку, либо в тыльную часть головы. А если вы станете держать ваше оружие вот как сейчас…
Он быстро поднял пистолет и выстрелил.
— Ну вот, дело сделано!
Движение, которое предшествовало выстрелу, было очень быстрым, и казалось, что Бенедикт даже не целился.
Но в ту же минуту, когда послышался выстрел, секунданты увидели, что пистолет, которым прикрывался г-н Клейст, взлетел и распался на куски, а тот, кто его держал, покачнулся и упал на колено.
— Ах! — сказал майор. — Вы его убили!
— Не думаю, — ответил Бенедикт, — я должен был попасть между двух винтов, которые держат спусковой механизм. На землю его бросило отдачей от удара.
Хирург и оба секунданта поспешили к раненому, продолжавшему держать в руке лишь рукоятку своего пистолета. От глаза до челюсти по щеке у нею растекался огромный синяк. Это была, как и сказал Бенедикт, отдача от улара пули, но сама пуля никак не задела журналиста.
Ствол пистолета валялся it одной стороне, спусковой механизм — в другой. Пуля застряла в механизме точно между двумя винтами.
Стоило ей ударить прямо в голову там, где она попала в спусковой механизм пистолета, она разбила бы верхнюю челюсть и проникла бы в мозг.
Перевязка оказалась излишней. Ушиб был из самых сильных, но кровь выступила только в двух местах, там, где лопнула кожа. Смоченная в ручье тряпка оказалась единственным средством, которое хирург посчитал подходящим для лечения раненого.
Франц Мюллер проследил за этим вторым поединком с еще большим интересом, чем за первым. Но при виде развязки, принесшей честь врагу его страны, в нем поднялась ненависть к французу, еще больше разгорелось национальное чувство, став еще более агрессивным. Самая ужасная брань и самые грубые угрозы вырывались из его уст, на сжатых зубах появилась пена, походившая на ту, что летит из пасти бешеной собаки.
Он молотил воздух кулаками, покрывая ударами воображаемого врага, которого он как бы повергал наземь и топтал ногами.
Его угрозы и движения, несмотря на то что он держался поодаль, обратили на себя внимание секундантов и даже раненых.
— Вы будете драться с этим грубым животным? — спросил полковник Андерсон.
— Черт его возьми, — сказал Бенедикт, — он имеет на это право.
— Кулачный бой? Фи!
— Эх, дорогой мой полковник! Это же древний бой.
— Обратите же внимание на то, что сабля рубит, пуля простреливает, а вот кулак уродует, оставляет синяки, обезображивает лицо, наносит ушибы. Подумайте, вы, словно какой-нибудь грузчик, покатитесь по земле в обнимку с последним хамом. Фу! Дорогой мой, будь я на вашем месте, я извинился бы перед ним.
— Предпочту надеть перчатки, чтобы до него вовсе не дотрагиваться.
И из кармана своей куртки Бенедикт достал пару перчаток желто-соломенного цвета и надел их так, словно он был секретарем посольства, входящим в гостиную министра.
Затем он подошел к столяру и пальцем своей новенькой перчатки дотронулся до плеча Мюллера, нее еще молотившего воздух кулаками в ожидании лучшей мишени.
— Ну, мой дорогой, а теперь, кто кого!
— Ага! Перчатки! Перчатки! — прошептал мастеровой. — Я тебе покажу, как надевать перчатки!
И он кинулся на Бенедикта словно раненый вепрь.
«Так, — сказал, смеясь про себя, Бенедикт, — предстоит вспомнить то, что пришло на свете улицы Муфтар».
И он встал в позу парижского гамена, занимающегося французским боксом, в позу, одновременно столь угрожающую и столь изящную, что она напоминает повадку леопарда или пантеры, когда, полулежа, зверь готовится броситься на добычу.
Не имея представления об аристократическом искусстве английского бокса или о демократическом искусстве французского рукопашного боя, Франц Мюллер готовился только к одному: он хотел схватить Бенедикта поперек туловища, бросить на землю и затоптать, как делал это минутой раньше в своем воображении. Изящная фигура и небольшой рост противника не внушали ему опасений, что предстоящий бой будет серьезным. Всего-то и требовалось, что втравить противника в драку.
Но, хотя он и считал себя в силе и, главное, способным побороть любого первого встретившегося ему атлета, у Бенедикта, как и в случае с его первыми двумя противниками, уже был готовый план действий, от которого он не хотел отступать. Если уж ему не удастся избежать драки, то этим он сможет заняться под конец, когда ему удастся изнурить в бесполезной ярости силы противника.
Для такого гимнаста, каким был Бенедикт, не представляло труда избегать прямых ударов неумелого врага, поэтому он решил так и поступить три или четыре раза подряд.
Франц зверел.
Уклоняясь от одного из его выпадов, Бенедикт сделал полуоборот и своей изящной туфлей, направленной крепкими мышцами ноги, нанес противнику так называемый удар в лицо. Каблуком своей туфли Бенедикт разбил нос и губы противнику.
— Herr Gott sakrament![18].. — вскричал столяр, делая три шага назад и прикладывая ко рту ладонь, и та наполнилась кровью.
Увидев такое, Франц совсем потерял голову и как безумный опять подступил к противнику, но тот уклонился вправо, оставив вытянутой левую ногу. Таким образом, от удара, который хотел нанести Франц, Бенедикт увернулся, но ею лекам нога оказалась как бы низким барьером, как бы скамейкой, керенкой, протянутой специально для того, чтобы заставить слепца упасть.
Франц упал и пролетел вперед на шесть или восемь шагов. Голова его ударилась о ствол дерева столь сильно, что столяр так и остался лежать, если и не к беспамятстве, то, по крайней мере, к полусознательном состоянии.
Бенедикт вместе с заинтересовавшимися этой борьбой секундантами (для них такая парижская ловкость была совершенно внове) подошел к нему. Майор почти забыл о своей ране, а журналист, хотя и жестоко страдал из-за своей, все же приподнялся на колено и одним глазом, тем, каким он видел, посмотрел туда же.
— Довольно! Довольно! — заговорили секунданты, видя, что Франц лежит без движения.
— С вас хватит, друг мой? — спросил Бенедикт самым мягким голосом и самым вкрадчивым тоном.
— Nein, Himmels Kreuz Bataillon! — разразился бранью столяр.
Эти бранные слова, которые ровным счетом ничего не означают по-французски, ибо переводятся как «Батальон Небесного Креста», являются самым сильным немецким проклятием.
— Тогда вставайте и повторим все сначала, — сказал Бенедикт.
Пристыженный Франц медленно встал.
— В добрый час, — сказал Бенедикт, — мне тоже кажется, что это не могло кончиться без маленького бокса. Без него к чему будет разносторонность моих вкусов, которой я так горжусь?
Между тем ярость Франца слегка поулеглась, его тевтонское благоразумие взяло верх. Но французская стихийность, неистовство которой он испытал на себе, у него самого полностью отсутствовала. Мысли его совсем сбились, и все из-за того же самого молодого человека, что постоянно увертывался от его ударов и без конца на него нападал. Но, к его великому удивлению, противник на этот раз, словно поджидая его, твердо встал на обе ноги, полусогнутые в коленях, и сжал оба кулака на уровне груди, как настоящий борец старой Англии.
Перед пруссаком теперь стоял другой враг.
Франц двинулся вперед, насей раз осторожно и медленно, пытаясь и свои кулаки сжать так, как это сделал француз.
— Давайте, давайте, дорогой друг, — сказал Бенедикт, — думаю, пришло время немного поразвлечься!
И пока Франц пытался подражать Бенедикту, ни минуты не сомневаясь в том, что поза противника была хорошей, раз тот ее примял, Бенедикт нанес ему самый ужасный удар ногой по ногам, какой только может позволить человеку его большая берцовая кость.
У Франца треснула кость.
Он отступил, побежденный болью, и вернулся к бою с поднятым кулаком, словно собираясь убить быка.
Но Бенедикт опять встал в английскую позицию, и, как только враг оказался в пределах досягаемости, рука его, словно пружина, двинулась вперед и нанесла удар пруссаку в живот с такой силой, от которой не отрекся бы и самый могучий боксер Великобритании.
Перчатка его лопнула по всем швам.
Франц сделал три шага назад и рухнул мешком, растянувшись на земле.
— Честное слово, господа, — сказал Бенедикт, обратившись к секундантам, — лучшего я сделать не мог, а если делать больше этого, то нужно было его убить.
И, подойдя к Францу, он спросил:
— Вы признаете себя побежденным?
Франц не ответил.
— Мы это признаем за него, — сказали секунданты, — он в глубоком обмороке.
Хирург подошел, попробовал пульс у Франца.
— Этому человеку нужно пустить кровь, и немедленно, — сказал он, — или я за него не ручаюсь.
— Пустите ему кровь, доктор, пустите кровь. Я сделал все что мог, чтобы смерть не вмешивалась в наши дела. Все, что касается жизни, входит в ваши обязанности.
Затем, подойдя к майору и обняв его, а затем поклонившись журналисту и пожав руку секундантам, он надел свою бархатную куртку и сел в карету в менее помятой одежде, чем если бы возвращался с какого-нибудь пикника на лужайке.
— Ну что, дражайший крестный? — спросил он Андерсона, садясь в карету.
— Так вот, дорогой крестник, — ответил полковник, — не считая меня самого, у меня найдется с десяток друзей, которые дали бы по тысяче луидоров, только бы видеть все то, что я наблюдал сейчас.
— Сударь, — сказал Ленгарт, — если вы пообещаете мне никогда не охотиться без меня и никогда не драться так, чтобы меня не было рядом, я нанимаюсь вот так, с лошадью и кабриолетом, служить вам бесплатно всю свою жизнь.
Ведь в самом деле, Бенедикт оставил трех своих противников поверженными и возвращался, какой и предсказывал Каульбаху, без единой царапины.
XII ЗАРИСОВКИ ВЕНЕДИКТА
Когда Бенедикт вернулся в гостиницу «Королевская», ом нашел там слугу Каульбаха, своего прославленного собрата: тот ждал его возвращения, чтобы узнать о том, что произошло, а затем немедленно сообщить об этом своему хозяину. В маленьком городке Ганновере быстро распространились слухи, что в ответ на объявление, помещенное Бенедиктом в «Neue Zeitung»[19], ему были вручены в то же утро три визитные карточки и что он отправился с секундантами и противниками в Эйленридс, место, где обычно разрешаются дела чести.
Обеспокоенный Каульбах пожелал узнать прежде всех о результате трех поединков и, не решаясь послать прямо на место действия своего слугу, направил его в гостиницу «Королевская».
Бенедикт поручил слуге успокоить хозяина, передав ему, что сам придет и поблагодарит его за любезную заботу, если только в ближайший час не получится так, что его личность вызовет любопытство всего города, чего он весьма опасался.
Как только они добрались до гостиницы, полковник Андерсон сразу же выдумал предлог, чтобы уйти от Бенедикта: как королевскому адъютанту, ему, возможно, пришлось бы отчитаться перед высшим начальством о своих занятиях в течение дня.
Так же как накануне всего за минуту в городе стал известен вызов Бенедикта, помещенный в газету, теперь не потребовалось и минуты, чтобы исход трех поединков ни для кого в городе не составлял более секрета. В самом деле, то, что произошло, в истории дуэлей было неслыханно. Три поединка, выдержанные французом без единой царапины, показались столь чрезвычайным событием, что это из ряда вон выходящее происшествие вместе с той ненавистью, какую здесь питали к пруссакам, толкнуло молодых горожан отправить депутацию к Бенедикту и приветствовать его.
Бенедикт принял посланников и разговаривал с ними на таком чистом немецком языке, что те ушли в крайнем восторге.
Едва они удалились, как метр Стефан вошел и сказал, что постояльцы, остановившиеся у него, были охвачены таким восторгом от сегодняшней авантюры француза, что просили сю оказать им честь и отобедать за табльдотом, дабы они асе смогли сказать ему свои комплименты.
Бенедикт передал им, что не понимает, почему собственно такое восхищение в людях возбуждало его совершенно естественное поведение, но что он был счастлив сделать то, что могло оказаться приятным гостям его хозяина.
Метр Стефан успел уже распространить по городу известие, что молодой француз, тот самый, о котором все говорят, дал согласие, причем только в этот раз, пообедать за табльдотом.
Вместо двадцати пяти приборов, он приказал накрыть стол на двести.
Все двести приборов пригодились.
Властям померещилось восстание, и прибежала полиция. Пришлось объяснить, что это просто семейный праздник, то есть стечение народа вроде того, которое имело место за три дня до этого под окнами г-на фон Бёзеверка в Берлине, хотя оно и носит совершенно противоположный характер. Ганноверская полиция была превосходной полицией, она обожала семейные праздники и патриотические манифестации. И, вместо того чтобы воспротивиться такому стечению народа, она взяла все под свое покровительство, благодаря чему праздник прошел в самом строгом порядке.
Только к полуночи Бенедикту позволили уйти к себе, но под его окнами устроили серенаду, которая длилась до двух часов ночи.
В девять утра Каульбах был у него. Наследный принц приглашал Бенедикта на завтрак к себе в замок Херренхаузен и просил его захватить свои зарисовки.
Каульбаху поручено было его привести.
Завтрак был назначен на одиннадцать, но принц был бы признателен Бенедикту, если бы тот пришел к десяти, чтобы иметь время поговорить и до, и после завтрака.
Бенедикт не стал терять время: он тут же принялся одеваться, и хотя Каульбах, завсегдатай замка, твердил, что можно прийти в рединготе или во фраке, Бенедикт надел мундир морского пехотинца, тот самый, в котором добровольцем прошел всю китайскую кампанию; он повесил на грудь крест ордена Почетного легиона — его простая красная ленточка на одежде некоторых людей ценится больше, чем на других та или иная орденская лента через плечо, прицепил к поясу саблю, подарок Саид-паши, взял свои папки и сел в карету к Каульбаху.
Метр Ленгарт получил отпуск на целый день.
За двадцать пять минут они прибыли в замок Херренхаузен, находившийся всего в одном льё от Ганновера. И так как Бенедикт ехал в открытой карете, он смог увидеть, как молодой принц и ожидании стоял у окна, настолько велико было его нетерпение оказаться и обществе Бенедикта. С его королевским высочеством был только его адъютант, благовоспитанный офицер инженерных войск; будучи инженером, этот человек был умелым рисовальщиком и — редкостное явление! — не слишком презирал живопись.
Принц, ни слова не сказав Бенедикту о его трех дуэлях, произошедших накануне, любезно осведомился о его здоровье. Было совершенно ясно, что он знал все, и в мельчайших подробностях. И если Бенедикт еще не был в этом уверен, то все сомнения у него исчезли, когда пришел полковник Андерсон, также приглашенный к завтраку.
Но взгляды молодого принца более всего привлекала папка с зарисовками, которую Бенедикт держал под мышкой.
Бенедикт предупредил желания принца.
— Ваше высочество пожелали посмотреть несколько моих набросков, — сказал он ему, — и, выбирая то, что может оказаться наиболее интересным, я остановился на альбоме, где собраны зарисовки моей охоты.
— О! Дайте же! Дайте же! — воскликнул принц, живо протягивая руку.
И, положив альбом на фортепьяно, он поспешно принялся перелистывать листы с зарисовками.
На третьем или четвертом он застыл.
— Ах! — сказал он. — Знаете, это же великолепно!
Каульбах тоже подошел.
— Как? Это ваше? — спросил он у Бенедикта.
— А кого же еще? Вы ведь не думаете, что я купил где-то эти этюды?
— Нет, у вас бы на это не хватило денег.
— А вот этот рисунок, что это? — спросил принц.
— На этом наброске, — отозвался Бенедикт, — изображен не скажу, что мой первый выстрел, но мой первый удар ножом в Чандернагоре.
— Как это ваш первый удар ножом? Но это же тигр.
— Тигрица, посмотрите на детенышей.
— И вы убили ее ударом ножа?
— Да, принц.
— Вы слышите, Андерсон, ударом ножа!
— Превосходно слышу, и это меня вовсе не удивляет. Что меня, пожалуй, удивляет, так то, что господину Бенедикту не пришло в голову задушить ее руками. Но, возможно, — прибавил он, рассмеявшись, — как и для занятия боксом, он надевает перчатки, когда отправляется на охоту на тигра.
— Как же это было, господин Бенедикт?
— Да самым обыкновенным образом, принц.
— Расскажите нам об этом случае.
— Но, по правде говоря, я боюсь вас утомить, прими.
— О нет, нет, послушаем вашу историю!
— Желаете услышать?
— Прошу вас.
— Подчиняюсь вашему высочеству. В Чаилернагоре я пробыл уже два дня, когда услышал о том, что готовится большая охота на левом берегу Хугли. Там тигрица родила детенышей в зарослях джунглей, примерно в двух километрах от жилища богатого голландского фермера, у которого она утащила двух лошадей и задушила негра. Французские офицеры решили устроить облаву и освободить окрестности от этого чудовища, наводившего страх на местных жителей. Я заявил моему хозяину о своем желании принять участие в экспедиции. Он сказал мне, что следует обратиться к старому французскому капитану, имевшему право верховодить в такого рода мероприятиях; его называли только по прозвищу «капитан Тигр», данному ему из-за неслыханного количества убитых им этих животных. Пятьдесят, может быть, шестьдесят…
— Я знал его, — сказал полковник Андерсон, — у него был выбит один глаз и содрана когтями тигра половина лица.
— Именно так. Теперь мне не придется рассказывать об его внешности, ваше высочество, — продолжал Бенедикт и, перевернув два листа альбома, добавил: — Впрочем, вот же он.
— Но это вовсе не наброски, — сказал Каульбах.
— Итак, я пошел к нему, он принял меня чудесным образом, спросил, охотился ли я когда-нибудь на хищных животных. И я ответил ему правдой: «Никогда!»
«Но в случае, — спросил он, — если вы окажетесь один на один с тигром или пантерой, сможете ли вы поручиться за себя?»
«Надеюсь», — ответил я.
«Впрочем, вы ведь совершеннолетний, так ведь?»
«Вот уже год».
«Тогда это ваше дело».
Для успокоения совести у капитана Тигра была привычка задавать такой вопрос.
На следующий день мы отправились в путь. На плече у меня висел карабин с разрывными пулями, еще у меня был револьвер и черкесский кинжал у пояса. Нам достали великолепных лошадей в Чандернагоре.
Чтобы избежать сильной дневной жары, мы отъехали в пять часов вечера и должны были к восьми-девяти часам прибыть на плантацию. Мы переправились через реку Хугли в самом Чандернагоре и поехали по левому берегу на расстоянии ста пятидесяти или двухсот шагов от пес. Восхитительная своей живописностью дорога затенялась великолепными деревьями — то были: банановые пальмы, латании, мимозы, тюльпанные деревья и равеналы, эти гиганты тропиков, которые качают в чистейшем небесном эфире украшенными султаном верхушками и сходятся пологом над проходящими караванами. Словно лианы, вдоль их стволов бегут разнообразные вьюнки с широкими и густыми листьями, в ярких цветах, пурпурно-красных или сапфирово-синих.
Время от времени птица, которую можно было бы принять за летающий цветок, пролетала мимо нас, издавая радостный, испуганный или насмешливый крик, а в это время какая-нибудь лошадь артачилась, опасаясь наступить на ужа, поднявшего посреди дороги голову. Все это жило своей растительной и животной жизнью, такой могучей в Индии, где тростник, оставаясь именно тростником, достигает размеров тополя, где за десяток лет одно фиговое дерево, предоставленное самому себе, разрастается целым лесом баобабов, в котором летают павлины, живут стаи обезьян, водятся тигры и встречаются змеиные норы.
Мы пришли на плантацию, как и предполагалось, между девятью и десятью часами, но господина Форстера, его жены и детей не было дома: накануне они уехали в город — настолько был велик ужас, который им внушила тигрица.
Нас принимали как освободителей. Господин Форстер оставил приказ, чтобы весь его дом целиком был предоставлен в наше распоряжение. Нам был подан гомерический ужин с лучшими винами Франции.
Мы призвали негров, но те мало чего нам рассказали. С тех пор как тигрица сожрала одного их соплеменника, невозможно было более заставить остальных выйти из дома.
Они сказали нам, однако, что если мы пожелали бы пройти шагов пятьдесят от дома, то, возможно, уже услышали бы рыки зверя.
Мы вышли с ружьями в руках; это был как раз час, когда хищники обычно бродят вокруг плантаций.
Наша тигрица была занята охотой. Было слышно, как она рычала, но это происходило в направлении, противоположном тому, где, как мы знали, находились ее детеныши.
Тут нам мог представиться случай ее повстречать; впрочем, ночь делала эту встречу мало вероятной. Мы вернулись в дом и приказали разбудить нас под утро, к трем часам.
К счастью, мы привели обоих негров. Негры с плантации отказались нам помочь. Все, что они могли сделать, это подняться с капитаном Тигром на крышу дома и указать, где примерно находилась тигрица.
Капитан спустился вниз. Джунгли тянулись на небольшом протяжении и были окружены плантациями, за исключением той стороны, где высились горы.
Всего нас было восемь стрелков. С нами была дюжина негров и дюжина собак: шесть собак английских, шесть — африканских борзых.
В джунгли невозможно въезжать верхом: заросли там слишком густые. С этим следовало примириться. Мы вошли в джунгли пешими, и с каждым из нас были негр и собака.
Негр шел передо мной, собака — перед негром, но, как только послышался первый лай, моя собака кинулась вперед и исчезла.
Мы шли по узеньким тропкам, проложенным в чащах джунглей дикими зверями; негр раздвигал стебли и предупреждал, если замечал при этом змею.
Вдруг стало слышно, как все наши собаки начали лаять где-то в одном и том же месте.
Это место оказалось от меня не более чем в двадцати шагах.
Я понял, что именно мне была уготована честь сразить тигрицу.
Привычный к такого рода охоте, негр наклонился к моему уху и сказал:
«Зверя настигли с детенышами, и борзые насели на нее прежде чем она смогла подняться и решиться на что-нибудь».
Собаки подняли ужасный гвалт.
Я решил во что бы то ни стало подойти первым.
Примерно в тридцати шагах сзади я услышал голос капитана:
«Осторожней, — кричал он, — это тигрица!»
Я схватил негра за пояс, потянул его назад и прошел перед ним.
Он не заставил себя просить и без возражений уступил мне свое место.
Но через три шага пришлось остановиться. Я оказался прямо перед тигрицей. Увидев мое приближение, она сделала движение, чтобы ринуться на меня. К счастью, две наши борзые повисли у нее на ушах и прилипли к ее телу, стараясь держаться вне досягаемости ее зубов.
Три или четыре другие борзые вцепились ей в шею и в бока. Между расставленными лапами она прикрывала двух тигрят величиной с дикую кошку — догадываясь о грозившей опасности, они съежились у нее под брюхом.
Я стоял прямо перед ней.
Она повернула в мою сторону морду, кожа на которой из-за повисших на ней собак оттянулась назад, и оскалила ми маги жуткие зубы. Ей было понятно, что наибольшая опасность исходила не от наших английских собак, лаявших сзади, и даже не от борзых, вцепившихся ей в уши, а со стороны человека, и, позабыв о лае и укусах, она стала грозить именно мне. Ее свирепые глаза блестели, как топазы, злобная слюна текла вдоль ее пасти, она лязгала зубами.
Я устремил взгляд прямо ей в глаза.
Мне было известно, что, пока у человека хватает смелости пристально смотреть в глаза льву, тигру, пантере или ягуару, его взгляд усмиряет зверя, каким бы свирепым тот ни был. Но стоит малейшей нерешительности промелькнуть во взгляде человека, стоит только его зрачкам дрогнуть или стоит ему отвести глаза в сторону — он погиб! Один прыжок — и зверь уже оказывается на нем! Один лязг зубов — и человек мертв!
Я взял карабин, чтобы размозжить ей голову. Довольно уверенный в точности своего выстрела, я хотел направить пулю ей в голову или в сердце, но мне показалось, что это будет подлостью с моей стороны. Накануне капитан Тигр рассказал историю с одним французом, который в Калькутте на пари отправился убивать тигрицу с детенышами простым штыком. Эта история все время приходила мне в голову и мучила меня.
Тогда я отбросил карабин за плечо, вытащил свой черкесский кинжал, заостренный как игла и отточенный как бритва, и пошел прямо на тигрицу, ни на минуту не спуская с нее взгляда. Затем, с тем же спокойствием, как если бы я имел дело с кабаном или оленем, я встал на одно колено и по самую рукоять всадил ей кинжал в край плеча. Боль заставила ее ужасно взреветь, она сильно дернулась, и это вырвало у меня из рук мой кинжал.
Я бросился в сторону.
Тигрица прыгнула, но на ушах ее все еще висели две борзые, и она вместе с ними покатилась на четыре шага от того места, где я ее ударил.
Сняв карабин с плеча, я быстро его вскинул, чтобы ко всему быть готовым.
Но борзые держали намертво, кинжал тоже не отпускал. В теле у тигрицы застряло четыре дюйма железа.
Два-три раза она перевернулась, одну борзую задушила, второй когтями распорола брюхо, но четыре другие собаки бросились на нее, шесть английских собак тоже приняли участие в этой борьбе, и, когда подоспели другие охотники во главе с капитаном Тигром, тигрица полностью исчезла под движущейся, воющей, разноцветной горой из собак.
Я почувствовал, что у меня под ногами кто-то шевелится. Посмотрел: это были тигрята.
Toгдa я схватил в каждую руку по одному из них за загривок и подмял над своей головой, чтобы их не разодрали собаки.
Капитан Тигр и ото время руками и кнутом пытался разбить этот бесформенный клубок, казалось превратившийся к одно животное с тысячью хвостами; наконец собаки отпрянули и дали возможность разглядеть издыхающую тигрицу.
Пока длилась агония, мой кинжал на три четверти вышел из ее груди.
«Чей это нож?» — спросил капитан Тигр, извлекая его из раны.
«Мой, капитан, — сказал я, отталкивая нотой борзых, так и стремившихся допрыгнуть до тигрят, которых я все еще держал за загривок».
«Ну что же, дорогой соотечественник, это неплохо! Особенно для начала…»
«Извините за авторские ошибки, как говорится в испанских одноактных пьесах».
— А что случилось с двумя тигрятами? Я особенно интересуюсь сиротами.
— Я отдал их, когда был в Каире, Саид-паше, и он взамен подарил мне эту дамасскую саблю.
И Бенедикт показал изогнутую саблю, висевшую у него на боку.
Они молча принялись перелистывать альбом.
Одна из страниц изображала трех умирающих слонов — одного маленького и двух чудовищных размеров — и сопровождалась подписью «Тройной выстрел».
— Извините, господин Бенедикт, — сказал молодой принц, — но и на этот раз я вынужден попросить у вас объяснений.
— Ваше высочество, — ответил ему Бенедикт, — вам случалось, не правда ли, сделать двойной выстрел, охотясь на молодых куропаток, зайцев, косуль и, может быть, даже оленей. А вот мне выпало сделать тройной выстрел и убить трех слонов четырьмя пулями!
Каульбах и Андерсон переглянулись.
— Что за черт! — сказал Андерсон. — И он говорит это с такой простотой, что даже хочется поверить.
— Эх! Бог мой! — ответил Бенедикт. — Я говорю истинную правду! Ваше высочество, вы попросили посмотреть мои рисунки, я их показываю, меня просят объяснений, я их даю. Если ваше высочество пожелает избавить меня от них, я буду рад; клянусь, нет для меня большей неприятности, чем говорить о себе.
— Нет, нет! — вскричал наследный принц. — Разве мы не аплодировали смерти вашей тигрицы? Разве мы не примялись кричать «Врано!»? Это coiiepmcmio невозможно. Мы околдованы. У наших трех мастодонтов такой комический вид, их ноги и хоботы так забавно болтаются в воздухе, что я сомневаюсь, будет ли рассказ об их смерти столь же драматичным, каким был рассказ о тигрице. Ну же, сеньор Бенедикт, расскажите нам вашу историю об охоте на слонов!
— Мне не выпало случая, — начал рассказ Бенедикт, поклонившись, что означало его согласие подчиниться просьбе принца, — поохотиться на слонов в Индии, и я глубоко об этом сожалел. Не поедешь же слона в Калькутту или в Пондишери, как ездят в Берлин или Вену. Когда корабль Английской компании высадил меня на Цейлоне, я решил задержаться там недели на дне.
У меня с собой было несколько рекомендательных писем, а среди прочих — письмо к сэру Джорджу Дугласу, одному из младших сыновей той обширной семьи Дугласон, которая сыграла роль но всех серьезных событиях, сотрясавших трон Англии. Сэр Джордж Дуглас в чине полковника командовал английским гарнизоном на Цейлоне.
Я послал ему письмо с просьбой принять меня на следующий день.
Вечер был прелестным; я велел подать чай на балконе и принялся вкушать мой любимый напиток, глядя на акул, резвившихся у самой поверхности воды с такой же подвижностью и с таким же изяществом, какие мы наблюдаем у корюшки или уклейки, а акулы с того места, откуда я их видел, казались именно таких размеров.
Ко мне в дверь постучали.
«Войдите!» — крикнул я и откачнулся на стуле назад, чтобы увидеть через балконное окно, кто же ко мне стучал.
Я увидел английского офицера; услышав мой голос, он вошел.
Поняв, что это мог быть только сэр Джордж, я поспешил ему навстречу.
«Вы господин Бенедикт Тюрпен?» — спросил он, показывая мне письмо, которое я только что отправил.
Он, как человек занятый, задал мне сразу два вопроса.
«Да, сударь, и письмо мое…»
Я показал ему на письмо пальцем.
Он кивнул.
«В письме говорится, что вы охотник».
«Страстный».
«Тогда вы приехали удивительно вовремя. Завтра мы устроим большую охоту на слонов. Хотите в ней участвовать? Предупреждаю, что, если вы с нами не едете, то смертельно проскучаете, здесь ведь больше никого не останется…»
— И нм с восторгом согласились? — воскликнул молодой принц.
— Ваше высочество, для того, чтобы км знали меня таким, какой я есть, нужно, чтобы я признался нам…
— В чем же?
— Я труслив.
Все три слушателя Бенедикта, не ожидая подобного признания, разразились смехом.
— Труслив! Вы? — вскричал молодой принц.
— Честное слово! Не приходится в этом сомневаться, — сказал полковник Андерсон.
— Объясните же нам, что вы имели в виду, — сказал Каульбах.
— Да очень просто: я труслив, только труслив на манер нашего короля Генриха Четвертого, который поначалу марал себе штаны, а потом пачкал о них носы своих врагов. У меня характер раздражительный, и смелость моя соответствует такому характеру. При виде опасности или скорее при объявлении ее я начинаю сомневаться, дрожать, потом краснею за себя. Мой дух проклинает мое физическое состояние, душа вступает в эту мою борьбу с самим собой, ибо понимает, что с ней связана моя собственная честь, то есть часть ее самой. Она вскакивает верхом на моего зверя, который напрасно упрямится. И, видя, как душа все-таки удержалась на нем верхом, мой зверь начинает творить чудеса дерзости, которые ошеломляют глупцов. Извините, полковник, — смеясь, сказал Бенедикт, — вы же знаете, что о присутствующих не говорят.
Итак, я принял предложение холодно.
Охота на слонов! Заметьте, что по дороге в Индию я только об этом и мечтал.
«Да! Нет! Сколько же времени это продолжится?»
«Семь-восемь дней!»
«Ах, черт, не знаю, смогу ли я».
«Смотрите, подумайте, — сказал сэр Джордж, — у вас есть время до завтра».
И мне показалось в интонации сэра Джорджа Дугласа, что он прочел все в глубине моей души и увидел, что там происходило. На какой-то миг мне стало крайне стыдно.
«Нет, спасибо, — сказал я ему. — Мне нечего думать: я еду».
Я взял носовой платок и вытер пот, проступивший у меня на лбу.
«У вас есть оружие?» — спросил сэр Джордж.
«У меня есть карабин с разрывными пулями».
«А, это изобретение одного из ваших оружейников?»
«Да, Девима».
«Вы к нему привыкли?»
«Да».
«Добились хороших результата?»
«Да».
«Берите его на крайний случай, но как единственное оружие карабина вам не хватит. Что касается меня, то знаю, что с подобным оружием я бы за вас не отвечал».
«О-о!»
Я просвистел небольшой мотив, чтобы выяснить, до какой степени мне еще повинуется мой голос.
«Что же мне тогда нужно взять?» — спросил я.
«Вам нужно взять три двуствольных карабина, которые называются двойными барретами».
«Где же я их возьму?»
«Эго уже моя забота».
«Но я же упаду под тяжестью такой артиллерии».
«Да разве же белый человек создан для того, чтобы носить что бы то ни было в Индии? Это дело ваших негров».
«Но я только что приехал, и у меня их нет».
«Я вам добуду четверых совершенно надежных негров и дорогой подскажу, как с ними обращаться».
«Так что решено?»
«Решено».
«В котором часу?»
«В шесть утра. Встреча у меня. Мы отправляемся от моего дома».
Мы обменялись рукопожатием. Полковник вернулся к себе, а я, слегка озабоченный, — к моей чашке чая на балконе и к зрелищу резвившихся акул.
Тем же вечером сэр Джордж отправил мне трех аппов, то есть трех надежных негров, и двух кули.
В пять часов утра я позвал своих слуг; они быстро вошли ко мне и помогли одеться.
В Индии слуги спят там, где их захватит сон: на циновках, на скамьях, в коридорах.
Их зовут, они встряхивают ушами — вот и готовы!
Полностью взнузданная лошадь ждала меня у двери. Я вспрыгнул в седло: мое охотничье обмундирование ждало меня у сэра Джорджа, а свой карабин со взрывными пулями я вскинул на плечо.
Мы пересекли Коломбо. Когда мы оказались у дверей сэра Джорджа, было шесть часов и вставало солнце.
Надо вам сказать, ваше высочество, что на Цейлоне солнце движется с совершенной точностью, и это доводит до отчаяния: оно поднимается в шесть часов утра и заходит в шесть часов вечера. Никогда раньше, никогда позже. Только зажигается оно, как молния, и гаснет так же.
Там не бывает ни мглы, ни сумерек.
Вы находитесь на Галлефасе — это местное Прадо. Вы стоите и беседуете на ярком солнце, и вдруг наступает темень, вы начали фразу среди бела дня, а закончили ее с наступлением глубокой ночи.
Как будто милостивому Богу надоедает бодрствовать. Он гасит лампу — и кончено!
У сэра Джорджа каждый из нас получил свою долю оружия и амуниции. Двое из моих аппов получили каждый по одному из тех двуствольных карабинов, о которых мне говорил сэр Джордж. Третьему были вручены мои боеприпасы. Обоим кули тоже были даны поручения: один нес съестные припасы — как еду, так и напитки, а другой должен был, держа в руках веер из павлиньих перьев, отгонять мух, когда они будут кусать меня или мою лошадь.
Я избавлю вас, ваше высочество, от описания дороги, хотя дорога из Коломбо в Бентенн — одна из самых примечательных. Но пять-шесть набросков, которые я сделал по этой самой дороге и которые идут прежде рисунка на главную тему, вам лучше покажут живописность тех мест, чем все мои слова по этому поводу.
Дикие слоны водятся только между Бентенном и Бадуллой. Но на протяжении всего пути вы встречаете домашних слонов, занятых каким-либо трудом.
Эти слоны приводят в ужас лошадей.
За несколько льё до Бентенна, куда мы направлялись, моя лошадь чуть не выбросила меня из седла, встала на дыбы, принялась скакать в сторону, поворачивая голову к хвосту, и в конце концов отказалась идти вперед. В двадцати шагах от этого места дорога резко уходила в сторону. Спрыгнув с лошади, я оставил ее на попечение моего кули и, взяв в руки ружье, обогнул поворот дороги.
В ста шагах от меня оказался слон дорожной службы, занятый починкой дороги: идя своим спокойным и размеренным шагом, он тащил огромный чугунный каток, вроде тех, что у нас употребляют для выравнивания щебня на бульварах и на дорожках общественных садов. Понадобилось бы восемь — десять лошадей, чтобы тащить эту тяжелую махину, слон же тянул ее играючи: он беззаботно помахивал хоботом в разные стороны и выглядел так, будто даже не замечал, что его впрягли в тяжелую работу.
Другой слон, направляемый своим карнаком, катил глыбы отесанного камня и устанавливал их в ряд вдоль обрыва — он был занят сооружением парапета.
Принц с сомнением посмотрел на полковника Андерсона.
— Принц, — сказал ему полковник, — как бы редко ни случалось увидеть слона-каменщика и слона-дорожника, должен сказать нам, что и Индии па каждом шагу нм встречаете этих животных, занятых трудом на пользу человека. Более всего мне довелось видеть, как они выполняю! такого рода работы, в Бомбее. Их используют на складах леса — с шести утра до шести вечера они громоздят бревна всякой величины одно на другое. Чтобы уложить такие бревна на место, понадобилась бы либо сила двадцати пяти человек, либо сила машины. Слон берет бревно хоботом, поднимает его как соломинку и кладет на нужное место, указанное ему карнаком, — налево, направо, вперед, назад. Он трудится утром шесть часов, во второй половине дня пять часов, и при этом выполняет работу примерно за пятьдесят человек. Ест он в полдень и в шесть часов. В час он снова принимается за работу, в семь — ложится спать.
Но как только пробьет первый удар полудня или шести часов вечера, слон останавливается, и тогда ничто в мире — ни угроза, ни ласка — не заставят его работать. Если он собирался поднять свою ношу, он ее не поднимет; если он ее уже поднял на три четверти, он кладет ее опять на землю.
На следующий день, если работа прекратилась вечером, или через час, если это был полуденный перерыв, он возьмется за то же бревно и никогда не возьмет другого. Он положит его на место, на которое должен был положить его накануне или за час до того. Но простите, вижу, что прервал рассказ господина Бенедикта.
Бенедикт поклонился.
— В Бентенне, — продолжал он, — путешественники оставляют лошадей и входят в чащобу джунглей. Что и говорить! Чудесная работка, да и прекраснейшая дорожка! Дело в том, что дорогу нужно каждому прокладывать себе сильными ударами охотничьего ножа.
Место, где мы должны были приняться за дело, было указано нам неграми — их послали сюда за три дня до этого, и они обнаружили следы стада слонов.
Нам нужно было пройти лишь около одного льё, прокладывая себе путь в зарослях джунглей.
Стаи золотых фазанов, каждая из двадцати — двадцати пяти птиц, поднимались из-под наших ног и летели перед нами.
Я попросил разрешения зарядить одно из моих ружей дробью, чтобы подстрелить двух-трех из этих чудесных птиц. Мне было отказано, ибо мой выстрел мог насторожить слонов.
Сэр Джордж постоянно напоминал, что необходимо как можно меньше шуметь и говорить, а если уж говорить, то только шепотом.
В результате двухчасовой тяжелейшей работы первопроходцев мы попали на круглую площадку; она была примерно раза в два больше, чем обычный цирк, и было видно, что ее только что покинули слоны.
Примерно на сотню шагов в диаметре, как снопы пшеницы на току, лежали железные деревья, талипотовые пальмы, банановые деревья, равеналы. И этот гигантский урожай был раздавлен и смят, почти полностью вытоптан. Стадо великанов превратило в подстилку деревья в пятьдесят футов высотой.
От этого круга в джунгли уходили две огромные просеки, походившие на два туннеля в тридцать футов ширины и в пятнадцать футов высоты каждая.
Разделившись надвое, стадо ушло в две разные стороны. Признаюсь, я стоял как вкопанный, потрясенный такой могучей разрушительной силой, и с ужасом спрашивал себя, о чем же думает человек, этот пигмей, чья стопа едва может примять траву, которая потом, когда он пройдет, поднимется; о чем он думает, осмеливаясь нападать на чудовища, да еще в их логове, на гигантов, которые тяжестью своего шага валят леса и приминают их так, что деревьям уже более не выпрямиться?
Прибыв к этому месту, сэр Джордж собрал нас в кружок и, обратившись ко всем, а в основном ко мне, новичку в охоте подобного рода, дал нам дельные советы, и я их выслушал, чувствуя звон в ушах, означавший, что кровь ударила мне в голову.
За двадцать лет, прожитых на Цейлоне, сэр Джордж убил пять или шесть сотен слонов. После пятисот он больше уже не считал…
— А он рассказал вам, — спросил полковник Андерсон, — что с ним случилось, когда он убивал пятисотого?
— Нет.
— Так вот, он допустил неосторожность, выпалил оба свои заряда в семи-восьмимесячного слоненка; стремительно атакованный его матерью, он повернулся, чтобы взять второе ружье, но испуганный негр убежал и унес его ружье.
У сэра Джорджа не оказалось даже времени, чтобы подумать, как спастись, так как слон ухватил его своим хоботом и поднял на двадцать футов над землей. К счастью для него, именно благодаря принятой слоном позиции, когда он держал сэра Джорджа поднятым вверх, другим охотникам вполне хватило времени, чтобы выстрелить в животное.
В одно мгновение сэр Джордж выхватил охотничий нож и стал изо всех сил перерезать слону хобот. Придя в ярость от боли, слон отбросил сэра Джорджа на двадцать шагов от себя и, пригнул голову, пошел на группу охотников, и те вторым общим ружейным залпом наконец его сразили.
Сэр Джордж едва не погиб как от своего падения, так и от той кратковременной петли, которой его обхватил хобот слона. Больше месяца потом он все задыхался, не имея возможности глубоко вздохнуть.
— А, теперь меня больше не удивляет, — сказал Бенедикт, — что первый его совет мне — никогда не стрелять в детеныша. Вторым советом было не стрелять в белых слонов и в слонов с бивнями, ибо это отличие в цвете и это природное оружие указывают на высокое положение и большое достоинство слона.
Всякий слон с бивнями — король, всякий белый слон — бог!
Посреди лба у слонов есть небольшая вмятина. Именно в эту вмятину, а она бывает размером со шляпное донышко, и нужно попадать пулей.
Если это удается, иногда случается, что животное падает, сраженное мгновенной смертью. Если же слона только просто ранить, он неизменно и безошибочно нападает на того, кто стрелял в него, узнавая его, бывает, даже среди двадцати охотников и даже в том случае, если все двадцать охотников стреляли одновременно залпом.
В таком случае нужно дать ему подойти и, когда он оказывается в трех-четырех шагах от вас, отпрыгнуть в сторону, а затем, в то время как он проносится мимо, увлекаемый скоростью своего бега, всадить ему вторую пулю в ухо.
По словам сэра Джорджа, он сам четыре-пять сотен раз совершал подобные маневры, и нет на свете ничего проще этого.
Я слушал его с весьма сосредоточенным вниманием, и он сказал мне, улыбаясь:
«Господин Бенедикт, может быть, мне лучше повторить вам еще раз эти указания?»
«Не стоит», — ответил я ему.
Что было далее — судите сами.
Так как мой дух успел одержать верх над моим физическим состоянием, а моя душа решительно оседлала моего зверя, я твердо решил, что, если только в стаде слонов окажется молодой слон с бивнями или белый слон, я обязательно выстрелю в них.
Однако я об этом не сказал ни слова, собираясь неожиданно поразить сэра Джорджа.
Едва сэр Джордж закончил свои наставления, а я дал ему обещание следовать им неукоснительно, как раздались громкие крики. Это были маши загонщики: им удалось повернуть слонов пенять, и теперь, пеня, как дьяволы, они старались заставить их бежать в нашу сторону.
Говорят, что слон любит музыку. Суля по его широким ушам, я бы вполне этому поверил. Ужасающий концерт, устроенный нашими. неграми, пилимо, оказался причиной того, что слоны решительно и быстро направились и нашу сторону; мы же, напротив, хранили самое глубокое молчание.
Вдруг мы услышали раскаты словно десятка громов и почувствовали, что земля задрожала, вздрогнула, как-то даже подскочила под нашими ногами.
Около двадцати слонов крупной рысью бежали по одной просеке, а всего трое — по второй: самка, самец и детеныш.
«Сэр Джордж, — крикнул я по-английски, — оставляю вам стадо, вам и всем этим господам, но прошу, чтобы мне оставили тех трех!»
Потом, обернувшись к моим аппам, я крикнул им:
«А ну, все за мной!»
Я мог бы, как это сделали другие охотники, спрятаться за каким-нибудь деревом, но я встал по самой середине дороги.
Два мои негра дрожали всем телом, и мало-помалу их лица менялись от цвета черного дерева к серому мышиному цвету.
Только один, третий, казалось, был тверд.
«Кому страшно, пусть уходят!» — крикнул я им.
Те двое не ответили, они только со все возрастающим ужасом пристально смотрели на трех слонов, которые уже были от нас не более чем в сотне шагов.
А третий довольно смело сказал мне:
«Я остаюсь!»
«Тогда, — сказал я ему, — в одну руку возьми ружье, в другую — мой карабин, вот он. Держись рядом со мной, так чтобы передавать мне ружья, по мере того как они мне понадобятся».
Его собрат отдал ему мое ружье и сбежал; другой, из чьих рук я взял ружье (теперь я держал его сам), последовал его примеру и тоже сбежал.
Сам же я устремил глаза на трех великанов, двигавшихся прямо на меня, занимая всю ширину просеки; они казались мне настоящими мастодонтами.
Слоненок бежал крупной рысью между матерью и отцом. Подсчитав, что для него вполне хватит моего карабина, я вернул негру большое двуствольное ружье и попросил его держать это ружье так, чтобы оно постоянно оставалось для меня досягаемым, а сам взял свой карабин.
Теперь три чудовища были и тридцати шагах от меня.
Я прицелился в слоненка и выстрелил с двадцати шагов. Слоненок мгновенно остановился, покачнулся словно пьяный и, сраженный, упал. Разрывная пуля взорвалась у него в мозгу.
Слониха издала вопль, исполненный одновременно муки и угрозы; то был крик матери. Она остановилась и попыталась хоботом поднять своего детеныша.
Я отбросил карабин и взял двуствольное ружье.
Самец ринулся на меня.
С шести шагов я всадил ему пулю точно в середину лба. Влекомый бегом, он пронесся мимо меня.
Одним прыжком я отскочил с его пути на шесть шагов, готовый выстрелить при первом же его враждебном движении по отношению ко мне. Но, попытавшись устремиться ко мне, слон споткнулся и упал на оба колена. Хотя по его глазам было видно, что мне уже не придется ждать большой опасности с его стороны, я, чтобы использовать пулю, остававшуюся у меня в ружье, а более всего для того, чтобы он вдруг не помешал мне в той дуэли, которая должна была развернуться между мной и его супругой, пустил ему вторую пулю в ухо.
Его зад, еще остававшийся поднятым, тяжело опустился! Слон попытался издать крик; надрывный вначале, этот крик завершился как бы вздохом.
Только тогда, услышав этот крик, самка оставила своего умирающего детеныша и ринулась ко мне.
И тогда меня охватило желание провести опыт: не пользоваться тем преимуществом, которое слониха давала мне, подставляя свой лоб. Когда она оказалась всего лишь в четырех шагах от меня, я отпрыгнул в сторону и, в то время как она пробегала мимо, в упор отправил ей пулю в ухо. Свинец, бумага, порох — все туда вошло. Казалось, что голова у нее взорвалась.
Она издала жалобный крик и упала на самца.
«Клянусь честью! — воскликнул я. — Пусть еще кто-нибудь сделает то же самое! Трех слонов четырьмя пулями, разве не красиво?»
И, усевшись на слоненка, который размером был с быка, я высек огнивом огонь и зажег сигару!
Не приходится вам говорить, что я оказался королем охоты. Честь мне воздали вроде тех триумфов, что устраивались римским императорам. Сэр Джордж сожалел лишь об одном — о том, что у нас не было какого-нибудь живого слона, на котором я совершил бы свой въезд в Коломбо.
С собой мы привезли пять слоновьих хвостов: когда здесь убивают слонов, это все, что от них берут.
Из них три хвоста были моей добычей.
Одного негра раздавил слон, другой был вскинут слоном в воздух и на всем лету разбился о дерево.
Из нас никто не получил ни малейшей царапины.
Я вспомнил, что читал в описаниях путешествий Левайяна в Африку: слоновья нога, испеченная в горячей золе, — одно из самых вкусных блюл, какое только можно отведать в жизни, и приказал своим неграм отрезать две ноги у слоненка, только что убитого мной.
Затем я последовал рецепту, указанному знаменитым путешественником, — обернул эти ноги в пальмовые листья, предварительно посолив и поперчив, обмотал проволокой и поместил в вырытой яме гак, чтобы горящие угли лежали бы снизу и сверху.
Толи у нас разыгрался аппетит, толи сыграло роль своеобразие самого факта, но ноги показались нам великолепными, и мы пожалели, что, имея в своем распоряжении еще несколько подобных ног, оставили их прежним владельцам.
Бенедикт закончил свой рассказ, и в эту минуту открылась дверь и лакей объявил:
— Его королевскому высочеству кушать подано!
И все перешли в обеденную залу.
XIII ЖЕЛТЫЕ ЗМЕИ
Должен признаться читателям, что на этом завтраке не было слоновьих ног, но от этого ни в коей мере не умалилась изысканность его — королевского завтрака, устроенного с пышностью и без расточительства.
Принц был в восторге, он только и думал, что об охотах на тигров и слонов, и сожалел лишь об одном — что он не простой смертный, не частное лицо и потому не может позволить себе по собственному желанию уехать хоть на следующий день в Индию, Африку или Америку.
Пришлось рассказывать ему обо всех других путешествиях: о сражении с пиратами в Малаккском проливе, стычке с чеченцами и лезгинами на Кавказе; услышав о каждой новой битве, о которой Бенедикт рассказывал все с той же необыкновенной простотой, принц Эрнст аплодировал все с тем же увлечением и воодушевлением.
— И вы говорите, что во время этих охот, стычек и сражений вам иногда приходилось чувствовать страх? — спросил принц Эрнст.
— Совершенно определенно, принц, и даже часто.
— Расскажите нам об одном из ваших страхов, самом жутком.
— О! — воскликнул Бенедикт. — Мне не придется долго раздумывать.
— Мы слушаем.
— Я осматривал Джидду на Красном море, когда, переходя улицу, увидел человека, одетого в полуевропейский, полуместный костюм, и распознал в нем француза. На нем были египетские феска и кафтан, и в то же время он носил бретонские короткие штаны и кожаные обтягивающие гетры.
Я подошел к нему и выяснил, что был совершенно прав: это оказался знаменитый охотник Вессьер, вот уже семь лет живший в Абиссинии, зарабатывая себе на жизнь тигровыми шкурами и слоновьими бивнями: он добывал их на охоте.
Он только что получил в Джидде карабин Девима, использующий разрывные пули: сам Девим отправил ему это оружие с просьбой испробовать его во время охоты на гиппопотамов и слонов. К карабину было приложено сто разрывных пуль.
Он приехал в Джидду еще и для того, чтобы пополнить свой запас дроби и свинца.
Обменявшись несколькими словами, мы договорились, что все свои веши я отправлю к г-ну Эймера, нашему консулу в Суэце, и проведу с Вессьером две недели в Абиссинии.
Сделать это было нетрудно — следовало только переплыть Красное море. За пятнадцать или восемнадцать часов верблюды отвезли бы нас к кочевому жилищу Вессьера. Уже на следующий день, к вечеру, мы были в Массауа.
В Массауа мы в самом деле нашли верблюдов и проводника, который провел нас к одному из водных путей, составляющих исток Атбары.
Там мы обнаружили палатку и двух негров — это были палатка и негры Вессьера. Уже восемь — десять лет, как, устав от всей мелкой суеты у нас в Европе, он уехал из Франции и отправился на берега Нила за тишиной и свободной жизнью.
На следующий же день после нашего приезда мы взялись за охоту. Накануне Вессьер дал мне разные советы, которые дают новичку.
Под 12 или 13° широты, где мы находились, в изобилующих дичью лесах вдоль верховий Атбары, приходилось более всего опасаться не хищников — львов, тигров и пантер, ибо им достаточно было только выпустить когти, чтобы получить себе самое сочное угощение в виде газели, лани, оленя, и они редко нападали на человека и даже, когда он сам на них нападал, предпочитали убегать, а не искать с ним бесполезного боя.
Нет, опасаться нужно было жары а 40 градусов и влажных верховий, изобилующих ядовитыми тварями; там было целое племя змей разных видов: кобра, кафрелло, рогатая гадюка, аспид, а в особенности страшны были маленькие желтые змейки с черной полосой по телу, они перемещались тысячами, как европейские bombyx processionaria[20], и укус их был смертелен.
Однако Вессьер добавил, что все эти опасения сильно преувеличены и что за восемь или десять лет, в течение которых он жил среди львов, тигров, пантер и разного рода рептилий, все эти любители попортить кожу не нанесли ему ни одной царапины.
После таких разговоров мы отправились на охоту, располагая, помимо призывных рожков, пятью или шестью ориентирами, которые должны были помочь отыскать нашу палатку. Оставляю в стороне все наши охоты в Абиссинии, а которых не было ничего уж такого примечательного. Мне довелось убить льва, двух-трех пантер и множество мелких газелей размером с только что родившегося на свет ягненка, но восхитительных своим изяществом и легкостью.
На третий-четвертый день я раздробил бедро одному из этих очаровательных животных и, удержавшись, не знаю почему, от того чтобы направить в него свой второй выстрел, бросился бежать за газелью. Это происходило в месте, поросшем чем-то вроде вереска, и я не потерял ее из вида. Так что я бросился бежать за ней, надеясь взять ее живьем.
Это занятие длилось примерно с полчаса, пока я не упустил ее из-за неровности местности, где напрасно пытался отыскать ее след. После этого получасового бега я почувствовал жажду и лишь тогда, остановившись, ощутил то, что не испытывал, пока длился тот бег, — я ощутил, повторяю, как в висках у меня болезненно пульсировала и билась двумя молотами кровь.
Я должен был находиться от силы в четверти льё от нашей палатки и был, в общем, убежден, что меня отделял от нее только лесок, поросль из ателя и курая, а за этим леском линия растений, явно более зеленых, чем другие, в особенности мимоз, указывала на русло потока.
Все вокруг было сумрачно. Почва представляла собою нечто вроде мокрого и скользкого болота; можно было подумать, что в этих краях, где так редко падает капля воды, накануне прошел дождь. Вокруг меня была масса листвы, мешавшая мне видеть собственные ноги. То и дело мне приходилось то ломать ветви, хлеставшие меня по лицу, то обеими руками, как пловцу в воде, раздвигать массы листьев, нависавших вокруг. Двадцать раз я оборачивался с намерением вернуться назад, но идти вперед не казалось труднее, чем назад. И я решил все-таки на всякий случай двигаться вперед.
И вот я добрался до какой-то поляны, где мог вздохнуть свободнее. Это был небольшой пригорок, и, благодаря ему, голова моя оказалась чуть выше этого низкорослого леса, но в двадцати шагах от пригорка почва опять понижалась, и мне снова пришлось искать дорогу в этом темном лабиринте, и, где, как мне теперь казалось, я слышал со всех сторон странные шумы, непонятные шорохи.
Это обстоятельство вызывало вопрос: что это? Ужасный ответ не замедлил явиться в виде какой-то спирали, которая скручивалась и раскручивалась на конце ветки в нескольких сантиметрах от моего лица. То было не что иное, как змея в два фута длиной с очень тонким телом цвета опавших листьев, а по нему вдоль всего спинного хребта шла черная сетка. Это была именно та змея, которую, как советовал мне Вессьер, следовало опасаться: ее укус в несколько часов убивает человека самого здорового и крепкого сложения.
Я подался назад, но почувствовал, что волос моих коснулось нечто живое. Тогда я застыл в неподвижности и ограничился только тем, что повернул голову: сначала направо, затем — налево, потом откинул ее назад и выяснил, что у моих ног, над моей головой, вокруг меня со всех сторон на всех деревьях, на всех ветках кишели тысячи этих рептилий — одни из них свернулись и не двигались, другие медленно скользили всеми своими длинными телами, стараясь попасть под луч солнца, пробивающийся сквозь листву.
Вот откуда исходили шорохи, которые я слышал здесь с самого начала.
Несколько мгновений мне чудилось, будто передо мной голова Медузы: я был полностью парализован страхом. Я принялся искать с какой-нибудь стороны свободный проход, чтобы немедленно бежать. Но пока я только чувствовал, будто мои ноги вросли в землю, и не смел сделать ни шага в страхе от того, что мог наступить на одну из этих ужасных тварей. Заметьте, что именно в этот день я облачился и местную одежду, состоящую из штанов и куари. Таким образом, ступни, ноги, грудь, руки у меня оставались голыми!
Между тем, нужно было на что-то решаться. Долго оставаться к гаком положении было невозможно: вокруг меня буквально шел дождь из змей и просто чудом мне на голову или за пазуху не упала еще ни одна из них. Я сжался как мог, чтобы не задевать за ветки, медленно поднял складки большого куска холстины, наброшенного на плечи, боясь найти в них змею. Затем, оценив глазами все выходы, открывавшиеся передо мною, я двинулся в путь, передвигаясь го на четвереньках, то согнувшись до земли. Время от времени шомполом ружья мне приходилось убивать одну из этих тварей, преграждавших мне путь, или прыгать через лежащий на земле ствол тамариндового дерева, из дупла которого я видел высовывавшиеся змеиные головы, как видишь головы птенцов, выглядывающих из гнезда.
После каждого шага я должен был продумать следующий шаг, а змеи тем временем, скручиваясь и переплетаясь между собой с отвратительным подрагиванием и тихим свистом, казалось, выражали свое удовольствие, греясь на солнце. Я и теперь слышу тот шорох, тот свист, и это заставляет мое сердце сжиматься от невыразимого омерзения.
Это длилось всего-то пять минут — пять лет, пять веков. В подобные мгновения время не имеет счета. Наконец, я поставил ногу на землю и как безумец бросился из зарослей кустарника, через которые совсем недавно мне пришлось проходить с таким трудом. В несколько прыжков я уже оказался на песке у потока, в двухстах шагах от моей палатки…
Гости принца Эрнста еще переживали рассказ, разделяя испытанный Бенедиктом страх, когда сквозь зеркальные стекла дверей галереи они увидели издали, как к ним направлялся король. Он опирался на руку своего адъютанта, г-на фон Веделя, и шел достаточно твердой поступью, такой уверенной, как если бы он был зрячим человеком. Наклонив голову, он разговаривал.
Король вошел в столовую, не дав объявить о своем приходе. Все четверо сидевших за столом встретили его стоя.
— Не стесняйте себя, господа, — сказал он, — я только зашел к принцу, чтобы спросить, не нуждается ли он в чем-нибудь, и передать его пожелания кому следует.
— Нет, ибо благодаря беспредельной доброте вашего величества нам всего хватает, недоставало только вас. Знание людей не обмануло ваше величество, вы поняли, что господин Бенедикт — один из самых привлекательных людей на свете, каких я только видел.
— У принца большое соображение, государь, — сказал Бенедикт, рассмеявшись, — некоторым рассказам без особых претензий и нескольким беглым карандашным наброскам он придал значение, которого они не имеют.
Но, словно отвечая собственным мыслям, и с особенности той, что присела его к обоим молодым людям, король сказал, обращаясь к Бенедикту и повернувшись к нему, как он имел обыкновение делать, когда с кем-нибудь разговаривал:
— Вчера, сударь, вы сказали несколько слов о науке, которой когда-то и я уделял некоторое внимание. Я говорю о хиромантии. И я имею склонность, однако в пределах разумного, к таинственным сферам человеческого сознания, природы и мироздания. Моим наибольшим желанием было бы увидеть, как они основываются, например, на логике, на физиологии.
— Я это знаю, государь, — улыбаясь, сказал Бенедикт, — поэтому вчера я и осмелился произнести в присутствии вашего величества несколько слов, касающихся области оккультных наук.
— Вы это знаете! А откуда вы это знаете? — спросил король.
— Я был бы жалким хиромантом, государь, если бы ограничился только знанием линий руки и не постарался соединить учение Лафатера и Галля с учением д’Арпантиньи. Мне достаточно одного взгляда на форму ваших рук и очертания вашего лица, чтобы определить эти драгоценные склонности, с точки зрения френологии ясно выраженные чрезвычайно развитыми органами поэзии, а значит и любви к чудесному, что становится понятным по сопоставлению; и если бы я не обнаружил над глазами, содержащими орган музыки, любви к гармонии, то есть к врожденным знаниям, то в этом случае, государь, я не способен был бы определить, что высокое покровительство, оказанное вами бедному сапожнику Лампе, лекарю-бота-нику, уроженцу Гослара, изобретателю лечения травами, менее происходит от случайного чувства доброжелательства, нежели от убеждения, что некоторые люди способны получить откровение и что не всегда только самым высокопоставленным людям Бог, то есть истина, открывает себя.
— Как, — вскричал король, улыбаясь в полном удовлетворении, — вы знаете моего бедного Лампе?
— Да, государь, я виделся и говорил с ним в кафе «Минеральные воды», в трех четвертях льё от Гослара, куда он отправляется каждый день и где восседает в окружении почитателей, большинство из которых вылечилось у него.
— Вы беседовали с мим? — спросил король. — Не правда ли, это необыкновенный человек?
— Да, государь, и я знаю всю его историю: его жалкую жизнь, его бедное существование сапожника, ею карьеру солдата, прерванную саблей французского кирасира, который раскроил ему череп на равнинах Шампани. Знаю о его занятиях в ботанической школе, куда он нанялся слугой, чтобы прослушать там курс обучения. Я восхитился ею терпением, старался отыскать и отыскал в его личности и, в особенности в том, что написано на его руках, склонности к медицине, определившие у бедного крестьянина без средств столь необоримое призвание, что, подчиняясь ему. Лампе пришлось выстрадать тяжкие лишения, способные сразить любого менее увлеченного человека.
Именно благодаря его упорству, к которому, с точки зрения френологии и хиромантии, он был предназначен судьбой. Лампе достиг знания истинных свойств каждого растения в отдельности и в его соединении с другими растениями разной природы. Тогда он выучился лечить, и так хорошо лечить — сначала своих бедных соседей, затем друзей, потом горожан и, наконец, богатых господ, — что врачи, желавшие оставить за собой богатых клиентов, воспротивились его методам лечения и наложили на них запрет.
Но тогда жители города Гослара и окрестностей на двадцать льё кругом подняли такой крик, что он достиг ушей вашего величества. И ваше величество пожелали сами рассмотреть этот случай и велели провести расследование, а оно оказалось столь благоприятным для Лампе и столь решительно поддерживающим его сторону, что ваше величество, поняв положение вещей одним движением мысли, пожаловали Лампе звание директора траволечебницы; он так хорошо занимался своим делом, что ваше величество, если не ошибаюсь, наградили беднягу орденом Вельфов и оказали ему еще большую милость, посетив вместе со всей вашей семьей его заведение. Ему не пришлось, государь, идти к вам за признанием своих заслуг: вы пришли к нему сами.
— Неужели репутация Лампе уже достигла Франции?
— Нет, государь.
— Кто же вас так хорошо осведомил?
— Прежде всего я сам, поскольку, как имел честь сказать вашему величеству, мне удалось все увидеть собственными глазами. Но еще ранее один из моих лучших друзей и мой учитель в этой странной науке (ему удалось дополнить изучением чисел и планет капризную науку д’Арпантиньи), художник, как и я, почитатель природы, как и я, неутомимый пеший странник, как и я, краг табака, как и я, тог, кто позволяет и с но их застольных развлечениях, как и я, разбавленную вином полу, но не более того, тонкий, как и я, но всех телесных упражнениях, а более всего в фехтовании, говорящий почти на тех же языках, что и я, но более всего на немецком, как на своем родном языке…
— А, подождите же, — сказал король, — но я же о нем слышал. В тысяча восемьсот шестьдесят третьем году, думается, он приехал н Германию и бросил вызов лейпцигским врачам. С ним была его жена, помогавшая ему в этой таинственной борьбе настоящего с будущим. В какой-то момент у меня явилась мысль позвать их в Ганновер, но иные заботы отвлекли меня. Как же его звали? Подождите… такое имя, гулкое имя вроде звучания цимбал.
— Дебароль, государь.
— Да, да. Сожалею, что не повидался с ним. Но раз уж вы здесь, вы, его друг, вы, его второе «я», и раз вы догадались, что я люблю науки, которые открывают нам новый мир и простирают до бесконечности связи этой бедной искорки, называемой душой, заставляя нас вступать в сношения со звездами, — их великолепным зрелищем мне теперь приходится восхищаться только по памяти, — так вот, повторяю, раз уж вы здесь, ничто не потеряно, как вы это понимаете. Когда я думаю, что мое дыхание сливается со всеобщим могучим дыханием, заметным потому, как происходит прилив или отлив на море, я более не чувствую себя униженным моим человеческим уделом. Вы видите, как в ночном покое сияют звезды, и мне кажется, что я слышу мелодию их стройных звуков, раздающихся при их вращении по небесным сферам, что так прекрасно показал божественный Пифагор; эта мелодия явственно слышна мне, когда я предаюсь благоговейным размышлениям. Я исполнен гордости, что надо мной, стоящим на вершине человеческого общества, стоят существа промежуточные, несомненно ангельской природы, несущие электрическую цепь, огромную, бесконечную, которая соединяет нас не только с нашей системой планет, где солнце — ее центр, но и со всеми мирами, но и со всеми солнцами.
О подобных вещах, — улыбаясь, продолжал Георг V, — я не говорю на заседаниях совета. У меня быстро создалась бы репутация мечтателя, самая дурная, какая может быть у короля. Но я говорю это вам, ибо вы такой же мечтатель, как и я; итак, вам, и только вам я говорю: да, я верю в небесные силы, воздействующие на нас во время нашего жалкого прохождения по земле, верю, что каждый несет в себе, в этом драгоценном вместилище, называемом черепом, свою предначертанную судьбу, с которой можно побороться, но которая влечет человека, хотя и дано менять скорость этого, к богатству, удаче или к несчастью.
И я говорю это с убеждением, ибо у меня уже были тому подтверждения. Когда я был молодым человеком, во время одной из моих одиноких прогулок цыганка взяла мою руку и предсказала мне то, что потом сбылось. Я горячо желаю нам поверить, но не как безумец. Мне хотелось бы иметь доказательства, мне нужны доказательства. Можете ли вы, просто осмотрев мою руку, прочесть в моем прошлом то, что цыганка некогда прочитала в моем будущем? Скажите, способны ли вы это сделать, или вы только искренне верите, что способны на это?
— Да, государь, и наука посредством иных расчетов скажет вам то, что сказала ранее интуиция или, может быть, традиция.
— Ну хорошо, — сказал король, протянув Бенедикту руку, — так читайте же, прошу вас.
XIV ЧТО МОЖНО ПРОЧЕСТЬ ПО РУКЕ КОРОЛЯ
Король протягивал руку.
— Государь, — сказал Бенедикт, — не знаю, должен ли я пытаться?..
— Почему же? — спросил король.
— А если я прочитаю там что-то грозное?
— Мы теперь переживаем времена таких потрясений, что предсказаниям, какими бы страшными они ни оказались, никогда не сравниться с действительностью. Что вы можете мне предсказать уж такого ужасного? Я потеряю королевство? Я потерял больше, чем королевскую власть, когда лишился возможности видеть солнце, небо, землю и море… Так начинайте же и говорите, что вы там видите.
— Все?
— Все. Предполагая, что грядут несчастья, разве не лучше знать их заранее, нежели неожиданно увидеть, как они падут нам на голову?
Бенедикт склонился над рукой короля Георга так низко, что едва не касался ее губами.
— Рука истинно королевская, — сказал он, бросив вниз лишь беглый взгляд, — рука благотворителя, рука художника.
— Я лично не просил у вас комплиментов, сударь, — смеясь, сказал король.
— Поглядите же, мой дорогой метр, — сказал Бенедикт, обратившись к Каульбаху, — как развит Аполлонов холм, вот здесь, под безымянным пальцем! Ведь Аполлон дает интерес к искусствам, дает ум, дает все, что в человеке есть блестящего и что наделяет его блеском. Это он дает надежду на бессмертное имя, душевное спокойствие, доброжелательностью пробуждающую любовь. Теперь посмотрите на Марсов холм: он находится в той части ладони, что противоположна большому пальцу; Марс наделяет человека двойным мужеством, гражданским и военным, спокойствием, хладнокровием в опасности, смирением, гордостью, верностью, решимостью и силой сопротивления. К несчастью, Сатурн против нас. Сатурн угрожает. Вы это знаете, государь, Сатурн — это рок. И должен сказать, у вас линии Сатурна не только неблагоприятны, но они еще и пагубны.
Здесь Бенедикт поднял голову и сказал, бросая на короля взгляд, исполненный уважения и симпатии:
— Продолжая еще глубже, я мог бы, государь, обнажить ваш характер вплоть до самых сокровенных его черт. Я мог бы развернуть перед вами, одну за другой, все ваши склонности в их мельчайших оттенках. Но я предпочитаю перейти незамедлительно к важным фактам. В двенадцать лет ваше величество болели тяжкой болезнью…
— Это так, — сказал король.
— К девятнадцати годам линия судьбы тянется у вас одновременно к мозгу и к холму Солнца: с одной стороны — это первый припадок, с другой — нечто похожее на смерть, но не смерть, а помрачение! Хуже того: временное помрачение! Тьма!
— Цыганка сказала мне буквально такими же словами, как вы. Нечто похожее на смерть, но не смерть. В самом деле, в девятнадцать лет я многое выстрадал.
— Подождите! Вот здесь, государь, на Юпитере есть чудесное сияние: это знак наивысшего взлета человеческой судьбы — к тридцати девяти годам.
— Опять слова цыганки. Так и было, в тридцать девять лет я стал королем.
— Я ничего не знал точно об этих двух периодах вашей жизни, государь, — сказал Бенедикт, — но можно предположить, что я имел о них сведения. Поищем же какой-нибудь факт, о котором я никак не мог бы знать. А! Вижу! Да, это и есть то самое! Смертельный страх, несчастный случай, связанный с водой… Что это? Лодка, попавшая в опасность? Буря, увиденная с берега? Неотвратимое крушение судна, заключающего предмет любви? Смертельный страх, но только страх, ибо рядом с линией судьбы тянется предохрани тельная линия. Несомненно, ваше величество испытали страшнейшее опасение за жизнь человека, которого вы глубоко любили.
— Вы слышите, Эрнст? — обращаясь к сыну, скатал король.
— О отец! — воскликнул молодой принц, протянув руки и обвив ими шею короля.
Затем он обратился к Бенедикту:
— Да, да, бедный отец испытал великий страх! Представьте себе, я купался в море у Норденрея. Плаваю я довольно хорошо, но там безрассудно дал увлечь себя течению и, честное слово, погиб бы, не сумей я ухватиться та руку смелого рыбака, пришедшего мне на помощь. Еще секунда, и все было бы кончено.
— И я был там, — сказал король, — и мог только слышать его крики и протягивать руки к нему, вот и все! Глостер предлагал свое королевство за коня, я же отдал бы свою корону за один луч света в глазах. Но не будем больше об этом думать, те несчастья, что нас ожидают, даже взятые вместе, не окажутся ужаснее тени того несчастья, что не наступило.
— Итак, государь?.. — сказал Бенедикт.
— Итак, вы меня убедили, — сказал король, — и мне не нужно других доказательств. Перейдем же теперь к будущему.
Бенедикт внимательно всмотрелся в руку короля, некоторое время был в сомнении, затем попросил лампу, чтобы лучше видеть.
Ему принесли то, что он просил.
— Государь, — сказал он, — вас вовлекут в большую войну. Один из ваших близких не только предаст вас, но еще и ограбит. И тем не менее, посмотрите, ваше высочество! — сказал он принцу. — Линия Солнца предсказывает победу, но победу пустую, бесполезную, безрезультатную.
— А дальше? — спросил король.
— О государь! Сколько же всего в этой руке!
— Хорошего или плохого?
— Вы сказали, чтобы я ничего не скрывал, государь.
— И повторяю вам это. Так что эта победа?..
— Эта победа, как я сказал вашему величеству, ничего не принесет. Вот линия Солнца прерывается над головной линией, исходящей от Марса и перерезающей также холм Юпитера.
— Это говорит о чем?
— О свержении. Между тем… нет, — пытаясь вырвать из этой королевской руки самые таинственные ее секреты, сказал Бенедикт, — между тем, это не последнее слово нашей судьбы. Посмотрите на линию Солнца: после перерыва она вновь поднимается до безымянного пальца и останавливается у начала его. И потом, посмотрите еще вот на эту прямую линию, что проходит над линией, которая пересекает Юпитер: она идет словно бороздой и заканчивается звездой, наподобие скипетра, заканчивающегося бриллиантом.
— И о чем это говорит?
— О реставрации.
— Так по-вашему, я потеряю трон и завоюю его вновь?
Бенедикт обернулся к молодому принцу:
— Вашу руку, пожалуйста, ваше высочество.
Принц протянул ему руку.
— После сорока лет у вас, ваше высочество, линия жизни пускает разветвление к линии Солнца. В этот период вы взойдете на трон. Вот все, что я могу вам сказать. Итак, если вы подниметесь на трон, принц, это будет потому, что король, ваш отец, взойдет на него опять или не будет с него спускаться.
Какое-то время король оставался в безмолвии, опершись головой на левую руку. Казалось, что он пристально смотрел перед собой, как человек, погруженный в глубокие раздумья.
— Не могу передать вам, сударь, — вновь заговорил он после паузы, во время которой все хранили самое глубокое молчание, — не могу передать вам, насколько меня интересует эта неведомая наука. Вы рассказали мне прошлое с поразительными подробностями, почему бы вам не открыть мне и будущего? Для провидца облако, представляющее прошлое или будущее, одинаково густо. Ведь Провидение позволяет природными средствами узнать заранее свою судьбу. Так борец в Древней Греции мог на глаз оценить силу того атлета, с кем ему предстояло сразиться в цирке, и уже заранее старался отыскать способ, с помощью которого он смог бы избежать его обхватов и добиться победы.
Потом, после нескольких секунд молчания, он сказал:
— Это было бы правильно, это было бы разумно во всяком случае. Ведь невозможно, в самом деле, чтобы Провидение, которое скоплением облаков и громом и молнией объявляет о буре, — дабы каждый попытался найти себе убежище от грозы! — не указало бы человеку, и в особенности человеку, поставленному на вершине общества, приближение жизненных бурь. Да, эта наука правдива уже тем самым, что она необходима и что до сих пор ее, остававшуюся неведомой, не хватало как доказательства гармонии творения и логичности божественного милосердия.
Затем, спустившись с высот, на которые вознесла его мысль, он спросил у Бенедикта:
— Как наш учитель хиромантии достиг такого уроним? Благодаря споим особым свойствам или же случайно? Ничто так мне не интересно, как стремление добраться до источников. Случай мог стать его единственным поводырем, но мы знаем, что всегда есть какой-нибудь поводырь, который ведет за собой случай.
— Государь, в своем пешем странствии по Испании, когда он почти постоянно шел среди цыган, разысканных им, художником, по живописности их одежд, он видел, как ли люди, жители пустыни и гор, предсказывают судьбу горожанам, рассматривая их ладони. И с тех пор он возымел смутное желание получить возможность объяснить эти откровения и дать им достойную оценку, изучая связи между формами тела человека и его инстинктами и страстями. С тех пор эта смутная мысль не покидала его никогда. И так как господствующая идея обладает магнетическими свойствами, так как ей присуща центростремительная сила, так как она притягивает к себе, словно магнит крупинки железа, все, что может служить ей на подъеме, то, когда он приехал в Париж, Провидение связало его с одним светским человеком, который инстинктивно открыл целую систему, зиждившуюся именно на обнаружении склонностей человека по форме его руки.
Этого светского человека звали капитаном д’Арпантиньи. Но его система извлекала свои выводы только из внешней формы руки. Мой друг сейчас же понял неточность и недостаточность этой системы. Если внешняя форма призвана отображать склонности человека, то ладонь и внутренняя часть руки, куда помещена способность воспринимать прикосновения, то есть осязание, должны обладать более значительными свойствами. Там должны находиться признаки, отображения способностей человека, проистекающие из его мозга, потому что френальные частицы, которые напрямую сообщаются с мозгом, представляют собою вместилища электричества и накапливаются на ладони, являющейся, гак сказать, мозгом всей руки.
Итак, Дебароль направил свои наблюдения в эту сторону.
Что же касается того способа, каким господин д’Арпантиньи открыл свою систему, я рассказал бы вашему величеству о нем, если бы не боялся утомить подробностями, не столь интересными. Однако способ этот довольно своеобразен и заслуживает внимания.
— Все это, напротив, меня очень занимает, — отозвался король, — и вы можете продолжать.
— Господин д’Арпантиньи был человек галантный и любил рассматривать дамские ручки. Кроме того, еще молодым человеком, живя в провинции и наблюдая там жизнь, он часто ходил на приемы к одному своему соседу по деревне. В противоположность господину д’Арпантиньи, этот сосед питал большую склонность к точным наукам, в частности к механике. Таким образом, у себя в доме он принимал множество геометров и математиков.
— Был ли женат этот сосед? — спросил король.
— Да, государь, — ответил Бенедикт, — и его жена, по закону противоположностей, не выносила, когда заговаривали о математике или механике.
Но она обожала живопись, поэзию и музыку.
И не было никакой возможности объединить два столь различных круга людей, которые приходили к каждому из супругов.
Тогда общество ученых людей стало собираться у мужа, а общество художников — у жены.
Капитан д’Арпантиньи, равно ценивший поэзию и математику, а это означает, что он не был ни поэтом, ни математиком, а просто человеком умным, ходил с одинаковым удовольствием как на приемы у жены, так и на приемы у мужа.
Ум у капитана оказался отчасти аналитическим. Пожимая руки гостей на приемах у мужа и у жены, он заметил, что у математиков, знатоков арифметики и, наконец, у промышленников, пальцы были узловатые, а у поэтов, пианистов и живописцев — гладкие.
Два общества были настолько различны в этом отношении, что д’Арпантиньи говорил, будто все выглядит так, как если бы у них были разные мастера по изготовлению рук.
Начал он с того, что был поражен такой разницей, но это еще было только наитие.
Ему потребовалось доказательство.
Он обошел мастерские художников, уборные актеров, мансарды поэтов.
И повсюду он обнаружил гладкие пальцы!
Он обошел кузнечные мастерские, заводы.
И повсюду он обнаружил узловатые пальцы!
Исходя из этих наблюдений, он разделил людей на две касты: людей с гладкими пальцами и людей с узловатыми пальцами.
Но очень скоро он заметил, что его система была слишком категорична, что в ней нужно было определить разновидности, разряды и подразряды.
Он стал сомневаться.
По ежедневному своему опыту он знал, что у него оказалось много ошибок, чувствовал, что его наука оставалась неполной. Вот тогда-то он понял значение большого пальца на руке. Это было великое открытие! Ньютон говорил: «Изобретение большого пальца у человека уже довольно, чтобы заставить меня поверить в Бога». В самом деле, человек — единственное животное, у которого есть большой палец. Даже обезьяна, эта карикатура на человека, — обладательница карикатурного большого пальца.
Но, обнаружив значение большого пальца, его интуиция на этом остановилась. Ему не хватало — и он эго глубоко чувствовал — поддержки со стороны ладони, всю важность которой он понимал.
Упорство изменило ему, он подумал, что сделал уже достаточно. Впрочем, будучи вольтерьянцем, он приходил в ужас от всего, что могло увлечь его по пути мистицизма. Одно слово «кабала» заставляло его пожимать плечами.
Дебароль подхватил эстафету этой науки там, где ее оставил д’Арпантиньи. Он деятельно принялся изучать не только традиции астрологии, но еще и ту самую кабалу, которую так презирал его предшественник. Дебароль считал, что он обнаружил в электричестве всеобщую цепь, соединяющую все миры между собой. Никакая новая система не могла быть мыслима, пока торжествовала Ньютонова пустота. Но с тех пор как было неоспоримо доказано, что пространства заполнены, проще и даже разумнее чего и быть не может, и электричество, представленное эфиром, заставляет миры соприкасаться между собой, стало понятным, что некое всеобъемлющее магнетическое взаимодействие объединяет все сотворенное Богом мироздание.
— Честное слово, — сказал король, полуулыбаясь и полусоглашаясь, — как раз об этом я и спрашивал так долго. Мистицизм, основанный на логике.
В эту минуту вошел лакей и объявил королю, что министр иностранных дел просит разрешения переговорить с его величеством по важнейшим вопросам.
Король обернулся к Бенедикту.
— Сударь, хоть ваши предсказания и мрачны, — сказал он ему, — вы всегда будете желанными у очага того, кому вы их открыли. Вы мне обещали победу. Вот я вам и заказываю уже сегодня картину на эту тему. И если вы останетесь с нами, только вам и решать, будете ли вы сами участвовать в ней. Эрнст, отдайте ваш крест Вельфов господину Бенедикту. Я дам приказ моему министру иностранных дел не далее как завтра подписать вам и свидетельство о праве его носить.
Король обнял сына, пожал руку Каульбаху, сердечно попрощался с Андерсоном и Бенедиктом и удалился, как и вошел, опираясь на руку своего адъютанта.
Молодой принц открепил крест и ленту Вольфов от своего мундира и с радостью прикрепил их к мундиру Бенедикта.
Тот поблагодарил принца с горячей сердечностью, которую придают устам еще молодого и ничем не пресытившегося человека подобные знаки отличия, тем более ценные, что время еще не скупится на них для нас, и их принимают в том возрасте, когда признательность за их получение наполовину смешивается с гордостью.
И поскольку он пылко выражал наследному принцу свою признательность, принц Эрнст ответил ему так:
— Послушайте, пообещайте мне, господин Бенедикт, вот что: если ваше предсказание сбудется и если у вас в виду не откажется никакого более приятного занятия, мы вместе с вами отправимся в одно из таких больших путешествий, когда убивают тигров и слонов и когда едва не погибают от страха, пересекая карликовые леса во время миграции желтых змей.
XV БАРОН ФРИДРИХ ФОН БЕЛОВ
А теперь, с разрешения читателей, нам придется покинуть нашего друга Бенедикта Тюрпена с его набросками, картонами, ружьями и охотничьими историями и последовать за одним из тех трех противников, с кем ему пришлось драться, причем этому его противнику в нашем рассказе отведена важная роль.
Мы хотели бы поговорить о бароне Фридрихе фон Белове, которого мы оставили на поляне Эйленриде вместе с двумя другими искалеченными дуэлянтами — Георгом Клейстом и Францем Мюллером.
Барон фон Белов был наименее пострадавшим из троих, хотя, на первый взгляд, его рана могла бы показаться самой значительной; к тому же он более других спешил оставить поле боя. Как мы уже говорили, он ехал во Франкфурт с поручением, которое на него было возложено, и свернул с дороги, чтобы потребовать у Бенедикта удовлетворения; теперь, едва почувствовав, что у него достанет сил преодолеть дорожные тяготы, он должен был, не теряя ни минуты, выполнить вверенное ему дело.
Журналиста перевязали, и хотя пуля его миновала, соприкосновение дула пистолета с правой частью его лица имело самые пагубные последствия. Отдача была столь сильной, что след от нее образовал синяк как раз в форме пистолета. Кровоподтек сгустился в глазной впадине, а щека невероятно вздулась. Короче говоря, г-н Клейст должен был не менее чем на две недели отказать себе в развлечениях.
Обоих раненых поместили на заднюю скамью кареты. Два секунданта сели спереди. Врач, получив щедрое вознаграждение от г-на барона фон Белова, остался при Франце Мюллере, самом пострадавшем из всех, ибо, несмотря на сделанное ему изобильное кровопускание, он все еще не приходил в сознание.
Когда барон Фридрих фон Белов и г-н Клейст приехали в гостиницу «Королевская», там уже были наслышаны об их злоключениях и о торжестве Бенедикта. То, что оба они были пруссаками, вовсе не составило им рекомендации. Таким образом, они были приняты с легкой насмешкой, что заставило г-на Клейста, как он ни страдал от боли, немедленно сесть в поезд.
Что касается майора, который уже продвинулся на треть по дороге во Франкфурт, то ему оставалось только продолжить ее, тем более что разветвление, которое на ней имеется, берет начало прямо в Ганновере.
В нескольких словах мы уже говорили о том, что представлял собой внешне барон Фридрих; дополним теперь данные нами сведения о нем.
Прежде всего упомянем о той своеобразной дороге, по которой он вступил на путь военной карьеры, и как случилось, что ему, имевшему заслуги, воздалось по заслугам.
Фридрих фон Белов происходил из семьи коренных жителей Бреслау; учился он в Йенском университете. В один прекрасный день он решил, как это принято во всех немецких университетах, отправиться в путешествие по берегам Рейна.
Он отправился один, и не потому, что был нелюдимым, вовсе нет, но он был поэтом, и пожелал путешествовать по своей прихоти, останавливаться тогда, когда сам сочтет это для себя нужным, уезжать, когда самому заблагорассудится, — в общем, он не собирался отправляться налево, влекомый неким спутником, когда ему хотелось пуститься направо вслед за какой-нибудь женщиной.
Так он приехал в самое живописное место на Рейне, туда, где находится Семигорье.
На противоположном берегу, на вершине высокого холма, возвышался великолепный готический замок, только что заново отделанный. Это было владение брата прусского короля, в то время еще только наследного принца. Он не только отстроил замок по старым чертежам, но и полностью обставил его мебелью XVI века, скупленной для этой цели I» окрестностях — как у крестьян, так и в монастырях, а также новой мебелью, сделанной умелыми мастерами по старинным образцам. Обои, ковры, зеркала — все было выдержано в духе времени и образовало в миниатюре чудесный музей старинного оружия, картин и драгоценных диковинок.
Когда принца там не было, благовоспитанным приезжим позволялось посещать замок.
Трудно было бы сказать, что означало это слово благовоспитанность, и Фридрих, происходивший из отменно аристократической семьи, подумал, что, даже странствуя пешком, он, как и любой другой, имел право посетить замок. И он, с рюкзаком за спиной, взобрался по склону, опираясь на окованную железом палку, и беззаботно постучал в ворота донжона.
Послышался звук рожка, и дверь распахнулась. Появились привратник и офицер в платье XVI века, который спросил у пришедшего, что ему угодно.
Фридрих фон Белов, назвавшись археологом, выразил желание посетить замок наследного принца.
Офицер выразил сожаление, что никак нельзя было уступить его желанию: управляющий принца, опередив хозяина всего на сутки, прибыл в замок накануне, и уже было дано запрещение принимать приезжих.
Между тем, однако, путешественника, по здешнему обычаю, попросили записать в книгу посетителей имя, фамилию и звания.
Фридрих взял перо и написал: «Фридрих фон Белов, студент Ленского университета». Затем, взявшись опять за свою окованную железом палку, поклонился офицеру и начал спускаться по склону холма.
Но он не сделал и ста шагов, как услышал, что его позвали. Офицер подавал ему от ворот какие-то знаки, а вслед за ним бежал паж. Управляющий просил его вернуться и, взяв на себя смелость отменить запрет, позволял ему посетить замок.
В прихожей, будто случайно, Фридриху повстречался человек пятидесяти восьми или шестидесяти лет. Это и был управляющий.
Он завязал разговор с молодым человеком, и, видно, разговор этот ему понравился. Он даже предложил провести Фридриха по всему замку в качестве гида, от чего студент, конечно, не отказался.
Управляющий оказался человеком образованным, Фридрих — благовоспитанным, поэтому три-четыре часа их беседы протекли гак, что ми тот ми яругой не успели ‘заметить, как прошло время.
Управляющему объявили, что к столу подано.
К изысканных манерах Фридрих постарался выразить своему чичероне сожаление, что столь незаметно пришло время его покинуть.
Его сожаление явно разделял и сам управляющий.
— Послушайте, — сказал он, — вы путешествуете как студент, я же здесь не более чем слуга. Отобедайте же со мною! Лучше, чем здесь, нам удалось бы пообедать разве что у короля Пруссии, во всяком случае, здешний обед вам больше придется но вкусу, чем еда в гостинице.
Фридрих отказался для видимости, чтобы показать, что он был приличным человеком, и, так как ему очень хотелось дать согласие, то, в конце концов, с видимым удовольствием все-таки сказал «да».
Итак, управляющий и студент пообедали наедине. Фридрих обладал неподражаемым остроумием. Будучи поэтом и одновременно философом, как это встречается только в Германии, он совершенно обворожил гостеприимного хозяина.
После обеда тот предложил партию в шахматы, на что Фридрих дал свое согласие. Управляющий играл превосходно, а Фридрих умел защищаться и был в состоянии выиграть одну партию из трех. Естественно, Фридрих повел себя так, как вполне любезный придворный: из пяти партий он проиграл три; когда пробило полночь, каждый из них все еще думал, что вечер только начинался. В этот час никак уже нельзя было спускаться вниз, в деревню. Для приличия Фридрих отказывался, но все же остался на ночь и спал в кровати ландграфа Филиппа. Только на следующий день, после завтрака, он получил от своего радушного хозяина разрешение отправиться в дорогу.
— Я имею некоторое влияние при дворе, — прощаясь с ним, сказал управляющий, — и, если вы захотите добиться какой-нибудь милости, обращайтесь ко мне.
Фридрих пообещал ему так и поступить.
— Во всяком случае, — прибавил управляющий, — беру на заметку ваше имя. Если даже вы сами забудете обо мне, я вас не забуду.
Фридрих попутешествовал по берегам Рейна, потом вернулся к занятиям в Йенском университете; окончив его, он поступил на дипломатическую службу и был несказанно удивлен, когда однажды его вызвали в кабинет великого герцога.
— Господин фон Белов, — сказал ему великий герцог, — я поручаю вам приветствовать его величество короля Пруссии Вильгельма Первого, только что вступившего на престол.
— Мне, наше высочество! — вскричал удивленный Фридрих. — Но что я представляю собой, чтобы именно на меня было возложено столь леечное поручение?
— Что вы собою представляете? Вы барон Фридрих фон Белов.
— Барон! Я, ваше высочество? А с каких пор я стал бароном?
— С тех самых пор, как я пожаловал вам этот титул. Завтра же, в восемь утра, вы отправитесь в Берлин. К восьми часам ваши верительные грамоты будут готовы.
Фридриху оставалось только поклониться и выразить свою благодарность. Итак, он поклонился, поблагодарил и вышел.
Наутро, в шесть часов, он сел в поезд, а к вечеру уже оказался в Берлине.
Без промедления он попросил объявить о своем приезде новому королю. Новый король передал ему в ответ, что желает видеть его на следующий день в своем Потсдамском дворце.
В назначенное время Фридрих в придворном облачении явился во дворец. Но, к своему великому удивлению, там он узнал, что король только-только уехал, оставив ему для встречи своего управляющего.
Первым решением Фридриха было немедленно вернуться в Берлин, но тут он вспомнил, что управляющим был тот самый человек, который два года тому назад так любезно принял его в замке Рейнштейн. Он побоялся показаться неблагодарным или спесивым и попросил объявить о себе господину управляющему.
И вот, проходя по прихожей, он увидел портрет короля во весь рост. Вздрогнув, он остановился перед ним как вкопанный. Как две капли воды его величество походил на своего управляющего.
Тогда ему открылось истинное положение вещей. Это брат прежнего короля, нынешний король Вильгельм I, принимал его тогда в Рейнштейнском замке, это он послужил ему чичероне и оставил его потом отобедать, выиграл у него три партии в шахматы из пяти, заставил его ночевать в кровати ландграфа Филиппа, предложил ему свою помощь при дворе и, наконец, прощаясь с ним, обещал его не забыть.
Фридрих понял и то, почему великий герцог Веймарский избрал его посланником, чтобы приветствовать прусского короля, почему великий герцог Веймарский сделал его бароном, почему король дал ему аудиенцию в Потсдаме и почему, наконец, его величество, только что отбыв и Берлин, оста пил на снос го управляющею заботу заменить ею.
Его величество пожелал доставить себе удовольствие провести еще один день, подобный тому, какой выдался им в их рейнштейнскую встречу.
Как подобает любезному придворному, а он им и был, Фридрих приложил все силы, чтобы соответствовать этой королевской фантазии. Не подавая вида, что он о чем бы то ни было догадывался, Фридрих приветствовал управляющего как старого знакомого, выказав ему ту меру уважения, которую требовала разница в их возрасте и стремление возобновить приятное знакомство, оставившее в его памяти столь доброе воспоминание.
Управляющий извинился за его величество, пригласил Фридриха провести в Потстдамском дворце день, на что Фридрих согласился, как он это сделал в Рейнштейне. Как и тогда, управляющий служил Фридриху гидом, а затем проводил его вниз, в мавзолей, и показал ему могилу и шпагу Фридриха Великого.
Придворная карета в полной упряжке ожидала их. Они отправились осмотреть замок Сан-Суси, располагавшийся всего в двух километрах от Потсдама.
Всякий помнит, что именно в парке этого замка находилась та знаменитая мельница, которую мельник когда-то ни за что не захотел продать королю Фридриху II, выиграв процесс против короля. «В Берлине еще есть судьи!» — говорили тогда. Впрочем, потомки свирепого мельника смягчились нравом и продали-таки свою мельницу королю Фридриху Вильгельму IV, и тот, желая сохранить ее в качестве памятного места действия анекдотической истории, приказал, чтобы ни один ее камень никогда не был тронут.
Но время, которое не заботят королевские приказы, явило королю Вильгельму I и его гостю наглядный пример своего непослушания. Всего только за час перед приездом Фридриха и мнимого управляющего в замок Сан-Суси четыре лопасти мельницы оборвались и рухнули на окружавшие ее перила.
Таким образом, сегодня в Берлине нет больше судей, а в Сан-Суси — мельницы.
По возвращении в Потсдам Фридрих и его спутник нашли стол накрытым на два прибора. Они пообедали с глазу на глаз, сыграли пять партий в шахматы, из которых управляющий выиграл три, а Фридрих две, и только к полуночи, когда пришло время расстаться, управляющий пожелал спокойной ночи Фридриху, и тот, склонившись в глубоком поклоне, ответил:
— Государь! Да пошлет Бог доброй мочи и вашему величеству!
Можно догадаться, что на следующий день этикет был восстановлен должным образом. За завтраком король пожаловал Фридриху орден Красного Орла и настойчиво убедил его испросить отставку и поступить к нему в армию. Через неделю Фридрих был принят лейтенантом в пехотный полк и в своем новом чине прибыл представиться королю, который, став королем, обещал не забывать его, как он не забыл о нем, пока был наследным принцем…
Через два года Фридрих получил доказательство тому, что король и в самом деле его не забыл. Его полк был направлен гарнизоном во Франкфурт, и Фридрих познакомился у бургомистра, г-на Фелльнера, со старинной семьей, происходившей от французских беженцев времен отмены Нантского эдикта и с тех пор принявшей католичество.
Семья эта состояла из матери тридцати восьми лет, шестидесятивосьмилетней бабушки и двух девушек: старшей было двадцать, а младшей — восемнадцать.
Все они звались госпожами де Шандроз.
У Эммы — старшей из девушек — были черные волосы, черные глаза и матовый цвет лица, красивого изгиба брови, а ровные чудесные жемчужины зубов сверкали в обрамлении ярко-красных губ. В общем, это была красота брюнетки, обещающей, став матерью семейства, превратиться в римскую матрону — Лукрецию и Корнелию вместе взятые.
Имя Елены, младшей сестры, говорило само за себя. Она была прелестная блондинка — ее волосы можно было сравнить только с цветом спелых колосьев.
Цвет ее лица — белый, слегка окрашенный розовым — свежестью и изяществом был подобен цветку камелии. И можно было просто удивляться, когда под этими светлыми косами и на этом белокожем лице вдруг раскрывались темные, полные страсти глаза, а над ними — дуги черных бровей и кружево черных ресниц, которые придавали ее сиявшим зрачкам темный отсвет черных триполийских бриллиантов. Так же как в Эмме можно было угадать будущую мудрую и спокойную матрону, одну из тех, из кого католическая религия сделала бы святую, в Елене угадывалось все то бурное будущее, что обещают страсти таким женщинам смешанной крови, соединяющим в себе красоту двух разных рас.
Толи ему показалось странным такое проявление божественной прихоти в младшей девушке, то ли он сразу почувствовал симпатию к привлекшей его старшей из сестер, но именно ей барон фон Белов воздал должное. Он был молод, красив, богат. Известно было, что король Пруссии относился к нему с благоволением и приязнью. Фридрих утверждал, что, если ему отдадут руку Эммы, то it тог же миг он получит от своего царственного покровителя чин капитана. Оба, он и она, полюбили друг друга, и у семьи не возникло ни малейшей причины противиться такому союзу. Ему ответили: «Станьте капитаном, и тогда посмотрим». Он отпросился на три дня в отпуск, поехал в Берлин, повидался с королем и на третий день возвратился в чине капитана.
Все пришло в согласие. Только во время его отсутствия мать Эммы неожиданно почувствовала себя нездоровой. Нездоровье усилилось, проявилось грудной болезнью, и через полгода Эмма уже стала круглой сиротой.
Это явилось еще одной причиной того, что семье требовался защитник и покровитель. Бабушка, которой было шестьдесят девять лет, могла умереть в любую минуту. Они выждали строго необходимое время траура — и того, что заключается в сердцах людей, и того, что положен по обычаю. Через полгода состоялось бракосочетание.
Через три дня после рождения своего первенца барон Фридрих фон Белов получил от короля чин майора. На этот раз покровительство короля проявилось столь явно и столь благосклонно, что барон решился на второе путешествие в Берлин, и теперь уже не для того, чтобы испрашивать чины, а с целью поблагодарить короля. Эта поездка оказалась в высшей степени своевременной, ибо записка секретаря его величества предупреждала Фридриха, что готовятся великие события, в которых барон мог бы сыграть значительную роль, и неплохо бы ему под тем или другим предлогом явиться в Берлин и повидаться с королем.
В самом деле, мы ведь уже говорили, до какой крайней точки г-н фон Бёзеверк довел события в стране. Король трижды принял барона Фридриха с глазу на глаз и ничего не скрыл от него из положения вещей, связанного с грядущей ужасной войной. В конце концов он прикомандировал Фридриха к штабу армии, с тем чтобы тот смог стать адъютантом того или иного генерала, которого король направит на тот или другой театр военных действий, и даже, при необходимости, адъютантом собственного сына его величества или его двоюродного брата.
Таким образом, 7 июня, в день, когда было совершено покушение на г-на фон Бёзеверка, барон Фридрих находился как раз в Берлине. В числе трех прусских офицеров, как мы уже видели, он вырвал Бенедикта из рук толпы, но при этом пообещал этой самой толпе, что Бенедикт крикнет «Да здравствует Пруссия! Да здравствует король Вильгельм!». Он, как и его друзья, был сильно обескуражен, когда француз, вместо того чтобы проявить ту совсем маленькую трусость, принялся декламировать стихи Альфреда де Мюссе, точно так же известные всей Пруссии, как и та песня, на которую они явились ответом.
Подобного рода разочарование, свидетелем чему была толпа, показалось оскорбительным и ему, и его товарищам по оружию. Все три офицера затем появились в «Черном Орле» (как мы знаем, Бенедикт назвал этот свой берлинский адрес), и ярость их отнюдь не прошла, когда Берлин достигло объявление в «Новой ганноверской газете». Все трое пообещали незамедлительно отправиться в Ганновер и потребовать у Бенедикта удовлетворения.
Но, встретившись с одним и тем же намерением, они поняли, что если они не хотят ограничиться только устрашением, то не должны просить удовлетворения все сразу против одного. Тогда они кинули жребий, кому из них сразиться с Бенедиктом, и жребий пал на Фридриха.
Дальнейшее нам известно.
XVI ЕЛЕНА
Во Франкфурте-на-Майне, в районе Росс-Маркта, рядом с Большой улицей, напротив протестантской церкви, что сохранила за собою имя святой Екатерины, стоит дом, построенный в архитектурном стиле переходного периода от эпохи Людовика XIV к эпохе Людовика XV.
Дом назывался Пассван. В нижнем этаже его жил книготорговец Житель, а остальную часть дома занимала семья Шандроз (ее мы уже знаем хотя бы и по фамилии).
В доме царило не то чтобы настоящее беспокойство, но некоторое волнение. Накануне утром баронесса фон Белов получила письмо от мужа, уведомлявшего ее о своем приезде к вечеру. Затем, почти тотчас же, телеграммой она была извещена, что ей следует ждать мужа только к утру и нисколько не тревожиться, если и это произойдет с некоторым опозданием.
Дело в том, что двумя часами позже в газете появилось объявление Бенедикта, и Фридрих, на случай дурного исхода дуэли или ранения, хотел избавить жену от бесполезных волнений, принимая во внимание ее положение: она родила лишь семь-восемь дней назад.
Хотя поезд прибывал только к четыре часа утра. Гаме, доверенный слуга и доме, уже и три часа отправился с каретой встречать господина барона на вокзал. Между тремя и четырьмя часами Эмма раз десять успела позвонить своей горничной, удивляясь тому, как медленно тянется время.
Наконец прогремели колеса кареты, заскрипели на петлях ворота, коляска проехала под сводом, и вот на лестнице послышался громкий топот сапог со шпорами, дверь в спальню Эммы отворилась — и барон бросился в объятия своей супруги.
Легкое болезненное движение мужа, когда Эмма прижала его к себе, от нее не ускользнуло. Она спросила, что с ним случилось, и Фридрих рассказал ей выдуманную историю про перевернувшийся кабриолет и отнес свое мимолетное движение на счет вывиха в предплечье, — последствие этого несчастного случая.
По шуму кареты и оживлению в доме Елена поняла, что ее зять приехал.
Она наскоро завернулась в батистовый пеньюар и с распущенными в ночном беспорядке прекрасными волосами прибежала обнять зятя, которого она нежно любила. Что касается бабушки, графини де Шандроз, то ее внукам настойчиво советовали поменьше шуметь и по возможности не беспокоить ее в том отдаленном крыле дома, где она жила.
Госпожа фон Белов со свойственной женщинам интуицией, увидев невольное движение Фридриха, поняла, что его ранение, должно быть, гораздо серьезнее, чем он хотел в этом признаться. Она первой стала настаивать на том, чтобы послали за домашним врачом, г-ном Боденмакером.
По боли, которую он испытывал, Фридрих и сам понимал, что тряска на железной дороге должна была сбить повязку на его ране, и не стал противиться желанию жены; он только попросил ее нисколько не беспокоиться, пока он примет у себя в спальне ванну, которую он приказал приготовить. Таким образом, хирург, придя к ним, найдет его в ванной комнате и ему не будет ничего легче, чем вправить на свое место ту из его двухсот восьмидесяти двух костей, что оказалась смещенной в суставе.
Важно было скрыть от баронессы серьезность раны Фридриха, однако с помощью Ганса сделать это было легко: врач объявит о вывихе, растяжении и на этом все разговоры будут исчерпаны.
Оказавшаяся очень кстати ванна чудесным образом послужила на пользу хитростям Фридриха, и баронесса согласилась отпустить мужа в его комнаты; при этом у нее не '«пролилось никакого подозрения насчет истинной причины его поспешного ухода туда.
К кед и кому удивлению Ганса, как только пришел врач, Фридрих объявил, что накануне получил улар саблей, раскроивший ему руку по всей длине, что повязку растрясло во время поездки в поезде, так что и повязка, и рукав рубашки, и рукав мундира слиплись, пропитавшись кровью.
Врач начал с того, что скальпелем принялся разрезать рукав мундира по всей его длине, затем он отделил его от проймы и, наконец, приказал Фридриху смочить руку с прилипшей к ней тканью в теплой воде ванны, что позволило сначала снять рукав мундира, а потом при помощи губки, поливая сверху водой, отделить рукав рубашки таким же способом, каким только что был снят рукав мундира; затем, отрезав по кругу у плеча материю, полностью оголили руку.
Сдавленная рукавом, рука оказалась в ужасном состоянии — она опухла и покраснела. Пластырь съехал, рана опять раскрылась по всей длине, и в глубине ее даже можно было разглядеть кость.
Фридриху посчастливилось, что здесь была ванна с теплой водой, да еще в таком количестве, о каком можно было лишь мечтать. Оба края его раны, оставаясь свежими, казалось, только и просили, чтобы их соединили. Врач сблизил их во второй раз, перевязал руку по всей длине и наложил лубки, как при переломе. Однако требовалось, чтобы барон пребывал в состоянии полного покоя и в течение двух-трех дней не двигался. Врач взял на себя труд пойти и по секрету сообщить генералу, командовавшему прусским гарнизоном во Франкфурте, что барону фон Белову крайне необходимо поговорить с ним, но у него нет возможности выйти из дома.
Ганс убрал окровавленное белье и окрасившуюся кровью воду. Фридрих спустился, обнял баронессу и вполне ее успокоил, сказав, что доктор ограничился тем, что прописал ему отдых на несколько дней. Известие о вывихе лучевой кости пронеслось по дому и научным словом обозначило, как нужно было понимать нездоровье Фридриха; а тот, вернувшись к себе в комнату, обнаружил там прусского генерала.
Офицеры поняли друг друга с двух слов. Впрочем, в самом скором времени газеты должны были рассказать об известных читателям событиях. Поэтому весь вопрос состоял в том, каким образом помешать правде достичь ушей баронессы. Вывих ее обеспокоил, но ранение повергло бы в отчаяние.
Фридрих передал депеши генералу. Пока они содержали только уведомление о необходимости быть готовыми выступить из города. Было ясно, что г-н фон Бёзеверк, от которого исходил приказ, хотел иметь там гарнизон на время заседания Сейма, чтобы влиять на пего, а затем, в зависимости от обстоятельств, забрать оттуда войска или же оставить их там.
А перед Сеймом, в самом деле, уже вставал следующий вопрос: «В случае войны между Австрией и Пруссией, с какой из двух держав вы будете?»
С одной из своих домашних Фридрих повидался только мельком, и теперь он очень спешил опять встретиться с ней: это была сестра Елена, которой он собирался сообщить самые важные новости. С тех пор как прямо на месте дуэли он и Бенедикт поклялись друг другу в нерушимой дружбе, а в особенности после того, как Бенедикт сказал ему, что познакомился с баронессой у бургомистра Фелльнера, ему в голову запала неотвязная мысль — женить Тюрпена на свояченице.
По тому, что ему удалось заметить в молодом человеке и о нем узнать, он уверил себя: эти два пылкие характера, полные фантазии и артистизма, всегда готовые взлететь по солнечному лучу или на крыльях благоуханного дуновения ветерка вслед за полетом их мечтаний, определенно были существами, созданными друг для друга. Соответственно, ему захотелось знать, не заметила ли Бенедикта и сама Елена. Если она его уже заметила, то под каким-нибудь предлогом он заманит его во Франкфурт, их знакомство возобновится, и тогда, стоит только Елене пожелать, чтобы ее обожали, это знакомство вырастет в то самое, чего Фридрих и добивался.
Кроме того, именно Елене он хотел поручить присмотреть, чтобы ни единая газета не проникла к ее сестре и к их бабушке, а для этого ему было совершенно необходимо посвятить Елену в историю с дуэлью.
Елена сама шла навстречу его желаниям. Только генерал вышел, как в дверь тихо постучали. И в этой манере отвечать: «Это я!» — было нечто от кошки и нечто от птички.
Фридрих узнал изящную и нежную ручку Елены.
— Иди скорее, сестричка, иди! — крикнул майор.
И Елена вошла на цыпочках.
Фридрих лежал в халате, на левом боку, а раненую руку вытянул вдоль тела.
— Ах так, господин шалопай! — сказала она, скрестив на груди руки и смотря на него. — Ну, и что мы теперь будем делать?
— Мы? — смеясь, сказал Фридрих.
— Да, теперь, когда вы в моей безраздельной власти, посмотрим, кто кого!
— Вот именно, кто кого, дорогая Елена, как ты и сказала. Никто ведь не сомневается, и ты не больше других, что ты в доме — сильная личность. Так вот, именно с тобой и нужно разговаривать о важном, а у меня множество важных новостей, и я должен тебе их рассказать.
— И у меня тоже. Прежде всего, я беру, что называется, быка за рога. Рука у вас вовсе не вывихнута и сухожилия не растянуты. Вы дрались на дуэли как глупый сорвиголова, каковым вы и являетесь, и вас ранили в руку то ли шпагой, то ли саблей.
— Ну что ж, сестричка, кот как раз к этом я и хотел тебе признаться. В самом деле, я дрался из-за политики. Я получил удар саблей по руке, удар от друга, очень красивый, великолепно нанесенный, и вдобавок опасности в нем никакой — не затронуты ни артерии, ни нервы. Дело это попадет в газеты, ибо уже наделало и еще наделает много шума. Нужно помешать тому, чтобы газеты, к которых станут об этом писать, попали бы на глаза бабушке и Эмме.
— Мы ведь получаем одну-единственную «Крестовую газету».
— Именно эта газета, по всей вероятности, выдаст больше всего подробностей.
— И ты смеешься!
— Не могу не думать о физиономии того, кто их будет давать.
— О чем ты?
— Ничего, я говорю сам с собой. А то, что я себе говорю тихим голосом, не стоит повторять громко. Значит, речь идет о том, чтобы ты подстерегала «Крестовую газету».
— Хорошо! Подстережем.
— Обещаешь?
— Обещаю.
— Теперь, значит, мне больше не придется ни опасаться этого, ни заниматься этим.
— Я же тебе сказала, что это мое дело.
— Тогда, если хочешь, поговорим о другом.
— Поговорим о чем тебе угодно!
— Ну так кот! Помнишь ли ты, что встречалась у бургомистра Фелльнера с молодым французом, художником, живописцем?
— С господином Бенедиктом Тюрпеном? Я полагаю, что это очаровательный человек: за минуту он делает набросок и рисует женщин более красивыми, чем они есть, сохраняя при этом сходство.
— О-о! Какое воодушевление!
— Я тебе покажу один набросок, который он сделал с меня. Он пририсовал мне крылья, так что я похожа на ангела.
— Так у него есть талант?
— Огромный.
— А ум?
— Наличествует, даю тебе слово, да! Если бы ты видел, как он оставил к дураках наших банкиров, когда они пытались пошутить над ним. Он говорил по-немецки лучше, чем они.
— И он к тому же богат?
— Говорят, да.
— Кроме тою, мне кажется, что его характер невероятно походит на характер одной маленькой девчушки, моей знакомой.
— О ком это ты? Я не понимаю.
— Тем не менее это одна из твоих знакомых. По-моему, господин Бенедикт Тюрпен — фантазер, капризный, непредсказуемый, он обожает путешествовать, прекрасный наездник, любитель и псовой и пешей охоты, и все это, мне кажется, полностью входит в привычки некой Дианы Вернон.
— А я всегда думала, что ты меня называешь Дианой Вернон.
— Да, тебя, ты разве не узнала себя в моем портрете?
— Честное слово, нет! Меньше всего я думала о себе. Я же мягкая, спокойная, ровная. Я люблю путешествовать. Но где я побывала? В Париже, в Берлине, в Вене и в Лондоне. Вот и все. Я люблю лошадей, но никогда на них не садилась, кроме как на мою бедную маленькую Гретхен.
— Которая два раза тебя чуть не убила!
— Бедное животное! Это я ошиблась. Что касается пешей охоты, то я никогда не держала в руках ружья, а что касается псовой охоты, то я никогда не преследовала даже зайца.
— Да, но кто во всем этом тебе препятствовал? Бабушка! Если бы тебе только дать волю…
— О! Признаюсь, должно быть, очень приятно галопом нестись навстречу ветру, чувствовать, как он вьется у тебя в волосах. В скорости есть свое особое удовольствие, ощущение жизни, и такого ни в чем другом не находишь.
— Короче говоря, ты хотела бы делать все то, чего ты не делаешь?
— О! Признаюсь, да!
— С господином Бенедиктом?
— С господином Бенедиктом? Почему же с ним скорее, чем с другим?
— Да потому что он приятней многих.
— Не нахожу.
— Правда?
— Да.
— Как! Если среди всех мужчин, ч то я знаю, тебе позволили бы выбрать мужа, ты не выбрала бы господина Тюрнена?
— Да у меня бы и мысли такой не возникло.
— Ну, погоди, ты знаешь, сестричка, что у меня трезвый ум, и я люблю во всем отдавать себе отчет. Как же так получается, что молодой человек, красивый, богатый, талантливый, мужественный, к тому же фантазер, тебе не нравится, и в особенности если у него имеется часть достоинств и недостатков, составляющих основу твоего собственного характера?
— Что тебе ответить? Не знаю. Я не анализирую своих чувств. Такой-то мне приятен, такой-то безразличен, и такой-то просто противен.
— По крайней мере, ты не относишь господина Тюрпена к разряду противных, надеюсь?
— Нет, но к разряду безразличных.
— Но, наконец, как и почему он тебе безразличен?
— Господин Бенедикт — среднего роста, а я люблю мужчин высоких; он блондин, а я люблю, чтобы мужчина был брюнет; он легкомыслен, а я люблю мужчин серьезных. Он дерзкий смельчак и постоянно разъезжает по всему свету. Он будет мужем всех других женщин и не станет даже любовником своей собственной жены.
— Но подумаем вместе: чтобы тебе понравиться, каким же надо быть?
— Полной противоположностью господину Бенедикту.
— Итак, высокого роста?
— Да.
— Брюнет?
— Брюнет или шатен.
— Степенный?
— Степенный или, по крайней мере, серьезный. Наконец, смелый, домоседный, верный.
— Хорошо, но, знаешь ли, это же вылитый портрет моего друга капитана Карла фон Фрейберга.
Яркая краска залила лицо Елены; она сделала быстрое движение, чтобы встать и выйти.
Несмотря на ранение, Фридрих удержал ее за руку и снова усадил.
Затем, при первых лучах дневного света, скользнувшего в комнату сквозь занавески и заигравшего на лице Елены, словно луч солнца на цветке, Фридрих пристально посмотрел на нее.
— Хорошо, да. — сказала ома, — но никто этого не знает, кроме тебя.
— Даже он сам?
— Он, может быть, догадывается.
— Хорошо, сестричка моя, — сказал Фридрих, — во веем этом я не вижу большой беды. Наклонись, обними меня, и мы поговорим об этом потом.
— Но как же получается, — вскричала Елена с обидой, — тебе ничего не говорят, но ты знаешь все, что тебе хочется знать?
— Да ведь сквозь хрусталь все видно, пока он остается чист! Дорогая моя Елена! Карл фон Фрейберг — мой друг, у него есть все качества, которые я мог бы пожелать себе иметь в свояке и которые ты могла бы захотеть найти в муже. Если он тебя любит, как ты его, верно, любишь, не вижу больших трудностей для того, чтобы ты стала его женой.
— Ах! Дорогой мой Фридрих, — сказала Елена, качая своей прелестной головой из стороны в сторону, — я слышала от одной француженки, что замужества, не вызывающие трудностей, не складываются.
И Елена ушла к себе в комнату, чтобы, конечно же, помечтать о трудностях, которые судьба могла бы наслать на ее замужество.
XVII ГРАФ КАРЛ ФОН ФРЕЙБЕРГ
Когда-то прежде существовала Австрийская империя, которая при Карле V недолгое время господствовала над Европой и над Америкой, над Восточной Индией и над Западной Индией.
С высоты Далматских гор она смотрела, как вставало солнце, с высоты Андийских Кордильер она взирала, как солнце садилось. Когда его последний луч исчезал на западе, его первый луч загорался на востоке.
Эта империя была больше империи Александра Македонского, больше империи Августа, больше империи Карла Великого.
И эта империя растаяла в руках прожорливого времени. Франция оказалась грозным воином, сумевшим часть за частью сбросить доспехи с колосса.
Себе самой она взяла у нее Фландрию, герцогство Бар, Бургундию, Эльзас и Лотарингию.
Для внука короля Людовика XIV она взяла у нее Испанию, обе Индии и острова.
Для сына короля Филиппа V она взяла у нее Неаполь и Сицилию.
Она взяла у нее Нидерланды, чтобы из них сделан» два отдельных королевства — Бельгию и Голландию.
Наконец, она взяла у нее Ломбардию и Венецию, чтобы отдать их Италии.
Сегодня пределы этой империи, внутри которых три века тому назад солнце не исчезало с наступлением ночи, таковы: на западе — Тироль, на востоке — Молдавия, на севере — Пруссия, на юге — Турция.
Нет человека, который бы не знал, что Австрии как таковой просто нет, а есть герцогство Австрийское со столицей Веной, и включает оно в себя девять-десять миллионов австрийцев.
Именно один из австрийских герцогов в 1192 году взял в плен Ричарда Львиное Сердце, когда тот возвращался из Палестины, и отпустил его только за выкуп в двести пятьдесят тысяч золотых экю.
Все пространство, занимаемое на карте нынешней Австрийской империей, не считая герцогства Австрийского, ее ядра, состоит из Богемии, Венгрии, Иллирии, Тироля, Моравии, Силезии, Хорвато-Славонского королевства, Сербской Воеводины, Темешварского Баната, Трансильвании, Галиции, Далмации и Штирии.
Мы не стали упоминать о четырех-пяти миллионах румын, рассеянных по Венгрии и берегам Дуная. Каждый из этих народов отличается своеобразным нравом, своими обычаями, языком, одеждой и характерным внешним видом. В особенности это отличает Штирию, состоящую из Норика и древней Паннонии. Жители ее сохранили свой первоначальный язык, одежду и нравы. Перед тем как Штирия попала под австрийское господство, она имела свою собственную историю и свою знать, уходящие корнями в эпоху, когда эта земля была возвышена до ранга Штейерской марки, то есть к 1030 или 1032 годам. Именно с тех самых времен и ведет свое начало семья Карла фон Фрейберга, и ему удалось остаться большим аристократом и по состоянию, и по манере говорить, и по манере себя вести в нынешние времена, когда такие аристократы встречаются все реже и реже.
Карл фон Фрейберг был красивым молодым человеком лет двадцати шести или двадцати восьми, высокого роста, стройным, худощавым, гибким как тростник и как тростник упругим. У него были прекрасные черные коротко подстриженные волосы — таковы требования мундира, — и, имеете с тем, мол черными бронями и ресницами те славянские глаза, которые Гомер приписывает Минерве и которые ей я ют как изумруды.
Лицо у него было загорелое, так как молодой человек с детства был увлечем охотой; зубы были белые и острые; губы — презрительно поджатые; руки и моги — небольшие. Неутомимый ходок, он обладал изумительной силой. В своих родных горах он охотился на медведей, каменных баранов и серн. Но никто не смог бы сказать, что, нападая, раня и убивая первого из этих животных, он держал в своей руке что-нибудь иное, кроме копья или кинжала.
Служа капитаном в гусарском полку Лихтенштейна, даже во время пребывания в нем, он держал при себе двух тирольских охотников, одетых в свои национальные костюмы: пока один из них отправлялся выполнить приказания Карла фон Фрейберга, другой оставался при нем, так что всегда можно было сказать, обращаясь к слуге: «Сделайте то-то!» Хотя оба охотника знали немецкий, Карл всегда разговаривал с ними только на их родном языке. Они были его крестьянами и, ровным счетом ничего не смысля во всех идеях рабства и освобождения от него, держались за своего господина и не сомневались в том, что он имеет право распоряжаться их жизнью и смертью.
Много раз он пытался просветить их на этот счет и говорил им, что они свободные люди, но они никогда не соглашались не только поверить этому, но даже слушать подобное.
Тремя годами ранее, во время охоты на серну один из его телохранителей поскользнулся и упал в пропасть, на дне которой потом нашли его разбитое тело.
Граф приказал своему управляющему выдать вдове погибшего тысячу двести франков ренты. Вдова поблагодарила графа Карла фон Фрейберга, но даже не поняла, почему он был ей что-то должен, ведь ее муж погиб у него на службе.
Когда граф Карл охотился (тот, кто пишет эти строки, имел честь два раза охотиться вместе с ним), было ли это в его родном краю или нет, на нем всегда был штирийский костюм: высокая и заостренная фетровая шляпа с зеленой бархатной лентой шириной в пять пальцев, под которую продевается в виде султана хвост глухаря; из грубого серого сукна куртка с зеленым воротом и зелеными обшлагами; того же сукна серые штаны, доходящие только до верхней части колена; наконец, кожаные гетры, спускающиеся на сандалии и натягивающиеся до нижней части колена, надетые на зеленые шерстяные чулки; таким образом штаны и гетры оставили свободным коленный сустав». У этих диких горцев, которым иногда приходится делать по двадцать и двадцать пять льё во время охоты, эта часть тела, как бы ни было холодно, всегда оставалась открытой. Мне доводилось видеть, как при десяти градусах граф направлял нашу охоту в течение пяти-шести часов, и ни он сам, ни его люди даже не замечали этой оголенности колена.
Мы говорили, что два тирольских охотника никогда не покидали графа ни на охоте, ни где бы то ни было еще. В их задачу входило заряжать ружья; они следовали за ним, и всякий раз, когда ружье у него оказывалось незаряженным, граф ронял его, и тотчас его люди вкладывали ему в руку другое, заряженное, готовое для выстрела.
Поджидая, пока загонщики будут расставлены по местам, на что всегда уходит с полчаса, двое тирольцев вытаскивали из своих ягдташей маленькие штирийские флейты, сделанные из тростника, и принимались — то вместе, то каждый, исполняя свою партию, но всегда после некоторого количества тактов соединяясь вновь, — выводить грустные штирийские напевы, нежные и жалостливые мелодии. Продолжалось это обычно несколько минут, а потом, будто графа самого неодолимо притягивали эти звуки, он тоже, в свою очередь, вынимал из охотничьей сумки совершенно такую же флейту, какие были в руках у обоих его слуг, и подносил ее к губам. С этой минуты именно он вел мелодию, двое других только поддерживали, изобретательно аккомпанируя ему, и их фантазии казались мне импровизацией, настолько они были своеобразны.
Этот аккомпанемент слетал с их губ сразу вслед главному мотиву и, соединяясь с ним, обволакивал его, как плющ или садовый вьюнок; затем опять вырывался отдельный мотив, всегда обворожительный, всегда полный печали и достигавший столь высоких нот, что можно было подумать, будто только серебро или хрусталь могли так звучать. Но вдруг раздавался выстрел. Это начальник загонщиков давал знать: все стоят на местах и охота началась. Тогда все трое музыкантов отправляли на место свои флейты в охотничьи сумки и, опять взявшись за ружья, насторожив слух и зрение, вновь становились охотниками.
Облаченный именно в охотничий наряд, в котором он был по-настоящему красив, граф Карл постучал в одиннадцать часов утра в дверь барона фон Белова, о чьем возвращении, а также о несчастном случае, приключившемся с ним, ему только что стало известно.
Не приходится и говорить, что оба штирийца сопровождали его и остались в прихожей.
Фридрих принял его еще приветливее, чем обычно, с широкой улыбкой на лице, он протянул ему левую руку.
— Ах, нот как! Значит, это правда, о чем я только что прочел в «Kreuz Zeitung»?
— И что же вы прочли, дорогой Карл?
— Прочел, что вы дрались с неким французом и были ранены.
— Тише! Не так громко! Для домашних я не ранен, а просто вывихнул руку.
— Так что же это значит?
— А то, мой дорогой, что баронесса не попросит показать ей руку, если та просто вывихнута, но раненую руку непременно пожелает осмотреть сама. А моя рана, которой вы, дорогой граф, только позавидуете, уверен в этом, заставит баронессу умереть от страха. Часто ли вам приходилось видеть раны в тридцать пять сантиметров длиной? Могу показать вам такую у себя!
— Как! Вы, такой ловкий, вы, владеющий шпагой так, словно сами ее и выдумали?..
— Так вот, да, я нашел себе учителя.
— Француза?
— Француза!
— Вместо того чтобы отправиться на охоту на кабана, которого я собирался потревожить завтра поутру в Таунусе, я с большим удовольствием поохочусь на этого самого француза и принесу вам одну из его лап взамен вашей собственной.
— Ни в коем случае не делайте ничего подобного, дорогой мой, ибо вы только рискуете получить хороший шрам вроде моего; да потом, этот француз стал мне другом, и мне больше хотелось бы, чтобы он стал и вашим другом.
— Никогда! Моим другом? Этот бойкий парень, который раскроил вам кожу на целых… сколько вы говорите? На целых тридцать пять сантиметров?
— Он легко мог меня убить, но не сделал этого. Он мог разрубить меня пополам, а ограничился лишь тем, что порезал. Мы с ним обнялись прямо на поле боя. Вы прочли о других подробностях этого происшествия?
— О каких других подробностях?
— Да относительно двух других дуэлей — с господином Георгом Клейстом и Францем Мюллером.
— Пробежал глазами. Из всех троих я же знал только вас и забеспокоился только по вашему поводу. Мне показалось, что он только слегка попортил челюсть какому-то господину, пишущему статьи к «Kreuz Zeitung», и чуть нс убил it кулачном бою какого-то чудака по имени Франц Мюллер. Он, значит, подбирал себе противников среди доенных, законников и простолюдинов, раз в один день дрался с офицером, журналистом и столяром?
— Не он нас выбирал, это мы имели глупость выбрать его. Мы отправились искать ссоры с ним в Ганновер, где он спокойно пребывал. Похоже, ему становится скучно, когда люди его беспокоят: меня он отправил домой с повязкой на руке, господина Клейста — с синяком под глазом, а Франца Мюллера оставил на поле боя, измолотив его ударами. Это оказалось для него легче всего.
— Значит, этот малый — Геркулес какой-то?
— Меньше всего на свете — вот что самое любопытное. Ростом он на голову ниже вас, дорогой мой, но сложен, видите ли, как у Альфреда де Мюссе — Гасан, которого мать сделала совсем крошечным, чтобы он лучше получился.
— И вы обнялись на поле боя?
— И даже больше того, так как на обратном пути я еще кое-что задумал.
— Что же?
— Это ведь француз, вы знаете?
— Из хорошей семьи?
— Дорогой мой, со времен революции тысяча семьсот восемьдесят девятого года они все из хороших семей. У него большой талант.
— Как у учителя фехтования?
— Нет, нет, нет! Талант художника. Каульбах назвал его надеждой живописи. Он молод.
— Молод!
— Честное слово! Двадцать пять или двадцать шесть лет, не более того. Красив.
— И красив тоже?
— Очарователен. Двенадцать тысяч ливров ренты.
— Фи!
— Не у всех бывает по двести тысяч ливров дохода, как у вас, дорогой мой друг. Двенадцать тысяч ливров дохода и превосходный талант — это уже составит пятьдесят — шестьдесят тысяч ливров дохода.
— Но по какому поводу вы сделали все эти подсчеты?
— Я возымел желание женить его на Елене.
Граф подскочил на стуле:
— Как! Женить его на Елене? Вашей свояченице? Француза?
— Но разве она сама не французских кровей?
— Мадемуазель Елена слишком вас любит, уверен в том, чтобы выйти замуж за человека, приведшего вас в то состояние, в котором вы пребываете. Надеюсь, она отгадала?
— Да, клянусь!
Граф перепел дух.
— Но какого черта нам пришла в голову мысль выдавать та него замуж нашу сестру?!
— Она только моя свояченица.
— Не важно, повторяю: что за мысль выдавать свояченицу замуж вот так, за первого встречного, попавшегося вам на дороге?
— Уверяю вас, что этот малый не первый встречный, я…
— Неважно, она ведь откатала, так? Это самое главное.
— Я еще надеюсь с ней поговорить.
— Да вы с ума сошли!
— В конце концов, что у нее за причина отказывать? Спрашиваю об этом у вас.
Граф Карл покраснел до корней волос.
— Если только она не любит кого-нибудь другого! — прибавил Фридрих.
— Вы не допускаете возможности такого предположения?
— Да нет, но, в конце концов, если она любит кого-нибудь, пусть скажет…
— Послушайте, дорогой Фридрих, со своей стороны, я не могу утверждать, что она кого-то любит, но зато могу с уверенностью сказать вам, что кто-то любит ее.
— Тогда уже полдела сделано. А этот кто-то стоит моего француза?
— Ах! Дорогой Фридрих, вы так настроены в пользу вашего француза, что я даже не осмеливаюсь сказать вам «да»!
— Скорее говорите! Вы же видите, что могло случиться, если бы я привез сюда моего француза и связал бы себя обещанием по отношению к нему.
— Хорошо, в конце концов, вы же не выставите меня за это за дверь. Ну хорошо, этот кто-то — я сам!
— Вы всегда скромны, искренни и преданны, дорогой Карл, но…
— Но?.. Не допускаю никаких «но».
— Это не страшное «но», вы увидите. Но вы ведь слишком важный вельможа, дорогой мой Карл, для моей сестренки Елены!
— Я последний в семье, и никто не будет напоминать мне об этом.
— Вы слишком богаты для девушки с приданым в двести тысяч франков!
— Я никому не обязан давать отчет в моих собственных средствах.
— Потому я высказал эти соображения прямо вам.
— И вы находите их очень серьезными?
— Признаюсь, что соображения против будут еще более серьезными.
— Остается узнать, любит меня Елена или не любит.
— Это такое обстоятельство, по поводу которого сведения вы можете получить сей же миг.
— Как это?
— Я пошлю за ней: чем раньше объяснишься, тем лучше.
— Фридрих!
Граф побледнел так же, как минутой раньше он покраснел.
Затем дрожащим голосом он сказал:
— Не сейчас, во имя Неба! Попозже…
— Мой дорогой Карл…
— Фридрих!
— Считаете ли вы меня своим другом?
— Великий Боже!
— Так вот, разве вы могли подумать, что я устрою вам испытание, из которого вы выйдете печальным и несчастным?
— Что вы говорите?
— Говорю, что у меня есть некоторая убежденность.
— В чем?
— Да, Господи Боже мой! В том, что вас любят так же, как любите вы сами.
— Друг мой, вы сведете меня с ума от радости.
— И раз вы боитесь завязать с Еленой разговор в таком роде, езжайте себе на охоту в Таунус, убивайте там кучу кабанов и возвращайтесь. А она все узнает.
— От кого?
— От меня.
— Фридрих, я не еду.
— Как вы не едете? А ваши люди, которые ждут вас здесь со своими флейтами?
— Они подождут, Фридрих!
Граф встал на колени перед кроватью барона, молитвенно сложил руки.
— Что вы, черт возьми, делаете?
— Вы же видите, я благодарю вас, ибо счастлив до слез.
Фридрих посмотрел на него с улыбкой счастливого и благоденствующего человека, когда он видит, что и его друг близок к счастью.
В эту самую минуту раздался шум открывающейся двери и на пороге появилась Елена.
— Елена! — вскричал Карл.
— Но что вы здесь делаете, стоя на коленях перед кроватью моего брата? — спросила девушка, остановившись на пороге.
— Он ждет тебя, — ответил Фридрих.
— Меня?
— Подойди сюда.
— Боже мой! Ничего не понимаю.
— И все же подойди.
Карл приподнялся на одно колено и, протянув руку Елене, сказал:
— О мадемуазель! Сделайте то, что говорит ваш брат, умоляю вас.
Вся дрожа, Елена послушалась.
— Ну вот, — сказала она, — вот я тоже на коленях, что дальше?
— Дай-ка свою руку Карлу, дай, он у тебя ее не отнимет.
В замешательстве девушка протянула руку.
Карл схватил ее и приложил к своему сердцу.
Елена вскрикнула.
Робкий, как ребенок, Карл отпустил руку.
— О! — воскликнула Елена. — Вы не причинили мне боли!
Карл живо опять схватил руку, которую перед этим отпустил.
— Брат, — сказал Фридрих, — разве ты не сказал мне, что на сердце у тебя секрет, который ты хотел бы доверить шепотом Елене?
— Ода! — вскричал Карл.
— Ну вот и хорошо, я не слушаю.
Карл наклонился к уху Елены, и нежные слова «Я люблю вас!», слетев с его губ, скользнули а воздух тихим шелестом, словно одна из тех ночных бабочек, что весенним вечером, пролетая мимо, говорит вам на ухо о вечном секрете природы.
— О Фридрих! Фридрих! — взволнованно произнесла Елена, опустившись лбом на край кровати. — Так я не ошибалась!
Затем, поскольку Карл нетерпеливо ждал, когда же она, наконец, поднимет свой лоб от кровати, чтобы он мог приложить к нему губы, Фридрих спросил ее:
— Что ты делаешь?
— Молюсь, — ответила она.
И, подняв голову и раскрыв опять свои прекрасные глаза, полные неги, она произнесла:
— И я тоже люблю вас!
— Фридрих, Фридрих! — воскликнул Карл, вставая и прижимая Елену к своему сердцу, — скажи, когда я смогу умереть за тебя?
XVIII БАБУШКА
Фридрих дал возможность молодым людям предаваться их счастью, а потом, поскольку они посматривали на него, как бы спрашивая: «А что же теперь нужно делать?» — сказал:
— Елена, пойди расскажи старшей сестре о том, что сейчас произошло. Она расскажет об этом бабушке, а бабушка, которая доверяет мне совершенно, придет поговорить об этом со мной, и вместе мы все уладим.
— И когда же я должна пойти поговорить об этом со старшей сестрой? — спросила Елена.
— Да сейчас же, если хочешь.
— Побегу! Вы меня подождете, правда, Карл?
Улыбка и жест Карла ответили вместо него.
Елена выскользнула из рук Карла и улетела как птичка.
— Теперь мы одни! — сказал Фридрих.
— И что же?
— А то, что у меня найдется кое-что тебе сказать.
— Важное?
— Серьезное.
— Это имеет отношение к свадьбе?
— Да.
— Ты меня пугаешь.
— А что если утром, когда ты еще сомневался в том, любит ли тебя Елена, тебе сказали бы: «Успокойся, Карл, Елена любит тебя, она станет твоей женой, но есть непреодолимое препятствие к тому, чтобы это совершилось раньше, чем через год»?
— Чего ты хочешь? Я пришел бы в отчаяние от отсрочки, но самому сообщению очень обрадовался бы.
— Так вот, друг мой, вечером я скажу тебе то же, что уже сказал утром. Елена тебя любит, она не поручала мне это говорить, она сама тебе это сказала, однако возникает непреодолимое препятствие для вашей свадьбы, в особенности сейчас.
— Но ты объяснишь, по крайней мере, что же это такое за препятствие?
— То, что я сейчас тебе скажу, Карл, это еще один секрет. Через неделю, а самое большее через две Пруссия объявит войну Австрии.
— А, именно этого-то я и опасался! Этот Бёзеверк — злой гений для Германии.
— Так вот, ты понимаешь, конечно, что, будучи друзьями, мы можем оказаться в двух противоположных лагерях, такое встречается каждый день, а вот свояками мам уже становиться нельзя, и ты не можешь стать мне с ноя ком особенно в го самое время, когда тебе нужно браться за шпагу и воевать против меня.
— Ты уверен в том, что говоришь?
— Вне всяких сомнений, я в этом уверен. Этот человек поставил себя в такое положение перед Палатами, он поставил короля в такое положение перед остальными германскими государями, что теперь нужно, чтобы либо все перевернулось от Берлина до Пешта и даже до Инсбрука, либо был устроен суд над ним и он закончил свои дни в заключении в какой-нибудь крепости. Однако, благую или злую, этот человек являет собой силу — темную, если тебе угодно. Его не будут судить, и он перевернет всю Германию, потому что от суда над ним Пруссии ничего не заполучить, а вследствие переворота в Германии ей удастся добыть два-три небольших королевства или герцогства, которые дополнят собою прусскую территорию.
— Но против него выступит Союз.
— А ему все равно, только бы самому остаться все так же необходимым. Послушай же то, что я тебе говорю: чем больше у Пруссии будет врагов, тем больше она станет сражаться. Наша армия организована в настоящее время как ни одна европейская армия.
— Ты говоришь «наша армия», ты, что же, теперь стал пруссаком? Лично я считал тебя немцем.
— Со времен Фридриха Второго силезский немец — это пруссак. Я всем обязан королю Вильгельму и дам убить себя за него, хотя и глубоко сожалея о том, что дело его неправое.
— Но что же ты посоветуешь мне?
— Ты штириец, стало быть, австриец. Сражайся как лев за австрийского императора, а если случится, что мы с тобою встретимся в какой-нибудь кавалерийской атаке, то в знак приветствия взмахнем друг другу саблей; ты пустишь свою лошадь направо, я свою — налево, только не давай себя убить, вот и все, и мы подпишем твой свадебный контракт в тот самый день, когда будет подписан мирный договор.
— Увы! И в самом деле, у меня нет другого выхода, если только нам обоим не выпадет удачи и нас не оставят во Франкфурте как в нейтральном и вольном городе. Признаюсь, я не чувствую в себе большой охоты сражаться с немцами. Такая война — единственная в своем роде. Ах! С турками, французами или русскими — пожалуйста! Но с детьми одной и той же страны, говорящими на одном и том же языке!.. Уверяю тебя, здесь мой патриотизм кончается.
— Тебе придется отказаться и от этой последней надежды остаться но Франкфурте. Я сам привез приказ прусскому генералу подготовить войска к выступлению. Если Пруссия отзывает свои войска, Австрия, уж конечно, отзовет и свои. Во Франкфурте останется баварский гарнизон, или же в городе будет оставлен один свой собственный франкфуртский батальон; но совершенно точно, что каждый из нас будет вынужден в конце концов присоединиться к армии.
— Бедная дорогая Елена! Что же мы скажем ей, когда она придет?
— Мы скажем, что ваша свадьба — дело решенное, что, в соответствии с обычаями, вас обручат и через год вы поженитесь. Если же, вопреки всем моим предсказаниям, война не разразится, вы женитесь тотчас же. Если война начнется — такая война, как эта, долго не протянется. Это будет буря, гроза, которая приходит и все переворачивает, а потом затихает. Я устанавливаю срок в полной уверенности, что другой отсрочки назначать не придется. Елене восемнадцать лет — ей будет девятнадцать. Тебе двадцать шесть — будет двадцать семь. Эта отсрочка не окажется связана с обстоятельствами, которые надо придумывать. Ее требуют подлинные обстоятельства. Уступим же им.
— Ты даешь мне слово, что ничто не заставит тебя изменить мнение на мой счет и что начиная с сегодняшнего дня, с двенадцатого июня, я твой свояк по уговору?
— Такая честь мне слишком дорога, чтобы я от нее отрекался. Начиная с сегодняшнего дня, с двенадцатого июня, по уговору я твой свояк.
— Вот и госпожа фон Белинг!
Это восклицание вырвалось у Карла при неожиданном появлении пожилой дамы в черном, с прекрасными, белыми как снег, волосами. Должно быть, раньше она была совершенной красавицей, а сейчас от всего ее существа исходила величавая благожелательность и изысканность.
— Как? Это вы, мой дорогой Фридрих? — спросила она, улыбаясь. — Вы уже здесь с пяти часов, и только в два часа пополудни меня извещает ваша жена, что вы приехали, да еще нездоровым.
— Дорогая бабушка, — ответил Фридрих, — прежде всего мне известно, что вы не просыпаетесь раньше одиннадцати и не встаете раньше полудня.
— Да, но у вас вывих, как мне сказали. А у меня есть три великолепных лекарства против вывихов; один способ лечения особенно превосходен и известен мне от моего старого друга Гёте; второй — от моей старинной подруги г-жи Шрёдер, а третий — от барона фон Гумбольдта. Как видите, все три мои лекарства получены из хороших рук.
Затем, обратившись к Карлу, который с поклоном придвигал ей кресло, она сказала:
— Господин фон Фрейберг, у вас-то нет вывиха, поскольку и вижу, что вы надели охотничий костюм. Ах! Вы не знаете, что в вашем штирийском костюме вы напоминаете мне мои молодые годы. Первый раз, когда я увидела господина фон Белинга, моего мужа, — тому уже вроде как пятьдесят два года, а произошло это в тысяча восемьсот четырнадцатом году, на костюмированном балу, который давался в Средопостье, — он был одет в такой же костюм, как на вас теперь.
Он был тогда вашего возраста. Среди бала — помню, словно это было сегодня, — объявили новость о высадке этого проклятого Наполеона. Стали говорить о том, что если он опять поднимется на трон, то нужно будет всем вместе начать войну с ним, а каждая из нас, юных девушек, выбрала себе рыцаря и позволила ему носить свои цвета во все время кампании, которая вот-вот должна была начаться. Я поступила, как другие, и выбрала господина фон Белинга в качестве своего рыцаря, хотя в глубине сердца, будучи француженкой, ибо я оставалась француженкой во всем, что касалось моих чувств, я не могла слишком уж сердиться на человека, сделавшего Францию такой великой страной.
Так вот, моя шутка по поводу назначения господина фон Белинга моим рыцарем, носящим мои цвета, открыла ему двери нашего дома. Он говорил, что не желал бы быть моим рыцарем без разрешения моих родителей. Мои родители разрешили ему стать им. А Наполеон опять взошел на трон.
Господин фон Белинг обязан был присоединиться к своему полку, но до этого он попросил у моей матери моей руки. Моя мать посоветовалась со мною. Я его любила.
Было условлено, что по его возвращении с войны мы поженимся. Кампания не затянулась, и, когда господин фон Белинг вернулся, мы поженились, хотя в глубине души я на него слегка сердилась за то, что он способствовал, в числе трехсот тысяч других людей, свержению с трона моего героя. Но я никогда ему не призналась в этой маленькой своей неверности, моем воодушевлении в пользу Наполеона, и от этого семья наша ничуть не пострадала.
— Дорогая бабушка, — спросил Фридрих, — а господин фон Белинг, которому, наверное, отменно шел костюм штирийца, я же видел его портрет, случайно не вставал на колени, когда просил милости стать вашим кавалером?
— Конечно, вставал, и даже очень изящно, — сказала пожилая дама, при этих воспоминаниях сразу очень помолодев.
— Даже изящнее, чем мой друг Карл?
— Как это изящнее нашего друга Карда? Разве наш друг Кард стоит передо мною на коленях, неужели?
— Посмотрите!
Госпожа фон Белинг обернулась и увидела, что Карл и в самом деле нетал перед ней на колено.
— О! Бог мой! — сказала пожилая дама, смеясь. — Разве я, сама того не заметив, помолодела на целых… пятьдесят лет?
— Моя дорогая матушка, — сказал Фридрих, пока Карл завладевал рукой пожилой дамы, — нет, нам нее те же семьдесят лет, и нам они слишком идут, чтобы я стал нас щадить, убавляя нам хотя бы один год, но ног мой друг Карл, который тоже отправляется на войну, просит разрешения быть рыцарем вашей внучки Елены.
— Ах? Неужели! А моя внучка Елена разве уже достигла возраста, когда можно иметь своего рыцаря?
— Ей восемнадцать, бабушка.
— Восемнадцать лет! Как раз в этом возрасте я вышла замуж за господина фон Белинга, это возраст, когда листья отрываются от дерева и летят по ветру жизни. Если ее час настал, — продолжала она с печальной улыбкой, — пусть тоже улетает, как это делают другие!
— О! Никогда, никогда, бабушка! — вскричала девушка, войдя на цыпочках. — Никогда я не уйду так далеко, чтобы не иметь возможности каждый день касаться вашей доброй дорогой руки, что во всех нас влила жизнь!
И она встала на колени по другую сторону от Карла и взялась за другую бабушкину руку.
— А! — воскликнула тогда г-жа фон Белинг, покачивая головой сверху вниз. — Вот, оказывается, почему меня просили подняться! Меня заманили в ловушку! Ну и что теперь от меня требуется? Как вам хочется, чтобы я защищалась? Сдаться немедленно было бы вовсе неловко, это имело бы вид мольеровской развязки.
— Хорошо, не сдавайтесь, бабушка, не сдавайтесь или поставьте им ваши условия.
— Какие?
— Чтобы обручение произошло, когда угодно, но чтобы свадьба, например, состоялась бы, как и ваша, только после окончания войны.
— Какой войны? — с беспокойством спросила Елена.
— Мы тебе это скажем позже. А пока Карл в качестве твоего рыцаря будет носить твои цвета. У тебя какие цвета?
— У меня только один цвет, — сказала Елена, — зеленый.
— Тогда, — сказал Фридрих, показывая на друга, на шляпе которою была широкая зеленая лента, а на мундире порот и обшлага тоже были зелеными, — он уже носит твой цвет.
— И, чтобы оказать честь моей невесте, — сказал Карл фон Фрейберг, вставая, — еще сто человек будет носить его со мною имеете, и так же как я.
Обо всем тут же было условлено без промедления, и все с Фридрихом во главе, в том числе г-жа фон Белиш под руку с Карлом, спустились к прекрасной роженице, чтобы и ей объявить эту добрую весть.
В топ же вечер было получено сообщение, что собрание Сейма назначалось во Франкфурте на 15-е число того же месяца.
XIX ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ
Между тем пришло время сказать несколько слов о городе, где произойдут главные события истории, которую мы взялись описать.
Франкфурт — один из значительных городов Германии не только потому, что в нем много жителей, и не только потому, что в нем процветает торговля, но по своему политическому положению, ибо он является местом заседаний имперского Сейма.
Всякий день люди слышат слова, становящиеся привычными, причем часто даже не подозревают, что они означают.
Скажем в двух словах, каковы функции имперского Сейма.
На Сейм возложена обязанность следить за тем, как развиваются общие дела в Германии, и стараться утихомирить разногласия, которые могут возникать между входящими в Союз государствами. Председателем в Сейме всегда является представитель Австрии. Решения этого собрания носят название рецессов. Сейм, существующий с самых старых времен, сначала не имел определенного местопребывания: он собирался то в Нюрнберге, то в Регенсбурге, то в Аугсбурге. Наконец, 9 июня 1815 года, актом Венского конгресса, Франкфурт был объявлен местом собраний Сейма Германского Союза.
По новой конституции, жители Франкфурта имеют право на четверть голосов в Сейме, другие три четверти принадлежит трем другим мольным городам — Гамбургу, Бремену и Любеку.
В знак признательности за такой почет Франкфурт обязан поставлять семьсот пятьдесят человек в армию Германского Союза, а и годовщину Лейпцигской битвы стрелять из пушки. Претворение в жизнь этого последнею обязательства сначала встретило некоторые трудности. Дело в том, что у вольного города с 1808 года не было больше внешних укреплений, ас 1813 года не было больше пушек. Но тогда постарались использовать возникший в городе первый порыв воодушевления и объявили сбор средств дли покупки городу двух четырехфунтовых пушек; и с 1814 года огнем и дымом в установленный день Франкфурт обязан Священному союзу.
Что касается укреплений, то по этому поводу вопроса больше не возникает. Вместо старых крепостных стен и илистых рвов франкфуртцам довелось увидеть, как, подобно изящному и благоуханному поясу, город охватил со всех сторон прекрасный и раскидистый английский парк, позволяющий обходить город, прогуливаясь под великолепными деревьями и по усыпанным песком дорожкам. И ныне Франкфурт, с его домами, окрашенными в белые, фисташковые и розовые тона, походит на огромный букет камелий, обрамленный вереском. Могила мэра, которому город обязан такого рода благоустройству, высится теперь среди этих прелестных парковых лабиринтов, и горожане со своими семьями заполняют их каждый день к четырем-пяти часам пополудни.
Город Франкфурт (тевтонское название его означает «Франкский брод») ведет свое начало от императорского замка, построенного по приказанию Карла Великого в том самом месте, где Майн можно перейти вброд. Первое упоминание по этому поводу, которое можно найти в исторических документах, — это дата церковного собора, созванного там в 794 году, того самого собора, на котором обсуждался вопрос о культе икон. Что касается дворца Карла Великого, то от него не осталось и следа; однако археологи утверждают, что он стоял точно в том месте, где позже была выстроена церковь святого Леонарда.
Должно быть, около 796 года Карл Великий основал колонию Саксенхаузен — из саксов, которых он перед этим завоевал и приказал крестить.
В 822 году Людовик Благочестивый построил здесь, на месте нынешнего Залхофа, замок Зал, а в 828 году у города Франкфурта уже был свой суд и свои крепостные стены.
В 853 году Людовик Немецкий возвел город до ранга столицы Восточного Франкского королевства, расширил сю, приказал выстроить церковь Спасителя, основал около нее осеннюю ярмарку, тем самым следуя обычаям торговцев, испокон веков любивших располагать свои ланки вокруг церквей и храмов.
Обычай выбирать императоров во Франкфурте начался со времен великой Швабской династии, при одном упоминании о которой в уме возникает целый мир образов, страшных и печальных. В 1240 году император Фридрих II выдал охранные грамоты всем, кто хотел посетить франкфуртскую ярмарку. Император Людовик Баварский, желая, чтобы избрание его было признано, проявил любовь к городу и дал ему большие привилегии, в числе которых было право устраивать двухнедельную ярмарку во время поста и называть ее Пасхальной ярмаркой.
Император Гонтран фон Шварценбург, поддержанный сенатом и гражданами Франкфурта, умер там 14 июня 1349 года, как говорят, от отравления. Его противник, Карл IV, пожаловал Франкфурту подтверждение права быть местом, где избирались императоры Священной Римской империи германской нации, что было вписано в Золотую буллу, провозглашенную в 1356 году, и заложил основы свободного городского управления во Франкфурте, продав городу должность reichsschultheissen[21].
Эта булла представила императору Наполеону случай доказать, что он обладал превосходной памятью. Однажды, во время Эрфуртской встречи, когда он сидел за столом вместе с дюжиной государей, разговор случайно коснулся Золотой буллы, служившей вплоть до утверждения Рейнского союза положением об избрании императоров. Князь-примас, почувствовав себя на своей почве, стал вспоминать некоторые подробности, связанные с этой буллой, дату которой он отнес к 1409 году.
— Думаю, вы ошиблись, господин князь, — сказал Наполеон. — Эта булла, если мне не изменяет память, была провозглашена в тысяча триста пятьдесят шестом году, во время правления императора Карла Четвертого.
— Ваше величество правы, — сказал примас, тоже вспомнив эту дату, — но как же получилось, что вы сумели так сохранить в памяти дату обнародования какой-то буллы? Если бы это была дата какого-нибудь сражения, я бы меньше удивился.
— Хотите, я открою вам секрет такой памяти, раз она вас удивляет, господин князь? — спросил Наполеон.
— Ваше величество доставит нам тем самым огромное удовольствие.
— Так так, — продолжал император, — знайте же, что, когда я был младшим лейтенантом а артиллерии…
От такого начала именитые гости а изумлении зашевелились, проявляя столь заметное любопытство, что Наполеон на миг прервал себя.
Но, заметив, что тотчас же все замолчали, приготовившись его слушать, он заговорил опять, улыбаясь:
— Так вот, я говорю, что, когда я имел честь быть младшим лейтенантом а артиллерии, мне пришлось целых три года сидеть а гарнизоне а Балансе. Мало любя светский образ жизни, я жил очень уединенно. По счастливой случайности, я поселился как раз напротив образованного и крайне любезного книготорговца по имени Марк Аврелий. Этот превосходный человек отдал весь свой магазин а мое распоряжение. Я читал и перечитывал по два, по три раза книги из его библиотеки, пока жил в главном городе департамента Дром, и из того, что я прочел в то время, ничего не забыл, даже даты обнародования Золотой буллы.
Словно флорентийцы при Монте-Аперто, где они проиграли ту знаменитую битву, что, по словам Данте, окрасила Арбию в красный цвет, жители Франкфурта 12 мая 1339 года тоже проиграли битву — у Эшборна — против рыцарей из Кронберга и пфальцграфа Рупрехта. Их мэр, Винтер Ваземский, и их капитан, Руль Швейнсхеймский, были взяты там в плен вместе с шестьюстами гражданами города. Сто франкфуртских граждан полегли на поле битвы. Пленных выкупили за 73 000 золотых флоринов.
Тридцатилетняя война тоже привела в некоторое смятение имперский город, и, несмотря на сопротивление Сената, король Густав Адольф вошел в город 17 ноября 1631 года и оставил там слабый гарнизон из шестисот человек, которых только в 1635 году Ламбуа удалось выгнать из Саксенхаузена.
Так, с переменным успехом, Франкфурт управлялся как муниципально-имперский город вплоть до того самого момента, когда после бомбардирования французами во время революционных войн он в одно прекрасное утро был отдан под управление князю-примасу Карлу Дальбергу и превратился в столицу Великого герцогства Франкфуртского.
Самое интересное здание во Франкфурте — это бесспорно Рёмер, большое строение, где находится зал Курфюрстов, сегодня используемый для заседаний Верховного сената города Франкфурта, и зал Императоров, где императоров провозглашали. Одна из особенностей этого зала, в котором выставлены портреты всех императоров, от Конрада до Леопольда II, состоит в том, что архитектор, создавший этот зал, сделал там как раз столько ниш, сколько в будущем оказалось монархов, носивших императорскую корону. И получилось так, что, когда был избран Франц II, все ниши в зале были уже заняты и их не хватило для нового цезаря. Тут поднялся великий спор, стали выяснять, куда же поместить его портрет, но а 1805 году старая Германская империя рухнула под грохот пушек Аустерлица, и тем самым придворные вышли из весьма затруднительного положения.
Таким образом, архитектор сумел точно предугадать число императора, которых нужно было там разместить: сам Нострадамус не сумел бы сделать это лучше.
От Конрада до Фердинанда I, то есть от 911 до 1556 года, коронация происходила а Ахене. В 1564 году, с Максимилиана II, началась череда императора, избиравшихся во Франкфурте. С того же времени этот зал стал служить для церемонии провозглашения императора и назывался Kaisersaal[22].
Тогда и возникла первая мысль установить в нишах, устроенных одна за другой вдоль стен, портреты всех немецких цезарей, избранных и коронованных после угасания рода Карла Великого, и оставить свободные ниши для будущих цезарей.
А к тому времени тридцать шесть императоров уже были коронованы в Ахене. Когда к ним прибавился император Максимилиан, на будущее там осталось всего восемь пустых ниш. Этого, конечно же, было мало. Но этого хватило! В 1794 году сорок пятый император Германии занял сорок пятую нишу в Императорском зале. Это был последний император: как только все ниши зала заполнились, Германская империя рухнула.
«Сей безвестный архитектор, — говорит Виктор Гюго в своей книге о Рейне, — оказался самой судьбой. Этот таинственный зал с сорока пятью углублениями явился самой историей Германии, которой после угасания династии Карла Великого суждено было иметь не более сорока пяти императоров.
Здесь, в этом вытянутом огромном зале, холодном и полутемном, в одном из своих углов, заставленном мебельным хламом (среди которого мне удалось заметить обтянутый кожей стол курфюрстов), едва освещенном только с восточного своего конца пятью узкими и неодинаковыми окнами, что пирамидально устремлены в направлении к внешнему щпицу меж четырех высоких стен, которые испещрены стершимися фресками; здесь, под деревянным сводом с когда-то позолоченными нервюрами, в одиночестве и полумраке, напоминающем о начале забвения, представленные грубо раскрашенными бронзовыми бюстами на подставках (на них начертаны две даты — начала и конца каждого из царствований), одни в лавровых венках, словно римские цезари, другие в германских коронах, — в молчании смотрят друг на друга, каждый в своей темной нише, три Конрада, семь Генрихов, четыре Оттона, один Лотарь, четыре Фридриха, один Филипп, два Рудольфа, один Адольф, два Альбрехта, один Людовик, четыре Карла, один Венцеслав, один Роберт, один Сигизмунд, два Максимилиана, три Фердинанда, один Матвей, два Леопольда, два Иосифа, два Франца — сорок пять призраков: на протяжении девяти веков, с 911 по 1806 год, они прошествовали через мировую историю с мечом святого Петра в одной руке и державою Карла Великого в другой».[23]
После церемонии, происходившей в кафедральной церкви святого Варфоломея, более известной под простым названием Собора, вновь избранный император в сопровождении курфюрстов шел в городскую ратушу, то есть в Рёмер, и поднимался в большой зал, чтобы видеть, как завершатся церемонии, принятые в подобном случае, и участвовать в них.
Трирский, майнцский и кёльнский курфюрсты помешались у первого окна, если смотреть слева направо.
Император в парадном облачении, с императорской мантией на плечах, с короной на голове, со скипетром и державой в руках, помешался у второго окна.
У третьего окна был балдахин, под которым находились архиепископ и духовенство.
Четвертое окно предназначалось для послов от Богемии и Пфальца.
Пятое — для саксонского, бранденбургского и брауншвейгского курфюрстов.
В ту минуту, когда в окнах появлялась эта сиятельная ассамблея, вся площадь взрывалась криками и приветствиями.
Эта площадь (мы постараемся представить ее вам такой, какой она бывала в подобный день) заслуживает особого описания.
В самой ее середине досками огораживалось пространство, где целиком зажаривали быка.
По одну сторону от этой кухни находился фонтан; над ним высился двуглавый орел, из одного его клюва лилось красное вино, из другого — белое. С другой стороны, на три фута высоты, возвышалась груда овса.
Когда нее окна оказывались занятыми, когда император, архиепископ и курфюрсты занимали места в соответствии со споим положением, раздавался звук трубы, и главный конюший выезжал верхом, пускал спою лошадь до самой подпруги понес, наполнил им серебряную меру, опять поднимался н зал и подносил эту меру императору.
Это означало, что конюшни наполнены кормом.
Потом второй раз звучала труба, и главный стольник выезжал верхом, наполнил вином два кубка — один красным, другой белым — и подносил их императору.
Это означало, что погреба полны вином.
Затем в третий раз раздавался звук трубы, и главный резальщик выезжал верхом, отрезал кусок от бедра зажаренною быка и подносил его императору.
Это означало, что кухни его процветали.
Наконец, в четвертый раз раздавался звук трубы — выезжал верхом главный казначей; в руке он держал мешок, в котором были смешаны серебряные и золотые монеты, и бросал эти серебряные и золотые монеты народу.
Это означало, что казна полна.
Шествие главного казначея служило сигналом к началу сражения: его вели между собой люди из народа, расхватывавшие овес, вино и бычатину. Обычно мясникам и погребщикам первым позволялось осаждать и захватывать кухню, причем голова быка считалась самой почетной добычей в драке. Победа считалась за той партией, которой удавалось захватить именно голову. И еще сегодня погребщики показывают в дворцовых погребах, а мясники на своем рынке головы, которые их предки отвоевали в приснопамятные дни коронаций.
После Рёмера одна из самых интересных городских достопримечательностей Франкфурта — Еврейская улица. Во времена, когда автор этих строк посетил Франкфурт в первый раз, то есть тридцать лет тому назад, во Франкфурте еще были и евреи и христиане, но настоящие евреи, ненавидевшие христиан, как Шейлок, и настоящие христиане, ненавидевшие евреев, как Торквемада.
Эта улица состоит из двух рядов черных домов, темных, высоких, мрачных, узких, стоящих бок о бок и словно прижимающихся друг к другу от страха. Тогда, правда, была суббота, и торжественность этого дня еще более усиливала печальный вид улицы. Все двери были закрыты: маленькие боковые двери, сделанные так, чтобы пропускать единовременно только одного человека. Все железные ставни тоже были закрыты.
Внутри домов не слышно было никакого шума — ни голосов, ни движения, ни шагов, ни дыхания. Испуг и настороженность словно расползлись по фасадам всех этих домов. Один-два раза я видел, как мимо пробегали, понятно, вечером, боязливые кошки, проскальзывая из-под одной двери под другую; я видел, как появлялась в одном из проходов и исчезала в другом какая-нибудь красивая девушка, которая не могла, разумеется, воспротивиться желанию посмотреть на меня, а вернее, обратить внимание на себя.
Время от времени, составляя с нею явный контраст, показывалась пожилая женщина с совиным носом — она шла словно привидение, проходила мимо меня и удалялась или скорее исчезала в каком-нибудь подвале этой странной улицы.
Сегодня все это несколько цивилизовалось, и даже сами дома явно приняли более оживленный и более обжитой вид.
Население Франкфурта — это прежде всего исконные жители города, которые образовывали патрициат старого вольного имперского города, провозглашенного Золотой буллой городом коронования. Главные семьи его таковы:
1) семьи барона Хольцхаузена, барона Гидеррода, Бетмана;
2) французские семьи, прибывшие во Франкфурт после — отмены Нантского эдикта; благодаря своему уму и предприимчивости, они образуют, так сказать, высшую ступень общества; среди них мы назовем семьи Фей, Гонтар, Бернус, Люттерот;
3) итальянские семьи; у них память об общем происхождении оказалась более крепкой, чем религиозные верования, и они, будучи католиками, смешались и объединились более всего с французскими протестантскими семьями. Это, скажем, семьи Брентано, Борньи и Бролонгаро.
Наконец, вся еврейская община, которая собирается вокруг дома Ротшильдов как вокруг семьи местного и неоспоримого происхождения.
Все это население привержено Австрии, ибо именно от Австрии оно получило свое особое положение, источник своей независимости и своего богатства.
Все классы, разделенные по национальностям, языкам и религиозным верованиям, объединены обшей любовью к дому Габсбургов, той любовью, что, возможно, не дошла до преданности, но на словах, по крайней мере, доходит до фанатизма.
В связи с Франкфуртом нужно упомянуть и об его предместье Саксенхаузене, расположенном по другую сторону Майна, то есть о саксонской колонии, основанной еще Карлом Великим; ее обитатели, живя вместе, переженились между собой и сохранили кое-что от крутою права древних саксов. Этот их крутой нрав на фоне прогресса всех современных языков и сторону учтивости стал выглядеть для нас проявлением грубости, но такой, за которую их умственные способности как бы не к ответе.
В основном это за ними числятся соленые словечки, а иногда даже и остроумные: ими слабый сражается с сильным.
Вот два примера относительно характера людей из Саксенхаузена.
Как обычно, к маю, то есть в период, когда тает снег, река Майн выходит из берегов. Великий курфюрст Гессенский собственной персоной приезжает в эти места, чтобы убедиться в том, каков уровень поднявшейся воды и какой она может причинить ущерб.
Он встречает одного из франкфуртцев с другого берега.
— Ну как, — спрашивает он того, — Майн все продолжает подниматься?
— Э! Подлюга ты слабоумный, — отвечает ему тот, к кому он обратился, — ты что, сам посмотреть не можешь?
И старый саксонец удалился, пожимая плечами.
Один из его приятелей подскочил к нему.
— Знаешь, с кем ты сейчас говорил? — спросил он.
— Нет.
— Так вот, это гессенский курфюрст!
— Гром и молния! — воскликнул старый саксонец. — Как же я доволен, что ответил ему вежливо!
Во время театрального представления один из таких молодцов навалился на соседа спереди, и тот подвинулся.
— Я вас стесняю? — спросил он у него. — А то если бы вы стеснили меня, знаете ли, я дал бы вам такую затрещину, что вы запомнили бы ее на всю жизнь.
Известно, что франкфуртский гарнизон с 1815 года состоит из двух полков в полторы или две тысячи каждый, одного — австрийского, другого — прусского.
Как мы уже сказали, жители Франкфурта обожают австрийцев, а пруссаков ненавидят в равной степени, если не больше.
Один прусский офицер показывал нескольким друзьям достопримечательности Франкфурта.
Они пришли в Собор.
Там, среди разных обычных приношений по обету, изображающих то сердца, то руки, то ноги, ризничий, который был из Саксенхаузена, показал посетителям серебряную мышь.
— О, что же это?
— Однажды кара Небесная, — отвечал ризничий, — обрушилась на целый франкфуртский квартал, заполнив ею мышами, и те принялись асе там истреблять. Напрасно из других кварталов туда снесли всех кошек, терьеров, бульдогов и других животных, пожирающих мышей, — ничто не помогало. Тогда одна набожная дама придумала выход: она заказала сделать серебряную мышь и посвятила ее Деве Марии, будто приношение по обету. Через неделю все мыши исчезли.
И так как это предание повергло тех, кто его выслушал, в некоторое удивление, пруссак сказал:
— До чего они, глупые, эти франкфуртцы! Рассказывают небылицы, да еще верят в них!
— Мы рассказываем их, — сказал ризничий, — но не верим в них. Если бы мы в них верили, давно бы уже поднесли Деве Марии серебряного пруссака.
Мы помним, что наш друг Ленгарт, кучер Бенедикта, был родом из Саксенхаузенской колонии.
XX ОТЪЕЗД
Вслед за шлезвиг-гольштейнской историей Сейм во Франкфурте был созван 9 июня, то есть на следующий день после того, как чуть было не убили г-на фон Бёзеверка, а Бенедикт провозгласил тост за Францию. Узнав о мобилизации ландвера и роспуске Ландтага и стараясь, чтобы Франкфурт не пострадал как вольный имперский город в событиях, которые несомненно должны были воспоследовать с началом войны между Пруссией и Австрией, Сейм издал указ, предписывавший прусскому и австрийскому гарнизонам покинуть город, а баварскому гарнизону — занять их место.
Бавария и вольный город Франкфурт пришли к согласию в отношении того, чтобы Бавария назначила начальника гарнизона, а Франкфурт — коменданта города. Начальником гарнизона был назначен баварский полковник Лессель, который в течение долгих лет был представителем Баварии в союзной военной комиссии, а комендантом города стал подполковник франкфуртского линейного батальона.
Вывод прусских и австрийских войск назначили на 12 июня, и было решено, что пруссаки отбудут в шесть и в восемь часов утра двумя специальными железнодорожными составами полиции Майн-Везер и направлении Вецлара, а австрийцы покинут город в тот же день, но в три часа пополудни.
Девятого июня новость распространилась по городу и явилась причиной, как это можно понять, отчаяния в доме семьи Шандроз. Эмме предстояло расстаться с мужем, Елене — с женихом.
Мы говорили, что пруссаки уезжали первыми.
В пять часов утра Фридрих обнял жену, ребенка, юную Елену и добрую бабушку. Было еще слишком рано, чтобы к подобный час Карлу фон Фрейбергу можно было попасть в дом, но он ждал друга на Цейле. Накануне было условлено между ним и Еленой, что, проводив Фридриха, Карл придет на свидание с нею в небольшую католическую церковь Нотр-Дам-де-ла-Круа.
Между обоими молодыми людьми, таким образом, и в вопросах веры царило полное согласие. Елена и Карл, хотя и рожденные в двух разных странах, которые удалены одна от другой на сотни льё, были католики.
Для отъезда пруссаков из города не случайно назначили столь ранний час, ибо общеизвестно было, сколь малую симпатию испытывали к ним жители Франкфурта. И в самом деле, не замечалось никакого сожаления по поводу их отъезда; возможно, многие жители уже бодрствовали и следили из-за закрытых решетчатых ставен за тем, что творилось на улицах, но ни одно окно, ни одна ставня не открылась, не уронили ни одного цветка, чтобы сказать «До свидания!», ни одним платочком не махнули, чтобы сказать «Прощай!».
Можно было поклясться, что город покидало вражеское войско, а сам город словно только и ждал ухода этих войск, чтобы выйти из оцепенения и начать веселиться.
На вокзале оказались лишь офицеры франкфуртского батальона: из любезности они прощались с теми, с кем с удовольствием сразились бы из ненависти.
Фридрих уехал только вторым составом, то есть в восемь часов утра. Поэтому получилось так, что Карл опоздал и Елене пришлось его ждать.
Она стояла у кропильницы, опершись о белую колонну. Заметив Карла, она печально улыбнулась, слегка окропила два пальца святой водой и протянула их к нему. Карл взял всю ее руку и перекрестился ею.
Никогда это великолепное создание не выглядело столь прекрасным, как теперь, в те минуты, когда Карл расставался с нею. За всю ночь Елене довелось поспать едва ли час, а все остальное время она плакала и молилась.
Она оделась как невеста во все белое, а на голове у нее был небольшой венок из живых белых рoз. Когда вошел Карл, на ее ресницах еще прожали последние слезы, исходившие из ее сердца, будто капли росы на пестиках лилии. Карл взял Елену за руку, и они пошли вместе преклонить колени и беконом приделе, где Елена обычно молилась. Почти все убранство этого придела, от покрывала на алтаре до платья Девы Марии, были вышиты руками Елены. Это она поднесла доброй Мадонне венок из золота и жемчуга, возлежавший теперь на ее голове.
Это Елена сшила из одной из самых драгоценных кисейных тканей платьице с кружевами, в которое был облачен Младенец Иисус.
— О Дева Мария! — молилась Елена. — Ты знаешь, никогда у меня не было тайн от тебя. Ты знаешь, что с первого же дня, как я увидела моего дорогого Карла, я пришла к тебе и сказала: «Если есть грех в том, чтобы любить преданной, сильной, вечной любовью человеческое существо, останови в моем сердце эту любовь, что начинает овладевать им. Может быть, есть еще время. Благая Дева Мария, найди в моем сердце и погаси в нем эту страсть, если она не угодна Богу». И потом, более не имея никаких слов к тебе, я тихо молилась или скорее стояла перед тобою, беззвучно двигая губами. Но, несмотря на мое молчание, а может быть, по самому моему молчанию тебе было известно, что о нем, об одном моем Карле, думала я. Теперь уже поздно, и, если ты теперь пожелаешь вырвать из моего сердца эту любовь, пусть ты и всемогуща, о Дева, тебе все же, наверно, не удастся этого сделать. Этой любовью я теперь должна жить, или от этой любви я должна умереть.
Она уронила голову себе на колени, протянув обе руки к Деве Марии.
Какое-то мгновение Карл смотрел на нее молча, и так как обе ее руки медленно опустились, он взял их обе в одну свою.
Потом, в свою очередь обратившись к Мадонне, Карл сказал:
— Дева, прости мне, если воспоминания молодости мне изменяют, прости, если я не пришел, как это святое дитя, и не открыл перед тобою своего сердца, не сказал тебе: «Направь меня, наставь меня, веди меня». Наш век, к несчастью, это не век веры. Как многие другие, не имея нечистого намерения уйти от твоего престола, я шел рядом и прошел по другой дороге, но эта дорога все-таки привела меня к тебе, потому что она повела меня к любви, а твое сердце — сама любовь. Теперь мы оба перед тобою, пришедши к тебе разными путями. Эта прекрасная и нежная девственница, что сейчас здесь стоит перед тобою, рассеяла на споем мути только цисты н их облетевшие лепестки, тогда как я свой путь запятнал многими ошибками, многими помыслами, что отдаляли меня от тех чистых помыслов, которые я ношу в себе сегодня; но таким, каков я есть, хорошим ли, плохим ли, я вернулся, взывая к тебе: «Пощады!», и моля ее: «Любви!»
Потом, обратившись к девушке, он сказал:
— Мы скоро расстанемся, Елена. Какого обещания вы пожелаете от меня? И за какое время вы хотите, чтобы оно было исполнено?
— Карл, — сказала Елена, — повторите мне перед возлюбленной Мадонной, которая несла заботу обо мне в моем детстве и в моей юности, повторите, что любите меня и что никогда у вас не будет другой женщины, кроме меня.
Карл живо протянул руку.
— О да, — сказал он, — и от всего сердца! Раз я полюбил тебя, то люблю и буду любить всегда. Да, ты будешь моей женой в этом мире и в ином, здесь и там!
— Спасибо! — вновь заговорила Елена. — Я отдала тебе свое сердце, а вместе с сердцем я отдала тебе и свою жизнь. Ты — дерево, а я — лиана, ты — ствол, а я — плюш, который обвивает своими кольцами. В тот миг, когда я тебя увидела, я, как Джульетта, сказала: «Буду твоей или лягу в могилу!»
— Елена! — воскликнул молодой человек. — Зачем же примешивать такие мрачные слова к столь нежным обетам?
Но, не слушая его, она продолжала, следя только за своей мыслью:
— Не прошу у тебя никакой другой клятвы, кроме той, которую ты только что произнес, Карл. И твоя клятва — повторение моей. Сохрани свою клятву неизмененной, но я, после того как сказала тебе, что буду любить тебя всегда, что буду любить только тебя, что буду только твоей и ничьей больше, дай мне еще сказать тебе: «И если ты умрешь, я умру с тобою!»
— Елена, любовь моя, что ты говоришь? — живо воскликнул молодой офицер.
— Говорю, мой Карл, что, с тех пор как я тебя увидела, мое сердце покинуло мою грудь и стало твоим; ты стал тем человеком, чьими мыслями я думаю, благодаря кому я существую, и, если с тобой случится несчастье, мне даже не нужно будет убивать себя, мне только придется дождаться скорой смерти. Ничего я не понимаю в этих королевских дрязгах и считаю их кощунственными, потому что из-за них течет кровь мужчин и льются слезы женщин. Знаю только одно: мне безразлично, кто выйдет победителем, Франц Иосиф или Вильгельм Первый. Я живу, пока ты живешь, я умру, когда ты умрешь. Хотела бы, чтобы псе сложилось по-другому, но моя воля бессильна.
— Елена, ты хочешь свести меня с ума, раз ты говоришь мне такое?..
— Нет, я только хочу, чтобы ты знал, что со мною станет, когда тебя здесь не будет, и чтобы там, вдалеке, если тебе на долю выпадет смертельный удар, ты, вместо того чтобы говорить: «Я больше ее не увижу!», сказал просто: «Вот мы и увидимся!» И говорю это я так же просто и искренне, как кладу этот венок к ногам возлюбленной моей Девы Марии.
И она сняла свой венок из белых роз и возложила его к ногам Мадонны.
— А теперь, — закончила она, — клятва моя произнесена, и я сказала тебе то, что было у меня на сердце. Оставаться здесь дольше и разговаривать о любви было бы святотатством. Пойдем, Карл, ты уезжаешь сегодня в два часа, и моя сестра, бабушка и Фридрих разрешили тебе не расставаться со мною до тех пор.
Они поднялись с колен, еще раз окропили друг друга святой водой и вышли.
При выходе из церкви девушка дала руку Карлу: с этой минуты она считала себя его супругой. С тем же чувством смирения, которое заставило его снять свою гусарскую меховую шапку при входе в церковь, Карл держал ее в руке всю дорогу от церкви Нотр-Дам-де-ла-Круа до дома, где жила Елена.
Остаток дня они провели во взаимных излияниях души. Раньше, когда он спросил у Елены, какие были ее цвета, а она ответила, что зеленый, он принял определенное решение.
И это решение он объяснил Елене теперь.
Вот, что он сказал.
Он попросит у своего полковника недельный отпуск, так как военные действия, конечно, не начнутся раньше чем через неделю.
Чтобы проехать к себе в горы, где он был истинным королем, ему едва понадобится, может быть, часов двадцать. Там, помимо двадцати двух гвардейцев, что были у него на службе, он соберет семьдесят восемь отборных, лучших штирийских стрелков. Он оденет их в такие мундиры, какой и сам обычно носил во время охоты, вооружит их лучшими карабинами, какие только сможет отыскать, затем выйдет в отставку с поста капитана лихтенштейнских егерей и попросит императора назначить его капитаном вольной роты. Будучи сам превосходным стрелком, он но главе ста человек, славящихся своей сноровкой, мог бы добиться на войне таких результатов, каких никогда бы не смог достичь, оставаясь в полку под командой полковника.
В этом плане было и другое преимущество. Оказавшись командиром вольной роты, Карл получал свободу передвижения. Такая партизанская война не привязывала бы его к тому или иному войсковому соединению. Он мог бы сражаться по своему усмотрению, при этом принося врагу как можно больше зла, и отдавал бы отчет в своих действиях только самому императору.
Таким образом, он сможет не удаляться от Франкфурта, то есть единственного города, который будет существовать для него в этом мире, потому что именно в нем живет Елена.
Ведь сердце находится не там, где оно бьется, а там, где оно любит.
Прусский план кампании состоял в том, чтобы заключить Германию как бы в полукруг; бросить друг на друга королей, великих герцогов, князей и народы; пройти маршем с запада на восток и, безусловно, вести бои в Гессене, в герцогстве Баденском и в Баварии — в местах, расположенных вблизи Франкфурта.
Там Карл и будет сражаться; а потом, в конце концов, имея при себе хороших лазутчиков, он всегда сможет знать, где находится его свояк, и не будет рисковать встретиться с ним.
Пока обсуждались все эти планы, в которых, к несчастью, никак нельзя было заключить договора со случаем, время продолжало идти.
И вот стенные часы пробили два часа.
В два часа австрийские офицеры обязаны были собраться во дворе казармы, находившейся в бывшем монастыре кармелиток. Карл на прощание обнял баронессу и ее дитя, лежавшее рядом с нею в своей кроватке, потом вместе с Еленой пошел и преклонил колена перед бабушкой, попросив у нее благословения.
Восхитительная женщина заплакала оттого, что увидела молодых людей такими печальными; она возложила каждому из них на голову свою руку и пожелала произнести благословение, но голос ей изменил.
Они стояли в молчании перед ней, и немые слезы текли по их щекам.
Бабушка пожалела их.
— Елена, — сказала она, — прощаясь с твоим дедушкой, я обняла его; не вижу ничего дурного в том, чтобы ты оказала ту же милость бедному Карлу.
Оба молодых существа бросились в объятия друг другу, а бабушка под предлогом тою, что она вытирала слезы, отвернулась, чтобы не подглядывать за их последними поцелуями.
Елена долго искала способа еще раз увидеть Карла, после того как он выйдет из дома, где ему было позволено попрощаться с нею. Вдруг она вспомнила, что окна в доме у бургомистра Фелльнера, крестного ее сестры, выходили на вокзал.
Тотчас же она принялась умолять свою добрую бабушку пойти с ней к бургомистру и попросить своего старинного друга разрешить Елене постоять у окна.
Женщины, остающиеся красивыми в старости, обычно сохраняют сердце свое молодым: добрая бабушка согласилась.
Наши молодые люди, попрощавшись, уже обменялись словами. Теперь им оставалось еще попрощаться глазами и сердцами.
Ганс получил приказ немедленно заложить карету. Пока Карл отправится в казарму, Елена успеет приехать к бургомистру Фелльнеру.
Елена подала знак Гансу поторопиться, а тот кивком дал ей понять, что подгонять его не стоило.
Елена бросила последний взгляд на Карла. Он был великолепен в своем голубом мундире с зелеными позументами и в лосинах, обрисовывавших его стройные и сильные ноги.
Его каракулевая гусарская шапка с орлиным плюмажем, из-за которого при его высоком росте ему приходилось наклоняться, даже когда он проходил в достаточно высокие двери, чудесно шла ему. Никогда он не казался Елене таким красивым, как в минуты, когда вот-вот должен был ее покинуть.
Опираясь ему на руку, она спустилась, чтобы расстаться с ним только на пороге, то есть как можно позже. Здесь они и расстались, и последний поцелуй скрепил их клятвы.
Один из его гусаров ожидал своего капитана, держа лошадь под уздцы. Карл еще раз приветствовал Елену, махнув ей рукой, и потом уехал, пустив лошадь галопом, так что искры полетели из-под ее копыт: он уже запаздывал более чем на четверть часа.
Вслед за этим подъехал с каретой Ганс, и в один миг Елена с бабушкой оказались у дома Фелльнера.
Франкфурт уже не выглядел тем же городом, каким он был этим утром. Мы рассказали о мрачном и печальном отъезде пруссаков, которых здесь терпеть не могли. А вот сейчас, напротив, франкфуртцы желали тепло попрощаться с австрийцами, которых они горячо любили.
Вот почему, несмотря на то что отъезд их был все же расставанием, а всякое расставание, за которым таится неизвестность, может послужить поэтому завесой, скрывающей горе, из этого отъезда устроили прощальное торжество. Все окна украсились австрийскими флагами. А у окон, где реяли флаги, стояли самые красивые женщины Франкфурта с букетами цветов в руках. Улицы, что вели к вокзалу, были переполнены народом, и люди сомневались, найдется ли место для проезда полка. У выхода улицы к вокзалу выстроился франкфуртский полк в полном вооружении: солдаты стояли, держа ружье к ноге, а вдула ружей были вставлены цветы.
Елене пришлось по дороге выйти из кареты, настолько толпа запрудила улицу. Но вот, наконец, она пришла в дом г-на Фелльнера; хозяин его, не будучи официально уведомлен о намерениях своей молодой гостьи, все же заметил, что капитан Фрейберг ей небезразличен. Обе его дочери и жена встретили Елену вместе с ее бабушкой у входа во второй этаж. Это была очаровательная семья, жившая общим хозяйством с сестрой и зятем г-на Фелльнера, не имевшими детей.
В прекрасные дни мирного времени во Франкфурте г-н Фелльнер и его зять принимали у себя гостей два раза в неделю. Все приезжие, если это были люди незаурядные, могли быть уверены, что будут приняты, и хорошо приняты, у г-на Фелльнера. Именно у него Бенедикт Тюрпен был представлен баронессе Фридрих фон Белов, и мы видели, что он сохранил воспоминание об этой встрече.
Ровно в три часа среди криков «ура» и приветствий толпы послышались трубные звуки полкового оркестра — полк по Цейлю и по улице Всех Святых подходил под марш Радецкого к Ганноверскому железнодорожному вокзалу.
Казалось, что буквально все население города бросилось провожать великолепный полк. Люди в окнах размахивали флагами, когда полк проходил под ними. Женщины бросали букеты цветов, а потом принимались махать платочками и кричать так восторженно, как на это только женщины и бывают способны в подобных случаях.
Едва лишь полк вышел из-за угла улицы, Елена узнала Карла, а Карл ответил на ее трепещущий платочек приветствиями саблей. В ту минуту, когда он проходил под окном, она бросила ему скабиозу в окружении незабудок. Скабиоза означала «печаль и отчаяние»; незабудки — «Vergi mein nicht» («Не забудь меня!»).
Карл поймал цветы в свою гусарскую шапку и прижал их к сердцу.
До того самого мига, когда он совсем исчез из ее глаз под крышей вокзала, полуобернувшись на лошади, он не спускал с Елены глаз.
Но нот он и исчез.
Елена почти полностью высунулась из окна.
Господин Фелльнер обхватил девушку за талию и вернул ее назад, в комнату.
Увидев струившиеся у нее из глаз слезы и догадавшись о причине их, он сказал:
— С Божьей помощью, дорогое дитя, он вернется.
Елена вырвалась из его рук и побежала, всхлипывая, спрятать голову в подушки на диване.
XXI АВСТРИЙЦЫ И ПРУССАКИ
В своей книге о Германии Дебароль говорит:
«Невозможно, три минуты поговорив с австрийцем, не испытать желания протянуть ему руку. Невозможно, три минуты поговорив с пруссаком, не испытать желания с ним поссориться».
Чем определяется такая разница двух этих характеров — темпераментом, воспитанием, географическим положением? Мы не знаем, но факт остается фактом: пересекая границу от Острова до Одерберга, вы замечаете, что выехали из Австрии и попали в Пруссию уже по той манере, с которой железнодорожные служащие закрывают вагоны.
Во Франкфурте как-то особенно чувствовалась эта разница в воспитании — во Франкфурте, в этом городе мягких нравов, просвещенных умов, банкиров, занимающихся искусством как любители. Таким образом, на родине Гёте в полной мере можно было оценить эту разницу между исключительной венской цивилизованностью и грубой коркой берлинского протестантизма.
При виде того, какая была разница в проявлении чувств при отъезде из города двух этих гарнизонов, нельзя было испытывать ни малейшего сомнения насчет исхода войны, и верилось, в соответствии с настроениями в Сейме, в превосходство австрийского оружия и в Австрию, которую должны были поддержать все малые государства Союза. Франкфуртцы и не думали в какой бы то ни было мере сдерживать свои чувства; они дали уйти пруссакам как заранее побежденным врагам, которых им более не придется увидеть, и, напротив, они чествовали австрийцев, словно победоносных братьев: будь у них на это время, они воздвигли бы триумфальные арки.
Гостиная добряка-бургомистра, куда мы ввели наших читателей, представляла собою точный и полный пример того, что в тот самый час, то есть 12 июня, в полдень, происходило во всех других гостиных в городе, каковы бы ни были происхождение, родина и религия хозяев дома.
Вот почему, пока Елена, к горю которой окружающие отнеслись с уважением, плакала, спрятав голову в полушки, а ее добрая бабушка отошла от окна и села рядом с ней, чтобы хоть немного прикрыть ее от взглядов, — надворный советник Фишер, главный редактор «Post Zeitung», что означает «Почтовая газета», на краю стола писал статью: в ней он соответственно с неприязнью и приязнью, скрыть которые было не в его воле, рассказывал об отъезде пруссаков, сравнивая его с ночным побегом, и об отъезде австрийцев, сравнивая его с триумфальным выездом.
Перед камином сенатор фон Бернус, один из самых изысканных людей во Франкфурте благодаря своему уму, воспитанию и происхождению, беседовал со своим коллегой, доктором Шпельцем, начальником полиции, который благодаря положению, занимаемому им, был всегда великолепно осведомлен. Между ними возникло небольшое разногласие, которое даже нельзя было назвать спором. Доктор Шпельц не полностью разделял точку зрения большинства жителей Франкфурта по поводу несомненной победы австрийцев.
Его особая осведомленность как начальника полиции (такая осведомленность не обманывает, и получают ее не для того, чтобы поддерживать мнение других, а чтобы составить свое собственное мнение) рисовала ему картину того, что происходило в действительности: прусские войска представлялись ему полными воодушевления, превосходно вооруженными и сгоравшими от желания поскорее начать кампанию. Оба прусских командующих, Фридрих Карл Прусский и наследный принц были одновременно и любителями командовать, и прекрасными исполнителями команды: в их быстродействии и смелости можно было не сомневаться.
— Но, — заметил ему г-н фон Бернус, — у Австрии великолепная армия, и она тоже воодушевлена наилучшим образом. Ее разбили при Палестро, при Мадженте и при Сольферино — это правда. Но это же были французы, так же легко они разбили и пруссаков при Йене.
— Дорогой фон Бернус, — ответил Шпельц, — пруссаки времен Йены очень далеки от сегодняшних: то жалкое состояние, и какое поверг их император Наполеон, не позволив им держать под ружьем в течение шести лет более сорока тысяч человек, пришлось как нельзя более кстати, и его следствием стала их нынешняя сила. В их урезанной армии офицеры и чиновники смогли заботливо и тщательно рассмотреть мельчайшие вопросы и довести их решение, по возможности, до полного совершенства. Отсюда и вышел ландвер.
— Хорошо, — сказал фон Бернус, — если у пруссаков есть ландвер, то у австрийцев есть ландштурм; поднимется все австрийское население.
— Да, если первые сражения будут горячо обсуждаться. Да, если есть шанс, поднявшись, отбросить Пруссию. Но три четверти прусской армии вооружены игольчатыми ружьями, которые делают восемь — десять выстрелов в минуту. Теперь уже не то время, когда маршал Саксонский говорил, что ружье это только штыковище. И кому он это говорил? Французам! Нации порывистой, воинственной, а не методичной и военизированной, каковой является Австрия. Вы же знаете, Бог мой, победа находится в полной зависимости от состояния духа: внушите врагу страх, которого сами не испытываете, вот и весь секрет победы. Чаще всего бывает так, что, когда на поле брани встречаются два полка, один из них уже поворачивается спиной до того, как доходит до рукопашной со своим противником. Если новые ружья, которыми вооружены пруссаки, окажут свое действие, боюсь, и очень даже боюсь, как бы ужас в Австрии не разросся до такой степени, что ландштурм, созданный от Кёниггреца до Триеста и от Зальцбурга до Пешта, не заставит подняться ни одного человека.
— Пешт!.. Дорогой друг, смотрите, вы же только что упомянули о настоящем камне преткновения. Если бы только венгры оказались на нашей стороне, моя надежда превратилась бы в уверенность. Венгры — это нерв австрийской армии, и о них можно сказать то же самое, что древние римляне говорили о марсах: «Что сделаешь против марсов или без марсов?» Но с венграми ничего не получится, если у них не окажется своего отдельного правительства, своей конституции и своих собственных трех министров. Да, в конце концов, они и правы! Вот уже сто пятьдесят лет, как им обещают эту конституцию, дают ее и отбирают. Наконец, они начинают возмущаться; а ведь достаточно одного слова императора, одной его подписи; венгры — народ-всадник. Им только бы «Szozat» прозвучал, и в три дня сто тысяч человек будут под ружьем.
— Что это за «Szozat»? — спросил толстяк, закрывавшись собою окно и своим цветущим лицом служивший образом торговли на вершине ее успеха.
Этот человек и в самом деле был крупнейшим франкфуртским виноторговцем, и звали его Герман Мумм.
— «Szozat», — сказал журналист Фишер, все еще продолжая писать свою статью, — это венгерская «Марсельеза», сочиненная поэтом Вёрёшмарти. Что это вы, черт возьми, делаете, Фелльнер? — прибавил он, поднимая очки на лоб и уставившись на бургомистра, игравшего в это время со своими двумя младшими детьми.
— Я занимаюсь делом, гораздо более важным, чем ваша статья, господин государственный советник. Изломов, что были выписаны мною в коробке из Нюрнберга, я строю деревню, где господин Эдуард будет бароном.
— А что такое барон? — спросил ребенок.
— Вопрос трудный. Это много и ничего. Это много, если твое имя Монморанси. Это ничто, если тебя зовут Ротшильд.
И с самым серьезным видом он опять принялся за свою деревню.
— Говорят, — продолжил г-н фон Бернус, по-прежнему обращаясь к доктору Шпельцу и возобновляя разговор с того места, на котором они оставили его, когда их прервал Герман Мумм, — что австрийский император назначил генерала Бенедека главнокомандующим со всеми полномочиями.
— Его назначение обсуждалось в Совете и вчера было подписано.
— Вы его знаете?
— Да.
— Мне кажется, это хороший выбор.
— Дай-то Бог!
— Бенедек своей карьерой обязан только себе: все свои чины он завоевал со шпагой в руке. В армии его будут любить больше, чем какого-нибудь эрцгерцога, появившегося на свет уже фельдмаршалом.
— Вы будете смеяться надо мной, фон Бернус, и посчитаете, что я говорю, как плохой республиканец. Так вот, я бы предпочел эрцгерцога этому человеку, поднявшемуся благодаря собственным усилиям, как вы говорите. Да, если бы все наши офицеры за свои успехи могли бы благодарить только самих себя, все шло бы чудесным образом, так как если бы все и не умели командовать, то, по крайней мере, умели бы подчиняться. Но нет! Наши офицеры — это знать, попавшая в армию благодаря своему положению и по протекции. Человеку незначительному они просто не захотят повиноваться или же сделают это против своей воли. Кроме того, вы знаете я, к несчастью, фаталист и верю в планеты. Так вот, генерал Бенедек — сатурниец.
— Что вы хотите этим сказать?
— Я хочу сказан», что он родился под знаком планеты Сатурн, а Сатурн с его непонятным кольцом и со всеми ею семью золотыми лунами — это планета вроде призрака среди других планет. В мифологии — это низверженный с неба король. Бенедек падет с высоты своей славы. Это Время, пожирающее своих детей, он разорит армию поражением.
Сатурн — это рок!
То же самое, что в алхимии: самый дурной из металлов, свинец, определяют именем Сатурна. Так же и в кабале — злосчастного человека определяют словом «сатурниец».
Генрих Второй был сатурнийцем, Людовик Тринадцатый был сатурнийцем. Люди, с которыми без видимой логической причины случаются великие беды, — сатурнийцы. Мне хотелось бы ошибаться, но как начальник полиции я убедился, что, в общем, люди, причинявшие огромные несчастья, рождаются под знаком Сатурна и Меркурия. Если бы Австрия могла избежать рокового влияния Бенедека! У него хватит терпения на один провал, решимости — на второй, может быть; но в третий раз он совсем потеряет голову и ни на что более не будет годен.
Впрочем, видите ли, в Германии не может оказаться двух равных друг другу держав. Получается, что у Германии с Пруссией на севере и Австрией на юге оказываются две головы, как у имперского орла. А ведь тот, у кого две головы, не имеет ни одной. В прошлом году я был в Вене первого января. Каждый год первого января на крепости там вывешивают новый флаг. В шесть часов утра тысяча восемьсот шестьдесят шестого года флаг вывесили, а буквально через мгновение, налетев именно с севера, разразилась такая яростная буря, какую мне редко приходилось видеть. В несколько секунд флаг был разодран так, что две орлиные головы разделились. Это означает потерю австрийского господства в Италии и Германии.
— Черт возьми! — прошептал г-н фон Бернус. — Знаете ли, то, что вы нам здесь говорите, совсем невесело. Я же жалею, в конце концов, не австрийского императора. Франция, которой необходим противовес Германии, никогда не даст свергнуть его с трона. Я жалею бедных маленьких государей, вроде короля Ганновера, короля Саксонского, — их пожрут с одного раза.
— Вы, фаталист! — вскричал Фишер, которому удалось закончить свою статью. — Долго вы еще будете говорить о ваших планетах, о Сатурне, Меркурии?
Шпельц пожал плечами:
— Всякий человек в большей или в меньшей степени является фаталистом. Вы сами разве не таковы, а?
— Честное слово, нет! И слава Богу! Если бы я был фаталистом, мне бы сейчас было очень страшно.
— Почему же? — спросил г-н фон Бернус.
— Знаете ли, что мне предсказал молодой француз, с которым мы так хорошо поняли друг друга, Шпельц, насчет оккультных наук, помните? Очаровательный малый, в отличие от его предсказаний, тот, которого вы принимали у себя, Фелльнер; как же, черт возьми, вы его называли?
— Бенедикт Тюрпен, — ответил Фелльнер с легкой дрожью а голосе. — А что, он и вам тоже что-нибудь предсказал?
— Должен признаться, к его чести будет сказано, что ему пришлось преодолеть множество трудностей, чтобы сделать это, и мне нужно было невероятно его подгонять. Он спросил меня о моем возрасте, и я ему ответил: «сорок девять лет и восемь месяцев». — «Ах так, — ответил он мне, — тогда позвольте мне отложить это мое предсказание на будущий год вашей жизни, ибо на следующий ваш год оно уже не будет иметь значения». Понимаете? Ясно, что такая манера предсказывать мне судьбу, или скорее несчастье, остро задела мое любопытство. Я стал настаивать. Тогда он сказал: «Отправляйтесь в путешествие, проведите пол года на стороне». — «А кто же займется моей газетой а течение всего этого времени?» — спросил я. «Тогда занимайтесь вашей газетой, — сказал он мне, — но одновременно займитесь и вашим завещанием. Ибо линия жизни резко прерывается у вас между Марсовым холмом и холмом Венеры». А так как вот уже три месяца, как это произошло, и мне уже сорок девять лет и одиннадцать месяцев, то мне еще осталось жить примерно тридцать дней.
— Дьявол! — промолвил Фелльнер, пытаясь улыбнуться.
— Фелльнер, мой дорогой друг, вы смеетесь только губами. Посмотрим же, вам-то что он предсказал?
— Мне?
— Нуда, вам.
— Фелльнер, Фелльнер, вы заставили меня открыть карты, а сами прячете свои.
И поскольку все смотрели на Фелльнера с любопытством, он сказал:
— Так вот. Мне он предсказал нечто похуже, чем вам.
— Мне очень хотелось бы знать, что с вами может стрястись хуже, чем умереть?
— Дорогой мой, есть много более или менее неприятных способов умереть. Мне он предсказал…
Фелльнер замялся.
— Но говорите же! — сказал Фишер. — Будто слово встает вам поперек горла.
— Вот именно. Он предсказал мне, что я буду повешен!
— Как повешен? — вскричали все присутствующие.
— Правда, поскольку по его словам, я сам должен себя повесить, мне вольно этого не делать, и сегодня же я заключаю с вами пари, что никогда не сделаю ни единой скользящей петли в своей жизни.
Громкий взрыв хохота встретил обещание г-на Фелльнера.
Только его жена побледнела, подошла к нему и, опершись о его плечо, сказала:
— Ты мне этого никогда не рассказывал.
— Мне хотелось произвести впечатление, — смеясь, сказал Фелльнер, — и вы видите, дорогая, мне это удалось.
И действительно, глубокое впечатление от его рассказа передалось от его жены дочерям, а от дочерей и всем собравшимся. Только г-н барон Эдуард, которым г-н Фелльнер перестал заниматься, заснул, пытаясь найти, в каком месте своей деревни он поставит колокольню.
Господин Фелльнер позвонил три раза, и красивая крестьянка из герцогства Баденского, заслышав условленный заранее сигнал, относившийся непосредственно к ней, вошла и взяла на руки ребенка.
Она собралась было унести его, глубоко уснувшего, но г-н Фелльнер с целью сменить тему разговора сделал знак собравшимся.
— Подождите, — сказал он.
И, положив руку на плечо кормилицы, он промолвил:
— Линда, спой нам песню, которую матери поют в Баденском герцогстве, укачивая своих детей.
Потом, обратившись к тем, кто его слушал, он произнес:
— Господа, послушайте эту песню, которую еще поют шепотом во всем Баденском герцогстве. Может быть, через несколько дней придет час спеть ее громко. Линда получила ее на память от своей матери. Так пела простая женщина у колыбели младшего брата Линды. Их отца пруссаки расстреляли в тысяча восемьсот сорок восьмом году. Ну, Линда, спой-ка нам, как пела твоя мать.
Линда, не выпуская ребенка из рук, поставила ногу на стул так, чтобы прижать ребенка к груди и прикрыть его своим телом. Затем низким и дрожащим голосом она запела с тревогой в глазах:
Спи, малыш, мой мальчик; тише, Злой пруссак тебя услышит. Твоего убил он папу, У него с когтями лапы. Тех, кто мочью не молчок. Немец схватит за бочок. Спи. малыш, мой мальчик: тише. Злой пруссак тебя услышит. Руки красные от кропи. Держит ножик наготове… Мы притихнем и замрем — Ты да я, да мы ид поем. Спи, малыш, мой мальчик: тише. Злой пруссак тебя услышит. Он и Дармштадте с лютой смертью Мчится и танца круговерти: Кто немил, как твой отец — В сердце капает свинец. Спи, малыш, мой мальчик; тише, Злой пруссак тебя услышит. Бог все видит — значит, скоро Нам лучи пошлет Аврора, И свободы нежный смех Мигом расколдует всех. Спи, малыш, мой мальчик; тише. Злой пруссак тебя услышит. К нам тогда вернутся силы. Мы проснемся, сын мой милый, Твой отец узнает, как Стонет под землею враг. Смейся, плачь, малыш, — кричи же: Злой пруссак уж не услышит!Кормилица спела эту жуткую песню с таким выражением, что дрожь пробрала до самого сердца тех, кто ее слушал, и никто даже не подумал зааплодировать ей.
Среди глубокого молчания она вышла с ребенком из комнаты.
Только Елена прошептала на ухо бабушке:
— Увы! Увы! Пруссия — это Фридрих! Австрийцы — это Карл!
Часть вторая
XXII ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ
Пятнадцатого июня, в одиннадцать часов утра, граф Платен фон Халлермюнде предстал перед королем Ганновера.
В течение нескольких минут они беседовали с глазу на глаз, потом король сказал:
— Мне нужно сообщить эти новости королеве. Подождите меня здесь, через четверть часа я вернусь.
Внутри дворца, чтобы пройти по его помещениям, королю Георгу не нужен был поводырь.
В это время королева Мария сидела за вышиванием вместе с молодыми принцессами. Заметив мужа, она пошла ему навстречу и подставила ему лоб для поцелуя.
Молодые принцессы завладели руками отца.
— Смотрите, — сказал король, — вот что наш кузен, король Пруссии, оказывая нам честь, пишет через посредство своего премьер-министра.
Королева взяла бумагу и приготовилась читать.
— Подождите, — сказал король, — я прикажу позвать принца Эрнста.
Одна из молодых принцесс бросилась к двери.
— Позовите принца Эрнста! — крикнула она придвернику.
Через несколько минут принц уже входил, обнимал отца и сестер, целовал руку матери.
— Послушай, что прочтет твоя мать, — сказал ему король.
Министр фон Бёзеверк от имени короля, своего повелителя, предлагал Ганноверу наступательный и оборонительный союз при условии, что Ганновер по мере своих возможностей поддержит Пруссию всеми своими людьми и солдатами, и предоставит командование своей армией королю Пруссии Вильгельму.
В послании добавлялось, что в случае если это мирное предложение не будет немедленно принято, прусский король вынужден считать себя в состоянии войны с Ганновером.
— Ну и как? — спросил король у жеиы.
— Сомнений нет, — ответила та, — король в своей мудрости уже решил, как поступить, но, если его решение не принято окончательно и если то перышко, каким является мнение женщины, может оказать собою воздействие на весы, я сказала бы вам: «Откажите ему, государь!»
— Ода, да, государь! — воскликнул молодой принц. — Откажите!
— Я полагал необходимым посоветоваться с королевой и тобой, — ответил король, — прежде всего, уважая вашу искренность и преданность, а еще потому, что у нас общие интересы.
— Откажите, отец мой: нужно, чтобы предсказание исполнилось до конца.
— Какое предсказание? — спросил король.
— Разве вы запамятовали, государь, что первые слова, которые сказал вам Бенедикт, были следующие: «Вас предаст ваш ближайший родственник». Вот вас и предает ваш собственный двоюродный брат. Видимо, Бенедикт не обманывается и в остальном, если с самого начала ему удалось все угадать точно.
— Ты же знаешь, что он предсказал мне потерю власти?
— Да, но после великой победы. Мы маленькие короли, это правда. Но со стороны Англии мы великие принцы, так будем же действовать с величием.
— Это твое мнение, Эрнст?
— Это моя просьба, государь, — сказал молодой принц, поклонившись.
Король обернулся к жене и вопросительно кивнул в ее сторону.
— Так и поступайте, друг мой, — сказала она, — следуйте своему мнению — оно и наше мнение.
— Но, — сказал король, — если нам придется покинуть Ганновер, что же будет с вами и с обеими принцессами?
— Мы останемся там, где мы сейчас, государь, в нашем замке, в Херренхаузене. Если все взвесить, то получится, что король Пруссии все-таки наш кузен, и если нашей короне с его стороны угрожает опасность, то нашей жизни опасность не угрожает. Соберите совет, государь, и унесите с собою туда наши оба голоса, которые вам говорят: «Не только не предавать других, но, прежде всего, не предавать нашей чести!»
Король собрал совет своих министров, и тот единогласно высказался за отказ прусскому королю.
В полночь граф Платен сделал устное заявление князю Иссембургскому, который принес послание прусского короля:
— Его величество король Ганновера отвечает отказом на предложение его величества короля Пруссии, ибо этого требуют от него установления Союза.
Ответ короля Ганновера тут же был депешей передан it Берлин.
Когда она была получена, немедленно была отослана другая депеша — из Берлина, содержавшая приказ войскам, сосредоточенным в Миндене, вступить в Ганновер.
В четверть первого ночи прусские войска вошли в Ганновер.
Четверти часа хватило Пруссии, чтобы получить отказ и отдать приказ о начале военных действий. Даже те прусские войска, что находились на пути из Гольштейна и получили от его величества короля Ганновера разрешение пройти по территории его королевства, чтобы иметь возможность затем направиться в Минден, закрепились в Гарбурге и, таким образом, оккупировали королевство еще до отказа ганноверского короля прусскому.
Впрочем, король Георг помедлил с ответом до вечера лишь для того, чтобы успеть принять свои меры. Различным ганноверским воинским частям были отданы приказы начать передвижение и идти на соединение в Гёттинген.
Намерением короля Георга было маневрировать так, чтобы соединиться с баварской армией.
К одиннадцати часам вечера принц Эрнст послал испросить у королевы Марии разрешения попрощаться с ней и одновременно представить ей своего друга Бенедикта.
Истинным же намерением молодого принца было добиться того, чтобы хиромант успокоил бы его насчет опасностей, которым могла подвергнуться королева, а для этого ей надо было доверить тому свою руку.
Королева приняла сына с поцелуем, француза — с улыбкой.
Принц Эрнст объяснил королеве то, чего он ждал от нее. Она не заставила упрашивать себя и, согласившись, протянула руку Бенедикту. Тот встал на колено и почтительно приложился губами к кончикам пальцев королевы.
— Сударь, — сказала она, — в тех обстоятельствах, в каких мы оказались, прошу вас поведать мне не о добрых предзнаменованиях, а предсказать мои злоключения.
— Если вы видите перед собой несчастья, ваше величество, позвольте мне поискать у вас силы, данные вам Провидением для того, чтобы вы одолели эти несчастья. Будем надеяться, что стойкость осилит в борьбе.
— Рука женщины слаба, сударь, когда ей приходится сражаться с рукою судьбы.
— Рука судьбы — лишь грубая сила, наше величество, наша же рука — сила умная. Посмотрите, ног, прежде всего, первая фаланга большого пальца, она у нас длинная.
— А что означает эта особенность? — спросила королева.
— Непреклонную нолю, наше величество. Если вы принимаете решение, рассудок может взять над нами верх и заставить нас изменить это решение. Но опасность, злосчастия, гонения этого сделать не могут.
Королева улыбнулась и сделала головой движение в знак одобрения.
— Можно ли, ваше величество, высказать вам все же всю правду? Да, вам угрожает большое несчастье.
Королева вздрогнула. Бенедикт быстро продолжал:
— Но будьте спокойны, это не смерть короля, не смерть принца: у них у обоих линии жизни великолепные! Нет, несчастье будет чисто политического характера. Посмотрите на линию удачи: вот здесь она прерывается, вот, наверху, у линии Марса, что указывает, с какой стороны придет к вам гроза; затем эта линия удачи, которая могла бы восторжествовать, если бы она остановилась у сустава среднего пальца, то есть у Сатурна, напротив, проникает в первую фалангу, а это знак несчастья.
— Бог испытывает каждого по званию его. Мы попробуем пережить несчастье по-христиански, если не сможем пережить его, оставаясь королями.
— Ваша рука ответила мне раньше вас, ваше величество: Марсов холм у вас полный и без морщин, Лунный холм полный и гладкий, а это означает смирение, ваше величество, святое смирение, первую из всех добродетелей. Благодаря смирению, Диоген разбил свою миску, а Сократ улыбнулся смерти в глаза. Со смирением бедняк — король, а король — бог! Со смирением и спокойствием всякая страсть, проявленная на руке и во благо использованная, может заместить Сатурнов след и пробороздить новое счастье.
Но при этом борьба будет долгой.
Эта борьба обнаруживает странные знаки. Я вижу на вашей руке, ваше величество, самые противоположные знаки: узница без узилища, богатая без богатства. Несчастная королева, счастливая супруга, счастливая мать. Господь испытывает вас, ваше величество, но как любимую дочь.
Что до остального, то вас ждут всяческие развлечения, ваше величество, прежде всего музыка, затем живопись — пальцы у вас сужающиеся и гладкие, — религия, поэзия, вымысел. Обе принцессы будут вас любить, находясь рядом с вами. Король и принц будут любить вас, находясь вдалеке. Бог утишит ветер, жалея только что остриженную овечку.
— Да, сударь, и остриженную до самой кожи, — прошептала королева, поалев глаза к Небу. — Но ведь, возможно, несчастья в этом мире служат блаженству в ином. В таком случае, я не только буду смиренной, но и утешусь этим.
Бенедикт поклонился как человек, завершивший свое дело и теперь лишь дожидавшийся, чтобы его отпустили.
— У вас есть сестра, сударь? — спросила королева у Бенедикта, играя ниткой жемчуга, скрепленной бриллиантовой застежкой (эта вешица явно принадлежала одной из юных принцесс).
— Нет, я один в этом мире.
— Тогда сделайте мне удовольствие и примите от меня эту бирюзу. Это вовсе не подарок. Бирюзу не стоило бы считать подарком. Нет! Я предлагаю вам талисман, приносящий счастье. Вы знаете, что у наших северных народов есть поверие, будто бирюза приносит счастье. Возьмите же ее от меня на память.
Бенедикт склонился перед ней, принял бирюзовый перстень и тотчас надел его себе на мизинец левой руки.
Пока он это делал, королева призвала к себе принца Эрнста, держа в руке благоухавшее кожаное саше.
— Сын мой, — сказала она ему, — известно, откуда начинается первый шаг на пути изгнания, но неизвестно, где заканчивается последний. В этом саше лежат жемчуг и бриллианты на сумму в пятьсот тысяч франков. Если бы я отдала их королю, он отказался бы их взять.
— О матушка!..
— Но тебе, Эрнст, я имею право сказать: я так хочу! Так вот, я хочу, дорогое мое дитя, чтобы ты взял это саше на крайний случай, например, чтобы подкупить стражника, если ты будешь взят в плен. Чтобы отблагодарить за преданность — кто знает? — личным нуждам короля или тебя самого. Повесь это саше себе на шею или положи в пояс, но, во всяком случае, носи всегда при себе. Я вышила его своими руками для тебя, на нем стоит твой вензель. Тихо, вот идет твой отец!
И в самом деле, вошел король.
— Не следует задерживаться, надо отправляться, — сказал он, — уже десять минут назад пруссаки вошли на территорию Ганновера.
Король обнял королеву и дочерей, принц Эрнст — свою мать и сестер. Затем, поддерживая друг друга, король, королева, принц и принцессы спустились к крыльцу, где в ожидании их стояли лошади.
Там и прошло последнее прощание; слезы проступили на глазах как самых храбрых, так и самых смиренных из них.
Король, первым сев на коня, подал пример мужества.
Принц Эрнст и Бенедикт сели на двух совершенно похожих друг на друга коней прекрасной ганноверской породы, скрещенной с английскими лошадьми. Английский карабин, посылающий на тысячу четыреста метров свою остроконечную пулю, висел на ленчике седла, а пара двуствольных пистолетов, но с накладными стволами — точно такими же, как пистолеты в тире, — лежала в седельных кобурах.
Всадники, уже сидевшие верхом, и королева с принцессами, стоявшие на крыльце, обменялись последними словами и знаками прощания. Затем кортеж, предшествуемый двумя скороходами с факелами в руках, двинулся крупной рысью.
Через четверть часа они были в городе.
Бенедикт поспешил в гостиницу «Королевская», чтобы расплатиться с метром Стефаном. Все там были на ногах, ибо слух о вторжении пруссаков в королевство и об отъезде короля уже разошелся по городу.
Что касается Ленгарта, то ему было предложено присоединиться вместе со своим кабриолетом к главным силам армии.
Известно было, что местом встречи войск назначили Гёттинген.
Так как Лен гарт завязал нежную дружбу с Резвуном, Бенедикт, не задумываясь ни на минуту, оставил на него свою собаку.
Депутация знатных жителей города Ганновера, возглавляемая бургомистром, ожидала короля, желая попрощаться с ним.
Голосом, в котором слышались слезы, король препоручил им свою супругу и дочерей. Собравшиеся, чтобы подбодрить его, ответили ему дружным криком.
Весь город, несмотря на ночной час, был на ногах и сопровождал своего короля с криками:
— Да здравствует король! Да здравствует Георг Пятый! Пусть возвращается победителем!
Король еще раз препоручил королеву и принцесс, но теперь уже не только депутации, а всему населению.
Он вошел в королевский вагон под звуки рыданий и всхлипываний: словно каждая присутствовавшая девушка теряла отца, каждая мать — сына, каждая сестра — брата.
Женщины устремились на подножки вагона, желая поцеловать королю руки. Понадобилось пять-шесть гудков паровоза, пять-шесть сигналов, чтобы оторвать, наконец, толпу от дверей, куда она так стремилась вскарабкаться. И поезд вынужден был тронуться почти незаметно, чтобы стряхнуть, так сказать, гроздья мужчин и женщин, висевших на нем.
Двумя часами позже поезд прибыл в Гёттинген.
XXIII БИТВА ПРИ ЛАНГЕНЗАЛЬЦЕ
Через дна дня армия, спешно собравшаяся со всего королевства Ганновер, сплотилась вокруг своего короля.
Среди прочих войск был и гусарский полк королевы, которым командовал полковник Халлельт; тридцать шесть часов оставаясь верхом, он был на марше в течение всех этих тридцати шести часов.
Король поселился в гостинице «Корона»; она находилась как раз на пути прохождения войск, и о каждом прибывавшем полке, будь то кавалерия или пехота, король узнавал по сопровождавшей их музыке, после чего выходил на балкон центрального окна и производил смотр строя.
Полки проходили один за другим с праздничным видом и с букетами цветов на касках, воодушевленно крича. Гёттинген, город студентов, каждую минуту вздрагивал, просыпаясь от воинственных криков «ура».
Все старые отставные солдаты, которых не успели призвать, сами поспешно прибыли под знамена своих полков. Каждый отправлялся на войну с радостью, набирая в своей деревне и по пути как можно больше новобранцев. Прибегали пятнадцатилетние дети и, выдавая себя за шестнадцатилетних, просились в войска.
На третий день все двинулись в путь.
В это же время маневрировали и пруссаки.
Генерал Мантёйфель, прибывший из Гамбурга, генерал Рабенгорст, прибывший из Миндена, и генерал Байер, прибывший из Вецлара, подошли к Гёттингену, заключая ганноверскую армию в треугольник.
Самые простые стратегические правила предписывали объединить ганноверскую армию, состоявшую из шестнадцати тысяч человек, с баварской армией, насчитывавшей восемьдесят тысяч человек. В соответствии с этим король отправил курьеров к принцу Карлу Баварскому, брату старого короля Людвига (принц должен был находиться в долине Верры), чтобы предупредить его о том, что он направляется к Эйзенаху через Мюльхаузен, то есть через прусскую территорию.
Король добавлял, что за ним следуют три-четыре прусских корпуса, которые, соединившись, могут составить двадцать — двадцать пять тысяч человек.
Войска через Веркирхен подошли к Эйзенаху.
Эйзенах, который защищали только два прусских батальона, вот-вот должны были взять приступом, когда прибыл курьер от герцога Готского, на землях которого находился этот город, с депешей от герцога.
В депеше объявлялось о заключении перемирия. Герцог соответственно настаивал на том, чтобы ганноверцы отошли назад. К несчастью, поскольку депеша пришла от имени государя, ни у кого не возникло никакого подозрения по поводу ее достоверности.
Авангард остановился, расположившись там, где он находился.
На следующий день Эйзенах был занят прусским корпусом.
Попытка взять Эйзенах стоила бы потери большого времени и значительного количества людей, поэтому ее посчитали бесполезным маневром и решили, оставив Эйзенах справа, двигаться к Готе.
Для того чтобы осуществить это намерение, армия сосредоточилась в Лангензальце.
Утром король выехал в сопровождении майора Швеппе — тот находился по левую руку от короля и придерживал его лошадь за незаметный трензель. Принц Эрнст держался справа от короля; вместе с ним были граф Платен, его премьер-министр, и, в различных мундирах, соответствующих родам их войск или их должностям, граф фон Ведель, майор фон Кольрауш, г-н фон Кленк, гвардейский кирасир капитан фон Эйнем и г-н Мединг.
Этот кортеж выехал из Лангензальцы на рассвете и направился в Тамсбрюк.
Бенедикт ехал рядом с молодым принцем, исполняя обязанности адъютанта при нем.
Армия снялась с места своего расположения и направилась в Готу, но в десять часов утра ее авангард, оказавшись на берегу Унструта, был атакован двумя прусскими корпусами.
Ими командовали генералы Флис и Зеккендорф. Численность корпусов достигала примерно шестнадцати тысяч человек, а состояли они из войск гвардии, линейных войск и ландвера.
В числе гвардейских полков там был и полк королевы Августы — один из отборных.
Быстрота прусского огня указывала прежде всего на то обстоятельство, что если не поголовно, то в большинстве солдаты противника были вооружены игольчатыми ружьями.
Король пустил свою лошадь галопом, чтобы как можно скорее прибыть к тому месту, где, по всей видимости, должно было произойти сражение. Слева от них, на небольшом возвышении, стояла деревушка Меркслебен. Под той деревушкой, чуть выше расположения прусских батарей, были установлены четыре батареи, сразу же открывшие огонь.
Король осведомился, какова местность.
Прямо перед ними, слева направо, среди болот протекал Унструт.
Вплоть до реки раскинулся обширный кустарник, или скорее лес, называвшийся Бадевельдхеном.
А за Унструтом, на очень отлогом склоне горы, продвигались вперед прусские войска, которым предшествовала мощная артиллерия, открывшая огонь уже на марше.
— Есть ли здесь какая-нибудь высокая точка, где я мог бы оказаться над сражением? — спросил король.
— В полукилометре от Унструта есть холм, но он находится под огнем врага.
— Там я и встану, — заявил король. — Поехали, господа!
— Простите, государь, — сказал наследный принц, — но в половине расстояния ружейного выстрела от холма, на котором ваше величество желает устроить свою ставку, есть нечто вроде леса из осины и ольхи, он тянется до реки. Нужно было бы осмотреть этот лес.
— Отдайте приказ пятидесяти егерям прочесать его до самой реки.
— Не стоит, государь, — сказал Бенедикт, — для этого достаточно одного человека.
И он галопом ускакал, побывал во многих местах по всей протяженности леса, еще раз объехал его и вернулся.
— Никого, государь, — сказал он, поклонившись.
Король пустил лошадь галопом и встал на вершине небольшого холма.
Поскольку лошадь белого цвета была только у короля, она могла послужить мишенью для ядер и для пуль.
Король был одет в походный генеральский мундир — голубой на красной подкладке, а на наследном принце был мундир гвардейского гусара.
Сражение началось.
Пруссаки опрокинули ганноверские аванпосты, когда те перешли реку, и завязалась жаркая артиллерийская перестрелка между ганноверцами, находившимися перед Меркслебеном, и пруссаками, расположившимися по другую сторону Унструта.
— Ваше высочество, — сказал Бенедикт принцу, — не опасаетесь ли вы, что пруссаки пошлют людей удерживать лес, где я только что побывал, и с его опушки, находящейся в трехстах метрах от нас, начнут стрелять в короля как в мишень?
— Что вы предлагаете? — спросил принц.
— Я предлагаю, ваше высочество, взять пятьдесят человек и пойти охранять лес. Наш огонь предупредит нас, по крайней мере, о том, что враг приближается с той стороны.
Принц обменялся несколькими словами с королем, и тот дал знак согласия.
— Идите, — сказал принц Эрнст, — но, ради Бога, не давайте себя убить.
Бенедикт показал свою ладонь:
— Разве можно убить человека, на руке у которого начертана двойная линия жизни!
И он галопом кинулся в сторону линейной пехоты.
— Пятьдесят хороших стрелков со мной! — приказал он по-немецки.
К нему вышло сто.
— Пойдемте, — сказал Бенедикт, — может статься, нас не окажется слишком много.
Свою лошадь он оставил на попечение одного из гусаров из полка принца и пешим устремился в чашу во главе своей сотни егерей, и те рассредоточились.
Едва они скрылись среди деревьев, как там разразилась ужасная ружейная стрельба. Двести пруссаков уже перешли Унструт, но так как им не была известна численность егерей, следовавших за Бенедиктом, то, думая, что перед ними оказались большие силы, они отступили, оставив за собою в лесу дюжину убитыми.
Бенедикт выставил егерей вдоль берега Унструта и несмолкаемым огнем отбрасывал каждый раз всех, кто стремился к нему приблизиться.
Короля узнали, и ядра рикошетом падали чуть ли не у ног его лошади.
— Государь, — сказал ему майор Швеппе, — видимо, было бы безопаснее поискать место, несколько более удаленное от поля битвы.
— Почему же? — спросил король.
— Так ведь ядра долетают до вашего величества!
— Пусть! Разве повсюду, где бы я ни был, я не нахожусь в руках Господа?
Принц Эрнст подъехал к отцу.
— Государь, — сказал он, — пруссаки сомкнутыми рядами продвигаются к берегу Унструта, невзирая на артиллерийский огонь.
— А наша пехота, что она?
— Она идет им навстречу, чтобы атаковать врага.
— А… она хорошо идет?
— Как на параде, государь.
— Раньше ганноверские войска были превосходными. В Испании они побеждали отборные французские войска.
Сегодня, сражаясь к присутствии своею короля, они, надеюсь, окажутся достойными самих себя.
И в самом деле, вся ганноверская пехота, поднявшаяся колоннами в атаку, продвигалась вперед под огнем прусских батарей со спокойствием опытных войск, привыкших к огню. После секундного удивления перед градом пуль из игольчатых ружей противника пехотинцы опять двинулись маршем, перешли болотистые воды Унструта, приступом взяли лесок Бадевельдхен и уже завязали рукопашный бой с пруссаками.
На миг из-за дыма и неровностей местности из поля зрения исчез общий вид сражения. Но вот из-за пелены дыма появился и направился к королевскому холму всадник, во весь опор скакавший на лошади прусского офицера.
Это был Бенедикт: он убил всадника, чтобы взять у него лошадь, и спешил сообщить, что пруссаки начали атаку.
— Эйнем! Эйнем! — крикнул король. — Бегите и прикажите кавалерии стремительно атаковать!
Капитан бросился исполнять приказ. Это был великан ростом около шести футов, самый могучий и самый красивый человек в ганноверской армии.
Он пустил лошадь галопом, крича:
— Ура!
Через мгновение стало слышно, как разразилась буря.
Это гвардейские кирасиры пошли в атаку.
Нет возможности передать воодушевление этих людей, что проезжали под холмом, на котором находился их король-герой, пожелавший остаться на самом опасном посту. Крики «Да здравствует король!», «Да здравствует Георг Пятый!», «Да здравствует Ганновер!» ураганом сотрясали воздух. Топот лошадей заставлял звенеть землю — она колебалась, словно началось землетрясение.
Бенедикт не смог более себя удержать: он пустил лошадь галопом и исчез в рядах кирасиров.
При виде того, как эта буря стремилась обрушиться на них, пруссаки перестроились в каре. Первый, кого смяла ганноверская кавалерия, исчез под лошадиными копытами. Затем, пока пехота стреляла ганноверцам в лоб, кирасиры напали на врагов стыла, и после короткой безнадежной борьбы те попытались отступить, но ганноверцы преследовали их с остервенением, и вскоре прусская армия оказалась полностью смятой.
Принц Эрнст сквозь великолепный бинокль с увеличительными линзами следил за передвижениями и во всем отдавал отчет королю, своему отцу.
Но очень скоро его бинокль стал следить только за одной группой примерно в пятьдесят человек во главе с капитаном Эйиемом, которого принц сразу узнал по большому росту; к этот же отряд входил и Бенедикт (принц узнал его среди белых кирасиров по голубому мундиру).
Эскадрон начал атаку через Негельштедт и направился к последней прусской батарее, все еще державшейся.
Батарея открыла огонь по эскадрону с расстояния в тридцать метров; все исчезло в дыму.
От эскадрона только и осталось, что двенадцать-пятнадцать человек; капитан Эйнем лежал под своей лошадью.
— О! Бедный Эйнем! — воскликнул принц.
— Что с ним случилось? — спросил король.
— Я подумал, что его убили, — ответил молодой человек, — но нет, он не мертв. Вот Бенедикт помогает ему высвободиться из-под лошади. Он только ранен… Даже нет! Даже нет! О! Отец! Из пятидесяти человек у них осталось только семь. Из прусских канониров — живых только один. Он целится в Эйнема, стреляет… Ах, отец! Вы только что потеряли храброго офицера, а король Вильгельм — храброго солдата. Канонир убил Эйнема выстрелом из карабина, а Бенедикт ударом сабли пригвоздил канонира к его месту.
Прусская армия оказалась в полном смятении; поле битвы осталось за ганноверцами!..
Пруссаки отступили до самой Готы.
Быстрота марша, приведшего ганноверцев на поле битвы, слишком утомила кавалерию, чтобы она могла преследовать беглецов. В этом смысле выгоды от победоносной битвы оказались упущенными.
А результат был таков: восемьсот военнопленных, две тысячи убитых и раненых, две захваченные пушки.
Король проехал по полю битвы, чтобы до конца выполнить свой долг, показавшись несчастным раненым.
Бенедикт опять превратился в художника и мечтал о новой картине. Он сел на последнюю захваченную пушку и стал набрасывать общий вид поля боя.
Он заметил, что принц осматривал раненых и мертвых офицеров-кирасиров.
— Простите, ваше высочество, — спросил Бенедикт, — вы ищете храброго капитана Эйнема, не так ли?
— Да! — сказал принц.
— Вон там, ваше высочество, там, слева от вас, среди этой груды мертвых.
— О! — вздохнул принц Эрнст. — Я видел, какие он творил чудеса.
— Вообразите, что, после того как я вытащил его из-под лошади, он с саблей в руках зарубил шестерых. Потом он получил первую пулю и упал. Пруссаки подумали, что он мертв и набросились на него. Тогда он поднялся на колено и убил двоих из тех, что кричали ему, чтобы он сдавался. Наконец он совсем встал на ноги, и в этот самый момент последний оставшийся в живых прусский артиллерист выстрелил ему прямо в лоб, и эта пуля сразила Эйнема. Не имея возможности его спасти, слишком занятый тем, что происходило рядом со мной, я все же за него отомстил!
Затем, показав свой набросок принцу, с тем же спокойствием, с каким он разговаривал в мастерской Каульбаха, Бенедикт спросил:
— Как, по-вашему, ничего?
XXIV ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПРЕДСКАЗАНИЕ БЕНЕДИКТА НАЧИНАЕТ СБЫВАТЬСЯ
Проехав по полю боя, король продолжил путь по мощеной дороге и въехал в город Лангензальцу.
Он устроил свою главную ставку в доме, где находились вольные стрелки.
Начальник штаба отдал приказания, обеспечивающие в течение ночи спокойствие.
Первой заботой было тремя разными дорогами направить сообщения королеве, чтобы известить ее о победе этого дня, о положении армии и просить о помощи, если не на следующий день, то, по крайней мере, на послезавтрашний.
И в самом деле, на следующий день нечего было опасаться со стороны пруссаков, которые были слишком основательно разбиты, чтобы не дать себе однодневного отдыха.
Ночь прошла весело. Солдатам раздали деньги, приказав им за все платить.
Музыка играла «God save the King![24]», и солдаты хором пели песенку, сочиненную одним ганноверским добровольцем на польский мотив:
И тысяча солдат, колени преклонив, присягу приносили…
Следующий день прошел в ожидании новостей от баварской армии и в отправлении курьеров. От баварцев прибыли сообщения с обещаниями помощи, но л и обещания не претворялись я жизнь.
С самого утра пруссакам было предложено объявить перемирие, чтобы похоронить мертвых.
Пруссаки отказали.
Таким образом, только одни ганноверцы занялись этой богоугодной церемонией.
Вооружившись заступами, солдаты вырыли большие рвы в двадцать пять футов длины и восемь ширины. В них в два ряда положили мертвых.
Четыре тысячи вооруженных людей во главе с королем и наследным принцем стояли с непокрытыми головами, пока музыка играла похоронный марш Бетховена.
Над каждым рвом проходило отделение и стреляло залпом в знак военного траура.
Все время пока продолжалась церемония, на ней присутствовали представители городского муниципалитета, которые прибыли поблагодарить короля за те приказы, что были отданы солдатам, точно следовавшим им.
В одиннадцать часов вечера северная сторожевая застава сообщила, что значительные силы прусских войск подходят через Мюльхаузен.
Это был корпус генерала Мантёйфеля.
На третий день после битвы ганноверская армия так еще и не получила никакого сообщения о местонахождении баварской армии и сама находилась в окружении тридцати тысяч человек.
К полудню прибыл прусский подполковник и от имени генерала Мантёйфеля предложил ганноверскому королю сдаться.
Король ответил так: ему превосходно известно, что со всех сторон он окружен врагом, но что он сам, его сын, его штаб, офицеры и солдаты решили дать себя убить, от первого до последнего, в случае если им не предложат достойной капитуляции.
В то же время он созвал военный совет, который единодушно высказался за капитуляцию и закрепил это письменно, но лишь при условии, что она не будет унизительной.
Капитуляция была совершенно необходима.
Боеприпасов у армии оставалось только на триста пушечных выстрелов.
Еды у армии оставалось только на один день.
Все придворные, включая и короля, получили на обед по одному куску вареного мяса с картофелем; суп разделили между ранеными.
Каждый из сотрапезников получил только по одной кружке скверного пива.
Обсуждали каждую статью капитуляции, изо всех сил оттягивая время, ведь ганноверцы все еще ждали баварскую армию.
Наконец, среди ночи остановились на следующих условиях, на которые дали согласие и генерал Мантёйфель от имени прусского короля, и генерал Арентшильд от имени ганноверского короля:
ганноверская армия распускалась и отправлялась по домам;
все офицеры оставались свободны, так же как и унтер-офицеры;
те и другие оставляли за собою оружие и обмундирование;
король Пруссии гарантировал им пожизненное жалованье;
король Ганновера, наследный принц и их свита свободны были отправляться куда им заблагорассудится;
имущество короля объявлялось неприкосновенным.
Как только капитуляция была подписана, генерал Мантёйфель прибыл в главную ставку ганноверского короля.
Входя в кабинет его величества, Мантёйфель сказал:
— Государь, я в полном отчаянии предстаю перед вашим величеством в столь тягостную минуту. Мы можем понять все то, что пришлось выстрадать вашему величеству, ведь мы, пруссаки, пережили Йену. Прошу ваше величество сказать мне, куда вы желаете направиться, и дать мне приказания. Я же побеспокоюсь о том, чтобы вы в вашем путешествии не испытывали ни в чем недостатка.
— Сударь, — холодно ответил король, — я еще не знаю, куда отправлюсь, и жду, когда конгресс решит, должен ли я оставаться королем или стать отныне простым английским принцем; но, вероятнее всего, я поеду к моему тестю, герцогу Саксен-Альтенбургскому, или к его величеству императору Австрийскому. В том и в другом случае мне ни в коей мере не потребуется ваше покровительство, за предложение которого я вас благодарю.
В тот же день первый адъютант короля отправился в Вену, чтобы там испросить для своего государя разрешения удалиться в австрийское государство.
Тотчас же после того как в Вену прибыла эта просьба, адъютант императора отправился к ганноверскому королю, чтобы служить ему сопровождающим и привезти его с собою.
Адъютант вез для короля орден Марии Терезии, а для принца — грамоту о возведении его в рыцарское достоинство.
В тот же день король Ганновера направил его величеству императору Австрии извещение о своем прибытии с посыльными — советником регентства г-ном Медингом, своим министром иностранных дел г-ном фон Платеном и своим военным министром г-ном фон Брандисом.
Принц Эрнст предложил Бенедикту отправиться с ним в австрийскую столицу. Бенедикт никогда прежде не был в Вене и согласился.
Но он поставил свои условия.
Как и в Ганновере, его жизнь будет полностью независима от двора.
Оставалось расплатиться с Ленгартом за его труды, оценить которые, как мы знаем, было предоставлено Бенедикту.
Бенедикт держал при себе Ленгарта семнадцать дней; он дал ему четыреста франков и прибавил еще сто франков чаевых.
В ответ на эту неожиданную щедрость Ленгарт заявил о своей величайшей приверженности к Ганноверскому дому, а вследствие этого о своем нежелании возвращаться в Брауншвейг с того момента, как Брауншвейг стал прусским.
Подобное заявление дало ему еще две сотни франков от имени ганноверского короля и сотню франков от имени наследного принца.
Итак, Ленгарт принял решение.
Он намеревался продать сам или через доверенное лицо все кареты и всех лошадей, что были у него в Брауншвейге, и с теми деньгами, что у него уже имелись, собирался обосноваться и сдавать внаем кареты во Франкфурте, вольном городе, где ему никогда не придется больше видеть пруссаков.
Там жил его брат Ганс, состоявший на службе в одном из лучших домов в городе — у Шандрозов. Дочь г-жи де Шандроз, баронесса фон Белов, была крестной самого бургомистра. С такими знакомствами можно было добиться процветания во Франкфурте.
Бенедикт обещал ему клиентов, если судьба забросит его самого во Франкфурт.
Прощание Бенедикта с Ленгартом получилось крайне трогательным, но еще трогательнее было прощание Ленгарта с Резвуном.
Надо было расставаться.
Ленгарт отправился во Франкфурт. Король, наследный принц и Бенедикте Резвуном, перед тем как уехать в Вену, расположились в маленьком замке Фрёлихе Видеркер, что означает «Счастливое возвращение».
Вот так и сбылось предсказание Бенедикта: победа, падение, изгнание.
Теперь да будет нам позволено посвятить последние страницы этой главы рассказу о верности одного ганноверскою офицера и группы солдат, которые, как и все в ганноверских воинских частях, получив приказ присоединиться к армии в Гёттингене, не смогли выполнить его из-за своею стратегического местоположения. Лейтенант фон Дюринг имел в своем подчинении шестьдесят человек в Эмдене, в Восточной Фрисландии, на берегах Эмса.
Захват Ганновера прусской армией, совершившийся за несколько часов, полностью отрезал его от ганноверской армии. Если бы фон Дюринг двинулся по прямой, ему пришлось бы пересекать всю Западную Пруссию. Поэтому ему нужно было обогнуть Пруссию, направляясь через Голландию и Бельгию, и вернуться в Германию через Великое герцогство Люксембург.
Он начал с того, что приказал своим людям оставить оружие в казарме, затем пойти по домам и сменить военный мундир на крестьянскую одежду и, пройдя всю Голландию, присоединиться к нему it Роттердаме или в Гааге. Сам же он с одним лейтенантом уехал в штатской одежде прямо в Гаагу.
Но перед тем как оставить Ганновер, он понял, и очень вовремя, что ему понадобятся шестьдесят два паспорта для себя и своих людей.
По этому делу он пошел к одному бургомистру — можно понять, почему мы не упоминаем ни имени бургомистра, ни названия его города, — и попросил выдать ему шестьдесят два паспорта.
— Вы понимаете, комендант, — ответил ему славный человек, — что я не сумею, не скомпрометировав себя, выдать вам шестьдесят два паспорта. Но я могу вам сказать, где я держу бланки паспортов, могу оставить вас одного здесь и пойти прогуляться по городу. За это время вы злоупотребите моим доверием, моей печатью и штемпелем с моей подписью. И это будет только ваше дело, а не мое.
После чего он показал коменданту я ши к с бланками паспортов, вынул из стола штемпель и печать, взял трость и шляпу и пошел прогуляться по городу.
Господин фон Дюринг выправил шестьдесят два паспорта, взял еще три-четыре бланка для особых случаев и вышел из кабинета бургомистра.
В Гааге и в Роттердаме к нему пришли пятьдесят пять его солдат, и он с ними пустился в дорогу в направлении Брюсселя, Намюра и Люксембурга. Но Люксембург охраняли пруссаки. Тогда им пришлось пройти через Францию.
Они прибыли в Тьонвиль.
Там полицейский комиссар принял г-на фон Дюринга за вербовщика, набравшего солдат для пруссаков, и поэтому запретил ему проход через город.
Тогда г-н фон Дюринг все ему рассказал. Но это его признание привело только ко вторичному отказу, еще более категоричному, чем первый раз.
Господин фон Дюринг отправился в кафе «Военное». В свое время он служил в Алжире по просьбе ганноверского короля, пожелавшего, чтобы он повоевал вместе с французской армией, и теперь лейтенант нашел в этом кафе своего товарища по бивачной жизни, командира батальона; тот узнал его и сам занялся его делом.
И в самом деле, в тот же вечер г-н фон Дюринг и его солдаты пошли дальше и через Страсбург попали в Великое герцогство Баденское, а оттуда направились во Франкфурт. Там г-н фон Дюринг обнаружил тех из своих людей, которых он завербовал по дороге и которые, пройдя весь Ганновер и прусские аванпосты, пришли к нему сюда на встречу.
Господин фон Дюринг оставил своих людей во Франкфурте, а сам немедленно и спешно отправился в Мейнинген, столицу одного из тех мельчайших саксонских герцогств, которые на географических картах нужно разыскивать не иначе как с лупой. Но у него имелись точные сведения, и поэтому в своих поисках он преуспел.
Герцогство было занято главной ставкой баварской армии.
Там он узнал о победе при Лангензальце и о последовавшей за ней капитуляции ганноверской армии.
Он пошел к принцу Карлу Баварскому и попросил у него разрешения составить ганноверский вольный отряд, чтобы тот участвовал в войне с Пруссией на свой страх и риск.
Принц Карл — это воин, который встает в десять часов утра, занимается военными действиями после завтрака и после полуденного сна, то есть между часом и тремя пополудни, что оставляет ему много времени для теоретических занятий и позволяет язвительно критиковать операции ганноверской армии.
Господин фон Дюринг и четверти часа не поговорил еще с принцем, как понял, что ждать от него совершенно нечего, кроме пустых обещаний и хвастливых слов. Тогда он возвратился во Франкфурт, где обратился к Сейму, и тот дал согласие на его просьбу.
У его людей не хватало буквально всего, а в особенности одежды. Франкфуртские горожане собрались в кафе «Голландия» и тут же проголосовали за сбор денег, чтобы купить им рубашки и ботинки. Что же касается верхней одежды, то за ней отправились к крепость Майнца, не имевшей отношения ни к одной державе и подчинявшейся Сейму.
А дело это было тем более похвальное, что начал распространяться слух, будто г-н фон Бёзеверк, узнав о крайне дурном воспоминании, которое осталось у жителей Франкфурта о его пребывании в этом городе за пятнадцать лет до того, и о той неприязни, которую они питали к пруссакам, поклялся сделать Франкфурт козлом отпущения за всю Германию.
Далее мы увидим из этого рассказа, каким образом г-н фон Бёзеверк сдержал свое слово.
XXV О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО ВО ФРАНКФУРТЕ В ПРОМЕЖУТКЕ МЕЖДУ БИТВОЙ ПРИ ЛАНГЕНЗАЛЬЦЕ И БИТВОЙ ПРИ САДОВЕ
Жители Франкфурта издали с тревогой наблюдали за борьбой, которая велась в других частях Германии. Между тем они еще не верили, что эта борьба может добраться и до их города.
Двадцать девятого июня принц Карл Баварский был назначен командующим войск Германского союза.
В тот же день Франкфурт узнал о победе при Лангензальце.
И это было великой радостью для всего города, хотя люди не осмеливались проявить ее открыто.
Тридцатого июня Рудольфштадт и ганзейские города объявили, что выходят из Союза.
Вюртембергские и баденские войска пересекли город; солдаты группами в четыре-пять человек весело разъезжали по бульварам и улицам в извозчичьих колясках.
Первого июля распространилась весть о капитуляции ганноверской армии.
Третьего июля Мекленбург, Гота и Рейс младшей линии объявили о своем выходе из Союза.
Четвертого июля прусские газеты обвинили Франкфурт в том, что он изгнал из города всех прусских подданных, даже тех, кто устроился там на жительство вот уже десять лет тому назад, и к тому же в городе была устроена иллюминация по случаю победы при Лангензальце.
Всего этого вовсе не было, но, чем лживее были слухи, тем больше страха они нагоняли на жителей Франкфурта. Становилось очевидным, что пруссаки искали повода для ссоры с ними.
Пятого июля озабоченность усугубилась тем, что пришла весть о поражении Австрии между Кёниггрецем и Йозефштадтом.
Восьмого июля во Франкфурт прибыли первые сообщения о битве при Садове.
Все, что говорил о Бенедеке фаталист доктор Шпельц, осуществилось. После двух поражений Бенедек потерял голову и, если разговаривать на языке г-на Шпелмха, Сатурн увлек его на Марс и на Юпитер.
С другой стороны, то, что Шпельц предвидел насчет вооружения пруссаков — в соединении с их природной смелостью, — тоже подтвердилось. Нив одном из столкновений австрийцы не получили преимущества. Единственная победа над пруссаками была одержана королем Ганновера.
Но что более всего испугало жителей Франкфурта, так это поступивший от союзной военной комиссии приказ рыть окопы и устраивать оборонительные сооружения вокруг города.
На этот раз Сенат вышел из своей неподвижности, поднялся и высказал свой протест Сейму, утверждая, что Франкфурт — открытый город, что он не может защищаться и не желает этого.
Однако, несмотря на протесты Сената, во Франкфурте скапливались войска.
Двенадцатого июля было сообщено о прибытии нового войскового соединения.
Это оказался 8-й союзный корпус под командованием принца Александра Гессенского, состоявший из вюртембержцев, баденцев, гессенцев и австрийской бригады под командой графа Монте-Нуово.
Едва войдя во Франкфурт, граф Монте-Нуово осведомился о том, где находится дом Шандрозов, и приказал дать ему ордер на расквартирование к г-же фон Белинг — вдове, живущей там.
Граф Монте-Нуово, под чьим именем таилось более известное его имя — Нейперг, был сын Марии Луизы.
Это был красивый, высокий, элегантный генерал сорока восьми — пятидесяти лет; он предстал перед г-жой фон Белинг со всей изысканностью манер австрийского двора и, приветствуя Елену, вскользь произнес имя Карла фон Фрейберга.
Елена вздрогнула.
Эмма, будучи женой пруссака, сослалась на недавние ролы и осталась у себя и комнате. Она вовсе не желала оказывать честь своим гостеприимством человеку, против которого ее муж, может быть, уже завтра будет сражаться.
Это обстоятельство дало графу Монте-Нуово полную возможность остаться наедине с Еленой.
Не стоит и говорить, что Елена ждала этой минуты в крайнем нетерпении после того, как она услышала имя, произнесенное графом.
— Господин граф, — сказала она, как только они оказались одни, — вы произнесли одно имя.
— Имя человека, обожающего вас, мадемуазель.
— Имя моего жениха, — вставая, сказала Елена.
Граф Монте-Нуово поклонился и сделал ей знак сесть на место.
— Я это знаю, мадемуазель, — сказал он, — граф Карл — мой друг, и он поручил мне передать вам это письмо и рассказать вам на словах о том, что с ним происходит.
Елена взяла письмо.
— Спасибо, сударь, — сказала она.
И, желая поскорее его прочитать, сказала:
— Вы позволите, не правда ли?
— А как же! — сказал граф, поклонившись.
Он сделал вид, что рассматривает портрет г-на фон Белинга, изображенного в парадной форме.
… То были любовные клятвы и нежные уверения, какие пишут друг другу влюбленные. Старые слова и всегда новые, цветы, собранные в день творения, а по прошествии шести тысяч лет столь же благоуханные, что и в первый день.
Прочтя письмо, Елена тихо окликнула графа Монте-Нуово, все еще продолжавшего рассматривать портрет:
— Господин граф!
— Да, мадемуазель? — отозвался граф, подходя к ней.
— Карл дает мне надежду, что вы любезно пожелаете рассказать мне некоторые подробности, и добавляет: «Вероятно, до того как начнется драка с пруссаками, он будет иметь… вернее, мы будем иметь счастье повидаться».
— Это возможно, мадемуазель, в особенности при условии если мы вступим в военные действия с пруссаками не раньше чем через три-четыре дня.
— Где вы с ним виделись в последний раз?
— В Вене; он собирал там свой вольный отряд. Мы условились увидеться во Франкфурте, ибо мой друг Карл фон Фрейберг оказал мне честь, выразив желание служить под моим началом.
— Он пишет мне, что лейтенантом у него служит француз, которого я знаю. Вам известно, господин граф, о ком он говорит?
— Да, у ганноверского короля, которому он пожелал выразить свое почтение, он встретил молодого француза но имени Бенедикт Тюрпен.
— Ах, да! — смеясь, сказала Елена. — Это тот самый, кого мой зять пожелал женить на мне в благодарность за удар саблей, полученный от этого молодого человека.
— Мадемуазель, — сказал граф Монте-Нуово, — это для меня какая-то загадка.
— Да, для меня немножко тоже, — сказала Елена, — я попробую все же вам это как-нибудь объяснить.
И она рассказала то, что знала о дуэли Фридриха и Бенедикта.
Она едва успела закончить, как в дверь зазвонили и застучали одновременно.
Ганс пошел открывать.
И тогда из-за двери раздался голос, заставивший Елену вздрогнуть.
Спрашивали госпожу фон Белинг.
— Что с вами, мадемуазель? — спросил граф Монте-Нуово. — Вы так побледнели!
— Мне почудилось, — ответила Елена, — что я узнала этот голос.
В тот же миг дверь открылась. Появился Ганс.
— Мадемуазель, — сказал он, — это господин граф Карл фон Фрейберг.
— Ах! — вскричала Елена. — Я же его сразу узнала! Где он? Что он делает?
— Он внизу, в столовой, и спрашивает у госпожи фон Белинг разрешения выразить вам свое уважение.
— Ну, узнаете дворянина?.. — сказал граф Монте-Нуово. — Другой бы не стал расспрашивать вашу бабушку и прибежал бы прямо к вам.
— И я бы его простила, — промолвила Елена.
Потом она громко сказала:
— Карл, дорогой Карл! Идите же сюда!
Карл вошел, бросился в объятия Елены и прижал ее к своему сердцу.
Потом, осмотревшись, он заметил графа Монте-Нуово и протянул ему руку.
— Простите, граф, — сказал он, — я не сразу заметил вас. Но вам легко понять, что мои глаза видели только Елену. Разве Елена не так прекрасна, как я вам рассказывал, граф?
— Даже более, — ответил тот.
— О! Дорогая, дорогая Елена! — вскричал Карл, упав на колени и целуя ей руку.
Граф Монте-Нуово рассмеялся.
— Дорогой Карл, — сказал он, — я прибыл сюда час тому назад и попросил расквартировать меня в доме госпожи фон Белинг для того, чтобы иметь возможность выполнить ваше поручение. Я как раз выполнил его. когда вы позвонили. Таким образом, мне больше здесь нечего делать. Если я что-нибудь забыл, вы сами это исправите. Мадемуазель, могу ли я иметь честь поцеловать вашу руку?
Елена протянула руку, смотря на Карла, словно спрашивала у него разрешения, и тот утвердительно кивнул в ответ.
Граф поцеловал руку Елене, пожал руку другу и вышел.
Влюбленные вздохнули свободно и полной грудью. Посреди всяческих политических потрясений тех дней судьба послала им одну из тех редких минут, какие она дарит своим баловням.
Все слухи, что приходили с Севера, оказывались верными. Но в Вене еще не потеряли надежды. Сам император, императорская семья, государственная казна собирались перебраться в Пешт, и все готовились к отчаянному сопротивлению.
С другой стороны, уступить Венецию Италии означало высвободить 160 тысяч солдат, что могло усилить Северную армию.
Теперь оставалось только ободрить солдат победой, поднять настроение в армии, и подобного рода ожидания были связаны с верой в то, что принц Александр Гессенский вскоре одержит такую победу.
По всей вероятности, сражение будет дано где-то в окрестностях Франкфурта. Вот почему Карл фон Фрейберг избрал для своей службы армию принца Гессенского и бригаду графа Монте-Нуово.
Этот, по крайней мере, уж конечно будет участвовать в сражении. Двоюродный брат императора Франца Иосифа, мужественный и смелый солдат, граф имел все основания рисковать своей жизнью за торжество Австрийского дома, к которому он принадлежал.
Елена не спускала глаз с Карла. Он был все в том же мундире, в котором она видела его всякий раз, когда он выезжал на охоту или возвращался после нее. Между тем что-то неуловимое придавало ему теперь более воинственный вид, а лицу его — нечто более суровое. Чувствовалось, что он осознавал близившуюся опасность и, встречая ее по-мужски, относился к ней и как человек, дороживший теперь жизнью ради будущего счастья.
В это время маленькое войско Карла, помощником которого по командованию стал Бенедикт, стояло биваком в ста шагах от железнодорожного вокзала, как раз под окнами бургомистра Фелльнера. Это войско ничего не требовало от местной власти. Карл продал одно из своих земельных владений, поэтому каждый из его людей ежедневно получал по полфлорина на питание. Каждый был вооружен добрым карабином Лефошё с нарезным стволом, способным, как и прусские ружья, делать восемь — десять выстрелов в минуту. Наконец, каждый из его людей носил при себе сто патронов и, следовательно, эти сто человек могли сделать десять тысяч выстрелов.
Оба командира имели при себе по двуствольному карабину.
Возвращаясь из ратуши, бургомистр обнаружил перед своей дверью небольшой отряд в незнакомых ему мундирах. Он остановился с тем простодушным любопытством горожанина, которое называют праздношатанием.
Рассмотрев солдат, он стал изучать их командира.
Но здесь он остановился уже не только из простого любопытства, но от удивления.
Ему показалось, что лицо этого командира было ему немного знакомо.
И в самом деле, этот самый командир, улыбаясь, спросил его на превосходном немецком языке:
— Не разрешит ли мне господин бургомистр Фелльнер справиться о его здоровье?
— Ах! Небо и земля! — вскричал бургомистр. — Я не ошибаюсь! Это же господин Бенедикт Тюрпен!
— Браво! Я же вам правильно сказал, что у вас чрезвычайно развит орган памяти! Только такой и нужно иметь, чтобы узнать меня в этой одежде.
— Так вы, значит, стали солдатом?
— Офицером.
— Офицером! Извините.
— Да, офицером-охотником.
— Так поднимемся же ко мне, вам, безусловно, необходимо освежиться, да и людям вашим хочется пить. Не правда ли, друзья?
Егеря принялись посмеиваться.
— Больше ли, меньше ли, но нам всегда хочется пить, — ответил один из них.
— Так что же, вам сейчас спустят двадцать пять бутылок вина и стаканы, — сказал бургомистр. — А мы с вами поднимемся, господин Бенедикт!
— Помните, я вижу вас из окна, — сказал Бенедикт своим солдатам, — и будьте благоразумны.
— Будьте спокойны, капитан, — ответил тот, что уже вступал в разговор.
— Госпожа Фелльнер, — сказал, входя, бургомистр, — нот капитан добровольней, у него к нам ордер на расквартирование. Нужно его хорошо принять.
Госпожа Фелльнер, занимавшаяся вышивкой, подняла голову и посмотрела на гостя. Чувство, похожее на то, что недавно оживило физиономию ее мужа, появилось у нее на лице.
— О! Удивительно, друг мой, — воскликнула она, — как этот господин похож на молодого французского художника…
— Так! — сказал г-н Фелльнер. — Никакой возможности оставаться инкогнито! Сделайте комплимент моей жене, дорогой Бенедикт: вас узнали.
Бенедикт протянул руку г-же Фелльнер, но та взяла ее только с некоторым колебанием.
А в это время бургомистр, верный своему обещанию, отыскал в связке ключей тот, что открывал погреб, и собственной персоной спустился туда за вином, которым он хотел угостить людей Бенедикта, чтобы те выпили за его здоровье.
Но едва только за ним закрылась дверь, едва только добрая г-жа Фелльнер оказалась наедине с молодым французом, как она тут же обеими руками схватила его руку, коснуться которой только что не осмеливалась, и вскричала:
— О сударь, я только после вашего отъезда узнала, что вы предсказали моему мужу нечто ужасное! Должна ли я относиться к этому как к шутке или мне нужно опасаться беды?
— Сударыня, — сказал Бенедикт, — мне теперь не вспомнить, что я имел честь говорить вашему супругу. Для этого мне нужно еще раз взглянуть на его руку.
— Вы, значит, серьезно верите, сударь, — спросила напуганная женщина, — что по руке человека можно прочитать его судьбу?
— Я слишком добропорядочный христианин, чтобы не верить тому, что написано в Библии.
— В Библии, сударь? То, что вы сказали господину Фелльнеру, написано в Библии?
— Нет, но в Книге Иова, глава тридцать семь, стих семь, сказано: «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его». И Моисей сказал: «Закон Божий будет написан у тебя на лбу и на руке твоей».
— Значит, — спросила г-жа Фелльнер, — тот, кто стремится разгадать эти знаки, не совершает нечто нечестивое?
— Нет, сударыня, — ответил Бенедикт, — и заниматься этими важными тайнами — значит беседовать с Богом.
— Но, — спросила г-жа Фелльнер, — нет ли какого-нибудь способа победить, как же мне это лучше сказать, рок?
— Конечно, сударыня, у человека есть свободная воля: «Homo sapiens dominabit astra», сказал Аристотель, что значит — «Человек разумный побеждает заезды». Пусть господин Фелльнер еще раз даст мне руку и последует затем моим советам. Так, возможно, ему удастся избежать своей судьбы.
— Тише! — сказала г-жа Фелльнер. — Вот и он! Ни слова о моих страхах, не так л и? Он станет смеяться над ними.
— Будьте спокойны.
И действительно, г-н Фелльнер опять поднялся наверх, после того как на ходу, в нижнем этаже, раздал вино.
Минутой позже крики «Да здравствует господин бургомистр!» известили его о том, что вино было найдено вполне добро качестве иным.
XXVI СВОБОДНАЯ ТРАПЕЗА
Бургомистр пребывал в беспокойстве и не пытался скрыть его.
Пруссаки маршем шли на Франкфурт через Фогельсберг; теперь уже не могло обойтись без сражения на баварских границах, и в случае если союзная армия окажется разбитой, на следующий же день после этого пруссаки обязательно займут Франкфурт.
Сверх того, были даны распоряжения, о которых никто еще не знал, но которых никак нельзя было скрыть от него, бургомистра.
Четырнадцатого июля, то есть через день после описанной выше сцены, союзное собрание, военная комиссия и канцелярия получили приказ отправиться в Аугсбург; это доказывало, что Франкфурт не вполне мог быть уверен в возможности сохранить свой нейтралитет.
Все во Франкфурте убедились в том, что надвигался сильнейший кризис, и это возбудило еще больше симпатии жителей к последним защитникам дорогого всем дела, то есть дела Австрии.
Когда пришел обеденный час, богатые франкфуртские дома пригласили к себе командиров, а буржуа и народ — солдат; одни приводили их к себе в дом, другие накрывали столы перед своими дверями.
Герман Мумм, знаменитый торговец вином, пригласил сотню солдат, капралов и сержантов и поставил перед своей дверью огромный стол, на котором каждому было поставлено по бутылке вина!
Бургомистр Фелльнер, его зять доктор Куглер и другие жители улицы, выходившей к вокзалу, взяли на себя обязанность накормить сотню людей Карла.
Сам же Карл обедал у г-жи фон Белинг вместе с графом Монте-Нуово. Бенедикта удержала добрая г-жа Фелльнер, и он не смог отказаться от ее приглашения. Послали пригласить сенаторов фон Бернуса и Шпельца, но у каждого из них оказались свои приглашенные. Смог прийти один лишь г-н Фишер, журналист, живший по-холостяцки.
Принц Александр Гессенский обедал у австрийского консула.
Уличные обеды образовали удивительные контрасты с теми, что устраивались внутри домов. Выпивая вместе и не заботясь о завтрашнем дне, солдаты вспоминали только о смерти, а для солдата смерть — это всего лишь одетая во все черное маркитантка, которая наливает ему последний стакан водки в конце его последнего дня.
Солдат может бояться лишь того, что потеряет жизнь, ибо вместе с нею он теряет все, причем сразу. А вот торговец, банкир, наконец, буржуа, перед тем как потерять жизнь, может лишиться своего богатства, кредита, уважения. Он может оказаться свидетелем того, как разграбят его кассу, разорят дом, обесчестят жену и дочерей, как его дети будут напрасно просить о помощи. Его могут пытать посредством его семьи, его денег, его тела, его чести.
Вот об этом-то и думали жители вольного города Франкфурта, вот что мешало им быть такими веселыми, какими бы им хотелось показать себя перед гостями.
Что касается Карла и Елены, они не думали ни о чем, кроме одного — своего счастья. Для них настоящее было всем. Они хотели забыть обо всем остальном, и не силой воли, а силой любви — забывали.
Но из всех этих застолий самым печальным, несмотря на усилия Бенедикта внести в него оживление, оказалось, наверное, то, что устраивалось у бургомистра. Бенедикт не пытался скрывать от себя, что его предсказания в какой-то мере примешивались к этой печали. Подталкиваемый вопросами одних и неверием других, он в конце концов признался в том, что увидел на руке человека, тогда ему чужого, который потом виделся с ним еще не раз и, не став близким другом, превратился, однако, в приятного знакомого.
В отношении административных способностей г-н Фелльнер был действительно одним из самых дельных бургомистров, какие только бывали во Франкфурте; кроме того, это был превосходный отец семейства, обожавший своих детей и обожаемый ими! На протяжении четырнадцати лет, которые он был женат, ни облачка не появлялось на горизонте брачного союза супругов, и при мысли о каком-либо несчастье, способном омрачить их жизнь, бедная г-жа Фелльнер чувствовала, что она вот-вот разразится слезами. Такое было особенно в те минуты, когда она задумывалась о роковом предсказании Бенедикта.
В продолжение всего обеда г-н Фелльнер, хотя и поглощенный беспокойством чисто политического характера (ибо он лично не верил в предсказание, поскольку оно могло осуществиться только посредством самоубийства), тем не менее с помощью зятя-советника и своего друга Фишера сделал все что мог, чтобы добавить хоть немного веселья в мрачную тональность разговора.
Во время десерта вошел слуга и объявил Бенедикту, что Ленгарт, его спутник по путешествию, вновь предлагает ему свои услуги.
Бургомистр поинтересовался, кто же был этот Ленгарт; когда Бенедикт, смеясь, попросил у него разрешения пойти в прихожую, чтобы пожать Ленгарту руку, бывший владелец конторы по прокату карет оттолкнул плечом слугу, мешавшего ему пройти, вошел прямо в столовую и сказал:
— Не стоит вам утруждать себя, господин Бенедикт, я пойду прямо в столовую к господину бургомистру. Я не гордый. Здравствуйте, господин бургомистр и честная компания!
— А! — сказал бургомистр, услышав старосаксонский акцент. — Так ты из Саксенхаузена?
— Меня зовут Ленгарт, и я к вашим услугам. Я брат Ганса, что служит в доме у госпожи фон Белинг.
— Ну что же, тогда, друг мой, — сказал бургомистр, — выпей стаканчик вина за здоровье господина Бенедикта, которого ты захотел повидать.
— Два, если можно, он их вполне заслуживает! Да! Он то не шутит с пруссаками. Гром и молния! Как же он расправлялся с ними во время сражения при Лангензальце!
— Как, и ты там был? — спросил бургомистр.
— А как же! Был там и злился, что сам не мог так же хорошо поработать с этими кукушками!
— Почему ты называешь их кукушками? — спросил журналист.
— Да потому, что они ведь всегда лезут в чужие гнезда и подкладывают туда свои яйца!
— Но как ты узнал, что я здесь? — спросил Бенедикт, слегка смущенный таким бесцеремонным вторжением.
— Да чего там! Велика хитрость! — сказал Ленгарт. — Иду я спокойно по улице, вдруг ко мне подбегает собака и прыгает мне прямо на грудь. «Смотри, — говорю я, — это же Резвун, собака господина Бенедикта». Тут ваши люди стали разглядывать меня будто диковинку, потому как я произнес ваше имя. «А он, что, здесь, господин Бенедикт?» — спрашиваю я их. Они отвечают: «Да, он здесь, раз обедает у вашего бургомистра, господина Фелльнера, славного человека, у которого вино доброе… За здоровье господина Фелльнера!» Тогда я говорю себе: «Надо же, а ведь и правда! Это мой бургомистр, потому как со вчерашнего дня я обосновался во Франкфурте, а раз это мой бургомистр, я спокойно могу подняться к нему и поздороваться с господином Бенедиктом».
— Ну вот теперь, раз ты уже со мною поздоровался, дорогой Ленгарт, — сказал Бенедикт, — и раз ты уже выпил за здоровье господина бургомистра…
— Да, но я еще не выпил за ваше, мой молодой хозяин, мой благодетель, мой бог! Ибо вы — мой бог, господин Бенедикт. Когда я говорю о вас, когда я рассказываю о вашей дуэли, во время которой вы уложили сразу троих, одного за другим, одного — саблей, тот был крепкий, господин Фридрих фон… вы его знаете, правда? Другого — из пистолета, журналиста, такого верзилу, в вашем роде, господин Фишер.
— Спасибо, друг мой.
— Вроде я вам ничего плохого не сказал, а третьего…
— Да оставь же этих господ в покое, — вставил Бенедикт.
— Они в покое и есть, господин Бенедикт; смотрите как они все слушают.
— Пусть говорит дальше, — сказал доктор.
— Да если вам и не хочется, я все равно продолжу. Ах! Стоит мне заговорить о господине Бенедикте, никак умолкнуть не могу. А третьего — кулаками, этот никуда не годился. Не пожимайте плечами, господин Бенедикт, если бы вы захотели убить господина барона, это только от вас зависело, и вы бы его убили. Если бы вы захотели убить журналиста, и это только от вас зависело. Наконец, если бы вы захотели убить столяра, это тоже только от вас зависело.
— Так и есть, — сказал бургомистр, — мы читали всю эту историю в «Крестовой газете». Честное слово! Я же ее прочел, не подозревая, что это случилось именно с вами.
— А предсказание судьбы! — продолжал Ленгарт. — Это он нам расскажет! Он всеведущ, как колдун! Лишь взглянув на руку несчастного ганноверского короля, он предсказал ему нее, что с ним случилось. Сначала победа, а потом — кубарем вниз. Эх-эх, господин Бенедикт, не хотел бы я, чтобы вы мне предсказали, будто мне жить осталось неделю. Гром и молния! Я бы тут же заказал себе гроб.
Бургомистр слегка побледнел; Фишер сделал непроизвольное движение; г-жа Фелльнер поднесла платок к глазам.
— Ну а нам всем он предсказал, что с нами нее будет хорошо?
— Her, предсказал, что с нами нее будет плохо, — сказал журналист, пытаясь рассмеяться.
— Будет нам! — сказал Бенедикт. — Было это вечером, после обеда, видел я плохо, уверен, что если бы я теперь посмотрел…
— О да, да! — воскликнула г-жа Фелльнер. — Посмотрите, господин Бенедикт, посмотрите еще раз, умоляю вас.
— Я и сам бы этого хотел, — сказал Бенедикт.
— О, и я тоже, — воскликнул бургомистр, — вам не удастся сделать мне предсказание хуже того, что вы сделали мне в первый раз!
Бенедикт взглянул на руку бургомистра. Все глаза устремились на него. Это искусство, столь новое и столь древнее, разжигает любопытство даже тех, кто в него не верит.
Открытое и улыбающееся лицо молодого человека вновь стало серьезным, почти суровым. Он отпустил руку бургомистра и после минуты молчания сказал ему:
— Господин Фелльнер, мне хотелось бы сказать вам несколько слов, но только вам одному.
Господин Фелльнер встал и прошел в комнату рядом. Бенедикт последовал за ним.
— Господин Фелльнер, — сказал он ему, — говорю с вами серьезно и убежденно: вам угрожает большое несчастье. Вот здесь, в середине третьей фаланги среднего пальца у вас есть звезда. Эта звезда, находись она на самом холме Сатурна, указала бы на то, что вы будете жертвой убийства, а вот тут, где она у вас находится, она указывает на самоубийство. К счастью, вот эта линия, видите, которая поднимается от запястья через ладонь, теряется до того, как она могла бы с ней соединиться. Если бы она с ней соединялась, катастрофы нельзя было бы избежать, как это видно у господина Фишера, а вот вы, я уверен, вы можете ее избежать. Но для этого нужно… нельзя, конечно, утверждать, но, по-моему, вам нужно было бы уехать из Франкфурта. Нужно бежать, как бегут от стихийного бедствия, землетрясения, наполнения. Вам нужно подать в отставку, все бросить. Опасность именно здесь, а не в другом месте.
— Сударь, — ответил бургомистр, — не скажу вам, будто я совсем не верю вашей науке и мне безразлично то, что вы утверждаете в отношении меня. Нет, даже не до конца веря вашим словам, я удивительным образом подпадаю под впечатление от той уверенности, с какой вы мне это говорите. У меня есть все причины хотеть жить: у меня еще молодая жена, которая меня любит и которую я сам люблю, прекрасные дети, которых я должен воспитывать и наставлять в их юности, достаточное для моих нужд состояние, которое должно увеличиться от того, что мне предстоит получить еще не одно наследство, хотя я и не жду этого с нетерпением. Кроме того, я пользуюсь непререкаемым уважением и занимаю первостепенное положение в городе. И тем не менее, сударь, несмотря на все это, я обязан, особенно в минуту опасности, непоколебимо оставаться гам, куда мои соотечественники и Бог меня определили. Если, как вы мне говорите, в минуту отчаяния я наложу на себя руки, значит, судьба поставит передо мною выбор между бесчестием и смертью, и, подобно древним римлянам, что ложились в ванну и вскрывали себе вены, я сделаю это, предпочтя славу трусости. Как бы ни были страшны предзнаменования, я остаюсь и лицом к лицу встречу грядущие события… Вернемся, дорогой господин Бенедикт, благодарю вас за предупреждение, оно послужит мне тем, что я смогу принять меры предосторожности и смерть не застанет меня врасплох.
— В вас есть настоящее величие, сударь, — сказал Бенедикт. — Теперь я желаю только одного: чтобы моя наука не оказалось наукой. Вернемся, сударь, вернемся.
Но когда они проходили из гостиной в столовую, раздался двойной звук барабана и трубы: труба подавала сигнал «седлай», барабан — общую тревогу.
Госпожа Фелльнер ждала их с нетерпением, однако муж, улыбнувшись, сделал ей знак потерпеть. Пока что у него была более острая забота, а главное, более общая, и вызвана она была звуками военной тревоги.
— Оттуда мне говорят, сударыня, — произнес Бенедикт, протягивая руку к улице, — что у меня хватает времени лишь на то, чтобы выпить за здоровье вашего мужа и за долгую счастливую жизнь, которую ему создаете вы и вся ваша прекрасная семья.
Тост был поддержан всеми и даже Ленгартом, который, как он и сказал, выпил таким образом дважды за здоровье бургомистра.
После этого, пожав руку г-ну Фелльнеру, его зятю и журналисту и поцелован руку г-же Фелльнер, Бенедикт бросился на лестницу и вышел излома, крича:
— К оружию!
Тот же воинственный клич, послышавшийся к концу обеда, настиг Карла и Елену. Карл почувствовал ужасный удар в сердце. Елена побледнела, хотя и не знала ни значения барабанного боя, ни того, что означал звук трубы. Елена почувствовала их зловещий смысл.
Затем потому взгляду, которым обменялись г-н Монте-Нуово и Карл, она поняла, что пришла минута расставания.
Графу жалко было влюбленных, и, чтобы дать им попрощаться еще хоть мгновение, он попросил у г-жи фон Белинг разрешения уйти и сказал своему молодому другу:
— Карл, у вас есть четверть часа.
Карл бросил быстрый взгляд на стенные часы. Была половина пятого.
— Спасибо, генерал, — ответил Карл. — Буду на посту в назначенное время.
Госпожа фон Белинг проводила графа Монте-Нуово, а молодые люди, чтобы попрощаться наедине, бросились в сад, где их могла укрыть беседка, густо увитая виноградом.
Стоило бы попытаться, наверно, описать грустную песнь соловья в нескольких шагах от них, чем стараться пересказать диалог, прерывавшийся вздохами и слезами, клятвами, рыданиями, любовными обещаниями, страстными порывами и нежными вскрикиваниями. Что было сказано по истечении четверти часа? Ничего и все.
Нужно было расставаться.
Как и в прошлый раз, лошадь Карла в ожидании его стояла у входа.
Он пошел туда, превозмогая себя, увлекая за собою Елену, повисшую у него на руке. А там он стал покрывать ее лицо тысячью поцелуев.
Дверь оставалась открытой. Оба штирийца подавали ему знаки.
Пробило без четверти пять.
Он кинулся к лошади и вонзил ей шпоры в живот.
Штирийцы вскочили на лошадей по обе стороны от него и поскакали за ним галопом.
Последние слова, которые расслышал перед этим Карл, были таковы:
— Твоя в этом мире или в ином!
Последнее, что он ответил с пылом влюбленного и верой христианина, было:
— Да будет так!
XXVII БИТВА ПРИ АШАФФЕНБУРГЕ
Во время своего обеда принц Александр Гессенский получил депешу следующего содержания:
«Прусаки и авангард появился в конце дефиле Фогельсберга!»
Это сообщение крайне удивило главнокомандующего: он ожидал врага со стороны Тюрингенского леса.
Поэтому он немедленно отправил депешу в Дармштадт с распоряжением отряду в три тысячи человек выехать по железной дороге в Ашаффенбург и гам захватить мост.
Затем, что касалось местных действий, он немедленно приказал поднять общую тревогу и подать сигнал «седлай».
В Саксенхаузене у причала ждали два парохода.
На вокзале ожидала сотня вагонов вместимостью пятьдесят человек каждый.
Мы рассказали, какое впечатление произвели оба сигнала.
Был момент замешательства — какое-то время люди бежали: одни — направо, другие — налево. Мундиры смешались. Кавалеристы и пехотинцы перемешались между собой. Затем, через несколько минут, словно чьей-то ловкой рукой каждый был поставлен на свое место, кавалеристы оказались на лошадях, пехота — с ружьями к ноге. Все было готово к отправлению.
И на этот раз Франкфурт засвидетельствовал свою приязнь уже не просто к австрийцам, но к защитникам Австрии. Пиво переходило из рук в руки кружками, вино передавалось в кувшинах. Люди из самых лучших домов города обменивались рукопожатиями с офицерами. Самые изящные дамы подбадривали солдат. Братские чувства, которых до сих пор здесь просто не знали, рожденные общей опасностью, были растворены в воздухе вольного города.
Из окон грянули голоса: «Смелее! Победа! Да здравствует Австрия! Да здравствует союзная армия! Да здравствует принц Александр Гессенский!»
Сын Марии Луизы тоже услышал обращенные к нему выкрики «Да здравствует граф Монте-Нуово!». Но нужно сказать, что, поскольку кричали по большей части женщины, их восторг был вызван скорее его великолепной осанкой и превосходным военным мундиром, чем императорским происхождением.
Штирийские егеря Карла получили приказ занять места в первых вагонах.
Именно их должны были бросить первыми навстречу пруссакам.
Они с веселыми лицами скрылись в вокзале, сопровождаемые музыкой двух графских флейтистов.
За ними прошла австрийская бригада графа Монте-Нуово.
Затем, наконец, шла союзная армия, состоявшая из гессенцев и вюртембержцев.
Итальянская бригада была отправлена на пароходах. Итальянцы возражали против того, что их заставляли делать, и заявляли, что во имя австрийцев, своих врагов, они не сделают ни одного ружейного выстрела в пруссаков, своих союзников.
Железнодорожный состав ушел на полной скорости, увозя людей, ружья, пушки, зарядные ящики, боеприпасы, лошадей, полевые госпитали.
Через полтора часа они уже были в Ашаффенбурге.
Спускалась ночь.
Пруссаков еще не было видно.
Без сомнений, они не хотели вступать в последние дефиле Фогельсберга, не проверив их из опасения, как бы они ни охранялись.
Принц Александр Гессенский отправил на дорогу разведку.
Разведка вернулась к одиннадцати вечера, обменявшись несколькими ружейными выстрелами с пруссаками, находившимися в двух часах пути от Ашаффенбурга.
Один крестьянин, который шел по дефиле в то же время, что и пруссаки, рассказал, что их было примерно пять или шесть тысяч и что они остановились, ожидая еще одно запаздывавшее соединение в семь-восемь тысяч человек.
Таким образом, оказывалось, что силы противников были примерно равные.
Речь шла о том, чтобы защитить переход через Майн и, одержав победу, обезопасить Франкфурт и Дармштадт.
На дороге были расставлены штирийские егеря.
Они должны были уйти после того, как нанесут наибольший ущерб врагу, затем дать кавалерии и артиллерии действовать в свою очередь и соединиться с головными силами у моста — единственного места, где возможно было отступление союзной армии. Этот мост нужно было защищать до последнего.
В наступившей темноте каждый воин, готовясь к завтрашнему сражению, занял свой пост, поужинал и лег спать на биваке.
Резерв примерно в 800 человек разместился по домам Ашаффенбурга; он должен был защищать город дом за домом, в случае если на него будет совершено нападение.
Ночь прошла без тревоги.
Наступил день.
В десять часов Карл, сгорая от нетерпения, сел на лошадь и, поручив командование своими людьми Бенедикту, пустил лошадь галопом в сторону пруссаков.
Те, наконец, выступили в путь.
Тем же галопом Карл домчался до графа Монте-Нуово и вернулся к своим с двумя пушками; они были поставлены на огневую позицию поперек дороги.
Четыре срубленных дерева послужили своего рода оборонительным сооружением для артиллеристов.
Карл поднялся на это импровизированное сооружение вместе с двумя своими штирийцами, и те, словно они находились на обыкновенной охотничьей облаве, вынули из карманов свои флейты и принялись наигрывать самые нежные и самые прелестные мелодии.
Карл не смог удержаться — через минуту он тоже вытащил из маленького кармана куртки свою флейту, и на крыльях ветра полетело к его стране это последнее прощание.
А пруссаки все шли вперед.
Когда они были на расстоянии половины пушечного выстрела, залп из обоих австрийских стволов прервал мелодию наших трех музыкантов, они положили обратно в карманы флейты и взялись за ружья.
Два залпа картечи попали прямо в цель и убили и ранили человек двадцать.
Снова раздался грохот пушек, и новые посланцы смерти прошлись по рядам противника.
— Они попытаются в атаке захватить пушки, — сказал Карл, обращаясь к Бенедикту. — Возьмите пятьдесят человек, и я возьму пятьдесят, и проскользнем лесом по обеим сторонам дороги. У нас будет время выстрелить из ружей по два раза каждый. Надо снять сотню человек и пятьдесят лошадей. Пусть десять ваших солдат стреляют в лошадей, а остальные — в людей.
Бенедикт взял пятьдесят человек и проскользнул по правой стороне дороги.
Карл сделал то же самое слева.
Граф не ошибся. Полк прусских егерей вышел из середины вперед, и вскоре наши друзья увидели, как заблестели на солнце сабли.
Раздался громовый топот трехсот лошадей, ринувшихся галопом вперед.
И тогда с обеих сторон дороги поднялась беспорядочная ружейная стрельба, которую можно было бы принять за игру, если бы, как и предполагалось, при первых двух выстрелах полковник и подполковник не были бы сброшены с лошадей и если бы при каждом последующем выстреле не стали бы падать то человек, то лошадь.
Вскоре дорога оказалась заваленной мертвыми людьми и лошадьми. Задние ряды кавалеристов не смогли двигаться вперед. Кавалерийская атака захлебнулась в ста шагах от австрийских пушек, которые открыли огонь и окончательно смяли колонну.
Тогда пруссаки продвинули вперед артиллерию и поставили на огневую позицию шесть орудий, чтобы заставить замолчать две австрийские пушки.
Но наши егеря продвинулись примерно на триста шагов ближе к прусской батарее, и, когда шесть артиллеристов с размеренностью, какой отличается образ действий пруссаков, подняли фитили, чтобы открыть огонь, раздалось шесть ружейных выстрелов: три слева, три справа от дороги — и все шесть канониров упали.
Шесть других взялись за горевшие фитили и тотчас упали рядом со своими товарищами.
В это время обе австрийские пушки стреляли своими ядрами, и им удалось разбить одно прусское орудие.
Пруссаки сделали то, с чего должны были начать: выбили штирийских егерей. На эту операцию было брошено пятьсот прусских егерей с игольчатыми ружьями.
И тогда с двух сторон равнины началась устрашающая ружейная пальба. В то же время по дороге пехота колоннами продвигалась вперед, стреляя батальонным огнем по батарее.
Австрийские артиллеристы впрягли лошадей в передки пушек и поспешно отступили.
Отступая, они демаскировали бригаду Нейперга.
Маленькая возвышенность чуть впереди Ашаффенбурга была увенчана батареей из шести орудий, и огонь ее обрушился на прусские отряды.
Этот огонь уничтожал людей целыми рядами, но пруссаки все равно продолжали идти вперед. Граф Монте-Нуово, видя это, лично встал во главе полка австрийских кирасир и двинулся в кавалерийскую атаку.
И тогда принц Александр отдал приказ всей баденской армии поддержать графа.
К несчастью, он поместил на ее левом крыле итальянский полк, который уже во второй раз довел до его сведения, что будет поддерживать нейтралитет и не станет стрелять, даже оказавшись под выстрелами с обеих сторон.
— Если так, — сказал принц, — я прикажу стрелять в вас.
— Прикажите стрелять, — ответил тот офицер, кому было поручено высказать протест. — Мы итальянцы и поэтому враги Австрии. Все, что мы можем сделать, это не переходить к пруссакам.
Принц действительно приказал стрелять в них, и приказ был выполнен.
В итальянских рядах несколько человек упало, но прочие продолжали бесстрастно стоять с ружьями к ноге, не открывая огонь ни по пруссакам, ни по австрийцам.
То ли это получилось случайно, то ли они были предупреждены об этом нейтралитете, но пруссаки сосредоточили главный свой удар именно на это левое крыло, которое, оставаясь без сопротивления, позволило врагу вывести из строя соединение графа Монте-Нуово.
Штирийские егеря совершали чудеса. Они потеряли тридцать человек, а у противника убили более трехсот. Затем, в соответствии с данным им приказом, они подошли к началу ашаффенбургского моста.
Оттуда Карл и Бенедикт услышали ожесточенную перестрелку на краю города.
Это было правое крыло пруссаков, обошедших левое крыло принца Александра и атаковавших предместья города.
— Послушайте, — сказал Карл Бенедикту, — сражение проиграно. Рок преследует Австрийский дом. Я дам убить себя, ибо выполняю свой долг, но вы ведь ничем не связаны с нашей участью, вы воюете как охотник, вы, наконец, француз, и было бы просто безумием с вашей стороны дать себя убить за дело, которое к вам не имеет никакого отношения и даже не отвечает вашим взглядам. Сражайтесь до последней минуты, а потом, когда вам станет ясно, что любое сопротивление бесполезно, возвращайтесь во Франкфурт, бегите к Елене, скажите ей, что я мертв, если вы увидите меня мертвым, либо, если смерть отринет меня, отступаю с остатками армии на Дармштадт или Вюрцбург. Буду жив — напишу ей. А умру — так с мыслью о ней. Вот завещание моего сердца. Доверяю его вам.
Бенедикт пожал Карлу руку.
— Теперь, — продолжал Карл, — мне кажется, что долг солдата в том, чтобы до последнего дыхания стараться служить как можно лучше. У нас осталось сто семьдесят человек. Я возьму из них половину и постараюсь поддержать с ними защитников города; берите другую половину людей и оставайтесь у моста. Сделайте здесь все, что будет в ваших силах. Я тоже сделаю псе, что окажется в моих силах там, где буду. Вы слышите канонаду и ружейную пальбу — это приближаются пруссаки, а значит, нам нельзя терять ни минуты. Обнимемся.
Два молодых человека бросились друг другу в объятия. Затем Карл ринулся на улицы города и скоро исчез в дыму, который вот-вот должен был подступить и к мосту.
Бенедикт добрался до небольшого поросшего кустарником холма, откуда он мог бы прикрыть проход по мосту.
Едва лишь он гам утвердился, как увидел быстро приближавшееся облако пыли. Это мчалась баденская кавалерия: ее преследовали прусские кирасиры.
Первые беглецы прошли мост беспрепятственно, но очень скоро мост так заполнился людьми и лошадьми, что проход оказался забитым и последним рядам пришлось все же, хоть и против воли, обернуться и встретить лицом к лицу тех, кто их преследовал.
В эту самую минуту залп Бенедикта и его егерей положил на землю человек пятьдесят и двадцать лошадей.
Прусские кирасиры остановились в удивлении: мужество вернулось к баденцам. За первым залпом последовал второй, и стало слышно, как пули стучат по кирасам, словно град прошумел по крышам.
Пало тридцать человек и столько же лошадей.
Среди кирасиров началось замешательство. Баденцы воспользовались этим, вернулись с моста и пошли в атаку.
Но, отступая, кирасиры обнаружили перед собою разбитое их уланами австрийское каре, которое пруссаки гнали перед собой.
Каре оказалось между пиками уланов и саблями кирасиров.
Бенедикт увидел, как австрийцы смешались с уланами и кирасирами.
— Стреляйте в офицеров! — крикнул Бенедикт.
И сам, выбрав капитана кирасиров, выстрелил в него.
Капитан упал.
Другие тоже выбрали офицеров, но им было удобнее стрелять в уланов. Смертей стало еще больше.
Почти все прусские офицеры пали, и было видно, как их лошади, лишившись всадников, скачками прибились к эскадрону.
На мосту продолжалась давка.
Внезапно главные силы союзной армии подошли почти вперемешку с врагом.
В это же время по улице пылавшего города с обычным своим спокойствием отступал Карл. При каждом выстреле он убивал человека. Пулей с него сорвало его штирийскую шляпу, и он остался с непокрытой головой.
По его щеке текла струйка крови.
Оба молодых человека обменялись дружескими знаками. Резвун, узнав Карла, этого великолепного охотника, бросился к нему, радуясь, что он опять его видит.
В это время земля задрожала от тяжелого галопа. Это прусские кирасиры повторяли кавалерийскую атаку. Сквозь дорожную пыль и дым от ружейной пальбы видно было, как сверкали их кирасы, каски и лезвия сабель. Кирасиры проложили проход в толпе убегавших баденцев и гессенцев и продвинулись до трети моста.
Бенедикт видел, что его друг сражался с капитаном, которому он два раза всадил штык от своего карабина в горло.
Капитан упал, но на его месте оказались еще два кирасира, которые с поднятыми саблями напали на Карла. Двумя выстрелами из карабина Бенедикт убил одного и ранил другого.
Затем он увидел, как Карл, подхваченный и увлекаемый беглецами, оказался у моста, несмотря на все свои усилия соединиться с Бенедиктом. Со всех сторон он был окружен, и в таком положении ему оставался один выход к спасению — мост. Карл ринулся туда вместе со своими шестьюдесятью или шестьюдесятью пятью людьми, что у него оставались.
Там была ужасная свалка: люди шли по мертвым и раненым; прусские кирасиры верхом на своих рослых лошадях, похожие на великанов, направо и налево разили беглецов своими прямыми саблями.
— Огонь по ним! — крикнул Бенедикт.
Те из его людей, у кого были заряжены ружья, выстрелили: семь или восемь кирасиров, пораженные в незащищенные части тела, упали, по кирасам других звякнули пули.
Новая атака привела кирасиров в гущу штирийских егерей. Теснимый двумя всадниками, Бенедикт одного убил штыком, другой попытался раздавить его лошадью о парапет моста. Бенедикт выхватил свой короткий охотничий нож и всадил его по рукоять прямо в грудь лошади — та встала на дыбы, заржав от боли.
Бенедикт оставил кинжал в этих живых ножнах, проник между передними ногами лошади к парапету, перескочил его и в полном вооружении бросился в Майн.
Кидаясь вниз, он в последний раз посмотрел в ту сторону, где исчез Карл, но его взгляд напрасно искал друга.
Было, наверное, около пяти часов вечера.
XXVIII ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАВЕЩАНИЯ
Бенедикт бросился в Майн с левой стороны моста, и его относило течением к аркам.
Вынырнув, он осмотрелся и заметил у одной из арок привязанную лодку.
В лодке лежал человек.
Одной рукой гребя, в другой зажав карабин и держа его выше воды, Бенедикт поплыл к лодке. Перевозчик, увидев, что он уже подплыл к нему, поднял весло.
— Пруссак или австриец? — спросил он, держа поднятое весло.
— Француз, — ответил Бенедикт.
Перевозчик протянул ему руку.
Весь мокрый, Бенедикт влез в лодку.
— Двадцать флоринов, — сказал он лодочнику, — если через час мы будем в Деттингене. Нам поможет течение, и я буду грести вместе с тобой.
— Это просто, — сказал лодочник, — если б только знать потверже, что вы сдержите слово.
— Держи, — сказал Бенедикт, сбрасывая свою штирийскую куртку и шапку и шаря в кармане, — вот уже десять.
— Тогда за дело! — сказал лодочник.
Он взялся за одно весло, Бенедикт — за другое. Отделившись от каменной арки, лодка мгновение скользила в полутьме, а затем, подталкиваемая четырьмя крепкими руками, стремительно поплыла по течению реки.
Битва все еще продолжалась. Люди и лошади падали с моста в реку. Это напоминало «Битву на Фермодонте» Рубенса.
Бенедикту очень бы хотелось остановиться и посмотреть на это зрелище, но, на беду, у него совсем не было времени.
Никто не обратил внимания на эту маленькую лодку, уплывавшую с неимоверной быстротой.
Через пять минут оба гребца были уже вне досягаемости ружейного выстрела и, следовательно, вне опасности.
Проплывая мимо небольшого леска у берега реки, который назывался Красивая поросль, Бенедикту показалось, что он увидел окруженного группой пруссаков и отчаянно сражавшегося Карла. Но так как, за исключением золотого галуна на вороте его куртки, мундиры всех штирийцев были одинаковы, это мог быть один из его егерей, а вовсе не он сам.
Однако Бенедикту показалось также, что в этой схватке он заметил и собаку, похожую на Резвуна, и ему вспомнилось, что Резвун понесся за Карлом.
Панорама боя скрылась за первым же поворотом реки.
Затем был виден пожар в Ашаффенбурге. Наконец, еще дальше, за деревушкой Лидер, все исчезло.
Лодка летела по реке. Они быстро проплыли мимо Майнашаффа, Штокштадта, Клейностхейма.
Но потом берега Майна оставались пустынны вплоть до Майнфлингена.
А на другом берегу, почти напротив Майнфлингена, уже вставал Деттинген.
Пробило четверть седьмого, так что лодочник заработал свои двадцать флоринов. Бенедикт отдал ему деньги и перед тем, как с ним расстаться, чуть задумался.
— Хочешь заработать еще двадцать флоринов? — спросил он.
— Еще бы! — ответил тот.
Бенедикт посмотрел на часы:
— Поезд проходит только в четверть восьмого, у нас остается час.
— Это не принимая в расчет затруднений в Ашаффенбурге, что задержит состав еще на четверть часа, если совсем там его не остановит.
— Дьявол!
— Разве то, что я вам сейчас сказал, лишит меня моих двадцати флоринов?
— Нет, но сначала сходи в Деттинген. Ты точно моего роста, купишь мне там одежду лодочника, как у тебя. Полную, слышишь? Потом ты вернешься, и мы договоримся о том, что нам дальше делать.
Лодочник проворно выпрыгнул из лодки и бегом направился в Деттинген.
Через четверть часа он вернулся с полным костюмом, который стоил десять флоринов.
Бенедикт отдал ему эту сумму.
— А теперь, — спросил лодочник, — что нам делать?
— Можешь ли ты подождать меня здесь три дня с моим мундиром, пистолетами и карабином? Я дам тебе двадцать флоринов.
— Идет! Но если через три дня вы не вернетесь?
— Карабин, пистолеты и мундир останутся тебе.
— Да я и неделю здесь просижу. Надо же дать людям время, чтобы они устроили все свои дела.
— Ты славный парень. Как тебя зовут?
— Фриц.
— Ну, Фриц, тогда до свидания!
В несколько мгновений Бенедикт надел штаны, куртку и натянул на голову матросский колпак.
Он уже прошел десять шагов, как вдруг, остановившись, спросил:
— Кстати, где ты будешь жить в Деттингене?
— Моряк — как улитка: у него дом всегда с собой. Вы найдете меня тут же в лодке.
— И днем и ночью?
— И днем и ночью.
— Тогда все отлично.
И Бенедикт в свою очередь пошел в сторону Деттингена.
Предположение Фрица совершенно оправдалось. Железную дорогу захлестнуло сражение, понадобилось очистить путь, и поезд опоздал на полчаса.
Впрочем, это был последний состав, которому здесь удалось пройти, так как уже были посланы гусары разобрать железнодорожный путь из опасения, как бы из Франкфурта не прислали войск на помощь союзной армии.
Бенедикт взял себе место в третьем классе — ему, в его скромной одежде, оно подходило. Торопясь, как всякий вестник дурного, поезд на огромной скорости устремился вперед, в Ханау остановился лишь на несколько минут и тут же отправился во Франкфурт, куда и прибыл без четверти девять вечера с опозданием едва ли на десять минут.
Вокзал запрудили любопытные, пришедшие сюда за новостями.
Бенедикт поскорее пробрался в этой давке, узнал г-на Фелльнера, сказал ему на ухо: «Разбиты!» — и бросился со всех ног к дому Шандрозов.
Он позвонил у двери. Ганс открыл.
Елены дома не было.
Ганс пошел справиться о ней у Эммы.
Елена была в церкви Нотр-Дам-де-ла-Круа.
Бенедикт спросил, как пройти в эту церковь, и Ганс, догадываясь, что это от Карла принесены новости для Елены, вызвался проводить его туда.
Через несколько минут они были на месте.
Ганс хотел тут же вернуться домой. Но Бенедикт удержал его. Может быть, предстояло дать ему какое-нибудь поручение.
Оставив Ганса у дверей, он вошел в церковь.
Дрожащим светом единственной лампады был освещен только один придел. Перед алтарем стояла на коленях, а вернее, лежала на его ступенях, женщина.
Это была Елена.
Одиннадцатичасовой утренний поезд принес новость: этот день не обойдется без сражения. В полдень в сопровождении горничной Елена села в карету с Гансом на месте кучера и проехала по дороге на Ашаффенбург до Дорнигхеймского леса. Там, среди сельской тишины, она услышала пушечную стрельбу.
Не стоит и говорить, что каждый выстрел эхом отдавался в ее сердце. Вскоре у нее не стало более сил слушать все нараставший шум. Она опять села в экипаж, возвратилась во Франкфурт, попросила высадить ее у двери церкви Нотр-Дам-де-ла-Круа и послала Ганса домой успокоить сестру и бабушку.
Без разрешения баронессы Ганс не осмелился сказать Бенедикту, где была Елена.
С трех часов пополудни Елена молилась.
На звук приближавшихся шагов Бенедикта она обернулась. В первый миг, сбитая с толку его одеждой, она совсем не узнала молодого художника, за которого Фридрих хотел ее выдать замуж, и, приняв его за рыбака из Саксенхаузена, спросила:
— Вы ищете меня, друг мой?
— Да, — ответил Бенедикт.
— Так вы хотите сообщить мне о Карле?
— Я был его соратником в битве.
— Он мертв! — вскричала Елена, заламывая руки с рыданием и с упреком бросая взгляд, исполненный отчаяния, на изваяние Мадонны. — Он мертв! Он мертв!
— Я не могу поручиться, что он жив и не ранен. Но не думаю, чтобы он был мертв!
— Вы этого не думаете?
— Нет, клянусь честью, я не думаю этого.
— Он поручил вам передать мне что-то, расставаясь с вами?
— Да, и вот его собственные слова…
— О! Говорите же, говорите!
И Елена сложила руки и встала на колени на стул перед Бенедиктом, как она бы это сделала перед святым посланцем.
Оно всегда свято, послание, сообщающее нам что-то о тех, кого мы любим.
— «Послушайте, — сказал он мне, — сражение проиграно. Рок преследует Австрийский дом. Я дам убить себя, ибо выполняю свой долг…»
Елена застонала.
— А я, а я! — прошептала она. — Подумал ли он обо мне?
— Конечно. Послушайте. Он продолжал: «Но вы ведь ничем не связаны с нашей участью, вы воюете как охотник, вы, наконец, француз, и было бы безумием с нашей стороны дать себя убить за дело, которое даже не отвечает вашим взглядам. Сражайтесь до последней минуты, а потом, когда вам станет ясно, что любое сопротивление бесполезно, возвращайтесь во Франкфурт, бегите к Елене, скажите ей, что я мертв, если вы увидите меня мертвым, либо, если смерть отринет меня, отступаю с остатками армии на Дармштадт или Вюрцбург. Буду жив — напишу ей. А умру — так с мыслью о ней. Вот завещание моего сердца, доверяю его вам».
— Дорогой Карл! Ну, и?..
— Так вот, еще два раза мы встретились с ним во время битвы. Первый раз на ашаффенбургском мосту, где он был только легко ранен в лоб, а потом, через четверть часа, я увидел его между леском под названием Красивая поросль и деревней Лидер.
— А там?
— Там его окружали враги, но он еще дрался.
— Боже мой!
— Тогда я подумал о вас… Война кончена. Мы были последней живой силой Австрии, единственной ее надеждой. Мертвый или живой, Карл с этого часа — ваш. Хотите, я вернусь на поле битвы? Я стану искать его до тех пор, пока хоть что-нибудь не узнаю о нем. Если он мертв, я доставлю его сюда.
Елена не удержала рыданий.
— Если он ранен, я непременно привезу его вам, уверяю вас.
Елена ухватила Бенедикта за руку и, глядя на него в упор, сказала:
— Вы отправляетесь на поле битвы?
— Да.
— И будете искать его среди мертвых?
— Да, — сказал он, — пока не найду.
— Я еду туда с вами, — сказала Елена.
— Вы? — вскричал Бенедикт.
— Это мой долг. Теперь я вас узнала. Вы Бенедикт Тюрпен, французский художник, вы дрались с Фридрихом и могли его убить, но оставили ему жизнь.
— Да.
— Тогда вы друг, человек чести, и я могу вам довериться, едем.
— Решено?
— Решено.
— Вы искренне этого хотите?
— Я хочу этого!..
— Ну, что же, тогда не будем терять ни минуты.
— Как мы поедем?
— Поездов больше нет.
— Нас повезет Ганс.
— У меня есть лучший способ. Сейчас нам нужны такие лошади, которыми можно не дорожить. Нам нужна карета, которую можно разбить, кучер, которому можно приказать. И у меня есть такой человек: ради меня он разобьет любую свою карету и загонит всех своих лошадей.
Бенедикт позвал Ганса.
Тот появился.
— Беги к своему брату Ленгарту, пусть через пять минут будет здесь со своей лучшей каретой, лучшими лошадьми, с вином и хлебом. Когда поедет мимо аптекаря, пусть купит бинты, корпию и пластырь.
— О сударь, все это мне нужно записать.
— Хорошо! Карету, пару лошадей, хлеба, вина — этого ты не забудешь. Об остальном я позабочусь сам. Поезжай!
Затем, обернувшись к Елене, он спросил:
— Вы возьмете с собой родственников?
— О нет! — воскликнула она. — У них будет лишь одно желание — удержать меня. А я под защитой Девы Марии. Она стоит их всех.
— Тогда еще помолитесь, я приду за вами.
Елена встала на колени; Бенедикт бросился из церкви.
Через десять минут он вернулся со всем, что необходимо для срочной перевязки, и с четырьмя факелами.
Едва он вернулся, как у двери остановился Лен гарт с каретой, запряженной парой лошадей.
— Мы возьмем с собою Ганса? — спросила Елена.
— Нет, нужно, чтобы дома знали, где вы. Если мы найдем Карла раненым, нужно, чтобы его ждала готовая комната, чтобы предупредили хирурга; наконец, нужно, чтобы его приезд не причинил никаких тревог вашей сестре, едва оправившейся от родов, и вашей бабушке, старость которой нужно оберегать.
— В котором часу мы можем вернуться?
— Об этом ничего не знаю, но пусть ждут нас начиная с четырех часов утра. Вы слышите, Ганс? Если там станут беспокоиться за вашу молодую хозяйку…
— … ты ответишь, — вмешался Ленгарт (он успел войти в церковь вслед за Гансом), — пусть будут спокойны, раз господин Бенедикт Тюрпен находится рядом с нею.
— Вы слышите, дорогая Елена? Так вот, поедем когда захотите.
— Поедем сейчас, — сказала Елена, — не будем терять ни минуты. Боже мой! Когда я думаю, что, может быть, он лежит там на земле или прислонился к какому-нибудь дереву, к какому-нибудь кусту, что у него две-три раны, он теряет кровь и призывает меня на помощь умирающим голосом…
И в крайнем возбуждении она добавила:
— Вот и я, Карл! Вот и я!
Ленгарт со всего размаха прошелся ударом кнута по своим двум лошадям, и карета отъехала со скоростью ветра и с грохотаньем грома.
XXIX РЕЗВУН
Менее чем через полтора часа они оказались уже в виду Деттингена; разглядеть его было тем легче, что издали он казался центром обширного пожара.
Подъехав ближе, Бенедикт понял, что это были огни биваков. После победы пруссаки продвинули свои передовые посты вплоть до этого городка.
Елена боялась, что ей не позволят ехать дальше, но Бенедикт подбодрил ее, заверив, что милосердие к раненым и уважение к павшим, после окончания битвы проявляемые во всех цивилизованных странах, не оставляют ни тени сомнения не только в возможности получить разрешение для Елены разыскивать ее погибшего жениха, но и в поддержке, которую ей, безусловно, окажут в этих розысках.
Однако у передовых постов карету и в самом деле остановили. Начальники сторожевого поста не захотели взять на себя ответственность и пропустить карету. Они заявили, что об этом нужно сообщить генералу Штурму, командовавшему авангардом.
А главная ставка генерала Штурма находилась в деревушке Хёрштейн, расположенной слева от большой дороги, в пункте, продвинутом чуть дальше Деттингена. Оставалось узнать, на какой улице и в каком доме разместился генерал, и потом галопом ехать дальше, чтобы возместить потерянное время.
Когда они приехали к указанному дому, часовой, к которому они обратились, ответил, что генерал Штурм на ночном обходе.
Бенедикт осведомился, не оставил ли генерал какого-нибудь офицера или адъютанта, который мог бы его заменить на случай, если потребуется поскорее выдать какое-нибудь разрешение.
Ему ответили, что он может войти и поговорить с начальником штаба.
Он вошел.
Начальник штаба был занят: он подписывал приказы; услышав, что дверь его открыли, он сказал нетерпеливым тоном:
— Одну минуту!
Звук этого голоса заставил Бенедикта вздрогнуть: он где-то слышал его раньше. Где? Ему ничего не вспоминалось, но он явно уже слышал этот голос.
Вдруг его осенило.
— Фридрих! — воскликнул он.
Тот, кого он назвал этим именем, живо обернулся.
В самом деле, это был барон Фридрих фон Белов: король Пруссии своей волей назначил его начальником штаба к генералу Штурму. Эта должность стояла на пути к чину бригадного генерала.
Фридрихе удивлением посмотрел на этого лодочника, назвавшего его только что по имени и протягивавшего к нему руки. Но он тотчас же в свою очередь узнал Бенедикта.
Посыпались вопросы и ответы. Бенедикт коротко объяснил, что он приехал разыскать на поле битвы Карла: тот сражался целый день и, видимо, был убит или, по меньшей мере, ранен.
В какой-то миг Бенедикт, чуть было не сказал, что Елена, свояченица Фридриха, сидит в карете у этой двери. Но он вовремя удержал уже начатую фразу и не дал ей слететь со своих губ. Если и суждено было барону фон Белову услышать такое признание, то лишь из уст самой Елены.
Фридрих пришел в отчаяние, что ему нельзя было сопровождать Бенедикта в его розысках, поскольку он был обязан в отсутствие генерала оставаться в Хёрштейне, тем более что из-за грубости генерала, вполне оправдывавшего свое имя Штурм, которое означает «буря», Фридриху уже два или три раза пришлось очень пожалеть о своем согласии занять это место начальника штаба.
Но он дал заверенное печатью генерала разрешение на то, чтобы обойти поле битвы в сопровождении двух прусских солдат — для внушения уважения к этому делу — и хирурга.
Бенедикт удержал Фридриха, порывавшегося проводить гостя к карете, и обещал потом направить хирурга прямо к нему в штаб, чтобы тот отчитался перед ним о проведенной экспедиции. После этого Бенедикт пошел к карете, где его с нетерпением ожидала Елена.
— Ну как? — спросила она.
— Все как нужно, — ответил Бенедикт.
Затем он тихо сказал Ленгарту:
— Отъезжайте отсюда на двадцать шагов и остановитесь.
Ленгарт сделал как было сказано.
Только тогда Бенедикт рассказал Елене о том, что перед тем произошло.
Если бы ей захотелось увидеться с зятем, легко было сделать двадцать шагов назад. Если же, напротив, Бенедикт все сделал так, как хотелось ей самой, то им оставалось только продолжить путь.
При одной лишь мысли увидеться сейчас с зятем Елена вздрогнула. Она была убеждена, что он удержал бы ее и не позволил бы в полночь, среди мертвых и раненых, даже среди мародеров, которые всегда пробираются к трупам и грабят их, рисковать собой на поле битвы.
Поэтому она живо поблагодарила Бенедикта и сама крикнула Ленгарту:
— Вперед!
Ленгарт пустил лошадей галопом.
Они вернулись в Детгинген. Когда карета въезжала в город, било одиннадцать часов.
На главной площади Деттингена был разожжен огромный костер. Бенедикт вышел из кареты и приблизился к нему.
Перед костром прохаживался капитан. Бенедикт подошел к нему. Он вполне знал прусский характер и великолепно умел с ним обходиться, если не хотел столкновения.
— Извините, капитан, — сказал он, — знаком ли вам барон Фридрих фон Белов?
Капитан посмотрел сверху вниз на того, кто позволил себе обратиться к нему.
Не нужно забывать, что Бенедикт был одет лодочником.
— Да, — ответил тот, — я его знаю. Дальше?
— Не хотите ли оказать ему большую услугу?
— Охотно! Это мой друг, но каким это образом он обратился к тебе, чтобы попросить меня об этом?
— Сам он в Хёрштейне и не может оставить его по приказу генерала Штурма.
— Ну и что?
— А то, что он находится в самом глубоком беспокойстве насчет одного из своих друзей, которого, видно, либо убили, либо ранили сегодня, во время кавалерийской атаки прусских кирасиров на ашаффенбургском мосту. Он послал меня с одним моим приятелем, лодочником, как и я, на поиски этого друга, жениха вот той дамы, что вы видите в карете, и сказал: «Обратись вот с этой написанной моей рукой запиской к первому встретившемуся прусскому офицеру. Скажи ему, что ото не приказ, а просьба. Дай ему прочесть эту записку, и я уверен, что он окажется любезным и даст тебе то, что я здесь прошу».
Офицер подошел к огню, взял головешку и в ее свете прочел следующее:
«Приказ первому прусскому офицеру, которого встретит мой посланец, дать в распоряжение подателю сего двух солдат в качестве эскорта и хирурга. Оба солдата и хирург должны будут сопровождать подателя сего на поле боя, повсюду, куда он их поведет.
Составлено в главной ставке, Хёрштейн, одиннадцать часов вечера.
По приказу генерала Штурма начальник штаба барон Фридрих фон Белов».
Дисциплина и послушание — два великих достоинства прусской армии. Именно эти два качества сделали эту армию лучшей в Германии.
Стоило только капитану прочесть приказ своего начальника, он тут же оставил свой надменный вид, с которым только что разговаривал с беднягой-лодочником.
— Эй, там! — сказал он солдатам, сидевшим у огня. — Пришлите двух добровольцев для оказания услуги начальнику штаба Фридриху фон Белову.
Встало десять человек.
— Хорошо! Ты и ты! — сказал капитан, отобрав двух людей.
— Ну, а кто тут ротный хирург?
— Господин Людвиг Видершаль, — ответил голос.
— Где он расквартирован?
— Здесь, на площади, — ответил тот же голос.
— Известите его, что по приказу из штаба он должен этим вечером принять участие в поездке в Ашаффенбург.
Один солдат встал, пошел через площадь, постучал в дверь и мигом вернулся вместе с полковым хирургом.
Бенедикт поблагодарил капитана, и тот ответил, что ему было крайне приятно оказать любезность барону фон Белову.
Полковой хирург, хотя он и был человеком светским, сел в карету в дурном расположении духа из-за того, что его разбудили, едва он успел заснуть. Когда же он оказался лицом к лицу с молодой женщиной, красивой и в слезах, он извинился, что заставил себя ждать, и первым стал торопить с отъездом.
Карета по пологому спуску подъехала к берегу реки.
У береги стояло несколько лодок.
Бенедикт громко крикнул:
— Фриц!
На второй зов в лодке встал человек и ответил:
— Я здесь!
Бенедикт показался ему так, чтобы тот смог его узнать.
Все расселись в лодке.
Два солдата — спереди, Фриц и Бенедикт — у весел, полковой хирург с Еленой — сзади.
Сильный гребок веслами вынес лодку на середину реки.
Теперь задача была потруднее, чем вначале, на этот раз приходилось плыть против течения, но Бенедикт и Фриц были ловкими и сильными гребцами. Лодка легко заскользила по поверхности воды.
Они уже далеко отплыли от Деггингена, когда услышали, как часы на городской колокольне прозвонили полночь.
Проплыли Клейностхейм, Майнашафф, затем Лидер, затем Ашаффенбург.
Бенедикт сошел на берег немного выше моста. Как раз отсюда он и хотел начать поиски.
Они зажгли факелы и отдали их в руки двум солдатам.
Битва закончилась уже в темноте, поэтому вынесли только раненых, и мост все еще был загроможден мертвыми: в темных местах о них приходилось спотыкаться, а в более освещенных их можно было смутно разглядеть по белым мундирам.
Если бы Карл оказался среди пруссаков и австрийских солдат, его можно было бы легко узнать по серой куртке. Но Бенедикт был слишком уверен, что он видел, как тот дрался уже за мостом, и не стал терять время там, где его друга не было.
Они спустились к равнине с разбросанными по ней купами деревьев; в глубине ее тянулся лесок под названием Красивая поросль.
Ночь выдалась темной, луны не было, на небе не светило ни звездочки; можно было подумать, что дым и пыль от сражения так и остались висеть в воздухе между небом и землей. Время от времени широкие тихие зарницы приоткрывали горизонт, будто огромное веко: на секунду вырывался луч белесого света и мертвенно-тускло освещал пейзаж. Потом все опять погружалось в темноту, еще более густую, чем раньше.
Когда зарницы угасали, единственный свет по обоим берегам Майна давали два факела, которые несли прусские солдаты и который образовывал освещенный круг диаметром в дюжину шагов.
Елена, белая, словно тень, и, словно тень, казавшаяся нечувствительной к неровностям земли, шла посреди круга и говорила, протягивая вперед руки: «Там, вот там, там!», когда ей казалось, что она видит неподвижно лежавшие трупы.
Они подходили к указанному ею месту. Там в самом деле были трупы, и по мундирам их можно было признать скорее за пруссаков или австрийцев.
Время от времени им приходилось видеть тень, скользнувшую среди деревьев, и слышать быстро удалявшиеся шаги: то был кто-нибудь из тех презренных мародеров, которые следуют за армиями нашего времени, как когда-то за древними армиями шли волки, и которым помешали заниматься их омерзительным ремеслом.
Время от времени Бенедикт жестом останавливал шествие; воцарялось глубокое молчание, и в этом безмолвии он громко кричал: «Карл, Карл!»
Елена, с остановившимся взглядом, с затаенным дыханием, казалась тогда статуей Ожидания.
Ничто не слышалось в ответ, и маленький отряд вновь отправлялся на розыски.
Время от времени Елена тоже останавливалась и машинально, едва слышно, словно боясь собственного голоса, звала в свою очередь:
— Карл! Карл! Карл!
Они подходили к леску, и трупы стали попадаться все реже и реже. Бенедикт опять сделал одну из тех остановок, вслед за которой наступала тишина, и в пятый или в шестой раз крикнул:
— Карл!
Но на этот раз мрачный и продолжительный вой ответил ему и затих, заставив вздрогнуть сердца самых храбрых.
— Что это? — спросил хирург.
— Это собака воет около мертвого, — ответил Фриц.
— Неужели же?.. — прошептал Бенедикт.
А потом тут же крикнул, направляясь на голос собаки:
— Сюда, сюда!
— Боже мой! — произнесла Елена. — У вас появилась какая-то надежда?
— Может быть; идите, идите сюда!
И, не ожидая факелов, он кинулся вперед.
Выйдя к опушке леса, он опять позвал:
— Карл!..
Раздался тот же самый мрачный, жалостливый вой, но теперь он был уже ближе.
— Идите сюда, — крикнул Бенедикт, — это здесь!
Елена прыгнула через ров, вошла в лес и, не обращая внимания на то, что на ходу она рвала в клочья свое муслиновое платье, пошла вперед сквозь кустарник и колючие заросли.
Солдаты с факелами намеревались последовать за нею.
Там, в лесу, в нескольких местах послышался шум, который производили убегавшие мародеры.
Бенедикт сделал знак остановиться, чтобы дать время этим людям убежать. Потом, когда тишина восстановилась, он опять позвал:
— Карл!..
И на этот раз, как и раньше, ему ответил мрачный и жалостливый вой, но так близко, что у всех сжалось сердце.
Солдаты отступили на шаг.
Лодочник протянул руку.
— Волк! — сказал он.
— Где? — спросил Бенедикт.
— Вот, вот, там, — сказал Фриц, показывая рукой. — Не видите разве, вон в темноте глаза блестят как два угля.
И в этот миг вспыхнула одна из тех тихих зарниц. Ее свет проник сквозь верхушки деревьев, и стал отчетливо виден силуэт собаки, сидевшей у неподвижного тела.
— Сюда, Резвун! — крикнул Бенедикт.
Собаке пришлось сделать только один прыжок, чтобы оказаться рядом, она мигом бросилась на грудь хозяину и лизнула его. Потом, заняв прежнее место у трупа, она в четвертый раз завыла и на этот раз еще тоскливее, чем раньше.
— Карл здесь! — сказал Бенедикт.
Елена кинулась, так как она все поняла.
— Но он мертв! — продолжал Бенедикт.
Елена вскрикнула и упала на тело Карла.
XXX РАНЕНЫЙ
Подошли факельщики, и в свете горевшей смолы вырисовалась живописная мрачная группа.
Карл не оказался раздетым, как другие трупы, собака сторожила его тело и сумела его защитить.
Елена распростерлась на нем, приложив губы к его губам, плача и стеная. Бенедикт стоял на коленях около нее, а вокруг его шеи обвились собачьи лапы. Хирург стоял, скрестив руки, как человек, который привык к виду смерти и сопровождающего ее горя. Наконец, Фриц просовывал голову сквозь густую листву деревьев.
Все участники этой сцены были тихи и неподвижны.
Вдруг у Елены вырвался крик; она выпрямилась и встала, вся в крови Карла, с блуждающими глазами и рассыпавшимися волосами.
Все посмотрели на нее.
— Ах! — вскрикнула она. — Я схожу с ума.
Потом, опять упав на колени, она крикнула:
— Карл! Карл! Карл!
— Что случилось? — спросил Бенедикт.
— О! Сжальтесь надо мною, — произнесла Елена, — но мне показалось, что я ощутила на своем лице его дыхание. Словно он дождался меня, чтобы испустить последний вздох!
— Извините, сударыня, — сказал хирург, — но если тот, кого вы называете Карлом, не мертв, в чем я очень сомневаюсь, то времени терять нельзя, нужно оказать ему помощь.
— О, посмотрите, сударь! — сказала Елена, живо отстраняясь.
Хирург тотчас же наклонился к Карлу вместо нее. Солдаты приблизили факелы, и стало возможным рассмотреть бледное, но по-прежнему красивое лицо Карла.
Рана на голове явилась причиной того, что вся его левая щека покрылась кровью, и он был бы неузнаваем, если бы собака не вылизывала его, по мере того как вытекала кровь.
Хирург сначала ослабил галстук, потом приподнял верх тела, чтобы снять куртку.
Должно быть, рана была ужасна, так как куртка на спине была красна от крови. Хирург расстегнул одежду и четырьмя ударами скальпеля с привычной ловкостью разрезал рукав от ворота до обшлага, а куртку по всей длине спины, что позволило ему, разорвав рубашку, полностью открыть всю правую часть груди раненого.
Хирург попросил воды.
— Воды! — словно эхо, механически повторила Елена.
Река была в пятидесяти шагах от них. Фриц сбегал туда и принес полный деревянный башмак, служивший ему для вычерпывания воды из лодки.
Елена дала свой носовой платок.
Хирург смочил его в воде и принялся обмывать Карлу грудь, а в это время Бенедикт поддерживал туловище раненого, прислонив его к своим коленям.
Только тогда стало заметно, что у Карла был сгусток крови и на руке. Значит, у него было три ранения.
Рана на голове была незначительной: процарапана кожа под волосами, но кости не были задеты.
Рана» груди на первый взгляд казалась самой тяжелой; и действительно, кирасирская сабля вошла в трех дюймах от ключицы и вышла в спине над лопаткой.
Третья рана — она-то и была самая тяжелая — находилась на правой руке. Отражая удары, Карл подставил внутреннюю сторону руки под удар лезвия противника, и артерия была перерезана.
Однако эта рана спасла раненого. Большая потеря крови привела к обмороку, а во время обморока кровь перестала течь.
В продолжение всего этого тягостного осмотра Елена не переставала спрашивать:
— Он умер? Он умер? Он умер?
— Сейчас посмотрим, — ответил хирург.
И, взяв свой ланцет, он открыл вену на левой руке Карла. Сначала вследствие обморока кровь не потекла, но, нажимая на вену, доктор сумел выдавить из нее каплю теплой и красной крови.
Карл не был мертв.
— Он жив! — сказал хирург.
Елена вскрикнула и упала на колени.
— Что нужно сделать, чтобы вернуть его к жизни? — спросила она.
— Ему нужно перевязать артерию, — сказал хирург, — хотите, я отправлю его в полевой госпиталь?
— О нет, нет! — вскричала Елена. — Нет, я с ним не расстанусь. Значит, вы не думаете, что его можно довезти до Франкфурта?
— По воде можно. Признаюсь вам даже, что, видя интерес, который вы проявляете к этому молодому человеку, я предпочел бы, чтобы скорее кто-то другой, а не я, сделал эту трудную операцию. Так вот, если вы располагаете каким-нибудь быстрым средством перевозки по воде…
— У меня есть лодка, — сказал Фриц, — и я отвечаю, если господин (и он кивнул на Бенедикта) пожелает мне прийти на подмогу, я отвечаю за то, что мы будем во Франкфурте через три часа.
— Остается только знать, — сказал врач, — при том, сколько крови он потерял, проживет ли он эти три часа.
— Боже мой! Боже мой! — вскричала Елена.
— Не смею вас просить посмотреть сюда, сударыня, но вся земля залита кровью.
Елена горестно закричала и прикрыла рукой глаза.
Разговаривая с Еленой, обнадеживая ее и пугая с ужасным хладнокровием привыкших играть со смертью людей, хирург накладывал корпию по обе стороны грудной раны и перевязывал эту рану бинтом.
— Вы опасаетесь, что он потерял слишком много кропи? Сколько же можно потерять крови, чтобы при этом не умереть? — спросила Елена.
— Все относительно, сударыня: мужчина такой силы, как тот, которого я бинтую в данную минуту, может иметь в теле до двадцати четырех, двадцати пяти фунтов крови. Он может потерять четверть ее. Но это — все.
— Но, наконец, на что же я могу надеяться и чего мне опасаться? — спросила Елена.
— У вас есть надежда, что раненый доживет до Франкфурта, что он потерял меньше крови, чем мне кажется, что умелый хирург сделает ему перевязку артерии. У вас есть опасение, что начнется вторичное кровотечение сегодня или через восемь — десять дней при потере струпа.
— Но, в конце концов, его ведь можно спасти, правда?
— У природы есть столько возможностей, что надеяться нужно всегда, сударыня.
— Хорошо, — сказала Елена, — не будем терять ни минуты.
Бенедикт и хирург взялись за факелы, оба солдата подняли раненого и перенесли его на берег.
Хирург отправился в Ашаффенбург, чтобы купить матрас и одеяло. Фриц их принес.
Раненого поместили в кормовой части лодки.
— Нужно ли мне пытаться привести его в чувство? — спросила Елена. — Или я должна оставить его в том состоянии, в каком он находится?
— Ничего не делайте для того, чтобы вывести его из обморока, сударыня. Его обморок останавливает кровотечение, и, если перевязка артерии будет сделана до того, как он очнется, его еще можно спасти.
Каждый сел на свое место вокруг раненого.
Оба пруссака стояли в лодке с факелами в руках, Елена стояла на коленях, хирург поддерживал раненого, Бенедикт с Фрицем сели за весла. Резвун, вовсе не возгордившийся, хотя он сыграл такую видную роль во всем деле, сел на носу и горящими глазами изучал местность.
На этот раз проворная лодка, которую вели четыре сильные, умелые и привычные к веслам руки, ласточкой скользила по поверхности воды.
Карл оставался в обмороке. Врач опасался, как бы ночная свежесть — она всегда больше на реках, чем на земле, — не привела бы раненого в чувство. Но этого не приходилось страшиться: Карл все время оставался неподвижен и не подавал никаких признаков жизни.
Они прибыли в Деттинген. Бенедикт щедро расплатился с обоими пруссаками и попросил хирурга, которому Елена смогла только протянуть руку в знак благодарности, во всех подробностях отчитаться и поездке перед Фридрихом.
Бенедикт окликнул Ленгарта, заснувшего на сидении своей кареты.
Он должен был во весь опор вернуться во Франкфурт и позаботиться о том, чтобы к их приезду слуги с носилками были на берегу Майна во Франкфурте.
Что же касается самого Бенедикта, то он вместе с Еленой и раненым продолжал путь по воде, ибо вода была наиболее мягким способом передвижения, какой можно было найти для умирающего.
Ближе к Ханау небо начало светлеть, широкая розовато-серебристая лента протянулась над горами Баварии.
Легкое дуновение, что кажется дыханием зари, освежило растения, да и сердца людей, утомившиеся за эту тяжелую и неспокойную ночь. Первые лучи солнца вспыхнули во всех направлениях еще до того, как появилось само солнце; потом его сияющий диск взошел из-за горы, и природа проснулась.
Елене показалось, что легкая дрожь пробежала по всему телу раненого.
Она вскрикнула, и это заставило обоих гребцов обернуться.
И тогда Карл, не двигаясь ни одним мускулом, открыл глаза, прошептал имя Елены и опять закрыл их.
Все это произошло так быстро, что, если бы Бенедикт и Фриц не видели этого, как и Елена, она стала бы в этом сомневаться!
Эти раскрывшиеся глаза, этот вздох, вытолкнувший одно слово, показались не возвращением человека к жизни, а сном мертвого.
Иногда восход солнца оказывает такое действие на умирающих. Природа совершает последнее усилие над ними и, перед тем как навсегда закрыться, их веки приветствуют солнце.
Эта мысль пришла в голову Елене.
— Боже мой! — прошептала она, разражаясь слезами. — Не последним ли был этот вздох?
Бенедикт оставил на миг весло и приблизился к Карлу.
Он взял его за руку, пощупал пульс — пульс был незаметным. Он послушал сердце — сердце казалось немым. Он осмотрел артерии — кровь в артериях больше не пульсировала.
При каждой его попытке Елена шептала:
— Боже мой! Боже мой!
И наконец Бенедикт сам засомневался, как и она.
Тогда он отыскал в маленькой сумке, которую всегда носил при себе, небольшой ланцет и, повторяя опыт врача, кольнул им раненого в плечо. Раненый, видимо, ничего не почувствовал и не двинулся, но слабая капелька крови показалась там, куда перед этим вошло острие ланцета.
— Мужайтесь! — сказал Бенедикт. — Он жив.
И он опять взялся за весло… Елена принялась молиться.
В первый раз молитва целиком пришла ей на память. До сих пор она разговаривала с Богом только вздохами горя и надежды.
С предыдущего дня никто даже не задумался о еде, кроме Фрица. Бенедикт разломил хлеб и предложил кусок Елене.
Она с улыбкой отказалась, и это означало: «Разве ангелы едят?» Бенедикт, который отнюдь не был ангелом, поел и принялся грести.
Они подплывали к Оффенбаху и уже видели, как вдали вырисовывались силуэты Франкфурта. К восьми часам они должны были приплыть. Так и случилось: в восемь часов лодка причалила у улицы, ведущей к порту.
Уже издали они узнали Ленгарта с его каретой, а рядом с ним находился предмет, по форме походивший на носилки.
Итак, все данные наспех распоряжения были исполнены с умом.
Раненого приподняли с такими же предосторожностями, как и раньше, переложили его на носилки и задернули в них занавески.
Бенедикт хотел уговорить Елену сесть в карету к Ленгарту, ибо у этой милой девочки весь верх платья был испачкан кровью; но она закуталась в большую шаль и пожелала идти рядом с носилками. При этом, чтобы не тратить время, она попросила Бенедикта съездить за доктором Боденмакером — тем же врачом, что лечил барона фон Белова.
Сама же она прошла весь город, от улицы Саксенхаузен к дому своей бабушки, следуя за носилками с Карлом.
Люди смотрели на нее с удивлением, тихо переговаривались, подходили и задавали вопросы Фрицу, который шел сзади, и, так как Фриц отвечал, что это идет невеста за телом своего возлюбленного, а все знали, что мадемуазель Елена де Шандроз была невестой графа Карла фон Фрейберга, каждый, узнавая прекрасную и целомудренную девушку, с уважением отступал, давая дорогу и кланяясь.
Подойдя к дому, Елена увидела, что дверь сама собою открылась.
По обе стороны дверей бабушка и сестра, догадываясь о том, что произошло, встали, пропуская носилки и за ними Елену. На ходу девушка протянула руки обеим.
При виде глубокого отчаяния, написанного на ее лице, они расплакались и захотели помочь ей подняться по лестнице. Но Елену поддерживала та самая сила нервного напряжения, которая совершает чудеса. За носилками она прошла бы всюду, куда бы они ни двигались, и прошла бы за ними многие льё. Слушая обеих, она ограничилась только словами:
— В мою комнату!
Раненого отнесли в комнату Елены и положили на ее кровать.
К этому времени вместе с Бенедиктом пришел доктор Боденмакер. С помощью Ганса они освободили Карла от остатков его одежды и уложили в кровать.
Врач осмотрел его, и Бенедикт почти с такой же тревогой, как Елена, следил за осмотром.
— Кто осматривал этого человека до меня? — спросил врач. — Кто его перевязал?
— Полковой хирург, — ответила Елена.
— Почему он не перевязал артерию?
— Была ночь, при свете факелов и на открытом воздухе он не осмелился взяться за это и посоветовал обратиться к более опытному врачу, чем он сам. Вот я и обращаюсь к вам.
Хирург с беспокойством посмотрел на раненого.
— Этот человек потерял больше четверти своей крови, — прошептал он.
— Так что же? — спросила Елена.
Врач покачал головой.
— Доктор, — вскричала Елена, — не говорите мне, что нет надежды! Мне всегда говорили, что кровь очень быстро восстанавливается.
— Да, — ответил врач, — когда тот, кто потерял кровь, может есть, когда органы, что обновляют кровь, могут действовать. Но у этого молодого человека, — сказал он, посмотрев на раненого, бледного настолько, как если бы он был уже мертв, — все не так просто. Но это не имеет значения, врач обязан все испробовать. Попробуем перевязать ему артерию. Вы можете мне помочь? — обратился он к Бенедикту.
— Да, — ответил тот, — я имею некоторые понятия о хирургии.
— Вам, наверно, следовало бы уйти? — спросил хирург у Елены.
— О! Ни за что на свете! — вскричала девушка. — Нет, нет, я останусь здесь до конца.
— Тогда, — сказал хирург, — держите себя в руках, будьте спокойной, не подходите, ни в чем нас не стесняйте.
— Нужно ли мне подготовить зажим? — спросил Бенедикт.
— Нет надобности, — сказал врач, — теперь артерия не кровоточит. Я найду ее в мышце. Вы мне только подержите руку.
Бенедикт взял руку Карла и повернул ее внутренней стороной наружу.
Врач порылся в сумке, приготовил нить, положив ее на предплечье Карла, и, не разрешая обмыть рану, сделал продольный разрез примерно в два дюйма, а затем открыл артерию. Он быстро зажал ее маленькими щипцами, обернул нитью и затянул.
Операция была проведена так ловко, что это восхитило Бенедикта.
— Уже сделано? — воскликнула Елена.
— Да вроде так, — сказал врач.
— И с восхитительной ловкостью! — сказал Бенедикт.
— Теперь можете обмыть кровь, но только не снимайте сгустка на руке.
Под скальпелем вытекло крайне мало крови. Бледно-розовые ткани указывали на то, что вены были пусты.
— А теперь, — продолжал врач, — нужно непрерывно лить на эту руку ледяную воду, по капле, по капле.
В одно мгновение Бенедикт соорудил аппарат, при помощи которого через трубочку от вороньего пера из подвешенного к потолку сосуда стала капать вода.
Принесли льда и через несколько минут аппарат уже действовал.
— Теперь, — сказал врач, — посмотрим.
— Что посмотрим? — спросила Елена, охваченная дрожью.
— Посмотрим, как подействует ледяная вода.
Все трое стояли у кровати, и было бы затруднительно решить, кто из них более всего был заинтересован в удачной операции: врач из профессионального самолюбия, Елена из глубокой любви к раненому или Бенедикт из чувства дружбы, которое он питал к Карлу и Елене.
Когда первые капли ледяной воды стали падать на свежую рану, нанесенную врачом, раненый явно вздрогнул. Затем несколько раз по его телу пробежал легкий трепет, у него задрожали веки, глаза раскрылись и в полном удивлении посмотрели вокруг, потом в конце концов остановились на Елене.
Затем неясная улыбка появилась на губах Карла и в уголках его глаз. Губы его силились заговорить и словно выдохнули имя Елены.
— Ему не нужно говорить, — живо сказал врач, — по крайней мере, до завтрашнего дня.
— Молчите, друг мой, — сказала Елена. — Завтра вы скажете мне, что любите меня.
XXXI ПРУССАКИ ВО ФРАНКФУРТЕ
Известие о разгроме к Ашаффенбурге вызвало глубокую и всеобщую печаль во Франкфурте. Увидев, как действовали пруссаки, жители Франкфурта начали опасаться, как бы те, кто не посчитал нужным отнестись с уважением к владениям ганноверского короля, не поступили бы так же в отношении города, где заседал Сейм.
В тот же вечер, после битвы, как мы уже говорили, известие о бедствии достигло Франкфурта.
Появившееся на следующий день, 15-го, убеждение, что оккупация Франкфурта неминуема, наложило на весь город печать траура. Художник, посетивший так называемый Лес, прогулочную аллею, где летом бывают все жители города Франкфурта, не встретил там ни души.
Говорили, что пруссаки намереваются войти в город 16-го, во второй половине дня.
Спустилась ночь, и вместе с нею опустели улицы, а если на них и встречался какой-нибудь горожанин, то по его быстрому шагу было понятно, что он спешит устроить свои неотложные дела или же несет в какое-нибудь иностранное представительство на хранение деньги, драгоценности или ценные бумаги, ибо полагает, что держать их у себя дома небезопасно.
Окна и двери в домах закрыли рано. Можно было догадаться, что жители скрытно от других копали тайники и прятали туда столовое серебро и драгоценности.
Шестнадцатого утром Сенат развесил по всему городу листки, содержавшие следующее уведомление:
«Сенат — жителям города и сельской местности.
Прусские королевские войска войдут во Франкфурт и его окрестности. Наши отношения с ними значительно изменятся по сравнению с теми, что установились, когда войска стояли в нашем городе гарнизоном. Сенат сожалеет об изменениях, произошедших в этих отношениях, но общие жертвы, которые мы уже принесли, представятся нам легкими, если сравнивать то, что мы потеряли, с денежными средствами, которые нам еще предстоит принести. Всем гражданам и жителям города известно, что у прусских королевских войск образцовая дисциплина. В этот трудный час Сенат призывает горожан и жителей сельской местности оказать дружеский прием прусским королевским войскам».
В уведомлении, которое мы только что привели, не указывался срок, когда пруссаки собирались вступить во Франкфурт, но всем было ясно, что это произойдет либо в течение дня, либо, самое позднее, на следующий день.
Франкфуртский батальон получил приказ быть готовым выступить с музыкантами во главе навстречу пруссакам и этим оказать им почести.
С десяти часов утра все сколько-нибудь возвышенные точки, все колокольни, все площадки, с высоты которых можно было обозревать окрестности, а в особенности дорогу из Ханау, то есть из Ашаффенбурга, были заняты любопытными.
К полудню стало видно, что пруссаки высадились в Ханау. Поезд выбрасывал их тысячами, причем не на вокзал, а прямо на дороге, где с предосторожностями, свидетельствующими о том, что победители не совсем освобождены от опасений, они мгновенно занимали стратегические точки.
Между тем ничего нового не произошло вплоть до четырех часов пополудни. В четыре часа франкфуртцы увидели, как из Ханау один за другим пошли поезда с победоносной армией, которая стала собираться у ворот города от четверти пятого до семи часов вечера. Вне всякого сомнения, генерал Фапькенштейн рассчитывал, что муниципалитет от имени города явится к нему изъявить свою покорность и, может быть, на серебряном подносе принесет ему ключи от города. Генерал прождал напрасно.
Авангард прусских войск состоял из тех самых кирасиров, что с таким напором снова и снова совершали кавалерийские атаки во время ашаффенбургской битвы; в широких плащах и стальных шлемах они казались призраками.
И каждый в городе мог ожидать у себя к ужину статую Командора.
У Цейля, когда он освещается заходящим солнцем, часто появляются тона, вызывающие чрезвычайно грустное настроение. В тот вечер, помимо глубокой печали и полного молчания тех, кто собрался, чтобы посмотреть на вступление в город победоносной армии, улица местами выглядела (толи на самом деле, толи в воображении напуганных людей) темнее обычного, и на этом фоне, словно эскадрон призраков, вырисовывались прусские кирасиры.
Их трубы прозвучали погребальными фанфарами.
Люди совершенно забыли, что пруссаки были все же немцы, как и они, ибо поведение победителей явно указывало на то, что они были только врагами.
В эту минуту послышалась музыка франкфуртского батальона. Он шел навстречу пруссакам. У Цейля они повстречались, батальон выстроился в боевом порядке и взял на караул, в то время как барабаны отбивали сигнал приветствия.
Но пруссаки, казалось, лаже не заметили эти дружеские шаги.
Подпрыгивая на лафетах, примчались две пушки. Одну поставили в боевую позицию, чтобы угрожать Цейлю, другую направили на Росс-Маркт.
Головные отряды прусской колонны сгруппировались на площади Шиллера и на Цейле: с четверть часа или около этого всадники еще оставались верхом и в боевом строю, затем они спешились и встали рядом со своими неподвижными лошадьми, будто в ожидании приказов. Такое временное расположение войск, такое страшное ожидание продолжалось до одиннадцати часов вечера. Внезапно, когда часы пробили одиннадцать, прусское войско пришло в движение, распределяясь группами по десять, пятнадцать или двадцать человек, и эти группы принялись стучать в двери франкфуртских домов и вторгаться в них.
По городу не было отдано никакого приказа насчет суточного рациона продовольствия и вина для солдат. Результатом такого положения вещей явилось то, что пруссаки, считая Франкфурт завоеванным городом, выбирали себе для постоя самые благоустроенные дома.
Франкфуртский батальон в течение четверти часа оставался в положении «на караул», а по прошествии этого времени командир батальона отдал приказ поставить ружья к ноге. Оркестр продолжал играть. Ему было приказано прекратить музыку.
Так прошло два часа, и поскольку франкфуртскому батальону не удалось обменяться ни одним словом с прусской армией, командир батальона отдал приказ возвратиться в казарму, опустив оружие и ослабив шнуры барабанов, как это делается во время погребального шествия.
Это и были похороны свободы Франкфурта!
Вся ночь прошла точно в таких страхах, какие бывают, когда город берут приступом. Если двери открывали с задержкой, то пруссаки их взламывали; из домов слышались крики ужаса, и никто не осмеливался спросить, что же было причиной подобных криков. Дом Германа Мумма казался одним из самых солидных, и в эту первую ночь хозяину пришлось разместить и накормить двести солдат и пятнадцать офицеров.
В другом доме, принадлежавшем г-же Люттерот, оказалось пятьдесят человек, развлекавшихся тем, что они били окна и ломали мебель, утверждая, что г-жа Люттерот, давая у себя вечера и балы, никогда не приглашала на них прусских офицеров.
Такого рода обвинениям, служившим предлогом для неслыханных насилий, подвергались как высшие, так и низшие слои населения. Франкфуртских мастеровых обвиняли в том, что они всегда были любезны только с австрийцами и в своей приязни к ним доходили до того, что отказывались принимать к себе на жительство прусских офицеров. И эти офицеры говорили солдатам: «Вы имеете право отбирать все, что угодно, у этих франкфуртских мошенников, которые, видите ли, одолжили Австрии двадцать пять миллионов без процентов».
Напрасно им объясняли, что у Франкфурта никогда и не было в кассах двадцати пяти миллионов; что, если город и имел бы их, подобный заем не мог быть произведен без особого на то постановления Сената и Законодательного корпуса и что самый ловкий и пытливый желающий не найдет и следа такого постановления. Офицеры настаивали на своем, и, поскольку не приходилось слишком стараться, чтобы подстрекнуть солдат к предварительному грабежу в ожидании большого мародерства, которое им было обещано, те проявляли самое грубое насилие, считая, что это им позволяла ненависть, с какой их начальники относились к несчастному городу. С этой ночи началось то, что по справедливости нельзя назвать иначе как п русский террор во Франкфурте.
Дабы ободрить тех из наших читателей, кто мог бы обеспокоиться тем, что же этой мрачной ночью происходило в доме у семьи Шандроз, мы поспешим сказать, что Фридрих фон Белов, знавший о приказе обращаться с Франкфуртом как с враждебным городом, предвидел такое насилие; вследствие чего он отправил фельдфебеля с четырьмя солдатами охранять дом Шандрозов под предлогом того, что этот дом предназначен для размещения генерала Штурма и его штаба. Он рассчитывал, что присутствие в доме генерала и особенно его самого защитит дом и тех, кто в нем находился.
Наступил рассвет.
Во время этой ужасной ночи мало кто сомкнул веки. Поэтому с самого раннего часа все уже вышли на улицы осведомиться о новостях, и каждый при этом жаловался на свои собственные несчастья и интересовался несчастьями других.
И тогда горожане увидели, как городские расклейщики медленно, понурив голову, с видом людей, работающих по принуждению, расклеивали следующее объявление:
«Данной мне властью в герцогстве Нассау, городе Франкфурте и его окрестностях, а также в занятой прусскими войсками части Баварии и в Великом герцогстве Ггссенском объявляю, что служащие и чиновники в названных местностях вплоть до нового распоряжения будут получать приказы только от меня. Эти приказы я буду доводить до них надлежащим образом.
Главная ставка, Франкфурт, 16 июля 1866 года.
Главнокомандующий Майнской армией Фалькенштейн».
Через два часа генерал фон Фалькенштейн направил сенаторам Фелльнеру и Мюллеру ноту, в которой он заявлял, что, поскольку воюющим армиям, которые находятся во вражеской стране, приходится самим обеспечивать себя всем необходимым, городу Франкфурту надлежит поставить для Майнской армии, находящейся под его началом, следующее:
1) каждому солдату по паре ботинок образна, который будет представлен;
2) триста хороших лошадей, приученных к седлу, в возмещение значительного числа потерянных армейских лошадей;
3) годовое жалованье Майнской армии, причем вся сумма должна быть немедленно направлена в армейскую кассу.
Взамен этого город Франкфурт будет освобожден от всех поставок натурой, за исключением сигар; к тому же генерал берется снизить только до самой крайней необходимости бремя военного расквартирования.
Сумма, затребованная на жалованье Майнской армии, равнялась семи миллионам семистам сорока семи тысячам восьми флоринам (7 747 008 флоринам).
Оба сенатора тотчас же отправились в главную ставку, чтобы высказать свои соображения.
Генерал фон Фалькенштейн приказал ввести их к себе.
— Ну, господа, вы принесли мне деньги?
— Мы сначала хотели бы заметить вашему превосходительству, — ответил г-н Фелльнер, — что у нас нет полномочий издать постановление о выплате подобной суммы, так как городские власти, будучи распущены, не могут дать нам своего согласия.
— Это меня не касается, — сказал генерал, — я завоевал страну и взимаю контрибуцию. Таковы законы войны.
— Не будете ли вы столь любезны позволить мне заметить вашему превосходительству, — ответил г-н Фелльнер, — что завоевывают только то, что защищается. Вольный город Франкфурт считал себя защищенным договорами и вовсе не задумывался о том, что будет вынужден сам себя защищать.
— Франкфурт прекрасно сумел найти двадцать четыре миллиона для австрийцев, — вскричал генерал, — так что он прекрасно найдет и пятнадцать-шестнадцать для нас. Впрочем, если он их не найдет, я возьму на себя самого труд их отыскать. Я отдам разрешение на грабеж в течение четырех часов, и мы увидим, не будет ли получена нами вдвое большая сумма на Еврейской улице и из касс здешних банкиров.
— Сомневаюсь, генерал, — холодно заговорил опять г-н Фелльнер, — чтобы немцы согласились так поступать с немцами.
— Полно, кто вам говорит о немцах? У меня есть польский полк: я специально привел его для этой надобности.
— Мы никогда не делали ничего дурного полякам. Мы предоставляли им убежище, защищая от вас и от русских всякий раз, когда они нас об этом просили. Поляки не являются нашими врагами. Поляки не станут грабить Франкфурт.
— Вот мы и посмотрим, — сказал генерал, топнув ногой и обронив одно из тех ругательств, на которые только пруссаки имеют монополию. — Меня мало заботит, что меня прозвали вторым герцогом Альба!
XXXII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПРЕДСКАЗАНИЕ БЕНЕДИКТА ПРОДОЛЖАЕТ СБЫВАТЬСЯ
По мере того как генерал все больше горячился, бургомистр Фелльнер, казалось, напротив становился хладнокровнее. Он вынул из кармана бумагу и сказал:
— Двадцать второго октября тысяча семьсот девяноста второго года главнокомандующий Кюстин под предлогом того, что во Франкфурте изготавливали фальшивые ассигнаты, что здесь давали приют эмигрантам и поддерживали какого-то генерала-аристократа — все это было столь же надумано, как и то, в чем вы упрекаете нас, — навязал городу контрибуцию едва миллиона флоринов, из которых был выплачен только один миллион. Так вот, министр Ролан, человек справедливый, надо вам сказать, сударь, направил Лебрену, министру иностранных дел, протест против этой контрибуции. Я прочту вам из нею несколько выдержек.
— Нет, надобности, сударь, — сказал генерал, — нет надобности!
— Напротив, есть надобность, и даже очень большая, сударь, — сказал бургомистр, поклонившись, — вы увидите, как люди, оставившие след в истории, говорили о нас, а в особенности о себе самих.
«Сознание нашей силы, — утверждал Ролан, — не сделает нас бесчувственными к славе и еще менее к справедливости. Франкфурт, конечно, вольный город, но его местоположение, его политические связи и собственная его слабость делают из него независимое государство.
В качестве члена образованного немецкими государствами объединения этот город не смог в германском Сейме противостоять большинству голосов: его обязали привести в готовность свой военный контингент. Тем не менее сам этот поступок, за который более чем за все иное, можно укорить город Франкфурт, никак не подтверждает возложенное на него обвинение во враждебном или оскорбительном отношении к нашей революции. Каким весом могут обладать в глазах большой нации жалкие придирки, при помощи которых эту республику пытаются обвинить в ее так называемых дурных намерениях по отношению к нам».
Отбросив эти обвинения, Ролан продолжал так:
«Мы хотим показать себя великодушными, мы в этом во всеуслышание поклялись. Так начнем же с того, что хотя бы будем справедливыми, попробуем завоевать сердца любовью и возвышенностью наших принципов. Только давая людям урок справедливости, внушая им чувства независимости, свободы и равенства, мы покараем наших врагов».
И вот как он заканчивает:
«Справедливость и достоинство французской нации требуют, чтобы к франкфуртцам относились как к друзьям, как к братьям и чтобы их освободили от контрибуции, которую в своем излишне суровом рвении им навязал Кюстин».
Голос этого министра, который впоследствии, перед тем как на обочине дороги перерезать себе горло, написал в качестве завещания слова: «Прохожий, уважай тело порядочного человека!» — его голос был услышан, и справедливость в соответствии с его требованием восторжествовала.
Так обойдитесь же с нами, господин генерал, — продолжал бургомистр, — так же, как с нами обошлись французы. Мы слишком справедливы, чтобы отказать утомленным войскам в гостеприимстве, которое им необходимо, и даже в субсидии, в которой они нуждаются. Но, что бы там ни говорили, город все-таки не настолько богат, чтобы без сопротивления согласиться на первую же сумму, которая придет в голову какому-нибудь генералу. Если бы у меня было такое состояние, как у господина Ротшильда или господина Бетмана, и я бы при этом по-прежнему имел честь быть бургомистром, каковым являюсь сейчас, я отдал бы вам из собственной кассы все семь требующихся миллионов, положившись на порядочность моих соотечественников: они возместили бы мне потом эту сумму.
Но состояние господина Мюллера и мое, вместе взятые, не покроют даже двадцатой части контрибуции, которую вы с нас спрашиваете. Таким образом, я могу лишь объявить вам от своего имени и от имени моих сограждан о том, что в нашем положении нам не представляется возможным удовлетворить ваше требование. Вспомните, как поступили при таких же обстоятельствах французы и два их выдающихся министра — Лебрен и Ролан. Будьте же великодушны, последуйте их примеру, и наша благодарность вам обеспечена.
— Прежде всего, — ответил генерал, — мне нечего делать с вашей благодарностью. Я не министр внутренних или иностранных дел. Я солдат. Если бы господа Лебрен и Ролан оказались на моем месте, они, возможно, поступили бы так же, как и я.
— Нет, господин генерал, — холодно ответил г-н Фелльнер, которому, казалось, его коллега полностью уступил право на слово, — нет, все было не так. Вот что один французский генерал — это был генерал Невингер — приказал двадцать пятого октября тысяча семьсот девяносто второго года вывесить на стенах нашего города, куда он вошел как враг накануне этого дня:
«Узнав, что некоторые граждане этого города, в частности хозяева постоялых дворов, торговцы вином и продавцы пива, считают себя обязанными предоставить, не требуя платы, всякого рода провиант, каковой у них могут потребовать некоторые представители французской армии, мы просим членов Совета города довести до сведения всех граждан, что со дня нашего прибытия мы совершенно определенно выразили стремление, чтобы находящимся под нашим началом солдатам все предоставлялось не иначе как с надлежащей и справедливой оплатой. Настоящий приказ неоднократно доведен до сведения всей армии, и мы убеждены, что ни один человек из соединения, которым мы командуем, не пожелает обесчестить имя французского гражданина, забыв о самом святом из законов — об уважении частной собственности».
Вот что написал генерал Виктор Невингер двадцать пятого октября тысяча семьсот девяноста второго года, первого года Французской революции, и если вы в этом сомневаетесь, генерал, то будьте добры, взгляните на это объявление, оно хранится в нашем муниципалитете в память о бескорыстии и честности французской нации. Сожалею, генерал, что мне приходится вызывать в вас то нетерпение, которое, кажется, вы испытываете, но, видите ли, для сражений в моем арсенале имеется только то оружие, что дала мне эта благородная нация, и я им пользуюсь!
— А что до меня, — ответил генерал Фалькенштейн, — то я располагаю тем оружием, что дает сила, и предупреждаю вас, что, если сегодня же, в шесть часов вечера, деньги не будут приготовлены, завтра утром вы будете арестованы и посажены в камеру, откуда выйдете лишь тогда, когда нам будет выплачен последний талер из суммы в семь миллионов семьсот сорок семь тысяч восемь флоринов.
— Мы знаем, что ваш премьер-министр говорит так: «Сила выше права!» Делайте с нами, сударь, все, что вам заблагорассудится, — ответил г-н Фелльнер.
— В пять часов люди, которым я поручу получить семь миллионов флоринов, подойдут к двери банка, имея все необходимое, чтобы перевезти деньги в главную ставку.
Затем, желая, чтобы бургомистр расслышал его приказ, генерал обратился к адъютанту:
— Арестуйте и приведите ко мне газетчика Фишера, главного редактора «Post Zeitung». С него начнется моя расправа с газетчиками и с газетами.
Когда бургомистр Фелльнер вернулся к себе, вся его семья была в слезах: дочери ждали его у окна, жена — у двери, а зять бежал ему навстречу.
Хотя Фелльнер стал свидетелем того, как положение в городе ухудшилось, и у него мелькнула мысль о предсказании Бенедикта, достойный бургомистр оставался спокоен.
Это была одна из тех спокойных натур, что не ищут опасности и не избегают ее, однако, когда она появляется, принимают ее как желанную гостью и смотрят ей прямо в лицо, и не для того, чтобы с нею сразиться — такие натуры не бывают воинственны, — но чтобы с честью погибнуть.
Господин Фелльнер начал с того, что пожал руку зятю, успокоил жену, рас цел опал детей и подошел к г-ну Фишеру (узнав, что генерал потребовал к себе бургомистра, он поспешил к своему другу, чтобы осведомиться о причинах этого вызова). Господин Фелльнер сообщил журналисту об услышанном им приказе, отданном Фалькенштейном своему адъютанту.
В противоположность Фелльнеру, человеку холодному и флегматичному, Фишер отличался сангвиническим и бурным темпераментом.
Они находились в ста шагах от ворот города. Приметы г-на Фишера не были переданы постам, и, таким образом, он мог первым же поездом уехать в Дармштадт или Гейдельберг. Но никакие уговоры не могли заставить его выехать из Франкфурта, едва ему стала угрожать какая-то опасность.
Все, чего г-н Фелльнер смог от него добиться, — это чтобы журналист оставался у него, пусть даже не пытаясь прятаться, в случае если за ним придут.
Через два часа в дверь постучали; г-жа Фелльнер, взглянув в окно, объявила, что к ним нежданными посетителями пришли два прусских солдата.
Фишер не только наотрез отказался спрятаться, как он и говорил, но даже сам пошел открыть дверь и, когда солдаты спросили у него, не находится ли главный редактор «Post Zeitung» у бургомистра, спокойно ответил:
— Это я! Вы пришли за мной, господа.
Его немедленно отвели в гостиницу «Англетер», где помешалась главная ставка губернатора Фалькенштейна.
Генерал Фалькенштейн, имея дело с любым человеком, вставал в позу человека, находящегося в постоянном гневе, что позволяло ему оскорблять всех и вся, сопровождая свои оскорбления тем набором ругательств, драгоценный образчик которых дают нам шиллеровские разбойники.
Увидев г-на Фишера, он сказал:
— Пусть войдет сюда!
Такое обращение в третьем лице в Германии считается знаком самого глубокого презрения.
И, поскольку генералу показалось, что г-н Фишер вошел недостаточно быстро, он добавил:
— Гром и молния! Если он станет упрямиться, толкайте его!
— Я вовсе не упрямлюсь, сударь, и пришел к вам, хотя мог бы этого и не делать. Предупрежденный заранее о том, что у вас есть недобрые намерения на мой счет, я свободно мог уехать из Франкфурта. И пришел я потому, что привык не бежать от опасности, но идти ей навстречу.
— Так вы, значит, уже заранее знаете, господин писака, что вам опасно приходить ко мне?
— Всегда есть опасность, будучи слабым и безоружным, являться к вооруженному и сильному врагу.
— Значит, вы смотрите на меня как на своего врага?
— Согласитесь, что контрибуция, которую вы потребовали от Франкфурта, и ваши угрозы, обращенные к господину Фелльнеру, не могут исходить от друга.
— О! Вы-то не дожидались, господин газетчик, моих угроз и моих требований, чтобы объявить себя нашим врагом. Нам известна ваша газета, и потому, что она нам известна, вам придется подписать соответствующее заявление. Сядьте за этот стол, возьмите перо и пишите.
— Я берусь за перо для того, чтобы не давать доказательства своего злого умысла, но, перед тем как начну писать, хотел бы все-таки знать, что вы хотите мне продиктовать.
— Хотите знать? Ну так вот: «Я, доктор Фишер Гуллет, государственный советник, главный редактор “Почтовой газеты”…» Пишите же!
— Закончите вашу фразу, сударь, и если я сочту возможным, то напишу.
Генерал продолжал:
— «… главный редактор “Почтовой газеты”, признаю себя виновным в систематической враждебной клевете в отношении прусского правительства».
Фишер отбросил перо.
— Никогда этого не напишу, сударь, — сказал он. — Это неправда.
— Гром и молния! — вскричал генерал, делая шаг к нему. — Кажется, вы опровергаете мои слова.
Господин Фишер вытащил газету из кармана.
— Вот то, что их опровергнет лучше, чем это сделаю я, — сказал он. — Это последний номер моей газеты; он появился вчера, за час до вашего вступления во Франкфурт. Вот что я написал после того, как выразил сожаление, что Германия терзает собственное чрево, а сыны ее перерезают друг другу глотки, словно дети кровосмешения. Вот что я написал:
«История грядущих дней пишется острием штыка, и граждане Франкфурта не в силах что-либо изменить. Для населения малого и беспомощного государства нет другой заботы, кроме как постараться смягчить, насколько это возможно, участь сражающихся, будь то друзья или враги: придется перевязывать раны, ухаживать за больными, проявлять милосердие ко всем. Каждая из партий обязана суметь себя сдерживать. Соблюдение права есть особая обязанность каждого, как и подчинение отвечающей за свои действия власти».
Затем, пиля, что генерал пожимает плечами, Фишер шагнул к его сторону и сказал, протягивая ему газету:
— Прочтите сами, если сомневаетесь.
Генерал вырвал у него из рук газету.
— Вы написали это вчера — заявил он, бледнея от гнева, — ибо вчера вы уже чувствовали, что мы придем, и вчера вы уже нас боялись.
И, разорвав газету, он скомкал ее в руке и бросил прямо в лицо советнику с криком:
— Вы попросту трус!
Фишер посмотрел вокруг себя блуждающим взглядом, словно надеялся найти какое-нибудь оружие, чтобы немедленно отомстить за полученное оскорбление. Потом, поднеся руку к голове, он схватился за волосы, повернулся вокруг себя, захрипел и мешком повалился на пол.
У него произошло кровоизлияние в мозг.
Генерал подошел к нему, толкнул его ногой и, увидев, что он мертв, сказал солдатам-дневальным:
— Бросьте этого шута в какой-нибудь угол, пусть лежит, пока за ним не придут его домашние.
Дневальные взялись за тело и, неукоснительно подчинившись приказу генерала, протащили его в угол прихожей.
Между тем г-н Фелльнер, подозревая, что с его другом случилась беда, побежал к г-ну Аннибалу Фишеру, отцу журналиста. Он рассказал ему о том, что произошло, и, поскольку сам он не имел возможности помочь другу, предложил старику пойти в гостиницу «Англетер» и осведомиться о сыне.
Господин Аннибал Фишер был восьмидесятилетний старец; он попросил, чтобы его проводили, и в гостинице «Англетер» спросил внизу, не видели ли там его сына.
Ему ответили, что видели, как он поднялся, но никто не заметил, чтобы он спустился. Затем, пока его вели по лестнице наверх, ибо Фалькенштейн расположился на втором этаже, ему посоветовали справиться непосредственно у генерала.
Господин Аннибал Фишер последовал совету, но генерал Фалькенштейн уже закончил прием или отправился завтракать, и старик нашел дверь его гостиной закрытой. Тогда он стал настаивать на том, чтобы ему дали возможность поговорить с генералом.
— Сядьте здесь, — ответили ему, — он, возможно, еще придет.
— Не могли бы вы предупредить его, — спросил старик, — что отец пришел справиться о сыне?
— Чьем сыне? — спросил один из солдат.
— Моем сыне, советнике Фишере, которого утром арестовали у бургомистра Фелльнера.
— Вот это да! Это же отец, — сказал один из солдат своему товарищу.
— Так если он пришел справиться о своем сыне, — ответил тот, — он прекрасно может его забрать.
— Как забрать? — спросил старик, ничего не понимая из этого разговора.
— Разумеется, — отозвался солдат, — вон он там вас ждет.
И он показал ему пальцем на труп советника.
Твердым шагом старик-отец подошел, встал коленом на пол, чтобы получше рассмотреть сына, приподнял его голову и спросил у солдат:
— Так что, его убили?
— Нет! Честное слово! Он сам умер.
Отец поцеловал труп в лоб.
— Наступили несчастные дни, — сказал он, — когда отцы хоронят своих детей!
Потом он спустился вниз, подозвал носильщика, послал его еще за тремя другими, опять поднялся в прихожую вместе с ними и, показав им на труп, сказал:
— Возьмите тело моего сына и отнесите ко мне домой!
Люди взвалили труп на плечи, снесли его вниз и положили на открытые носилки. Идя впереди с непокрытой головой, бледный отец с полными слез глазами отвечал всем, кто его спрашивал, что означало такое странное шествие, когда несут через весь город покойника без священника и без погребального пения:
— Это мой сын, советник Фишер, его убили пруссаки!
И когда он подходил к своему дому, за трупом уже шло более трехсот человек, а когда за ними закрылась дверь, люди из толпы, которая пошла за мрачной процессией, разошлись по городу и всем, кого они встречали, говорили:
— Пруссаки убили советника Фишера, сына старика Аннибала Фишера.
Советник Фишер умер накануне своего пятидесятилетия.
Узнав эту новость, бургомистр Фелльнер, вздрогнув, посмотрел на свою руку, где очень заметно, больше чем когда либо, был виден крест на холме Сатурна, и прошептал:
— Ах! Вот предсказания француза и начинают сбываться!..
XXXIII ПОГРЕБАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ
Мщение генерала Фалькенштейна журналистам не остановилось на смерти советника Фишера и исчезновении «Почтовой газеты». На следующий день были закрыты «Ведомости дня», «Друг народа», «Последние новости» и «Франкфуртский фонарь».
Восемнадцатого июля генерал опубликовал такое распоряжение:
«Следующие франкфуртские издания могут выходить и дальше:
1) “Франкфуртская газета ”;
2) “Биржевая газета
3) “Правительственные ведомости";
4) “Франкфуртский указатель ”;
5) “Акционер”;
6) “Театральные сцены ”;
7) “Хроникер”;
8) “Биржевые ведомости ”;
9) “Банная газета ”;
10) “Друг семьи ” (“Христианские ведомости ”);
11) “Газета конской ярмарки”;
12) “Стенографическая газета";
13) “Музыкальная газета ”».
Этот список сопровождали следующие строки:
«Издание всех прочих газет и ежедневных ведомостей, которые выходили до сих пор, настоящим запрещается.
18 июля 1866 года.
Главная ставка, Франкфурт, главнокомандующий Майнской армии фон Фалькенштейн».
Семнадцатого июля, как и сказал генерал, в пять часов пополудни, он направил к дверям банка отряд из восьми человек под командой фельдфебеля с двумя людьми, тащившими ручные тележки для перевозки семи миллионов флоринов.
Он так мало был осведомлен о действительном весе и объеме, которые соответствовали сумме в семь миллионов флоринов, — а ведь, будь она отсчитана золотом, вес ее составил бы сто двадцать тысяч фунтов, — что направил, как мы сказали, для ее перевозки, то есть для перевозки ста двадцати тысяч фунтом золота, псе го двух человек с двумя тележками.
Увидев, что люди эти вернулись без требуемой контрибуции, генерал Фалькенштейн разразился угрозами и заявил, что, если на следующий день контрибуция так и не будет выплачена, он отдаст город на разграбление и подвергнет его бомбардированию.
А пока генерал приказал арестовать сенаторов Бернуса и Шпельца в их домах и препроводить на сторожевую заставу, откуда, после того как они оба просидели в течение двух часов на виду у всех за решеткой, чтобы все смогли убедиться в том, насколько мало ценятся им городские власти, он отправил арестованных в сопровождении четырех жандармов с письмом к губернатору Кёльна.
Этот акт грубости имел свой результат. Он испугал многих влиятельных лиц, и те пошли к директору банка и попросили его ссудить городу требовавшиеся семь миллионов.
Правление банка согласилось, и семь миллионов семьсот сорок семь тысяч восемь флоринов были выплачены 19 июля.
В тот же день, 19 июля, в четверг, чуть раньше десяти часов утра, славный франкфуртский батальон, тот, что в знак уважения сопровождал пруссаков при их вступлении в город и стоял перед ними 16 июля, чтобы приветствовать их, батальон, состоявший из шести рот обшей численностью в восемьсот человек, получил приказ встать в каре во дворе монастырской казармы.
В десять часов прусский полковник фон дер Гольц, командир 19-го пехотного полка, прибыл туда в сопровождении двух адъютантов и подполковника Бёинга, командующего линейным франкфуртским батальоном. Забили барабаны, извещая о том, что ожидалось какое-то сообщение. Батальон, не имея представления, о чем шла речь, взял на караул.
И тогда подполковник Бёинг прочел приказ, которым франкфуртский батальон объявлялся распушенным по распоряжению главнокомандующего Майнской армией, его превосходительства г-на барона фон Фалькенштейна.
При этом неожиданном сообщении стало заметно, как по лицу некоторых бойцов, в особенности самых старых, беззвучно потекли крупные слезы.
Срывающимся голосом подполковник Бёинг призвал батальон сохранять до последнего момента отличную дисциплину и помнить, что офицерский состав всегда относился к солдатам по-отечески.
Те, кто прослужил менее полугода, получали по пятьдесят флоринов; им надлежало вернуть свои шинели, оставив себе только брюки и мундир. Те, кто прослужил полгода, получали по сто пятьдесят флоринов, а те, кто прослужил более года, — по двести пятьдесят флоринов. После оглашения приказа оружие и снаряжение были сданы по ротно в арсенал в присутствии полковника фон дер Гольца. Выплата назначенных сумм производилась в два часа пополудни через ротных.
В тот же день, 19 июля, сенаторы и бургомистры, представляющие городские власти, по приказу генерала Фалькенштейна опубликовали извещение о том, что на следующий день, 20 июля, начиная с половины восьмого утра все избыточные лошади в городе, подседельные и упряжные, должны быть приведены на плац под страхом штрафа в 100 талеров (375 франков) за каждую непредставленную лошадь.
Всего было взято семьсот лошадей!
Но любопытно то, что заодно отбирались лошади не только для служебных целей.
Пруссаки брали лошадей любого роста. Подходили офицеры, делали знак, и комиссар, на которого был возложен отбор лошадей для армии, принимал тех, что ему указывали. Таким образом были отобраны и две маленькие упряжки пони, принадлежавшие г-же Ротшильд.
После такого разбоя на улицах Франкфурта не стало видно ни одного экипажа. Небольшое число тех людей, которым оставили их лошадей как непригодных для армии, обязаны были каждое утро извещать пруссаков об их нахождении в конюшне и посылать сведения о каретах.
Почти все кареты в городе были реквизированы. Франкфуртские дамы вынуждены были нанимать для своего передвижения фиакры, но если они случайно сталкивались в городе с офицером, которому требовалась карета, тот останавливал фиакр, высаживал пассажирок и отбирал экипаж, оставляя дам среди грязи, под дождем или в пыли.
Может быть, люди не поверят в такое странное забвение всех приличий, но г-жа Эрлангер, супруга известного банкира, уверяла автора этих строк, что с ней самой такое происходило. Случалось также, что больным женщинам приходилось идти пешком не одно льё.
Кроме того, накануне были отданы еще два распоряжения.
Первое предписывало каждое утро, до восьми часов, сдавать в полицейскую контору список всех иностранцев, поселившихся в гостиницах или у частных лиц.
Девятнадцатого июля, во второй половине дня, председатели следующих объединений, существовавших во Франкфурте: Общества стрелков, Гимнастического общества, Общества городской национальной обороны, Общества молодых ополченцев, Общества горожан Саксенхаузена и Общества по просвещению рабочих, — были созваны к главнокомандующему, и тот заявил, что эти общества распускаются как организации, однако они могут продолжать собираться к соответствующих помещениях при условии, что не будут заниматься политикой.
Тем из этих обществ, в которых обучались владению оружием, было предложено сдать оружие в доминиканскую казарму до шести часов вечера 20 июля. Наконец, генерал направил председателям всех этих обществ несколько дружелюбных слов по поводу необходимости принимавшихся мер и по поводу создавшегося положения в городе.
Вы спросите себя, каким же образом из уст г-на фон Фалькенштейна могли появиться дружелюбные слова?
Можете успокоиться: достославный генерал никак не отступил от своих привычек. Девятнадцатого числа, в два часа дня, после того как он получил свою контрибуцию, генерал фон Фалькенштейн покинул Франкфурт.
Господин генерал Врангель на два или три часа остался исполняющим его обязанности, и жителям Франкфурта было явлено между двумя мрачными масками улыбающееся лицо.
К пяти часам того же дня прибыл генерал Мантёйфель. На утро «Листок уведомлений», то есть официальная франкфуртская газета, в последний раз появилась со своим обычным подзаголовком: «Орган вольного города Франкфурта». Начиная с 20 июля, то есть с № 169, там уже просто значилось: «Орган города Франкфурта-на-Майне».
Таким образом, франкфуртцы потеряли слово «вольный», но зато выиграли слова «на-Майне». Это дало им два слова взамен одного.
Выплатив контрибуцию и утвердившись в обещании, данном им генералом Фалькенштейном, что город будет освобожден от всех поставок натурой, за исключением сигар, — на самом деле это было что-то неслыханное, ибо городу пришлось выдавать по девять сигар в день не только солдатам, но и офицерам, — франкфуртцы уже считали себя огражденными от любого другого требования в таком же роде, когда генерал Мантёйфель отметил свой приезд следующим распоряжением:
«С целью обеспечить продовольственное снабжение прусских войск, расположившихся лагерем, по приказу его превосходительства генерал-лейтенанта Мантёйфеля, главнокомандующего Майнской армией, в городе немедленно будет открыт склад, в который должно быть поставлено следующее:
15 000 хлебов по пять фунтов 9 унций;
/ 480 центнеров морских сухарей;
600 центнеров говядины;
800 центнеров копченого сама;
450 центнеров риса;
450 центнеров кофе;
100 центнеров соли;
5 000 центнеров овса.
Одна треть этих запасов должна быть предоставлена в наше распоряжение в определенных пунктах до утра 21 июля, вторая треть — вечером 2! июля и третья — не позднее 22 июля.
Все указанные выше поставки, для распоряжения которыми будут назначены правомочные лица, должны содержаться с наилучшим тщанием и пополняться по мере их расходования.
Франкфурт, 20 июля 1866 года.
Военный интендант Майнской армии
Казуискиль».
На следующий день, около десяти часов утра, завтракая в кругу семьи, г-н Фелльнер получил письмо от нового коменданта.
Накануне он получил также предваряющее это письмо уведомление.
С дрожью в сердце он взял письмо. Оно было адресовано «достопочтенным господам Фелльнеру и Мюллеру, представителям правительства города Франкфурта».
Перед тем как его раскрыть, он вертел его в руках. Госпожа Фелльнер дрожала, г-н Куглер, его зять, бледнел, не представляя себе, что же содержится в этом письме, а дети плакали, видя, как отец с горестным возгласом обтирал себе лоб, словно он уже знал, что там было.
Наконец г-н Фелльнер распечатал письмо, и вся семья, заметив, как он бледнел, читая его, с тревогой встала, ожидая, когда же выскажется отец семейства.
Но тот ничего не сказал: он уронил голову на грудь, и письмо — на пол.
Зять поднял письмо и прочел его вслух:
«Достопочтенным господам Фелльнеру и Мюллеру, представителям правительства города Франкфурта.
Настоящим вам предлагается принять необходимые меры для того, чтобы военная контрибуция в размере 25 миллионов флоринов была выплачена в течение двадцати четырех часов в кассу находящейся в этом городе Майнской армии.
20 июля 1866 года.
Главная ставка, Франкфурт-на-Майне.
Главнокомандующий Майнской армии Мантёйфель».
«О! — прошептал Фелльнер. — Бедный мой Фишер, как же тебе повезло!»
И как раз в эти минуты колокол на Соборе своим мрачным звоном объявил, что тот, чьей удаче только что позавидовал бургомистр, отправляется к своему последнему пристанищу на земле.
Похороны советника Фишера были назначены в тот день ровно на десять часов.
Господин Фелльнер положил письмо генерала Мантёйфеля в бумажник, тихо встал, обнял жену и детей и, взяв шляпу, сказал зятю:
— Ты идешь?
— Да, конечно, — ответил тот.
Из-за небольшого опоздания, причиной которого было получение и чтение письма генерала, они пришли в Собор, когда тело покойного уже было перенесено туда из дома.
Господин Фелльнер и его зять спешили, но у церковной паперти они вынуждены были остановиться из-за скопления там большой толпы, привлеченной мрачной церемонией. Церковь была переполнена, и туда невозможно было войти.
Фелльнер встретил в дверях своего коллегу Мюллера. Тот тоже пришел с небольшим опозданием и не смог пройти внутрь. Господин Фелльнер отвел его в сторону и показал письмо Мантёйфеля.
У Мюллера проступил на лбу пот, когда он взглянул на письмо.
— Так как же? — спросил он.
— А вот так, — ответил Фелльнер. — Час борьбы настал. Да пребудет с нами Бог!
К этому моменту погребальная церемония в церкви закончилась, и те, кто нес гроб, вышли из дверей.
Гроб поставили на катафалк.
Катафалк был из самых простых: такими для погребальных церемоний обычно пользуются протестанты.
Господин Аннибал Фишер предпочел раздать бедным те восемьсот флоринов, которые потребовались бы для более роскошного погребального шествия.
Он встал во главе шествия и пошел первым, без поддержки, несмотря на свои восемьдесят лет, с непокрытой головой, и его белые волосы серебряной волной падали ему на плечи.
За ним пошли оба бургомистра, Фелльнер и Мюллер, потом — целиком весь Сенат, за исключением господ фон Бернуса и Шпельца, несмотря на отсутствие которых имена их были у всех на устах. Затем следовали: члены Законодательного корпуса и Совета пятидесяти одного; потом, наверное, три тысячи человек, мужчин, женщин, детей, а позади них — те бедняки, кому были розданы упомянутые восемьсот флоринов, сбереженные на стоимости шествия.
Все эти люди, население целого города, направились к кладбищу Родельхейм.
По дороге шествие почти удвоилось! Каждый, кто знал Аннибала Фишера, благоговейно подходил к старику, кланялся, жал ему руку и занимал место в веренице людей.
И каждому старик, который, казалось, только и имел одну мысль в голове и одну фразу на устах, отвечал:
— Это мой сын, пруссаки убили его!
Ничего не могло быть печальнее этого погребального шествия без священника, без детского хора, без ритуального песнопения.
Протестантский обряд отбрасывает всякую пышность, свойственную церемониям католической церкви, которые в большей степени бросаются в глаза, чем трогают сердце.
Так они пришли на кладбище. Там был приготовлен временный склеп. Гроб поставили на землю, потом при помощи веревок его опустили в гробницу.
Только тогда старый отец разрыдался и обратился теперь не к людям, а только к Богу; воздев обе руки к Небу, он вскричал:
— Мой Боже! Это был мой сын! Пруссаки убили его!
Никто не произнес речей на этой могиле. Какой оратор смог бы сказать что-то красноречивее крика отца о мщении и любви: «Мой Боже! Это был мой сын! Пруссаки убили его!»
Та же процессия, что проводила отца к могиле сына, отвела его в пустой дом!
XXXIV УГРОЗЫ ГЕНЕРАЛА МАНТЁЙФЕЛЯ
В какой-то момент бургомистр Фелльнер хотел было воспользоваться огромным стечением народа и волнующей трибуной — одним из могильных камней, чтобы прочесть перед своими согражданами письмо генерала Мантёйфеля, но он понял, что это лишило бы благочестивую церемонию похорон всего ее религиозного воздействия.
Таким образом, он не пожелал смешать небесное с земным и тем самым лишить торжественности воззвание отца к небесному отмщению за своего сына.
Оба бургомистра договорились пройти вместе в городскую типографию и отдать и набор письмо генерала Мантёйфеля, чтобы потом вымесить его на всех углах города, сопроводив это письмо вот таким выражением протеста:
«Бургомистры Фелльнер и Мюллер заявляют, что скорее умрут, нежели станут хоть в чем-то способствовать подобному ограблению своих сограждан!»
Через два часа афиши уже были расклеены по городу.
Удар для горожан был тем более ужасен, что оказался совершенно неожиданным.
Город только что заплатил более семи миллионов флоринов, то есть около пятнадцати миллионов в наших деньгах. Он только что внес натурой в счет контрибуции примерно такую же сумму. Кроме того, на каждого горожанина давил груз тяжелой обязанности: кормить в соответствии со своим состоянием, или скорее следуя прихоти распорядителей, направивших к ним на постой солдат, — десять, двадцать, тридцать, вплоть до пятидесяти человек.
У Германа Мумма жило до двухсот солдат и пятнадцать офицеров, пользовавшихся его столом.
Кроме того, по приказу генерала фон Фалькенштейна, каждый солдат имел право на определенные требования к своему хозяину, а что касалось офицеров — для них регламента и вовсе не существовало: они могли требовать все, что им хотелось.
Вот каким был повседневный стол прусского солдата: утром — кофе с чем-нибудь, в полдень — фунт мяса, овощи, хлеб, полбутылки вина и т. д.; вечером — закуска и литр пива, и сверх всего — по восемь сигар вдень.
И эти сигары вменялось в обязанность покупать только у торговцев, следовавших за армией.
Чаще всего пруссаки просили (и с помощью своих угроз получали) второй завтрак в десять часов утра — хлеб, масло, водку, а во второй половине дня — еще кофе.
С фельдфебелями надлежало обращаться как с офицерами. Им на обед нужно было подавать жареное мясо и бутылку вина, а во второй половине дня — кофе, вечернее угощение и восемь гаванских сигар.
Понятно, что право на подобные требования давало солдатам возможность сидеть на шее у горожан, а так как правда всегда оставалась на стороне солдат, франкфуртцы не осмеливались жаловаться.
Но когда горожане, уже успевшие привыкнуть к воровству и грабительским поборам со стороны пруссаков, услышали о новом вымогательстве со стороны генерала Мантёйфеля, они, онемев от удивления, смотрели друг на друга, не в силах поверить в размеры своих невзгод.
И вот, когда им сказали, что об этих новых денежных притязаниях генерала Мантёйфеля, главнокомандующего Майнской армией, говорилось в вывешенных по городу афишах, они толпами устремились к ним, чтобы собственными глазами убедиться в этом своем несчастье.
Оба бургомистра, как мы это видели, объявили, что никоим образом не станут участвовать в деле с этой безумной контрибуцией. Часы текли один за другим, а люди продолжали волноваться и обсуждать этот поступок алчного врага, но ничего не предпринимали для того, чтобы подчиниться его требованиям.
Только и видно было, как перед каждой афишей собирались группы раздосадованных горожан. Сметливые люди, а таких во Франкфурте — большая часть населения, во весь голос говорили, что если наложить на Пруссию контрибуцию, пропорциональную этой, то в расчете на восемнадцать миллионов ее жителей она выльется в чудовищную сумму в тринадцать миллиардов пятьсот миллионов, считая по 750 франков на человека. Услышав такой расчет, одни совсем пали духом и говорили, что под таким гнетом остается только умереть, другие воспламенялись и кричали, что так как худшего ожидать не приходится, то в самую пору было бы устроить Франкфуртскую вечерню.
В итоге сутки истекли, а контрибуция не была выплачена, и при этом не было сделано ни малейшего усилия для того, чтобы ее выплатить.
Тем временем некоторые из самых видных граждан во главе с г-ном Ротшильдом отправились к генералу Мантёйфелю, но тот ответил на все их доводы следующими словами:
— Завтра мои пушки будут наведены на все городские площади, и, если через три дня у меня не окажется, по меньшей мере, половины контрибуции, а через шесть дней — остального, я удвою ее.
— Генерал, — возразил г-н Ротшильд, — вы знаете, какова разрушительная сила ваших пушек, я в этом не сомневаюсь, но вы не представляете себе, насколько разрушительна сила ваших мер. Если вы разорите Франкфурт, вы разорите всю рейнскую область и большую часть других областей.
— Ну так вот, господа, — ответил Мантёйфель, — контрибуция или разграбление и бомбардирование!
Именитые горожане ушли. На подобные угрозы отвечать было нечем, кроме следующего: поскольку сила не на их стороне, им остается терпеть эти угрозы.
Ответ генерала Мантёйфеля вскоре обошел весь город, и во всем Франкфурте уже только и говорили о разграблении и бомбардировании. Это повлекло за собою панику не только среди жителей бывшего вольного города, но и среди иностранной колонии, состоявшей из русских, бельгийцев, французов, англичан и испанцев. Поэтому консулы и послы различных держав собрались и направили следующую ноту полковнику Корцфлейшу, коменданту города:
«Мы, нижеподписавшиеся, представляя интересы своих стран на территории Франкфурта, имеем честь донести до сведения господина полковника Корцфлейша, коменданта города Франкфурта, что со вчерашнего дня многие наши соотечественники приходят к нам, чтобы сообщить о своей глубокой обеспокоенности.
По городу распространился нелепый слух о том, что если по прошествии суток не будут выплачены затребованные военными властями суммы, то город Франкфурт будет отдан на разграбление и подвергнут бомбардированию. Нижеподписавшиеся, потратив все свои усилия на то, чтобы разуверить людей в этих столь несерьезных опасениях, испрашивают у господина полковника доброжелательного сотрудничества, дабы вместе постараться как можно скорее ободрить наших соотечественников, чьи интересы, естественно, терпят ущерб от этих смехотворных домыслов».
Затем шли подписи секретарей посольств России, Франции, Англии, Испании и Бельгии.
Полковник Корцфлейш оставил это письмо без ответа, и тогда пять секретарей, представителей своих посольств, пришли с визитом к нему в кабинет. Но, к немалому их удивлению, вместо того чтобы рассматривать угрозу Мантёйфеля как нелепый слух, полковник ответил, что у них есть все основания верить тому, что, в случае если военная контрибуция не будет выплачена, угроза претворится в действие.
А тем временем франкфуртские жители вновь обретали некоторую надежду: выяснилось, что генерал Мантёйфель покидает Франкфурт и уступает свое место генералу Рёдеру. Ведь людям верилось, что, может, этот человек окажется снисходительнее, чем его предшественник. Первыми получили возможность судить об этом все те же пять секретарей посольств, которых ответ полковника Корцфлейша столь мало ободрил. Они направили генералу Рёдеру следующую ноту:
«Мы, нижеподписавшиеся, секретари посольств России, Франции, Англии, Испании и Бельгии, накануне направили полковнику Корцфлейшу, коменданту города, ноту с просьбой о доброжелательном сотрудничестве в умиротворении страхов своих соотечественников относительно бомбардирования и разграбления города.
До настоящего времени, имея от полковника только устный ответ, из которого можно понять, что эти страхи небезосновательны, мы, нижеподписавшиеся, честь имеем обратиться к его превосходительству господину генералу Рёдеру с просьбой дать нам возможность в самое ближайшее время успокоить тревоги наших соотечественников, которые теперь только возросли из-за вынужденного молчания с нашей стороны после упомянутого устного ответа полковника».
Не видя необходимости быть более предупредительным по отношению к представителям Франции, России, Англии, Испании и Бельгии, чем по отношению к гражданам бывшего вольного города Франкфурта, генерал Рёдер не стал утруждать себя каким бы то ни было ответом на их письмо.
Тогда пять секретарей посольств адресовали соответственно своим министрам пять одинаковых телеграмм, в которых вкратце объясняли положение вещей и просили указаний. Эти телеграммы, переданные прусским военным властям для визирования, не были ни отправлены министрам, ни возвращены секретарям посольств. И только вечером 23 июля последние получили письмо следующего содержания:
«23 июля 1866 года.
Приняв во внимание содержание коллективных нот от 21 и 23-го текущего месяца от господ секретарей посольств России, Франции, Англии, Испании и Бельгии, присутствующих в городе, нижеподписавшийся не находит нужным направлять им официальный ответ и входить с ними в переписку, но, тем не менее, сообщает им, что их соотечественникам ни в коем случае не приходится опасаться мер, которые, видимо, он вынужден будет принять по отношению к городу Франкфурту.
Рёдер, комендант города».
С самого утра того же дня, то есть 23 июля, пришли в движение большие соединения войск с заряженными пушками, в которые были впряжены лошади. Дула артиллерийских орудий были наведены на площадь Конного Рынка, площадь Гёте, площадь Шиллера и Театральную площадь; все это было сделано в поддержку требования прусской контрибуции.
Одновременно батареи были установлены в Мюльбергере и Рёдерберге, а также на левом берегу Майна.
Позвольте мне привести здесь рассказ одной дамы, франкфуртской жительницы, свидетельницы и жертвы всех этих событий, которые в нашем рассказе выглядят словно уже не описанием исторических фактов, а случайными эпизодами, происходящими по прихотливой фантазии романиста.
«Генерал Рёдер дал нам тогда знать, что, прежде чем прибегнуть к серьезным мерам, то есть к разграблению и бомбардированию, он собирался испробовать мягкие средства. Эта первая часть его стратегического плана, имевшего целью добиться выплаты 25 миллионов флоринов, состояла в том, что он полностью перекрывал железнодорожное сообщение, запрещал почтовые и телеграфные отправления, закрывал лавки и постоялые дворы. Затем он собирался окружить город и запретить доставку в него продовольствия, за исключением того, что предназначалось для прусских войск.
В условиях такой опасности и под тяжестью этих угроз жители города, каково бы ни было их происхождение и к какой бы национальности они ни принадлежали, настроились помогать друг другу. Несмотря на то что ранее я не имела близких отношений с леди Молит, эта дама, как только она узнала, что пруссаки отняли у меня лошадей, отдала в мое распоряжение один из своих экипажей, который был неприкосновенен как дипломатическая собственность. Мне и моим близким она также предоставила убежище в особняке посольства, на котором был водружен английский флаг, — по ее мнению, это могло оградить нас от угрожающих городу насилий.
Ободренная таким доброжелательным отношением, я отнесла ей половину моего состояния в ценных бумагах, которые мои банкиры более не считали безопасным оставлять в их сейфах, и попросила ее сохранить для меня эти бумаги, что она и сделала с крайней любезностью.
Житель Франкфурта, вернись он сегодня после месячного отсутствия, едва мог бы узнать свой родной город. На улицах безобразная грязь, полно навоза и помоев, потому что не хватает лошадей для уборки дорог. Вместо экипажей, какие были в прежние времена, видны только разного рода повозки, обозные и багажные телеги. Многие лавки закрыты, а другим совершенно нечего продавать. Театры закрываются, в действующих играют через день, а когда вечером идут спектакли, ложи остаются пусты, да и партер поредел. Даму в изящном туалете нельзя более встретить ни в театре, ни на улице: женщины боятся, что их могут грубо оскорбить.
Союзного Сейма больше нет, нет и военной комиссии. Те из жителей, кого не удержали беспокойство за дом и служебные обязанности, уехали. Осталось мало людей, и, встречаясь, они кланяются друг другу с симпатией, но держатся серьезно и печально.
Постой солдат у нас в домах чрезвычайно обременителен. Для бедных людей очень тяжело обеспечивать повседневный солдатский рацион, вмененный нам в обязанность генералом Фалькенштейном. (Выше мы говорили о том, что представлял собой этот повседневный рацион.)
Пятнадцатого июля, то есть накануне вторжения пруссаков во Франкфурт, я вернулась из своего загородного дома, думая, что стоит все же быть в городе, а не вне его. Мне пришлось часто сожалеть об этом решении. Я предпочла бы скорее, чтобы мой здешний дом сгорел дотла, чем оказаться жертвой всех этих грабительских поборов, следовавших один за другим. Никто не удивится таким моим словам, ведь предписанное количество навязанных мне гостей составило двадцать семь человек. Но больше того! Три офицера заявились ко мне 18 июля, не имея ордера на расквартирование, со своими лошадьми и десятью солдатами. Пока они у меня квартировали, 19 июля, в одиннадцать часов, в моем доме у Конного рынка объявились двадцать два солдата и четыре унтер-офицера, которых я должна была принимать.
Солдат обслуживали в прихожей, унтер-офицеров — в столовой. Эти последние расположились в гостиной, где я даю свои балы. В тот же день, только я легла спать (до этого мне пришлось встать, чтобы принять этих гостей), меня разбудил адский шум голосов: это четыре студента пришли повидаться с унтер-офицерами и остались на всю ночь.
На следующий день, во время обеда, солдаты, в ту минуту, когда мой кучер со вздохом показал мне уздечку, единственное, что осталось от упряжи и лошадей, украденных у меня, ко мне прибыло еще двенадцать солдат и два унтер-офицера. И вот мне пришлось кормить обедом трех офицеров, шесть унтер-офицеров и сорок четыре солдата. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этих господ обслуживали не так скоро, как бы хотелось их желудкам и как требовало их положение, согласно заявлению некоторых из них (то были гвардейцы генерала Мантёйфеля). Они грубо обошлись с моими людьми, и те, в конце концов, потеряв терпение, стали отвечать им в том же тоне.
Из своих покоев я услышала страшный шум и, зная, насколько важно было избегать всяческих конфликтов (пруссаки умышленно шли на них, чтобы иметь возможность угнетать нас с еще большей жестокостью), спустилась вниз. Тогда они подскочили ко мне, одни пьяные наполовину, другие — полностью, кричали, что мои слуги наглы и грубы, что они не умеют обращаться с людьми их сорта, и предлагали мне вследствие этого немедленно выставить моих слуг за дверь.
“Господа, — сказала я им, — к вечеру они все уйдут, и завтра вас обслужат лучше, так как обслуживать вас буду я сама ”.
То ли то достоинство, с которым я говорила, им внушило уважение, то ли они отнеслись с почтением к моим седым волосам, но они уселись по своим местам, слегка опустив головы, и, так как к этому времени подоспело жаркое, в тот день мне удалось отделаться от их притязаний и недовольства.
Во многих домах моих друзей — я говорю и о мужчинах и о женщинах — офицеры и унтер-офицеры повели себя самым непристойным образом. Они умудрялись хвататься за саблю, разговаривая с пожилыми людьми и беззащитными женщинами. Так они поступили, например, с одной из моих сестер. Когда при их появлении им тут же не открывали всех комнат, они вторгались даже в те, что занимали сами хозяева, требуя, чтобы им предоставляли возможность выбрать самые лучшие.
Один офицер пригрозил Людвигу фон Бернусу в саду его тетки и жены пастора Штейна, на Боккенхейме, повесить их на дереве, если они еще раз позволят себе делать ему замечания по поводу поведения пруссаков. Хотя я и отдала своим солдатам не только все бутылки шампанского, которые они у меня потребовали, но и всякого рода конфеты и прочие лакомства, мне лишь с большим трудом удалось добиться от них того, чтобы они убрали железные крюки, которые им понадобилось вбить в мраморные стены на третьем этаже моего дома, чтобы развешивать на них свои походные мешки.
На Вест-Эндской улице по приказу офицера солдаты взломали ударами топора двери пустого дома, жители которого были в отъезде, и, войдя туда, расположились в гостиной на обитой шелком мебели.
Один прусский офицер, не имея ордера на расквартирование, вломился в два часа ночи к г-ну Ламбрехту фон Гуанта и учинил там самые дикие грубости, вплоть до того, что раскрыл двери женских спален и, выбрав подходящую ему кровать, заставил даму, спящую на ней, встать и уступить ему место.
Самым наглым образом пруссаки вели себя на постоялых дворах и за табльдотом. Офицеры пили шампанское сколько угодно, не платя за него и пьянствуя за счет города.
Они входили в лавки, брали там все, что хотели, расплачиваясь чеками на имя муниципалитета. Меня уверяли, что за три дня только за сигары было выдано чеков на 30 000 франков.
В какой-то день нескольким офицерам чрезвычайно захотелось посмотреть на зал заседаний Сейма, который они называли “конюшней для свиней".
Привратник открыл им двери и в награду получил удар тростью.
За все сорок лет, что существует наше великолепное кладбище, именно в эти горестные дни, что выдались нам сейчас, пришлось впервые вывесить там объявления с просьбой уважать покой мертвых, потому что офицеры повадились въезжать туда верхом и развлекаться, перескакивая на лошадях через могилы.
Мои первые детские воспоминания восходят к шестидесятилетней давности. Мне вспоминаются атаки на город и прохождение через него солдат всех германских государств, хорватов и пандуров, русских с их казаками и башкирами, я помню, как шли здесь массы наполеоновских войск с их страшными маршалами, но никогда я не видела такого терроризма и сабельного режима, какой нам устроили пруссаки».
Теперь, когда наши читатели могут составить себе мнение о положении несчастного города Франкфурта, оставим несколько в стороне невзгоды общественного характера и вернемся к страданиям частной жизни!
XXXV ВЫЗДОРАВЛИВАНИЕ
Дивизионный генерал Рёдер, прибыв во Франкфурт в качестве главнокомандующего и приняв пост из рук генерала Мантёйфеля, привез с собой генерала Штурма и его бригаду.
Мы помним, что барон фон Белов был начальником штаба этой бригады и что в самый день вступления пруссаков во Франкфурт Фридрих заранее направил в дом Шандрозов четырех людей и фельдфебеля, чтобы оградить жену и свою свояченицу от оскорблений и обил, угрожавших им.
Фельдфебель привез письмо для г-жи фон Белинг; из письма она узнала, с какой целью этот маленький гарнизон был направлен к ней в дом; там же ей давался совет, как обращаться с прибывшими и рекомендовалось приготовить самые лучшие комнаты на втором этаже для генерала Штурма и его свиты.
С помощью Эммы г-жа фон Белинг во всех подробностях последовала указаниям Фридриха. Прибывшим солдатам, заботу о проживании которых она взяла на себя, как если бы была экономкой, отвели три свободные комнаты на нижнем этаже, и, хотя у нее не было других наставлений, кроме тех, что дал ей Фридрих, приняла гостей лучше, чем в случае если бы их постой, с установленным для них рационом питания, вина и сигар, был предписан ей муниципалитетом.
Впрочем, оставим в стороне пятерых гостей г-жи фон Белинг, ведь в нашем рассказе они играют лишь самую второстепенную роль немых статистов, и вернемся к тем, кто выступает в первых ролях, и на ком, естественно, должен быть сосредоточен весь наш интерес.
Мы помним, в каком отчаянном положении нашли Карла на поле битвы, и не забыли, с какой заботливостью и любовью Елена привезла его в дом. Мы должны также помнить, с каким умением хирург сумел перевязать ему артерию.
Покидая раненого, врач прописал давать ему, чтобы снизить чрезмерную быстроту циркуляции крови, по три ложки настойки дигиталиса в день.
Затем он ушел.
Призвали наверх Ленгарта и условились с ним, что одна заложенная карета будет день и ночь дежурить у двери, чтобы в случае надобности ее можно было немедленно послать за доктором, а с доктором договорились, что он не будет выходить из дома, не оставив у себя списка тех домов, которые ему надо будет посетить, с указанием времени, когда ему надо будет посетить каждый из этих домов.
День прошел, не принеся больших изменений в состояние больного. Между тем становилось заметно, что дыхание Карла становилось все более размеренным.
К вечеру он вздохнул, открыл глаза и сделал легкое движение левой рукой, словно искал руку Елены.
Елена бросилась к его руке, положила ее на край кровати и припала к ней губами.
Бенедикт хотел, чтобы девушка легла хоть немного отдохнуть, и обещал, что сам будет бодрствовать у кровати Карла, обходясь с ним с нежностью брата, но Елена ничего не захотела слышать и заявила, что за больным будет ухаживать только она сама.
Тогда Бенедикт попрощался с ней и ушел на несколько часов.
Мы помним, что Бенедикт купил в Деттингене полный костюм лодочника. Именно в этой одежде он про, — плыл вниз по Майну, пришел за Еленой, вновь поднялся по Майну до Ашаффенбурга, сопровождая девушку во время поисков на поле битвы, и, наконец, отвез ее обратно домой.
Кроме этой одежды, у него был еще штирийский мундир, спрятанный вместе с оружием в лодке Фрица. Вся его прочая одежда осталась в багаже, следовавшем вместе с армией, то есть вместе с багажом бригады графа Монте-Нуово, и, по всей вероятности, утерянном: пруссаки взяли его после своей победы на поле битвы в Ашаффенбурге.
До прихода пруссаков во Франкфурт — а говорили, что они войдут в город на следующий день или, самое позднее, через день, — ему необходимо было уничтожить все свое прежнее обмундирование, будь то ганноверское или штирийское.
Именно для этой цели он на некоторое время оставил Елену.
Было шесть часов вечера.
С какой бы симпатией Елена ни относилась к Бенедикту, ей не терпелось поскорее остаться наедине с Карлом.
Прекрасная девушка была так чиста! И именно потому, что она была чиста, ей хотелось многое сказать своему любимому сердцем и устами, тем более что он не мог ее услышать.
И она поспешила воспользоваться случаем остаться с ним наедине.
— Вот, — сказала она Бенедикту, — ключ от дома, я взяла его с собой, когда вчера мы уходили отсюда. Возьмите его теперь себе и возвращайтесь когда захотите. Не забывайте, что вы мой единственный друг и, самое главное, единственный друг Карла.
И она протянула ему руку.
Бенедикт с уважением склонился над этой рукой, но даже не осмелился дотронуться до нее губами.
Елена стала для него более чем женщиной: она стала святой.
Ему показалось, что в словах Елены он расслышал сонет вернуться скорее, и дал себе слово прийти как можно раньше.
Ленгарт ждал его у дверей.
Бенедикт сел в карету, но позаботился заехать домой к этому славному человеку, чтобы он мог направить другую карету к дому Шандрозов, вместо той, на которой уехал сам. Затем, уверенный в том, что это поручение будет выполнено, Бенедикт приказал отвезти себя в порт, где он без всякого труда нашел лодку Фрица.
В лодке были спрятаны его мундир, шляпа, пистолеты и карабин.
Он взял все это и отнес в карету к Ленгарту.
С утра Резвун был оставлен на Фрица; его привязали к носу лодки, и он вытягивал во всю длину свою цепь, нюхал воздух, не зная, откуда появится его хозяин.
Он не успел еще освоиться с Фрицем и пришел в неописуемый восторг, когда ему разрешили перебраться из лодки в карету.
Бенедикт рассчитался с Фрицем, дав ему двадцать флоринов, пожелал лодочнику всяческих благ и отпустил его в Ашаффенбург.
Покончив с этим, он приказал Ленгарту отвезти себя к лучшему портному во Франкфурте. Молодой, среднего роста и хорошо сложенный, Бенедикт был легкой моделью. Воспользовавшись случаем, он решил обновить весь свой гардероб.
Затем Бенедикт уступил насущнейшей необходимости приличных людей — после великой усталости принял ванну.
Он сражался в течение всего дня 14 июля — с десяти утра до пяти вечера.
Вот уже тридцать шесть часов, как он не спал.
Несмотря на то что он собирался проводить часть ночей у кровати Карла, чтобы по возможности сменять Елену — не могла же она бодрствовать все время, — ему все же нужно было найти себе пристанище в городе.
Жить на постоялом дворе было небезопасно: посещения полиции, предъявление паспорта — все это могло его выдать.
Ленгарт только что отремонтировал небольшой дом. Он предложил Бенедикту там комнату и кровать, и тот согласился.
Самой крайней необходимостью для Бенедикта было отоспаться.
В этом смысле молодость — сущий тиран, если только неистовые страсти не овладевают человеком и не заставляют его забыть обо всем.
Итак, приняв ванну, Бенедикт прилег.
Через десять минут он забыл всех — Карла, Елену, Фридриха, Фрица, Ленгарта и Резвуна.
Он проспал шесть часов.
Когда он проснулся, его часы показывали половину второго ночи.
Он сразу подумал о Елене и о том, что она, должно быть, хотела поспать. Спрыгнув с кровати, он наспех оделся и побежал к дому Шандрозов.
Все было закрыто.
Бенедикт открыл входную дверь ключом Елены.
На лестнице горел свет. Он поднялся на второй этаж, проследовал коридором и подошел к комнате Елены, которую закрывала только маленькая застекленная дверь.
Девушка стояла на коленях у кровати Карла; губы ее были прижаты к его руке. В таком же положении он ее и оставил.
Увидев ее сквозь дверное стекло, Бенедикт подумал, что и она заснула.
Но при первом же скрипе открываемой двери она подняла голову и, узнав Бенедикта, улыбнулась ему.
Ведь она тоже не спала с утра вчерашнего дня, то есть в течение тридцати часов подряд, однако, когда речь идет о преданности, сила, дарованная женщинам, необычайна. Природа словно создала их для того, чтобы они были сестрами милосердия.
Говорят, что любовь крепка, как смерть. Она крепка, как жизнь, — следует сказать.
Карл, казалось, спал; было ясно, что кровь более не доходила у него до мозга, и мозг его пребывал в оцепенении, подобном слабоумию. Ужасно, если задуматься, что с нашей душой возможно такое: измождение способно ввергнуть наш разум в подобную слабость. Как же это наша бессмертная, небесная, вечная душа, данная нам от Бога, может зависеть от прилива и отлива крови до такой степени, что, когда из-за раны теряется много крови, ее отлив уносит не только нашу силу, преходящую часть нашей личности, но и ум, божественную ее часть?
О Кант! Кант! Разве же ты был прав до момента, когда к тебе пришел твой бедный Лампе и дал тебе увидеть, что ты ошибался?
Всякий раз как Елена вкладывала в рот Карлу ложку настойки дигиталиса, тот, сделав глоток, тем самым подавал знак, что материальная жизнь в нем еще теплилась.
И всякий раз Елена могла даже заметить, что органы Карла действовали все лучше и лучше.
Делом Бенедикта было менять лед и следить за тем, чтобы холодная вода хорошо падала, капля за каплей, на руку Карла, омы пая двойную рану на ней, нанесенную саблей кирасира и скальпелем врача.
К восьми часам утра кто-то тихо постучал в дверь: это была Эмма.
Она пришла справиться о больном.
В состоянии раненого произошло изменение, едва заметное для тех, кто от него не отходил; но оно, тем не менее, бросилось в глаза Эмме: раньше, когда его принесли, он был неподвижным и бледным как смерть, теперь же обращало на себя внимание явное улучшение.
Свою сестру Эмма нашла в слезах и в то же время с улыбкой на лице. В тот миг, когда Эмма открыла дверь, Елене показалось, что больной, услышав шум, чуть сжал ей руку. С этой минуты словно луч солнца проглянул сквозь тучи: улыбка скользнула сквозь слезы.
Обе сестры бросились друг другу в объятия. И тогда настал черед Эммы разрыдаться.
Эмма не могла смотреть на Карла, не думая о Фридрихе.
Женщина, которая по-настоящему и глубоко любит, превращает свою любовь в пробный камень для всего, что с нею происходит.
Из слез, проливавшихся Эммой, треть относилась к Карлу, треть — к сестре и еще одна треть — к мысли, что завтра Фридрих может оказаться на том же ложе страданий, что и Карл.
Если бы, в самом деле, Елена, менее занятая своим дорогим больным, могла бы следовать за ходом мыслей, которые привели к ней Эмму, то она мгновенно разобралась бы в том, какие чувства главенствовали в душе ее сестры.
Однако Эмма любила Елену так сильно, как только можно любить сестру.
Кроме того, и в этом Эмма не осмеливалась признаться даже самой себе, в ней говорило и любопытство: кто этот молодой человек, пришедший за ее сестрой накануне утром, сопровождавший ее в поездке, вернувшийся с ней накануне вечером; одетый еще накануне вечером, как простолюдин, а утром не только по одежде, но и по манерам выглядевший дворянином.
Вот чего она не осмеливалась спросить, опасаясь проявить праздное любопытство, хотя, на самом деле, ею двигало участие. Вот чего ей хотелось узнать.
Через несколько секунд представился случай, чтобы Эмма обо всем узнала: Елене показалось, что вода стала капать медленнее, и она сказала:
— Господин Бенедикт, мне кажется, лед кончился.
Услышав это имя, Эмма вздрогнула.
— Бог мой! Сударь, имя Бенедикт — достаточно редкое, чтобы иметь основание спросить у нас, не Тюрием ли ваша фамилия? — сказала она.
— Да, сударыня, — ответил Бенедикт, не задумываясь, почему ему был задан этот вопрос.
Эмма схватила Бенедикта за правую руку и так быстро поднесла ее к губам, что он не успел ей и этом помешать.
— Во имя Неба! Да что вы делаете, сударыня? — вскричал Бенедикт, быстро отдергивая руку.
— Я целую руку, которая могла сделать меня вдовой, но сохранила мне мужа. Да благословит вас Бог, господин Бенедикт, вас самого и все, что вам дорого.
— Ах, правда! — вскричала Елена. — Ноты же не знала, что он дрался с Фридрихом. Значит, Фридрих в конце концов сказал тебе, что у него был вовсе не вывих руки и что он получил сабельный удар?
— Да, он рассказал мне это, и я ему поклялась хранить в сердце имя господина Бенедикта рядом с его собственным. Вы будете свидетелем, сударь, перед ним, что я сдержала слово.
— Ну тогда, — сказала Елена, — поцелуй его, и пусть он станет для тебя таким же другом, как и для меня.
— Пусть будет еще больше, — ответила Эмма, целуя молодого человека, — пусть он станет нам братом.
В эту минуту пришел Ганс и предупредил Эмму, что г-н Фелльнер ждет ее в комнатах г-жи фон Белинг.
Эмма спустилась.
Фелльнер был глубоко обеспокоен.
Он знал, что какая-то женщина привезла раненого в дом Шандрозов, но ему было неизвестно, была ли то Эмма, привезшая своего мужа, или Елена, привезшая своего жениха.
В том и в другом случае он готов был предложить свои услуги.
Что касается пруссаков, которые должны были в тот же или, самое позднее, на следующий день войти в город, г-н Фелльнер был вполне спокоен за обеих сестер. Эмма, жена прусского офицера, будет в безопасности и заставит уважать сестру, бабушку и весь дом.
Но г-н Фелльнер не был также спокоен за себя самого. Мы помним, что у достойного бургомистра была молодая жена и две дочери — пятнадцати и шестнадцати лет.
Если барон Фридрих входил в первые бригады, вступавшие в город, г-н Фелльнер попросил бы Эмму проследить через своего мужа за тем, каких людей направят к нему на постой.
Он не сомневался, что пруссаки будут распахивать двери и селиться там, где захотят.
XXXVI ФРАНКФУРТ 22 ИЮЛЯ 1866 ГОДА
Между тем Фридрих приехал неожиданно и объявил, что его генерал следует за ним и прибудет через несколько минут.
Комнаты для генерала были готовы; не стоит и говорить, что это были самые лучшие и самые красивые комнаты в доме.
Никакими словами не передать той радости и того счастья, которые охватили Эмму, когда она опять увидела Фридриха. Война почти завершилась, начинали расти и крепнуть слухи о мире, и ее любимый Фридрих, таким образом, был уже вне опасности.
Любовь эгоистична. Эмму едва беспокоило то, что происходило вне дома: приход пруссаков, их вымогательства, их самоуправные поборы, жестокости, смерть г-на Фишера — все это доходило до нее словно шум прибоя, и не имело такого значения, какое могло иметь даже простое письмо от Фридриха.
И вот, наконец, Фридрих пришел, она держала его в своих объятиях. Он был жив и здоров, не ранен, и ему больше не угрожала никакая опасность.
Конечно, она искренне интересовалась состоянием Карла и любовью своей сестры, но все же внутри нее что-то шептало ей, какое для нее счастье, что не с Фридрихом стряслась та беда, которая постигла Карла.
При встрече с Еленой Фридрих повел себя как всегда превосходно. Он поплакал вместе с ней, одобрил все, что она до сих пор делала, пообещал ей, что, несмотря на присутствие в городе и в доме пруссаков, ничто не помешает выздоровлению Карла, если ему суждено поправиться, и не омрачит его последние мгновения, если ему суждено умереть.
Он вошел в комнату вслед за Еленой; та объявила Карлу о приходе своего зятя. Карл узнал Фридриха и улыбнулся. Он попытался двинуть рукой, чтобы приблизить ее к руке Фридриха, но мускулы его руки только дрогнули. Рука осталась прикованной к месту, где она лежала.
— Дорогой Фридрих! — прошептал он в сторону. — Дорогая Елена!
Это были единственные слова, которые он смог произнести с тех самых пор, как к нему возвратилась хотя бы видимость речи.
Елена приложила палец к губам Карла, принуждая его замолчать: она ревновала его ко всякому слову, обращенному не к ней.
Бенедикт отвел Фридриха в сторону и в двух словах рассказал ему о том, как вели себя пруссаки в городе.
Пока генерал Штурм ел поданный ему роскошный обед, Фридрих вышел в город с намерением самому увидеть, в каком состоянии находился Франкфурт.
Узнав, что собрался Сенат, он пришел туда с тем, чтобы присутствовать там на заседании.
Сенат собрался для того, чтобы обсудить вопрос о двадцати пяти миллионной контрибуции. Он созвал управляющих главных франкфуртских банковских фирм. Все были единодушны в признании того простого факта, что собрать требуемые 25 миллионов флоринов просто невозможно.
Сенат, таким образом, заявил, что, ввиду невозможности удовлетворить выставленное ему требование, оставалось отдаться на милосердие генерала.
Выходя из Сената, Фридрих увидел, что на город были наведены пушки и у всех объявлений толпились люди.
В каких-то наскоро сколоченных бараках ютились целыми семьями люди, изгнанные из своих домов пруссаками; они, словно цыгане, устроились табором на площади.
Мужчины бранились; женщины плакали.
Одна женщина кричала: «Пусть за это отомстят!» То была мать, показывавшая своего ребенка лет десяти: рука у него была проколота штыком. Не ведая, что он делал, этот несчастный ребенок увязался за пруссаком, у которого к ружью было прикреплено письмо.
Ребенок спел ему песенку, сочиненную про пруссаков людьми из Саксенхаузена:
Wane, Kuckuck, wane Bald Kommt Bonaparte Der wird alles wiederholen Was ihr habt bei uns gestohlen.
Это может быть переведено так:
Погодите, кукушки, чуть-чуть,
Бонапарт уже явится скоро Все, что вы у нас отняли, воры,
Он заставит с лихвою вернуть.
Раздраженный пруссак ударил его штыком и нанес ему глубокую рану.
Люди, проходившие мимо, вместо того чтобы остановиться и кричать вместе с матерью, делали ей знаки замолчать, спрятать слезы и скрыть кровь ребенка. Вот насколько был велик их ужас!
Но не всюду пруссаки встречали такую же безропотность.
Один из них, живя в доме человека из Саксенхаузена, с целью устрашения своего хозяина посчитал, что будет уместно выложить саблю на стол.
Не говоря ни слова, тот вышел и через несколько минут вернулся с железными вилами и тоже положил их на стол.
— Что значит эта шутка? — спросил пруссак.
— Эх! — сказал житель предместья Саксенхаузен. — Вы захотели показать мне, какой у вас хороший ножик, а я хочу, чтобы вы увидели, какая у меня прекрасная вилка.
Шутка пруссаку не понравилась. Ему захотелось помахать своей саблей, а человеку из предместья Саксенхаузен — своими вилами. Пруссак был пригвожден к стене.
Проходя мимо дома Германа Мумма, барон Фридрих увидел, как хозяин его сидел у двери, обхватив голову руками.
Фридрих дотронулся до его плеча.
Мумм поднял голову и сказал:
— Ах, это вы, господин барон! А вы что, тоже из грабителей?
— Из каких грабителей? — спросил Фридрих.
— Да вот из тех, что перевернули мой дом. О! Вот-вот, полюбуйтесь, можете посмотреть на наш бедный фаянс, который мы коллекционируем уже три поколения подряд, и он переходит от отца к сыну. Он разбит! Мой погреб пуст! Вы понимаете, мы принимаем ежедневно подвести солдат и пятнадцать офицеров, и все как один — без ордера на постой, а на них на всех один мой казначей-эпилептик и пять человек прислуги. Вот, слышите?
И в самом деле, из дома долетали до улицы крики:
— Вина, вина! Или мы пушками сшибем эту лачугу!
Фридрих вошел.
Чудесный дом бедняги Мумма превратился в конюшню. Ступать приходилось в месиво, состоявшее из вина, соломы и грязи. В окнах не осталось ни одного целого стекла; не было ни одного предмета, который бы не был изломан, стула, который бы не хромал.
— Ах, господин барон, — продолжал Мумм, — взгляните же на мои столь известные в городе круглые столы. Как подумаю, что на протяжении трех поколений честнейшие люди Франкфурта садились за эти столы, что за ними сидели и король, и несколько принцев, и весь Сейм и что еще и года не прошло с тех пор, как госпожа и фрёйлен фон Бисмарк делали мне здесь комплименты по поводу моих прохладительных напитков!.. О господин Фридрих! Господин Фридрих! Пришли дни скорби… и Франкфурт погиб!
Фридрих не имел никакой власти и потому вынужден был присутствовать при этом бесчинстве, не произнося ни слова. И он был убежден, что ни генерал Рёдер, ни генерал Штурм не станут его прекращать. Он знал характеры обоих: Рёдер был неумолим. Штурм — сумасброден. Штурм был одним из тех старых прусских генералов, которые не привыкли встречать препятствия ни с какой стороны и просто сметали их со своего пути, когда те им попадались. Когда король поставил Фридриха при нем, то не Фридриха он рекомендовал Штурму, а Штурма — Фридриху.
По дороге Фридрих встретил барона фон Шеле, генерального директора франкфуртского почтового ведомства. Когда пруссаки вступили в город, тот получил приказ учредить черный кабинет, где будут вскрываться все письма и готовиться отчеты о тех из граждан, что высказывают враждебные прусскому правительству чувства.
Господин барон фон Шеле отказался подчиниться.
На смену ему только что приехал человек из Берлина, и вечером того же дня черный кабинет уже действовал.
Господин фон Шеле, видевший во Фридрихе скорее франкфуртца, чем пруссака, предупредил его об этой мере, ибо сам ее остерегался и склонял своих друзей к тому же.
С разбитым сердцем Фридрих пришел к г-ну Фелльнеру и нашел всю его семью в отчаянии.
Только что г-н Фелльнер получил официальное извещение об отказе главных коммерческих фирм Франкфурта помочь с контрибуцией и постановление Сената, сообщавшее, что город, не имея возможности платить подобные подати, взывает к великодушию генерала.
Господин Фелльнер держал бумагу в руке и, несмотря на то что он превосходно знал ее содержание (ибо, будучи сенатором, он присутствовал на обсуждении вопроса и склонился к отказу), машинально читал и перечитывал ее. Жена прислонилась к его плечу, а две дочери плакали у его колен.
И в самом деле, разве можно было предвидеть, на какие чрезмерные действия толкнет пруссаков этот отказ?
Законодательное собрание собиралось тоже и решило, что нужно будет направить депутацию к королю, чтобы через него добиться избавления от побора в двадцать пять миллионов флоринов, установленного генералом Мантёйфелем.
Фелльнера известили об этом решении в то время, когда Фридрих был у него.
— Ах! — сказал Фридрих. — Если бы я мог хотя бы на десять минут повидаться с королем Пруссии!
— А почему бы нам с ним не повидаться? — воскликнул г-н Фелльнер, хватаясь за малейшую надежду.
— Да никак не могу, дорогой мой Фелльнер, — ответил Фридрих. — Я ведь только солдат. Когда командует генерал, мне остается лишь склонить голову и подчиниться. Если вы отказываетесь платить контрибуцию, я, естественно, один не заплачу ее, но если все-таки вам придется ее платить, то моя семья первой внесет свою долю.
Фридрих ничего более не мог сделать для Фелльнера и попрощался. Но, к его великому удивлению, жена Фелльнера, вся в слезах, остановила его на лестнице. Видя, что г-жа Фелльнер совсем теряла силы, молодой человек взял ее под руку и провел в небольшую комнату на нижнем этаже.
Там она открыла причину своих слез.
Слабая, как всякая любящая женщина, она измучилась от опасений по поводу предсказаний Бенедикта. У нее не выходило из головы то, что подобное же предсказание было сделано и советнику Фишеру, что у нее в доме над этим посмеялись, и это было всего с месяц тому назад; что сам Фишер шутил по этому поводу больше всех, однако пророчество Бенедикта сбылось точь-в-точь. К г-ну Фишеру в пятьдесят лет без одного дня пришла послушная смерть, и его останки всего два дня как были преданы земле.
То, чего она не осмеливалась говорить в присутствии мужа, бедная женщина высказала теперь Фридриху. Она знала, что Бенедикт находится во Франкфурте и что Фридрих его друг. Ей хотелось бы, чтобы Фридрих спросил своего друга, верит ли тот своему предсказанию и есть ли способ его избежать.
Фридрих постарался ее успокоить. Он никогда не слышал, чтобы Бенедикт хвастал своим даром провидения, но, тем не менее, он дал слово г-же Фелльнер расспросить его, как только вернется домой.
Госпожа Фелльнер в свою очередь обещала прийти к ним вечером повидаться с Эммой, и тогда Фридрих скажет ей, что она должна думать о предсказании Бенедикта, у которого вовсе не было причины не сказать ему то, что сам он думал по этому поводу.
Фридрих вернулся домой, поднялся к себе и позвал Бенедикта.
Тот сидел у изголовья Карла, но тотчас же покинул раненого и его преданную сиделку и пошел к барону.
Чтобы круглосуточно быть рядом с генералом, получая его непосредственные приказы, Фридрих велел приготовить для него комнату, также выходившую на лестничную площадку, но напротив.
Фридрих протянул руку Бенедикту. Обоим друзьям пока пришлось совсем мало видеться во время короткого пребывания Фридриха у свояченицы, да и к тому же присутствие раненого и Елены помешало проявиться их взаимным теплым чувствам: они выразились бы сильнее, если бы молодые люди свиделись с глазу на глаз.
На этот раз между ними ничего не стояло.
Бенедикт вошел, и Фридрих предложил ему сесть.
— Дорогой Бенедикт, мне не терпелось опять повидаться с вами, — сказал он ему. — В тот вечер событие, которое помогло нам встретиться, спешка, с которой вы стремились кинуться на поиски нашего друга, принудили меня принять вас, что называется, мимоходом. С того часа мне хотелось одного — еще раз повидаться с вами и сказать вам, до какой степени я люблю вас. Я разузнавал о вас повсюду, и мне известно, что вы совершили чудеса и при Лангензальце, и при Ашаффенбурге, что неизменная удача не покидала вас и что вы вышли из боев здоровым и невредимым. А ведь в этих же двух битвах столько мужественных людей потеряли жизнь. Эмма, с которой я увиделся, когда она спускалась от сестры, сказала мне, как она счастлива, что нашла вас у нее и сумела поблагодарить вас, встав перед вами на колени. Теперь…
— Да, — перебил его, смеясь, Бенедикт, — теперь скажите мне, к чему это предисловие?
— Какое предисловие?
— Да ясно же, что люди нашего склада, дорогой Фридрих, говорят друг другу все до конца уже в тот момент, когда пожимают друг другу руки. Вы все сказали в тот день, когда протянули мне левую руку вместо правой. Сегодня вы скажете мне нечто другое? Говорите.
— Знаете ли, дорогой Бенедикт, я начинаю верить тому, что мне о вас рассказали, — у вас действительно есть дар предвидения.
— А кто вам это рассказал?
— Одна бедная женщина, которая страшно боится, что сбудется предсказанное вами ее мужу, как это случилось с его другом Фишером.
— Госпожа Фелльнер! — встрепенулся Бенедикт, и лицо у него потемнело. — Бедная женщина! Мне было неизвестно, что муж рассказал ей то, о чем я его предупредил.
— Так, значит, в этом есть доля правды?
— В чем?
— Да в том, что вы ему предсказали.
— Все правда.
— Вы думаете, что бургомистр умрет насильственной смертью?
— Это будет самоубийство.
— И вы даже провидели, какого рода будет это самоубийство?
— С меньшей уверенностью, но все же предполагаю, что он повесится.
— И нет средства побороть судьбу?
— Конечно, есть, и когда мы виделись с господином Фелльнером в последний раз, я говорил об этом ему самому. Ему следовало уехать из Франкфурта и не оказаться втянутым во все эти ужасные события, какие совершаются в городе, из-за чего господин Фишер уже лишился жизни, а господин Фелльнер, видимо, тоже лишится.
— Но дорогой Бенедикт, знаете ли, у вас это очень печальный дар.
— Клянусь, до последнего времени я относился к нему скорее как к некому развлечению, а не как к чему-то серьезному. Чем больше я занимаюсь такого рода исследованиями, тем больше склонен признать, что это наука или, скорее, материальный факт, как магнетизм, как электричество. Я предсказал господину Фишеру, что он умрет насильственной смертью, — он умер от случившегося с ним апоплексического удара. Я предсказал королю Ганновера, что он одержит победу при Лангензальце, — он победил. Я предсказал ему крах — прусский король конфисковал его владения и, по-видимому, не отдаст их по собственной воле. Я предсказал…
— Но как вы могли это увидеть?
— Победу при Лангензальце?
— Нет, самоубийство Фелльнера, например.
— О, это было легче всего! Не стану утруждать вас рассказом обо всем том, что философы, врачи, химики написали по поводу руки человека. Не стану приводить вам цитат из Буапо, Херберта, Ришрана, Клода Бернара, а только напомню вам целиком слова Аристотеля: «Безусловно, на руке человека линии проведены не беспричинно, ибо они прежде всего возникают под влиянием неба и в зависимости от собственной индивидуальности каждого». Ну вот здесь и начинается вся моя система. Я нашел толкование, которое считаю верным и которое, между тем, я ежедневно уточняю вместе с изучением каждого знака на руке. Хорошо, я объясню вам сейчас, что можно увидеть на руке господина Фелльнера и что заставляет меня думать о его насильственной смерти через самоубийство. Смотрите, Фридрих, дайте мне вашу руку.
— Правую или левую?
— Левую. Чаше всего роковые знаки бывают начертаны именно на левой руке. Вы же знаете, древние именно слева ждали дурных предзнаменований. Звезда на Сатурновом холме указывает на убийство. Крест — смерть на эшафоте. Но дайте мне вашу руку… Когда эта звезда, вместо того чтобы находиться на Сатурновом холме, то есть у основания среднего пальца… бывает… посередине первой фаланги… Ах!..
Бенедикт отпрянул назад и прикрыл рукою глаза, словно защищаясь от ослепительного света.
XXXVII ПРОВИДЕНИЕ
Фридрих так и остался с протянутой к Бенедикту ладонью.
— Ну и что дальше? — спросил он.
— Дальше? Ничего! — сказал тот, бросаясь на стул.
Потом, схватившись за волосы и топнув ногой, он вскричал голосом, в котором слышалось отчаяние:
— Никогда, нет, никогда! Никогда я больше не стану смотреть руки — чьи бы то ни было!
— Но, в конце концов, что такого ужасного вы увидели на моей руке? — спросил Фридрих.
— Да не на вашей, черт возьми! — сказал Бенедикт, принужденно смеясь. — На руке господина Фелльнера.
Фридрих пристально посмотрел на него и почти сурово ему сказал:
— Вам не смешно, Бенедикт, вы деланно смеетесь. И позвольте мне сказать, что сейчас вы думаете не о господине Фелльнере, а обо мне. Вы увидели на моей руке какой-то роковой знак и не хотите мне в этом признаться. Я мужчина, солдат, уже два года привыкший смотреть смерти в глаза. Вы забываете об этом, Бенедикт. Если мне грозит какое-нибудь несчастье, мне лучше было бы остерегаться его, даже и не веря в него твердо. Я не хочу, чтобы оно свалилось на меня неожиданно.
— Бог мой, в ваших словах есть правда, — ответил Бенедикт, — но то, что я так неожиданно увидел у вас на руке, конечно же невозможно, и просто необходимо, чтобы я ошибся.
— Дорогой мой, — сказал Фридрих, — уж вы-то, наверно, хорошо знаете, что, если иметь в виду несчастья, в этом мире нет ничего невозможного.
Бенедикт сделал над собою усилие, встал и подошел к другу.
— Посмотрим, — сказал он ему, — дайте-ка мне еще раз взглянуть на вашу руку.
— Ту же?
— Нет, другую.
Бенедикт надеялся найти на правой руке Фридриха знаки, которые бы обезвредили, как это иногда и в самом деле случается, те, что начертаны были на его левой руке.
На правой руке Фридриха он рассмотрел тот же самый роковой знак, который был распознан им на руке г-на Фелльнера.
То была звезда на первой фаланге среднего пальца!
Как и у г-на Фелльнера, на руках у Фридриха проступал знак самоубийства.
И из-за этого Бенедикт был почти готов разувериться во всей своей науке.
Как же так, в самом деле, могло случиться, чтобы Фридрих, обожающий жену, которая уже сделала его отцом и дала ему сына, Фридрих, занимающий, в конце концов, высокий чин в армии, вдруг покусился на свою жизнь?
Об этом и думать-то было нелепо!
А между тем роковая звезда у него была, менее различимая на его правой руке, однако все-таки видимая.
— У вас есть какое-нибудь увеличительное стекло? — спросил Бенедикт.
Фридрих дал ему лупу, которой сам он обычно пользовался при чтении на карте географических названий, плохо различимых из-за мелкого шрифта.
Бенедикт посмотрел поочередно на правую и на левую ладони своего друга.
Затем, положив лупу на стол, присел около него и, взяв обе руки барона, сказал:
— Фридрих, вы правы. Будь то дурное или доброе, о себе вам нужно знать все, а я просто обязан вам все сказать. И все же начну с того, что сделаю вам определенное заявление: когда я все-все вам расскажу, вы примете меня за одержимого и безумца и будете правы. На коленях прошу вас, во имя вашей жены прошу вас, со слезами на глазах и от моего собственного имени прошу вас последовать моему совету.
В голосе молодого человека слышалась такая мольба, что Фридрих невольно почувствовал себя взволнованным.
— Если совет, о котором идет речь, — сказал он, — сообразуется с долгом чести и правилами моей службы, обещаю вам, дорогой Бенедикт, последовать ему точно и беспрекословно, ибо, уверен в этом, он будет исходить от любящего меня человека.
— И глубоко любящего, дорогой Фридрих, можете быть и этом уверены. А теперь послушайте меня: это невероятно, немыслимо, невозможно, но, однако, у вас на руке явно виден тот же роковой знак, что и у Фелльнера. Либо моя наука не только бесполезна, но и лжива, либо и вы тоже должны умереть от собственной руки.
Фридрих расхохотался.
— А! Да, я ждал этого, — сказал Бенедикт, — вы смеетесь. Смейтесь, смейтесь, счастливый человек, но разве небо бывает вечно лазоревым? Вы верите, что вода будет вечно прозрачной? Что воздух вечно будет чист? Ну хорошо. Со своей стороны, я, слабый человек, который не в силах вас убедить, скажу вам, что вам грозит опасность, причем грозит настойчиво, даже, может быть, еще более настойчиво, чем Фелльнеру. И в том случае, если я должен…
Он сделал движение, чтобы броситься вон из комнаты.
Фридрих остановил его.
— Ни слова обо всех этих глупостях моей жене, — вскричал он, — или, клянусь Небом, у нас возникнет причина для ссоры!
— Нет, нет, нет! — сказал Бенедикт, усиливая голос с каждым последующим словом. — Даже если мне и придется обратиться к ней, то все средства хороши, лишь бы только вас спасти.
— Спасайте меня, но без этого, дорогой Бенедикт. Что мне нужно сделать? Давайте посмотрим!
— Уезжайте из Франкфурта! Попросите какое-нибудь поручение, поезжайте куда хотите. Опыт показывает, что в таких случаях нужно немедленно бежать из тех мест, где вам грозит опасность. Не можете ли вы попросить генерала Штурма, например, отослать вас куда-нибудь — неважно куда? Сейчас вы ему больше не нужны. С войной покончено. Возьмите и жену, если нужно, но уезжайте! Уезжайте! Уезжайте!
— Так вот, дорогой Бенедикт, — ответил Фридрих, — я докажу вам не только то, что я вам верю и испытываю страх, но и то, что я вас люблю: при первой же возможности я попрошу, чтобы меня отправили с поручением и уеду.
Бенедикт протянул ему обе руки.
— Сделайте это, — сказал он, — но поторопитесь!
В эту минуту вошел дежурный солдат и передал Фридриху приказ явиться к генералу Штурму: тот хотел с ним поговорить.
— Смотрите, дорогой Фридрих, — сказал ему Бенедикт, — может быть, это зов Провидения.
— Да, — сказал Фридрих, — или Рока.
— Попросите отпуск, попросите поручение, скажите псе что хотите, но уезжайте и: з Франкфурта! Я подожду «ас здесь.
Фридрих кивнул ему и вышел, невольно озабоченный тем, что предсказал ему Бенедикт.
Генералу Штурму было около пятидесяти — пятидесяти двух лет; роста он был чуть выше среднего, но крепко сложен; у него была маленькая, неповоротливая голова на короткой шее, а лоб высокий и открытый. Лицо у него было круглое и будто посыпанное чем-то красноватым, и когда он сердился, а это случалось часто, оно становилось багровым. Его грубая кожа ближе к ушам была коричнево-красного оттенка; когда-то рыжие, а теперь седеющие волосы, густые и курчавые, были коротко подстрижены. Глаза у генерала были большие, сверкающие и дерзкие, а красновато-серые зрачки, когда он говорил, смотрели прямо, что делало его взгляд твердым и уверенным. Белки в его глазах почти всегда были налиты кровью. Рот был большой, с тонкими и сжатыми губами. Широкие, короткие и острые зубы с желтой эмалью походили на зубья пилы, вставленные в красные десны. Низко нависшие над глазами брови были прямые, густые и часто хмурились. Приподнятый и заостренный нос слегка горбился вроде клюва. Подбородок торчал вперед; борода была жесткой и короткой; маленькие торчащие уши казались крылышками артиллерийского снаряда. Щеки были впалые, а скулы выступающие. На короткой, сильной и мускулистой белесо-красной шее проступали вены. Плечи были широкие и мясистые, а плотная и мясистая спина делала шею еще короче, чем она была на самом деле. Широкие бедра, сильные суставы, крепкие конечности, широкие кости, сильные мускулистые ноги и ляжки… Таков был этот человек. Голос у него был сильный, раскатистый и твердый; говорил генерал громко, надменно, а жесты у него были стремительные и властные. Двигался он почти всегда резко и быстро. Он широко шагал, презирал опасность, но охотно шел на нее лишь в том случае, если она могла способствовать его продвижению по службе.
Генерал Штурм любил плюмажи, вино, яркие краски, запах пороха, карточную игру. Он был резок как в словах, так и в движениях, вспыльчив и преисполнен спесью, раздражался, когда ему противоречили, и легко выходил из себя, и тогда те пятна, что расцвечивали ему лицо, воспламенялись, глаза наливались кровью, серо-красные зрачки становились золотистыми и будто начинали искриться. В такие минуты он вовсе забывал о всяких условностях, принимался ругать, оскорблять и бить. Если ему случалось таким образом забыться с кем-то равным себе, не приходилось слишком долго упрашивать его, чтобы он взял себя в руки. Зная по опыту, какой опасности подвергал его собственный характер, он проводил свободные, остававшиеся от службы минуты за тем, что стрелял в сад из окна дома, где квартировал, а то упражнялся со шпагой или саблей с полковыми учителями фехтования и их помощниками.
Он приобрел необычайную сноровку во всех фехтовальных упражнениях. У него была, как это называется в дуэльном искусстве, тяжелая рука. В десяти или дюжине дуэлей, в которых ему случалось драться, он всегда убивал или серьезно ранил своих противников. Его настоящее имя было Руиг, что означает «спокойный», а его иносказательно прозвали генералом Штурмом, или генералом Бурей, и это прозвище за ним осталось. Он начал службу в 1848 и 1849 годах, во время войны с Баденом, и проявил тогда свою беспощадность.
Если наблюдательный человек вроде Бенедикта смог бы взглянуть на его руку, он увидел бы, что первая фаланга его большого пальца была слишком короткой и напоминала формой обрубок дерева, что пальцы у него были приплюснутые и гладкие, кисти рук — бугристые и зеленоватого отлива, а ногти — короткие и твердые.
Переходя к его ладони, можно было бы увидеть, что линия жизни у него была широкой, глубокой и красной, прерванной на двух третях своей длины словно ударом чекана, что Марсов холм был плоский и в полосках, а вся кожа руки покрыта трещинками. Это означало: гнев, возбуждение и раздражение.
Когда Фридрих появился перед Штурмом, тот был относительно спокоен. Раскинувшись в большом кресле, он почти улыбался, что с ним редко случалось.
— А, это вы! — сказал он, — Я только что приказал вас позвать. Здесь был генерал Рёдер. Где же вы были?
— Извините, генерал, — ответил Фридрих, — но я ходил к теще спросить, как идут дела у моего друга, того самого, что был тяжело ранен в битве у Ашаффенбурга; это как раз для него я тогда вызывал полкового хирурга.
— Ах, да, — сказал генерал, — я слышал, что это какой-то австриец. А вы-то, тоже хороши! Ухаживать за всей этой императорской сволочью! Да пусть их лежало бы двадцать пять тысяч на поле битвы, я бы оставил там издыхать всех до единого.
— Мне кажется, я говорил вашему превосходительству, что это мой друг.
— Хорошо! Хорошо! Не будем об этом толковать. Я вами доволен, барон, — сказал генерал Штурм таким же голосом, каким другой сказал бы: «Я а ужасе от вас». — И я хочу сделать для вас что-нибудь приятное.
Фридрих поклонился.
— Генерал фон Рёдер только что попросил у меня человека, которым я был бы очень доволен, для того чтобы отвезти его величеству Вильгельму Первому, да хранит его Бог, австрийское и гессенское знамена, которые мы отбили во время битвы при Ашаффенбурге. Я обратил свой взгляд на вас, мой дорогой барон. Хотите взять на себя это поручение?
— Ваше превосходительство, — ответил Фридрих, — ничто на свете не могло бы доставить мне больше чести и удовольствия. Вы ведь знаете, что король сам отправил меня в ваше распоряжение. Разрешить мне приблизиться к королю при подобном положении дел — значит оказать мне покровительство, и, я надеюсь, его величеству это доставит удовольствие.
— Вы знаете, речь, однако, идет о том, чтобы вы через час уже уехали, так что не приходите со словами: «Моя женушка…» или «Моя бабушка…» Часа времени вам хватит, чтобы обнять всех бабушек, а вдобавок еще всех жен на земле, всех сестер и детей. Знамена стоят в прихожей. Через час вы должны уже входить в вагон. Поедете по дороге на Богемию и завтра окажетесь у короля; он должен быть у Садовы. Вот вам рекомендательное письмо к его величеству. Возьмите.
Фридрих взял письмо и с радостным сердцем поклонился: ему не пришлось просить отпуска. Получилось так, словно генерал сам проникся горячим стремлением Фридриха уехать и предложил ему это, причем был с ним так благожелателен, что о лучшем не приходилось и мечтать.
Итак, торопясь уехать, как того желал генерал Штурм, Фридрих вышел из кабинета своего начальника и в два прыжка оказался в комнате, где, полный тревоги, его ожидал Бенедикт.
— Дорогой друг, — воскликнул Фридрих, бросаясь ему на шею, — вы правильно сказали насчет зова Провидения! Через час я уезжаю в Садову и не осмеливаюсь вам сказать, что там буду делать.
— Хорошо! И все равно скажите, — ответил Бенедикт, видя, что Фридрих умирает от желания рассказать обо всем.
— Так вот, я повезу королю знамена, взятые у Австрии в Ашаффенбурге.
— Э! Боже правый, мне-то что до этого? Я здесь человек чужой. Я всегда сражаюсь как охотник, чтобы не дать руке отвыкнуть от оружия. Если бы все пруссаки были такие, как вы, я сражался бы на их стороне. Я нашел ганноверцев и австрийцев более любезными людьми, чем мне показались берлинцы, которые хотели съесть меня живьем. И я сразился к рядах ганноверцев и австрийцев — вот и все! Ну а теперь, дорогой друг, — продолжал Бенедикт, — не опаздывайте на поезд, чтобы не рассердить этого любезнейшего капитана Бурю и одновременно как можно ловчее избежать исполнения некоего предсказания, которое теперь беспокоит меня меньше, но все равно беспокоит. Таким образом, мы скажем «прощайте» бабушке и баронессе, нашей сестричке Елене, не забудем и господина рыцаря Людвига фон Белова, который уже в шестинедельном возрасте успел стать в какой-то мере интересной личностью. После этого ваш друг Бенедикт проводит вас лично на вокзал, посадит в вагон, закроет за вами дверь и не уйдет, пока вы не уедете. Ну же, идите прощаться! Прощайтесь! Прощайтесь!
Фридрих не заставил его повторять этих напутствий. Прежде всего он отправился обнять г-жу фон Белинг, чтобы сообщить ей добрую весть, не скрывая своей радости. Потом он пошел к сестричке Елене, и Карл, заслышав его голос и открыв глаза, посмотрел на него. Потом, наконец, свой самый долгий и нежный визит прощания он нанес баронессе и ребенку.
Он целовал уже в десятый раз своего сына, лежащего в колыбельке, когда тот же солдат, что уже приходил за ним, явился с просьбой не брать знамен, которые находились в прихожей, прежде чем г-н фон Белов не пройдет в кабинет к генералу и не переговорит с ним перед отъездом.
Фридрих попрощался с женой и встретил Бенедикта, ожидавшего его на лестнице.
— Чего еще хотел этот солдат? — с беспокойством спросил Бенедикт.
Фридрих сказал.
Бенедикт наморщил лоб.
Затем, вздохнув и еще подумав, он сказал:
— Если вы мне верите, Фридрих, не ходите к нему.
— Это невозможно, дорогой друг.
— Это же не приказ, а только просьба.
— Если это просьба, — ответил Фридрих, — то просьба генерала Штурма ко мне, что означает приказ. Обнимемся же и до свидания!
Оба друга обнялись на лестнице, и Бенедикт, глядя ему вслед, прошептал:
— На первый раз это был зов Провидения, на второй, боюсь, не зов ли это Рока?
XXXVIII РОК
Генерал нее еще пребывал it своем кабинете, сохраняя все го же благодушное настроение и милостивое выражение лица.
— Извините, что задерживаю, дорогой Фридрих, — сказал он молодому человеку, — после того как сам же так вас торопил! Но у меня есть к вам маленькая просьба.
Фридрих поклонился.
— Вы знаете, что генерал Мантёйфель наложил на город контрибуцию в двадцать пять миллионов флоринов.
— Да, я это знаю, — сказал Фридрих, — и это непосильный груз для небольшого города, насчитывающего всего сорок тысяч жителей.
— Ну уж! — сказал Штурм. — Вы хотели сказать: семьдесят две тысячи.
— Нет, коренных франкфуртцев здесь всего сорок тысяч, остальные тридцать две тысячи, которых вы считаете жителями города, это все иностранцы.
— Да это нас не касается, — сказал Штурм, уже начиная выходить из себя. — В статистических данных числится семьдесят две тысячи, и генерал Мантёйфель посчитал тоже семьдесят две тысячи.
— Если он ошибся, — самым мягким голосом сказал Фридрих, — то, как мне кажется, те, на ком лежит обязанность выполнять его приказ, должны были бы исправить эту ошибку.
— Это нас не касается. Нам сказано семьдесят две тысячи жителей, так, значит, семьдесят две тысячи и есть. Нам сказано двадцать пять миллионов флоринов, значит, и будет двадцать пять миллионов флоринов. И вот что происходит. Вообразите себе, что здешние сенаторы собрались и заявили: пусть жгут город, если хотят, но контрибуции они не заплатят.
— Я присутствовал в Сенате на обсуждении этого вопроса, — спокойно сказал Фридрих. — Оно проходило очень достойно, с большой сдержанностью и печалью.
— Та-та-та, — произнес Штурм. — Уезжая, генерал Мантёйфель отдал приказ генералу фон Рёдеру собрать эти двадцать пять миллионов флоринов. Фон Рёдер объявил городу, чтобы они были выплачены. Сенат напрасно устраивает обсуждения, нас это не касается. Только что Рёдер приходил ко мне, и я сказал ему: «Вы слишком молоды, не беспокойтесь обо всем этом. У меня есть начальник штаба, он женился здесь, во Франкфурте, он знает город как свои пять пальце», он знает о состоянии каждого» л и ярах, су и денье. Вот он и укажет нам дома двадцати пяти миллионеров…» Во Франкфурте же найдется двадцать пять миллионеров, ведь так?
— И даже больше, — ответил Фридрих.
— Ну вот и хорошо, мы начнем с того, что наведаемся к ним в кассы. А то, что потом останется добрать, заставим заплатить других.
— Так вы рассчитывали на меня, — с небольшой дрожью в голосе спросил Фридрих, — в том смысле, что я стану доносить вам на тех, кого вы собираетесь ограбить?
— Я подумал, что с вами у нас не возникнет никаких трудностей — вы назовете нам двадцать пять имен и двадцать пять адресов домов. Сядьте вот здесь, дорогой мой, и пишите.
Фридрих сел, взял перо и написал:
«Моя честь не позволяет мне доносить на своих сограждан. Поэтому прошу уважаемых генералов фон Рёдера и Штурма обратиться за сведениями, которые они хотят получить, к кому-нибудь другому.
Франкфурт, 22 июля 1866 года».
И поставил подпись: «Фридрих, барон фон Белов».
Затем, встав и отвесив генералу глубокий поклон, он отдал ему в руки бумагу.
— Что это еще такое? — спросил тот.
— Прочтите, генерал, — сказал Фридрих.
Генерал прочел и бросил косой взгляд на своего начальника штаба.
— О-о! — сказал он. — Вот как мне отвечают на мою просьбу. Посмотрим, как мне ответят на приказ. Сядьте вот здесь и пишите.
— Я никогда не меняю того, что уже сказал, тем более если верю, что это затрагивает честь моего имени и лично моего достоинства. Король направил меня к вам в качестве начальника штаба, а не как сборщика налогов. Прикажите мне сняться с позиции — я это сделаю; прикажите атаковать батарею — я атакую, но на этом кончается моя обязанность вам подчиняться!
— Я обещал генералу фон Рёдеру представить ему список богатых франкфуртских банкиров и их адресов. Я сказал ему, что именно вы дадите мне этот список, и через час он за ним пришлет. Что же я ему отвечу, как вы думаете?
— Вы ответите ему, генерал, что я отказался предоставить его вам.
Штурм скрестил руки и, направляясь к Фридриху, сказал:
— И вы думаете, барон, что я позволю человеку, находящемуся в моем подчинении, в чем бы то ни было мне отказывать?
— Думаю, по серьезном размышлении вы поймете, что требуете от меня действия не только несправедливого, но и бесчестного, и сами же будете благодарны мне за то, что я вам отказал. Дайте мне уехать, генерал, и зовите вместо меня кого-нибудь из полиции. Тот не станет ни в чем вам отказывать, поскольку вы потребуете от него лишь то, что входит в его обязанности.
— Господин барон, — ответил Штурм, — я посылал к королю усердного слугу, для которого я запросил бы награды. Но мне не пристало награждать человека, на которого у меня есть причины жаловаться. Отдайте мне обратно письмо к его величеству.
Фридрих вынул письмо из-за пазухи и с презрением бросил его на письменный стол.
Лицо у генерала воспламенилось, покрывавшие его пятна побледнели, глаза метали молнии.
— Я напишу королю, — вскричал Штурм в ярости, — и он будет знать, как ему служат его офицеры!
— Вы напишете с вашей стороны, господин Штурм, а я напишу со своей, — ответил Фридрих, — и он узнает, как его бесчестят его генералы.
Штурм подпрыгнул и на лету схватил свой хлыст.
— Мне показалось, вы сказали «бесчестят», сударь? — выговорил он. — Надеюсь, вы не повторите этого слова?
— Бесчестят! — холодно произнес Фридрих.
Штурм вскрикнул от ярости, занес хлыст над молодым человеком, но, видя спокойствие Фридриха, опустил руку.
— Угроза — это уже удар, сударь, — сказал Фридрих. — Значит, вы меня как бы ударили.
Он подошел к тому же столу и твердой рукой набросал несколько строк.
Затем, открыв дверь в прихожую, он позвал находившихся там офицеров и сказал:
— Господа, вверяю эту бумагу вашей чести. Читаю вслух то, что она содержит:
«Увольняюсь с поста начальника штаба генерала Штурма и из офицеров прусской армии.
Сего дня, 22 июля 1866 года, в 12.25.
Фридрих фон Белов».
— Что вы хотите этим сказать? — спросил Штурм.
— Это значит, — ответил Фридрих, — что нот уже дне минуты, как я более не нахожусь на службе его величества и на нашей службе, а кроме того, и то, что вы меня оскорбили. Господа, этот человек только что поднял на меня хлыст, который он держит в руке. И раз он меня оскорбил, он даст мне удовлетворение. Вот моя просьба об отставке, господа, и будьте свидетелями того, что я свободен от всякого военного долга в минуту, когда заявляю этому господину, что он мне более не начальник и, следственно, я не являюсь более его подчиненным. Сударь, вы нанесли мне смертельное оскорбление, и я убью вас, или вы меня убьете.
Штурм рассмеялся.
— Вы подаете в отставку, — сказал он, — а вот я ее не принимаю. Под арест, сударь! — добавил он, топнув ногой и наступая на Фридриха. — Под арест, на пятнадцать суток!
— Вам более нет надобности отдавать мне приказы, сударь. Я туда не пойду.
Штурм опять топнул ногой и сделал еще один шаг по направлению к Фридриху.
— Под арест! — повторил он.
Фридрих отцепил эполеты и ограничился ответом:
— Сейчас тридцать пять минут первого, сударь. Вот уже десять минут, как вы более не имеете никакого права разговаривать со мною таким образом.
Ожесточенный, смертельно бледный Штурм с пеной на губах во второй раз поднял хлыст на майора. Но на этот раз он полоснул им Фридриха по щеке и плечу.
Фридрих, до сих пор еще как-то сдерживавшийся, вскричал от ярости, отпрыгнул назад и выхватил шпагу.
— Ну, гак и быть, сударь, вы не пойдете под стражу, — сказал Штурм, — но предстанете перед военным советом. Ах! Дурак! — прибавил он, разражаясь смехом. — Он предпочитает быть расстрелянным, вместо того чтобы дать мне двадцать пять адресов.
Услышав этот бесстыдный смех генерала, Фридрих полностью потерял голову и бросился на него, но на своем пути он столкнулся с тремя-четырьмя офицерами, которых сам призвал, и те ему вполголоса сказали:
— Бегите, а мы его успокоим.
— А меня, господа, — сказал Фридрих, — меня вы не станете успокаивать, ведь он меня ударил?
— Мы дадим вам слово чести, что не видели никакого удара, — ответили офицеры.
— Но я-то его почувствовал. И так как я сам тоже дал слово чести, что один из нас двоих умрет, один из нас двоих и умрет. Прощайте, господа!
Дна офицера пожелали проходить Фридриха и по го корить е ним.
— Гром и молния! Господа, — сказал генерал, — за исключением этого безумца, пусть никто не выходит. Всюду и везде, где бы он ни был, его сумеет найти офицер полевой жандармерии.
Опустив головы, молодые люди остановились. Фридрих бросился вон из кабинета.
Первой, кого он встретил на лестнице, оказалась старая баронесса фон Белинг.
— Эй, господин Фридрих, что это вы здесь творите со шпагой в руке? — спросила она его.
— Ах! Ваша правда, госпожа фон Белинг, — сказал он. И вставил шпагу в ножны.
Потом он прибежал в комнату жены, обнял ее, крепко прижал к сердцу, затем обнял ребенка, взяв его из колыбели, поднял, чтобы лучше его видеть, и стал смотреть на него, пока слезы не помешали ему видеть малютку. Потом, наконец, приложив его к груди матери, он обнял их, соединив обоих прощальным объятием, и бросился вон из комнаты.
Через несколько минут раздался пистолетный выстрел, от которого вздрогнул весь дом.
Явственнее всех его услышал Бенедикт, входивший в это время к Елене. Смутно предчувствуя беду, он и встревожился больше всех.
При этом шуме Карл открыл глаза и произнес имя Фридриха. Можно было подумать, что ближе всех находившийся к смерти, он получил от нее известие о том, что сейчас произошло.
Криком ужаса отозвался Бенедикт, услышав прозвучавшее имя Фридриха, ибо недавнее собственное роковое предсказание не выходило у него из головы. Он бросился вон из комнаты, пробежал лестничную площадку и толкнул дверь в комнату Фридриха: она была заперта изнутри. Ударом ноги Бенедикт высадил ее.
Фридрих лежал, вытянувшись на полу, рука его еще держала пистолет, которым он только что убил себя.
Он застрелился, приложив ствол к правому виску.
На столе лежала записка.
В ней говорилось следующее:
«Получив от генерала Штурма удар по лицу, после которого он отказался дать мне удовлетворение, я не захотел жить обесчещенным. Последнее мое желание состоит в том, чтобы моя жена во вдовьей одежде поехала сегодня же вечером в Берлин и пошла бы просить Ее Величество королеву об отмене контрибуции в размере двадцати пяти миллионов флоринов, ибо — и я подтверждаю это словом чести — город неспособен их выплатить. Моя вдова облегчит свое горе, причиненное ей моей смертью, тем, что сможет способствовать спасению родного города от разорения и отчаяния.
Завещаю моему другу Бенедикту заботу отомстить за меня.
Фридрих, барон фон Белов».
Бенедикт дочитывал бумагу, когда услышал за собою горестный крик. Он обернулся, и ему едва хватило времени на то, чтобы протянуть руки и поддержать г-жу фон Белов.
Услышав пистолетный выстрел и вспомнив возбуждение и слезы Фридриха, обнимавшего ее при прощании, возбуждение и слезы, причину которых она усмотрела в его отъезде, молодая женщина мгновенно почувствовала, как ее молнией пронизал ужас. Ей сразу показалось, что звук выстрела исходил из комнаты мужа. Она вышла от себя, поднялась на этаж и уже от двери увидела ужасную картину: ее Фридрих лежал в луже крови!
Бенедикт осторожно дал ей скользнуть из его рук и опуститься на колени у тела мужа. Затем он заметил, что пришла и старая баронесса фон Белинг, — она тоже быстро поднялась на звук выстрела; он оставил обеих у бездыханного тела и унес с собою только предсмертное завещание своего друга.
У дверей ее комнаты он нашел обеспокоенную Елену.
— Должен был умереть Карл, — сказал он ей, — а вышло так, что нужно оплакивать Фридриха! Но осторожно, ведь даже самое малое возбуждение способно убить Карла! Вы сильная, Елена, Фридрих был вам только зятем, так что никаких слез! Оплакивайте его в душе, но Карл не должен узнать, что друг его умер.
Елена стала белой, как ее платье; она приложила руку к сердцу и приклонила голову к плечу Бенедикта.
— Это правда? — спросила она.
— Фридрих только что застрелился, — ответил Бенедикт. — Пойдите и отдайте ему последний поцелуй, который сестра обязана отдать своему брату. Потом возвращайтесь к Карлу и более ни о чем не беспокойтесь. У вашей сестры есть поручение, она обязана его выполнить, а я займусь всем остальным. Пойду к Карлу, чтобы он не оставался один в течение тех нескольких минут, которые я вам даю, чтобы вы пошли и поплакали вместе с сестрой и бабушкой.
В некоторые минуты у Бенедикта к голосе помолилась торжественность, а и словах — твердость, не позволявшие прочим его ослушаться.
Вся дрожа, чувствуя слабость в коленях, Елена поднялась по лестнице, а Бенедикт занял ее место у кровати Карла.
Карлу становилось все лучше и лучше; он лежал с открытыми глазами и улыбкой и рукой приветствовал Бенедикта, когда тот к нему вошел.
XXXIX ВДОВА
Когда Елена вернулась к Карлу, Бенедикт сразу заметил, как сумела себя сдержать эта девушка: она была бледна, глаза у нее покраснели, но из них не катилось ни слезинки. Голос ее оставался спокоен, а улыбка уводила от всякой мысли о роковом событии, которое только что облекло в траур весь дом.
Увидев, что появилась Елена, Бенедикт знаком попрощался с Карлом, пожал руку девушке и вышел.
Оказавшись на лестничной площадке, он задумался над тем, что нужно было сделать прежде всего: нанести визит генералу Штурму или же сообщить Эмме о той части завещания ее мужа, которая относилась непосредственно к ней.
После некоторого размышления он подумал, что самым действенным способом отвлечь женщину от большого горя служит исполнение ею великого долга.
В итоге он посчитал, что ему следует начать с сообщения Эмме о последней воле ее мужа.
Он поднялся на этаж, отделявший его от комнаты Фридриха, и еще с порога бросил туда взгляд.
Воздев глаза к Небу и плача, Эмма держала мужа у себя на коленях примерно так же, как держит своего сына Иисуса Мадонна Микеланджело в его скульптуре, которую называют «La Piet а»[25].
Тут же стояла и баронесса, созерцая горестное зрелище своей внучки, оплакивавшей в свои двадцать лет умершего тридцатилетнего мужа.
На миг Бенедикт остался неподвижен и нем.
Потом он сказал своим звучным голосом:
— Эмма, сестра моя, ваш муж, умирая, оставил вам благое поручение; вам нужно его выполнить без отсрочки, ибо желание умерших священно.
Эмма повернула голову и обратила к нему растерянный взгляд.
— Что вы мне говорите? — произнесла она. — Я не понимаю.
— Сейчас вы меня поймете, — промолвил Бенедикт, показывая Эмме те несколько строк, что Фридрих написал перед смертью.
Эмма жадно схватила бумагу — просто вырвала ее из его рук.
— Он, значит, что-то написал? Он, значит, думал обо мне? — вскричала она.
И она стала читать.
— О да, да! Да, мученик своей чести, — дочитав до конца, прошептала она, — я послушаюсь тебя! Да, при жизни ты был добр, и я помогу тебе стать великим после смерти. Бабушка! Черную одежду, траурные вуали, я еду в Берлин!
Старая баронесса покачала головой: она подумала, что ее внучка сошла с ума.
— О! Этот презренный Штурм! — добавила Эмма. — Бедный Фридрих мне ведь говорил в своих письмах, что с этим человеком к нему придет несчастье. Дорогой Бенедикт, — продолжала она, протягивая руку другу своего мужа, — он обязывает вас отомстить за него; отмщение это в надежных руках, и я благодарю за то Бога.
Затем, поскольку бабушка не сводила с нее удивленных глаз, она сказала ей:
— Ах! Моя милая бабушка, да, я уезжаю в Берлин. Мой муж хочет, чтобы, пока из его раны еще сочится кровь, до того, как будет засыпана его могила, я, обливаясь слезами, поехала просить королеву Августу, августейшую по рангу и по имени, милости для нашего города, и таким образом, несомненно, он надеется, что одной жертвы будет достаточно, чтобы купить эту милость.
Потом, поцеловав мужа в лоб, она обратилась к нему:
— До скорого свидания, дорогой, жди меня на своем смертном ложе, куда ты лег так безвременно. Я же еду туда, куда ты мне приказываешь, и добьюсь успеха, ведь ты будешь со мною. Бабушка! Дайте мне черные одежды и траурные вуали.
Она мягко и нежно положила голову мужа на диван, где сама сидела, потом встала и медленным шагом, размеренным и автоматичным, какой бывает у людей, чье сердце бьется уже не в их собственной груди, а в груди другого, она в сопровождении бабушки спустилась по лестнице и, оставила на Бенедикта охрану мужа, прошла к себе.
Бенедикт оказался прав.
Горе Эммы, конечно, оставалось таким же глубоким, но сознание великой миссии, которую она должна выполнить, придало ей силы вынести это горе.
Несомненно, если Фридрих не оставил бы ей своей последней воли, ей бы и в голову не пришло хоть как-то противостоять этому несчастью. То устремив глаза к Небу, то не спуская их с тела своего мужа, она бы долго плакала, плакала бы всегда. Теперь же, напротив, какая-то напряженность — она сама не отдавала себе отчета в ней — охватила все ее существо. Слезы текли у нее по щекам, но, вместо того чтобы предаваться горю всем своим существом, она плакала, не замечая этого.
У нее еще сохранилась после похорон матери траурная одежда. Мы помним, как она ожидала окончания этого траура, чтобы выйти замуж за Фридриха. И вот, через год после свадьбы, она вновь облачилась в тот же самый траур, который тогда перестала носить.
И этот траур должен был длиться всю ее жизнь.
Одеваясь, она с лихорадочным пылом отдавала бабушке распоряжения — ни одно из них не слетело бы с ее губ, если бы она оставалась во Франкфурте. Эмма объясняла бабушке, что ей хотелось бы, чтобы Фридриха, одетого в парадную форму, положили на траурное ложе и чтобы все друзья могли его увидеть. Она рассчитала, что одна ночь у нее уйдет на поездку в Берлин, день — на посещение королевы, еще двенадцать часов — для того чтобы вернуться во Франкфурт. Выходило, что она уезжала из дома на сорок восемь часов. Эти сорок восемь часов ей придется быть вдалеке от этого дорогого тела, и она вернется к нему с тем же пылким стремлением, как если бы Фридрих был жив. Тогда она ему расскажет все, что сумела сделать. Она не сомневалась в успехе, поскольку Фридрих сказал ей, что его дух будет с нею. Фридрих будет доволен ею и успокоится у себя в могиле.
Она попросила бабушку и даже Ганса ввести ее в курс всего, что происходило в городе, всего, от чего страдал бедный Франкфурт, рассказать ей обо всех притеснениях и обидах, жертвами которых оказались франкфуртцы, обо всех контрибуциях, как в деньгах, так и натурой, которые на него налагались. Она попросила также рассказать ей во всех подробностях о смерти Фишера. А уж того, как умер ее муж, она не забудет. Она ничего не произносила по поводу презренного ничтожества, этого Штурма, ударившего Фридриха, что стало причиной его смерти. Ведь Фридрих завещал Бенедикту отомстить за себя. Разве она не была уверена, что муж будет отмщен?
Она спешила с одеванием, смотрела на часы, спрашивала о часе отправления поезда. Она словно получила поручение с Небес, ибо его принес ей ангел Смерти.
Полностью одевшись, она поднялась в ту комнату, где, как ей казалось, ее ждал Фридрих. Несмотря на то, что он был мертв, между ними установилось общение.
Фридрих спрашивал ее:
— Ты готова сделать то, что я приказал? Ты едешь?
И она отвечала:
— Смотри, вот я одеваюсь во все черное, я еду.
Она нашла Бенедикта у тела его друга.
Бенедикт удивлялся силе ее воли. Эмма дала ему возможность глубже понять Лукрецию и Корнелию древности.
Ее шаг был тверд, руки сжаты, нахмуренные брови указывали на торжество ее воли не над горем, а над слабостью.
Она страдала все так же, но стала сильнее.
С письменного стола мужа она взяла ножницы, отрезала прядь его волос, обернула их в бумагу и положила себе на грудь.
Она повторила и Бенедикту свои наставления, которые уже дала бабушке, сама вспомнила, что уже пора отправляться на железнодорожный вокзал, и сказала Бенедикту:
— Брат мой, вы собирались его отвезти на вокзал, а теперь везете меня вместо него. Бог так пожелал! Длань Господа иногда тяжела, но всегда священна! Дайте я обопрусь на вашу руку, и поедем.
На лестнице она увидела бабушку. По естественному ходу сердечных помыслов бабушка напомнила ей о ребенке. Эмма еще раз вошла к себе в комнаты, поцеловала сироту и, выходя, отерла слезу. Госпожа фон Белинг спросила, обнимая ее на прощание:
— Разве ты не попрощаешься с сестрой Еленой?
Эмма ответила:
— У Елены свои слезы, у меня — свои.
И продолжила свой путь.
Проходя мимо двери, что вела в комнаты Штурма, она на миг остановилась. Ее глаза, глядя на эту дверь, приняли сумрачное выражение, грудь ее приподнялась, зубы сжались, и, не произнося ни слова, но ужасным движением она указала на эту дверь Бенедикту, а скорее, указала ему на того, кто скрывался за нею.
— Будьте спокойны, — сказал Бенедикт, — я поклялся в этом!
Карета Ленгарта стояла у двери, они оба сели в нее, и их отвезли на Берлинский вокзал.
На минуту г-жа фон Белов обеспокоилась тем, что ей придется без всякого разрешения, без паспорта проехать через Гессен, Тюрингию и Пруссию, но ей показалось, что траур, в который она была облачена, и миссия, которую ей предстояло выполнить, устраняли перед ней все преграды.
Она спросила, когда поезд прибудет в Берлин.
Ей ответили, что, если в пути не окажется непредвиденных задержек, она будет в Берлине к девяти часам утра.
Она была уверена, что с аудиенцией, которую она попросит, ей не придется ждать, так как ее знал камергер и она действовала от имени мужа, которого знал король.
Ее последними обращенными к Бенедикту словами, когда она поцеловала его как брата, были следующие:
— Вы его не покинете, правда?
Вернувшись в дом, Бенедикт постучал в дверь покоев генерала Штурма.
Генерала не было дома. Бенедикт попросил, чтобы его предупредили тотчас же, как только генерал вернется. Затем он поднялся прямо в комнату Фридриха. Старая бабушка, добрая баронесса фон Белинг, молилась одна, стоя на коленях у тела покойного.
Он подошел к ней и почтительно поцеловал ей руку.
— Сударыня, — сказал он ей, — мы должны, не правда ли, последовать во всем желаниям вашей внучки. Ее мужа, как она сказала, нужно положить на траурное ложе и предупредить всех друзей Фридриха о его смерти, для того чтобы они могли с ним попрощаться. Положим его военную шинель на любую кровать, прикрепим ему на грудь его кресты, откроем двери его комнаты на обе створки. Так мы и выполним намерения его вдовы. А что касается приглашений нанести ему последний визит, я беру на себя их разослать. Теперь, сударыня, прикажите приготовить кровать, пусть ее покроют шинелью, и я сам перенесу туда моего друга.
Старая баронесса фон Белинг встала, поклонилась Бенедикту и сказала, что сделает все, как он велел. Она вышла, пообещав Бенедикту прислать Ганса, который ему понадобился.
В самом деле, спустя несколько минут после ухода г-жи фон Белинг в комнату вошел Ганс. Только теперь Бенедикту удалось рассмотреть едва заметную рану Фридриха: пуля вошла в висок, пробила череп, но не вышла с другой стороны.
Смерть наступила мгновенно, так что и крови вышло мало. Кровь не дотекла даже до ворота его мундира.
Таким образом, Бенедикту и Гансу пришлось только обмыть губкой рану и прикрыть ее сверху волосами. Если бы Фридрих не был так бледен, можно было бы подумать, что он жив и просто спит.
Бенедикт и Ганс, не сменив на Фридрихе одежды, отнесли его в комнату на первом этаже. На кровати там уже лежала военная шинель, и поверх ее они положили мертвое тело.
Затем, поручив баронессе фон Белинг расставить вокруг смертного ложа свечи, Бенедикт опять поднялся в комнату Фридриха и написал четыре объявления следующего содержания:
«Барон Фридрих фон Белов только что покончил с собой выстрелом в голову после оскорбления, которое нанес ему генерал Штурм, отказавшись при этом дать ему удовлетворение. Тело его выставлено в нижнем этаже дома Шандрозов. Друзья приглашаются с ним попрощаться.
Исполнитель завещания Бенедикт Тюрпен.
P.S. Просьба распространить известие об этой смерти как можно более быстро и гласно».
Покончив с этим, он спросил у Ганса имена четырех наиболее близких друзей, чаще других посещавших Фридриха, написал их адреса на четырех приготовленных письмах и велел их разнести. Затем, поскольку ему сообщили, что Штурм только вернулся к себе, он спустился и попросил объявить о себе генералу.
Генерал Штурм никогда не слышал имени Бенедикта Тюрпена. Он приказал ввести его к себе в кабинет; там находилось большинство молодых офицеров, присутствовавших при его ссоре с Фридрихом.
Хотя генерал Штурм никак не был предупрежден о последствиях этой ссоры, поскольку он вышел из дома почти одновременно с тем, как Фридрих поднимался по лестнице к себе, лицо его еще носило следы гнева.
Введенный в кабинет, Бенедикт учтиво подошел к генералу.
— Сударь, — сказал он ему, — возможно, вам неизвестно, что после нанесенного вами оскорбления мой друг Фридрих фон Белов, видя, что вы отказались дать ему удовлетворение, на которое он имел право… выстрелил себе в голову.
Генерал не сдержал движения.
Молодые офицеры переглянулись.
— Он оставил, — продолжал Бенедикт, — свои последние пожелания, доверив их бумаге. Я нам их прочту.
Как бы бесстрастен ни был генерал Штурм, при этих словах Бенедикта он почувствовал нервную дрожь, которая принудила его сесть.
Бенедикт вынул бумагу из кармана и самым спокойным и любезным голосом прочел:
«Получив от генерала Штурма удар по лицу, после которого он отказался дать мне удовлетворение, я не захотел жить обесчещенным».
— Вы слышите, сударь, ведь так? — сказал Бенедикт. Генерал головой сделал знак: да, он слышал. Молодые офицеры встали теснее друг к другу.
«Последнее мое желание состоит в том, чтобы моя жена во вдовьей одежде поехала сегодня же вечером в Берлин и пошла бы просить Ее Величество королеву об отмене контрибуции в размере двадцати пяти миллионов флоринов, ибо — и я подтверждаю это словом чести — город неспособен их выплатить. Моя вдова облегчит свое горе, причиненное ей моей смертью, тем, что сможет способствовать спасению родного города от разорения и отчаяния».
— Имею честь предупредить вас, сударь, — прибавил Бенедикт Тюрпен, — что во исполнение приказов своего мужа госпожа фон Белов отправилась на берлинскую железную дорогу и я лично только что ее туда проводил.
Генерал Штурм встал.
— Подождите, сударь, — сказал Бенедикт, — мне остается прочесть еще последнюю строчку, и, как вы увидите, она немаловажна:
«Завещаю моему другу Бенедикту заботу отомстить за меня».
— Это что значит, сударь? — спросил генерал.
Молодые офицеры стояли затаив дыхание.
— Это значит, сударь, — снова заговорил Бенедикт, поклонившись, — что, как только я закончу с легшими на меня хлопотами, касающимися семьи Шандрозов, я приду и спрошу у вас о часе поединка и роде оружия, которые вы предпочтете, и, таким образом, убив вас, выполню последнюю волю моего покойного друга Фридриха.
И Бенедикт, раскланявшись с генералом, затем с молодыми офицерами, как он бы сделал при выходе из гостиной самого дружественного ему дома, вышел от генерала, прежде чем кто бы то ни было из присутствовавших смог опомниться от удивления.
XL БУРГОМИСТР
В коротком завещании, составленном Фридрихом, две детали особенно поразили Штурма.
Прежде всего, конечно, поручение отомстить за себя, оставленное Бенедикту. Но здесь нужно отдать генералу должное и справедливо заметить, что это беспокоило его менее всего.
Сделав собственными руками свою карьеру, Штурм, происходивший из захудалого дворянства и начавший свою службу с низших чинов, благодаря своему мужеству и, мы скажем даже, вследствие своей беспощадности, сумел выдвинуться во время войны 1848 года с Баденом, Саксонией, во время войны с Шлезвиг-Гольштейном, а в течение последней войны получил буквально все чины подряд, вплоть до бригадного генерала. Его ничуть не смутило появление Бенедикта и совсем' не испугала его вежливая угроза, но он сумел признать в юноше светского человека и даже аристократа.
Кроме того, ведь существует еще это злосчастное заблуждение, распространенное среди военных, что по-настоящему смелые люди бывают только в мундирах и что, только заглянув смерти в глаза, можно перестать ее бояться.
Мы хорошо знаем, что в этом отношении Бенедикту не приходилось ни в чем завидовать самым стойким и мужественным солдатам. В каком бы виде ни являлась смерть — острием ли штыка, когтями тигра, хоботом слона или ядовитым укусом змеи, — всякий раз это была именно смерть, что означало прощание с солнцем, жизнью, любовью — со всем, что прекрасно, велико, со всем, что заставляет сердце биться, наконец, и войти в ту мрачную неизвестность, которую называют гробницей. К тому же, генерал Штурм при его темпераменте и характере понимал реальность угрозы только тогда, когда она сопровождалась громкими криками, резкими жестами и злобной бранью.
И еще: крайняя вежливость Бенедикта просто не давала ему повода думать о какой-то по-настоящему серьезной опасности. Как всякий пошлый человек, он воображал, что, если кто-нибудь проявляет в дуэлях вежливость, присущую обычным жизненным отношениям, значит, самой этой своей вежливостью он оставляет за собою путь к отступлению.
К тому же — мы говорили уже об этом — Штурм был смел до дерзости и безрассудства, ловок во всяких физических упражнениях. Все знали, что он был силен во владении любым видом оружия, а в особенности шпагой. Таким образом, как мы и сказали, вовсе не то, что Фридрих завешал Бенедикту отомстить за него, более всего обеспокоило его.
В коротком завещании было сказано, что г-же фон Белов надлежало отправиться в Берлин и обратиться к королеве с просьбой об отмене наложенной на Франкфурт контрибуции.
А ведь взимание этой контрибуции генерал Мантёйфель поручил заботам генералов фон Рёдера и Штурма.
Если по какой-либо причине, исходящей от короля или королевы, эта контрибуция не будет выплачена, то главнокомандующий придет в дурное расположение духа, которое может обрушиться на головы его подчиненных.
Итак, нужно было во что бы то ни стало получить контрибуцию до того, как г-жа фон Белов добьется ее отмены.
Оставив в стороне все прочие заботы, и даже ту, что касалась смерти Фридриха, Штурм поспешил к генералу фон Рёдеру рассказать о том, что произошло.
Он нашел фон Рёдера уже в состоянии крайнего раздражения из-за решения Сената, которое давало военным властям возможность грабить и бомбардировать город, но в котором было заявлено, что город платить не будет. Когда бургомистр первый раз заявил об отказе, его запугали и заставили заплатить первую контрибуцию в размере шести-семи миллионов флоринов.
Фон Рёдер придерживался мнения, что средства, которые были использованы в первый раз, должны быть применены снова. Он взял перо и написал:
«Господам Фелльнеру и Мюллеру, бургомистрам Франкфурта и представителям правительства.
Прошу сделать так, чтобы завтра же утром, к десяти часам самое позднее, мне был доставлен список имен всех членов Сената, постоянного представительства и Законодательного собрания с их адресами и указанием тех из них, у кого есть в городе собственные дома.
Честь имею приветствовать, фон Рёдер.
P.S. Весы для взвешивания золота находятся у генерала фон Рёдера в ожидании ответа от господ бургомистров».
Затем он позвал дневального, чтобы тот отнес это послание Фелльнеру. Именно к Фелльнеру всегда обращались как к первому бургомистру.
Фелльнера не оказалось дома, ведь он был среди четырех лиц, указанных Гансом из числа лучших друзей барона Фридриха. За минуту до этого получив письмо, сообщавшее ему, что Фридрих фон Белов выстрелил себе в голову, и представив себе, в каком состоянии должна была оказаться его крестница Эмма, бургомистр немедленно побежал в дом Шандрозов, па дороге рассказывая о случившемся всем тем друзьям, кого он встречал, как ему и было предложено в письме-уведомлении:
— Барон Фридрих фон Белов, оскорбленный генералом Штурмом, который не пожелал дать ему удовлетворение, только что застрелился.
Известно, хотя и невозможно этого понять, с какой быстротой распространяются дурные вести. А эта весть моментально разнеслась по всему городу. И в результате комната покойника уже была полна первыми гражданами города: не в состоянии поверить подобному слуху, они пришли убедиться своими собственными глазами в его правдивости.
Удивленный тем, что у изголовья мужа не видно было Эммы, г-н Фелльнер спустился к старой баронессе и там, не зная еще, зачем ее внучка отправилась в Берлин, узнал о ее отъезде.
Первое, что должно было прийти ему на ум, была мысль о том, что Эмма отправилась искать суда над генералом Штурмом.
Когда г-н Фелльнер находился в комнате покойного барона и разговаривал обо всем этом непонятном событии, его зять, советник Куглер, вбежал в комнату с письмом от генерала фон Рёдера в руке.
Поскольку тот, кто его доставил, объяснил важность этого послания, г-н Фелльнер тут же открыл письмо и, не желая терять ни минуты, донес содержание его до сведения г-на Куглера.
На самом деле в письме для г-на Фелльнера не оказалось ничего нового, ибо прошло уже три дня, как были затребованы 25 миллионов, а это послание только понуждало его доносить на своих сограждан, а ведь перед подобным доносом Фридриху пришлось уже отступить и отступить вплоть до самой смерти.
Прочтя письмо от генерала фон Рёдера, бургомистр на секунду задумался, и в течение этого непродолжительного времени он стоял, скрестив руки, и смотрел на Фридриха.
Затем, после такого созерцания покойного, он склонился над ним, поцеловал его в лоб и совсем тихо сказал ему:
— Ты увидишь, что не только солдаты умеют умирать!
Потом он посмотрел себе на ладонь и, постучав двумя пальцами по роковому мосту, где виднелась звездочка, сказал:
— Это предначертано, и ни один человек не в силах избежать своей судьбы.
Медленным шагом он спустился, с опущенной головой прошел по всему городу, вернулся к себе, поднялся в кабинет и закрыл дверь изнутри. Часть вечера, сидя в кабинете, он писал, пока не пришел час ужина.
В Германии ужин — трапеза значительная и веселая, соединяющая в торговом городе Франкфурте торговца со всем его семейством; в обед, в два часа дня, он еще наполовину погружен в дела, которые ему пришлось прервать. Но в восемь вечера все сбрасывают хомут работы, уходят от дел, и наступает час семейной близости, час улыбок. За ужином дети постарше целуют родителей в лоб, малыши садятся к ним на колени или болтают, опустившись у их ног. Люди проводят время в ожидании сна, который несет забвение тягот душевных и отдохновение от тягот телесных.
Ничего такого не получилось вечером 22 июля в семье Фелльнеров. Как всегда, бургомистр был нежен с детьми, но его нежность, возможно в тот вечер даже более проникновенная, чем обычно, носила оттенок глубокой грусти. Не спуская глаз с мужа, г-жа Фелльнер не произнесла ни единого слова, время от времени утирая слезу, наворачивавшуюся в уголках ее глаз. Девочки молчали, видя, как печалилась их мать, а что до маленьких детей, те болтали детскими голосочками, походившими на птичье щебетание, и впервые оно не вызывало улыбки у их отца и матери.
Господин фон Куглер оставался мрачен: он был из числа сильных духом и открытых сердцем — тех, кто, следуя по жизненному пути, никогда не ищет тропинок, что вели бы в обход чести. Не приходится сомневаться в том, что он уже сказал себе: «На месте шурина я бы поступил вот так».
Ужин закончился поздно, словно бы члены семьи боялись расстаться друг с другом. Дети в конце концов один за другим уснули, и к ним не пришлось призывать няню и говорить: «Ну, давайте, малыши, пора спать».
Старшая из дочерей Фелльнера машинально села за фортепьяно и коснулась пальцами клавиш, не намереваясь что-нибудь сыграть.
Звук клавиш заставил бургомистра вздрогнуть.
— Ну-ка, Мина, — сказал он, — сыграй нам «Последнюю мысль» Вебера: ты знаешь, как я люблю эту пьесу.
Не заставляя себя просить, Мина забегала пальцами по клавишам, и комнату наполнили печальные звуки, такие чистые, словно на хрустальном подносе перебирали пальцами золотое ожерелье.
Бургомистр уронил голову себе на руки и слушал пленительную мелодию поэтичного музыканта, последняя нота которой уносится подобно прощальному вздоху изгнанного ангела, покидающего землю.
Затихла эта последняя нота, и Мина перестала играть.
Не говоря ни слова, г-н Фелльнер встал и поцеловал Вильгельмину, которая ждала от отца каких-то слов, толи чтобы опять сыграть ту же мелодию, как она часто делала, то ли чтобы исполнить «Приглашение к вальсу» — другой шедевр того же автора.
Но когда отец поцеловал ее, Мина тихо вскрикнула:
— Что с тобой, отец? Ты плачешь!
— Я?.. — живо произнес Фелльнер. — Ты с ума сошла, дорогая малышка.
И он попытался улыбнуться.
— О! — полушепотом произнесла Мина. — Что бы ты ни говорил, отец, а я почувствовала слезу. Да вот же, — прибавила девочка, поднеся палец к своей щеке. — Вот же она!
Фелльнер нежно положил ей руку на губы.
Девочка поцеловала эту руку.
— Боже мой! — сказал Фелльнер таким тихим голосом, что только Бог и мог его расслышать. — Почему ты делаешь их такими добрыми, такими нежными, такими любящими? Я никогда не смогу их покинуть.
И в эту минуту чье-то дыхание коснулось его уха.
— Будь мужчиной, Фелльнер! — расслышал он голос.
Это был голос Куглера.
Господин Фелльнер взял зятя за руку и пожал ее.
Мужчины поняли друг друга.
Пробило одиннадцать. В доме бургомистра в такой поздний час расходились только из-за какой-нибудь вечеринки или бала.
Бургомистр поцеловал жену и детей.
— Однако, — сказала г-жа Фелльнер мужу, — ты, надеюсь, никуда не пойдешь?
— Нет, — ответил он.
— Ты целуешь меня так, словно собираешься уйти.
— Я в самом деле ухожу, — ответил бургомистр, силясь улыбнуться, — но ненадолго, будь спокойна. У меня есть дела с Куппером.
Госпожа Фелльнер с беспокойством посмотрела на советника, а тот кивнул в знак подтверждения этих слов.
Наконец, всех детей поочередно перецеловали.
Фелльнер проводил жену до порога ее спальни.
— Спи, — сказал он, — а мы с Куглером подумаем, как действовать и какие меры принять, чтобы встретить завтрашний день достойным образом.
И в самом деле, проследив глазами за мужем, г-жа Фелльнер увидела, как он вошел к себе в кабинет в сопровождении Куглера.
Госпожа Фелльнер ушла к себе в спальню, но не для того, чтобы лечь спать, а для того, чтобы помолиться.
Она направилась прямо к молельне — одной из смежных комнаток, примыкавших к ее спальне. Там стояла скамеечка для молитвы, а на скамеечке лежала Библия.
Долго она искала в Библии строки, которые соответствовали бы ее настроению и походили бы на молитву женщины, тревожащейся за своего мужа.
Но Библия — это восточная книга. В ней супруг — повелитель: это Соломон со своими тремястами женами, это Давид со своими супружескими изменами, это Лот со своим кровосмесительством.
Нигде она не нашла в ней целомудренной любви супруги к своему супругу, опасений женщины за мужа, опасений, в которых всегда есть нечто материнское. Она находила в Библии сильных женщин, таких, как Юдифь, Иаиль, и нигде не встретилось ей там любящей и верной жены.
Тогда она подумала, что книга — это бесполезный посредник между человеком и Богом, что человеку нужно говорить с Богом непосредственно, самому и своей молитвой, как Моисей говорил с Господом в Неопалимой купине. И тогда эта святая женщина и нежная мать семейства, у которой не было другого красноречия, кроме своей собственной манеры сказать «Я люблю тебя!» своему мужу и «Я люблю вас!» — своим детям, тогда эта женщина в разговоре с Богом о муже и в просьбе к нему о том, чтобы он сохранил столь драгоценные для семьи дни отца, сумела выразить такие душевные порывы, какие даже самые великие поэты напрасно постарались бы отыскать у себя в сердцах. Она молилась долго, молилась пылко, пока усталость не смежила ей ресницы, а руки ее не упали бессильно вдоль тела.
Ею овладел сон, а вернее усталость разбитого бессонницей тела, и она даже неспособна была пойти и спокойно лечь в постель.
Когда она раскрыла глаза, сквозь стекла ее окон проглянул первый лучик света. Уже настала заря, то есть тот неуловимый миг, когда смутный свет — не ночь и еще не день — озаряет предметы, фантастически увеличивая их.
Она посмотрела вокруг и почувствовала себя неуютно, поняла, что замерзла и измучена. Она посмотрела на кровать: муж ее не приходил.
Резким движением она вскочила, и ей показалось, что перед ней все закружилось. Конечно, вполне возможно, муж просто еще работал, но могло быть и так, что он плохо себя почувствовал или, как, и она, просто где-нибудь заснул. В том и другом случае она обязана была пойти к нему, чтобы его разбудить или ему помочь.
Она шла на ощупь, так как свеча ее погасла, а в доме серый свет еще только плыл между стен. Она добралась до двери кабинета и, не решаясь войти, хотя ключ торчал в замочной скважине, тихо постучала.
Ей не ответили.
Она постучала сильнее. Та же тишина была ей ответом.
В третий раз она постучала, но на этот раз уже протянула дрожащую руку к ключу. Поняв, что никто не откликался на ее стук, она решилась позвать мужа:
— Фелльнер! Фелльнер!
И тогда уже, полная тревоги, трепеща и ужасаясь от мысли о том, что ей предстояло увидеть, так как она предчувствовала чудовищное несчастье, она толкнула дверь, дико вскрикнула и упала навзничь.
Прямо перед собой у окна, освещенного первыми лучами солнца, она увидела тело мужа, висевшее на веревке; под его ногами лежал опрокинутый стул, и ноги не касались пола.
Предсказание Бенедикта сбылось.
Бургомистр Фелльнер повесился!
XLI КОРОЛЕВА АВГУСТА
В ту же ночь, столь горестную для семьи Фелльнеров, баронесса фон Белов быстро ехала по берлинской железной дороге и к восьми часам утра прибыла в прусскую столицу.
При любых других обстоятельствах она позаботилась бы написать королеве, испросить себе аудиенцию и соблюсти все формальности, требуемые этикетом.
Но нельзя было терять времени, ведь генерал Рёдер дал всего лишь сутки на выплату контрибуции. В десять часов утра срок истекал, и городу, в случае его отказа от выплаты, угрожало немедленное разграбление и бомбардирование.
Развешанные по всему городу объявления извещали о том, что на следующий день, а десять часов, в бывшем зале заседаний Сената генерал вместе со всем своим штабом ожидает выплаты контрибуции.
И, словно для взвешивания золота Рима, откупавшегося от галлов, были приготовлены весы.
Итак, нельзя было терять ни минуты.
Вот почему, выйдя из вагона, г-жа фон Белов взяла карету и приказала ехать прямо в Малый дворец. С начала войны там жила королева.
Госпожа фон Белов попросила камергера Вальса выйти к ней. Как мы говорили, он был другом ее мужа. Тот поспешил и, увидев ее в глубоком трауре, вскричал:
— Великий Боже! Фридрих убит?
— Он не убит, дорогой граф, он покончил с собой, — ответила баронесса, — поэтому, не теряя ни минуты, мне необходимо видеть королеву.
Камергер не стал создавать ей никаких препятствий. Он знал, насколько король ценил Фридриха, ему было также известно, что королева знакома с его вдовой. И он поторопился пойти и испросить у нее аудиенции для г-жи фон Белов.
Королева Августа была известна во всей Германии своей беспредельной добротой и своим выдающимся умом. Узнав от своего камергера о присутствии в ее дворце Эммы и понимая, что та, одетая в глубокий траур, возможно, приехала просить о какой-то милости, королева тотчас же воскликнула:
— Введите ее! Введите ее!
Госпожу фон Белов мгновенно известили об этом.
Выходя из гостиной, где она ждала аудиенции, Эмма увидела, что дверь в королевские покои открыта, и на пороге ее ждет королева Августа. Более не сделав ни шага, баронесса встала на одно колено. Она хотела заговорить, но из ее уст вырвались только такие слова:
— О ваше величество, дражайшая!
Королева подошла и подняла ее.
— Что вы хотите, дорогая баронесса? — спросила она. — Что вас привело? Почему на вас траур?
— Этот траур, ваше величество, я ношу по человеку и по городу, которые оба мне очень дороги: этот траур по моему мужу — он мертв, и по моему родному городу — он в агонии.
— Ваш муж умер! Бедное дитя! Я это уже знаю, Вальс мне сказал. Я еще сомневалась, но он прибавил, что барон покончил с собой. Кто же мог довести его до подобной крайности? По отношению к нему была проявлена несправедливость? Говорите, и мы все исправим.
— Не это привело меня, наше величество, не на меня мой муж возложил заботу о своем отмщении. С этой стороны мне приходится только уповать на исполнение воли Божьей и воли моего мужа. То, что меня привело, ваше величество, это крики отчаяния моего родного города, в разорении которого поклялись, как кажется, ваши войска, а вернее, ваши генералы.
— Идите же сюда, дитя мое, — сказала королева, — вы мне расскажете все это поподробнее и, прежде всего, как можно доверительнее.
Она увела Эмму в гостиную, усадила рядом с собой, но молодая женщина соскользнула с дивана и опять оказалась на коленях перед королевой.
— Вы знаете Франкфурт, ваше величество.
— Я ездила туда год назад, — сказала королева, — и меня там чудесно встречали.
— Пусть это доброе воспоминание явится в помощь моим словам! Генерал Фалькенштейн, прибыв в город, начал с того, что наложил на него контрибуцию в семь миллионов флоринов, и она была ему выплачена; вдобавок примерно на такую же сумму была выдана контрибуция натурой. Это уже составило четырнадцать миллионов флоринов для города с семьюдесятью двумя тысячами жителей, из которых половина населения — иностранцы и, вследствие этого, не участвуют в уплате поборов.
— И Франкфурт заплатил? — спросила королева.
— Франкфурт заплатил, ваше величество, ибо это было еще в его возможностях. Но вот прибыл генерал Мантёйфель и в свою очередь потребовал подать в двадцать пять миллионов флоринов. На этот раз подчиниться невозможно. Если бы подобная контрибуция была возложена на плечи восемнадцати миллионов ваших подданных, ваше величество, итоговая сумма составила бы миллиарды, которых нет в обращении и во всем мире. Так вот, в настоящее время пушки наведены на городские улицы и они стоят на высотах, которые господствуют над городом. Если сегодня в десять часов утра сумма не будет выплачена — а выплатить ее, ваше величество, невозможно, — Франкфурт будет подвергнут бомбардированию, отдан на разграбление, а ведь это нейтральный город: у него нет крепостных стен, нет ворот, он не защищался и не может защищаться!
— А почему же вы, дитя мое, — спросила королева, — вы, женщина, приехали сюда? Кто возложил на вас миссию просить о справедливости, просить за город? У города же есть Сенат!
— У города больше нет Сената, моя госпожа: Сенат распущен, и двое сенаторов арестованы.
— А депутаты?
— Они были изгнаны из зала заседаний.
— А бургомистры?
— Они не решаются даже шагу сделать из боязни, что их расстреляют. Бог мне свидетель, ваше величество, не я приписала себе такую важность, чтобы приехать и просить за несчастный город. Это мой муж, умирая, сказал мне: «Иди!» — и я пошла.
— Но что же делать? — спросила королева.
— Ваше величество сможет найти совет, как поступить, только в своем сердце. Но я повторяю: если сегодня, до десяти часов, от короля не поступит отменяющего приказа, Франкфурт погибнет.
— Если бы хоть король был здесь, — произнесла королева.
— Благодаря телеграфу, ваше величество, вы знаете, более нет расстояний. Телеграфное сообщение вашего величества королю — и через полчаса можно уже будет получить ответ, а за другие полчаса этот ответ сможет быть передан во Франкфурт.
— Вы правы, — сказала королева Августа и направилась к небольшому письменному столу, заваленному бумагами.
И она написала:
«Его Величеству королю Пруссии Вильгельму 1.
Берлин, 23 июля 1866 года.
Государь, покорно и настоятельно прибегаю к просьбе отменить контрибуцию в 25 миллионов флоринов, незаконно наложенную на город Франкфурт, уже выплативший как натурой, так и деньгами 14 миллионов флоринов.
Ваша покорная и нежная супруга
Августа.
P.S. Отвечайте незамедлительно».
Королева протянула бумагу Эмме, та прочла, поцеловала подпись и отдала бумагу обратно королеве.
Королева позвонила.
— Позовите господина фон Вальса, — сказала она.
Господин фон Вальс поспешил прийти.
— Отнесите эту телеграмму на дворцовый телеграф и подождите там ответа. А мы, дитя мое, — продолжала королева, — займемся теперь вами. Вы же, наверное, разбиты, вы же умираете от голода!
— О ваше величество! — произнесла баронесса.
Королева опять позвонила.
— Принесите мой завтрак, — сказала она, — баронесса завтракает вместе со мной.
Эмма встала.
Принесли легкий завтрак, к которому баронесса едва притронулась.
При каждом звуке она вздрагивала, думая, что слышит шаги г-на фон Вальса. Наконец послышались торопливые шаги, дверь распахнулась и появился г-н фон Вальс: он держал в руке телеграмму.
Забыв о присутствии королевы, Эмма кинулась к графу, но, застыдившись своего движения, остановилась на полдороге и, склонившись перед королевой, сказала:
— О, простите меня, ваше величество!
— Нет, нет! — произнесла королева. — Берите и читайте.
Эмма взяла телеграмму, дрожа, раскрыла ее, устремила в нее глаза и вскрикнула от радости.
В телеграмме значилось следующее:
«По просьбе нашей возлюбленной супруги контрибуция в 25 миллионов флоринов, назначенная генералом Мантёйфелем городу Франкфурту, отменяется.
Вильгельм I».
— Ну вот, — сказала королева, — кому теперь нужно передать эту телеграмму, чтобы она пришла вовремя? Вы добились этой милости, мое дорогое дитя, вам должна достаться и честь. Важно, чтобы решение короля стало известно во Франкфурте до десяти часов, как вы сказали. Укажите лицо, которому нужно направить телеграмму.
— По правде говоря, ваше величество, не знаю, как и ответить на столько проявленной доброты, — сказала баронесса, стоя на коленях и целуя руки королеве. — Но я знаю, чтобы она попала в верные руки, нужно отправить ее бургомистру. Но кто знает, не бежал ли бургомистр или не заключен ли он в тюрьму? Думаю, надежнее всего будет — извините мой эгоизм, ваше величество, но вы ведь оказываете мне милость и советуетесь со мной, — если я попрошу адресовать ее госпоже фон Белинг, моей бабушке. Без сомнения, она не потеряет ни мгновения, чтобы передать ее тому, кому положено.
— Будет сделано так, как вы хотите, дорогое дитя, — сказала королева.
И она прибавила к телеграмме:
«Эта милость была оказана королеве Августе ее августейшим супругом, королем Вильгельмом I, но испрошена она была у королевы ее верной подругой баронессой Фридрих фон Белов, ее первой придворной дамой.
Августа».
Молодая женщина упала на колени перед королевой.
Королева подняла ее, поцеловала и, отцепив от своего плеча орден Королевы Луизы, прикрепила его к плечу баронессы.
— Что же касается вас, — сказала королева Августа, — то вам нужно в течение нескольких часов отдохнуть, и вы не уедете, пока не отдохнете.
— Прошу прощения у вашего величества, — ответила баронесса, — но меня ждут двое; мой муж и мой ребенок.
Однако, поскольку поезд отправлялся только в час дня и не было способа ни ускорить, ни задержать его, Эмме пришлось смириться и подождать.
Королева приказала позаботиться о ней, словно та была уже придворной дамой, приказала приготовить ей ванну, обеспечить ей несколько часов отдыха и заказать место в поезде на Франкфурт.
Все это время Франкфурт пребывал в подавленном настроении. Генерал фон Рёдер вместе со всем своим штабом ждал в зале Сената потребованную пруссаками контрибуцию, и весы стояли наготове.
В девять часов утра артиллеристы подошли к своим местам на батареях и уже держали в руках зажженные фитили.
Весь город был охвачен паническим страхом от тех приготовлений, которые пришлось увидеть его жителям, считавшим, что им уже не приходится ждать милости от прусских генералов.
Все население заперлось по домам и с тревогой ожидало, что вот-вот пробьет десять, возвещая о гибели города.
Вдруг распространился страшный слух: бургомистр, не желая доносить на своих сограждан, покончил с собой — он повесился.
Без нескольких минут десять одетый в черное человек вышел из дома г-на Фелльнера — это был его зять, г-н фон Куглер; в руке он держал веревку.
Он шел прямо, не останавливаясь, не отвечая на расспросы; он направлялся прямо в Рёмер; движением руки он отстранил часовых, которые хотели преградить ему дорогу, и, войдя в зал, где восседал генерал Рёдер, направился к весам и бросил на одну из чаш веревку, которую до этого держал в руке.
— Вот, — сказал он, — выкуп города Франкфурта.
— Что это значит?.. — спросил генерал фон Рёлер.
— Это значит, что бургомистр Фелльнер, вместо того чтобы подчиниться нам, повесился пот на этой веревке. Пусть же его смерть падет на голову тех, кто явился ее причиной!
— Однако, — возразил с грубой резкостью генерал фон Рёдер, продолжая курить сигару, — контрибуцию все равно придется заплатить.
— Если только, — спокойно сказал Бенедикт Тюрпен, входя в зал Сената, — король Вильгельм Первый не отменит ее для города Франкфурта.
И, развернув телеграмму, которую только что получила г-жа фон Белинг, он прочел ее генералу фон Рёдеру громким голосом, во всеуслышание, чтобы ни один человек не оставался в неведении по этому поводу.
— Сударь, — сказал Бенедикт генералу, — советую вам перенести эти двадцать пять миллионов флоринов из статьи прибылей в статью убытков. А в качестве бухгалтерского документа честь имею оставить вам вот эту телеграмму.
XLII ДВЕ ПОХОРОННЫЕ ПРОЦЕССИИ
Одновременно по Франкфурту распространились две разные новости, одна поразила всех ужасом, другая обрадовала.
Первая новость вызвала у всех ужас: бургомистр, столь уважаемый и почитаемый человек, занимавший два первых места, место сенатора и место бургомистра, в только что угасшей маленькой республике, отец шестерых детей, образец отеческих и супружеских добродетелей, вынужден был повеситься, чтобы не выдать жадному и грубому солдату сведений о богатых семьях в городе.
Вторая новость была добрая: благодаря вмешательству г-жи фон Белов и по просьбе королевы ее супруг отменил контрибуцию в 25 миллионов флоринов, наложенную на город Франкфурт.
Понятно, что во всем городе люди были заняты только этими новостями. Наибольшее удивление и любопытство местных жителей разжигали две таинственные смерти, последовавшие почти одновременно.
Люди задавали себе вопрос, как это Фридрих фон Белов после оскорбления, нанесенного ему генералом, подумал, прежде чем застрелиться, о том, чтобы обязать свою жену отправиться в это благое паломничество в Берлин. Ведь этот человек даже не был франкфуртцем и душой и телом принадлежал прусской армии. Хотел ли он искупить низкое насилие над городом, содеянное его соотечественниками? Кроме того, прусские офицеры, присутствовавшие при ссоре между Фридрихом и генералом, вовсе не хранили молчание и кое-что рассказали об этом.
В этих молодых сердцах, еще не успевших затвердеть под веянием тщеславия, не заглохло, видно, понятие о справедливости и несправедливости, как это случается со старыми солдатами, привыкшими к беспрекословному подчинению, каков бы ни был отданный им приказ. В глубине души многие страдали, задетые в своей гордости, оттого что их использовали в качестве орудия для осуществления актов мести, причина которой терялась в таинственных обидах некоего министра, бывшего прежде послом. Когда их собиралось вместе десять, двадцать, сорок человек, они говорили о том, что им приходится заниматься не ремеслом солдата, а делом агента, поселяемого у недоимщика податей, или свидетеля при описи его имущества.
Такие люди не молчали и были весьма далеки от желания оправдывать своего генерала; они рассказали в нескольких словах о ссоре, произошедшей в их непосредственном присутствии, и намеками дали возможность догадаться обо всем остальном.
Печатники в типографии получили приказ не набирать никаких объявлений без разрешения коменданта города, но во Франкфурте среди этих людей нашлось немало готовых поступить наперекор этому приказу, и доказательством тому является тот факт, что в минуты, когда советник Куглер бросил на чашу весов веревку бургомистра, более тяжелую, чем меч Бренна, тысяча невидимых и неведомых рук расклеивала по франкфуртским стенам следующие листки;
«Этой ночью, в три часа утра, достойный бургомистр Фелльнер повесился как мученик, преданный городу Франкфурту. Граждане, молитесь за упокой его души».
Со своей стороны, Бенедикт отыскал печатника из «Почтовой газеты», обязавшегося выдать ему через два часа двести копий текстов двух телеграмм, которыми обменялись королева и король. Кроме того, этот же человек брался за то, чтобы, в случае если его объявления не будут слишком больших размеров, расклеить их при содействии обычных расклейщиков, которые добровольно соглашались рисковать, а это и на самом деле было рискованным, и постараться таким образом официально сообщить добрую весть своим согражданам.
Для печати использовали ту же бумагу, того же цвета и тот же типографский шрифт, что были выбраны для объявления о самоубийстве г-на Фелльнера.
И действительно, по прошествии двух часов двести новых объявлений оказались расклеенными рядом с предыдущими. Они содержали следующее:
«Вчера, как уже известно, в два часа пополудни, барон фон Белов застрелился после ссоры с генералом Штурмом, во время которой генерал оскорбил его.
Причины этой ссоры останутся секретом только для тех, кто сам не пожелает о них узнать.
Одним из пунктов его завещания было поручение г-же фон Белов отправиться в Берлин и просить Ее Величество королеву Августу отменить контрибуцию в 25 миллионов флоринов, наложенную на город генералом Мантёйфелем. Потратив время лишь на то, чтобы облачиться в траур, баронесса немедленно уехала.
Мы счастливы иметь возможность сообщить нашим согражданам содержание двух телеграмм, присланных нам:
“Государь, покорно и настоятельно прибегаю к просьбе отменить контрибуцию в 25 миллионов флоринов, незаконно наложенную на город Франкфурт, уже выплативший как натурой, так и деньгами 14 миллионов флоринов.
Ваша покорная и нежная супруга Августа ”.
Сразу же вслед за получением этой телеграммы король соблаговолил ответить телеграммой следующего содержания:
“По просьбе нашей возлюбленной супруги королевы Августы контрибуция в 25 миллионов флоринов, назначенная генералом Мантёйфелем городу Франкфурту, отменяется.
Вильгельм Г».
Можно понять, какие толпы народа стекались к этим двум объявлениям. В какой-то момент движение народа в городе стало походить на мятеж. Тогда забили барабаны, на улицы вышел патруль, и граждане получили приказ разойтись по домам.
Улицы опустели. Канониры, которые к десяти часам утра, как мы говорили, уже держали в руках зажженные фитили, так и остались с ними у своих пушек. На протяжении тридцати часов угроза все еще висела над городом. По истечении этого срока, поскольку в городе не было больше ни скоплений народа, ни каких-либо столкновений и не последовало ни единого выстрела, в ночь с 25 на 26 июля все эти враждебные городу приготовления были устранены.
Наутро были расклеены новые объявления.
В них содержалось следующее уведомление:
«Завтра, 26 июля, в два часа пополудни, состоятся похороны господина бургомистра Фелльнера и начальника штаба Фридриха фон Белова.
Обе похоронные процессии двинутся из домов умерших и сойдутся в Соборе, где будет совершена общая служба — отпевание этих жертв.
Семьи придерживаются мнения, что дополнительных приглашений, кроме настоящего объявления, не потребуется и город Франкфурт не пренебрежет своим долгом.
Траурное шествие от дома бургомистра Фелльнера поведет его зять, советник Куглер, а от дома майора Фридриха фон Белова — г-н Бенедикт Тюрпен, его душеприказчик».
Не будем пытаться рисовать картину того, что происходило в домах обеих семей, оказавшихся в несчастье. Госпожа фон Белов приехала 24 июля к часу ночи. В ее доме все бодрствовали и молились у тела Фридриха. Несколько первых дам города пришли сюда же ждать ее возвращения. Ее встретили как ангела, принесшего небесное милосердие.
Но через несколько мгновений люди поняли, что это долг благочестия столь поспешно вернул ее к изголовью мужа. Все удалились, оставив ее у тела горячо любимого человека.
Елена оставалась у себя, бодрствуя около Карла.
Два раза за прошедший день она спускалась, вставала на колени у кровати Фридриха, молилась, целовала его в лоб и вновь поднималась к себе.
Карлу становилось лучше, он еще не полностью пришел в себя, но все же возвращался к жизни. Глаза у него открывались и могли смотреть в глаза Елены. Его уста шептали слова любви, его рука могла ответить сжимавшей ее руке. Только хирург оставался озабоченным и, все время подбадривая раненого, не хотел пока ничего отвечать на вопросы Елены, а если уж они оказывались наедине, он повторял одно и то же:
— Нужно ждать! Раньше восьмого или девятого дня не смогу ничего сказать определенного.
В доме г-на Фелльнера царил такой же траур. Все, кто занимал какое-то место в управлении бывшей республики — сенаторы, члены Законодательного собрания, члены Комитета пятидесяти одного, — приходили поклониться телу этого праведного человека и возлагали к его ложу: один — лавровый венок, другой — дубовый венок, третий — венок из бессмертников. Его ложе превратилось в настоящую триумфальную колесницу. Никогда возвращение после выигранной битвы завоевателя, испустившего дух в час своей победы, не собирало вокруг себя столько людей — проливающих слезы, молящихся и воздающих ему хвалу.
С утра 26 июля, когда в городе заметили, что исчезли пушки и Франкфурту более не угрожала расправа в любую минуту, все жители его собрались к двум дверям, помеченным черными занавесями.
На этот раз Франкфурту предстояло выполнить больше, чем обычный долг по отношению к представителю городской власти и уважаемому человеку. Ему предстояло отдать долг благодарности двум жертвам. И вот, с десяти часов утра, все гильдии со своими знаменами, как всегда бывало в дни народных праздников в вольном городе, собрались на Цейле. Со всех сторон, хотя им было запрещено поднимать свои знамена, стекались сюда с развернутыми знаменами члены распущенных обществ: нарушив приказ, они возобновили на один день свою деятельность.
Это были: Общество стрелков, Гимнастическое общество, Общество национальной обороны, Новый Союз горожан, Общество молодых ополченцев, Общество горожан Саксенхаузена и Общество по просвещению рабочих.
На многих домах были вывешены черные флаги, в том числе на Казино (улица Санкт-Галль), принадлежавшем известнейшим горожанам; на здании клуба Нового Союза горожан (улица Корн-Маркт); на здании клуба Старого Союза горожан (улица Эшенхейн), в который входило около двух тысяч членов, представлявших городскую буржуазию; наконец, на здании Саксенхаузенского клуба, самого общедоступного из всех, принадлежащего жителям этого предместья Франкфурта (у нас были случаи часто упоминать его).
Почти столь же значительное стечение народа образовалось на углу Росс-Маркта, у Большой улицы. Мы помним, что именно здесь находился дом, который во Франкфурте по привычке называли домом Шандрозов, хотя никого с этим именем уже is доме не было, за исключением Елены, не сменившей своего девичьего имени.
Однако на улице у дома бургомистра собралась городская буржуазия и простой люд, тогда как напротив дома Шандрозов собралась главным образом родовая аристократия, к которой принадлежали и его хозяева.
Но что было удивительно в этом отношении, когда смерть поразила представителя сразу двух сословий, так это то, как много пришло прусских офицеров, чтобы отдать последний долг своему товарищу, причем собрались они с риском, что их поступок не понравится начальникам, генералам фон Рёдеру и Штурму. (Последним пришла в голову удачная мысль уехать из Франкфурта, и они даже не пытались ни в коей мере сдерживать чьи-либо чувства.)
Впрочем, чувства благодарности жителей Франкфурта проявлялись равным образом и одновременно перед обоими домами.
Когда господин советник фон Куглер вышел из дома бургомистра вслед за катафалком, держа за руки обоих сыновей покойного, крики «Да здравствует госпожа Фелльнер!», «Да здравствуют ее дети!» раздались в знак того, что люди пожелали выразить ей свою благодарность, относившуюся к ее мужу. Эти крики проникли в глубь ее дома, к ней в комнату, в ее молельню, где она лежала ниц до трех часов утра в ту роковую ночь. Она поняла этот порыв народных чувств, стремившийся к ней из всех сердец, и, когда, облаченная в траур, она появилась на балконе вместе со своими четырьмя дочерьми, также одетыми в траур, раздались рыдания и слезы потекли из глаз всех людей.
Такая же сцена произошла, когда понесли гроб Фридриха, ведь именно преданности его вдовы Франкфурт был обязан тем, что он избежал разрушения.
Крик «Да здравствует госпожа фон Белов!» вырвался из всех сердец, и люди повторяли его до тех пор, пока молодая и прекрасная вдова, завернувшись в свой черный креп, не вышла и не получила это свидетельство людской благодарности от всего города. Она вышла и поклонилась, и среди огромного стечения народа, состоявшего из четырех или пяти разных групп городского населения, в толпе послышались слова:
— Бледность и траур делают ее еще прекраснее.
Так же как не получили приказа следовать в похоронном шествии у гроба Фридриха офицеры, ни барабанщики, обычно идущие перед катафалком, ни солдаты, следующие за катафалком, когда они провожают в последний путь офицера из высших чинов, тоже не получили распоряжений относительно этих похорон; но то ли по привычке к традиционному порядку, толи из симпатии к покойному, и барабанщики, которыми нужно было командовать, и взвод солдат, которые должны были идти с оружием в руках, — все оказались на своих местах к тому времени, когда похоронная процессия двинулась в путь. Таким образом, под звук глухого рокота барабанов, покрытых крепом, процессия двигалась к Собору.
В условленном месте обе процессии соединились и пошли бок о бок прямо к Собору, занимая всю ширину улицы. Словно две реки, текущие рядом друг с другом, не смешивая свои воды, они шли вслед за катафалками, и каждый предводитель процессии шел впереди похоронной повозки: на одной из них лежал покойный бургомистр, аза ним — буржуазия и простой народ; на другой лежал барон фон Белов, а за ним — аристократия и армия.
Можно было сказать, что во время похорон между этими двумя группами людей — из них одна жестоко давила на другую — воцарился временный мир, ибо только смерть всеми уважаемого человека и может сблизить их на какой-то миг, а потом немедленно вернуть к взаимной вражде.
У главного входа в Собор оба гроба сняли и поставили рядом. Оттуда гробы на руках пронесли к церковному клиросу; но в церкви, с утра переполненной народом, жадным, как это бывает в больших городах, на зрелища, почти не оставалось места для того, чтобы пронести два гроба и поставить их в нефе. Воинский кортеж, барабанщики и взвод солдат проследовали за гробами, но когда толпа, шедшая за ними, захотела тоже найти себе место в храме, это уже оказалось совсем невозможным, и более трех тысяч человек вынуждены были остаться на паперти и на улице.
Торжественная и мрачная служба началась, то и дело ее сопровождал рокот барабанов и звук ружейных прикладов, опускаемых на пол. Никто не смог бы сказать, кому именно из двух покойников воздавали эти военные почести, так что несчастный бургомистр получал свою долю похоронных почестей как раз от тех людей, которые явились виновниками его смерти. Правда, со своей стороны, члены Общества «Lieder Kranz[26]» запевали хором похоронные псалмы, и тогда голос народа поднимался бурей и заглушал бряцание оружия.
Служба продолжалась долго и, хотя и лишенная помпезной торжественности католических служб, она произвела не меньшее впечатление на тех, кто на ней присутствовал.
Затем обе процессии направились к кладбищу. Бургомистра сопровождали похоронные мелодии, офицера — военная музыка.
Но вот прибыли к цели похоронного шествия.
Склеп семьи Шандрозов находился в отдалении от склепа бургомистра, поэтому обе процессии разделились, и каждая из них пошла вслед за гробом до самого конца. Итак, оба похоронных шествия завершили свой ход. Вокруг могилы бургомистра были сплошные песнопения, речи, венки из бессмертников. У могилы офицера — ружейные залпы, от которых солдат в гробу вздрагивает, и лавровые венки, с которыми становится мягким и благоуханным его последнее ложе.
Обе церемонии закончились только к вечеру, и печальная и притихшая толпа до той поры разделенная, теперь одним огромным потоком возвращалась обратно по пройденному уже ею пути.
Только барабанщики, солдаты и офицеры, непроизвольно теснясь друг к другу, возвращались своими рядами, если и не как враждебное войско, то, по крайней мере, как некая масса, не имеющая связи с городским населением.
Во время всей этой церемонии Бенедикт думал о том, как он пойдет на следующий день к генералу Штурму и представится ему в качестве исполнителя завещанного Фридрихом мщения, то есть потребует дать ему удовлетворение за нанесенное его другу оскорбление.
Но, вернувшись, Бенедикт нашел Эмму столь удрученной, Карла таким слабым, а старую баронессу настолько изможденной сразу и своим возрастом, и свалившимся на голову несчастьем, что он подумал: бедная семья Шандрозов еще нуждалась в его помощи. А во время дуэли, которой он угрожал генералу Штурму, неминуемо должно было произойти либо одно, либо другое: или он убьет генерала, или тот убьет его.
Если он убьет генерала, ясно было, что ему надо будет без промедления уехать из Франкфурта, чтобы избежать мести пруссаков. Если генерал убьет его, то тем более он уже не сможет принести пользу семье Шандрозов, а она, как ему казалось, нуждалась в его моральной поддержке еще больше, чем в физической.
Таким образом, он решил подождать несколько дней, но пообещал себе отправлять каждый день свою визитную карточку генералу Штурму и сдержал слово. Таким образом, генерал Штурм мог каждое утро убеждаться, что, если он сам забыл о Бенедикте, то Бенедикт о нем не забывал.
XLIII ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ
Прошло три дня после событий, о которых мы только что рассказали. В доме, где смерть показала себя с двойной жестокостью, первые порывы горя смягчились.
Здесь все еще плакали, но более не рыдали.
Карлу становилось все лучше. Два последних дня он уже стал приподниматься на кровати и мог проявлять признаки сознания, причем уже не отрывистой речью, не только ласковыми восклицаниями или нежными словами, но принимая участие в разговоре. Его мозг, как и все остальное тело, перенес ослабление, однако понемногу вновь обретал ту власть, которую он имел над телом в здоровом состоянии.
Видя, как Карл будто рождался заново, Елена — она была в том возрасте, когда молодость еще держится одной рукой за любовь, другой — за надежду, — радовалась этому явному возвращению к жизни, словно получила некое обещание от Провидения, что теперь уже никакое несчастье не случится и не нарушит хода такого ненадежного выздоровления.
Два раза в день хирург приходил навестить раненого; отнюдь не уничтожая надежд Елены, он все же не хотел утверждать ничего, что могло бы полностью вернуть ей уверенность в выздоровлении Карла.
Карл видел, как его любимая надеялась на его выздоровление, но в то же время замечал он и сдержанность, с которой хирург выслушивал радостные планы Елены на будущее.
Он тоже строил свои планы, но они были печальнее.
— Елена, — говорил он ей, — я знаю все, что вы для меня сделали. Бенедикт рассказал мне о ваших слезах и отчаянии, о том, как вы изнуряли себя ради меня. Елена, я люблю вас такой эгоистичной любовью, что перед тем, как умереть, мне хотелось…
И, так как Елена всплескивала руками, он прибавлял:
— Если я все же должен умереть, мне хотелось бы перед этим иметь возможность назвать вас своей супругой для того, чтобы — как нам твердят об этом и во что наша гордость заставляет нас верить, — если есть иной мир вне нашего, вновь обрести вас своей женой в том мире, как и в этом. Так обещайте мне, мой нежный страж, в случае если произойдет то, чего опасается врач, не желающий до сих пор целиком обнадеживать вас, обещайте же мне, что вы пошлете за священником и, рука об руку со мною, скажете ему: «Благословите нас, святой отец, Карл фон Фрейберг — мой супруг!» И клянусь вам, Елена, что смерть станет для меня такой же легкой и благостной, какой она будет безутешной, если я не смогу сказать вам: «Прощай, возлюбленная жена моя!»
Елена слушала все эти его пожелания с улыбкой надежды. Все время оставаясь рядом с Карлом, она же и отвечала ему на все его слова, слова печали или радости.
Время от времени, когда девушка видела, что ее больной уставал, она подавала ему знак молчать и шла к своему книжному шкафу, брала либо Уланда, либо Гёте, либо Шиллера и читала ему «Старого рыцаря», «Лесного царя» или «Колокол». Почти всегда в таких случаях под звуки ее мелодичного голоса, словно под шепот лесного ручья, Карл закрывал глаза и мало-помалу засыпал.
После столь огромной потери крови у молодого человека была крайне велика необходимость во сне. Тогда, — словно Елена могла видеть, как в сознании Карла сгущаются тени и, прерывая его способность мыслить, влекут за собою сон, — ее голос постепенно стихал, и она, поглядывая на больного и продолжая смотреть в книгу, прекращала читать точно в ту минуту, когда он начинал засыпать.
Она согласилась с тем, чтобы Бенедикт на два-три часа подменял ее ночью, но лишь потому, что сам Карл настаивал на этом и даже требовал этого от нее, однако и тогда она не уходила из комнаты. За занавеской у алькова, где раньше стояла ее кровать, которую теперь для большего спокойствия больного и облегчения ухода за ним поставили посреди комнаты, она опускалась на кушетку и засыпала, как птица, неглубоким сном, и при любом звуке, при любом самом легком движении в комнате, при любом слове, которое произносил раненый или его страж, ее голова немедленно показывалась из-за занавески, и она спрашивала беспокойным голосом:
— Ну что?
Тот человек, кому довелось попутешествовать по Германии, мог бы заметить, насколько светловолосые германские девушки, эти Маргариты, Шарлотты и Амалии, более расположены к меланхоличной поэтичности, источник которой, кажется, находится в Англии, нежели наши французские девушки, веселые, остроумные и шаловливые, однако в большинстве случаев менее поэтичные. Шекспир сказал: «Англия — это лебединое гнездо, окруженное обширным прудом». А об очаровательных германских городках, что называются Франкфуртом, Маннгеймом, Брауншвейгом, Касселем, Дармштадтом, можно было бы сказать, что это голубиные гнезда и купах зелени.
Поищите во Франции Офелий, Джульетт, Дездемон, Корнелий — вы их не найдете. Поищите их в Германии, и здесь на каждом шагу вы встретите тени созданных английским поэтом образов, только они будут чуть-чуть более материальны, и, вместо того чтобы жить ароматом цветов, ночным ветерком, дуновениями зари, они живут молоком, медом и фруктами.
Елена и была одним из этих полунебесных созданий. Она была сестрой прелестных призраков, что живут на каждой странице сборников немецкой народной поэзии.
Мы глубоко ценим этих поэтов-мечтателей, что видят Лорелей в туманах над Рейном, Миньон в густой листве, и мы не станем говорить, что заслуга их невелика, так как они находят свои прелестные образы вовсе не в мечтах своего гения, а непосредственно копируя их с тех, какие туманная природа Англии и Германии дает им видеть перед собою то в слезах, то с улыбкой на лице, но всегда поэтичных.
Заметьте хорошенько, что на берегах Рейна, Майна или Дуная не приходится долго искать эти типы, которые у нас если и не совсем неизвестны, то крайне редки и встречаются в среде аристократии, где порода оберегает внешние черты и где воспитание направляет ум. В тех краях их можно просто встретить у окна горожанина или у крестьянской двери, ведь Шиллер так и встретил свою Луизу, а Гёте — свою Маргариту.
Елена совершала все свои поступки, которые кажутся нам вершиной преданности, вполне просто, не думая, что за свою нежность и усталость она заслужила какого-то особого участия и от людей, и даже от Господа Бога.
Ночами, когда Елена оставалась одна, Бенедикт спал в комнате Фридриха или просто бросался, не раздеваясь, на его кровать, чтобы при необходимости быть готовым бежать на помощь к Елене или за хирургом. Мы говорили, помнится, что постоянно у двери дома дежурила карета, и — странное дело! — чем больше продвигалось вперед выздоравливание, тем больше врач настаивал на том, чтобы этой предосторожностью не пренебрегали.
Наступило 30 июля. Прободрствовав часть ночи у кровати Карла, Бенедикт уступил место Елене и, вернувшись в комнату Фридриха, бросился на кровать, но в этот самый миг ему вдруг показалось, что его громкими криками звали наверх.
Вслед за этим дверь в комнату распахнулась и бледная, растрепанная, вся в крови Елена, нечленораздельно произноси слова, означавшие «На помощь!», поя пилась на пороге.
Бенедикт догадался о том, что там произошло. Врач, который был с ним словоохотливее, чем с молодой дедушкой, рассказал ему о своих опасениях, и теперь было очевидно, что эти опасения были не напрасны.
Бенедикт ринулся в комнату к Карлу. Перевязку артерии, то, что называется струпом, прорвало, и кровь била фонтаном.
Карл был без сознания.
Не теряя ни секунды, Бенедикт скрутил свой носовой платок так, чтобы сделать из него жгут, зажал им сверху руку Карла, ударом ноги сбил со стула перекладину, пропустил ее между рукой раненого и узлом из платка и, несколько раз поворачивая палку, сделал то, что на медицинском языке называется зажимом.
Кровь мгновенно перестала течь.
Елена бросилась к кровати как безумная, она не слышала, что Бенедикт кричал ей:
— Врача! Врача!
Рукой, которая у него оставалась свободной (другой он удерживал руку Карла), Бенедикт резко дернул шнур звонка, и Ганс, догадавшись, что происходило нечто чрезвычайное, в ужасе прибежал.
— В карету и к врачу! — крикнул Бенедикт.
Ганс все понял, так как с одного взгляда все увидел. Он бросился вниз по ступенькам, впрыгнул в карету и в свою очередь крикнул:
— К врачу!
Поскольку было едва ли шесть часов утра, врач был дома.
Через десять минут он уже входил в комнату.
Увидев, что пол был залит кровью, что Елена почти потеряла сознание и, самое главное, что Бенедикт сдавливал руку раненого, врач понял, что произошло, ибо здесь и таились его опасения.
— А! — вскричал он. — Вот это я и предвидел. Вторичное кровотечение; струп прорвало.
При звуке его голоса Елена встала, бросилась к нему, обеими руками обняла его за шею и крикнула:
— Он не умрет! Не умрет! Правда же, вы не дадите ему умереть?
Врач высвободился из объятий Елены и подошел к кровати.
Карл не потерял столько крови, как в первый раз, но, судя по ручью, протянувшемуся по полу, он, должно быть, потерял более двух фунтов, и это было слишком опасно при его слабости.
Между тем врач не терял твердости духа; рука Карла оставалась обнаженной, и он сделал новый разрез и поискал щипцами артерию, которая, к счастью, зажатая стараниями Бенедикта, поднялась только на несколько сантиметров.
В одну секунду артерия была перевязана, но раненый пребывал в глубоком обмороке. Если раньше Елена с тревогой следила за первой операцией, то теперь за второй она следила в полном ужасе. Она и в первый раз видела Карла безмолвным, неподвижным, похолодевшим, со всеми признаками наступившей смерти, но тогда ей не пришлось, как только что, увидеть, как он перешел от жизни к смерти. Губы у него побелели, глаза были закрыты, щеки стали воскового цвета. Было ясно, что даже в первый раз Карл не так далеко, как теперь, ушел в небытие.
Елена ломала руки.
— О! Его желание, его желание! Он же не сможет порадоваться от того, что оно осуществится. Господин доктор, — говорила она, — разве он больше не откроет глаза? Перед тем как умереть, он больше не заговорит? Боже правый! Ты мне свидетель! Я больше уже не прошу, чтобы он жил, для этого нужно, чтобы ты совершил чудо доброты. Но доктор, доктор! Сделайте так, чтобы он открыл глаза! Сделайте так, чтобы он заговорил со мной! Сделайте так, чтобы священник мог соединить наши руки! Сделайте, чтобы мы могли соединиться на этом свете и не оказаться разлученными на том!
Несмотря на свою обычную бесстрастность, врач не смог остаться холодным перед таким горем; хотя он прекрасно видел, что на этот раз удар был смертельным, и хотя он сделал все, на что было способно искусство врачевания, и чувствовал себя бессильным сделать еще что бы то ни было, он попытался обнадежить Елену теми простыми ответами, что имеются в запасе у врачей для подобного рода чрезвычайных обстоятельств.
Но тогда Бенедикт подошел к нему и, взяв его за руку, сказал:
— Доктор, вы слышите, что просит у вас это святое создание? Она не просит у вас жизни для своего любимого, она просит воскресить его на время, чтобы священник успел произнести несколько слов и надеть ей кольцо на палец!
— О да! Да, — вскричала Елена, — я прошу только этого! Я же была безумицей! Пока он еще жил, пока говорил со мной, я не последовала его желанию и не позвала священника, чтобы он соединил нас навсегда. Доктор, пусть он откроет глаза, пусть скажет: «Да!» — это нее, ч то я прошу; когда будет исполнено его желание, я смогу исполнить данное ему мною слово.
— Доктор, — сказал Бенедикт вполголоса врачу, пожимая ему руку и не выпуская ее из своей, — доктор, а если мы попросим у науки чуда, it котором нам отказывает Бог? А если мы прибегнем к переливанию крови?
— Что это такое? — спросила Елена.
Врач секунду подумал. Затем он посмотрел на больного.
— Все потеряно, — сказал он, — поэтому мы ничем не рискуем.
— Я вас спросила, — сказала Елена, — что это такое, переливание крови?
— Речь о том, — сказал врач, — чтобы перелить в обескровленные вены больного достаточное количество горячей и живой крови, чтобы вернуть ему, пусть на какой-то миг, вместе с жизнью и способностью говорить, сознание собственного я.
— А это операция?.. — спросила Елена.
— Я буду делать ее первый раз в жизни, — ответил врач, — но два-три раза мне пришлось видеть, как ее делают в больницах.
— И мне тоже, — сказал Бенедикт, — ибо, увлекаясь всем сверхъестественным, я прослушал лекции Мажанди и тогда видел, что, когда вводили в вены животного кровь другого животного его вида, опыт всегда удавался.
— Ну хорошо, — сказал врач, — я поищу человека, который захочет продать нам один или два фунта своей крови.
— Доктор, — сказал Бенедикт, сбрасывая с себя куртку, — я не продаю своей крови друзьям, а отдаю ее. Вы нашли человека!
Но при этих словах Елена вскрикнула, бросилась между Бенедиктом и врачом и, протягивая руку хирургу, сказала Бенедикту:
— Вы уже достаточно сделали для него до сих пор, господин Бенедикт, и если человеческую кровь нужно влить в вены моего любимого Карла, то это будет моя кровь, это мое право!
Бенедикт упал на колени перед этой героиней любви и преданности, схватил подол ее платья и поцеловал его.
Менее впечатлительный, врач ограничился тем, что сказал:
— Это хорошо! Попробуем! Дайте раненому выпить ложку лучшего укрепляющего средства. Я иду к себе за аппаратом.
XLIV БРАКОСОЧЕТАНИЕ IN EXTREMIS[27]
Врач выбежал из комнаты так быстро, как только позволяло ему достоинство его профессии.
В это время Елена пыталась влить в губы Карлу ложку укрепляющего средства, а Бенедикт дергал шнур звонка и сзывал слуг.
Появился Ганс.
— Сходите за священником, — сказала ему Елена.
— Для последнего причастия? — робко спросил Ганс.
— Для бракосочетания, — ответила Елена.
Через несколько минут врач вернулся с аппаратом.
— Доктор, — сказал ему Бенедикт, — я вполне в курсе операции и хотел бы поговорить с вами. Позвольте сказать вам, прежде чем вы начнете, что я полностью отвергаю метод Мюллера и Диффенбаха, которые утверждают, что нужно вводить кровь, очищенную от фибринов с помощью взбалтывания, и, напротив, придерживаюсь мнения Берара, который считает, что нужно вливать кровь в природном виде и со всеми ее элементами.
— Я придерживаюсь того же мнения, — сказал доктор. — Звоните.
Бенедикт позвонил.
Вошла служанка.
— Принесите горячей воды в глубоком сосуде, — попросил доктор, — и градусник, если таковой имеется в доме.
Служанка почти тотчас же снова появилась с тем и другим.
Врач вынул из кармана бинт и обмотал им левую руку больного. Именно с этой стороны нужно было делать переливание крови, так как правая рука была изуродована.
Через несколько мгновений вена набухла, и это доказывало, что кровь в ней не совсем иссякла и что циркуляция ее, хотя и слабая, еще продолжалась.
Тогда врач обернулся к Елене:
— Вы готовы? — спросил он.
— Да, — сказала Елена, — но поторопитесь же, вдруг он умрет, Боже правый!
Врач зажал руку Елены бинтом, поместил аппарат на кровать, чтобы по возможности приблизить его к раненому, и поставил его в воду, нагретую до 35 градусов, чтобы кровь не успела остыть, проходя от одной руки в другую. Он обнажил самый набухший сосуд на руке Карла и почти одновременно проколол вену девушки, кровь которой тут же потекла в аппарат.
Когда врач посчитал, что крови перелилось граммов 120–130, он сделал знак Бенедикту, чтобы тот большим пальцем зажал течение крови у Елены, и, сделав надрез вдоль сосуда у Карла, ввел туда конец трубки и стал медленно переливать кровь, внимательно следя за тем, чтобы в вену вместе с кровью не проник ни один пузырек воздуха.
Во время операции, продолжавшейся примерно десять минут, они услышали слабый шум у двери.
Это пришел священник в сопровождении Эммы, г-жи фон Белинг и всех домашних слуг.
Елена обернулась, увидела их у двери и подала им знак войти.
В эту минуту Бенедикт сжал ей руку: Карл вздрогнул, и какая-то дрожь побежала у него по всему телу.
— Ах! — промолвила Елена, сложив руки. — Благодарю тебя, Боже милосердный, это моя кровь дошла до его сердца!
Бенедикт, державший наготове кусочек английского пластыря, наложил его на вскрытую вену и попридержал его.
В это время священник приблизился к ним.
Это был католический священник, который с детских лет Елены был ее духовником.
— Вы послали за мной, дочь моя? — спросил он.
— Да, — ответила Елена, — я хотела бы с согласия моей бабушки и старшей сестры соединиться браком с этим дворянином; с Божьей помощью он скоро сможет открыть глаза и прийти в сознание. Только времени нам терять нельзя, так как может опять наступить обморок.
И вдруг Карл, как если бы он только и ждал этой минуты, чтобы очнуться, открыл глаза, нежно посмотрел на Елену и слабым голосом, но вполне внятно сказал:
— Будучи в глубоком обмороке, я все слышал. Вы ангел, Елена, и я тоже вместе с вами прошу у вашей бабушки и сестры разрешения оставить вам свое имя.
Бенедикт и врач взглянули друг на друга. Они удивились сверхвозбуждению, что на время возвратило зрение глазам Карла и речь его устам.
Священник приблизился.
— Людвиг Карл фон Фрейберг, вы объявляете, признаете и клянетесь перед Богом и перед лицом святой Церкви, что берете себе в жены и законные супруги присутствующую здесь Елену де Шандроз?
— Да.
— Вы обещаете и клянетесь сохранять ей верность во всем, как это должно делать верному супругу по отношению к своей супруге в согласии с заповедью Божьей?
Карл печально улыбнулся в ответ на это наставление, предписываемое церковными правилами и предназначенное тем людям, которые рассчитывают прожить еще долгие годы, чтобы иметь время нарушить этот святой обет.
— Да, — сказал он, — и в доказательство этого вот обручальное кольцо моей матери; уже однажды освященное, оно теперь станет еще святее, получив освящение и из ваших рук.
— А вы, Елена де Шандроз, вы соглашаетесь, признаете и клянетесь в свою очередь перед Богом и перед лицом святой Церкви, что берете себе в мужья и законные супруги присутствующего здесь Людвига Карла фон Фрейберга?
— О да, отец мой! — воскликнула девушка.
И вместо слишком ослабленного Карла, который не смог говорить, священник прибавил:
— Примите сей знак супружеских уз, соединяющих вас отныне.
Произнося эти слова, он надел на палец Елене кольцо, переданное ему Карлом.
— Даю вам это кольцо в знак заключенного между вами брака.
После этих слов священник обнажил голову, перекрестил руку супруги и произнес тихим голосом:
— Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!
А затем, протянув к обоим супругам правую руку, священник сказал более громким голосом:
— Да соединит вас Бог Авраама, Исаака и Иакова и да обратит к вам свое благословение. А я соединяю вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!
— Святой отец! — сказал священнику Карл. — К тем молитвам, которые вы только что обратили к Небу, присоедините отпущение грехов умирающему, и после этого мне более не о чем будет вас просить.
Священник сосредоточился, поднял руку, произнес положенные при соборовании слова и затем сказал:
— Иди из этого мира, христианская душа, во имя Бога Отца Всемогущего, который создал тебя, во имя Иисуса Христа, Сына Божьего живого, который страдал за тебя; во имя Святого Духа, данного тебе, во имя ангелов и архангелов, иди!
И, словно и в самом деле душа Карла ждала этого торжественного мгновения, чтобы покинуть тело, Елена, приподнимая его в своих объятиях и стараясь, чтобы он не услышал последних слов священника, почувствовала, что ее непреодолимо притянуло к нему. Ее губы прижались к губам возлюбленного, из которых вырвалось:
— Прощай, дорогая моя жена! Твоя кровь — моя кровь, прощай!
И тело Карла упало на изголовье.
Последний на земле вздох Карла замер на устах Елены.
В полной тишине послышалось рыдание девушки и ее обращение к Небу, завершившееся такими словами:
— Господи Боже, прими нас в милосердии твоем!
Вид Елены, упавшей без сил на тело Карла, говорил о том, что Карл был мертв.
Все присутствующие, которые смотрели на них, стоя на коленях, теперь встали. Эмма устремилась в объятия Елены, вскрикнув:
— Вот мыс тобой и стали дважды сестрами — по крови и по несчастью.
Затем, чувствуя, что такое горе нуждается в одиночестве, каждый медленно вышел, тихо, на цыпочках, оставляя Елену наедине с ее мертвым супругом.
Через два часа обеспокоенный Бенедикт попробовал войти и осторожно постучал в дверь со словами:
— Это я, сестра моя!
Елена заперлась в своей комнате, но теперь подошла к двери и открыла ее. Велико же было его удивление, когда он увидел девушку, облаченную в свадебное платье. Она надела венок из белых роз, бриллиантовые серьги висели у нее в ушах, драгоценнейшее ожерелье обвило ее шею.
На пальцах ее были драгоценные перстни. Та рука, из которой недавно была взята кровь, сотворившая чудо воскрешения, была унизана браслетами. Шаль из великолепных кружев покрывала ее плечи и спускалась на атласное платье, застегнутое на обшитые бисером петли. Она была очень тщательно причесана, будто собиралась идти в церковь.
— Видите, друг мой, — сказала она Бенедикту, — мне захотелось выполнить до конца его желание: вот я одета не как невеста, а уже как супруга.
Бенедикт печально посмотрел на нее, и тем более печально, что Елена не плакала, совсем напротив — она улыбалась. Можно было подумать, что, отдав все свои слезы живому Карлу, она не находила их более для мертвого. С глубоким удивлением Бенедикт смотрел, как она ходила по комнате; ее занимало множество мелких забот, имевших отношение к похоронам Карла, и каждую минуту она показывала Бенедикту какой-нибудь новый предмет.
— Смотрите, — говорила она ему, — он это любил, он это приметил. А это мы положим вместе с ним в гроб… Кстати, — вдруг сказала она, — я чуть не забыла свои волосы, он же их так любил.
Она сняла венок, взялась за волосы, доходившие ей до колен, обрезала их, сделала из них косу и обернула ею оголенную шею Карла.
Пришел вечер.
Она долго разговаривала с Бенедиктом о часе, когда на следующий день должно было совершиться погребение. Так как было всего лишь шесть часов вечера, она возложила на него все тяжкие для семьи заботы, впрочем, почти такие же горестные и для Бенедикта, который полюбил и Фридриха и Карла, как двух братьев. Теперь он должен был заказать широкий дубовый гроб.
— Почему широкий? — спросил Бенедикт.
Елена только и ответила:
— Сделайте так, как я говорю, друг мой, и Бог вас благословит.
Она сама отдала распоряжение, чтобы для подготовки к погребению пришли в шесть часов утра.
Бенедикт во всем подчинился ее желаниям. Весь вечер он отдал похоронным хлопотам и до одиннадцати часов вечера его не было дома.
В одиннадцать он возвратился.
Он обнаружил, что комната Елены превратилась в часовню, освещенную множеством свечей; вокруг кровати горел двойной ряд больших восковых свечей.
Сидя на кровати, Елена смотрела на Карла.
Она больше не плакала и не молилась. О чем ей теперь было просить у Бога? Не о чем, ведь Карл умер.
Изредка она подносила свою руку к губам и страстно целовала обручальное кольцо.
К полуночи бабушка и сестра, которые молились и не более Бенедикта понимали спокойствие Елены, ушли в свои комнаты.
Елена печально поцеловала их, но не плакала, только попросила, чтобы ей принесли малыша: она хотела и его тоже поцеловать. Бабушка пошла за ним. Елена долго смотрела на него, держа его в руках, а потом, спящего, вернула бабушке.
Обе женщины ушли, и она осталась наедине с Бенедиктом.
— Друг мой, — сказала она ему, — вы можете оставаться здесь или пойти к себе и там отдохнуть хотя бы несколько часов. Не беспокойтесь за меня. Я лягу одетой и посплю рядом с ним.
— Поспите? — спросил Бенедикт, все более удивляясь.
— Да, — просто ответила Елена, — я чувствую себя усталой. Пока он жил, я не спала, теперь…
Она так и не выразила своей мысли до конца.
— В котором часу мне прийти? — спросил Бенедикт.
— Как вам будет угодно, — ответила Елена, — скажем, в восемь.
Потом, посмотрен на небо сквозь приоткрытое окно, она сказала:
— Думаю, этой ночью будет гроза.
Бенедикт пожал ей руку и собрался выйти.
Но она окликнула его.
— Простите, друг мой, — произнесла она, — вы предупредили, чтобы для подготовки к погребению пришли в шесть часов утра?
— Да, — ответил ей Бенедикт, которого стали душить слезы.
По его изменившемуся голосу Елена догадалась, что происходило у него в душе.
— Вы не поцелуете меня, друг мой? — обронила она.
Бенедикт прижал ее к сердцу и разрыдался.
— Какой вы слабый человек! — сказала она. — Посмотрите, как спокоен Карл. Он такой спокойный, что его можно принять за счастливого человека.
И так как Бенедикт собирался ответить, она прибавила:
— Ну, хорошо, хорошо, до завтра, до восьми часов.
XLV ОБЕЩАНИЕ ЕЛЕНЫ
Как и предвидела Елена, ночью разыгралась гроза, а утром разразилась страшная буря: дождь лил потоками и то и дело вспыхивали молнии, какие бывают только во время таких гроз, что предвещают великие бедствия или являют собой их причину.
В шесть часов вызванные для похорон Карла женщины-помощницы пришли в дом.
Простыни были для них уже готовы. Елена выбрала их из самых тонких, какие только могла отыскать, и часть ночи провела за вышиванием на них своих вензелей и вензелей Карла.
Затем, покончив с этим благочестивым делом, она, как и сказала Бенедикту, легла рядом с Карлом на кровать и посреди двойного круга зажженных свечей заснула таким глубоким сном, словно уже была в могиле.
Пришедшие две женщины, постучавшись в дверь, разбудили ее.
Когда она увидела вошедших, ей открылась материальная сторона смерти, и она не смогла не расплакаться.
Как бы бесстрастны ни были, по своему обыкновению, эти печальные создания, что зарабатывают на жизнь погребальными услугами, а и те, увидев перед собою такую молодую, такую красивую и так богато одетую женщину, не смогли сдержать некоторого волнения, до сих пор неизвестного им.
Дрожащими руками они приняли простыни от Елены и предложили ей уйти, пока они будут заниматься своим скорбным делом.
Елена этого и ждала.
Она открыла лицо Карлу, которое обе парки уже покрыли саваном, поцеловала его в губы, прошептала ему на ухо несколько слов, которых обе присутствовавшие при этом женщины не расслышали.
Затем, обратившись к одной из них, Елена сказала:
— Пойду в церковь Нотр-Дам-де-ла-Круа и помолюсь за мужа. Если к восьми часам сюда придет молодой человек по имени Бенедикт, вы передадите ему эту записку.
Она вынула из-за корсажа сложенный и запечатанный листок; написанный заранее, он был адресован Бенедикту. Затем она вышла.
Гроза гремела со всей силой.
У двери она обнаружила карету Ленгарта и самого Ленгарта.
Тот удивился, что она вышла так рано и в таком изящном туалете, но когда она назвала ему церковь Нотр-Дам-де-ла-Круа, куда он ее уже возил два-три раза, он понял, что Елена собирается молиться у своего привычного алтаря.
Она вошла в церковь.
День выдался такой сумрачный, что нельзя было бы пройти по темной церкви, если бы сквозь цветные стекла витражей молнии не бросали на плиты пола своих огненных змей.
Елена прошла прямо в свой обычный придел. Статуя Девы стояла на своем месте, немая, улыбающаяся, убранная золотыми кружевами, украшенная драгоценностями и увенчанная бриллиантовой короной.
У ног Девы лежала гирлянда из белых роз, которую она возложила здесь в тот день, когда приходила вместе с Карлом, чтобы поклясться ему вечно его любить и, если он умрет, умереть вместе с ним.
Пришел день, когда нужно было исполнить клятву, и она пришла сказать Деве в похвалу себе, что обещание будет ею сдержано, как если бы это обещание не было кощунственным.
И так как ничего другого она не хотела ей поведать, Елена коротко помолилась, поцеловала благословенные стопы Богоматери и прошла к главному входу в церковь.
В грозовом небе появился просвет. На какой-то миг дождь перестал лить и, словно сквозь два огромных темных глазных века, лазоревое небо выглянуло из двух облаков. Воздух был полон электричества. Гром долго и угрожающе ворчал, а молнии почти беспрерывно бросали голубоватый отсвет на уличную мостовую и на дома.
Елена вышла из церкви.
Ленгарт подлетел со своей каретой, предлагая ей сесть.
— Мне душно, — сказала она, — дайте мне немного пройтись.
— Я поеду за вами, — сказал Ленгарт.
— Если хотите, — ответила она.
Нищие, что всегда стоят на паперти, сбежались к ней; она поискала в кармане, достала оттуда несколько золотых монет, раздала их и пошла дальше.
Те, кто получил деньги, остановились в оцепенении: они решили, что молодая и прекрасная новобрачная просто ошиблась и, думая, что она раздает, как принято, серебряные деньги, на самом деле раздавала золото.
И они отошли потихоньку, опасаясь, что ошибка может выясниться и придется возвращать полученное.
Но вот к ней подошли другие, еще не знавшие о ее странной расточительности, пожелали ей счастливого брака, чего Елена не слушала, и получили такую же милостыню.
Когда она проходила по тем улочкам, что ведут на Саксенхаузенский мост, количество попрошаек удвоилось — сбежалась целая толпа бедняков. Вынув из карманов все золото и раздав его, Елена начала отдавать свои драгоценности, которыми она была увешана, и говорила при этом какой-нибудь матери семейства, немощному старцу, ребенку, не ведавшим о цене того, что они получили:
— Молитесь за нас!
И когда ее спрашивали, за кого молиться, она отвечала:
— Бог нас знает, он поймет, когда вы будете молиться о нас.
Так постепенно она сняла с себя браслеты, серьги, ожерелье, разделив его на три или четыре части, потом один за другим раздала перстни, за исключением обручального кольца, доставшегося ей от матери Карла и полученного ею из рук священника.
И каждый говорил:
— Бедная дама, она сошла с ума!
Однако каждый с эгоизмом бедняков, не задумываясь о том, сошла ли она с ума или нет, брал у нее то, что она давала, и тотчас же уносил, как вор уносит драгоценность, которую ему только что удалось украсть.
Когда она пришла на Саксенхаузенский мост, на ней уже не было ни золота, ни драгоценностей.
Бедная женщина с больным ребенком сидела у подножия статуи Карла Великого. Она протянула к Елене руку.
Елена поискала, что бы ей дать, и, не найдя ничего, сняла с плеч свою кружевную шаль и бросила ей.
— Да что же мне с ней делать? — удивилась бедная женщина.
— Продайте ее, добрая матушка, — ответила Елена, — она стоит тысячу франков.
Бедная женщина сначала подумала, что над ней посмеялись, но, разглядев доставшуюся ей превосходную вещь, она поверила в сказанное Еленой и бросилась бежать в сторону Франкфурта, крича на ходу:
— Господи Боже! Только бы она не обманула!..
Елена подошла к одному из железных колец, вмурованных в мост и свисавших над водой, сняла пояс, завернулась в платье и обвязала пояс вокруг ног. Затем, взобравшись на круглые скамьи, идущие вдоль парапета моста, она подняла глаза к Небу и сказала:
— Господи, ты разлучил нас только для того, чтобы соединить! Благодарю тебя, Господи!
Затем, бросившись в воду, она крикнула:
— Карл, вот я!
На Соборе пробило восемь утра.
В эту самую минуту Бенедикт входил к Елене.
Карл был приготовлен к погребению.
Обе женщины, которым была поручена эта благочестивая забота, молились около кровати, но Елены не было.
Сначала Бенедикт стал оглядываться по сторонам, предполагая, что он увидит ее в каком-нибудь углу, где она могла молиться, стоя на коленях, но, не видя ее нигде, он поинтересовался, куда же она ушла.
Одна из женщин ответила:
— Она вышла час тому назад, сказав, что идет в церковь Нотр-Дам-де-ла-Круа.
— Как она была одета? — спросил Бенедикт. — И… — добавил он с беспокойным предчувствием, — она ничего не сказала, ничего не оставила для меня?
— Это вас зовут господин Бенедикт? — опять заговорила женщина, уже отвечавшая на вопросы молодого человека.
— Да, — сказал он.
— В таком случае, вот вам письмо.
И она передала ему записку, оставленную Еленой на его имя. Бенедикт поспешно развернул ее.
В ней было только несколько строк:
«Мой возлюбленный брат!
Я обещала Карлу перед Божьей Матерью в церкви Нотр-Дам-де-ла-Круа, что не переживу его. Карл умер, и я собираюсь умереть.
Если тело мое найдут, постарайтесь, дорогой Бенедикт, чтобы его положили в тот же гроб, вместе с моим супругом. Для этого я вас и просила, чтобы он был достаточно широк.
Надеюсь, Бог позволит, чтобы я вечно спала рядом с Карлом.
Я оставляю 1000 флоринов тому, кто найдет мое тело, если это будет какой-нибудь лодочник, рыбак, бедный отец семейства. Если же это будет человек, который не сможет или не пожелает получить эти 1000 флоринов, я оставляю ему мое последнее благословение.
Следующий день после смерти Карла — день моей смерти.
Мое последнее прости всем, кто меня любит.
Елена».
Бенедикт дочитывал письмо, когда бледный и промокший Ленгарт появился на пороге, крича:
— Ах, какое несчастье, господин Бенедикт! Госпожа Елена только что бросилась в Майн. Пойдемте, быстрее, пойдемте!
Бенедикт посмотрел вокруг себя, схватил носовой платок, лежавший на кровати и еще весь пропитанный духами и слезами молодой женщины, и ринулся из комнаты.
Карета Ленгарта ожидала у дверей. Бенедикт прыгнул в нее.
— К тебе, — сказал он, — быстро!
Привыкнув подчиняться Бенедикту беспрекословно, Ленгарт погнал лошадей бешеным галопом. Впрочем, его дом стоял на дороге, по которой надо было ехать к реке.
Подъехав к двери, Бенедикт выскочил из кареты, тремя скачками поднялся на второй этаж и открыл дверь:
— Ко мне, Резвун!
Собака понеслась следом за хозяином и одновременно с ним оказалась в карете.
— К реке! — крикнул Бенедикт.
Ленгарт начал понимать: ударом кнута он тронул лошадей с места, и они опять поскакали галопом.
По дороге Бенедикт снял с себя редингот, жилет и рубашку и остался только в панталонах.
Подъехав к берегу реки, он увидел лодочников с крюками, отыскивавших тело Елены.
— Ты видел, как она бросилась к реку? — спросил он у Лен гарта.
— Да, наше превосходительство, — ответил тот.
— Откуда она бросилась?
Лен гарт указал ему место.
— Двадцать флоринов за лодку! — крикнул лодочникам Бенедикт.
Один из них подплыл.
Бенедикт прыгнул в лодку, и за ним туда же устремился Резвун.
Затем, приблизившись к тому месту, где исчезло тело Елены, он поплыл по течению, придерживая Резвуна и заставляя его нюхать носовой платок, который он взял с кровати Карла.
Подплыв к одному месту на реке, Резвун издал мрачный вой.
Бенедикт отпустил его.
Собака рванулась и быстро исчезла в воде.
Через секунду она опять появилась, печально скуля.
— Да, — сказал Бенедикт, — да, она здесь.
И тогда он сам исчез в воде.
Через мгновение он появился над водой, поддерживая за плечо мертвую Елену.
Тело Елены, как она того хотела, заботами Бенедикта положили в гроб вместе с Карлом.
Дали обсохнуть на ней ее свадебному платью, и оно и стало ее саваном.
XLVI ПОЖИВЕМ — УВИДИМ
Когда Карл и Елена были отнесены в святую обитель вечного покоя, Бенедикт подумал, что настало время — поскольку для семьи, которой он был предан, он уже более ничего не мог сделать полезного, — Бенедикт, повторяем, подумал, что настало время напомнить Штурму о том, что ему, Бенедикту, завешано исполнить волю Фридриха фон Белова.
Неизменно оставаясь приверженцем условностей, он оделся самым тщательным образом, на маленькой золотой цепочке подвесил к петлице орден Почетного легиона и орден Вельфов и затем объявил о себе у генерала Штурма.
Генерал был у себя и кабинете и приказал, чтобы Бенедикта немедленно пропели к нему.
Увиден его, он приподнялся в кресле, указал на стул и опять сел сам.
Бенедикт отказался от приглашения и остался стоять.
— Сударь, — сказал он генералу, — несчастья в семье Шандрозов, случившиеся одно за другим, предоставляют мне возможность раньше, чем я предполагал, прийти к вам и напомнить, что в свой смертный час Фридрих фон Белов завещал мне святую обязанность: отомстить за него.
Генерал отозвался кивком; Бенедикт ответил ему таким же кивком.
— Ничто теперь не задерживает меня во Франкфурте, кроме желания исполнить последнюю волю моего друга. Вы знаете, какова эта последняя воля, я вам об этом уже говорил. С этого самого момента честь имею быть в вашем распоряжении.
— То есть, сударь, — сказал генерал Штурм, ударив кулаком по письменному столу перед собой, — то есть вы пришли вызвать меня на дуэль?
— Да, сударь, — ответил Бенедикт. — Желания умирающего священны, а воля Фридриха фон Белова была такова, что одному из нас, вам или мне, придется исчезнуть из этого мира. Говорю вам это с тем большим доверием, что знаю: вы смелый человек, сударь, ловкий во всем, что касается физических упражнений, и превосходно владеете шпагой и пистолетом. Я не офицер прусской армии, и вы никоим образом не являетесь моим начальником. Я — француз, вы — пруссак. За нами Йена, за вами Лейпциг; таким образом, мыс вами враги. Все это дает мне надежду, что вы не станете чинить препятствий для исполнения моего желания и что завтра же вы будете столь любезны направить мне двух своих секундантов, они встретятся у меня с моими секундантами от семи до восьми утра, и я буду иметь удовольствие узнать от них час, место и род оружия, какие вам будет угодно выбрать. Мне подойдет любое, сударь, ставьте ваши условия, какие вам будет угодно, делайте так, как найдете лучшим. Надеюсь, вас это устроит.
Во время речи Бенедикта генерал много раз проявлял признаки нетерпения, но все же сумел сдержать себя, всякий раз оставаясь в границах того, что позволяется воспитанному человеку.
— Сударь, — сказал он, — обещаю, что вы получите от меня сообщение в час, который вы указываете, и, может быть, даже раньше.
Этого и хотел Бенедикт. Он раскланялся и ушел, радуясь, что все сошло достойным образом.
Уже у двери он вспомнил, что забыл дать генералу свой новый адрес (он теперь жил у Ленгарта).
Он подошел к столу, написал на своей визитной карточке название улицы, номер дома и подал ее генералу.
— Извините, — сказал он, — нужно, по крайней мере, чтобы ваше превосходительство знали, где меня искать.
— Разве вы не мой сосед? — спросил генерал.
— Нет, — сказал Бенедикт, — с позавчерашнего дня я отсюда переехал.
В тот же вечер, ибо после дуэли он рассчитывал сразу уехать из Франкфурта (в случае если он не получит раны, что могло бы его задержать), Бенедикт разнес на прощание свои визитные карточки во все дома, где его принимали, и сходил за деньгами к своему банкиру. Задержавшись у банкира, он пробыл у него до одиннадцати часов вечера, затем распрощался с ним и решил, наконец, вернуться к Ленгарту. Но, когда он проходил по Росс-Маркту, к нему обратился офицер и попросил следовать за ним, действуя, как он сказал, по поручению коменданта города.
Бенедикт не стал противиться и вошел с ним в первую же кордегардию, где по знаку офицера его окружили солдаты.
— Сударь, — сказал ему офицер, — потрудитесь прочесть вот этот документ, касающийся вас непосредственно.
Бенедикт взял бумагу и прочел:
«По приказу полковника, коменданта города, и в качестве меры для поддержания общественного порядка, Бенедикту Тюрпену дан приказ покинуть Франкфурт немедленно по сообщении ему данного предписания. Если он откажется подчиниться по доброй воле, его принудят к этому силой. Шесть солдат и один офицер препроводят его на вокзал Кёльнской железной дороги и будут сопровождать в вагоне до границы прусской территории.
Исполнить данное предписание надлежит сегодня же, до наступления полуночи.
Подписано…»
Бенедикт огляделся: у него не было никакой возможности защититься.
— Господа, — сказал он, — если бы я знал, каким образом избежать исполнения того предписания, которое вы только что дали мне прочесть, заявляю, я сделал бы все возможное, чтобы вырваться из ваших рук. На вашей стороне сила. Великий человек, который занимает пост вашего министра и которым я искренне восхищаюсь, хотя вовсе его не люблю, сказал: «Сила выше права», что вполне перекликается со словами Цицерона: «Cedant arma togae[28]». Готов подчиниться силе. Только я был бы чрезвычайно обязан одному из вас, если он сходит на улицу Боккенхейм, семнадцать, к содержателю карет внаем по имени Ленгарт, и будет добр попросить его привезти мне мою собаку: она очень мне дорога. Я воспользуюсь также случаем и дам ему при вас несколько поручений, естественных для человека, вынужденного неожиданно покинуть город, где он прожил три недели.
Офицер приказал одному из солдат исполнить желание Бенедикта.
— Сударь, — сказал офицер Бенедикту, — я знаю, что вы были связаны дружбой с тем человеком, кого мы все любили. Я подразумеваю Фридриха фон Белова. Хотя я не имею чести быть с вами знакомым, мне было бы крайне неприятно, чтобы вы уехали из этого города, увозя с собою дурное воспоминание обо мне. Я получил приказ арестовать вас, и в этих условиях мне приходится его выполнить. Надеюсь, вы простите мне эти действия: они совершенно не зависят от моей воли, но я постарался выполнить их как можно любезнее.
Бенедикт протянул ему руку.
— Я сам был солдатом, сударь, и поэтому говорю вам, что признателен за это ваше разъяснение, хотя вы могли его и не делать.
Через минуту пришел Ленгарт с Резвуном.
— Дорогой Ленгарт, — сказал ему Бенедикт, — я неожиданно уезжаю из Франкфурта. Будьте любезны собрать все мои вещи и прислать их мне через два-три дня и большой скоростью, если только вам самому не захочется лично привезти их мне в Париж, где вы еще не были и где я постараюсь устроить вам две недели приятных развлечений. Не ставлю вам условий, вы и сами знаете, что плохого с вами не случится, если вы положитесь на меня.
— Ах, я поеду, сударь, поеду, — сказал Ленгарт, — будьте спокойны.
— А теперь, — сказал Бенедикт, — думаю, пришел час ехать на вокзал. У вас, конечно, стоит у дверей карета, так поедем же, если более ничто вас не задерживает и вы не желаете дать мне в дорогу другого компаньона. Едем!
Солдаты выстроились по пути к карете, которая стояла у двери. Всегда радуясь перемене места, Резвун первым прыгнул в карету, как бы приглашая хозяина последовать за ним. Бенедикт пошел в карету за Резвуном, а офицер — вслед за Бенедиктом; четыре солдата последовали за своим офицером, еще один поместился на сиденье рядом с кучером, а другой — сзади, и они поехали на вокзал Кёльнской железной дороги.
Паровоз прогудел как раз в ту минуту, когда арестованного ввели на вокзал, так что им даже не пришлось терять время в зале ожидания: они немедленно прошли к поезду. Офицер приказал открыть вагон. По привычке Резвун прыгнул туда первым, и хотя обычно не разрешается, особенно в Пруссии, возить собак в первом классе, Бенедикту удалось добиться для Резвуна милости остаться в их обществе.
На следующее утро они были в Кёльне.
— Сударь, — сказал Бенедикт офицеру, — у меня есть привычка каждый раз, когда мне приходится проезжать этот город, делать здесь запас туалетной воды от Джованни Мариа Фарина. Если вы не торопитесь, делаю вам два предложения: первое — слово чести оставаться добрым спутником и не покидать вас до самой границы, второе — добрый завтрак для всех вас, при том условии, однако, что позавтракаем по-братски, без различия чинов и за одним столом. Затем мы с вами сядем в двенадцатичасовой поезд, если только вы не согласитесь положиться на мое слово в том, что я отправлюсь прямо в Париж.
Офицер улыбнулся.
— Сударь, — сказал он, — мы сделаем все по вашему желанию. Мне хотелось бы утвердить вас во мнении, что только по приказу мы бываем вынуждены поступать как грубияны и палачи. Вы хотите побыть здесь, побудем здесь! Вы даете мне слово, я принимаю его. Вы желаете позавтракать вместе с нами всеми, я принимаю предложение, хотя это и выходит за рамки прусских обычаев и дисциплины: мы оставим за собою только одну предосторожность, и больше для того, чтобы оказать вам уважение, а не потому, что сомневаемся в вашем слове: мы проводим вас на Южный вокзал. Теперь, где вы хотите, чтобы мы с вами встретились?
— В гостинице «Рейн», через час, если пожелаете, господа.
— Мне не приходится говорить вам, сударь — прибавил офицер, — что меня могут разжаловать из-за того, как я повел себя с вами.
Эти несколько слов он сказал по-французски, чтобы солдаты его не поняли.
Бенедикт кивнул ему с видом, который означал: «Вы можете быть совершенно спокойны, сударь».
Бенедикт пошел к Соборной площади, где и находился магазин Джованни Мариа Фарина, а офицер, со своей стороны, тоже двинулся с солдатами по городу.
Бенедикт купил запас одеколона, и ему это было тем более легко, что, не будучи обременен другими вещами, он сразу мог взять в дорогу свои покупки. Затем он отправил ящик в гостиницу «Рейн», где имел обыкновение останавливаться в Кёльне.
Там же он заказал превосходный завтрак, какой только мог ему обещать метрдотель, затем принялся ждать своих гостей, которые и прибыли в условленное время.
Завтрак вышел вполне веселым; выпили за Пруссию, за Францию, причем пруссаки подавали пример любезности. Когда же завтрак кончился, Бенедикт в сопровождении своего эскорта прибыл на вокзал и по приказу властей получил в свое распоряжение целый вагон уже не вместе с шестью солдатами и офицером, а исключительно для себя одного.
Поезд отошел в полдень; когда он тронулся, офицер, пожимая руку Бенедикту, вручил ему письмо, но просил прочесть его только после того, как поезд уже отправится в путь.
Оба молодых человека попрощались друг с другом, пожелав когда-нибудь еще встретиться, то ли друзьями, то ли врагами.
Едва только поезд отошел, Бенедикт вскрыл письмо и сразу посмотрел на подпись.
Как он и предполагал, письмо было от генерала Штурма. Оно содержало следующее:
«Дорогой сударь!
Вы должны понять, что не годится офицеру высших чинов подавать дурной пример и отвечать на подстрекательское требование, имеющее целью отомстить за офицера, который понес наказание за неподчинение своему начальнику. Если бы я согласился драться с Вами по причине, столь противоречащей военной дисциплине, я бы дал роковой пример армии.
Теперь, то есть только в настоящее время, я отказываюсь драться с Вами и, дабы избежать скандала, пускаю в ход один из наиболее учтивых способов, имеющихся в моем распоряжении.
Сами Вы имели любезность признать, что я пользуюсь репутацией смелого человека, и Вам известно также, что я превосходно владею шпагой и пистолетом.
Значит, Вы не можете посчитать мой отказ от дуэли как боязнь встретиться с Вами.
Во всех странах есть пословица, гласящая: “Гора с горой не сходятся, а человек с человеком сойдется ”.
Если нам доведется встретиться в любом месте вне Пруссии и Вы все еще будете расположены меня убить, тогда мы и посмотрим, как осуществить это. Но предупреждаю Вас, это дело так просто у Вас не получится; Вас ждет большая беда — она больше, чем Вы ожидаете, — если будете настаивать на выполнении обещания, которое Вы дали своему другу Фридриху.
Честь имею кланяться.
Генерал Штурм».
Бенедикт самым аккуратным образом сложил письмо, положил его себе в бумажник, затем опустил бумажник в карман, поуютнее устроился в углу и, закрывая глаза, чтобы уснуть, сказал:
— Хорошо, поживем — увидим!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Присутствие пруссаков во Франкфурте и тот террор, что они развязали, не окончился вместе с событиями, о которых мы только что рассказали, но которыми приходится ограничить наше повествование.
Прибавим лишь несколько строк, чтобы завершить наш труд так же, как мы его и начали, страницами, посвященными только политике.
К концу сентября 1866 года стало известно, что город Франкфурт, потеряв свою самостоятельность, свое звание вольного города, свою привилегию быть местом заседания Сейма и, наконец, свои права как составной части Союза, был вынужден присоединиться 8 октября к Прусскому королевству.
Седьмого числа по городу был дан приказ всем домам вывесить прусские флаги, а всем горожанам — проявить большую радость по поводу захвата его прусской короной.
Сумрачный и дождливый день поднимался на следующее утро; ни один дом не вывесил черно-белых флагов, ни один горожанин не прошел по улицам ни весело, ни печально, все окна оставались закрытыми, все двери — запертыми.
Франкфурт можно было принять за мертвый город.
Флаги были видны лишь на казарме, на бирже, на телеграфе и на здании почты.
Только на площади Рёмера собралось триста — четыреста человек — все из предместья Саксенхаузена. Странно было, что каждый из этих людей держал на поводке какую-нибудь собаку: бульдога, сторожевую, спаниеля, легавую, грифона, борзую или пуделя.
Казалось, здесь устроили собачью ярмарку.
Среди толпы двуногих и четвероногих ходил взад и вперед Ленгарт, рассказывая о чудесах, которые он увидел в Париже, и все слушали Ленгарта так, как внимают словам врача или начальника.
Он и руководил этим сборищем своих земляков из Саксенхаузена, и именно он сказал им, причем по секрету, чтобы каждый из них прихватил с собой собаку.
Все люди и собаки устремили глаза на окно, из которого должны были обратиться к ним с заявлением.
Они стояли там с девяти часов утра.
В одиннадцать часов в Императорском зале в Рёмере собрались члены Сената, христианское и еврейское духовенство, преподаватели школ, верхушка администрации, главнокомандующий фон Бойер с офицерским составом гарнизона. Все они должны были присутствовать при вступлении во владение бывшим вольным городом Франкфуртом его милостивого величества короля Пруссии.
Гражданский губернатор, барон Патов, и гражданский комиссар, г-н фон Мадай, вышли из зала заседаний Сената, который ранее служил залом выборов германских императоров, и вошли в Большой зал.
Вслед за несколькими вступительными словами г-н Патов прочел присутствовавшим текст свидетельства о вступлении короля во владение бывшим вольным городом, а затем заявление короля о присоединении города к прусской короне.
Теперь оставалось прочесть то же самое народу.
Окно открылось под шум веселого шепота и насмешливых приветствий жителей Саксенхаузена и под зевоту их собак.
Кроме саксенхаузенцев, площадь занимала (мы забыли об этом сказать) рота 34-го линейного полка и его оркестр.
Господин фон Мадай громким голосом прочел следующий документ:
«Высочайшее и всемогущественное заявление Его Величества короля Пруссии жителям бывшего вольного города
Франкфурта».
То ли голос г-на фон Мадая оказался особенно неприятен слушателям, то ли слова «бывшего вольного города Франкфурта» возбудили их неприязненные чувства, но несколько собак принялись жалобно выть.
Господин фон Мадай подождал, пока восстановится тишина, и продолжил нее так же от имени короля:
«Свидетельством, сегодня обнародованным мною, я присоединяю вас, жители города Франкфурта-на-Майне и подчиненных ему местностей, к моим подданным, вашим соседям и немецким братьям».
Пять-шесть собачьих голосов взвыли it знак протеста по поводу этого присоединения. Господин фон Мадай, казалось, не обратил на это внимания и опять принялся за чтение:
«Путем военного решения вопроса по переустройству нашей общей немецкой родины вы лишены независимости, которой вы пользовались до настоящего времени, и теперь входите в объединение большой страны, население которой близко вам по языку, обычаям и по единству интересов».
Такая новость, пожалуй, не удовлетворила чаяний кое-кого из слушателей: поднялись жалобы, ворчание и даже стенания.
Господин фон Мадай, видимо, понял этот горестный протест:
«Если не без печали вам придется отрываться от прежних связей, которые были вам дороги, я постараюсь уважать эти чувства и принимаю их в качестве гарантии того, что вы сами и ваши дети станете преданно служить мне и моей династии».
Огромный бульдог ответил лаем, но в нем явно соединились мнения трехсот — четырехсот окружавших его сородичей.
Такая реплика вовсе не смутила г-на фон Мадая, и он продолжил:
«Вы должны признать необходимость произведенных действий, ибо, если плоды ожесточенной войны и кровавых побед не будут потеряны для Германии, долг самосохранения и забота о национальных интересах настоятельно требуют, чтобы город Франкфурт был связан с Пруссией — крепко и навсегда».
В эту минуту одна из собак сорвалась с поводка и, несмотря на крики: «Стой, непутевая! Остановите непутевую!» и преследование ее пятью-шестью саксенхаузенскими мальчишками, она исчезла на Еврейской улице.
«И, как говорил блаженной памяти мой отец, — продолжал г-н фон Мадай, — только для блага Германии Пруссия расширила свои владения. Предлагаю вам серьезно это обдумать и, полагаясь на ваше немецкое сознание и право, поклясться мне в верности с такой же искренностью, как это делает мой народ.
Да будет на это воля Господа!
Вильгельм I.
Дано в моем замке Бабельсберг, 3 октября 1866 года».
И г-н фон Мадай добавил, возвышая голос и в манере заключительной речи:
— Да здравствует король Вильгельм Первый! Да здравствует король Пруссии!
И в тот же миг черно-белый флаг взвился на самом высоком шпице Рёмера.
Ни одного звука не последовало в ответ на возглас г-на фон Мадая. Только слышался голос Лен гарта, как будто он занимался дрессировкой собак:
— А теперь, мои собачки, теперь, когда вы имеете честь стать прусскими собаками, кричите: «Да здравствует король Пруссии!»
Тогда каждый из хозяев придавил хвост, лапу или ухо своей собаке, и страшный вой и визг, от самых высоких нот до более низких тонов, раздались с такой силой, что только прусский гимн «Хвала тебе в венце победном!» в исполнении музыкантов 34-го полка смог заглушить собачий концерт.
Вот таким образом вольный город Франкфурт был присоединен к Прусскому королевству.
Многое сметали на живую нитку, но не сшили!
ЭПИЛОГ
Пятого июня 1867 года изящно одетый молодой человек двадцати шести — двадцати семи лет, в петлице которого красовалась полукрасная, полуголубая с белым лента, допивал чашку шоколада в кафе Прево на углу бульвара и улицы Пуасоньер.
Он спросил себе газету «Знамя».
Официант два раза попросил повторить название газеты, и так как в заведении ее не оказалось, он вышел, купил ее на бульваре и принес посетителю.
Тот быстро пробежался взглядом по газете — ясно было, что он искал статью, о существовании которой ему уже было известно.
Наконец его глаза остановились на следующих строках:
«Сегодня, в среду, 5 июня, король Пруссии приезжает в Париж.
Вот полный список лиц, сопровождающих Его Величество:
г-н фон Бисмарк,
генерал фон Мольтке,
граф Пуклер, обер-гофмейстер двора,
генерал фон Тресков,
граф фон Гольц, бригадный генерал,
граф фон Легендорф, флигель-адъютант короля,
генерал барон Ахилл Штурм…
Безусловно, молодой человек увидел все, что ему надо было, ибо он не стал продолжать своих изысканий по поводу лиц, сопровождавших его величество. Однако он попытался выяснить время прибытия короля Вильгельма и выяснил, что это произойдет в четверть пятого, на Северном вокзале.
Вскоре молодой человек взял карету и отправился занять место на пути, по которому король должен был проследовать в Тюильри.
Королевское шествие опоздало на несколько минут.
Наш молодой человек ждал на углу бульвара Маджента, потом он поехал вслед за кортежем и проводил его до Тюильри, в особенности пристально рассматривая карету, где находились генерал фон Тресков, граф фон Гольц и генерал Ахилл Штурм.
Их карета въехала во двор Тюильри вместе с каретой прусского короля, но выехала оттуда почти тотчас же и вместе с теми тремя генералами, что в ней были, направилась в гостиницу «Лувр».
Там все трое вышли; они явно хотели остановиться по соседству с Тюильри, где находился их государь.
Молодой человек тоже вышел из кареты и смог увидеть, как каждого из них в сопровождении служителей гостиницы развели по номерам.
Какое-то время он еще подождал, но ни один из генералов больше не показался.
Тогда молодой человек опять сел в карету и исчез за углом улицы Пирамид. Он узнал все, что ему было нужно.
На следующий день тот же молодой человек, куря сигарету, около одиннадцати часов утра прогуливался перед кафе, примыкавшим к гостинице «Лувр» и носившим то же название.
Через десять минут он убедился, что ожидание его было не напрасным.
Генерал Штурм вышел из гостиницы «Лувр», сел за один из мраморных столиков, расставленных у окна, и попросил чашку кофе и рюмку водки.
Все это происходило как раз напротив места, где были казармы зуавов.
Бенедикт вошел в казарму и через минуту вышел оттуда в сопровождении двух офицеров.
Он подвел их к окну и показал на генерала Штурма.
— Господа, — сказал он, — вот прусский генерал, к которому у меня есть дело, достаточно серьезное для того, чтобы один из нас двоих был убит на месте дуэли. Я обратился к вам с тем, чтобы попросить о любезности стать моими секундантами, поскольку вы офицеры, поскольку вы не знаете меня, как не знаете и моего противника, и потому не станете проявлять ни к нему, ни ко мне никакой предупредительности, обычной для тех светских людей, кому доводится быть секундантами на дуэли. Сейчас мы войдем, сядем за его столик, я выскажу ему свои претензии, и вы сами увидите, серьезно ли наше дело и есть ли в нем причина для дуэли не на жизнь, а на смерть. Если вы посчитаете его таковым, прошу вас оказать мне честь быть моими секундантами. Я такой же солдат, как и вы, воевал в Китае в чине лейтенанта, принимал участие в битве при Лангензальце как офицер и адъютант принца Эрнста Ганноверского и, наконец, сделал один из последних выстрелов в битве у Ашаффенбурга. Меня зовут Бенедикт Тюрпен, я кавалер ордена Почетного легиона и ордена Вельфов.
Оба офицера отступили на шаг, едва слышно перебросились между собой несколькими словами, подошли к Бенедикту и сказали, что готовы отдать себя в его распоряжение.
После этого все трое вошли в кафе и сели за столик генерала.
Тот поднял голову и оказался лицом к лицу с Бенедиктом.
С первого же взгляда он его узнал.
— А, это вы, сударь, — сказал он ему, слегка бледнея.
— Да, сударь, — ответил Бенедикт. — А вот эти господа еще не знают тех отношений, что нам с вами предстоит выяснить. Они здесь, чтобы услышать то, что я вам скажу; они любезно согласились сопровождать меня к вам и присутствовать на нашей дуэли. Разрешите при вас объяснить этим господам причину нашей с вами встречи, а затем не откажите в любезности поставить их в известность о том, что в прошлом между нами произошло и что толкает нас обоих на дуэль. Вы припоминаете, сударь, что год тому назад вы оказали мне честь написать, что это горы не сходятся, а люди могут сойтись и в тот день, когда мне повезет встретиться с вами вне пределов королевства его величества Вильгельма Первого, вы не будете более видеть препятствий к тому, чтобы дать мне удовлетворение?
Генерал встал.
— Не стоит, — сказал он, — продолжать объяснений в кафе, где все могут нас услышать; вы объясните этим господам свои претензии ко мне сами; эти претензии я сам ни малейшим образом не собираюсь снимать с себя. Я написал вам, что буду готов дать вам удовлетворение, и я к этому готов. Дайте мне время на то, чтобы вернуться в гостиницу и поискать там двух друзей. Вот все, чего я у вас прошу.
— Извольте, сударь, — сказал Бенедикт, кланяясь.
Штурм вышел. Бенедикт и оба офицера последовали за ним.
Генерал вернулся в гостиницу «Лувр».
Остальные трое ждали его у дверей.
За время десяти минутного ожидания Бенедикт рассказал офицерам существо дела: как генерал Штурм попытался заставить своего начальника штаба, барона Фридриха фон Белова, выдать ему имена самых богатых собственников во Франкфурте с целью вытребовать у них контрибуцию; как тот отказался это сделать; как в результате спора генерал ударил майора хлыстом по лицу; как он отказался драться с Фридрихом и как, считая себя обесчещенным, Фридрих застрелился, завещав Бенедикту отомстить за него.
Затем он рассказал им о том, что произошло между ним и генералом: как тот, под предлогом не давать дурной пример офицерам высших чинов, отказался драться с ним, Бенедиктом, приказал в тот же вечер арестовать его и вывезти из Франкфурта, препроводить до Кёльна под сильным конвоем и перед самым отъездом передать ему письмо, на которое в разговоре с генералом он только что ссылался.
Бенедикт как раз закончил свой рассказ, когда появился генерал вместе со своими секундантами.
Это были два офицера из свиты короля; втроем они подошли к Бенедикту и раскланялись с ним. Бенедикт указал рукой людям генерала на двух своих секундантов. Все четверо секундантов вместе отошли немного в сторону. Затем оба секунданта Бенедикта вернулись к нему.
— Вы предоставили генералу выбор оружия, не так ли?
— Да, сударь, генерал выбрал шпагу. Мы заедем к оружейному мастеру, купим шпаги, которые ни один из вас не опробовал, а затем отправимся на дуэль куда-нибудь поблизости. Мы указали на крепостные укрепления, эти господа согласились. Они сядут в открытую карету, мы сядем в другую, и, так как они не знают дороги, а нам она известна, мы поедем впереди их, по Бульварам, и по пути у первого же оружейника купим шпаги.
Итак, они обо всем договорились и поручили двум гостиничным слугам найти им открытые кареты. Господа офицеры предложили немцам пригласить полкового хирурга от зуавов, и предложение было принято. Один из офицеров отправился в казарму, привел хирурга, и тот, узнав существо возлагаемой на него задачи, сел в коляску вместе с Бенедиктом и его секундантами; как и предполагалось, генерал Штурм и его два свидетеля поехали за ними на некотором расстоянии.
Поехали по улице Ришелье, затем вдоль Бульваров.
Первым оружейником на их пути оказался Клоден.
У него в витрине лежало несколько пар шпаг.
Бенедикт обратился вполголоса к приказчику, которого он знал:
— Шпаги за мой счет; дайте их на выбор тем господам, что едут во второй карете.
Генералу Штурму показали три разные шпаги, и он выбрал из них наиболее подходившую его руке. Он спросил ее цену, и ему ответили, что за нее уже заплачено.
Обе кареты покатили дальше, до заставы Звезды, и выехали через ворота Майо.
Там они немного проехали вдоль внешней линии городских укреплений, а затем остановились у довольно пустынного места; оба офицера-зуава вышли из кареты, осмотрели ров и, найдя его вполне безлюдным, подали знак противникам, давая им знать, что они могут выходить.
В один миг четверо секундантов и оба противника подошли к подножию стены.
Площадка оказалась ровной, и на ней легко было провести предстоящий поединок.
Секунданты генерала показали шпаги Бенедикту (он еще их не осматривал).
Молодой человек бросил на них быстрый взгляд и увидел, что они были собраны для четвертой позиции, а это ему вполне подходило.
Впрочем, очевидно, такая сборка подходила и генералу Штурму, ведь он сам их и выбирал.
— На чем останавливается поединок? — спросили секунданты.
— На том, что один из нас будет мертв, — ответили в один голос оба противника.
— Снимайте верхнюю одежду, господа, — сказали секунданты.
Бенедикт отбросил в сторону свой сюртук и жилет. Его батистовая рубашка была так тонка, что сквозь нее просвечивала грудь.
— Готовы, господа? — спросили секунданты.
— Да, — одновременно ответили оба противника.
Один из офицеров-зуавов взял шпагу и вложил ее в руку Бенедикту.
Один из двух прусских офицеров взял другую шпагу и вложил ее в руку генералу Штурму.
Секунданты скрестили обе шпаги на расстоянии трех дюймов от острия и, отступив назад, чтобы оставить противников лицом друг к другу, воскликнули:
— Начинайте, господа!
Едва были произнесены эти слова, как генерал, сделав шаг вперед с привычной стремительностью человека, достигшего мастерства в фехтовании, нанес два сильных удара по шпаге противника.
Бенедикт отскочил назад, затем, взглянув на боевую стойку генерала, прошептал про себя:
«О-о! Этот малый крепко стоит на ногах. Осторожнее!»
И он быстро переглянулся со своими секундантами, давая им знак, что не стоит беспокоиться.
Но в тот же миг, без остановки, действуя искусным нажимом на шпагу противника, генерал продвинулся вперед, напружинился и так резко перешел в атаку, что Бенедикту понадобилась вся его железная хватка, чтобы нанести боковой защитный удар, который, однако, как ни стремителен он был, не помешал шпаге генерала задеть плечо молодого человека.
Рубашка разорвалась под острием шпаги и слегка окрасилась кровью.
Ответный удар последовал мгновенно и был такой быстрый, что пруссак то ли по везению, то ли инстинктивно не успел прибегнуть к круговой защите и машинально ответил парадом из четвертой позиции, в которой он находился, вернувшись в боевую стойку.
Удар был отражен, но нанесен он был с такой силой, что генерал Штурм едва устоял на ногах и не смог перейти в контратаку.
«Хороший вояка, уж точно, — подумал Бенедикт, — с ним придется потрудиться».
Штурм отступил на шаг и, опустим шпагу, скачал:
— Вы ранены.
— Будет нам, — заговорил молодой человек, — обойдемся без скверных шуток. Столько церемоний с простой царапиной. Вы прекрасно знаете, генерал, что мне нужно вас убить. Слово есть слово, даже если оно дано мертвецу.
И он опять встал в позицию.
— Ты меня убьешь? Naseweis![29] — вскричал генерал.
— Да, я молокосос, как вы говорите, — опять заговорил Бенедикт, — но кровь за кровь, хотя вся ваша кровь не стоит и капли его крови.
— Verfluchter Kerl![30] — не сдержался Штурм, становясь багровым.
И, кинувшись на Бенедикта, он, атакуя из второй позиции, дважды нанес ему такие резкие и яростные удары, что молодой человек едва успел сначала два раза отскочить назад, а затем провести очень сильный, очень точный защитный удар снизу, но выбившаяся из-под ремня брюк рубашка у него была разорвана, и он ощутил холод клинка.
Опять появилось кровавое пятно.
— Ах, так! Вы, значит, взялись меня раздевать, — воскликнул Бенедикт, нанося противнику ответный прямой удар, который пронзил бы пруссака насквозь, если бы тот, ощущая себя слишком открытым, не пошел бы на сближение, уходя от этого удара; таким образом, гарды их сошлись, и оба противника оказались с поднятыми вверх шпагами лицом к лицу.
— Получи, — закричал Бенедикт, — вот это тебя научит, как воровать у меня ответный удар!
И прежде чем секунданты смогли их развести своими шпагами, Бенедикт пружиной отвел руку, а затем, словно ударом кулака, толкнул обе гарды прямо в лицо противнику, и тот, покачнувшись, отступил с разбитым и изуродованным ударом лицом.
Вот тогда началось представление, заставившее секундантов содрогнуться.
Штурм на миг отступил с полуоткрытым ртом, с сжатыми и окровавленными зубами, с пеной на губах, с налившимися кровью глазами, почти вылезшими из орбит, и все лицо у него стало фиолетово-красным.
— Lumpen Hund![31] — взвыл он, потрясая крепко зажатой в руке шпагой и, собравшись, принял боевую стойку, напоминая готового к прыжку ягуара.
Бенедикт оставался спокойным, холодным и с презрением смотрел на противника, направив на него свою шпагу.
— Теперь ты мой, — сказал он торжественным голосом, — сейчас ты умрешь.
И он опять встал в боевую стойку, нарочито утрируя свою вызывающую позу.
Ждать ему пришлось недолго.
Штурм был слишком хорошим бойцом, чтобы открыто бросаться на противника; он резко выступил вперед, нанес по шпаге Бенедикта два удара, которые тот отбил так, что они пришлись словно по стене.
Ярость вывела Штурма из правильной боевой стойки, он нагнул голову, и это его спасло — по крайней мере в данную минуту.
Удар Бенедикта задел ему только плечо ближе к шее.
Появилась кровь.
— Ничья! — воскликнул Бенедикт, быстро принимая боевую стойку и оставляя между собой и генералом большую дистанцию. — А вот теперь решающая партия!
Генерал, находившийся вне досягаемости шпаги, сделал шаг вперед и, собрав все свои силы, нанес яростный удар по шпаге Бенедикта, а затем пошел в открытую, прямую атаку и выбросил вперед, на всю ширину шага, правую ногу.
Вся его душа, иначе говоря вся его надежда, заключалась в этом ударе.
На этот раз Бенедикт, твердо стоя на ногах, не отступил ни на шаг; он отвел шпагу генерала блестящим, исполненным по всем правилам, словно в фехтовальном зале, полукруговым ответным ударом и, крепко сжав сверху рукоятку, направил острие своей шпаги вниз и нанес удар противнику.
— Так-то лучше! — произнес он.
Шпага проникла в грудь сверху и вся целиком ушла в тело генерала, где Бенедикт ее и оставил, отпрыгнув назад, как тореадор оставляет свою шпагу в груди у быка.
Затем, скрестив руки, он стал ждать.
Секунду генерал еще стоял на ногах, шатаясь; он хотел что-то сказать — кровь залила ему рот, он сделал движение шпагой — шпага выпала у него из руки, и потом сам он, как вырванное с корнем дерево, рухнул и вытянулся на траве.
Бенедикт поднял глаза к Небу.
— Ты доволен, Фридрих? — прошептал он.
Пол копой ирам поспешил к телу Штурма, но тот был уже мертв.
Острие шпаги пошло пониже правой ключицы и вышло через левое бедро, пройдя через сердце.
— Черт возьми! — вскрикнул хирург. — Красиво убит человек!
Это восклицание стало надгробным словом Штурму.
Александр Дюма Сын каторжника
I ГЛАВА, ИЗ КОТОРОЙ НЕСВЕДУЩИЕ ЧИТАТЕЛИ УЗНАЮТ О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМИК В ПРОВАНСЕ
В то время, о котором пойдет наш рассказ, предместье Марселя было живописным и романтичным, а не таким, как ныне, — утопающим в зелени и цветах.
С высоты горы Нотр-Дам де ла Гард одинаково легко можно было сосчитать как дома, разбросанные по долине и холмам, так и корабли и тартаны, испещрявшие белыми и красными парусами огромную голубую гладь моря, что простиралась вплоть до самого горизонта; ни один из этих домов, за исключением, быть может, построенных по берегам Ювоны на развалинах того самого замка Бель-Омбр, где некогда обитала внучка г-жи де Севинье, не мог тогда еще гордиться теми величественными платанами и очаровательными лавровыми рощами, тамарисками и бересклетами, экзотическими и местными породами деревьев, что ныне укрывают мощной сенью своей листвы крыши бесчисленных марсельских вилл; дело в том, что Дюране не протекала тогда еще по этой местности, пробегая по небольшим долинам, извиваясь меж склонов холмов и неся плодородие мертвым скалам.
Вот почему каждый марселец, стремясь поддержать жизнь своих цветов, листья которых увядали и склонялись до самой земли под воздействием нещадно палящего августовского солнца, должен был поступать так, как это обычно делают на корабле во время длительного морского плавания, так, как поступил г-н де Жюсьё со своим кедром, — каждый должен был, сэкономив на собственном потреблении воды, отдать как добровольное пожертвование несколько спасительных капель бедному растению.
Благодаря мощному, всепобеждающему воздействию воды и солнца растительность края столь быстро и разительно видоизменилась, что даже в самом Марселе уже не вспоминают о тех временах, когда лишь несколько сосен и оливковых деревьев с потрескавшимися от солнца стволами нарушали однообразие скудного пейзажа; в то время, о котором мы ведем рассказ, деревня Монредон как нельзя более полно представляла собой образ иссохшей земли, некогда характерный для окрестностей старинного поселения фокейцев.
Монредон расположен за тремя деревнями, называемыми Сен-Женьес, Бонвен и Мазарг; он находится в основании треугольника — мыса Круазет, который выдается в море и защищает рейд от восточных ветров. Монредон построен у подножия громадных глыб серого и лазурно-голубого известняка; на их склонах, с трудом пробиваясь, растет несколько чахлых кустиков, и их сероватые листочки приобретают от жарких лучей солнца и от пыли белесоватый оттенок.
Нет ничего более мрачного и печального, чем открывающаяся взгляду перспектива этих грандиозных глыб: кажется, что никогда здравомыслящим людям не могло бы прийти в голову разбить свои шатры на унылых основаниях этих каменных укреплений, которые Господь возвел здесь лишь для того, чтобы защитить берег от вторжения моря; однако еще задолго до 1787 года в Монредоне, помимо хижин, было немало деревенских домиков, и один из них приобрел известность если не сам по себе, то, по крайней мере, благодаря доброму имени тех, кто в нем проживал.
Восхитительный парк, который господа Пастре окружили стенами, скрывал в себе скромную виллу, послужившую убежищем семье Бонапарта в период ее длительного пребывания в Марселе во время Революции; короли и королевы доброй половины Европы оставили свои следы на его песчаных аллеях, и гостеприимство, оказанное этим особам, принесло своеобразное счастье г-ну Клари: его дети были вовлечены в мощный круговорот событий, приведших гостей марсельского парка к тронам, а их самих — к первым ступеням тронов. Случилось даже так, что самой юной из дочерей Клари чуть было не предложили разделить судьбу с будущим повелителем мира. Уже шла речь о ее свадьбе с молодым артиллерийским командиром, но, как говорил позднее в подобных же обстоятельствах нотариус г-жи де Богарне, невозможно было выйти замуж за человека, обладающего лишь плащом и шпагой.
Оговоримся сразу же, что вовсе не рассказом о вчерашних полубогах мы собираемся занять ваше воображение, дорогой читатель. Просто нам трудно было воздержаться от проявления патриотической гордости; к тому же мы испытали острую необходимость пояснить вам, что, несмотря на свой неприметный вид, Монредон в конечном счете не такое уж незначительное место; как всякое другое селение, он имеет полное право на известность, и совершенно справедливо, что каждый из его обитателей мог бы гордиться ею. Согласившись с этим, поспешим откровенно признаться, что сделанное нами выше отступление — первое и последнее, что наши будущие персонажи — люди весьма скромные и незаметные, что повествуемая нами драма рождается, разворачивается и заканчивается на клочке земли размером в песчинку, и если герои этой драмы и наделали шуму, то шум этот, несомненно, докатился в одну сторону лишь до Старой Капеллы, а в другую — до Ла-Мадрага, этого Геркулесова столба Монредона.
…Paulo minora canamus.[32]
Итак, поскорее покинем виллу г-на Клари и, следуя берегом моря, доберемся до небольшого высокого мыса (его называют Пуэнт-Руж), где в 1831 году, в том самом году, о котором мы ведем повествование, мы обнаружили всего три-четыре дома, и среди них — деревенский домик, где и произошла та история, что мы хотим вам поведать.
Однако, хотя и с риском впасть в новое отступление, будет весьма кстати выполнить обещание, данное нами в заголовке этой главы, и объяснить, что представляет собой деревенский домик в Провансе, всем тем, кому не повезло родиться в этом земном раю (ведь именно так расценивает здешние края каждый марселец).
При словах «деревенский домик» ваше воображение, очень возможно, уже нарисовало шалаш из досок или веток и соломенную либо камышовую крышу с отверстием для дыма. Ваше представление, читатель, завело вас слишком далеко.
Замок, настоящий деревенский дом или деревенский домик — все едино в Марселе; другими словами, то, какое название носит всякое жилище, располагающееся за городской чертой, решает скорее характер и воображение его владельца, чем размеры и архитектура сооружения. Если марселец не лишен гордости, его жилище станет называться замком; если он простоват — оно будет деревенским домом; если же он скромен, то назовет его деревенским домиком. Но лишь сам владелец устанавливает подобную классификацию, поскольку ничто так не походит на марсельский замок, как какой-нибудь деревенский дом, если на самом деле это не просто небольшой домик.
Поговорим же и о том самом домике, и о его владельце.
Владелец жилища на Пуэнт-Руж и прошлом был грузчиком. С тех самых пор как город Марсель послал в Национальное собрание одного или двух грузчиков как своих представителей, о членах этой корпорации сложилось весьма ложное представление. Одни полагают, что все жители нашего крупного средиземноморского порта — это грузчики; другие считают, что все грузчики — миллионеры. Правда же состоит в том, что ремесло грузчика (их в Марселе насчитывается не меньше трех-четырех тысяч) прибыльно как для рядовых работников, так и для подрядчиков, под чьим началом они работают.
Подрядчики налаживают разгрузку судов по заранее установленной цене; оплата меняется в зависимости от обстоятельств как для них, так и для рабочих, которых они нанимают и которым они выплачивают определенную часть полученного ими дохода. Торговый оборот в порту напряженный, и подрядчики могут получить за год прибыль порядка пятнадцати тысяч франков. По прошествии двух десятков лет они удаляются от дел нельзя сказать чтобы богатыми людьми, но имея весьма приличное состояние.
Господину Кумбу удача сопутствовала не больше, но и не меньше, чем большинству его собратьев. Будучи сыном крестьянина, он пришел в Марсель в сабо. Один из его родственников, простой солдат в этом огромном портовом воинстве, предложил ему свое место, поскольку рано проявившийся у него физический недуг мешал ему надлежащим образом выполнять свои обязанности.
Места грузчиков передаются по наследству или покупаются совершенно так же, как должности нотариусов или поверенных в делах.
Господин Кумб охотно купил бы какую-нибудь должность, но он не располагал для этого даже скромной суммой.
Родственник обошел эту трудность: так как деньги для него не имели особого значения и он смотрел на свой план лишь как на возможность обеспечить будущее благополучие кузена, то он заявил г-ну Кумбу, что удовольствуется третьей частью его ежедневных доходов в течение пяти лет.
Господин Кумб хотел было поторговаться, но родственник, в пользу которого делалась эта уступка, заглушил все его возражения потоком таких нежных речей, что он не оставил своему собеседнику возможности вставить и слова несогласия, и тот сказал «да».
Господин Кумб сдержал свое обязательство, как подобает деловому человеку. Однако эта изрядная брешь, пробитая it его ежедневных заработках, не помешала ему сделать значительные сбережения. Для этого им был использован самый простой прием: он выделил себе на пропитание сумму в три раза меньше той, что предназначалась его кузену. И если он сам от такого режима питания в весе не прибавил, то его кубышке с деньгами это как нельзя лучше пошло на пользу, и вскоре она так распухла, что позволила Кумбу купить в корпорации должность одного из подрядчиков. Правда, тогда цены за эту должность не были столь высоки, как в наши дни.
Но, хотя эта должность стоила г-ну Кумбу недорого, доход она ему принесла большой. После экспедиций в Морею, Наваринского мира и захвата Алжира подрядчики грузовых работ вместе с военной администрацией порта стали получать огромную прибыль; в результате г-ну Кумбу удалось скопить ту сумму, которая с самой ранней юности была целью его честолюбивых устремлений.
Собрав ее, он решил отойти отдел.
Даже все возраставшая тяга к накопительству не могла больше удержать его в должности подрядчика ни на один день.
У него была страсть — страсть, которую не могли охладить двадцать лет обладания; именно эта страсть позволила ему столь твердо противостоять алчности, в которую неизбежно должна была бы перерасти его привычка к бережливости.
Однажды, прогуливаясь по Монредону в часы своего досуга, г-н Кумб увидел объявление, в котором сообщалось о продаже земель по баснословно низкой цене. Как все крестьянские дети, он любил как саму землю, так и плоды, приносимые ею, и он отсчитал из своих сбережений двести франков на покупку двух арпанов этой земли.
Когда мы здесь говорим о земле, то поддаемся привычке, поскольку клочок, купленный г-ном Кумбом, состоял исключительно из песка и валунов.
И за это он любил эту землю еще больше, как часто мать отдает предпочтение рахитичному и горбатому ребенку, нежели всем другим.
И г-н Кумб взялся за работу.
Использовав старый ящик из-под мыла, он построил хижину на берегу моря; использовав тростник, он оградил свои владения; и отныне у него не было иного желания, иной цели и иной заботы, кроме как украсить и улучшить свое жилище. Задача была не из легких, но если уж г-н Кумб за что-нибудь брался, он умел довести дело до конца.
Каждый вечер, окончив трудовой день, он клал себе в карман предназначенные на ужин кусок хлеба, свежие помидоры или фрукты и отправлялся и Монредон, чтобы доставить туда корзину, наполненную перегноем, который он собирал в разных местах во время перерыва в работе, пока его товарищи спокойно отдыхали после обеда. Само собой разумеется, весь воскресный день уходил на то, что он копал и перекапывал, ровнял и выравнивал свой участок, и, вне всякого сомнения, у него не было более заполненного трудом времени, чем эти выходные дни.
С тех пор как из разряда грузчиков он перешел в подрядчики, самой большой радостью для него было размышлять о том, как это его повышение в должности пойдет на усовершенствование его жилища. Господин Кумб первые же свои новые доходы пустил прежде всего на то, чтобы разрушить свой дощатый домишко и на его месте построить деревянный домик, о котором мы вам сейчас расскажем.
Будучи объектом таких хлопот и такой любви со стороны своего владельца, домик этот не стал от этого ни более красивым, ни более роскошным.
В нем были три комнаты, расположенные на первом этаже, и четыре — на втором. Нижние комнаты были довольно просторны; что же касается комнат наверху, то казалось, будто за образец при их сооружении архитектор взял ют какого-то судна. В каждой из этих комнат-кают можно было дышать лишь держа открытым окно. Все было обставлено подержанной мебелью, купленной г-ном Кумбом у старьевщиков в старых кварталах города.
Снаружи домик выглядел совершенно фантастично. Испытывая чувство глубочайшего обожания к этому величественному сооружению, г-н Кумб любил каждый год его как-то приукрашивать, и украшения эти более оказывали честь сердцу хозяина, нежели его вкусу. Стены домика поочередно перекрашивались во все цвета радуги. Начав с самых невыразительных оттенков красок, г-н Кумб перешел к арабескам, а затем пустился в архитектурные фантазии, кое-как справляясь с перспективой. И его жилище приобретало вид то греческого храма, то мавзолея, то Альгамбры, то норвежской пещеры, то шалаша, покрытого снегом.
В то время, когда начинается эта история, г-н Кумб, испытывая на себе, как все артистические натуры, влияние романтического стиля, охватившее всех, превратил свое жилище в средневековый замок. И для достоверного воспроизведения его в этой миниатюре ничто не было упущено: ни стрельчатые окна, ни зубцы на стенах, ни галерея с бойницами, ни амбразуры, ни опускные решетки, нарисованные на дверях.
Разглядывая два дубовых бревна, лежавшие у камина в ожидании часа, когда их пустят на изготовление стола или шкафа, г-н Кумб решил, что они должны внести свою лепту в колорит и стиль жилища, и без всякого сожаления принес их в жертву. Обработанные его руками, они превратились в две башенки и были установлены на двух противоположных углах его домика, устремив в небо свои флюгеры, украшенные гербами, объяснить которые, разумеется, никогда бы не смогли ни д’Озье, ни Шерен.
Рукою мастера пройдясь последний раз по своему шедевру, г-н Кумб принялся созерцать его с таким видом, с каким Перро должен был разглядывать Лувр, когда он воздвиг там колоннаду.
И именно упоение от увиденной картины понемногу заполнило душу г-на Кумба гордостью, скрытой под маской ложной скромности, гордостью, о которой мы уже упомянули ранее и которая, как мы увидим позже, сыграет значительную роль в жизни этого человека.
Чувства обычно сложны. И, разумеется, г-н Кумб был далеко не одинаково удачлив во всех своих начинаниях, как можно было бы попытаться предположить, размышляя 0 чувстве глубокой гордости, вызванной в нем видом его творения.
В то время как его домик был готов покорно подчиняться фантазиям его владельца, то с примыкавшим к нему садом все обстояло совсем иначе. Если стены жилища преданно сохраняли живопись, которую им доверяли, то грядки никогда не оставались в той форме, какую придавал им хозяин, и никогда не окупали затрат на семена, брошенные в их недра.
Чтобы объяснить, почему же так получалось, надо сообщить читателю, что у г-на Кумба был враг. Этим врагом был мистраль — именно ему Бог поручил преследовать, по правде говоря тщетно, колесницу этого триумфатора, играть роль античного раба и постоянно напоминать г-ну Кумбу, в очередной раз созерцающему влюбленным взглядом свои владения, что, даже будучи властелином и создателем всех этих прекрасных творений, он остается всего лишь человеком. Это был тот беспощадный, неумолимый ветер, который греки именовали ouvKcipwv[33], латиняне — circius[34], а Страбон назвал цеХауРореа[35], «ветром неистовым и страшным, сдвигающим с места скалы, сбрасывающим людей с повозок, срывающим с них одежду и оружие»[36]; это был тот ветер, который, по словам г-на де Соссюра, так часто разбивал стекла замка Гриньян, что там отказались от мысли их заново вставлять; это был тот ветер, который приподнял аббата Порталиса над уступом горы Сент-Виктуар и в одно мгновение убил его; и, наконец, это был тот ветер, который проделывал все это в прежние времена, а ныне мешал людям наслаждаться многообразным и любопытным видом человека, довольного своей судьбой и лишенного честолюбивых помыслов.
Тем не менее мистраль не имел для г-на Кумба ни одного из тех губительных последствий, о каких предупреждал древнегреческий писатель; он не свалил на его жилище гранитные пики горы Маршья-Вер; ни разу не выбросил его из небольшой повозки, в которую была запряжена корсиканская лошадка (в этой повозке г-н Кумб изредка ездил в город); и если порою и срывал с него фуражку, то, по крайней мере, не трогал оберегавшие его стыдливость куртку и брюки. Разве что кончиком своего крыла он сбрасывал с крыши жилища несколько черепиц, разбивая кое-какие оконные стекла.
Господин Кумб скорее всего простил бы ему такое, но вот что он не мог ему простить и что приводило его буквально в отчаяние, так это то упорное остервенение, с каким этот дьявольский ветер, казалось, решился постоянно превращать два арпана садика в унылый песчаный берег или в безводную пустыню.
И в этой борьбе г-н Кумб проявил еще больше упорства, чем его противник. Он и обрабатывал землю, и удобрял ее, и с большим трудом и тщанием засеивал ее восемь, девять, а подчас и десять раз в год. Как только всходили семена салата, расцвечивая грядки легкими зелеными побегами, как только прорастал горох, показывая желтоватые семядоли, от которых отделялся листочек, сверкавший подобно изумруду в золотой оправе драгоценного кольца, — мистраль в свою очередь принимался за работу. Он с ожесточением набрасывался на бедные растения, вплоть до самых корней иссушал их, выпивая весь растительный сок, начинавший циркулировать в их нежных тканях, покрывал их толстым слоем раскаленного песка и, когда таких его действий было недостаточно, чтобы уничтожить ростки, выметал их на соседние участки вместе с пылью, которую он обыкновенно гнал с большим неистовством.
Лишь один день г-н Кумб позволял себе предаваться отчаянию и жалобам.
С угрюмым видом проходил он по полю битвы, с поистине трогательной любовью подбирая мертвых и раненых и щедро одаривая их заботой, увы, уже бесполезной большинству из них, и читал надгробное слово то капусте, подававшей надежды, то томату, так много обещавшему; затем, уделив довольно времени своим скорбям, он вновь принимался за труды, отыскивая дорожки и грядки, которые мистраль так безжалостно сровнял с землей; он откапывал погребенные бордюры, подправлял грядки, снова прокладывал дорожки, бросал в землю семена и, с гордостью оценивая творение рук своих, вновь заявлял тому, кто хотел его услышать, что не пройдет и двух месяцев, как он будет есть лучшие овощи Прованса.
Но, как мы уже сказали, его преследователь не хотел заканчивать спор; во время передышки, предательски предоставляемой им своему противнику, он набирался новых сил, и в душе г-н Кумб, как и его сад, не питал больших надежд на то, что ему удастся свести их на нет.
На протяжении двух десятков лет шла эта яростная борьба, но, несмотря на столько разочарований и на то, сколь бесполезны были все его усилия, г-н Кумб, легко забывая о своих печалях и бедах, был все же убежден, что он владел необыкновенным садом и что песчаная природа этой почвы в соединении с соляными испарениями, поднимающимися с моря, неминуемо должна придать всем его продуктам тот особый вкус, который нигде больше невозможно будет отыскать.
На этом месте проницательный читатель остановится, и спросит нас, почему же г-н Кумб не стремился отыскать уголок земли (в Марселе не было недостатка в ней), защищенный от ветра, который вызывал у него столь обоснованное опасение.
И такому читателю мы ответим, что возлюбленных не выбирают, их посылает нам Небо, и какими бы безобразными и вероломными они ни были, их любят такими, какими вручил их нам Господь.
Впрочем, было и то, чем недостатки земельного участка возмещались. Прежде чем г-н Кумб решился приобрести эти два арпана земли, о чем мы писали в начале нашего повествования, не обошлось без его зрелых и глубоких размышлений.
К любви, питаемой им к своему домику, и к гордости, внушаемой ему при виде того, что стало заботой всей его жизни, присоединялась еще одна страсть — в прошлом веке мы бы назвали ее страстью к «белокурой Амфитрите», что само по себе могло бы бросить некую тень на безупречность мрака г-на Кумба, а ныне мы дадим ей самое простое название — страсть к морю. И такое название тем более соответствует нашей цели, что совершенно ничего поэтического в преклонении г-на Кумба перед морем не было. Нам нелегко сознаться в такой прозаичности нашего героя, но г-н Кумб любил море не за его прозрачно-голубую гладь, не за его бесконечные горизонты, не за мелодичный плеск его волн, не за его ярость и завывания; более того, он никогда и не думал о том, чтобы видеть в нем Господне зеркало; увы, он не представлял его себе столь величественным, он простосердечно и искренне любил его, поскольку видел в нем неиссякаемый источник буйабеса.
Господин Кумб был рыболовом, и причем марсельским рыболовом; другими словами, наслаждение оттого, что он извлекал из гротов, покрытых зелеными водорослями, скорпен и других морских чудовищ, населяющих воды Средиземного моря, приходило к нему лишь после того, как он испытывал другое, куда более сильное наслаждение, когда его морской улов аккуратно ложился в кастрюлю на слой из лука, помидоров, петрушки и чеснока; когда, добавив туда масло, шафран и другие необходимые приправы в искусно составленных пропорциях, он наблюдал за поднимавшейся над кастрюлей беловатой пеной, осязал исходившие оттуда пары, предварявшие монотонное шипение, которое характеризует варку, и широко раскрытыми ноздрями вдыхал ароматный запах национального блюда.
Таким был г-н Кумб; таким было его жилище.
Дом вобрал в себя своего владельца. И невозможно описать одного из них, не описывая другого.
Чтобы завершить наше описание их, следует добавить, что весь домик, от основания до крыши построенный из кирпича и песчаника, оказал самое губительное влияние на сердце и характер г-на Кумба.
Он породил в нем самый дурной из всех существующих пороков — гордыню.
Созерцая предмет своей страсти и кичась своим владением, г-н Кумб проникался крайним высокомерием к тем из своих ближних, кто был лишен счастья, казавшегося лично ему бесценным, и стал считать себя вправе бросать презрительный взгляд на творение Господа. Добавим, что, какую бы безмятежную и ровную жизнь ни вел г-н Кумб, она должна была оставить в его душе другие привязанности, помимо напускных, другие печали, помимо тех, что были вызваны губительным действием мистраля.
В его прошлой жизни была драма.
II МИЛЕТТА
Пусть скажут поэты: Тростник повержен, как и дуб: Однажды, словно великан лесной, Он оказался распростертым на земле… И если молния его щадит, То, схвачен ледяной рукой Зимы, Он ею с корнем будет вырван вмиг И наземь рухнет — пусть не с высоты: Не важно то, коль все-таки падет. И только ли о бедах королей Народу стоит слезы проливать? Кто ж с нищими печали разделит? Человеку не скрыться в траве И несчастья не избежать; Будет сцена жизни в ладонь Или сотня в ней будет локтей — Пьесу играют все ту же, Пьесу, в которой актеры, Будь они велики иль малы, Причитают и волосы рвут на себе: Даже на жалких подмостках Великие страсти бушуют.Почему же г-н Кумб как будто избежал всеобщего закона?
Однажды в тихие, сонные воды, в которых он столь восхитительно влачил свое существование, неожиданно рухнула женщина (в чем и состоит их роль на этом свете), и широкие круги на воде, оставленные ее падением, чуть было не превратили эту спокойную заводь в клокочущее от бурь море.
Звали ее Милетта, родом она была из Арля — родины поистине прекрасных южанок; у нее были черные волосы, голубые глаза, такая белоснежно-атласная кожа, как будто солнце, заставляющее зреть гранаты, ни разу не коснулось ее своим лучом. Никогда еще белый чепчик, отделанный широкой бархатной тесьмой, не заключал в себе более красивых волос, чем те, что были у Милетты; никогда еще складчатый шейный платок не обрисовывал более очаровательную грудь; никогда еще платье не было укорочено более ловко, позволяя увидеть стройную ножку с изящно вогнутой маленькой ступней.
В годы своей молодости Милетта вполне могла считаться наиболее совершенным образцом арлезианской красоты, и, имея столько оснований стать женщиной привлекательной для многих, она сдержала все надежды, какие сулил ее честный и нежный взгляд, и вышла замуж, как это принято, за человека своего круга, работавшего простым каменщиком.
Грустно, что Провидению не угодно вознаграждать женщин, подобных Милетте, которые прямо ведут свой корабль к гавани, несмотря на подводные камни, и тем самым подают пример подлинной добродетели.
Однако бескорыстие Милетты обернулось для нее несчастьем; в ее замужней жизни с трудом отыщется лишь несколько безоблачных весенних дней, и очень скоро тот, кого она приняла за мотылька, превратился в гусеницу. Несмотря на его бедность, она выбрала его себе в мужья, поскольку он показался ей трудолюбивым человеком. Но он доказал, что семейная комедия разыгрывается в лачугах так же, как и во дворцах с пышным убранством; он показал себя таким, каким и был в действительности: сварливым, грубым, ленивым и развратным, — вот почему из прекрасных глаз бедной Милетты часто лились обильные слезы.
Пьер Мана — так звали мужа Милетты — однажды заявил, что его труд должен лучше оплачиваться в Марселе, нежели в Арле, и предложил жене отправиться в тот город, чтобы поселиться там. Этот переезд дорого обошелся Милетте: она любила край, где родилась и где оставляла всех своих близких. Издалека большой город внушал ей страх и представлялся кровожадным чудовищем, намеренным ее пожрать; но, поскольку ее слезы огорчали старую мать, она подумала, что на расстоянии легче будет скрыть их, убедив ее в том, что она весьма счастлива в браке; и Милетта покорно приняла предложение мужа.
Как верно можно предположить, вовсе не надежда найти более доходное место влекла Пьера Мана в Марсель: он стремился найти гам больше возможностей для своей разгульной жизни, ему хотелось также избежать упреков родителей по поводу его поведения.
Вот уже две недели Милетта и ее муж находились в Марселе, однако Пьер Мана так и не развязал свой холщовый мешок с содержащимися в нем инструментами, зато он ознакомился со всеми кабачками, которых было так много на улицах Старого порта, и вернулся оттуда с множеством синяков, доказывавших силу кулаков тех, кто нанес ему побои.
Мы не пересказываем мрачную историю, знакомую каждому, — историю о девушке из народа, связавшей судьбу с негодяем, не имеющей ни развлечений вне дома, ни возмещения этого в виде достатка, ни утешения со стороны своей семьи: подобные картины жизни настолько тягостны, что наше перо отказывается их изображать; скажем только, что Милетта до дна испила свою горькую чашу, что она страдала от голода рядом с этим пьяницей, что она сносила все невзгоды, сопутствующие одиночеству и беспомощности, что она пережила такое отчаяние, какое дает нам представление об аде.
Но чувство долга так глубоко укоренилось в этом прекрасном и благородном создании, что, несмотря на все мучения, ей никогда даже не приходила в голову мысль о возможности избавиться от них. Господь наделил ее сердце добродетелью, как одарил птиц возможностью петь сладкоголосые песни и наделил лифы девушек крылышками из лазурно-голубого газа. Однако настал день, когда даже молитва, единственное утешение Милетты, стала бессильна, чтобы освежить ее изнуренное горем сердце: она упрекала себя за то, что пожелала стать матерью; в поцелуях, которыми она осыпала своего ребенка, посланного ей Небом, одновременно запечатлевались и нежность, и отчаяние, и жалость к судьбе, уготованной маленькому бедному созданию его отцом.
В доме, где поселилось это несчастное семейство, этажом ниже проживал рабочий, являвший собою полную противоположность Пьеру Мана.
Как и муж Милетты, он не отличался ни высоким ростом, ни гордым и решительным выражением лица; он был худощавым, даже щуплым и скорее некрасивым; лицо его носило отпечаток покорности и печали, но все в нем обнаруживало человека трудолюбивого и аккуратного. Он вставал до восхода солнца, и Милетта, уже не спавшая в это время, слышала, как он наводил порядок в своем небольшом хозяйстве, причем столь же тщательно, как это могла бы делать только самая добросовестная горничная. Однажды из-за приоткрытой двери она позволила себе бросить взгляд в комнату соседа и была изумлена царившими в ней порядком и чистотой.
Все обитатели дома единодушно воздавали должное грузчику Полю Кумбу, и только один Пьер Мана упрекал его в глупости и скопидомстве. Он насмехался над его кротким нравом и над его деревенскими вкусами, которые ему самому были известны.
Однажды воскресным утром, когда сосед, с пакетом семян под мышкой, направлялся за город, Пьер стал оскорблять его за то, что он отказался идти вместе с ним в кабак. Милетте, прибежавшей на шум, стоило немалых усилий избавить молодого человека от ее навязчивого мужа, и тогда, при виде их обоих, спускавшихся по узкой винтовой лестнице: наглого зубоскала Пьера и спокойного, но решительного соседа — она со вздохом прошептала про себя: «Почему этот, а не тот?»
В течение трех долгих лет, пока длилось мученичество Милетты, то был единственный грех, совершенный ею, и все же она не раз упрекала себя за него, словно за преступление.
По прошествии трех лет это унылое существование едва не окончилось трагической развязкой.
Однажды ночью Пьер Мана вернулся домой в ужасном виде. Против обыкновения, он не был совершенно пьяным, а находился в том состоянии опьянения, которое предвещает полную бесчувственность и в котором выпитое вино еще действует на человека возбуждающе. Кроме всего прочего, его избили матросы, а поскольку он слишком кичился своей силой, то испытанное им унижение повергло его в бешенство; он был безмерно рад найти беззащитное существо, на ком мог бы выместить свое раздражение, и обрушил на свою жену удары как бы в ответ на те, что были получены им от матросов. Бедная Милетта настолько свыклась с этим и так часто плакала из-за низости своего супруга, что она уже не могла выдавить ни слезинки из-за своих собственных страданий.
Испытывая скуку от однообразия своих действий, Пьер Мана нашел другое развлечение. Шаря по всем углам, он, к несчастью, обнаружил несколько глотков водки на дне какой-то бутылки; он осушил ее, и вместе с допитой водкой улетучилось то немногое от здравого смысла, что у него еще оставалось.
И тогда в его мозгу родилась странная идея, одна из тех, что сближают опьянение с безумием.
За несколько минут до драки один из матросов, потом избивавших его, рассказал, как однажды в Лондоне он увидел повешенную женщину. Подробности, приведенные в рассказе, захватили слушателей.
У Пьера Мана появилось дикое желание увидеть в действительности такую картину, показавшуюся ему заманчивой.
От мысли до осуществления прошла всего одна минута.
Он отыскал молоток, гвоздь и веревку.
Найдя это, он ничего больше не искал: все необходимое было у него под рукой — и виселица, и вспомогательные инструменты. Его бедная жена ничего не понимала и, удивленно глядя на своего палача, задавалась вопросом, какое еще новое сумасбродство пришло ему в голову.
Пьер Мана, несмотря на свое опьянение, сохранил в памяти все обстоятельства услышанного рассказа и непременно хотел воссоздать все точно.
Он начал с того, что натянул свой собственный колпак на голову жены и надвинул его до самого подбородка; решив, что рассказ матроса не был приукрашен и что на самом деле все выглядит весьма комично, он принялся преувеличенно весело хохотать.
Вполне ободренная живостью своего мужа, Милетта позволила связать ей руки за спиной.
Она не догадывалась о намерениях Пьера Мана до той минуты, пока не почувствовала у себя на шее холод пеньковой веревки.
И тогда из груди ее вырвался страшный крик: она звала на помощь, но в доме все спали. К тому же Пьер Мана приучил соседей к отчаянным крикам своей несчастной жены.
В эту минуту молодой грузчик, проводивший в последнее время за городом не только воскресные дни, но и все вечера, возвращался к себе домой.
Крик Милетты был таким жутким, таким душераздирающим, что по всему телу молодого человека пробежала дрожь и волосы зашевелились на его голове. Он стремглав поднялся по двадцати пяти ступенькам, отделявшим его от убогого жилища каменщика, и одним ударом ноги вышиб дверь.
Пьер Мана только что повесил свою жену на вбитый гвоздь, и бедное создание уже билось в первых предсмертных судорогах.
Господин Кумб — ведь именно он, как, впрочем, мы уже говорили, был этим добропорядочным и работящим соседом — бросился спасать несчастную жертву и, прежде чем пьяница успел прийти в себя от изумления, вызванного его появлением, он перерезал веревку и Милетта упала на кровать.
Рассвирепев от осознания того, что он лишен наиболее интересной части устроенного им развлечения, Пьер Мана бросился на г-на Кумба, клянясь, что он повесит и его тоже. Молодой грузчик не был ни храбрым, ни сильным, но благодаря своему ремеслу приобрел изрядную ловкость. Встав у постели бедной молодой женщины, он сумел до прихода соседей противостоять негодяю.
Потом пришла стража, и Пьера Мана препроводили в тюрьму, после чего бедная женщина смогла, наконец, получить помощь.
Само собой разумеется, что именно г-н Кумб первым позаботился о ней. Та кротость и покорность, с какой Милетта переносила свое ужасающее положение, уже давно тронули его сердце, хотя оно было слишком занято самим собой, чтобы быть чувствительным. Отсюда и проистекала некоторая связь между обитательницей чердака и ее соседом с нижнего этажа, связь, впрочем, совершенно дружеская, ибо, когда Пьер Мана был отправлен в исправительную полицию и услужливый адвокат спросил Милетту, не ходатайствует ли она о раздельном жительстве, ей не пришла в голову мысль о грузчике, располагавшем суммой, которой ей, бедняжке, недоставало, чтобы она могла надеяться на спокойную жизнь.
Пьер Мана был приговорен к нескольким месяцам тюремного заключения; но Милетта оставалась его собственностью, его вещью, которую он мог вернуть себе по своей прихоти и опыт над которой, прерванный, когда ему стало так интересно, он мог завершить, рискуя при этом несколько продлить свое пребывание в тюрьмах Экса; и все потому, что несчастная женщина не имела и нескольких сотен франков.
Когда, возвратившись из суда к себе домой, Милетта осознала все, что произошло, первым движением ее души было отчаяние, ей даже хотелось немедленно отправиться в суд с просьбой, чтобы ее мужа помиловали. К счастью для общественного обвинения, она была еще слишком слаба, чтобы исполнить свой замысел.
В первые дни ей показались странными и непривычными покой вокруг нее и те знаки внимания, которыми ее щедро одаривал сосед; та жалкая жизнь, какую она вела, казалась ей нормальной, и она подумала, что все это происходит с ней во сне. Но мало-помалу она привыкла к новой жизни, и теперь уже прошлое, напротив, казалось ей каким-то страшным сновидением.
Наконец, при мысли о том, что это сновидение вновь может стать действительностью, она затрепетала всем своим существом.
Чтобы приободриться, она стала говорить себе, что полученный мужем суровый урок несомненно поможет ему исправиться. Но Пьер обманул все ее ожидания: когда по истечении срока его наказания Милетта пришла к воротам тюрьмы и стала покорно ждать его, он, не потрудившись даже бросить взгляд в ее сторону, быстро скрылся, ведя под руку распутную женщину, с которой, согласно обычаям воров, ставших его сотоварищами, поддерживал любовную переписку, чтобы отвлечься от скуки тюремного заключения.
Милетта была ошеломлена таким поступком мужа.
Вернувшись к себе, она подумала было о возвращении к своей матери, но в это же самое время ей пришло письмо с черной печатью, извещавшее, что ее матушка недавно скончалась.
Отныне у бедной женщины не осталось на земле никого из близких, и только г-н Кумб, ее единственный друг, насколько мог, утешал ее. Но, какой бы крепкой ни казалась его дружба, он и не подумал расспросить молодую женщину о всех ее печалях и избавить ее от признания в том, что становилось с каждым днем все мучительнее — признания в нищете. А нищета ее превратилась в ужасающую, но Милетта была мужественной женщиной и на протяжении долгого времени переносила все с таким терпением, с каким раньше выдерживала распущенность своего мужа. Наконец, когда ей оставалось только умереть, Милетта призналась своему доброму соседу, что она вынуждена пойти к кому-нибудь в услужение.
Господин Кумб долго размышлял, поглядывая при этом на свой секретер из орехового дерева (он никогда не оставлял в нем ключа), а затем с некоторым смущением объявил Милетте, что, поскольку он готовится сейчас договориться о месте подрядчика в своей корпорации, для чего ему понадобятся все его деньги, у него нет возможности, к его великому сожалению, прийти ей на помощь.
Милетта была глубоко огорчена тем, как плохо он ее понял, и пылко заверила его, что никогда и не думала воспользоваться той доброжелательностью, какую он выказал по отношению к ней.
Господин Кумб, упрекнув ее за то, что она его перебила, предложил свой способ все устроить: в его новом положении ему, очевидно, понадобится прислуга, и он отдает предпочтение Милетте.
Прежде всего она была крайне обрадована, убедившись, что сбываются предсказания ее соседей и молодой грузчик встает на путь, ведущий к достатку; она была также довольна его предложением, которое он только что сделал ей. Милетта была так чиста душой и наивна, что ей казалось совершенно естественным стать служанкой этого молодого человека — она верила, что зависимость от него не будет такой уж тягостной.
Господин Кумб был удовлетворен не меньше.
И не потому, что глаза прекрасной арлезианки возбуждали в его душе некоторые желания; не потому, что он питал по отношению к молодой женщине какие-нибудь бесчестные мысли — его невосприимчивое к любви сердце не воспламенялось так легко, — а потому, что ее несчастья тронули его, насколько он вообще был чувствителен к тому, что лично его не касалось, потому, что ему доставляло удовольствие оказать уел угу людям, к которым он был привязан, ничего не потратив при этом из своего кошелька, и, наконец, потому — стоит ли говорить об этом? — что он не нашел бы в Марселе ни одной служанки, которая бы удовольствовалась содержанием, предложенным им Милетте.
Всегда относитесь с осторожностью к отрицательным свойствам человеческой натуры.
III ГЛАВА, ИЗ КОТОРОЙ СТАНЕТ ЯСНО, НАСКОЛЬКО ПОДЧАС ОПАСНО ПОМЕЩАТЬ В ОДНОЙ КЛЕТКЕ ВОРОНА И ГОРЛИЦУ
Лицо г-на Кумба, почти безбородое, хотя молодому человеку было двадцать семь лет, носило отпечаток его темперамента, холодного и меланхолического. Все восхищались красотой его служанки, а он меньше всего замечал это. Отправляясь вместе с Милеттой в Монредон, он не придавал значения тому, что взгляды всех прохожих с любопытством задерживались на пленительном личике молодой женщины; зато г-н Кумб весело улыбался, видя, как проворно бежали ее ножки по пыльной дороге, хотя он положил груз ей на плечо. Он не замечал и тех завистников, что в немалом числе кружили вечерами у его дома; но он был настолько убежден в преданности Милетты его интересам, что отныне мог позволить себе не проверять так строго, как прежде, кое-какие мелочи в своем хозяйстве. Глава религиозной конгрегации, членом которой, как и все грузчики, состоял г-н Кумб, выбранил его, полагая, что присутствие столь молодой особы в доме у человека его возраста может стать причиной скандала среди верующих; но хозяин Милетты, не отличавшийся большим умом, ответил своему собеседнику, что скорее надо возложить вину на Господа Бога за то, что он сотворил ее такой, чем на него, способного лишь честно извлекать пользу из этого совершенного творения Провидения.
Равнодушие г-на Кумба к Милетте длилось целых два года, вплоть до одного памятного вечера во второй половине осени.
В тот вечер Милетта пела: ненастные дни ее жизни были далеко позади! Голос ее был снежим и чистым; мы не хотим этим сказать, что какой-нибудь директор оперы, услышав его, воскликнул бы: «Вот тот самородок, которого я искал! Вот то “до” верхней октавы или “до-диез”, какое я повсюду разыскиваю». Нет, этот голос не имел большой диапазон, ему не было дано проникнуть в тайны трелей и каденций, но он был пленительным, нежным и необычайно милым. Он поразил г-на Кумба в минуты его раздумий над усовершенствованием буйабеса и прервал его глубокие мысли на этот счет. Первым его порывом было призвать эту славку к молчанию, но он уже поддался очарованию ее голоса, и мысль более не подчинялась его воле — образно говоря, она ускользала от нее наподобие рыбки, которую рыбак пытается поймать в своем садке.
Сначала г-н Кумб испытал что-то вроде трепета, до того неведомого ему, и его охватило желание присоединить свой голос к серебристому голосу, услышанному им. К счастью, опьянение от пения Милетты не было столь сильным, чтобы он мог забыть, насколько безуспешны все попытки такого рода. Он откинулся в своем кресле-качалке и, закрыв глаза, покачивался в нем. О чем он думал? Ни о чем и обо всем. Воображаемое приоткрывало для него дверь в свой мир, полный приятных видений, и по черно-бархатному полю за его опушенными веками проходили и вновь появлялись тысячи золотых звезд и всполохов пламени; меняя формы, они принимали иногда облик Милетты и, мерцая несколько мгновений, угасали. С головокружительной быстротой его мысли перелетали от цветов к ангелам, а от ангелов — к небесным светилам, затем вновь возвращались к причудливым божествам, жившим в его мозгу — мозгу, работа которого до сих пор ограничивалась лишь архитектурными преобразованиями его домика, и все это совершалось с такой легкостью, что походило на чудо.
Господин Кумб подумал, что он сошел с ума. Но это безумие показалось ему настолько приятным, что он ничуть не возражал против него.
Но вот песня закончилась, Милетта смолкла, и г-н Кумб, открыв глаза, решился покинуть возвышенный мир и вновь спуститься на землю. Безотчетно он бросил первый взгляд на молодую женщину.
Милетта развешивала белье на веревках у берега моря, то есть занималась весьма прозаическим делом, однако г-ну Кумбу она показалась такой же очаровательной, как самая прекрасная из фей, через волшебные царства которых он только что мысленно пролетал.
Она полностью была одета как прачка, то есть к простую рубашку и юбку. Ее волосы, наполовину распущенные, свободно лежали на спине, и дуновение морского ветра, игравшего с ними, делало из них нечто вроде нимба. Ее белые округлые плечи выступали из коричневато-серого холста, как кусок белого мрамора, отполированный волнами, выступает из скалы; не менее белоснежной была и ее грудь, наполовину обнажавшаяся, когда Милетта поднимала руки; а когда она вставала на цыпочки, то еще резче выделялись тонкий изгиб ее талии и великолепная округлость бедер.
Увидев ее словно облитой золотом в красноватых отблесках заходящего солнца — оно выступало над иссиня-черным морем, служившим фоном всей картины, — г-н Кумб подумал, что он встретил, наконец, одного из огненных ангелов, только что представавших в его видениях столь прекрасными. Он захотел позвать Милетту, но голос замер в его пересохшем горле, и тогда он почувствовал, как на лбу его выступил пот, как он тяжело дышит, как сильно бьется его сердце, готовое выскочить из груди. В это самое мгновение Милетта подошла к г-ну Кумбу и, посмотрев на него, воскликнула:
— О Боже, сударь, какой же вы красный!
Господин Кумб не ответил, но то ли его взгляд, обычно невыразительный и тусклый, в этот вечер был почти что сверкающим, то ли исходившие от него магнетические флюиды даже на расстоянии подействовали на Милетту, только она в свою очередь тоже покраснела и опустила глаза, а ее нервно сжатые пальцы стали крутить нитку на юбке; затем она отошла от своего хозяина и вернулась в домик.
Поколебавшись несколько минут, г-н Кумб последовал за нею. Осень — это весна флегматиков.
IV ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМИК
Господин Кумб крайне щепетильно относился к своему положению в обществе. Он был не из тех, кто представляет себе Любовь с нивелиром вместо скипетра и принимает оковы из рук своей собственной кухарки: нет уж, увольте! Он бы ни за что не пожелал этого, пусть даже эта рука принадлежала бы одной из граций. Он был даже не из тех, кто полагает, что, коль скоро дверь заперта, стол накрыт, а вино откупорено, лишь дьявола беспокоит, на каком месте сидит Бабетта.
По отношению к женскому полу г-н Кумб испытывал всеобъемлющее отвращение. При таких его взглядах Милетта стала для него единственным исключением. Он был безмерно удивлен, что не смог сохранить свое хладнокровие, не смог остаться в совершенно здравом рассудке в те самые минуты, когда его терял даже царь богов. Если пение Милетты и оказало на него такое животворное влияние, какое весеннее солнце оказывает на природу, это влияние не заставило его забыть о благопристойности, о форме жестов и выражений, приличествующих хозяину по отношению к его служанке; и не раз в те самые мгновения, когда охватывавшее его возбуждение должно уже было бы заставить его забыть о расстоянии, когда-то существовавшем меж ними, все достоинство г-на Кумба противилось этому и облекалось в форму важных речей и весьма обоснованных наставлений по ведению домашнего хозяйства, и это сразу должно было напомнить молодой женщине, что никогда ее хозяин не пойдет на то, чтобы увидеть в ней еще что-то, кроме прислуги.
В сближении двух противоположных полов страсть не всегда играет столь существенную роль, как это представляется. Тысячи самых разных чувств могут привести женщину к тому, чтобы она отдалась мужчине. Милетта уступила г-ну Кумбу, поскольку испытывала к нему непомерную благодарность за оказанную ей помощь; да и потом, честный, аккуратный и удачливый подрядчик грузовых работ, сумевший составить себе состояние с помощью незаурядной твердости взглядов, вызывал у нее самое искреннее восхищение. И ничем непримечательная голова владельца домика в Монредоне была в ее глазах окружена неким ореолом; он представлялся ей полубогом, она выслушивала его с почтением, разделяла его пристрастия и, слепо подчиняясь ему, стала находить в его домишке поистине олимпийские размеры. Хотя г-н Кумб и требовал от бедной женщины проявлений преданности, сам он никогда не упускал случая показать себя: его убежденность в более низком положении его служанки заставила любой ее отказ считать просто невозможным.
Милетта никогда в жизни не обольщалась несбыточными надеждами, и ей не было знакомо чувство разочарования, а стало быть, и чувство унижения; она принимала свое положение в том виде, как оно было установлено ее хозяином, с какой-то трогательной и признательной безропотностью.
Так проходили годы, и к сундуке подрядчика грузовых работ прибавлялись экю за экю, а в садике Монредона высыпались одна за другой корзины с перегноем и навозом.
Но участь тех и других была разной: в то время как мистраль разбрасывал и перегной и навоз, экю мирно лежали, накапливались и приносили хозяину доход.
Делали они это так успешно, что по прошествии пятнадцати лет г-н Кумб всякий раз по понедельникам испытывал крайнее недомогание, когда он должен был покинуть Монредон, свою смоковницу, свои овощи и свои удочки, чтобы добраться до тесной квартирки на улице Даре, и эти повторявшиеся еженедельно приступы с каждым новым разом становились все сильнее. Какое-то время в его сердце боролись два чувства: любовь к своему домику и любовь к богатству. Сам Господь не погнушался оказать содействие г-ну Кумбу в этой тяжбе. В год 1845-й от Рождества Христова личный враг г-на Кумба был удержан в пещеристых убежищах горы Ванту и было ниспослано теплое и влажное лето. Пески Монредона проявили себя превосходно впервые с тех пор как подрядчик стал владеть своей землей. Побеги салата не засохли на корню, бобы быстро поднялись, а хрупкие стебли томатов даже согнулись, отягощенные гроздьями ребристых плодов; и, войдя однажды субботним вечером в свой садик, г-н Кумб, изумление которого равнялось его счастью, насчитал двести семьдесят семь цветков на грядке гороха. Он столь мало был готов к такому непредвиденному успеху, что издалека принял их за бабочек. Это событие увенчало триумфом его упорное сопротивление неудачам. С того часа как раскрылся первый цветок в его саду, г-н Кумб стал испытывать недовольство, если он лично не наблюдал, как они распускаются. Он уступил свою должность, обратил в деньги и поместил свой небольшой капитал, сдал в субаренду свое городское жилище и окончательно поселился в Монредоне.
Милетта не слишком благосклонно отнеслась к изменению его постоянного места жительства.
Придавая чрезмерное значение делам и поступкам владельца домика, мы оставили без внимания другой персонаж, которому предстоит сыграть определенную роль в нашем повествовании.
Правда, на протяжении семнадцати лет, через которые мы сейчас перескочили, его существование не представляло для нашего читателя интерес.
Мы хотим рассказать о ребенке Милетты и Пьера Мана.
Знали его, как и многих марсельцев, Мариус. Таким образом жители старого Марселя увековечивали память героя, освободившего их страну от нашествия кимвров, что являет собой трогательный пример, способный еще вызвать чувство восхищения у тех, кого они называют французами. Итак, его звали Мариус.
В тот период, какого мы в своем рассказе наконец достигли, он был в полном смысле слова красивым юношей, одним из тех, при встрече с кем женщины поднимают голову так же, как лошадь при звуке трубы.
Мы предоставляем нашим читательницам право по их желанию, по их собственным вкусам нарисовать портрет Мариуса и заранее просим у них прошения, если в ходе дальнейшего повествования истина вынудит нас досаждать их предпочтениям, каковым мы стараемся угодить в данную минуту.
Бедная Милетта обожала свое дитя, и для этого у нее была тысяча поводов, самым важным из которых было то, что, сколь ни естественным было это чувство, ей приходилось его сдерживать.
Господин Кумб не любил Мариуса, хотя и не испытывал к нему неприязни. Он был в высшей степени лишен способности оценить материнские радости, зато слишком хорошо считал, чтобы не взвешивать расходы.
Милетта во имя воспитания своего ребенка жертвовала тем скромным жалованьем, которое г-н Кумб выплачивал ей, делая это так исправно, как будто временами вдохновлялся ее пением; он жалел бедную женщину и оплакивал те жертвы, которые она вынуждена была взять на себя, чтобы дать возможность маленькому шалопаю выучить алфавит; он великодушно облегчал ее жертвоприношения, скупо проявляя свое сострадание, выражавшееся не столько в сочувствии к ней, сколько в грубых окриках в адрес мальчика.
Когда же ребенок подрос, дело приняло совсем другой оборот! В целях своего личного утешения г-н Кумб сочинил аксиому, которую мы рекомендуем всем тем, кого огорчает правдивость зеркала: он утверждал, что красивый мальчик непременно негодяй, а Мариус действительно становился красивым мальчиком.
Когда г-н Кумб смотрел на него, брови его все больше и больше хмурились. Он упрекал Милетту за проявляемую ею чрезмерную нежность к ребенку, утверждая, что ее пристрастие к нему отвлекает ее от домашних обязанностей. Он неоднократно выражал недовольство по поводу небрежности, с какой ею было приготовлено какое-нибудь блюдо, приписывая это ее рассеянности из-за того, кого он заранее называл бездельником, и в то же время, следуя своей логике, он ежеминутно присматривал за своим кошельком; он полагал, что нельзя, имея такие глаза, какие были у Мариуса, рано или поздно не выкрасть этот кошелек.
Следствием такого настроения г-на Кумба стало то, что Милетта вынуждена была тайком дарить своему ребенку ласки. А тот, казалось, совершенно не замечал этого. Мариус отличался врожденным благородством души и возвышенностью чувств, характерными для его матери.
Милетта оставила его в неведении о своем прошлом; она ничего не рассказывала ему из грустной истории своей жизни, зато беспрестанно повторяла о его долге любить и почитать того, кого сама она никогда не называла иначе как их благодетелем, и мальчик изо всех сил старался выражать признательность, которая переполняла его сердце и которую он испытывал бы, даже если бы у г-на Кумба не было на это иного права, кроме любви, какую он сумел внушить Милетте, столь нежно любимой сыном.
Становясь старше, Мариус по-прежнему оказывал г-ну Кумбу немало знаков внимания, был предупредителен по отношению к нему, но с годами к этому прибавилось безграничное терпение и глубочайшее уважение. Было очевидно, что благодаря своей проницательности молодой человек догадался об истинных узах, существовавших между ним и подрядчиком грузовых работ.
В этой догадке его укрепляло поведение г-на Кумба, привыкшего мало-помалу к тому, что его называли отцом, и не противившегося этому.
К тому времени, когда г-н Кумб окончательно переселился из Марселя в Монредон, сын Милетты уже в течение года был мелким служащим одной из торговых фирм в городе. Каждый вечер он прибегал поцеловать свою мать. Именно этот вечерний поцелуй, которого Милетта теперь лишалась, был причиной того, что она, видимо, сожалела об отъезде из города. Милетта стала такой печальной, что г-н Кумб обратил на это внимание. Он был так рад взять верх по всем пунктам, увидеть, что он заставил замолчать любителей глупых шуток, утверждавших, будто ему пришлось позаимствовать в городском театре декорации, дабы в саду у него были деревья, — что ему не хотелось, чтобы выражение лица Милетты портило ему счастье.
И поэтому он позволил ей регулярно, по воскресеньям, вызывать сына в Монредон.
V ГЛАВА, В КОТОРОЙ ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО ПОДЧАС НЕПРИЯТНО БЫТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ЧУДЕСНОГО ГОРОХА В СВОЕМ САДУ
Как-то в середине лета 1845 года случилось событие, в высшей степени изменившее жизнь г-на Кумба.
Однажды вечером, расположившись в тени, которую отбрасывали вместе смоковница и дом, он развалился на стуле, положив голову на последнюю его перекладину, и следил глазами отнюдь не за золотистыми облаками, убегавшими на запад, а за поспевавшими фигами, округлявшимися под каждым листочком на дереве, и в своем воображении уже вкушал их янтарную мякоть. Сидя так, он услышал голоса двух людей, проходивших вдоль решетчатой изгороди из тростника, которая ограждала его садик со стороны улицы. Один из собеседников говорил другому:
— Вы сейчас составите свое мнение о качестве здешнего песка, черт побери, и нигде — ни в Бонвене, ни в Эгаладах, ни в Бланкарде, ни за серебро, ни за золото — вы не смогли бы найти то, что вы сейчас увидите. У короля Франции, сударь, у самого короля Франции в его саду нет ничего подобного!
И пока г-н Кумб с бьющимся сердцем перебирал в памяти, к чему могли относиться такие похвалы, двое прохожих остановились перед небольшой деревянной калиткой в ограде его владений. Один из них был хозяин соседнего участка земли; другой — незнакомый молодой человек: г-н Кумб видел его в Монредоне впервые.
Остановившись, первый указал на зеленый сад, тогда уже пышно разросшийся, — точнее сказать, на грядку с горохом, зеленые побеги которого колыхались от дуновений ветра.
— Взгляните! — воскликнул сосед, и жестом усилил торжественность повелительной интонации своего голоса.
Господин Кумб покраснел, словно юная девица, впервые услышавшая комплимент по поводу своей красоты, и был уже готов скромно потупить взор.
Молодой человек рассматривал сад с меньшим воодушевлением, чем его собеседник, но тем не менее очень внимательно; затем оба удалились, а г-н Кумб так и не смог заснуть. Всю ночь он представлял себе, с какими приветствиями ему следует обратиться к этому вежливому человеку, как только он встретится с ним.
На следующий день, когда г-н Кумб поливал дорогие его сердцу растения и Милетта помогала ему в этом, он вдруг вновь услышал голоса, доносившиеся уже не с улицы, а с той стороны, где длинная полоса дюн и холмов отделяла его владения от полудюжины домов, составлявших деревню Ла-Мадраг, и где вплоть до описываемых нами событий заброшенная полоса земли была предоставлена лишь шалфею, бессмертнику и дикой гвоздике, it зависимости от времени года покрывавшим ее то белым, то желтым, то розовым ковром.
— Кого это сюда черт несет? — проворчал г-н Кумб, предвкушая минуту наслаждения, уже испытанного им накануне.
Затем, не давая Милетте времени на ответ, он перенес стул вдоль тростниковой ограды своего сада и, осторожно раздвинув ее, постарался удовлетворить свое любопытство.
Доносившиеся голоса принадлежали всего-навсего трем или четырем рабочим; однако они принесли с собой веревки, колья и вехи и размечали углы на пустыре, граничившем с домиком г-на Кумба. А г-н Кумб был не из тех, кто не задался бы вопросом, что все это могло означать.
Выяснилось, что один из жителей Марселя, возможно пленившись блестящей перспективой, какую предоставляло взорам прохожих жилище г-на Кумба, купил соседний участок и собирался построить виллу по образцу его домика.
Господин Кумб довольно безразлично отнесся к этой новости. Он не был мизантропом по убеждениям. Он не искал одиночества, а скорее примирился с ним; хотя общество людей его ничем не привлекало, он, однако, вовсе не стремился избегать его.
И тем не менее неудобства от нового соседства не замедлили сказаться. Приступив к работе на следующий же день, рабочие выкопали ров вдоль всей ограды, отделявшей одно владение от другого.
Возобновив расспросы, г-н Кумб услышал в ответ, что его будущий сосед не считает имеющуюся тростниковую ограду достаточной и намеревается заменить ту ее часть, что обращена к нему, большой каменной стеной.
При этих словах безразличие г-на Кумба сменилось на прямо противоположное чувство. Он подумал о том, что эти ненужные оборонительные укрепления закроют ему вид на море и на мыс Круазет, и в тот же миг влюбился как безумный в их неповторимую красоту. Кроме того, это сооружение затмит его собственное: его тростниковая ограда будет выглядеть весьма жалко рядом с роскошной каменной стеной соседа. А его домик в сравнении с виллой значительно проиграет в общественном мнении. И это последнее соображение столь сильно повлияло на г-на Кумба, что он тотчас же привлек одного из каменщиков, орудовавших на соседнем участке, и задал ему работу у себя с целью сравняться со своим соседом.
Эти непредвиденные расходы сразу же вызвали глухой ропот в трезвом рассудке г-на Кумба, в ком склонность к порядку и бережливости руководила всеми его действиями, но самолюбие собственника сумело подавить эти укоры. Он сказал самому себе, что такая стена совершенно по-другому, нежели тростниковая ограда, предохранит его сад и, имея явно больше преимуществ, укроет его от похитителей фруктов и овощей, недостатка в которых отныне быть не могло. И когда наконец его новая стена, вчетверо выше прежней, была завершена, она выглядела так внушительно, она была так чисто оштукатурена и побелена, а бутылочные осколки, украшавшие ее верхний край, так красиво переливались на солнце, что г-н Кумб почувствовал глубокую признательность человеку, благодаря начинанию которого он решился на подобные расходы.
И г-н Кумб вернулся к рыбной ловле, работам в саду и прекраснейшему расположению духа; о своем будущем соседе он вспоминал, лишь думая о том, каким приятным занятиям они могли бы предаваться вместе с ним, если тот вдруг любит рыбалку.
Однако по прошествии некоторого времени г-н Кумб, бросив взгляд на быстро продвигавшиеся работы у его соседа, заметил, что они велись с таким масштабом, какого он до этого и не мог предположить, и впервые в жизни испытал укол в сердце от чувства зависти. Но он тут же поспешил его подавить, ведь если дом соседа обещал быть самым величественным в Монредоне, то его собственный несомненно останется самым привлекательным. Разве испытывал бы он зависть, управляя своей отличной легкой парусной шлюпкой, при виде великолепного королевского фрегата, паруса которого отбрасывают тень на морскую гладь?
Однако сердце г-на Кумба не было настолько свободным от дурных мыслей, чтобы не ощутить потаенного чувства радости, когда он обнаружил тяжеловесность и массивность остова крыши соседского дома и увидел, что она выступает на несколько футов за пределы поддерживающих ее щипцов, а такое нарушение пропорций портит, в конечном счете, все здание, которое она должна накрывать. Тем не менее кровельщики, столяры и маляры все прибывали: одни приносили черепицу какой-то особой формы; другие устанавливали на всех этажах такие искусно сделанные балконы, что они скорее походили на кружева; третьи расписывали стены под еловые доски, изобилующие прожилками, причем делали это настолько умело, что постепенно псе здание приобрело гармоничный вид — может быть, несколько, безыскусственный, но is высшей степени изящный.
Это было шале, а они в то время редко встречались и все ими восхищались.
Однако мы не поручимся, что то чувство, которое вызывало это шале у г-на Кумба, было восхищением. Он разглядывал его с досадой, нахмурив широкие брови и поджав губы, и еще раз его рассудку и здравому смыслу пришлось выдерживать настоящую борьбу с теми советами, которые внушала ему его собственная гордыня. И вновь он одержал над ней победу, но, как всегда, неокончательную, ибо, хотя его любопытство и было возбуждено настолько, что он страстно желал узнать имя счастливого владельца нового имения, он не мог решиться пойти и спросить об этом у рабочих. Ему казалось, что краска на его лице выдаст то опасение, какое вызывает у него будущее соперничество. Господин Кумб был смущен, взволнован и лишь украдкой бросал взгляды на красноватые стены своего домика, при виде которого еще совсем недавно он испытывал чувства счастья и гордости.
Несмотря на все старания отогнать на задний план любую мысль о новом шале и его владельце, г-на Кумба беспрерывно занимало одно — он хотел узнать имя этого человека. Неожиданно ему помог случай.
Строительство соседнего дома продвигалось так быстро, что некоторые из овощных культур еще являли свое великолепие, столь характерное для сада г-на Кумба прошлым летом. Пыль от извести и гипса, распространившаяся в воздухе из-за строительных работ на соседнем участке, заметным слоем покрыла эти растения, и г-н Кумб с щеткой в руках и ведром у ног принялся их отмывать. Вдруг он услышал звук подъехавшей коляски; она остановилась перед оградой, закрывавшей соседский сад.
Еще утром он заметил со стороны рабочих какое-то оживление, указывавшее на приготовление к приезду хозяина, и, не сомневаясь, что так и произойдет, г-н Кумб взобрался на скамейку и осторожно приподнял голову над их обшей стеной. Он увидел рабочих, собравшихся во дворе; один из них держал в руках огромный букет цветов и, как только экипаж подъехал, вручил его одному из вышедших из него господ.
Это был молодой человек лет двадцати пяти, с лицом открытым и решительным, изысканно одетый; приехал он в сопровождении трех друзей. Взяв букет, он в ответ положил в руку рабочего чаевые; эти чаевые, должно быть, были вполне приемлемыми, поскольку до того спокойное выражение лица рабочего сразу сменилось на восторженное. Из груди его вырвался оглушительный крик: «Да здравствует господин Риуф!» — и его товарищи, уверенные, что он не кричал бы так, будь чаевые недостаточными, поддержали его криками ура с какой-то неистовой радостью.
Это имя ничего не говорило г-ну Кумбу.
Пока молодые люди осматривали дом изнутри, рабочие собрались как раз напротив того места, где устроил наблюдательный пункт г-н Кумб, и принялись считать и делить между собой деньги. Чаевые составляли пять луидоров.
«Черт возьми, — прошептал про себя г-н Кумб. — Сто франков! Этот господин, должно быть, очень богат. Впрочем, меня больше не удивляет, что он потратил столько денег на каменную кладку. Когда строительство моей стены было завершено, я дал, помнится, поденщикам десять франков чаевых, и найдется немало людей, которые наобещают и не дадут столько. Сто франков! Да этот господин владеет всеми судами в порту Марселя! Если так, то тем лучше! Это соседство сулит немного разнообразия в жизни. И потом, такому богатому человеку непременно будут покупать рыбу; по крайней мере, он не станет, в этом я уверен, ловить ее там, где я, и не будет опустошать прибрежные воды. Он производит впечатление доброго малого, веселого, открытого и без церемоний; он наверняка будет устраивать обеды и, возможно, пригласит на них меня. Еще бы! Он должен меня пригласить, разве я не его сосед? Что и говорить?! Я определенно рад, что ему пришла в голову мысль обосноваться в Монредоне!»
VI ШАЛЕ И ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМИК
Весь поглощенный чудесными картинами будущего, нарисованными его воображением, г-н Кумб весело потирал руки, как вдруг до него донесся стук открывающегося в новом доме окна. Едва он поспешно спрятал голову, чтобы не быть застигнутым врасплох во время своей невинной слежки, как на балконе шале появились молодые люди. Они говорили громко и все разом.
— Прекрасный вид! — сказал один. — Это самый прекрасный вид во всем крае.
— Ни одно судно не войдет в порт Марселя, не попав под огонь наших подзорных труб, — проронил другой.
— Не говоря уже о рыбе: чтобы поймать ее, нужно лишь протянуть руку, — заметил третий.
— Но пост, где он? Я не нижу поста, — вновь заговорил первый.
— Проявите немного терпения, — в свою очередь сказал хозяин дома, — потерпите, и у вас будет все, что вам заблагорассудится. Ведь скорее для других, чем для самого себя, я решил построить этот деревенский домик.
— Ручаюсь, мой дорогой, что одно ты не добудешь: я имею в виду деревья.
— Да полноте! Деревья! К чему они? — возразил тот, кто высказался первым. — Разве нельзя найти фрукты в Марселе и привезти их оттуда?
— А заодно оттуда привезти тебе и тень?
— Успокойтесь, — промолвил владелец дома. — У вас будут деревья; мы не изолированы лишь с одной стороны, и именно с этой стороны, — добавил он, указывая на домик г-на Кумба, — нам нужно укрыться от слежки.
— Да, поскольку будет весьма неприятно, если нас вновь побеспокоит полиция.
— Да, черт побери, это правда. С этой стороны у тебя есть сосед, а я и не видел этого домишка.
— Какая же, Боже мой, хибарка!
— Да это просто курятник.
— Ну нет… Если вы хорошо его видите, то можете заметить, что он выкрашен в красный цвет: это кусок голландского сыра.
— А кто в нем живет? Ты его знаешь?
— Какой-то старый дурак, слишком озабоченный тем, не пустила ли, случайно, ростки его капуста, чтобы подсматривать за делами и поступками членов общества Вампиров. Будьте спокойны, я навел точные справки. Кстати, если он станет стеснять нас, всегда найдется средство избавиться от него.
Господин Кумб не упустил ни слова из этого разговора. Когда он услышал пренебрежительные слова о своем жилище, у него на мгновение возникла мысль обнаружить себя и ответить на них обоснованной критикой соседского дома, недостатки которого в эту минуту показались ему из ряда вон выходящими; но когда молодой хозяин заговорил о вампирах и с поразительными непринужденностью и беспечностью заявил о своем намерении избавиться от докучливого соседа, г-н Кумб предположил, что он встретился лицом к лицу с опасным сообществом злоумышленников. На мгновение кровь застыла в его жилах, и, чтобы избежать взглядов этих кровососов, он стал нагибаться все ниже и ниже, пока чуть ли не распластался на своей скамейке.
Тем не менее, убедившись, что со стороны соседа не доносилось никаких звуков, он понемногу пришел в себя и бросил взгляд в лагерь тех, кого с этой минуты считал своими врагами. Сначала он расправил грудь, затем плечи, поднял голову и встал во весь рост, пока наконец его лоб не оказался на том же уровне, что и гребень стены. Но именно в этот миг одному из молодых друзей г-на Риуфа пришла в голову та же мысль, что и г-ну Кумбу, и выбрал он точно то же место, что и тот, чтобы осмотреть владения соседа, причем тем же способом, — так что, когда г-н Кумб поднял глаза, он увидел прямо напротив себя лицо, которому редкие черные бакенбарды придавали поистине сатанинский вид.
От неожиданности и нахлынувшего на него чувства страха г-н Кумб сделал столь резкое движение всем корпусом, что нетвердо стоявшая на песке скамейка покачнулась и он упал на землю.
На зов своего товарища тут же прибежали трое других молодых людей, и под их гиканье, под град насмешек и язвительных шуток несчастный г-н Кумб отступил к своему домику.
Итак, война между старым землевладельцем и теми, что именовали себя членами общества Вампиров, была объявлена.
Поскольку г-н Кумб был совершенно в стороне от романтического движения своего времени и никогда не стремился к углублению познаний в области физиологии чудовищ промежуточного мира, слово «вампир» вызывало в его памяти лишь смутные воспоминания о нескольких сказках из числа тех, которыми его убаюкивали в детстве, и от этого воспоминания по его телу побежали мурашки.
Господин Кумб подумал было о том, что надо предупредить власти, но никакими точными сведениями он для этого не располагал; затем, устыдившись собственной слабости, он решил сначала дождаться предполагаемых им актов насилия, а уж потом прибегнуть к закону для своей защиты. И с этого времени он стал постоянно наблюдать за своими соседями.
К несчастью, складывалось впечатление, что хозяин шале заранее остерегался г-на Кумба, поскольку спустя два дня, именно так, как он и обещал, по всей длине общей стены рабочие высадили ряд прекрасных пирамидальных кипарисов, уже возвышавшихся над ней на два фута.
Подобные меры предосторожности лишь удвоили опасения г-на Кумба, и, решив расстроить заговор тех, кого он заранее считал негодяями, и предать гласности преступления, на которые, вне всяких сомнений, они были способны, он потихоньку, с помощью нескольких скамеек, соорудил нечто вроде бельнедера на своей почти плоской крыше, и это дало ему возможность сверху вести наблюдение за домом, уже доставившим ему столько забот.
В течение целой недели при малейшем шуме с соседской стороны он обязательно поднимался на свой наблюдательный пункт, однако ни разу не заметил ни г-на Риуфа, ни его друзей. Была привезена мебель и кухонная утварь, однако не это интересовало г-на Кумба. Но когда в пятницу он увидел, как с двухколесной тележки спустили какое-то громоздкое устройство, покрытое серым полотнищем, из-под которого торчали две длинных железных руки, оканчивавшиеся рычагами; когда он заметил, с какими предосторожностями этот предмет был перенесен во двор шале, — он подумал, что нашел разгадку.
Общество Вампиров было обществом фальшивомонетчиков.
И потому с тревожно бьющимся сердцем, едва переводя дух, в субботу вечером он поднялся на наблюдательный пункт.
Около восьми часов вечера прибыл г-н Риуф со своими тремя сподвижниками.
Ночь была темной и беззвездной; сквозь наглухо закрытые в шале ставни из комнаты на первом этаже пробивался бледный свет.
Внезапно, хотя г-н Кумб не слышал шагов на дороге, калитка в саду соседа повернулась на петлях; в то же мгновение он заметил двух громадных призраков, одетых в черное, скорее скользивших, нежели шедших по песку аллеи.
Он услышал легкий шелест своего рода саванов, скрывавших от него очертания призраков.
Призраки бесшумно вошли в шале, по-прежнему остававшееся безмолвным и мрачным.
Господину Кумбу казалось, что его сердце готово выскочить из груди. Капли холодного пота выступали у него на лбу. Он не сомневался, что увидит сейчас некое странное зрелище. И действительно, дверь шале вновь отворилась, но на этот раз чтобы выпустить тех, кто был в доме.
Двое первых, увиденных им, были одеты в длинные монашеские рясы с капюшонами: это была одежда серых кающихся грешников, тех, кого в Марселе называли членами общества Святой Троицы и в чьи обязанности входило погребение умерших.
Один из них держал в руке веревку. Другой конец ее был завязан на шее юной девушки, шедшей непосредственно за ним. Затем следовали другие кающиеся грешники, одетые, как и двое первых, во все серое.
Девушка была смертельно бледна; ее длинные распушенные волосы ниспадали по плечам и окутывали покрывалом грудь, которую льняное платье, ее единственная одежда, оставляло обнаженной.
Как только все кающиеся грешники собрались в саду, они приглушенными и неровными голосами запели погребальные псалмы. Завершив третий круг, они остановились у колодца, над которым была установлена железная поперечина, напоминавшая виселицу.
Один из кающихся грешников взобрался на эту поперечину и, сев там на корточки, стал похож на огромного паука.
Другой привязал веревку к кольцу.
Девушку подняли и поставили на самый край колодца, и г-ну Кумбу послышалось, как палач откликнулся на мольбы жертвы лишь тем, что велел своему товарищу быть готовым к тому, чтобы спрыгнуть на плечи несчастной.
Остальные кающиеся распевали «De profundis»[37].
Господин Кумб дрожал как лист, его зубы часто стучали, а дыхание походило на хрип. Однако он не мог позволить, чтобы несчастная умерла таким образом. Нужно было подумать о том, чтобы вырвать ее из лап этой ужасной смерти, а уж затем — о том, чтобы сохранить себя для мести этим манам. Он собрал все свои силы и испустил крик, пытаясь придать ему устрашающий оттенок, но испытываемый им ужас сдавил ему горло.
В это мгновение ему показалось, что хляби небесные разверзлись над его головой; он почувствовал себя мокрым с головы до ног; мощный поток воды с силой ударил его в грудь и опрокинул навзничь. Прямо на него был направлен брандспойт пожарного насоса, приводимого в движение пятью парами крепких рук.
К счастью, крыша его дома находилась невысоко над землей, а песок, из которого состояла почва, был столь мягок, что падение не причинило ему ни малейшей неприятности. Почти обезумев, потеряв голову, не отдавая себе отчета в том, что с ним сейчас произошло, он со всех ног бросился к мэру Бонвена.
Он нашел главу мэрии в единственном в этих краях кафе; магистрат занимал досуг, предоставленный ему его подопечными, партией игры в пикет.
Появление в пропитанном табачным дымом зале г-на Кумба, в мокрой одежде, покрытого толстым слоем песка, бледного и с блуждающим взглядом, было встречено взрывом гомерического хохота. А когда он рассказал об увиденном и о только что происшедшем с ним, раскаты смеха лишь усилились.
Мэру города пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить бывшего подрядчика грузовых работ, что он стал жертвой розыгрыша и что участвовавшие в нем молодые люди, заметив проявленное им любопытство, решили его за это наказать, а потому он не имеет права жаловаться. Напрасно мэр советовал г-ну Кумбу отнестись к происшедшему со смехом; он так и не смог убедить его в этом.
Вне себя от ярости, г-н Кумб вышел из кафе. Он вернулся к себе, и обуревавшие его досада и гнев мешали ему даже на мгновение обрести покой. От терзавших его переживаний он в эту ночь так и не сомкнул глаз.
А г-н Риуф вместе со своими друзьями устроили на всю эту ночь настоящий шабаш. До г-на Кумба доносился звон бокалов и тарелок, грохот разбиваемых бутылок и взрывы какого-то нечеловеческого хохота. Двадцать голосов одновременно исполняли двадцать песен, не имевших между собой ничего общего, кроме одного — все они были позаимствованы из самого непристойного, что в этом жанре предлагает морской флот, и неизменным музыкальным аккомпанементом им служил лязг ударяемых друг о друга лопат, чанов и кастрюль.
Но вот наступил день; к этому времени ярость г-на Кумба переросла в нервное возбуждение. Но и день не улучшил полностью его положение. Казалось, проклятые соседи и не собирались сделать передышку, и если шум стал меньше, то нельзя сказать, что он прекратился вовсе: грохот стих, но крики и смех раздавались с прежней силой.
Кроме того, г-ну Кумбу, прижавшемуся к окну, казалось, что оставленный на балконе соседнего дома караульный выслеживает миг, когда он выйдет из дома. В результате г-н Кумб, чтобы не подвергать себя насмешкам со стороны членов этой банды, не поехал на намеченную им прежде великолепную рыбную ловлю у Карри и провел взаперти весь день, не смея ни подышать воздухом на пороге, ни приоткрыть окно.
Вечером у соседей вновь началось буйное пиршество, и г-н Кумб, как и накануне, всю ночь не смыкал глаз. Наконец до него дошел смысл слов, услышанных из уст главы мэрии Бонвена; он понял, что имел дело с бандой веселых прожигателей жизни, желавших лишь одного — посмеяться над ним. Он окончательно осознал это тогда, когда, стоя за занавеской и подглядывая за группой прекрасных гризеток, с насмешливым видом рассматривавших его домик, он узнал среди них несчастную, казнь которой, готовившаяся накануне, вызвала у него столь сильные переживания.
Но будь эти молодые люди преемниками Гаспара де Бесса или Мандрена, г-н Кумб не почувствовал бы к ним и доли той ненависти, какую он испытывал в это время.
Мы уже говорили, каким полным, совершенным было прежде счастье г-на Кумба, и это избавляет нас от необходимости описывать его отчаяние, когда он увидел свое счастье низвергнутым с подобной высоты. Такое человек понимает без труда. И хождение на протяжении целого дня взад и вперед по своему домику лишь удвоили его возбуждение. Всю ночь он вынашивал замыслы жестокой мести и утром отправился в Марсель, опередив хозяина соседнего шале, которому предстояло вернуться в город в понедельник, согласно неизменному обычаю тех марсельцев, кто не устроил свой домашний очаг в сельской местности.
Вечером г-н Кумб вернулся к себе, обзаведясь отличным двуствольным ружьем, купленным им у Зауэ, а на следующий день судебный исполнитель вручил г-ну Риуфу распоряжение с требованием отодвинуть от стен участка его соседа кипарисы, посаженные на не предусмотренном законом расстоянии. Таков был первый враждебный акт, который подсказал гнев г-ну Кумбу.
Право было на его стороне, он выиграл этот процесс. Однако стряпчий его противника любезно уведомил г-на Кумба, что его клиент подал апелляцию и решил вести судебную процедуру столь дол го, что, когда г-н Кумб справится со своим упрямством, кипарисы окажутся такими старыми, что общество по охране памятников неизбежно возьмет их под свою защиту.
Пока дело слушалось в суде, обитатели и постоянные посетители шале устроили своему соседу настоящую партизанскую войну.
Все публичные оскорбления, принятые в подобных случаях, были пушены в ход. Каждый день г-н Риуф своими школярскими выходками наносил новые обиды и так уже уязвленному до глубины души г-ну Кумбу, который находился теперь в состоянии постоянного раздражения и во всеуслышание объявил тем, кому угодно было его слушать, что он не уступит в этой борьбе и будет стоять насмерть, защищая свой домашний очаг. Чтобы ясно дать понять противнику свои намерения, он подчеркнуто стал упражняться в стрельбе из огнестрельного оружия, для чего устроился как на посту в своей комнате и с терпением дикаря стал выслеживать птиц, прилетавших на насесты, устроенные им посреди своего сада.
Но, поскольку птицы чаше всего не прилетали, он изрешетил дробью ветки садовых деревьев. Звуки раздававшихся выстрелов не приводили его преследователей в ужас, как предполагал г-н Кумб, и нередко, когда какой-нибудь дерзкий воробей, спасаясь от летящей дроби стремительно улетал, со стороны соседнего дома раздавался оглушительный свист, имевший целью оскорбить охотника за его неловкость.
Однажды утром г-ну Кумбу чуть было не удалось добиться блестящей победы. Он встал на рассвете и, не одеваясь, принялся разглядывать насесты.
Заметив нечто огромное по размерам, выделявшееся черным пятном на фоне чуть окрашенного зарей неба, он, весь трепеща от ослепительной надежды, схватил свое ружье.
Что это была за огромная птица? Ястреб, сова или, может быть, фазан? Но, что бы это ни было, г-н Кумб заранее предвкушал свой триумф и замешательство противников.
Он осторожно приоткрыл окно, встал на колени, облокотился на подоконник, долго целился и наконец выстрелил.
О счастье! Сразу после этого он услышал глухой звук упавшего на землю тяжелого тела. Опьянев от радости и забыв о том, что он был почти раздет, г-н Кумб бросился вниз по лестнице и подбежал к дереву. На земле лежала великолепная сорока, и г-н Кумб устремился к ней, не замечая ее окаменелости, которую он, несомненно, принял за трупное окоченение.
Однако это было всего лишь чучело сороки, и на одной из ее лапок висела табличка с датой изготовления его и фамилией чучельника. Дата была двухгодичной давности, а чучельником — сам г-н Риуф. Впрочем, для демонстрации еще большей наглядности своего участия в подготовке такой развязки охотничьих занятий г-на Кумба его соседи одновременно появились у всех дверей шале, аплодируя и громко крича браво.
Господин Кумб хотел было разрядить свое ружье последним выстрелом по этой банде, но присущая ему осторожность взяла верх над горячностью его характера, и, совершенно подавленный, он добрался до своего убежища.
Произошло все это воскресным утром, и, во избежание новых оскорблений, г-н Кумб на весь день закрылся у себя в доме.
Далеко позади остались те времена, когда сердце г-на Кумба наполняла удовлетворенная гордость, видевшая его желания исполненными; страшная буря, совсем не та, что поднимал мистраль, прошла по его жизни; его привычные удовольствия и столь приятные ему занятия потеряли для 14 — 7045 него всю свою привлекательность, и в то же время исчезла та высочайшая вера в свои силы, которой он некогда владел; он чувствовал себя как какой-нибудь тунец, трепыхающийся на крючке лески, намотанной на пробковую пластину, в то время как сердце его уже не бьется; он так низко пал в собственных глазах, что у него уже не было мужества воздать себе славу за великолепный урожай, полученный им в саду в минувшем году.
Никто не в силах определить вместимость человеческого сердца; порой достаточно одного зернышка, чтобы наполнить его радостью, а порой ему нужна целая гора для ощущения довольства и счастья. До сих пор сердце г-на Кумба было в достаточной мере заполнено ничтожными удовольствиями, невинными развлечениями и мелкой суетой, но теперь оно было совсем опустошенным и мало-помалу наполнилось ненавистью к виновникам полной перемены его жизни.
И ненависть г-на Кумба возрастала тем сильнее, чем больше он чувствовал собственное бессилие. Однако вплоть до последнего времени это чувство оставалось в определенных границах. Как нередко поступает воюющая держава, г-н Кумб приложил все силы к тому, чтобы скрыть поражение от своего собственного народа: он сделал так, чтобы ни в коем случае не посвящать Милетту в причины своего столь дурного расположения духа; однако его досада переросла в отчаяние, это дурное расположение духа стало переполнять его, прорываться наружу и в конце концов проявило себя в виде яростных восклицаний.
У Милетты состояние ее господина и повелителя вызывало смутное беспокойство, но она не догадывалась о его истинной причине. Опасаясь, как бы не помутился его рассудок, она предложила ему свою помощь, но он отверг ее, и Милетта укрылась на кухне.
Оставшись в одиночестве, г-н Кумб отдался во власть мучительных наслаждений воображаемой мести. В мечтах он видел себя королем, который велит вздернуть без долгих церемоний соседей и пройтись лемехом плуга по этому бесчинному шале; перейдя затем в новый круг фантазий, он вообразил, что стал Робинзоном и перенесся на необитаемый остров вместе со своей любимой смоковницей, садом, домом и Милеттой, превратившейся в Пятницу. Наконец он дошел до того, что стал проклинать пышное цветение на грядке с горохом, ибо это оно, вне всякого сомнения, повлекло за собой столь несносное соседство. То был, конечно, самый неопровержимый довод, который он мог извлечь из беспорядка, внесенного в его мысли всеми этими событиями.
Между тем он вдруг услышал какой-то тихий разговор на кухне. Он осторожно приоткрыл дверь, решительно настроенный сделать строгий выговор Милетте, если она позволила себе принять кого-нибудь без его разрешения.
На одном из стульев, рядом с маленьким креслом, в котором сидела Милетта, он увидел Мариуса, бережно державшего обеими руками руки своей матери и нежно беседовавшего с ней. То был его свободный день, а г-н Кумб сам сделал возможными эти еженедельные визиты Мариуса. И у него не было никакого повода излить на них хотя бы часть той желчи, что так угнетала его.
Господин Кумб это понимал, и тут у него вдруг родилась блестящая мысль.
Он раскрыл свои объятия молодому человеку, почтительно сделавшему шаг ему навстречу, прижал его к своей груди, и улыбка осветила его лицо.
VII ГЛАВА, В КОТОРОЙ АВТОР ВЫНУЖДЕН, К СВОЕМУ БОЛЬШОМУ ОГОРЧЕНИЮ, СОВЕРШИТЬ ЗАИМСТВОВАНИЕ У СТАРИКА КОРНЕЛЯ
Но улыбка лишь на мгновение показалась на устах г-на Кумба. Затем губы его еще плотнее сжались и выражение лица вновь стало серьезным и озабоченным.
Милетту глубоко тронула та нежность, с какой хозяин домика встретил Мариуса. Да и тот был взволнован не меньше, чем его мать.
— Да что с вами? — спросил Мариус.
Молчание г-на Кумба было весьма красноречивым; он заморгал, двигая веками вверх-вниз и пытаясь таким образом выдавить из них слезу.
Если дипломатия считается наукой, то это, без сомнения, единственная, которой владеют без всякого предварительного обучения. Бывший грузчик чутьем понял, что, для того чтобы потребовать от своих подданных жертву, ему прежде всего предстоит всколыхнуть их души в надежде найти мстителя; его самолюбие безропотно согласилось пройти под кавдинским ярмом. Он повалился на стул так, как это сделал бы человек в полном упадке сил.
— Дети мои, — промолвил он, — к чему мне рассказывать нам, что со мной, раз вы не сможете облегчить мои страдания? Я могу вам сказать только одно: если так будет продолжаться, то очень скоро в этом доме вы увидите кающихся грешников.
— Ах, Боже мой, — с мокрым от слез лицом воскликнула Милетта так, как будто она уже увидела труп г-на Кумба на погребальном ложе.
— Да нет, это невозможно, — в свою очередь сказал Мариус, потрясенный как горем своей матери, так и этим страшным пророчеством человека, которого он почитал и любил как родного отца.
— Дети мои, — продолжал г-н Кумб, — душа моя столь опечалена, что я отчетливо вижу: недалек тот день, когда я получу расчет в этом мире и мне надо будет перейти в услужение к тому великому хозяину, что находится на Небесах.
— Что же является причиной этой печали? — спросил Мариус, у которого глаза блестели от слез, а губы дрожали.
— Но, — добавил г-н Кумб, избегая ответа на последнюю реплику, — прежде чем меня, как панцирь морского ежа, выбросят из этого мира, я хочу оставить вам свои последние распоряжения.
Милетта зарыдала с удвоенной силой и заглушила слова своего хозяина. Но голос Мариуса возвысился над рыданиями его матери и последними словами г-на Кумба: сын Милетты устремился к нему навстречу и с той преданностью, в проявлениях которой у жителей юга всегда что-то заимствовано от гнева, Сказал ему:
— Отец мой, у вас нет необходимости давать мне какие бы то ни было распоряжения; если они касаются того, чтобы быть честным и трудолюбивым, то на протяжении долгого времени для меня было достаточно вашего примера, чтобы понять: быть таким — обязанность порядочного человека. Что касается моей любви к матери, то, будь моя мать даже святой, посланной Господом Богом, сердце мое не сможет дать ей любви больше той, какую я ей даю. Если речь идет о сохранении доброй памяти о вас, то легко предположить, что я сберегу по отношению к вам великое чувство признательности. Разве не вы вместе с моей матерью, которую я буду лелеять и почитать, заботились обо мне в моем детстве? А вот что нужно донести до нашего сведения, так это причины вашей печали, о которых мы ничего не знаем, и основания для ваших мрачных предчувствий, ничем не оправданных. Почему вы больше не рассчитываете на нас, отец? И если вас удручает какая-то неприятность, соблаговолите поведать нам о ней. Если понадобится ползти на коленях на Сент-Бом, чтобы молить Бога о нашем здоровье, то мы — моя мать и я — готовы на это.
Слушая Мариуса, г-н Кумб проникся умилением, что случалось с ним редко. Сын Милетты начал одерживать победу над предубеждениями г-на Кумба в отношении мужской красоты. Но не благородство выражаемых Мариусом чувств столь сильно тронуло сердце г-на Кумба — едва ли он поверил в него полностью; услышав энергичный голос молодого человека и почувствовав силу его негодования, бывший грузчик ощутил, что он найдет в юноше Сида Кампеадора, которого он искал, хотя никогда о нем не слышал. На мгновение ему стало немного стыдно от сознания того, что столь вдохновенная преданность проявилась по такому ничтожному поводу; но его полная ненависти антипатия к соседу была намного сильнее этого едва заметного довода разума, и во второй раз за этот день он сгреб Мариуса в охапку и прижал к своей груди.
— Видишь ли, сын, — сказал он, освободив одну из своих рук и подав ее Милетте, тут же покрывшей ее слезами и поцелуями, — этот домик с некоторых пор стал для меня адом; я бы хотел покинуть его и в то же время я чувствую, что умру, если больше не увижу его.
— Но почему же? — перебила его Милетта. — Разве в этом году у вас не было всего, чего только можно пожелать? Разве длань Господня не благословила все, что вы доверили земле? Почему же в вас произошла такая перемена? Ведь всего восемь месяцев тому назад я видела вас таким счастливым, поскольку ничто больше не заставляло вас покидать ваше пристанище ради того, чтобы возвращаться в город?
Спокойным, но торжественным жестом руки г-н Кумб указал на соседнее шале, красная черепичная крыша которого виднелась невдалеке.
Милетта вздохнула; сопоставляя кое-какие обстоятельства, она догадывалась о мотивах дурного расположения духа ее хозяина, ей были понятны его робкие охотничьи занятия, когда он проводил столько времени в ожидании прилета птиц. Мариус же совершенно не был в курсе всех этих обстоятельств, поэтому он с изумлением вопрошающе смотрел на г-на Кумба.
— Да, — продолжал г-н Кумб, — именно в этом секрет моей печали, именно здесь кроется причина моего отвращения к жизни. Кстати, Милетта, я ни в чем не признавался тебе, но, когда я в первый раз увидел рабочих, копающих в песке траншею, какое-то тайное предчувствие сжало мне сердце и подсказало мне, что пришел конец моему счастью; однако я и то время еще не мог предвидеть, что неистовая злоба моих преследователей однажды превратится в оскорбления.
— Так вас оскорбили?! — воскликнул Мариус, кипя от негодования. — Они забыли, что обязаны относиться с уважением к человеку вашего возраста!
Бывшему грузчику не удалось умело скрыть то приятное ощущение, какое вызвало у него страстное желание сына Милетты взять на себя обязанность защитить его; Милетта же подметила радостное волнение, озарившее лицо г-на Кумба; она представила себе, каким будет его замысел, и с материнской заботой, по-настоящему встревоженная, постаралась успокоить своего вспыльчивого хозяина.
Однако она только подлила масла в огонь; чтобы вернуть происходящему его истинные пропорции, непременно надо было отнять у любимого конька г-на Кумба седло и уздечку, позволявшие ему сесть на него, — надо было посягнуть на его собственнические представления, задеть его самолюбие и гордость землевладельца, поставив под сомнение сам смысл его существования. Милетте удалось обратить в подлинную ярость печальное состояние духа, владевшее хозяином с самого начала всей этой сцены.
И, как это часто случается с людьми, обладающими флегматичным темпераментом, г-н Кумб, весь отдавшись чувству гнева, уже не способен был обуздать его. Разбушевавшись из-за этой видимости противодействия гам, где он меньше всего ожидал его встретить, г-н Кумб проявил себя по отношению к бедной Милетте как черствый и жестокий человек: он дошел до того, что упомянул о ее неблагодарности за те услуги, какими, по его словам, он ее щедро одарил.
Мариус слушал г-на Кумба опустив голову; он страдал безмерно, видя, как незаслуженно обижают женщину, которую он любил больше своей жизни; он судорожно вздрагивал всем телом, и крупные горячие слезы текли по его смуглым щекам; однако он испытывал по отношению к г-ну Кумбу такое глубокое чувство уважения, что не решился даже открыть рот, чтобы подать свой голос в ее защиту, и удовольствовался лишь тем, что смотрел на говорившего умоляющими глазами.
Когда г-н Кумб вышел из кухни, оставив там подавленную и жалобно стонущую Милетту, Мариус, как только мог, утешил свою мать и догнал хозяина домика уже в саду, где тот гулял под покровом начинавших сгущаться вечерних сумерек, надеясь отделаться от сожалений, вызванных провалом предпринятой им попытки.
— Отец, — сказал ему Мариус, — надо извинить мою мать: она женщина и, естественно, испытывает чувство страха; я же мужчина и отдаю себя в ваше распоряжение.
— Что ты такое говоришь? — спросил г-н Кумб, совершенно не ожидавший такого крутого поворота фортуны.
— С того времени как я начал понимать значение слов, моя мать, указывая на вас, говорила мне: «Вот тот, кому я обязана жизнью, дитя мое, и я каждый день буду просить Бога, чтобы он позволил тебе сделать для хозяина то же, что тот сделал когда-то для меня. Не удовольствовавшись только спасением моей жизни, он не бросил меня в нужде. И да будет Небо столь справедливо, что позволит нам засвидетельствовать когда-нибудь хозяину нашу признательность». Я был совсем маленьким, когда она говорила так со мной, отец, однако слова эти до сих пор не изгладились из моей памяти, и сегодня я хочу доказать вам, что готов сдержать то обещание, о каком она просила у меня.
Голос юноши был твердым, решительным и уверенным, однако г-н Кумб полагал или хотел полагать, что молодой человек хвастается.
— Нет, — сказал он уже с горечью в голосе, — сейчас твоя мать была права, я виноват в том, что требую уважения и к моей собственности, и к моей персоне, виноват, что позволил подвергнуть себя публичным оскорблениям и удручающим меня унижениям. Зачем же требовать к себе уважения, будучи слишком старым, чтобы командовать? Разве не является простым и естественным тот факт, что молодые люди позволяют себе делать из бедного старика игрушку в своих руках, и не бессмысленно ли для этого человека заставлять их прислушаться к его жалобам? (Господин Кумб совершенно упустил из виду, что сам же выступил подстрекателем упомянутых им событий.)
— Вы оберегали мое детство, — с возросшей энергией заявил Мариус. — Теперь мне надо охранять вашу старость. Тот, кто трогает вас, трогает и меня; тот, кто оскорбляет вас, оскорбляет и меня. Завтра я увижусь с господином Риуфом.
Больше уже г-н Кумб не мог позволить себе сомневаться. Он нашел заступника, и, хотя тот был молод, его отвага вполне могла заставить г-на Кумба надеяться на победу над его врагами.
И в третий раз за этот день он обнял Мариуса. Никогда еще он не проявлял столько нежности по отношению к сыну Милетты. Правда, он впервые в нем нуждался.
— Но только, — сказал молодой человек, освобождаясь от его объятий, — поклянитесь мне никогда больше не быть таким жестоким по отношению к моей матери, когда у нее не будет тут больше меня, чтобы ее утешить.
VIII КАК ГОСПОДИН КУМБ УВИДЕЛ ПРОВАЛ СВОЕГО ПЛАНА МЕСТИ ИЗ-ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВА СЕКУНДАНТА, КОТОРЫЙ НАНЕС УДАР В САМОЕ СЕРДЦЕ ИЗБРАННОМУ ИМ ЗАСТУПНИКУ
Квартира и контора соседа г-на Кумба располагались на улице Паради, то есть на одной из крупных артерий Марселя, выходящих на улицу Канебьер.
Мариусу без труда удалось узнать адрес личного врага его благодетеля — этого дон Гормаса, которого ему необходимо было наказать за нанесенные им г-ну Кумбу оскорбления. Он оказался в одном из тех темных проходов, что встречаются как в старом, так и в новом Марселе, поднялся по узкой лестнице и остановился на втором этаже, где, как ему сказали, можно было найти того, кого он искал. И действительно, на дверях, открывавшихся по левую руку от него, он заметил две медные дощечки, врезанные в дерево; на одной из них была выгравирована надпись: «Жан Риуф и сестра, комиссионеры и судовладельцы», а на другой — «Контора и касса». Повернув ручку двери с первой надписью, он вошел внутрь помещения.
Надо сказать, что южане с большим трудом воспринимают ссоры, происходящие без шума; им всегда перед началом боя необходимо, чтобы труба хотя бы немного возвестила о нем. Мариус был уроженец этого края и, несмотря на свою молодость, успел усвоить присущие южанам привычки. В течение целой ночи и во время поездки из Монредона в Марсель он делал все, чтобы поднять свой моральный дух, и так в этом преуспел, что ни один командир не нашел бы к чему придраться ни в его внешнем виде, ни в выражении его лица. Редингот его был застегнут до подбородка, волосы были слегка зачесаны на одну сторону, брови сдвинуты, а ноздри раздувались и губы дрожали именно так, как подобает поборнику справедливости.
— К господину Жану Риуфу! — воскликнул он весьма вызывающим голосом и пересек порог двери, не снимая шляпы.
Один из двух служащих, работавших за проволочной загородкой с окошечками, оторвал свой нос от пачки коносаментов, которые он в это время заполнял. Все в пришедшем — наружность, интонация голоса, поведение — вызвали его удивление, но он несомненно подумал, что его время слишком драгоценно, чтобы хотя бы частицу его уделить посетителю и обратить его внимание на необходимость соблюдать приличие и элементарную вежливость, снимая при входе в помещение шляпу; вот почему, сделав Мариусу кончиком пера знак не шуметь и подождать, он продолжил свою работу.
Мариус же слишком страстно желал положить конец распре г-на Кумба, чтобы начинать самому еще одну ссору. Он закусил удила, почти готовый обидеться на молчание служащего своего будущего противника, и, в состоянии гнева, которому был обязан волнению своей крови, пообещал себе непременно посчитаться с этим человеком.
Чтобы чем-то занять себя, Мариус осмотрелся: помещение, в котором он очутился, странным образом контрастировало с той сценой, какую он хотел разыграть на этом театре. За те семнадцать месяцев, что ему пришлось работать, он перебывал во многих конторах, но ни разу за все это время не встретил такой, где бы, как в этой, безукоризненный порядок был присущ всему; где бы чистота представала такой привлекательной, где бы своеобразный вкус обнаруживался даже в том, как продуманно были расположены образцы товаров, которые заполняли застекленные шкафы, и бумаги, которыми были забиты этажерки с отделениями для папок. Царившее здесь спокойствие, оберегаемый цветными шторами полумрак, молчание обоих служащих и их усердие придавали этой комнате сходство с храмом труда и мира, так что Мариусу не без усилий удавалось поддерживать в себе тот накал возбуждения, какого он достиг, одновременно разгорячая как кровь в собственных жилах, так и свою почтительную любовь к г-ну Кумбу.
К счастью для дела, защиту которого возложил на себя Мариус, дверь кабинета открылась и оттуда появился какой-то господин. Малообщительный приказчик по-прежнему с помощью своего пера, служившего ему телеграфом для его связей с другими людьми, указал Мариусу, что ему следует войти в кабинет, откуда только что вышел этот господин.
Молодой человек, низко надвинув на лоб шляпу, вновь придал своему лицу прежнее выражение, которое так смягчило предварительное ожидание, и прошел в кабинет. Он сделал шаг вперед и пересек порог двери, но, не успев оглядеть кабинет, отпрянул на два шага назад и с такой поспешностью поднес руку к голове, чтобы поздороваться, что его головной убор, выскользнув у него из рук, покатился по калькуттским циновкам, устилавшим паркетный пол.
Вместо г-на Жана Риуфа, вместо заносчивого молодого человека, к встрече с которым он проделал столь грозные приготовления, Мариус увидел перед собой очаровательную молодую девушку; в комнате она была одна.
Ей могло быть года двадцать четыре или двадцать пять; она была высокого роста, худощавая и гибкая; ее волосы, того золотистого цвета, который с такой любовью воспроизводили на своих полотнах художники Венеции, ниспадали ей на затылок, как шиньон, и их вряд ли можно было удержать даже обеими руками; рыжеватые отблески волос, блеск бровей, сияние иссиня-черных глаз, алый цвет губ еще больше подчеркивали белизну ее кожи.
Разумеется, Мариус не оценил ни одной из этих подробностей; он не заметил простоту ее наряда, не соответствовавшего особенности ее красоты; он не заметил ни ее нежной улыбки, ни выражения доброжелательности на ее лице, ни ободряющего жеста, каким она пригласила его сесть; он находился в состоянии такого сильного потрясения чувств, какое должен испытывать какой-нибудь мелкий корсар, преследующий, как он полагает, мирное торговое судно и внезапно обнаруживающий, что оно поднимает флаги расцвечивания и открывает грозные ряды батарей. Мариус мог уже быть храбрым, но был еще слишком молод, чтобы не быть застенчивым. Ему показалось, что гораздо страшнее было встретиться лицом к лицу с этой красивой особой, чем с противником, которого он искал. И он неловко, принужденно скомкал свою шляпу, пробормотал несколько слов и уже готов был убежать, если бы чистый, звонкий голос молодой девушки, проникший в самое его сердце, не напомнил ему о цели визита.
— Сударь, я слышала, как вы только что спрашивали о господине Жане Риуфе, — сказала она.
Мариус покраснел, вспомнив, каким угрожающим голосом он заговорил, входя в контору, отделенную от кабинета лишь перегородкой.
Он молча поклонился.
— Сударь, его сейчас нет, — добавила девушка.
— В таком случае, мадемуазель, прошу меня извинить, я приду снова, я приду опять.
— Сударь, должна вам заметить, что вы весьма рискуете приходить напрасно много раз. Господин Риуф редко бывает здесь; но, если вы пожелаете сообщить мне, о чем идет речь, я, вероятно, смогла бы дать вам достаточно определенный ответ, поскольку именно я веду все дела в торговом доме.
— Мадемуазель, — возразил Мариус (его замешательство лишь усилилось от самоуверенности и непринужденности молодой девушки), — поскольку данный вопрос сугубо личный, мне непременно хотелось бы самому побеседовать с господином Риуфом.
— Весьма вероятно, что это в равной степени касается и меня, сударь. Простите мне мою настойчивость: она продиктована исключительно моим желанием избавить господина Риуфа от неприятностей, затруднений или еще того хуже. Он, несомненно, будет обеспокоен каким-нибудь долговым обязательством по отношению к вам или вашим родителям, — продолжала девушка с несколько погрустневшим выражением лица. — Вы можете доверительно говорить со мной, сударь; если ваше долговое требование законно, в чем лично у меня нет сомнений, я сделаю так, чтобы отпустить вас довольным.
Мариус понимал, что он не должен ничего сообщать о цели своего визита этой девушке, которая, судя по названию торговой фирмы, написанному на входной двери, должна была, как ему показалось, приходиться сестрой врагу г-на Кумба; но он столь простодушно отдался счастью видеть и слышать ее, что забыл о главном условии соблюдения тайны — о необходимости удалиться, чтобы сохранить ее; вместо этого он продолжал стоять перед девушкой, словно онемев от восторга.
И пока мадемуазель Риуф в ожидании его ответа молчала, Мариус на мгновение пришел в замешательство, а затем, не владея собой, ответил с горячностью:
— Мадемуазель, долг, который я явился предъявить господину Риуфу, не из тех, что оплачивают через кассу.
Ничто не встречается чаще, чем несоответствие между тем, что человек думает, и тем, что он говорит. Испытывая последний прилив воинственного жара, внушенного ему накануне г-ном Кумбом, Мариус увлекся цветистостью фразы и, прежде чем он успел договорить ее до конца, уже горько сожалел об этом. Девушка побледнела как смерть, ее длинные ресницы стали медленно опускаться на глаза и на мгновение почти совсем закрыли их, как будто для того, чтобы скрыть их выражение. Она поднялась и, опираясь одной рукой на край письменного стола и изо всех сил стараясь не выдать своего волнения, произнесла:
— Сударь, что бы вы ни собирались потребовать от господина Риуфа, вы заранее можете быть уверены в том, что он ответит на это с честью. Соблаговолите сообщить мне ваше имя и час, когда вам будет угодно еще раз прийти сюда, и тогда у вас появится уверенность, что вам не придется тратить время понапрасну.
Мариус стоял как вкопанный. Страдание, сквозившее в словах девушки, тронуло его, однако еще более сильное впечатление на него произвела ее гордая и мужественная покорность судьбе.
— Мадемуазель, — с почтительным смирением ответил он на этот последний вопрос, — не будете ли вы так любезны передать господину Риуфу, что я приходил от имени господина Кумба и что я приду снова завтра.
— От имени господина Кумба? Того самого господина Кумба, что проживает в Монредоне в домике рядом с шале, построенном там моим братом? — воскликнула мадемуазель Риуф, устремляясь к двери, остававшейся до сих пор открытой, и поспешно закрывая ее.
— Вы совершенно правы, мадемуазель, — ответил Мариус, — я сейчас представляю здесь именно интересы господина Кумба.
— Вы его сын, не так ли?
Мариус молча кивнул. Его собеседница жестом руки пригласила его сесть и продолжила:
— Вы могли заметить только что, сударь, как, будучи всего лишь женщиной, в трудных и сложных обстоятельствах я смогла обуздать свою сестринскую чувствительность, побороть слабость, присущую нашему полу, и одержать верх над моей неприязнью к положению, когда жизнь двух храбрых людей вверяется воле случая; но тут ситуация совершенно иная. Из услышанного мною рассказа обо всем происшедшем между вашим отцом и моим братом я сделала вывод, что вся вина должна быть отнесена на счет моего брата. И еще до сегодняшнего дня я высказала ему свое порицание. Вы пришли, чтобы потребовать удовлетворения за его поведение, не так ли?
Мариус колебался с ответом.
— Отвечайте, сударь, я вас умоляю дать ответ!
— Именно так, мадемуазель, — пробормотал молодой человек.
— В таком случае, сударь, я прошу вас оказать мне честь и взять меня в ваши секунданты.
— Мадемуазель, — возразил Мариус, ошеломленный как этим предложением девушки, так и ее мужественным и решительным видом, — каким бы лестным для меня ни было ваше предложение, оно, однако, в случае моего согласия содержит некоторую опасность. Ваш брат не преминет предположить, что мое намерение получить удовлетворение за все оскорбления, которым с его стороны на протяжении двух месяцев подвергался мой отец, не было серьезным. Я благодарю вас, но, простите, вашего предложения принять не могу.
— Я сделаю так, чтобы ваши подозрения не оправдались, сударь, и очень прошу вас оказать мне эту важную услугу.
— Мадемуазель, в таком случае соблаговолите объяснить мне причины, побуждающие вас столь настойчиво обращаться ко мне с этой просьбой.
— Их несложно понять: мой брат кинопат, и я об этом знаю; ничто не может извинить его за те оскорбительные шутки, какие он позволил себе по отношению к господину Кумбу, но я очень сомневаюсь в том, что искупить их он может только собственной кровью, и полагаю, что с его стороны будет достаточно выразить искренние сожаления и извинения по поводу случившегося. Если эти извинения потребует от него посторонний, то какими бы почтительными они ни были, будучи предназначены человеку возраста и склада характера господина Кумба, брат ни за что не захочет именно так разрешить данный вопрос; перед сестрой же ему нечего стыдиться, и я думаю, что, имея на него достаточно влияния, я добьюсь его согласия на эту жертву суетного самолюбия.
— Мне бы не хотелось вам отказывать, мадемуазель, — сказал Мариус, с большим трудом противясь настояниям девушки. — Но подумайте: вина за эту ссору целиком лежит на вашем брате, о чем я с сожалением вынужден вновь напомнить вам. И мне не подобает заранее открывать путь удовлетворению такого рода; это будет выглядеть так, что я испугался.
То, с каким волнением Мариус произнес последние слова, вызвало улыбку мадемуазель Риуф.
— Нет, сударь, — отвечала она. — Поскольку мой брат ничего не ведает о ваших претензиях, он от меня первой узнает, сколько просьб и настояний мне понадобилось, чтобы вы решили предоставить мне возможность мирно покончить с этим делом. Кстати, сударь, по-моему, вы еще так молоды, что наверняка успеете доказать тем, кто позволил себе в этом усомниться, что твердость вашего сердца не разнится с отважной дерзостью вашего взгляда.
Мариус вновь покраснел, услышав такой комплимент, доказывавший, что если он теперь с любопытством изучал красивую внешность девушки, то и она бросала на него взгляды, оценивая внешние достоинства своего собеседника.
— Мадемуазель… — вновь заговорил он, явно колеблясь с окончательным решением.
— Итак, сударь, — с живостью прервала его мадемуазель Риуф, — доверие за доверие. Я знакома с вами лишь несколько минут, но, учитывая серьезность обстоятельств, в каких мы с вами находимся, и принимая во внимание просьбу, с какой я к вам обратилась, полагаю, что только выиграю, если вы меня лучше узнаете, и считаю нужным объяснить вам, почему вы видите меня в этой конторе с пером в руке, посреди всех этих образцов хлопка и сахара, уткнувшуюся в гроссбух, а не у себя в гостиной с дамским рукоделием на коленях. Мой брат моложе меня на год; когда мы остались без родителей, ему было двадцать лет, мне — двадцать один, и мы с ним оказались одни во главе торгового дома, требовавшего от нас великого усердия, чтобы сохранить его процветание, которому до тех пор все благоприятствовало. К сожалению, во время продолжительной болезни нашего отца присмотр за моим братом, обязательный по отношению к человеку его возраста, был несколько ослаблен, и, когда мы осиротели, брат уже приобрел вкус к независимости и развлечениям, что трудно сочетается с обязанностями коммерсанта. Я пыталась несколько раз делать ему внушения, но я люблю его, сударь, и потому — какими бы ни были те ошибки, за которые я его упрекала, мне не удавалось придать моему лицу подобающее случаю выражение строгости. Дела наши тем временем заметно пришли в упадок, и мне уже виделась пропасть, разверзшаяся под ногами несчастного брата, как вдруг Бог внушил мне спасительную мысль: я решила отказаться от светской жизни и принести в жертву свое личное счастье, ощущая, что, поскольку авторитета мне в моем возрасте не хватало, одной моей нежности к Жану будет недостаточно для исполнения материнских обязанностей, которому я с жаром отдалась. Любой ценой требовалось сохранить богатство, сделавшееся столь необходимым для удовлетворения праздных склонностей моего брата, и я посвятила себя решению этой задачи: я встала во главе нашего торгового дома. Не буду рассказывать вам о достигнутых мною на этом поприще результатах, сударь, хотя сама я ими немного горжусь, но скажу вам, что мне удалось внушить моему брату доверие, а это позволяет мне всегда знать, что у него на сердце. Его прегрешения, я полагаю, лишь следствие избытка юношеского пыла; он уже прислушивается к моим советам и очень скоро, я надеюсь, будет следовать им. Как я вам успела сообщить, от него я услышала рассказ о том, что произошло в Монредоне. Мои упреки, высказанные ему, опередили ваши жалобы; но мы были не одни, и я не могла на глазах у служащих побранить его за столь непристойное поведение, что я очень скоро сделаю. Это мой брат, сударь, он мне больше чем брат: он мой ребенок. Вообразите себе мои страдания при мысли о том, какие ужасные последствия могут иметь его легкомысленные сумасбродства; предоставьте мне возможность отвлечь его от них, я снова умоляю вас… Пусть ваш многоуважаемый отец объявит о том, что он удовлетворен, ведь это все, чего вы хотите? Пусть слово господина Риуфа станет для него гарантией на будущее от этих омерзительных шуток, ведь это все, чего вы хотите? Я обещаю вам все это;
но во имя вашей матери, во имя всего, что вы любите, сделайте так, чтобы я не увидела, как жизнь моего брата подвергнется опасности по столь незначительному поводу.
Мадемуазель Риуф могла бы говорить так еще долго, и Мариус не прервал бы ее, настолько он упивался звуками ее голоса и созерцанием ее очаровательного лица. Ответить отказом на ее мольбы было уже невозможно. Рассказ, только что услышанный им от девушки, окончательно завоевал сердце Мариуса и взбудоражил его ум. Видя ее такой прекрасной и в то же время такой доброй, нежной и трогательной в своей самоотверженности, он задавал себе вопрос, как могло так случиться, что весь мир не лежит у ног этого восхитительного создания. С присущей южанам восторженностью, едва скрывавшей его природную застенчивость, он испытывал огромное желание не только принести в жертву ради нее жалобы, с какими он пришел сюда, и всю свою жизнь, если она будет в ней нуждаться, но и заверить ее, что лишь одного ее слова достаточно, чтобы г-н Кумб забыл о своих жалобах (это, впрочем, было слишком самоуверенно с его стороны).
— Мадемуазель, — ответил он, — я буду беспрекословно следовать вашим указаниям.
— Не волнуйтесь за исход дела, сударь. Куда я должна написать, чтобы известить вас об этом?
Мариус назвал ей адрес своего хозяина. Мадемуазель Риуф заметила ему, что звание, которое она носит начиная с этого часа требует, чтобы она пожала руку того, кому она будет служить секундантом. Это пожатие довершило потрясение молодого человека. Собираясь выйти из конторы, он, к изумлению служащих, наткнулся на окно, приняв его за дверь. Оказавшись на улице, он долго стоял и рассматривал дом, где жила мадемуазель Риуф: ему казалось, что стены, скрывавшие такое дивное сокровище, должны были быть совершенно непохожи ни на какие другие.
Вечером рассыльный из конторы принес ему письмо.
Мариус бросил беглый взгляд на адрес и тут же узнал тот мелкий, изящный почерк, который он видел на страницах гроссбуха торгового дома Риуфа и сестры. Он схватил письмо с такой жадностью, с какой скряга бросается на найденное им сокровище, с какой потерпевший кораблекрушение вцепляется в поданный ему кусок хлеба; затем он убежал на мансарду, служившую ему жилищем, закрылся там и принялся за чтение.
Ему уже казалось, что посторонние глаза своим взглядом осквернили этот почерк.
Когда Мариус стал открывать письмо, его пальцы дрожали так, что какое-то время ему не удавалось распечатать конверт, и, прежде чем преуспеть в этом, он разорвал письмо пополам.
Мадемуазель Риуф писала ему:
«Сударь, не знаю, будете ли Вы довольны мной, но лично я полностью удовлетворена своими успехами! Мне удалось успешно устроить дело, которое Вы соблаговолили поручить мне. Завтра, после биржи, я буду сопровождать г-на Риуфа: он отправится в Монредон с целью сообщить г-ну Кумбу о своем самом искреннем раскаянии. Надеюсь, что отныне обитатели шале и соседнего домика будут жить в таком полном согласии друг с другом, что нам придется благодарить судьбу за прежнее разногласие, которое заставит обе наши стороны поддерживать впредь добрососедские отношения.
Мадлен».
Мариус поднес письмо к губам и в течение всей ночи, когда он то ли спал, то ли бодрствовал, образ той, которую он впервые увидел этим утром, следовал за ним повсюду, как верный и надежный спутник.
IX ГЛАВА, В КОТОРОЙ ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО ГОСПОДИНУ КУМБУ НЕ БЫЛО СВОЙСТВЕННО ЗАБЫВАТЬ НАНЕСЕННЫЕ ЕМУ ОСКОРБЛЕНИЯ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВОСПОСЛЕДОВАЛО
Прошли всего одни сутки, и жажда мести, обуревавшая г-на Кумба, произвела полный переворот в склонностях и привычках этого человека.
С тех пор как он увидел в сыне Милетты героя, способного победить или стоически умереть, бывший грузчик, всегда в высшей степени миролюбивый, внезапно стал необычайно воинственным.
В то утро, когда Мариус покинул его, отправившись на розыски г-на Риуфа, г-н Кумб совершил дерзкую вылазку в собственный сад — с ружьем за плечом, распрямив спину, обычно согнутую к земле привычкой к тяжелому труду и огородничеству. Гордый собой, он прогуливался по аллее, откуда, как ему казалось, его было невозможно не увидеть из шале; время от времени он останавливался, взводил курок своего кремневого ружья и бросал угрожающие взгляды на ставни ненавистного дома.
Ставни эти были закрыты, и из дома соседа не доносилось ни малейшего звука по той простой причине, что хозяин уехал в город, а потому только там его мог встретить Мариус; однако воинственный настрой г-на Кумба не позволял ему удовлетвориться столь очевидным предположением; бывший грузчик предпочитал убеждать себя, что его врага заставили быть осторожным действия того, кто составлял и авангард, и основные силы, и резерв собственной армии.
В то время года семена скороспелых томатов и гороха уже были посеяны, и у г-на Кумба было немного работы в саду, однако, несмотря на проливной дождь, он проводил там весь день и не желал покидать занятую им позицию.
Господин Кумб проявлял сильное беспокойство; он с огромным нетерпением ждал новостей от Мариуса и вечером, видя, что тот не возвращается, начал опасаться, уж не покинуло ли мужество его заступника; и когда Милетта, взволнованная не меньше, чем он (хотя основания для беспокойства у обоих были совершенно различные), рассказала ему о своих дурных предчувствиях, он успокоил ее в выражениях, не слишком лестных по отношению к тому, кого он превозносил еще накануне, и, казалось, был настроен вернуться к своему первоначальному мнению о красивых мужчинах.
Однако ему приснился сон, изменивший его настроение: ему привиделось, что он стал одним из четырех сыновей Эмона (история о них запомнилась ему с юности) и одним ударом своей ужасной кривой турецкой сабли рассек тело г-на Риуфа сверху донизу, изрубил всех членов его сообщества бесов и чертовок, разрушил шале и обломки его побросал в воды залива.
Этот кошмар настолько глубоко запечатлелся в мозгу г-на Кумба, что, едва проснувшись, он поспешно оглядел свою комнату, настолько велика у него была уверенность, что там должно было лежать распростертое тело его врага; но он заметил лишь старую рогожу: некогда в ней был доставлен тюк инжира из Смирны, а ныне она служила бывшему грузчику прикроватным ковриком; он поднял голову и встретился взглядом с Мариусом, открывшим в эту минуту дверь в комнату. Господин Кумб уловил на губах молодого человека улыбку и принял ее за доказательство того, что его сон вполне мог бы стать явью.
В возбуждении он забыл о всяких правилах приличия и стремительно вскочил с постели, не тратя времени на то, чтобы привести в порядок свое несколько легкомысленное одеяние.
— Ну что? — воскликнул он таким тоном, каким Александр Великий должен был задавать вопросы своим полководцам.
— Господин Риуф в сопровождении своей сестры будет здесь в три часа дня, с тем чтобы выразить сожаление по поводу случившегося и принести вам свои извинения, — ответил Мариус с той же улыбкой на лице.
Лицо г-на Кумба омрачилось.
— Извинения? — переспросил он. — На что нам его извинения? Я ведь хотел, чтобы ты взял на себя труд отомстить за обиды, которыми он меня измучил, и извинений в данном случае будет недостаточно.
— Однако… — начал было Мариус, придя в полное замешательство.
— И никаких «однако», — резко возразил г-н Кумб, не давая ему даже закончить начатую фразу. — Порядочные люди допускают извинения в делах чести не более, чем смягчающие обстоятельства в судебной тяжбе. Однажды я лично принимал участие в суде присяжных, и знаешь, какие смягчающие вину обстоятельства я тогда допускал, а? Смерть, смерть, ничего, кроме смерти, — другого я не знаю; все остальное, Бог мой, это лишь малодушная отговорка или потворство преступлению.
Мариус побледнел не только из-за оскорбления, нанесенного ему вспыльчивым стариком, но из-за боли, которую он испытывал, видя, как улетучиваются надежды, лелеянные им уже несколько часов.
— Извинения, — продолжал г-н Кумб, — извинения! Следовало подумать, прежде чем издеваться над порядочным человеком, тогда бы не пришлось прибегать сейчас к такой пошлости, как извинения, которыми я, со своей стороны, не желаю довольствоваться.
Мариус хотел было что-то сказать, но г-н Кумб не позволил ему этого сделать. Он ходил из угла в угол по своей тесной комнате, издавая яростные возгласы и так сильно размахивая руками, что это угрожало одержать верх над упорством, с каким его единственная одежда оберегала его стыдливость.
Внезапно он резко остановился перед Мариусом, в ярости схватил свой ночной колпак, покачивания кисточки которого никак не соответствовали наигранности происходящего, и швырнул его на пол.
— Ну-ка, посмотрим, — воскликнул г-н Кумб, — снесет он, по крайней мере, свой омерзительный дом?
— Но почему господин Риуф снесет дом, строительство которого обошлось ему столь дорого?
— Почему? Да потому, что его дом мешает мне, потому, что он заслоняет мне вид, потому, что он преграждает путь ветру с открытого моря, превращает мой дом в пекло, да потому, что это слишком отвратительный предмет, чтобы постоянно иметь его перед глазами! Разве этих причин недостаточно, а?
Раскрыв от изумления рот, Мариус слушал его, задаваясь вопросом: а не стоит ли послать за врачом, с тем чтобы пустить кровь отцу, впавшему в бешенство?
— Ах, черт побери! — продолжал тот. — Ну-ка, расскажи мне в двух словах, как все происходило, что было тебе сказано и что ты сделал сам? Их ввели в заблуждение твоя молодость и твоя необычная манера держать себя, я это отлично понимаю — разрази меня гром! — как и то, что по части мужества ты их обставил. Скажи мне все, мужчина, и я возьму на себя труд вернуть дела на правильный путь.
Задача, поставленная г-ном Кумбом, была слишком затруднительна для Мариуса; прием, оказанный хозяином деревенского домика тому, что сам молодой человек расценивал как триумф, а также ругательства, какими г-н Кумб, против своего обыкновения, сдабривал свою речь, успели внести в мысли Мариуса некую путаницу; но, когда он понял, что от него требуется либо солгать, либо признаться своему приемному отцу в миротворческом вмешательстве мадемуазель Мадлен, когда он задрожал от страха при одной мысли, что упоминание о ней даст возможность прочитать по его лицу все, что творилось в его душе, — путаница в голове Мариуса обратилась в полное замешательство и все его мысли пустились в столь беспорядочное бегство, что он не смог догнать ни одну из них; Мариус стал запинаться, что-то забормотал, затрепетал и понес какой-то вздор, чем окончательно вывел из себя г-на Кумба.
Заподозрив что-то неладное, г-н Кумб с новой энергией занялся разбирательством; он измучил Мариуса вопросами; он донимал его, он загонял его в тупик, он сбивал его столку неожиданными подвохами, причем проделывал все это так упорно и умело, что по кускам восстановил в конце концов более или менее точную картину произошедшего между его приемным сыном и мадемуазель Риуф.
Мариус стоял перед ним бледный и дрожащий, как преступник перед судьей, и его взгляд не мог выдержать того блеска, какой приняло обычно тусклое и безжизненное выражение глаз г-на Кумба.
— Разрази меня гром! — воскликнул тот. — Я всегда говорил, что, раз запахло буйабесом, значит, рыбка где-то недалеко; как только я увидел, что дело, которое было столь просто закончить, приняло подобный оборот, я мог поклясться, что в него вмешалась бабенка. Ах, мой мальчик, ты позволил соблазнить себя этой девчонке, которая, быть может, приходится ему такой же сестрой, как и мне. Черт побери! Да это какая-нибудь потаскуха; он заставил ее сыграть эту роль для того, чтобы посмеяться над тобой, так же как он смеется надо мной!
— Не верьте этому, отец, — сказал Мариус, в котором зарождавшаяся любовь уже готова была смело бороться с опасениями г-на Кумба. — Мадемуазель Риуф — достойная молодая особа. Если б вы только видели ее в конторе так, как видел ее я, в окружении служащих, если б вы только слышали ее…
— Немедленно замолчи, я тебе говорю, замолчи, иначе я тебя прогоню! Они хотят сыграть со мною комедию, а ты будешь их соучастником. И я бьюсь об заклад, что если они хотят прийти сегодня вечером ко мне домой, то для того, чтобы попотчевать меня какой-нибудь скверной шуткой из числа их бесовских выдумок! Пойди и скажи им, что меня вовсе не интересует их визит; что я не нуждаюсь ни в их извинениях, ни в их сожалениях и придаю им значение не больше, чем дынной корке; что я, в отличие от тебя, не флюгер из перьев, поворачивающийся под дуновением ветра; что я их ненавижу за причиненное мне зло, и его нельзя загладить несколькими словами; что если они только осмелятся явиться в мой дом, я направлю свое ружье на первого, кто дотронется до ручки моей двери.
Ничто не является столь заразительным в этом мире, как чувство гнева. Господин Кумб и так уже в высшей степени оскорбил сына Милетты, обрушившись на ту, что с недавних пор стала предметом его обожания; теперь его возбуждение привело к тому, что Мариус потерял самообладание, сохраняемое им до последней минуты, и он ответил, что после благожелательного приема, оказанного ему мадемуазель Риуф, он считает своим долгом ни в коем случае не брать на себя подобное поручение.
— Да уж! — с горечью в сердце воскликнул г-н Кумб. — Напрасно изобретать различные соусы для радужного губана, ведь, какой бы красивый он ни был на вид, рыба эта все-таки дрянная и ее зелено-оранжевая чешуя не придает ей хорошего вкуса; Господь всегда одаривает внешней красотой в ущерб добросердечию: я оценил тебя правильно! Не понимаю, как я мог даже на мгновение заблуждаться на твой счет. Ты встаешь на сторону моих врагов — оставайся с ними, несчастный, и прочь от меня! Уходи и питай надежду, что в течение двадцати лет они, так же как я, будут давать тебе хлеб насущный! Уходи же к тем, кому ты меня предпочел! Впрочем, разве я так уж нуждаюсь в тебе?! Разве я не мужчина, а? Не мужчина, способный, несмотря на свой возраст, заставить уважать себя и наказать тех, кто его оскорбляет?!. Ха-ха-ха! — как-то судорожно засмеялся бывший грузчик. — И пусть они не надеются, что кривлянья их попугаихи помешает мне исполнить свой долг!
Господин Кумб почти выбился из сил. И чем реже бывший грузчик оказывался во власти очередной вспышки гнева, тем сильнее проявлялся этот гнев, тем быстрее он должен был довести г-на Кумба до изнеможения; последнюю фразу он сумел произнести лишь сделав над собой большое усилие, а последние слова его уже было совершенно невозможно разобрать. Он опустился на кровать, на спинку которой до сих пор опирался, его губы посинели, в то время как лицо стало мертвенно-бледным, и, задыхаясь, он упал на матрац.
Громкий голос хозяина уже на протяжении некоторого времени привлекал внимание Милетты: находясь на лестнице, ни жива ни мертва, она прислушивалась к нему; на крик, вырвавшийся из груди Мариуса, когда тот увидел г-на Кумба, который оседал на кровать, она вбежала в комнату и поспешила оказать ему помощь.
Как только она заметила, что тот начинает приходить в себя, она увлекла Мариуса за собой на лестницу.
— Удались отсюда, дитя мое, — сказала она ему, понизив голос. — Не надо, чтобы он обнаружил тебя здесь, когда к нему снова вернется сознание: твое присутствие может вызвать у него новую вспышку гнева, а гнев этот приводит меня в ужас тем более, что я не припомню, приходилось ли мне когда-нибудь видеть его в подобном состоянии. И пусть, несмотря на то что сейчас произошло, в твоем сердце не останется горечи; Господь часто испытывает нас, посылая несчастья, однако мы всегда обращаемся к нему лишь для того, чтобы возблагодарить за его благодеяния. Именно так следует поступать по отношению ко всем тем, кто нас любит, дитя мое, и помнить лишь доброту, проявленную ими к нам. Я услышала только последние слова господина Кумба; не знаю, что произошло между вами, но не думаю, как он того опасается, что ты примешь сторону его врагов. Ты не имеешь права забывать, сколько доброты и сочувствия он проявил к твоей матери в то время, когда все покинули ее; кстати, те, что столь сильно изменили человека, которого я всегда знала как кроткого и миролюбивого, не иначе как люди злые.
Мариусу очень не хотелось, чтобы у матери оставалось дурное мнение о той, что лично на него произвела столь сильное впечатление, однако донесшийся до них голос г-на Кумба хотя и едва внятно, но властно позвал Милетту, и она, нежно обняв сына, тотчас оставила его.
С тяжелым сердцем и со слезами на глазах Мариус покинул деревенский домик; за ночь воображение молодого человека, истинного южанина, завело его очень далеко. Ему было девятнадцать лет, а в этом возрасте препятствия, связанные с общественным и имущественным положением, не мешают полету счастливых несбыточных мечтаний, и он нежно лелеял эти сладкие надежды; он уже видел, как согласно желанию Мадлен, выраженному в ее письме к нему, между обитателями обоих домов установлены повседневные добрососедские отношения, и под покровом этих грез зарождавшаяся, по его ощущениям, сердечная страсть к девушке стала казаться ему разделенной любовью. Но гнев, выплеснутый злопамятным г-ном Кумбом, дохнул на этих очаровательных призраков, населявших его мечты, и разогнал их. Выйдя из испытываемого им состояния опьянения, он очутился в мире, казавшемся ему совершенно незнакомым, с действительностью, весьма удручавшей его. Вновь овладев собою, он оценил то расстояние, что разделяло его и мадемуазель Мадлен, и впервые за последние сутки вспомнил о том, кто он такой, вспомнил о своем происхождении, о незначительном общественном положении бывшего мастерового, чье имя он носил, а также о скромном будущем, к которому чувствовал себя приговоренным.
У Мариуса было достаточно величия души, чтобы перед лицом несбывшихся надежд не стыдиться своего низкого происхождения; достаточно благородства чувств, чтобы не обвинять ни тех, кто дал ему жизнь, ни даже судьбу; его сердце обливалось кровью, он страдал, но не испытывал ни гнева, ни отчаяния.
Признав свои ошибки и заблуждения, он с мужской твердостью, редко встречающейся у людей его возраста, тотчас покаялся в своих самонадеянных надеждах; он решил собрать все свои силы и мужество, чтобы погасить едва родившуюся любовь, казавшуюся ему безрассудной, и поклялся самому себе изгнать из своих мыслей все, что напоминало ему о Мадлен, полагая, что тем самым победит власть, какую она уже возымела над его сердцем.
Правда, принять такое решение было гораздо легче, чем привести его в исполнение. Мариус искал, что могло бы его отвлечь и изгладить из памяти уже запечатлевшийся там очаровательный образ, но не находил ничего.
Напрасно он пытался восхищаться морем, глядя на него с оконечности несравненного бульвара, который все называли Прадо, морем спокойным и искрящимся и лучах прекрасного осеннего солнца; напрасно он вызывал к споен памяти воспоминание о Милетте, повторяя самому себе, что бедная женщина нуждается в том, чтобы ей были отданы все ласки ее сына; напрасно он старался забыться с помощью других впечатлений, переключая свое внимание на пешеходов, лошадей и экипажи, которые сновали вокруг него, хотя и был ранний час.
Как бы ни была крепка его воля, мысли о Мадлен одерживали верх над всеми другими, и напрасно он пытался избавиться от них: они не отступали от него ни на минуту. Мариус не мог ни смотреть на что-либо, ни восхищаться чем-то, ни желать чего бы то ни было без того, чтобы она не занимала большую часть его мыслей; если, разглядывая огромные платаны, он размышлял о предстоящей весне, то мечтал лишь о том, как было бы приятно прогуляться вместе с девушкой в их тени, когда они вновь оденутся в свой летний наряд; если голубое море казалось ему прекрасным, то он представлял себе, как чудесно было бы скользить по его волнам наедине с той, которую он любил, и там, в этом возвышенном уединении, в этой необъятности, приближающей вас к Богу, снова и снова внимать клятвам в любви! И даже мысль о Милетте стала предлогом еще раз вспомнить о Мадлен. Он думал о радости, о гордости своей матери в тот миг, когда он представит ей столь превосходную невестку, а также о тех счастливых днях, какие этот союз сулит ее старости.
Мариуса охватил ужас от того, что ему самому казалось малодушием, достойным осуждения, и смятение его стало еще сильнее. Он весь напрягся от той борьбы, какую тщетно вел с самим собой; наконец ему удалось изгнать из головы опасный и очаровательный образ мадемуазель Риуф, притупить мысль, возвращавшую его к девушке, погасив все мысли и прибегнув к тому роду умственного оцепенения, которое не есть ни явь, ни сон; но тогда вдруг ему показалось, что он слышит у самого уха голос, который повторяет имя, ставшее для него поэзией. Голос этот шептал ему: «Мадлен! Мадлен! Мадлен!» Он почувствовал, как сердце его в восхищении забилось и горячая кровь быстрее побежала по жилам.
Молодой человек испугался. Какое бы уважение он ни питал к г-ну Кумбу, после утренней сцены накануне он стал испытывать беспокойство за его рассудок; и теперь он задавался вопросом: уж не заразно ли это безумие, уж не стал ли и его мозг больным, как у бывшего грузчика?
Ответ на этот вопрос, вероятно, не был утешительным, поскольку не успел Мариус себе его задать, как он бросился бежать с такой скоростью, словно за ним гнались, и пересек весь город, чтобы вернуться к своему хозяину.
Он просто надеялся, что работа восстановит его рассудку прежнее равновесие.
Проходя по эспланаде де ла Турет, он увидел открытым вход в церковь Ла-Мажор.
Мариус вовсе не был вольнодумцем; в то время как на севере молодые люди его возраста уже с пренебрежением относились если не к религиозным верованиям, то к религиозным обрядам, Мариус сохранял свою христианскую веру во всей ее чистоте и первозданной простоте.
Стоя под сводами высокого разверстого портала, он увидел самого Бога, простершего к нему свою длань; и в величественном звуке органа с его последними вибрациями, которые коснулись его слуха и сразу угасли, ему послышался голос Господа, говорившего о молитве как о еще более действенном, чем работа, лекарстве от обуявшего его чувства страха.
Он вошел в собор. Служба только что закончилась; внутри было безлюдно. Быстро пройдя в небольшой расположенный отдельно придел, он опустился на колени.
Подняв глаза, чтобы начать молиться, он увидел картину, помещенную над алтарем, и вздрогнул.
Эта картина, которая произвела на молодого человека столь сильное впечатление, была копией знаменитого полотна Корреджо, изображающего великую грешницу, покровительницу Мадлен. Святая лежала посреди дикого леса, на голой земле, укрытая как длинными прекрасными волосами с золотистым отливом, так и складками голубой туники; облокотившись, она размышляла над книгой, а рядом покоилась мертвая голова.
Мариус был поражен не только сходством двух имен; находясь во власти некой преследовавшей его галлюцинации, он в этом художественном образе вновь обрел ту, которую любил, и обрел ее живой; то была она, то были ее серьезные и в то же самое время нежные глаза, то было строгое и доброе выражение ее лица. Иллюзия была до такой степени странной, что Мариусу почудилось, будто он слышит голос Мадлен.
Сумятица его мыслей стала ужасающей; волосы у него на голове встали дыбом, и казалось, что сердце его вот-вот выскочит из груди; он оперся на руки так, чтобы не смотреть на полотно и взволнованным, прерывистым голосом начал молиться.
— Боже мой, — произносил Мариус, — избавь меня от этой безрассудной любви, не позволяй мне уступить ей. Ты даровал мне положение скромное и бедное, и не поклонялся ли я твоей воле, недоставало ли мне мужества и смирения? Зачем же ты удручаешь меня таким образом? О Боже, сделай так, чтобы я не поддался искушению этой страсти! Ты видишь, она преследует меня вплоть до твоих алтарей обликом, которого я страшусь, не в силах перестать его обожать; она является мне в чертах одной из твоих избранниц. И я молю тебя и трепещу при мысли, что ты не внемлешь моей просьбе; я умоляю тебя вернуть моей душе покой и в то же время задаюсь вопросом, не будет ли он столь же страшен, как смертный покой? О ты, чье имя носит и моя любимая, о святая блаженная, столько страдавшая из-за того, что столько любила, попроси Господа ниспослать мне силу, какую я сам в себе не нахожу, попроси его позволить мне забыть ее, попроси его сделать так, чтобы имя Мадлен не наполняло больше мою душу так, как в этот самый миг оно наполняет ее тоской, одновременно сладкой и страшной…
Молитва Мариуса была прервана чьим-то коротким приглушенным вскриком, раздавшимся в двух шагах позади него.
Он обернулся и заметил молодую женщину, просто, но изящно одетую, устремившуюся к выходу из придела. Вуаль, низко опущенная на лицо женщины, не позволяла различить черты ее лица. Стулья и скамьи, стоявшие в приделе, мешали ей пройти, и она отодвигала их с явной поспешностью, свидетельствовавшей о том, что она была смущена не меньше молодого человека.
От неожиданности Мариус не мог произнести ни слова и стоял как вкопанный, наподобие флорентийских статуй, украшающих церковь Ла-Мажор; в его мозгу пронеслась одна мысль, но рассудок отказывался поверить в нее.
Поняв, что она стала предметом внимания Мариуса, молодая женщина, казалось, совсем потеряла голову; она опрокинула скамеечку для молитвы, на которую нечаянно ступила ногой, и чуть было не упала сама.
Мариус со всех ног бросился к ней на помощь, но, прежде чем он оказался рядом, она выпрямилась и, легкая как тень, исчезла среди многочисленных колонн церкви.
Поддавшись охватившим его чувствам, он было бросился ей вослед, как вдруг заметил на одной из плит какой-то предмет, который незнакомка обронила, убегая.
Он поднял его — им оказался молитвенник; на его сафьяновом переплете готическим шрифтом были оттиснуты всего две буквы: «Л/. Р.»
У Мариуса больше не оставалось никаких сомнений: молодая женщина была Мадлен, и она слышала все, что он полагал доверить одному Богу.
Не закончив молиться, он покинул церковь еще более потрясенный, чем когда вошел в нее.
X ДВА ЧЕСТНЫХ СЕРДЦА
После встречи, которая произошла в церкви Ла-Мажор, Мариус так и не решился написать мадемуазель Мадлен, чтобы предупредить ее об ужасных намерениях г-на Кумба, хотя прежде он собирался это сделать.
Бледный и дрожащий, он вернулся в дом хозяина своей фирмы. Подавленность Мариуса была настолько сильной, настолько очевидной, что его сочли больным и вызвали врача; тот обнаружил у него сильный жар. Его уложили в постель; но, даже оказавшись в одиночестве в своей маленькой комнате, он и не помышлял написать девушке, ибо был уверен, что, испытывая законное негодование, она, по меньшей мере, отошлет ему письмо, даже не прочитав его.
Между тем г-ну Кумбу не пришлось пускать в ход свой талант по обращению с огнестрельным оружием: г-н Риуф и его сестра не появились у ворот деревенского домика.
Как-то вечером г-н Кумб получил от своего молодого соседа вежливое письмо; выражая почтительность возрасту бывшего грузчика, тот признавал свои ошибки и просил забыть о них.
Господину Кумбу недоставало благородства, как недоставало ему и того великодушия, что велит человеку забывать нанесенные ему оскорбления, а ведь отмирание таких свойств души вовсе не проходит безнаказанно. Будучи далеким от мысли увидеть в такого рода поступке благородное и честное признание, достойным образом искупавшее совершенную ошибку, г-н Кумб вообразил, что это письмо было подсказано его угрозами, ибо он не сомневался, что Мариус был их честным выразителем. С тех пор как г-н Кумб ощутил в себе некие воинственные поползновения, он несколько ревновал к роли, какую тот, кого он считал еще юнцом, сыграл в этом деле, и теперь был вполне удовлетворен, встав, по меньшей мере, вровень с Мариусом.
К большому удивлению Милетты, которая никогда не видела своего хозяина покидавшим дом после захода солнца, г-н Кумб, получив письмо от Жана Риуфа, тотчас попросил Милетту подать ему то, что он называл левитом, надел его, положив деньги в карман жилета, и направился в бонвенское кафе.
Именно здесь, где ему впервые пришлось испытать унижение, он жаждал заставить воссиять свою славу. Позывы его спеси не изменились, но вслед за ними пришла новая страсть, ненависть, наложив самый отвратительный отпечаток на его чувства; можно было посмеяться над его тщеславием, когда оно удовлетворялось распускавшимся цветком, завязавшимися овощами, удачной ловлей скорпены; но сама наивность этого тщеславия придавала старику некие черты величия. Сейчас ему не оставалось ничего иного, как сожалеть о своем тщеславии, ведь именно оно довело его до того, что он стал выпрашивать аплодисменты у ничем не примечательных слушателей и покупать их восхищение, награждая за него немалым количеством рюмок, в то время как сам он ухмылялся легким и дешевым победам, которые ему уготавливала его уместная щедрость.
Поведение г-на Кумба произвело сильное впечатление на местное общественное заведение; он прочел там полученное им письмо от соседа, сопроводив его многочисленными комментариями по поводу трусости этого господина и обхождения, ожидавшего его в случае, если б он так и не решился представить свои извинения, держась на почтительном расстоянии. Обращаясь одновременно к неутолимой жажде завсегдатаев бонвенского кафе и зависти, какую обычно испытывают к богатым людям, бывший грузчик снискал одобрение и в придачу был удостоен оваций как блестящий полководец и единодушно провозглашен святым Георгием. Новоиспеченный забияка оставался прежним скрягой, выставляя напоказ свою щедрость, — иными словами, он не забывал о себе в предпринятой им раздаче спиртных напитков; хмельное состояние от выпитого в сочетании с ударившим в голову опьянением славой вконец помутили его рассудок. Он возвращался домой, выделывая зонтиком грозные мулине, и у него уже не было особой уверенности в том, что он не истребил весь род Риуфов, как мечтал об этом всю прошлую ночь и как клялся в этот вечер сделать при первом же удобном случае. Когда он заметил вдалеке крышу шале, контуры которой вырисовывались на туманном горизонте открытого моря, потребовалось вмешательство тех, кто либо из милосердия, либо из признательности решил препроводить его домой, помешав ему таким образом поджечь соседский дом.
Протрезвившись на следующий день, г-н Кумб смутно представлял себе то, что произошло накануне. Но и того, что осталось в его памяти, было вполне достаточно, чтобы устыдиться собственного поведения, насколько это позволяло ему самолюбие. Он скорее готов был умереть, чем признаться самому себе, что был не прав. Второго такого же заседания в бонвенском кафе он больше уже не устраивал, к большому сожалению завсегдатаев этого заведения; но если случай сталкивал его с кем-либо из них, то он продолжал вызывать восторг, возможно, с меньшим шумом, но с не большей умеренностью.
Тем не менее манера поведения, избранная Жаном Риуфом, была хороша для усмирения страсти менее неукротимой, чем та, что овладела взбесившимся ягненком по имени г-н Кумб.
С того самого дня как брат Мадлен заключил перемирие с соседом, шале перестало быть театром безумных вечеринок и шумных оргий, столь сильно возмущавших г-на Кумба. По вечерам в субботу мадемуазель Риуф приезжала сюда — иногда со своим братом, а чаще всего вместе со старой служанкой. Она проводила там полтора дня, как это делал владелец деревенского домика в ту пору, когда дела еще не позволяли ему свободно распоряжаться своим временем. Единственными развлечениями девушки были гулянья по саду, уход за цветами и изредка — прогулки по прибрежным скалам. Шале стало таким же тихим, мирным и добропорядочным, как и соседний с ним дом слева.
Господину Кумбу было невозможно отрицать очевидное, да он и не пытался это делать; он удовольствовался лишь тем, что строго наказал Милетте молчать, когда она, искренне удрученная по-прежнему мрачным настроением своего хозяина, хотя причины для этого больше не было, попыталась обратить его внимание на улучшение обстановки у соседей.
Ему уже не было дано вернуть себе тот сладостный душевный покой и безучастность, какие были характерны для его прежней жизни. Злые чувства сходны с сорняками в поле: достаточно маленького корешка, и они сохранятся там навечно. Зависть и состоящие в ее свите чувства овладели сердцем г-на Кумба, и буквально все стало для него предлогом, чтобы больше никуда не выезжать; поскольку сам хозяин шале отсутствовал, теперь его сад отравлял существование бывшему грузчику.
Сад этот не был ни длиннее, ни шире сада г-на Кумба, ничуть не лучше расположен, ничуть не больше защищен от ветра, однако наступивший для наших героев год не был похож на предыдущий, и результаты его оказались для них совершенно разными: сад г-на Кумба как нельзя более походил на раскаленную сковородку, что мы так долго живописали в начале нашего повествования; вопреки мистралю и солнцу, сад г-на Риуфа оставался свежим, пышно разросшимся и благоухающим. Перегной, внесенный в почву в большом количестве, уже успел изменить ее свойства; защитные ряды тамарисков и кипарисов, высаженных уже большими вместе с землей, в которой они выросли, и многочисленные соломенные укрытия надежно защищали растения; если же, несмотря на все предосторожности, засухе или северному ветру удавалось их уничтожить, то они заменялись истыми с расточительностью, не позволявшей заметить повреждений.
Зрелище этого небывалого благополучия так жестоко ранило сердце г-на Кумба, как это могли сделать только скверные шутки Жана Риуфа и его окружения. Он пытался бороться с тем, что сам называл возмутительным пристрастием природы; он произвел новые посадки, пустился в расходы, хотя сам расценивал их как бессмысленные; но то ли он взялся за это слишком поздно, то ли по какой-то совершенно иной причине, связанной с почвой, удача отвернулась от него, и земельный участок соседей, свидетельствующий о его личных неудачах, лишь упрочил его неприязнь к ним. Он отворачивался, когда его взгляд внезапно упирался в зеленые верхушки кустарника, возвышавшегося над стеной; когда же ему говорили о них, это вызывало у него нервное расстройство. К несчастью, это садоводческое великолепие нашло еще одну возможность проявить себя: морской ветер, пройдя над владениями г-на Риуфа и вобрав запахи заполнявших изящные клумбы роз, тубероз, гелиотропов, гвоздик и жасмина, старательно переносил эти ароматы во владения г-на Кумба. И хотя тот испытывал презрение к этим несерьезным культурам, такое свидетельство ошеломляющего превосходства довершало его отчаяние; кончилось тем, как это обычно бывает у всех завистников, что он стал пренебрегать тем, что составляло на протяжении тридцати лет его счастье, и проникся отвращением к тому, что было его гордостью; он забросил свой сад и занимался только рыбной ловлей, имевшей одно преимущество: она целыми днями удерживала его в удалении от ненавистного соседства.
Но вовсе не Жан Риуф был причастен к превращению сада шале в чудо, столь неприятное бывшему грузчику.
После визита Мариуса мадемуазель Мадлен по-сестрински нежно, но строго упрекнула брата за его поведение по отношению к г-ну Кумбу. Слова о горести, которую это поведение вызвало у соседа, приобретали очень трогательное звучание в устах сестры, обожаемой Жаном Риуфом. У него, как у большинства шалопаев, было доброе сердце; он попробовал было обратить растроганность девушки в шутку, но, видя, что сестра остается совершенно серьезной, уступил и дал обещание исполнить все, что она от него потребовала.
Он согласился пойти и лично принести повинную этой важной особе, которую по-прежнему находил весьма смехотворной; но как раз вдень, выбранный для осуществления этого шага, мадемуазель Мадлен, казалось, передумала, запланированный визит не состоялся, и взамен этого г-н Кумб получил письмо, из которого он сделал трофей. Жан Риуф охотно согласился его написать; кроме того, он дал обещание сестре, что шале больше не будет местопребыванием общества Вампиров, и честно сдержал свое слово. Мадемуазель Мадлен своим присутствием в шале очистила его стены, уже испачканные, невзирая на всю свою новизну.
В первый приезд мадемуазель Мадлен в Монредон все показалось ей ужасным: расположение шале, его архитектура и внутренняя планировка, и раз десять она заявляла, что ей не дано понять, как это, уж если ему было необходимо скрывать от посторонних глаз собственные подвиги и подвиги своей банды, он остановил свой выбор на подобной пустыне, чтобы разбить здесь свои шатры.
Однако, после того как произошли события, о которых мы только что рассказали, во взглядах девушки по какой-то причине, необъяснимой даже с точки зрения женской логики, произошел резкий поворот, и она отказалась от своих прежних претензий: пустынные песчаные берега на подступах к мысу Круазет не казались ей больше такими унылыми, пики горы Маршья-Вер в ее глазах приобрели некоторое очарование, а прозрачное море, аквамариновый и голубой цвета которого чередовались в соответствии с полосами водорослей и песка на дне, просто пленяло ее; и так вплоть до уединенности несчастного шале, вначале расцениваемой ею как огромный недостаток, а позже — как некое достоинство, что она не забывала отметить. И месяца не прошло, как она упросила своего брата уступить ей право собственности на его сельский дом.
А Жана занимали совсем иные проблемы, нежели изучение женских характеров; он не стал терять время, расспрашивая сестру, отчего она так явно поменяла свое прежнее мнение; продажа дома позволяла ему завести в кармане деньги, а их с некоторых пор ему не хватало, и он тут же согласился с предложением сестры.
В самом начале сделанное мадемуазель Мадлен приобретение скорее походило на прихоть. Но с каждым днем она все больше привязывалась к этому месту. Она мало говорила о шале и никого, кроме брата, не приглашала сопровождать ее туда, однако все доказывало, что она постоянно думает о своем новом доме.
Это она взяла на себя все заботы по участку, в результате чего тот превратился в эдемский сад, благоухание которого так жестоко мучило г-на Кумба; ее постоянная озабоченность привнесением улучшений и украшений доставляла ей развлечения, заставляя ее подчас пренебрегать делами; страсть к цветам заставила ее пойти на такие приобретения, какие брат отказывался понимать, памятуя о привычках сестры к порядку и бережливости, а чем она неоднократно сама подавала ему пример; и, наконец, сами служащие стали с неподдельным изумлением замечать, как по вечерам в субботу их молодая хозяйка, еще недавно уходившая с работы последней, теперь без конца бросала взгляды на часы, как будто она хотела побыстрее убедиться, не наступил ли час ее отъезда за город.
Объясним же поскорее эту загадку, для чего вернемся в нашем рассказе немного назад.
После того как в разговоре с братом мадемуазель Мадлен удалось побороть его явное нежелание принести извинения г-ну Кумбу, которыми Мариус был согласен удовлетвориться, она пришла в церковь Л а-Мажор; ей хотелось поблагодарить Господа, позволившего ей мирным путем завершить непростое дело, ибо развязка его неминуемо стала бы кровавой, если бы молодые люди встретились и решимость одного из них столкнулась с самолюбием другого.
Мы были свидетелями того, как случай привел Мариуса в тот самый придел, где находилась девушка; как в полном смятении чувств он решил, что никого рядом нет, и, наконец, как и в каких выражениях имя Мадлен слетело с его уст.
Мадемуазель Риуф вернулась к себе домой чрезвычайно взволнованной; она попыталась посмеяться над страстью, какую ей удалось внезапно внушить этому молодому человеку, но лишь губы ее улыбались, душа же оставалась серьезной, более того — становилась мечтательной. Мадлен хотела рассказывать брату о странности этого юноши, но не успела она произнести и первого слова, как остановилась озадаченная и прибегла к лжи, чтобы скрыть свое смущение.
Мало-помалу эта странность приобрела в ее глазах иной облик и иное название. Молитва бедного юноши, обратившегося к Богу с просьбой ниспослать ему сил, чтобы противостоять любви, способной сбить его с пути неукоснительной честности и смиренного труда, которым он намеревался следовать, уже не казалась ей смешной и стала в ее глазах трогательной; в ней она увидела признак возвышенного характера и честной души.
Отдав должное его нравственным качествам, мадемуазель Риуф вспомнила и о его внешних достоинствах, сохранившихся в уголке ее памяти: настоящая женщина, она все же не могла не заметить их; с бьющимся сердцем она вдруг осознала, что не может более подавлять в себе мысль о том, как Мариус красив — той строгой красотой южан, которая даже у молодых мужчин кажется зрелой; она мысленно представила себе облик молодого человека, вспомнила, каким твердым и решительным был его взгляд, когда он говорил о г-не Кумбе, и какими нежными и кроткими стали его глаза, когда Мадлен поведала ему о печалях, наложивших отпечаток на ее жизнь; вспомнила она и о той пренебрежительной улыбке, что тронула его губы, когда она позволила себе только намекнуть на опасности, каким он собирался смело выступить навстречу.
В течение нескольких дней все эти мысли носились в голове Мадлен, и вскоре девушка заметила, что напрасны были ее попытки отогнать их: они упрямо приходили вновь и вновь, и тогда постепенно она стала расценивать положение значительно более хладнокровно и решительно, чем это делал Мариус.
Ее преданность брату стала приносить весьма заметные плоды. Поддавшись влиянию сестры, Жан Риуф перестал относиться к развлечениям с прежним пылом, начал проявлять все больше и больше сдержанности к своим недавним сотоварищам по разгулу и уже несколько раз заявлял о своем намерении обзавестись семьей.
Приближался день, когда задача ее как сестры была бы полностью выполнена, вступление в дом невестки весьма усложнило бы эту ее роль, и она почувствовала бы себя посторонней в новой семье своего брата. То, о чем она еще совсем недавно спокойно размышляла и чего желала от всей души, вызывало в ней страх. Она спрашивала себя, что станется с ней, когда ей негде будет утолить жажду любви, снедавшую ей душу, и глаза ее наполнялись слезами, а сердце разрывалось от боли.
Разница в положении между тем, кого мадемуазель Риуф считала сыном г-на Кумба, и ею была огромная; но если привычка к размеренной и рассудочной жизни сделали ее ум зрелым, то печали, испытанные ею в юности, очистили ее сознание от предубеждений, вполне способных его омрачить.
Угадав характер Мариуса, она подумала о том, что скорее готова опуститься до его положения, нежели быть поднятой до уровня того, кто не заслуживал бы этого.
Она полагала подчиниться голосу разума; вероятнее же всего, одной только страсти было уже достаточно, чтобы она приняла решение.
Как бы там ни было, мадемуазель Мадлен не пыталась более противиться своей сердечной склонности, а предалась ей со всей искренностью своей чистой души; она была слишком по-настоящему добродетельной, чтобы под видом ложной осторожности скрывать свое влечение, и, не 15 — 7045 осмелившись приблизиться к Мариусу, стала в свою очередь соседкой г-на Кумба; она ждала, что сын его даст продолжение прологу, начавшемуся в святилище святой Магдалины.
Но каким бы безграничным ни было ее терпение, казалось, Мариус им злоупотреблял; прошло лето, наступила осень, а он так ни разу и не вступил в разговор с той, что так благосклонно приняла его когда-то. Он с таким упорством избегал ее, что девушка сама устроила так, чтобы встретить его, но когда, наконец, такой случай представился и уклониться от встречи было невозможно, Мариус опустил глаза и не поднимал их до тех пор, пока она не скрылась из виду.
XI ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПОКАЗАНО, ЧТО ДАЖЕ ПРИ ВСЕМ ЖЕЛАНИИ ПОДЧАС ТРУДНО ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА
Сдержанность и холодность, выказываемые Мариусом по отношению к мадемуазель Мадлен, вовсе не были искренними.
Встреча с ней в церкви Ла-Мажор окончательно победила его сомнения; будучи суеверным, как все искренне верующие люди, он увидел в случае, странным образом сблизившем их и столь неожиданно посвятившем девушку в тайну, в которой он никогда не осмелился бы ей признаться, не что иное, как явное вмешательство Провидения; под сильным впечатлением от этой мысли холодные подсказки рассудка и чувства долга улетучились, и все в его существе присоединилось к крику любви, рвущемуся из его сердца.
Это чувство и обстоятельства вынуждали Мариуса сдерживаться и молчать: он слишком быстро догадался о своей страсти.
Но что особо характеризовало любовь такого сильного, молодого и простого юноши, каким был Мариус, так это уважение, которое внушала ему Мадлен; это уважение освобождало его любовь от всяких земных желаний: оно внушало Мариусу глубочайшую веру, искреннее смирение, а также рождало в нем страстные порывы, какие вызывает Мадонна у благочестивого человека. Это был культ, это было обожествление. Он охотно согласился бы переправиться вплавь через пролив, отделяющий остров Помет от Монредона, лишь бы только подышать одним воздухом с любимой девушкой; геройски проделав такое, он даже не осмелился бы прикоснуться кончиками пальцев к краю ее платья, чтобы поднести его к своим губам; это платье казалось ему сделанным из мрамора, как платье статуи, и никогда в своем воображении он не мечтал потрогать его складки.
Всякий раз, как он встречался с мадемуазель Риуф, он опускал глаза: она стала играть в его жизни ту роль, какую Бог отвел солнцу в природе; казалось, Мариус избегал ее, а между тем мысли о ней постоянно присутствовали в его сознании.
Такое явное противоречие в душе Мариуса, способного от природы к решительным действиям, объясняется тем чувством, какое он испытывал, занимая более низкое общественное положение по сравнению с Мадлен; расстояние между девушкой, чье имя было вписано в золотую книгу самых крупных коммерсантов Марселя, и безродным бедным юношей, из милости воспитанным подрядчиком грузовых работ, было столь велико, что ему даже не представлялось возможным когда-либо преодолеть его; он любил без всякой надежды, и от этого страсть его была еще более пылкой. Она питалась мечтами, а какими бы пустыми они ни были, любовь от такой диеты никогда не страдает.
На самом деле, после того как мадемуазель Риуф стала испытывать расположение к сыну Милетты, ему оставалось сделать лишь один шаг, чтобы почувствовать себя более счастливым.
Но ему не хватало мужества с мольбой протянуть руки к той, что была ему так дорога, и в немом и одиноком обожании ее он находил несказанное наслаждение.
Всякий, кто соблаговолит вспомнить себя в молодые годы, поймет его. Чего стоят наши удовольствия, чего стоят радости нашего зрелого возраста перед дивными упоениями отрочества, когда сердце стремится освободиться от спутывающих его пеленок и выдавить из себя свой первый крик; когда дыхание женщины, шелест ее платья, случайный взгляд, брошенный ею, оброненное слово или цветок, выскользнувший из ее пальцев, погружают нас в такой восторг, что лишь он один может дать нам представление о наслаждениях на седьмом небе?
Принятое г-ном Кумбом решение оставить огородничество и проводить большую часть времени на море предоставило Мариусу, когда он возвращался в деревенский домик, такую свободу, какой он никогда не знал ранее; Милетта же была слишком счастлива видеть сына рядом и 15*слишком занята домашними заботами, чтобы противиться его планам или наблюдать за ним; поэтому воскресный день целиком принадлежал его любви.
Безучастность Мариуса, о которой мы говорили выше, исчезала тотчас же, как только он становился уверен, что Мадлен его больше не видит. И тогда, завладев наблюдательным пунктом, заброшенным г-ном Кумбом, он проводил там целые часы, наблюдая за прекрасной соседкой; влюбленным взглядом, спрятавшись за шторой, он смотрел, как она ходит по саду, поливая растения и удаляя с кустов роз увядшие цветы; он восхищался ее красотой, изяществом и естественностью; и достоинства эти, ежедневно служившие содержанием того гимна любви, который звучал в его сердце, всякий раз казались ему впервые открывшимися.
Если случалось так, что Мадлен выходила прогуляться по соседству, Мариус выжидал, когда она свернет за угол большой фермы, расположенной чуть в стороне от деревенского домика; тогда он украдкой следовал за нею; он шел с осторожностью партизана, продвигавшегося вперед где-нибудь в горах; он ложился ничком, как только она случайно оборачивалась; он прятался в неровностях скал, когда она могла неожиданно увидеть его из-за поворота дороги, а также использовал в качестве прикрытия пихты и корявые оливковые деревья, растущие по холмам. Когда же девушка останавливалась, он неотрывно смотрел на нее, с жадностью следя за каждым движением, за каждым невольным ее жестом. Кроме счастья видеть ее, такая прогулка, подчас утомительная, приносила Мариусу иное вознаграждение: он мог нарвать цветов, которых Мадлен касалась пальчиками и на ходу краем платья, затем составить из них букет, отнести его в свою комнату и в течение всей недели адресовать этому хрупкому и непостоянному веянию королевы его мыслей такие нежные слова, от каких не отрекся бы какой-нибудь сентиментальный студент из Франкфурта.
Так прошло лето, а случай, которому ведь ничего не стоило протянуть связующую ниточку между этими двумя сердцами, столь сильно стремившимися навстречу друг другу, так и не решился их сблизить.
Наступил конец сентября, и обитатели деревенского домика, равно как и жители шале, выказывали озабоченность.
Господин Кумб был озабочен тем, что осеннее равноденствие, хотя и унесло последние ароматы с соседского сада, вызывавшего его зависть, повлекло за собой бури; что зыбь на море превращалась в волну, волны вставали горой и прогулки на острова Риу, обычно служившие театром его подвигов, стали неосуществимыми.
У Милетты тоже было немало причин выглядеть озабоченной: Мариус в ближайшем будущем подлежал рекрутскому набору, и это вызывало ужас у бедной матери. Она была обеспокоена участью, какую судьба готовила молодому человеку; она испытывала потрясение при мысли, что перед ней возникнет необходимость признаться сыну в действительно занимаемом ею положении; она опасалась, что Мариус будет немало удивлен, узнав тайну подлинных отношений бывшего грузчика и его служанки; она краснела и дрожала от одной только мысли, что ей надо будет признаться сыну в том, кто его настоящий отец, и рассказать о своем бывшем муже и образе его жизни; она начала понимать, что, как бы ни была велика вина того человека, ее собственное поведение было не в меньшей степени достойно осуждения, и душу Милетты стали терзать угрызения совести; она постоянно спрашивала себя, не послужит ли ей первым наказанием проклятие того, кому она дала жизнь.
Мариус опасался наступления зимы, ибо теперь мадемуазель Риуф должна была реже появляться в шале.
Несмотря на проницательность, обычно приписываемую женщинам, Мадлен ровным счетом ничего не уловила из тех чувств, какие так тщательно скрывал от нее молодой человек, и потому испытывала уныние и ту усталость, что следует за разочарованиями; она собственными руками строила этот роман, но могла уловить лишь тень главного героя; напрасно она старалась пренебречь своими печалями, повторяя себе, что Провидение в конце концов оказалось гораздо мудрее ее, отдав предпочтение разуму перед лицом той слабости, какой она поддалась; но ей никак не удавалось внушить своему сердцу такую философию: оно кровоточило. Ее чувства были слишком возвышенными, чтобы можно было позволить обратить их в заурядную досаду, однако от этих переживаний она становилась все более печальной, задумчивой и болезненной; воспользовавшись расположенностью к этому брата, возраставшей с каждым днем, она поручила ему управление торговым домом, чтобы иметь возможность провести в Монредоне последние прекрасные дни осени.
Мадлен нашла способ борьбы с изнурявшей ее бессонницей — ее прогулки учащались и становились все более и более продолжительными.
Однажды, погруженная в свои мысли, она обогнула мыс Круазет и, мечтательно настроенная, села на одной из тех скал, которые море, разбиваясь об их склоны, покрывает тонким кружевом пены.
Она переводила взгляд с лазурного моря, усыпанного золотыми блестками, с огромных и прекрасных в своей наготе глыб, лежавших перед ней, на небо — бездонное и унылое в своей прозрачности.
Внезапно ей показалось, что где-то вдали раздался отчаянный крик; она поднялась и, помогая себе руками и ногами, вскарабкалась на вершину скалы, возвышавшейся над южной оконечностью мыса. Мадлен не увидела ничего особенного, но до ее слуха отчетливо долетали новые, все более и более слабые крики.
Она решительно двинулась в том направлении, откуда они раздавались; предпринятое ею было непросто и опасно.
В непогоду оконечность мыса Круазет полностью уходит под воду; волны старательно обрабатывали прибрежные скалы; в тех местах, где им попадались мрамор или гранит, вековая работа моря проявлялась в виде замысловатых рисунков, затрагивавших лишь поверхность камня; когда же материал камня был более податливым, когда его слои разделяла земля, то накатывавшиеся волны проделывали глубокие борозды, бесчисленные каналы, в которых бурлило море.
Перепрыгивая с уступа на уступ и со скалы на скалу, проявляя не только ловкость, но и силу, Мадлен добежала до той части косы, откуда, как ей казалось, доносились отчаянные крики, которые она слышала.
Это было как раз то место, где мыс поднимался к подножию огромного и почти отвесного утеса.
Обогнув его со стороны Ла-Мадрага, Мадлен заметила распростертого на земле мужчину, истекавшего кровью и потерявшего сознание.
Хотя он был грязен на вид и одежда его была в лохмотьях, первое побуждение девушки состояло в том, чтобы броситься к нему, приподнять и попытаться, прислонив его спиной к скале, вернуть к жизни.
Но, как ни велико было ее мужество, задача эта оказалась ей не под силу: поддерживаемая ею голова мужчины выскальзывала у нее из рук и безжизненно падала на землю. Мадлен сочла, что он мертв, и от этой мысли ее охватил неодолимый ужас; ей захотелось убежать, но ноги не слушались ее и подгибались; теперь она сама захотела позвать кого-нибудь на помощь, но голос замер у нее в груди; ей удалось издать лишь какой-то нечленораздельный и хриплый звук, и, лишившись чувств, она упала на землю рядом с этим человеком.
Но каким бы слабым ни был ее крик о помощи, его услышали.
На вершине скалы, возвышавшейся почти на двенадцать футов над местом этого происшествия, появился человек; не раздумывая ни секунды, он бросился к Мадлен и одним прыжком, позволявшим предположить необыкновенную мощь его мускулов, достиг ее.
Даже находясь в полуобморочном состоянии, Мадлен безошибочно узнала в человеке, столь неожиданно и быстро пришедшем ей на помощь, сына г-на Кумба; беспорядочность мыслей и чувств не помешала ей ясно увидеть по тревоге и нежности на лице Мариуса, что молитве, с которой он обращался к Всевышнему в приделе церкви Да-Мажор, Господь так и не внял.
С невыразимой улыбкой она протянула к Мариусу руки.
— Мадемуазель, мадемуазель, вы не ранены? — вскричал бледный и встревоженный Мариус и жадно схватил протянутые к нему руки.
Мадлен, еще вся во власти сильных переживаний, не могла вымолвить ни слова в ответ; она отрицательно покачала головой и жестом указала на человека, без признаков жизни лежавшего в двух шагах от нее.
Внешний вид этого человека был таким отталкивающим, что Мариус, не сумев сдержать овладевшее им чувство омерзения, обхватил Мадлен руками и отодвинул ее от незнакомца.
— Во имя Неба, подойдите к нему, — прошептала девушка, — я смогу обойтись без вашей помощи, но он, кажется, умирает.
Просьба Мадлен была для Мариуса приказом.
Он подошел к бедняге, распахнул блузу, служившую тому и рубашкой и курткой, положил свою руку ему на грудь и убедился, что его сердце еще бьется.
Затем он погрузил свою шляпу в одну из ближайших узких лагун и плеснул в лицо незнакомцу несколько капель воды.
Ее свежесть придала мертвенно-бледным щекам лежавшего без сознания человека немного краски; он приоткрыл рот и протяжно, с усилием вздохнул.
— Дайте ему понюхать эту соль, — сказала Мадлен, подойдя ближе и протягивая Мариусу флакон.
Под действием возбуждающего средства несчастный пришел в себя; взгляд его до этого тусклых глаз, неподвижно смотревших в одну точку, прояснился, ожил и, к большому удивлению двух молодых людей, остановился на них с весьма заметным выражением тревожного опасения; после этого незнакомец оглядел все окрестности, чтобы убедиться, нет ли здесь еще каких-нибудь свидетелей.
Мариусу и Мадлен теперь представилась возможность лучше рассмотреть этого человека: он был из числа тех, чей возраст определить не предоставляется возможным, настолько явно несут их лица отпечаток всех низменных страстей. Его запавшие глаза, сильно покрасневшие от чрезмерного употребления алкоголя и оттененные густыми седеющими бровями, свидетельствовали о жестокости, что подтверждалось и тем, какими напряженными были уголки его губ; глубокие морщины бороздили его щеки, наполовину скрытые длинной и взъерошенной бородой; лоб был сильно приплюснут, коротко остриженные волосы ясно обрисовывали его контур, так что верхняя часть лица в сочетании с развитыми челюстными костями окончательно придавали незнакомцу звериный облик.
Как только сочувствие, которое внушал этот человек, рассеялось, он стал казаться страшным.
— Бедный человек! — промолвила Мадлен, стараясь подавить отвращение к нему. — Что же с вами произошло?
— Эх, черт побери! — воскликнул незнакомец, даже и не думая выразить признательность собеседнице и глядя на нее с чрезвычайной наглостью. — Если вы хотите, чтобы я заговорил, надо сначала промочить мне говорилку.
— Что он говорит? — спросила Мадлен.
Мариус был не более терпелив, чем обычно бывают его земляки, но, поскольку в течение целых двух минут он видел, как осуществляется то, о чем не осмеливался и мечтать, и ощущал руку Мадлен в своей руке, — все, что у него еще осталось от терпения, теперь сократилось вдвое.
— Да будет вам известно, — воскликнул он, — что, если вы намерены продолжать в таком духе, я вас брошу в эту яму, где вы, хотя и найдете, чем напиться, рискуете пойти на съедение лангустам!
Мадлен удержала молодого человека за руку, которую тот уже поднял, как будто намереваясь немедленно привести угрозу в исполнение. В то же время она бросила на него умоляющий взгляд.
Мужчина попытался приподняться, чтобы противостоять своему противнику, но, сделав довольно резкое движение, он задел поврежденную часть тела и вскрикнул от боли.
Сердце Мариуса тронула жалость; одновременно осознание незнакомцем своего плачевного положения одержало верх над проявленными им злобными поползновениями.
— Э, Бог мой, — сказал он, — да вовсе не с целью, чтобы оскорбить эту хорошенькую даму, я попросил у нее немного вина или водки, чтобы освежить рот после того, как сейчас кувыркнулся! Представь себе, мой славный малый, что я вздремнул на вершине скалы, которая перед нами; и видел я во сне приятные веши: мне казалось, что добрый Господь поручил мне отделать палкой всех на свете; и вот я бил, бил, черт побери, до тех пор, пока кожа на христианских спинах не превратилась в сплошную кашу! Я бил во сне так сильно, черт возьми, что дернулся на своем тюфяке из тесаных камней, и внезапно мне почудилось, что на моей пояснице сошлись каторжные хлысты со всех концов света: это я упал сверху на то место, где вы меня нашли и где все еще видите.
— Да, странное местечко вы себе выбрали, чтобы поспать! — заметил Мариус.
— Ну, я был уверен, что здесь меня никто не побеспокоит, — ответил незнакомец, подмигивая Мариусу (это могло быть условным знаком, однако молодой человек его не понял), и продолжил: — После всего, что случилось, я не отстаиваю свою спальню и признаю, что с такой целой кой, как у вас под ручкой, ваша спальня должна вам казаться чертовски приятнее, чем моя.
Мадлен и Мариус одновременно покраснели. С того мгновения, как сын Милетты пригрозил незнакомцу, девушка, схватив его руку, не выпускала ее из своей; услышав такую странную и грубую речь, она еще сильнее прижалась к своему защитнику, прикоснулась к нему грудью и опустила голову ему на плечо; внезапно они отодвинулись друг от друга.
— Черт возьми! — воскликнул пострадавший, заметив эту пантомимную сцену. — Видно, слово целочка вызывает у вас страх? И вправду, для такой старой обезьяны, как я, это была дурацкая ужимка; ведь если бы вы были женаты, вы бы не прогуливались наедине по холмам. Но, будьте покойны, — добавил он с громким ироничным смешком, — я не имею права быть суровым, о какой бы контрабанде ни шла речь.
— Все, хватит, — произнес в ответ Мариус, побледнев от гнева. — Вы должны понимать, что ни у меня, ни тем более у мадемуазель в кармане нет спиртного; до таможенного поста отсюда не более четверти льё; мы пойдем туда, предупредим таможенников, и у вас будет не только то, о чем вы мечтаете, но и помощь, в которой вы нуждаетесь.
Услышав такое предложение, мужчина не сумел скрыть охватившие его беспокойство и недовольство и на мгновение утратил присущую ему наглую самоуверенность.
— Нет, нет, — ответил он, покачивая головой, — их милосердие так далеко не распространяется; если бы я был крупным торговцем мыла или судовладельцем, что ж, в добрый час, они бы точно меня сцапали в надежде получить с меня жирный кусок; но вы по моему мундиру должны были понять, кто я такой: я всего-навсего бедный нищий, и эти славные господа с берегового поста поднимут меня ударами каблуков. Нет, нет, я не очень расположен к тому, чтобы сгнить в тюремной камере, куда меня отправят на излечение.
— Ну, так что вы решили? — прервал его Мариус. — Скоро наступит ночь, и мы не хотим вас здесь оставлять. Ветер меняет направление на северо-западное, и этой ночью надо ждать мистраля; море будет плескать о берег именно в том месте, где вы сейчас лежите; с другой стороны, если даже мы с мадемуазель объединим наши усилия, то нам никак не удастся доставить вас даже до деревни Ла-Мадраг.
— Скажите, что вы не очень расположены к тому, чтобы увидеть, как хорошенькая белая ручка испачкается о лохмотья старика; ведь он непривлекателен, я это прекрасно знаю.
— Чего вы, в конце концов, хотите?
— Помогите мне осмотреть раны.
Нищий с трудом выпрямился, и Мариус помог ему сесть; тот одну за другой вытянул перед собой обе ноги и, заметив, что их обычные движения не причиняют ему сильной боли, с выражением явного удовлетворения ощупал грязными мозолистыми руками свои голени.
— Прекрасно, — сказал он, указывая на них, — орудия отступления целые!
Затем, показывая на свои руки и пальцы, он сказал:
— За исключением двух-трех царапин, ударные орудия тоже не слишком пострадали; я отделался лишь несколькими повреждениями черепушки. Дня через два я выйду из сухого дока, как новенький.
Нищий попытался встать на ноги; но, когда он захотел сдвинуться с места, ушибленные части тела причинили ему такую боль, что лицо его исказилось в страшной гримасе. Мариус и Мадлен одновременно протянули к нему руки, чтобы поддержать его.
— Ах ты чертово тело! — в досаде воскликнул бродяга. — Понежиться захотело, как я вижу! Пойдемте, надо, чтобы вы мне помогли подняться в мою спальню.
И, подняв палец, он указал на отвесную скалу.
— Вы не можете провести ночь здесь, подвергаясь ненастьям этого времени года — мы не допустим этого!
— Как постелешь, так и поспишь, — ответил нищий, пожав плечами, — и потом, я так люблю свежий воздух, что мне будет лучше в том месте, какое я выбрал; смирение — одна из моих добродетелей, и, не заслуживая ничего больше, я довольствуюсь таким пристанищем, какое милосердный Господь дарит птицам на побережье. — Пошли, — добавил он, придав своему голосу тягучий и гнусавый выговор профессионального нищего, — пожалуйста, немного милосердия, мой славный господин, и я попрошу Господа благословить ваш брак и ниспослать вам рай на земле.
Выражение насмешливого кощунства, с каким были произнесены эти последние слова, еще более усилило неприязнь Мариуса к бродяге, однако он взвалил его себе на плечи, обогнул скалу, вскарабкался на нее с той единственной стороны, где это было возможно, и опустил его на площадку, венчающую вершину скалы.
Для человека, казалось, не слишком жаждавшего завязывать какие-то отношения с таможенниками и с рыбаками, часто посещавшими мыс Круазет, место временного ночлега было выбрано превосходно.
С южной стороны каменистый выступ образовывал заслон, что создавало между ним и отвесной стеной укрытие шириной в несколько шагов, обеспечивавшее защиту как от северо-западного ветра, так и от любопытства проходящих мимо людей.
Заметив находившуюся там котомку нищего, Мариус решил положить его рядом с ней.
— Нет, нет, — сказал тот, — ночь наступила, и мне здесь хорошо. Я не расположен к тому, чтобы лететь кувырком отсюда во второй раз; только пододвиньте ко мне бункер со съестными припасами.
Мариус понял, что называл так раненый, и поднял холщовый мешок, замеченный им раньше; мешок оказался гораздо тяжелее, чем можно было подумать; когда же молодой человек опустил его на скалу, раздался весьма удививший его лязг железа.
— Что это там, внутри него? — спросил он.
— Ах, черт побери! Да не всели равно? Не хочешь ли ты строить из себя дознавателя? Ну что ж, поди, продай меня таможенникам, если отважишься, но, прежде чем наступит праздник святого Иоанна, ты увидишь горящей свою хибару, я тебе в этом клянусь!
— А я вам в свою очередь клянусь, что, несмотря на все ваши угрозы, я именно это и устрою вам, милейший; у меня создается впечатление, что никакой вы не бедняк, честно выпрашивающий себе у милосердных христиан средства к существованию.
Пока Мариус так говорил, нищий просунул руку в свою котомку, вытащил оттуда дорожную флягу и отпил из нее несколько больших глотков; порция горячительного вернула ему всю его дерзость; сделав неимоверное усилие, он поднялся на ноги и бросился на того, кто столь великодушно пришел ему на помощь.
У Мадлен вырвался крик, отозвавшийся эхом в скалах.
Но для молодого человека такой выпад нищего не был неожиданностью: быстрым движением он резко откинулся назад и, достав из своего кармана широкий нож, направил его на грудь нападающего, угрожая ему.
Бродяга увидел в темноте три вспышки света: одну отбросило лезвие ножа, две других исходили из глаз молодого человека; он сразу понял, что имеет дело с храбрым и решительным противником, а потому, с необычайной легкостью убрав с лица угрожающее выражение, вернул в рукав кинжал, который он держал между большим и указательным пальцами, и расхохотался.
— Ну же, — произнес он сквозь смех, — я же вам говорил, что водка послужит мне великолепным лекарством. И выпил-то я всего лишь несколько капель, а уже в состоянии нагнать на вас страх… Ну-ка, положите обратно в карман ваше орудие для срезания мидий, мой мальчик; вы ведь не захотите направить его против бедняги, который, со своей стороны, не окажется до такой степени неблагодарной тварью, чтобы захотеть причинить зло тем, кто спас ему жизнь.
Затем, видя, что Мариус вовсе не собирается изменить занятую им оборонительную позицию, он небрежно ударил ногой по своей таинственной котомке и добавил:
— Так что, вам по-прежнему очень хочется узнать, что лежит там внутри? Это гвозди и куски бугелей: я отрываю их от обломков потерпевших кораблекрушение судов, которые нам посылает святой Мистраль; это совсем неприбыльный промысел, но каким бы скудным он ни был, правительство им не пренебрегает и не позволяет, чтобы мы ему создавали конкуренцию; вот почему меня изредка беспокоит визит таможенных чиновников. Вы — другое дело; я уверен, что вы не захотите лишить бедняка средств к существованию. Что ж, поройтесь в моей котомке, если вам будет угодно.
Покорность, с какой это было сказано, произвела именно то действие, какое нищий и ожидал; не переходя от своей крайней предубежденности к чрезмерной доверчивости, молодой человек, казалось, поверил словам своего собеседника и даже не соизволил убедиться в их правдивости.
— Пусть будет так, — сказал он, — но опасности, сопряженные с вашей профессией, должны были бы приучить вас к большей осторожности в ваших высказываниях.
— Э-хе-хе, — пробормотал и ответ нищий, — несчастья ожесточили мой характер. Очень грустно, — продолжал он, стараясь придать своему голосу слезливый оттенок, — никогда не быть уверенным, будут ли у тебя завтра хлеб и лук! Вы только что говорили о милосердии, мой добрый господин; увы! Его не существует на земле: Богу угодно, чтобы мы обретали его гам — наверху.
Словно в опровержение последних слов нищего Мариус вложил в руку несчастного все деньги, какие у него были при себе. Мадлен сгорала от желания присоединиться в деле милосердия к тому, кого она любила, но поиски ее в своих карманах были тщетными: из дома она вышла без денег.
— Милейший, — сказала Мадлен, — вы еще не в том возрасте, чтобы потерять надежду улучшить свое сегодняшнее положение; как только сумеете, зайдите ко мне: я постараюсь сделать для вас все, что будет возможно, и если вы не примете мои предложения, то, по крайней мере, этот визит принесет вам немалую милостыню.
— Я приду, хотя бы просто для того, чтобы поблагодарить вас за оказанную мне помощь, моя прекрасная мадемуазель, — произнес нищий лицемерным тоном, который у него хорошо получался, — но для того чтобы отыскать вас, надо знать, где вы проживаете.
— Улица Паради, торговый дом Риуфов; каждый укажет вам, где находится наша контора.
— Оптовые торговцы?
— Да; но, быть может, Марсель находится вдалеке от того места, что служит вам убежищем; тогда приходите в Монредон, где я живу в деревенском доме; вы найдете его легко, если запомните мою фамилию.
— Мадемуазель Риуф, я и не подумаю забыть ее. И, если вы позволите, я приду к вам в контору, — продолжал нищий с живостью, — мне это больше подходит.
Он вновь расположился на своем каменном ложе, а молодые люди удалились.
Когда они отошли на несколько шагов, послышался голос оставленного ими на утесе бродяги, крикнувшего им вслед с прежней своей пошлой и насмешливой интонацией:
— Повеселитесь как следует по дороге, мои голубочки!
В этой циничной шутке, которая прозвучала посреди величественного шума волн, ласкавших береговые скалы, было нечто зловещее, отчего в груди у Мариуса похолодело; он еще крепче сжал руку Мадлен, бережно поддерживая девушку: в это время они с трудом пробирались через хаотичное нагромождение глыб самой причудливой формы, окружавших их.
— По правде говоря, вы напрасно дали адрес этому человеку, — сказал он.
Девушка не ответила; в эту минуту она испытывала ощущение, совершенно отличное от того, какое владело ее спутником: какой бы жуткой ни казалась ей глушь, где они затерялись (с одной стороны — каменные великаны, силуэты которых закрывали собой половину усеянного звездами неба, а с другой — море, простиравшееся слева от них как огромная темная скатерть, обрамленная местами пенистой рябью), Мадлен была во власти только одного чувства — любви. Рядом с тем, кого избрало ее сердце, она чувствовала себя столь же уверенно и надежно, как если бы находилась на улице Канебьер, и гордилась силой, черпаемой ею в этом чувстве, и радовалась покою, царившему в ее душе.
Мариус, напротив, чем дальше они удалялись от единственного живого существа, оставшегося в этих местах, тем сильнее волновался.
Прежде всего он испытывал чувство страха.
Они должны были пройти по скалам пятьсот — шестьсот шагов, прежде чем выйти на дорогу, что извивалась по склонам горы и вела к постройкам Ла-Мадрага.
Дорога, которой им предстояло следовать, была не только трудной, но и опасной: из-за ночной влажности поверхность скал стала скользкой, и при любом неверном шаге путники могли низвергнуться в пропасть.
При мысли об этом Мариус задрожал всем телом, но испугался он не за себя, а за Мадлен.
Прыгая с одной скалы на другую, Мадлен оступилась и на мгновение зависла над разделявшей молодых людей расселиной; девушка безусловно упала бы в нее, если бы рука бедного молодого человека не поддержала ее. Мариус почувствовал, как волосы зашевелились на его голове и как у него перехватило дыхание в груди; он подхватил девушку вытянутыми руками, сила которых возросла стократно от только что испытанного им ужаса, обнял ее и с невыразимым напряжением и головокружительной скоростью принялся карабкаться по прибрежным отвесным скалам, взбираться на утесы, пересекать овраги; он нес ее, словно волк, вырвавший свою добычу в овчарне, нес так, как мать несет свое дитя, спасенное после кораблекрушения.
Мадлен и не думала об опасностях, подстерегавших их во время этого безумного бега; девушка улыбалась, видя, что тот, кого она любит, такой смелый и сильный одновременно.
Удача, сопутствовавшая его дерзкой выходке, понемногу успокоила лихорадочное возбуждение, которое было вызнано у молодого человека страхом.
Он стал ощущать биение другого сердца рядом со своей грудью, и сердце это принадлежало Мадлен.
Волосы девушки, наполовину растрепавшиеся из-за стремительного восхождения, ласкали Мариуса и своим ароматом опьяняли его.
Его пульс резко участился, и кровь бросилась ему в голову; тысячи бессвязных мыслей пронеслись у него it мозгу и вызвали там смятение.
Внезапно умилившись, он был готов броситься на колени и возблагодарить Господа за ниспосланное им счастье, которого он никогда не осмеливался считать себя достойным.
Затем в свою очередь воспламенились чувства Мариуса, его охватило неодолимое желание прижаться губами к губам той, чей теплый и благоухающий запах он уже вдыхал: если вслед за таким блаженством должна была бы наступить смерть — она была бы благословенна.
Потом, вследствие внезапно происшедшей с ним перемены, он подумал, что это счастье, перед которым должно побледнеть счастье избранных, если и продлится, то лишь одно мгновение, и что буквально через несколько минут, когда Мадлен сможет обойтись без его помощи, они снова станут чужими друг другу. Тогда мучительная тоска уступила место неистовой ярости; он посмотрел на окружающие его горы, и ему захотелось вскарабкаться на самую вершину одной из них, спрятать там свое сокровище и в недосягаемом убежище бросить вызов людям со всеми их предрассудками.
Мадлен уже несколько раз умоляла его остановиться, ибо она слышала его прерывистое дыхание и опасалась, что из-за все возраставшего напряжения сил, с которым ему приходилось преодолевать встречавшиеся на каждом шагу препятствия, какое-нибудь падение может стать для него роковым.
Но казалось, что молодой человек не слышал ее. Так они добрались до каменной насыпи, которая образовывала парапет дороги и отделяла ее от пропасти; в один прыжок Мариус преодолел ее и оказался на дороге. На горизонте Мадлен увидела сверкающие огни города, а внизу различила огоньки Ла-Мадрага и Монредона.
Она подумала, что Мариус собирается остановиться; он же, вместо того чтобы продолжать путь по дороге, пересек ее и устремился на тот ее склон, что был обращен к морю.
Его дыхание стало шумным и напоминало звуки кузнечных мехов; он судорожно прижимал девушку к своей груди, и она чувствовала, как ногти ее спутника вонзались ей в тело сквозь одежду.
Она догадалась, что с ним происходит, и попыталась освободиться из его объятий, но казалось, что молодой человек заключил ее в железные оковы.
Какую бы нежность Мадлен ни питала к тому, кого она мечтала увидеть своим мужем, она почувствовала, как дрожь пробежала по всему ее телу и сердце сжалось от ужаса.
— Пощадите, пощадите, Мариус! — воскликнула она.
При звуке ее голоса молодой человек, казалось, очнулся ото сна; он выпустил из рук пучок шалфея, который схватил для того, чтобы помочь себе при подъеме на гору, разжал руки, и Мадлен, соскользнув на землю, устремилась к дороге. Возбуждение ее было столь велико, что она вынуждена была присесть.
В течение нескольких мгновений ее чувства были в оцепенении, в состоянии между жизнью и смертью: она ничего не слышала, не видела и не отдавала себе отчета в том, что происходило вокруг нее.
Придя в себя, она стала искать глазами Мариуса, но не увидела его рядом.
Она позвала его, но никто не ответил ей; с тревогой в голосе она повторяла имя молодого человека.
Вдруг ей показалось, что где-то наверху слышатся стоны и рыдания, и она побежала туда.
И тогда она заметила молодого человека: он упал на том самом месте, откуда она убежала, выскользнув из его рук, и лежал, распростершись на скале и омывая ее слезами.
— Подойдите, — сказала она ему.
Мариус не сделал ни одного движения, лишь рыдания его усилились и стали похожи на судорожные.
В эту минуту луна поднялась над холмами святого Варнавы, осветила скалы, сероватые грани которых, казалось, покрылись сверкающим снегом, как только их коснулись лучи ночного светила.
Море было похоже на серебряное озеро, усыпанное фосфоресцирующими искрами, и только глухой рокот его волн нарушал покой природы.
На фоне этой величественной картины сердце Мадлен, уже тронутое болью молодого человека, совершенно оттаяло; ее страх и гнев рассеялись, как рассеивается туман в лучах утреннего солнца.
Девушка наклонилась к Мариусу, и тихим голосом, как будто она сама боялась услышать то, что собиралась произнести, вымолвила:
— Отчего же вы плачете, ведь я люблю вас!
XII ГЛАВА, ИЗ КОТОРОЙ СТАНЕТ ЯСНО, КАК, ЖЕЛАЯ ПОЙМАТЬ РЫБКУ, ГОСПОДИН КУМБ ПОЙМАЛ СЕКРЕТ
Рыбная ловля вполне вознаграждала г-на Кумба за садоводческие терзания.
Казалось, самим Небом ему было предначертано, словно новоявленному Аттиле, истребить всю рыбу в Марсельском заливе.
В удачные дни каждый вечер он возвращался домой, как он сам выражался на своем скорее придуманном, нежели академическом языке, с шикарной рыбой и с той высокомерной улыбкой на лице, какая характерна для счастливых победителей; каждый вечер он мог приготовить такое блюдо буйабеса, какое по своему объему достойно было присутствовать на обеде, во время которого супруга Грангузье съела столько требухи.
К несчастью, чем ближе была зима, чем реже были излишества с шафранным соусом, тем больше возрастало дурное настроение г-на Кумба.
Целыми неделями небо было затянуто мрачными тучами; всегда такое лазурное Средиземное море становилось пепельным, и белокурой и нежной Амфитрите, словно восставшему гиганту, казалось, хотелось взобраться на небо, ломая руки в облаках и завывая тем угрожающим голосом, что наводит ужас на побережье.
Целыми неделями г-н Кумб ходил от своего домика к лодке и от лодки к домику, с тревогой всматриваясь в небо, потирая руки при малейшем затишье на море и тотчас же отвязывая лодку от креплений, готовый выйти на ней в море, и почти тут же угадывая по усиливавшемуся шторму хрупкость своей надежды; с грустью наблюдая громадные волны, каждый раз по три подряд разбивающие свои огромные спирали о прибрежные скалы, и подсчитывая количество рыбы, какое могло содержаться в каждой волне, и расстояние, какое отделяло эту рыбу от его кастрюль; при этом он был в высшей степени расположен к тому, чтобы, как Ксеркс, отхлестать бичом это море, отказывавшееся выдать ему добычу, которую он так страстно жаждал.
Он не раз пытался отыграться на зубатках и султанках, во время бури приближающихся к пресным водам; плывя вдоль берега, он забрасывал удочку в устье Ювоны; но однажды, желая кинуть свою снасть поближе к открытому морю, он по неосторожности двинулся слишком далеко и был опрокинут волной чудовищных размеров, так что если бы не помощь одного молодого поенного, его восторженного поклонника, в течение двух часов сидевшего рядом с ним и бравшего бессловесный урок у столь опытного преподавателя, то г-н Кумб, наказанный по принципу око за око, зуб за зуб, был бы унесен в море и предоставил бы обитателям морских глубин возможность осуществить месть одновременно легкую и вкусную.
Впрочем, во славу г-на Кумба будет сказано, что он пренебрегал такой добычей, как зубатки и султанки. Будучи истинным марсельцем, г-н Кумб ценил лишь рыбу, обитающую у скал, а эту обвиняли в присущем ей запахе тины, и г-н Кумб находил, что она не более, чем макрель, достойна почестей на его столе.
Когда же море решалось пойти на некоторые уступки в добрососедских отношениях с г-ном Кумбом, когда оно проявляло покорность по отношению к нему, бывший грузчик торопился выйти в открытое море, но волнение оставалось таким сильным, что ему приходилось трудиться до кровавого пота, чтобы передвигаться на своей зверюге. Эти плоскодонные лодки были очень тяжелые, и лишь ценой неимоверных усилий и ломоты во всем теле г-ну Кумбу удавалось достичь своего любимого места в море.
Как-то раз ему пришла в голову одна идея, и он стал терпеливо ждать воскресенья — единственного дня, когда возможно было привести ее в исполнение.
Эта идея состояла ни много ни мало в том, чтобы, отказавшись наслаждаться своими радостями в одиночестве, завлечь Мариуса в великое братство любителей удочки.
Такой сильный и крепкий молодой человек должен был прекрасно справиться с веслами. С его помощью г-н Кумб надеялся пренебречь ветрами и бурями и даже возомнил, что, пока продлится скверная погода, хотя бы раз в неделю он непременно будет обеспечен буйабесом.
В субботу вечером, когда сын Милетты явился к ним в дом, он казался таким довольным и радостным, что г-н Кумб был немало удивлен. Ему даже не пришла в голову мысль приписать счастливое выражение лица воспитанника какой-нибудь иной причине, кроме того предложения, какое он собирался ему сделать, а поскольку бывший грузчик в глубочайшей тайне хранил свои планы, он был изумлен способностью Мариуса предчувствовать, просветившей молодого человека в отношении счастливой судьбы, которая его ожидала.
По окончании ужина г-н Кумб откинулся на спинку стула и, полуприкрыв глаза и приняв величественную позу министра, благосклонно относящегося к своему подопечному, замедленным и торжественным тоном, подобающим столь важным обстоятельствам, объявил Мариусу, что завтра он удостоит его соизволения разделить вместе с ним все радости рыбной ловли на леску.
Но воодушевление, с каким молодой человек воспринял это известие, ничуть не соответствовало важности события; внимательный наблюдатель заметил бы, как улыбка улетучилась с его уст при первых же словах бывшего грузчика; однако тот был слишком высокого мнения о тех милостях, какие он даровал своему приемному сыну, и в то же время слишком озабочен собственными приготовлениями, чтобы тратить время, старательно разглядывая выражение лица своего будущего ученика.
Однако, когда Мариус обнаружил намерение прогуляться в саду после вечерней трапезы, г-н Кумб строго запретил ему делать это, и, чтобы самому быть уверенным в том, что ничто не отвлечет молодого человека в канун боевого крещения и он найдет его полным сил и бодрости, когда наступит час отправляться в путь, он запер своего подопечного в его комнате.
Задолго до наступления рассвета г-н Кумб соскочил с постели и пошел будить сына Милетты; он окликнул его несколько раз, но не получил ответа; тогда он вставил ключ в замок, резко распахнул дверь, громким голосом награждая молодого человека всевозможными эпитетами, придуманными с целью смутить лентяев, но никто не отвечал; он изо всех сил сдернул одеяло, не встретив при этом никакого сопротивления; тогда он ощупал тюфяки и увидел, что место, где должен был лежать Мариус, оставалось холодным и нетронутым.
Превосходное поведение Мариуса и почтительная преданность его к тому, кого он считал своим благодетелем, никогда — это мы уже видели раньше — не пересиливали неприязнь, какую г-н Кумб испытывал к воспитаннику.
Господин Кумб тотчас же подумал о своих деньгах; его пылкое, как у всех южан, воображение извлекло из этого ночного побега самые прискорбные выводы. Одним прыжком он достиг лестницы, чтобы побежать на помощь своему секретеру, представляя его себе взломанным, разбитым, изуродованным, еще дрожащим, со вспоротыми мешочками с деньгами, в разверстых утробах которых с вожделением копошатся две руки, купаясь в золоте.
Почти в тот же миг г-н Кумб остановился.
Ему подумалось, что каждый вечер — г-н Кумб был человек крайне осторожный — он подпирает створку этой драгоценной мебели изголовьем своей кровати и что прошли лишь какие-то секунды, как он покинул свою спальню.
Вдруг он услышал шуршание развевающегося на ветру полотна и увидел, что окно, откуда доносился этот звук, открыто.
Господин Кумб подошел к этому окну и обнаружил гам простыню, один конец которой был прикреплен к подоконнику, а другой болтался по земле.
Было совершенно очевидно, что тайное бегство молодого человека не могло иметь иной цели, кроме как вне дома, поскольку его владелец каждый вечер тщательно запирал двери и ставни на первом этаже.
Столь убедительное доказательство несколько успокоило г-на Кумба; однако он был слишком большим приверженцем порядка во всем, чтобы с терпением отнестись к тому, что его воспитанник столь прискорбным образом перепутал в его доме окно с дверью. Он был готов дать волю своему негодованию; даже уже схватил побег виноградной лозы, чтобы придать этому своему чувству больше выразительности, как вдруг был остановлен проснувшимся в нем любопытством:
«А что, черт возьми, мог делать Мариус в саду в половине пятого утра?!»
С такой фразой, одновременно восклицательной и вопросительной, обратился к себе г-н Кумб, ибо нравы и обычаи марсельцев были таковы, что ни одно предположение, каким бы естественным оно ни было, не могло оправдать подобную выходку.
Господин Кумб тут же попытался выяснить, что за серьезные причины побудили Мариуса решиться на столь раннюю прогулку; он встал на колени перед окном и, сдерживая дыхание, стал осматривать обнесенный оградой участок.
Сначала он не увидел ничего; потом глаза его привыкли к темноте и он заметил тень, которая скользнула вдоль дома, волоча за собой лестницу, а затем прислонила ее к стене, отделявшей садик г-на Кумба от владений г-на Риуфа.
Тень, даже не потрудившись проверить надлежащим образом лестницу, стала взбираться по ее перекладинам.
Господин Кумб спросил себя, а не удалось ли случайно сыну Милетты, более удачливому, чем он сам, обнаружить какие-нибудь плоды на деревьях, по которым на протяжении уже двадцати лет, увы, тщетно, блуждал испытующий взгляд хозяина?
Однако тень, или скорее Мариус, быстро преодолев якобы плодоносные сферы, достигла гребня стены и, усевшись на ней верхом, издала легкий свист.
Было очевидно, что этот сигнал адресовался кому-то из обитателей соседнего владения.
Господин Кумб испытал то, что должен был испытать путешественник, затерявшийся в страшных безлюдных ущельях Ольюля и услышавший, как от скалы к скале разносится призывный клич Гаспара де Бесса. От этого свиста у г-на Кумба пробежал мороз по коже, а на лбу выступил холодный пот.
Он так и не оценил выгод глубокого мира, который ему на протяжении полугода предоставляли его бывшие преследователи; его садоводческие печали подкармливали сильнейшую ненависть, которую он питал к своим соседям; советы Милетты и замечания Мариуса разбились о представления, вбитые ему в голову досадой и злобой. Зашедшие слишком далеко вследствие одиночества г-на Кумба, эта досада и эта ненависть заставили его перейти границы разумного: никогда он не захотел бы признать, что соседский сад наполнял столькими ароматами морской бриз лишь для удовольствия господ Риуфов; он был убежден, что великолепием зелени и цветов соседи добивались только одной цели — унизить его, сделать его посмешищем, и каждый день он ждал худшего.
Получив такое подтверждение сношений своего питомца с его личными врагами, заподозрив Мариуса в том, что он связан с ними взаимным соглашением, вовлечен в подобные замыслы, в которых их можно было подозревать, и всегда готов выдать врагам его слабое место с целью сделать более острой ту травлю, под угрозой которой он все еще чувствовал себя, — г-н Кумб задрожал от гнева. В порыве ярости он прежде всего подумал о том, чтобы употребить против предателя свой опыт владения огнестрельным оружием; он опустил виноградную лозу, все еще зажатую в его руке, и прицелился в своего питомца.
К счастью для г-на Кумба и для Мариуса, виноградная лоза все-таки не стреляла. Отыскивая дрожащим пальцем спусковой крючок на этом воображаемом ружье, он заметил, что, находясь в растерянности, только что совершил странный промах; он с силой швырнул ветку на пол и бросился в свою спальню.
Бывший грузчик был настолько вне себя от гнева, что, несмотря на математическую точность, с какой каждой ячейке его мозга соответствовало место, занимаемое в его доме любой принадлежавшей ему вещью, он в бешеном возбуждении рыскал по тесной комнатенке, шаря по всем углам и в темноте ощупывая рукой предметы, которые, даже имея некоторое сходство с великолепным оружием, проданным ему Зауэ, были, однако, способны заменить его не больше, чем виноградная лоза.
И лишь после нескольких мгновений путаницы в мыслях ему вспомнилось, что накануне, почистив свое ружье, он оставил его у очага, как должен из предосторожности поступать в подобных обстоятельствах всякий опытный охотник.
Он быстро спустился на первый этаж, осторожно ступая и стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Милетту, которая с наступлением осени спала на диване единственной комнаты в доме, где была печка.
Господин Кумб схватил свое ружье с восторгом арестованного дикаря, увидевшего в нем свое спасение; он с яростью нажал на курок; но, поскольку ружье чистили, оно осталось незаряженным и его следовало зарядить.
Однако, утратив свою стихийность, порыв г-на Кумба, доведший его до такой крайности, утратил, естественно, и свою необузданность; тем не менее г-н Кумб был по-прежнему решительно настроен преподать этому негодяю то, что он называл уроком; но мы полагаем, что ему уже пришла в голову мысль стрелять или немного выше, или немного ниже живой цели, которую он собирался поразить; это, впрочем, не гарантировало ее ни от чего.
XIII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН КУМБ ДАЛ МАКИАВЕЛЛИ ДЕСЯТЬ ОЧКОВ ВПЕРЕД
Каким бы свирепым охотником ни был г-н Кумб, у него не было времени для приобретения того основательного опыта, что позволяет заместить глаза руками и заряжать ружье в темноте; ему пришлось зажигать лампу, чтобы помочь себе за отсутствием такого навыка.
Он поднес спичку к обгорелому фитилю ночника; фитиль окрасился в багровый цвет, а затем вспыхнул; свет от него, тусклый и мерцающий, падая на стены, оставлял на них невероятные и фантастические рисунки. Внезапно подача масла, смачивавшего фитиль, увеличилась и ночник осветил всю комнату; г-н Кумб бросился к пороховнице и к сумке с дробью.
Однако не успел он взять их, как его взгляд упал на Милетту; бедная женщина спала безмятежным сном, ритмичное дыхание равномерно вздымало ее грудь, лицо ее было спокойно, на губах блуждала легкая улыбка: жизнь продолжалась во сне. Ей, вероятно, снился тот, кого ее хозяин в эту самую минуту готовился убить.
Это сопоставление немедленно пришло на ум г-ну Кумбу, все же не поступившему так; оно опечалило его; впервые за всю свою жизнь он упрекнул себя за равнодушие к смиренному и глубокому самопожертвованию, к самоотречению и нежности, которые составляли смысл существования его служанки; впервые он заметил, какой благородной и великодушной была она и каким мелким и ничтожным был он; и тогда ружье выскользнуло у него из рук и с грохотом упало на каменный пол; и если воздействие было неожиданным, то противодействие было внезапным: возникшее вдруг у г-на Кумба убеждение винить в своих ошибках самого себя лишь многократно усилило его первоначальный гнев. Не став поднимать ружье, он открыл замок и задвижку и, выломав палку из метлы, оказавшейся у него под рукой, бросился из дома, полный решимости употребить ее на то, что было предназначено ей Господом.
Господин Кумб побежал к стене, но, к своему великому изумлению, уже не обнаружил там лестницы. Он вернулся к дому; простыня, уличившая Мариуса, спряталась в свою ракушку; ракушкой этой было окно сына Милетты: плотно закрытое, оно обрело честный и невинный вид, такой же, как у соседних окон.
Господин Кумб начал рычать от охватившего его гнева.
Внезапно он замолк.
Из соседского сада послышалось: «Эй! Эй!» — явно ответ на свист, прозвучавший из уст Мариуса как сигнал, и это «Эй! Эй!», несомненно, произнесла женщина.
Господин Кумб подавил волнение сердца, готового вырваться у него из груди, и, стараясь придать своему голосу юношескую интонацию, как никогда ранее заинтересованный в разгадке этой тайны, ответил на зов, донесшийся из соседнего сада.
Едва он это сделал, как к его ногам упало что-то довольно тяжелое, переброшенное через общую для обоих участков стену. Это был камень, обернутый клочком тщательно сложенной бумаги, и бывший грузчик на время им завладел — что бы там ни случилось, секрет молодого человека лежал у него в кармане. Впрочем, не стоило упускать случая еще глубже проникнуть в этот секрет. Господин Кумб вновь подал голос, на этот раз не столь удачно: он услышал, как захрустел песок под ножкой той, что уходила крадучись; неизвестная отправительница послания удалялась.
Господин Кумб, ничего не ответив Милетте, проснувшейся от шума упавшего ружья и не знавшей, что и думать при виде совершенно расстроенного лица своего хозяина, взял лампу и поднялся к себе в комнату.
Вот что содержалось в поднятом им клочке бумаги:
«Печальная новость, мой друг! С тяжелым сердцем я сообщаю ее Вам, и мое сердце восстает против пера, которому выпало писать Вам это. Воскресенье, которое мы так предвкушали, станет и для меня и для Вас таким же длинным, как все те пустые и длинные дни недели, что разделяют наши бедные свидания. Я надеялась избежать обязанности присутствовать на семейном обеде, о котором я Вам упоминала; но это оказалось невозможным для меня: мой брат, разумеется, по иным, нежели мои собственные, намерениям, принял в точности такое же решение, как и я, — не показываться на этом вызывающем досаду праздничном обеде; я просила, плакала, умоляла — я говорю это Вам для того, чтобы Вы могли гордиться этим, мой друг, — но его упрямство невозможно было побороть. Наши с Вами общие планы столь настоятельно требуют от нас поступать с ним осторожно, что Вы вряд ли станете на меня сильно сердиться за мою уступку ему; кстати, моя покорность сегодня — это доброе предзнаменование нашего с Вами будущего согласия. Не падайте духом, мой друг! И объединим желания, чтобы Господь укоротил не только те часы, что держат нас вдали друг от друга, но и те, что нам предстоит пережить, пока не наступит день, когда мы сможем взаимно сдержать клятву, данную нами на прибрежных скалах. Прощайте, мой друг! Жму Ваши руки; я столько думаю о Вас, что вряд ли стоит говорить Вам: “Думайте обо мне!"»
Письмо было подписано полным именем: «Мадлен Риуф». С присущей решимостью и со всей искренностью любви молодая женщина была счастлива придать этому листку бумаги ценность векселя.
Господин Кумб стал размышлять; он крутил послание мадемуазель Риуф и так и сяк, как будто ей удалось утаить между строк какой-то важный смысл, который ему еще не удалось угадать. Каждое из своих движений он сдабривал проклятиями, полными то презрения, то ярости: первые — по поводу бесстыдства женщин, вторые — по поводу неблагодарности мужчин.
Вдруг он заметил постскриптум, чуть было не оставленный им без внимания из-за тонкого почерка писавшей.
«Только будьте как можно более осмотрительным, — добавляла мадемуазель Мадлен в конце письма. — Не показывайтесь даже вблизи нашей общей границы до тех пор, пока я не подготовлю Жана к своим желаниям; остерегайтесь завтра, в мое отсутствие, приходить в нашу дорогую рощицу, поскольку, по всей видимости, Ваш будущий шурин проведет в шале весь день, а также вечер».
На этот раз уже нельзя было принять язык мадемуазель Мадлен за мальгашский. Господин Кумб не знал, смеяться ему или плакать.
На самом деле он претерпевал и то и другое ощущение.
Как все эгоисты на свете, он не понимал, что в этом мире могло бы поколебать счастье, которое надлежало испытывать, выполняя то, что могло быть приятно ему самому. Он не думал о выгодах, какие проистекали бы для Мариуса из этого брака, столь далеко превосходящего его надежды; его заботило лишь то, что сам он называл предательством его воспитанника: оно казалось ему не только постыдным, но прежде всего преступным, и никакой вид наказания не мог быть слишком суровым, чтобы покарать за него. Думая об этом, г-н Кумб ощущал одновременно сожаление, полное горечи, и ярость, чреватую презрением.
С другой стороны, поскольку он глубоко осознавал, что такое общественная иерархия, союз сына Пьера Мана, осужденного, с девицей, принадлежавшей к торговой аристократии Марселя, представлялся ему чем-то необычайно шутовским! Об этом прекрасном замысле в письме было сказано без обиняков, но в такое нельзя было поверить; г-н Кумб ожидал увидеть какого-нибудь смешного чертика, выскакивающего из письма, какие порой выскакивают из табакерки.
— Ха-ха-ха! Это уж чересчур забавно! — воскликнул г-н Кумб. — Сын этого мерзавца Мана и Милетты, моей служанки — ведь что ни говори, она прежде всего лишь моя служанка, — верит, что он женится на даме, которой я вето возрасте не осмелился бы предложить святой воды на кончике своего пальца! Ай-ай! Это как если бы мэр Касиса захотел управлять Марселем! Да она же смеется над ним, как тунец над пехотинцем!
Затем, подумав вдруг совсем о другом, он добавил:
— Ах ты негодяй! Теперь я понимаю, почему ты так хотел умерить мою враждебность по отношению к тому, кто заставил меня пережить столь скверные ночи, почему ты не дал мне убить его, как он того заслуживал; ты уже забросил удочку, чтобы поймать эту девицу, и она, прожорливая, как скорпена, уже выпрыгнула из воды, чтобы схватить наживку. Бог мой, ну и молодая особа! Веры в Бога у нее не больше, чем здравого смысла; можно подумать, что письмо это написано какой-нибудь дамочкой с площади Комедии. Тьфу ты! Я уже не молод, но клянусь, что ни за что бы не захотел иметь дело с такой бесстыдной девицей. Его, быть может, прельщает не сама эта женщина, а соблазняет ее дом; он хочет стать богатым, с гордым видом ходить по этому прекрасному саду, где столько цветов, а такое заражает, словно бешенство, и тоже издеваться над бедным и скромным деревенским домом, где по моей милости он был воспитан. Эх, черт возьми! Не будет этого, говорю я вам! Прежде всего, мне надо оказать ему услугу — помешать и дальше верить во всю эту чепуху; я не отдам ему это письмо; он пойдет на свидание в ту самую рощицу и встретится там с ее братом; и, черт побери, пусть они подерутся, пусть поколотят друг друга, отдубасят, измолотят и даже убьют! Эх, если уж нет прибыли, так, по крайней мере, не будет и убытка!
Выразив столь милосердное пожелание, г-н Кумб положил письмо к своими бумагам и позвал Мариуса.
Как ему показалось, он не обнаружил на лице молодого человека следов достаточно большого замешательства. Внезапно опустившись на землю с высот, где витал Макиавелли, г-н Кумб обнаружил удивительное умение скрывать свои чувства: он был таким предупредительным и радушным с сыном Милетты, таким веселым и непринужденным в разговоре с ним и вел себя столь сердечно, что Мариус, внутренне трепетавший от страха при мысли, как бы строгий приемный отец не застал его врасплох во время утренней попытки предупредить Мадлен о неожиданной помехе, на целый день разделявшей их, совершенно успокоился и бросал и вытягивал леску с нанизанными на нее рыболовными крючками, не находя в этом занятии никакого развлечения.
Однако г-н Кумб все устроил так, чтобы они с Мариусом вернулись в деревенский домик, лишь когда день уже будет в полном разгаре.
XIV НИЩИЙ
Рыбная ловля лишь тогда доставляет удовольствие, когда ей предаются со страстью; однако, как и все на этом свете, она имеет свои завлекательные стороны. Сколь ни мало был расположен Мариус к тому, чтобы увлечься ею, она его захватила.
Рыбы штурмовали два крючка, которыми была снабжена его леска, так часто, что, целиком озабоченный тем, чтобы снять их с крючков, подтянуть и забросить в воду те тридцать или сорок морских саженей, которые и образуют рыболовную снасть, он уже не вспоминал о Мадлен с той настойчивостью, с какой мысленно обещал самому себе делать это.
Но по пути от островов Риу к Монредону в мыслях его произошла перемена, причем по ряду самых разных причин.
Сердце молодого человека почувствовало настоящие угрызения совести, когда он признался себе, что его любовь, какой бы сильной он ее ни считал, уступила свое главенствующее место какой-то пустой забаве; он сравнил грубые утехи, каким он поддался, с теми невыразимыми радостями, какие доставили бы ему лишь несколько мгновений беседы с Мадлен, со счастьем украдкой увидеть ее за решетчатыми ставнями, и, покраснев, готов уже был поддаться искушению выбросить в море и леску и рыб — соучастников или подстрекателей его прегрешения.
Кроме того, его охватило дурное предчувствие, выразившееся в мучительной тревоге.
С той минуты, когда на безлюдном мысе мадемуазель Риуф призналась ему в любви, молодые люди сразу же, по дороге в Монредон, вследствие их взаимной склонности, стали строить планы своего совместного будущего. Любовь, которую Мадлен испытывала к своему другу, была столь чистой, что, едва эти обещания были даны, девушка находила уже совершенно естественным разрешить Мариусу приходить к ней, перелезая через стену, безобразившую два сада. И минувшим воскресным днем, в час, когда еще все в домике г-на Кумба спали, сын Милетты проник к своей соседке и провел у ее ног немало сладких минут, повторяя ей волшебные клятвы в любви, восхитительные как для произносившего, так и для слушавшей их. В течение целой недели он жил надеждой, что наступающее воскресенье будет похоже на предыдущее, и, когда утром г-н Кумб своим вторжением помешал ему предупредить дорогую Мадлен о своем будущем отсутствии, он затрепетал при мысли, как бы это отсутствие она не приняла за равнодушие, хотя это чувство было так далеко от тех чувств, какие он испытывал к ней; он опасался, как бы не исчезли те прекрасные мечты, в течение последней недели нежно лелеемые им.
Солнце клонилось к горизонту; его лучи уже окрасили в багрянец и золото скалы острова Помег и белые крепостные стены замка Иф; день приближался к концу, и молодой человек, поддаваясь только что описанным нами настроениям, согнулся над веслами, чтобы заставить тяжелую лодку быстрее преодолеть то расстояние, что еще отделяло ее от дома.
Господин Кумб насмешливо поглядывал на усилия, прилагаемые его воспитанником, и пол благовидным предлогом, что вкус буйабеса прямо зависит от свежести рыбы, увещевал его удвоить их; это, впрочем, не помешало ему, когда они, наконец, высадились на берег и Мариус уже готов был помчаться к домику, удержать его, чтобы на практике закрепить теорию того искусства, которую с раннего утра он беспрерывно излагал ему, и наглядно объяснить, что умение поймать рыбу само по себе еще ничего не значит, если к этому таланту не прибавляется другой — умение заботиться о снастях, необходимых для рыбной ловли.
Бедному юноше пришлось помочь бывшему грузчику вытащить лодку на песчаный берег так далеко, как это было необходимо, чтобы уберечь ее от шквала, затем выгрузить и почистить ее и, наконец, закрепить многочисленными швартовыми; к тому же г-н Кумб постарался привнести в эти мелкие работы, имевшие целью обезопасить и сохранить лодку, ту торжественную медлительность, какая удвоила испытываемое его воспитанником нетерпение.
Наконец, когда г-н Кумб нагрузил начинающего рыболова несколькими корзинами со снастями и рыбой, когда к этому весьма внушительному грузу он прибавил еще весла, багры, якорь и лодочный руль, — только тогда он позволил ему направиться к дому.
Первой заботой Мариуса, когда он вошел в дом, было подняться к себе в комнату, чтобы как можно быстрее бросить взгляд на владения своей возлюбленной.
Увы, напрасно он искал ее глазами по всей протяженности соседнего участка; напрасно пристально вглядывался в гущу деревьев, сохранявших, благодаря счастливым особенностям местного климата, свою таинственную пышность, несмотря на наступившую осень; та, которую он столь безуспешно искал взглядом, не читала под их зелеными сводами, не проходила по узким аллеям, как это столько раз прежде видел Мариус, когда она прогуливалась с мечтательным видом, а он был еще так далек от мысли предположить, что мог занимать какое-то место в ее грезах; сад оставался пустынным; заросли бересклета и лавра, где он и Мадлен обменивались нежными речами, приняли, как ему показалось, мрачный и унылый вид; ему чудилось, что даже само шале с его плотно закрытыми ставнями приобрело со вчерашнего дня какой-то скорбный облик.
Сердце Мариуса сжалось, предчувствия не обманули его. То был образ горя, царившего в сердце его возлюбленной, и причиной этого горя было его проклятое отсутствие. Всем своим существом он призывал на помощь благосклонную сень деревьев: скрыв его перелезание через ограду, она позволила бы ему прийти и оправдаться перед Мадлен; часы, которые должны были пройти, прежде чем ночная тень укроет собою оба дома, заранее казались ему такими долгими, что это приводило его в отчаяние.
Господин Кумб, напротив, выглядел веселым; он приправил ужин таким множеством шуток, что заставил Милетту раскрыть глаза от удивления; по нахмуренным же бровям Мариуса, по его упорному молчанию, по написанному у него на лице отчаянию хозяин деревенского домика понял, что тот достаточно разозлен и не преминет нанести визит в сад мадемуазель Риуф; г-н Кумб весело потирал руки при мысли о неожиданной развязке, какую он столь ловко подготовил; об унижении, какое из-за последующих за этим разоблачений испытает его враг г-н Жан, и о том прекрасном уроке, какой в результате всего будет преподан самомнению Мариуса!
И, чтобы предоставить ему полную свободу действий, г-н Кумб по окончании трапезы объявил, что он, пользуясь прекрасным вечером, выйдет в море и расставит на побережье сети.
Молодой человек испугался, не придет ли его благодетелю мысль и на этот раз взять его себе в помощники, но г-н Кумб, казалось, проникшийся несравненной нежностью к Милетте, заявил ей, что ему не достанет жестокости снова лишать ее радости общения с дорогим ее сердцу сыном.
Стоило г-ну Кумбу удалиться, как Мариус поднялся на свой наблюдательный пункт; изучение им соседней территории было не более успешным, чем в первый раз, однако он обнаружил, что теперь окна первого этажа шале были распахнуты, из чего он заключил, что Мадлен, возмутившись его холодностью или, быть может, заболев, осталась сидеть взаперти в своих комнатах; эти предположения лишь еще больше укрепили его решимость найти ее, даже если для этого понадобится проникнуть в ее дом, и, как только наступит ночь, он сделает это. Ожидая наступления ночи, Мариус вернулся к матери, в одиночестве прогуливавшейся по саду.
Мы уже упоминали ранее о тревогах, терзавших Милетту; они усиливались по мере того, как приближался роковой момент; уже раз двадцать она пыталась было поведать сыну печальную историю своей жизни, и всякий раз мужество оставляло ее в то самое мгновение, когда надо было начинать рассказ. Так что Мариус в глубине души продолжал считать себя сыном г-на Кумба.
Случай излить свою душу, освободить ее от накопившегося там за долгие месяцы беспокойства, представился столь удачно, что Милетта больше уже не сомневалась, стоит ли ей донести до сына свою печальную исповедь.
Она медленно шла по аллейке, высокопарно называемой г-ном Кумбом подъездной дорогой и являвшейся в действительности самой заурядной дорожкой, которая из конца в конец пересекала весь сад и выходила прямо на улицу; Милетта допытывалась у своей совести и искала, что могло бы послужить оправданием ошибки, пагубные последствия которой она осознала только теперь; она спрашивала себя: что ей можно будет ответить сыну, если он упрекнет ее, почему она не сумела сохранить свое достоинство — единственное достояние, какое он вправе был ожидать от нее.
В самом конце подъездной дороги — приходится называть ее так — г-н Кумб посадил несколько дюжин сосен, которым, несмотря на настойчивость, с какой они боролись за жизнь, так и не удалось подняться до того, что принято называть словом «вершины», на высоту окружавших их стен. Само собой разумеется, что владельцем деревенского домика этот пучок корявых и чахлых прутиков был назван не больше не меньше как сосняк, будто он раскинулся на площади в сто арпанов.
Бывший грузчик не мог обладать подобием тени, не думая о том, чтобы извлечь из нее всю возможную прибыль. И потому он установил в этом сосняке скамейку, хотя задача эта была не из легких, поскольку самые высокие сосны являли собой точную копию зонтика с воткнутой в землю ручкой. Тем не менее, достаточно пригнув голову и подобрав под себя ноги, можно было сесть на эту скамейку. Положение сидящего нельзя было назвать самым удобным, но поскольку в целом, за исключением места под смоковницей (его г-н Кумб оставлял для себя), это был единственный уголок с подобием тени, и поскольку с этой скамейки, расположенной в двух шагах от решетки ограды, видны были редкие прохожие на дороге, у Милетты, не избалованной своим хозяином развлечениями, выработалась привычка приходить сюда каждый день и чинить здесь домашнее белье.
Как только Милетта в задумчивости заняла свое излюбленное место, она увидела подходившего к ней Мариуса и сразу почувствовала, как нарастает ее тревога; две большие слезы навернулись ей на ресницы, затем медленно покатились по щекам, ставшим еще бледнее из-за ее страданий; она взяла сына за руки и, задыхаясь от волнения, не в силах произнести ни слова, знаком предложила ему сесть возле нее.
Под воздействием печали, владевшей им в эти минуты, Мариус был еще более, чем к обычных обстоятельствах, восприимчив к печали своей матери, и он стал умолять ее доверить ему причину ее горестей.
Вместо ответа Милетта бросилась ему на шею и с мольбой и отчаянием крепко обняла его.
Мариус продолжил настаивать с новой силой:
— Что с вами, матушка? Сердце мое разрывается, когда я вижу вас в таком состоянии. Бог мой, ответьте же, что с вами случилось? Если я своим поведением заслужил ваши упреки, то почему же вы опасаетесь адресовать их мне? Вы учили меня быть послушным по отношению к тем, кого любишь, а сомневаться в том, что я вас люблю, означает огорчить меня больше, чем могли бы огорчить меня ваши справедливые укоры. Не обидел ли кто-нибудь вас, матушка? О! Назовите мне его имя и вы найдете во мне человека, готового защитить вас и наказать его, как я поступил в случае, когда дело касалось моего… вернее, нашего благодетеля. Полноте, матушка, ну не плачьте же, ваши рыдания разрывают мне душу! Я бы предпочел видеть, как капля за каплей убывает моя собственная кровь, чем видеть слезы, вытекающие из ваших глаз! Так вы не любите больше своего сына, раз не считаете его достойным вашего доверия? Разве можно что-то утаить от того, кого любишь? Разве не должно делиться с ними и радостями и горестями? Знаете ли, матушка, что у меня тоже есть секрет, и вы не поверите, насколько сильно он меня тяготит, ведь я не могу поделиться им с вами. Но, будь что будет, я расскажу вам о нем, я доверю его вам, чтобы подать пример и чтобы вы больше не боялись своего сына и могли всегда рассчитывать на сохранение им тайны и на его сыновнюю преданность.
Милетта слушала, но не слышала его слов; до ее слуха доходило лишь выражение сыновней любви, и эта мелодичная музыка доставляла ее душе сладостные ощущения; однако в мыслях ее была такая путаница, что она и не пыталась уловить смысл его слов.
— Дитя мое, мое дорогое дитя! — воскликнула она. — Поклянись мне, что, как там ни будет, ты не станешь проклинать свою мать; поклянись мне, что если ты осудишь ее, если ты заклеймишь ее, то твоя любовь защитит ее; поклянись мне, что твоя любовь навсегда останется со мной, поскольку это мое единственное достояние, и никогда прежде, вплоть до этого часа, я не чувствовала, чтобы ему угрожала опасность. Я хотела бы умереть! Боже мой! Я хотела бы умереть! Умереть, да что тут такого?.. Но потерять любовь того, кого я носила под своим сердцем, плоть от плоти моей, кровь от крови моей — невозможно! Нет, Господь не допустит этого!.. Успокойся, Мариус, сейчас я все расскажу, — продолжала несчастная женщина, трепеща и помертвев от страха, — я расскажу, ибо невозможно, чтобы ты перестал меня любить; сейчас я все расскажу.
— О, ну же, говорите, матушка! — ответил молодой человек, бледный и взволнованный не меньше своей матери. — Что же случилось, о великий Боже?! Как вы только могли предположить, что я перестану почитать вас как самую достойную из женщин, перестану лелеять вас как самую нежную из всех матерей? Вы заставляете меня трепетать в мой черед; рассейте же как можно скорее мои тревоги. Какой бы проступок вы ни совершили, разве вы не останетесь для меня матерью, а мать для своего сына, так же как Бог для людей, непогрешима, не так ли? Да нет, не может быть, чтобы вы, разъяснявшая мне законы порядочности, учившая меня почитать честь, сами были лишены того и другого. Ваша совестливость вводит вас в заблуждение; расскажите мне все, и я вас утешу, расскажите, и я вас успокою; говорите, говорите, матушка, — я умоляю вас об этом!
Милетта слишком переоценила свои силы: рыдания душили ее, не давая ей говорить; единственное, что она смогла сделать, — это броситься на колени перед своим сыном, все, что она могла произнести — это слово «Прости!».
Увидев мать на коленях перед ним, Мариус порывисто обнял ее и поднял.
При этом он повернулся спиной к садовой калитке, к которой Милетта была обращена лицом.
Внезапно глаза ее невероятно широко раскрылись и оцепеневшим взглядом она стала растерянно смотреть в сторону улицы, затем протянула руку, как бы желая отогнать жуткое видение, и одновременно испустила страшный крик.
Мариус испуганно обернулся; при этом край его одежды коснулся одежд человека, который, тихо отворив калитку, входил в нее.
В этом человеке Мариус узнал того самого бродягу, кого он вместе с Мадлен спас от верной гибели среди скал; в руках тот держал шляпу, лицо его выражало притворную покорность, характерную для людей его ремесла; тихим голосом он произнес избитую фразу, с какой нищие просят подаяние.
Мариус решил, что единственной причиной испуга его матери стала неожиданность, с которой появился этот безобразный нищий.
— Убирайтесь прочь! — резко крикнул он ему.
Однако и нищий тоже узнал его: милостыня, поданная молодым человеком во время первой их встречи, казалось, дала тому не только уверенность и том, что он получит ее вновь, но и изрядную наглость настойчиво требовать ее. Он натянул на голову шляпу, и по лицу его, которому он так старался придать благостное выражение, пробежала легкая тень дерзости.
— Эх, черт возьми, — воскликнул он, — так дна старых знакомых не расстаются!
— Ах, Боже мой, Боже мой, ты безжалостен н своем правосудии, — промолвила Милетта, ломая себе от отчаяния руки.
— Да уйдешь ты отсюда или нет, несчастный? — закричал Мариус и, схватив нищего за шиворот блузы, с силой стал трясти его.
— Э, поосторожнее! У меня нет, как у вас, одежды на смену. И если я считаю необходимым не уходить отсюда, то лишь потому, что не люблю, когда надо мной насмехаются, вот и все.
— Чего вы хотите? Ну же, говорите! — вновь заговорил Мариус, надеясь таким образом быстрее отделаться от назойливого нищего. — Ну, на что вы жалуетесь?
— Я жалуюсь на то, что прекрасная мадемуазель, с которой вы так прогуливались две недели тому назад возле косы, так вот, она посмеялась надо мной, как марсовой над сухопутным солдатом; я явился к ней в дом, то есть поступил согласно ее же собственному распоряжению, и только я открыл дверь ее конторы — признаться, богатой конторы, и это доказывает мне, что вы не зря дорожите прогулками с ее хозяйкой, — как наткнулся на ее служащих, выгнавших меня на улицу словно какого-то оборванца, у которого на роже написано, что он вор. Так с людьми не поступают!
— Возьмите, — сказал Мариус, вытаскивая из кармана монету. — А теперь уходите отсюда!
— Речи вашей барышни обещали побольше, чем стоит ваша монетка, — заявил нищий, пренебрежительно вертя милостыню в руке.
— Негодяй! — воскликнул Мариус, сжимая кулак.
— Э! Что это с вами, ведь я все-таки выражаю вам свою благодарность, — произнес нищий с присущим ему бесстыдством, — вы гораздо любезнее, когда ухаживаете за юной особой, чем когда спорите со старухой; впрочем, это само собой разумеется. Не думайте только, что я на вас обижаюсь, а доказательство этому следующее: если вы, как я полагаю, собираясь жениться на малышке, вынуждены дать расчет прежней любовнице, к чему вы и приступили к моменту моего прихода, то я позволю себе закончить похвалой в ваш адрес, коль скоро все это вам так надоело.
— А я нот сейчас проучу тебя за наглость! — покричал Мариус, бросаясь на нищего.
Как только послышался шум борьбы, Милетта, которая до тех пор недвижно стояла на коленях, закрыл лицо руками и не подавая других признаков жизни, кроме рыданий и нервной дрожи, сотрясавшей ее тело, — Милетта дышла из оцепенения, в которое она была погружена.
— Мариус! Мариус! — вскричала она. — Во имя Господа, не поднимай руку на этого человека. Сын мой, прошу тебя, заклинаю тебя, приказываю тебе! Этот человек, Мариус, священ для тебя!
Бедная женщина едва внятно выдохнула последнюю фразу, и силы оставили ее; руки, в умоляющем жесте протянутые к сыну, безжизненно упали вдоль тела, туман заволок ей глаза, и, потеряв сознание, она навзничь упала на песчаную дорожку.
Но боровшиеся не могли ее услышать; с первых же минут драки Мариус, будучи сильнее своего противника, вытолкнул его за ограду сада, и оба, упав, покатились в дорожной пыли.
Когда сын Милетты смог наконец высвободиться из рук нищего, старавшегося подмять его под себя, он вернулся в сад и нашел свою мать лежавшей без чувств.
Он поднял ее и отнес в дом.
Однако он не позаботился о том, чтобы закрыть за собой калитку, и раньше чем он успел повернуться к нищему спиной, тот бесшумно открыл ее и проскользнул в сосняк, тень которого, вследствие темноты, постепенно окутывавшей землю, создавала ему укрытие, вполне достаточное для того, чтобы быть незаметным как из шале Мадлен, так и из домика г-на Кумба.
XV ПРИЗНАНИЯ
К тому времени, когда Мариус шел к деревенскому домику, неся на руках свою мать, лишившуюся чувств, г-н Кумб еще не вернулся домой.
Мариус бережно положил Милетту на широкий диван, служивший ей кроватью, и попытался привести ее в чувство.
Прошло несколько минут, и Милетта открыла глаза; но в первый миг она подумала не о сыне: судорожно сотрясаясь всем телом и громко стуча зубами, она быстро окинула комнату взглядом, исполненным ужаса. Бедная женщина кого-то искала там и it то же время трепетала от страха при мысли обнаружить его.
Убедившись, что кроме Мариуса в комнате никого нет, она приложила руку колбу, словно пытаясь все вспомнить, и, когда недавняя сцена ясно и отчетливо возникла в ее памяти, слезы с новой силой хлынули у нее из глаз и рыдания ее возобновились.
— Вы приводите меня в отчаяние, матушка! — воскликнул Мариус. — Все происходящее кажется мне каким-то сном. Я пытаюсь понять, что же могло до такой степени расстроить вас, но у меня это никак не получается.
— Десница Господня! Десница Господня! — повторяла Милетта, словно разговаривая сама с собой.
— Придите же в себя, матушка, умоляю вас! Успокойтесь!
— Десница Господня! — снова произнесла бедная женщина.
— Так вы хотите, чтобы и я потерял рассудок? — спросил молодой человек, хватая себя за волосы. — Откройте же мне эту тайну. Почему вы так дрожите, возлюбленная моя матушка? И о каком проступке вы только что упоминали? Каков бы он ни был, я выдержу вместе с вами его груз; даже если речь идет о позоре, я разделю его вместе с вами и не стану боготворить вас меньше. Скажите, матушка, почему вы встали передо мной на колени, когда этот презренный негодяй своим появлением прервал наш разговор?
Упоминание о нищем только усилило и без того ужасное состояние Милетты: она сложила руки и в порыве невыразимого отчаяния подняла их к Небу.
— Почему ты это позволил, Господи? Почему ты это позволил? — воскликнула она. — А ты, мой бедный сын, что же ты наделал!
— Чем вы так сильно озабочены, матушка моя? Я прогнал нахального бездельника, который в благодарность за помощь, оказанную ему мной, не побоялся оскорбить вас, вот и все. Полноте! У нас с вами остается слишком мало времени для разговора. С минуты на минуту может вернуться отец. Поторопитесь, матушка, открыться мне, и я вас утешу; поторопитесь рассказать мне, что произошло, и я буду страдать вместе с вами. Говорите же!
— Ах, ты не знаешь, чего это стоит матери, когда ей приходится краснеть. перед собственным ребенком. Скажи мне об этом человеке, что был здесь, об этом несчастном: что с ним сталось?
— Да не все ли вам равно? О вас, а не о нем идет речь, матушка.
Милетта ничего не ответила; она спрятала лицо, пригнув голову к коленям.
Молчание бедной Милетты усиливало тревогу молодого человека и удваивало его сомнения. Он ничуть не преувеличивал испытываемого им уважения и нежности к той, которой он был обязан своим появлением на свет. Будучи серьезнее и вдумчивее большинства своих сверстников, он мог по достоинству оценить благородство ее жизни — такой скромной и смиренной; он восхищался матерью и подражал ей в стоической безропотности, с какой она покорялась переменчивому нраву того, кого он считал своим отцом, и в ангельской кротости, с какой она сносила его причуды. Милетта была для собственного сына святой, достойной всеобщего поклонения; он совершенно не представлял, что же могло столь сильно взволновать ее душу, до сих пор такую безмятежную и чистую.
Но, когда он столкнулся с ее упорным молчанием, заговорив о нищем, когда он вспомнил, какое сильное впечатление на мать произвело появление его, ему на память пришли слова, долетевшие до его слуха во время драки с нищим, и он начал думать, что этот человек вполне может быть в каком-то отношении причиной бед, угнетавших Милетту, и, испытывая нечто вроде безотчетного стыда, не стал более расстраивать ее.
Он присел на краю дивана, взял ее за руку, и в течение нескольких минут, не вымолвив ни слова, они сидели неподвижно.
Несчастная женщина первой нарушила молчание, ставшее тяготить ее.
— Так, значит, ты не первый раз встречаешь этого человека? — спросила Милетта дрожащим голосом.
— Нет, матушка, однажды я нашел его среди скал.
И Мариус рассказал матери о том, что сделал для нищего во время первой встречи с ним, умолчав об участии мадемуазель Риуф в этом акте милосердия и о ее присутствии на том мысе.
— Бедняга! — прошептала Милетта по окончании его рассказа.
— Разве вы его знаете, матушка? — трепеща спросил Мариус.
Минуту жена Пьера Мана колебалась; затем она собрала все свое мужество, но его не было достаточно, чтобы преодолеть страх, внушаемый ей необходимостью сделать это признание, и она отрицательно покачала головой.
Мариус не мог поверить, чтобы из уст матери исходила ложь; он с облегчением вздохнул, как будто с души его сняли тяжелый груз.
— Ну что ж, тем лучше, — сказал он, — поскольку то, что произошло сегодня, подтверждает мои подозрения, родившиеся на днях, и я теперь совершено убежден, что, спасая его тогда, я оказал обществу плохую услугу…
— Мариус!
— … так как этот мнимый нищий просто бандит…
— Мариус!
— … готовящийся совершить какое-то новое преступление!
— О, замолчи, замолчи!
— Почему я должен молчать, матушка?
— О, если бы ты только знал, кого ты поносишь! Если бы ты знал, кому ты адресуешь эти бранные слова! — словно безумная повторяла Милетта.
— Матушка моя, что это за человек? Скажите, кто он: это необходимо. Поскольку речь идет о нашей чести — о том единственном, что я имею полное право защищать; это право позволяет мне приказывать, и я приказываю.
Затем, испугавшись оцепенения, охватившего Милетту при звуке его голоса, обычно нежного, а сейчас ставшего суровым и угрожающим, он продолжал так:
— Нет, я не приказываю вам; разве мои мольбы и слезы ничего не значат для вас? Я плачу и умоляю вас. Теперь я встаю перед вами на колени и заклинаю вас, моя матушка. Объясните же мне, по какой ужасной воле случая могли возникнуть какие-то отношения между вами, такой благоразумной, честной и добродетельной, и им, этим отвратительным типом!
— Ты узнаешь все, сын мой, но еще раз умоляю тебя — помолчи, не говори так. Совсем недавно ты сам мне сказал: «Мать — это Бог для сына: как и он, она непогрешима». Так вот, Мариус, ты должен посочувствовать нищете этого человека и облегчить ее; ты не имеешь права обращать свой взгляд на ошибки, которые он мог совершить; ты обязан простить ему его преступления, и, как бы отвратителен он ни был для всех, для тебя он должен оставаться святым, ибо этот человек…
— Матушка!
— … этот человек, Мариус, твой отец!
И с трудом выдохнув эти последние слова, Милетта, совершенно подавленная, вновь упала на диван. Услышав их, Мариус стал бледным как полотно и несколько минут, словно пораженный громом, сидел неподвижно; затем, бросившись Милетте на шею, крепко сжал ее в своих объятиях и, прижимая ее к своей груди, стал покрывать ее лицо нежными поцелуями, обливая его горячими слезами.
— Вы же видите, моя дорогая матушка, — воскликнул он, — что я по-прежнему люблю нас!
Прошло несколько мгновений; слышны были лишь поцелуи и рыдания матери и сына.
Затем Милетта рассказала сыну обо всем том, о чем уже знают наши читатели.
Когда она заканчивала этот печальный рассказ, который неоднократно прерывался из-за спазмов отчаяния, сжимавших ей горло, сын продолжал задумчиво сидеть, облокотясь о диван и подперев голову рукой, тогда как Милетта, наклонившись к нему, положила голову ему на плечо и еще ближе придвинулась к тому, кто вскоре должен был остаться, как она предчувствовала, ее единственной поддержкой.
— Матушка моя, — сказал он ей сурово и нежно, — не надо плакать. Ваши слезы только еще больше обвиняют того, из-за кого наши судьбы столь несчастны; мне непозволительно в этом смысле присоединяться к вам. Я могу только сожалеть о судьбе Пьера Мана — моего отца. Ваша ошибка будет совсем легкой, когда Господь положит ее на весы, на которых он взвешивает все наши поступки. И он не проявит по отношению к вам больше строгости, чем он проявил бы ее к ангелу, так же как и вы впавшему в заблуждение, я уверен в этом. Что же касается вашего сына, то с того часа, как ему открылись все скорби вашей жизни, он вас любит во сто крат больше, нежели прежде, потому что он увидел вас несчастной: так не падайте же духом.
Мариус поднялся и сделал несколько шагов по комнате.
— Завтра, матушка, — сказал он, — нам необходимо сделать два дела.
— Какие? — спросила Милетта, слушавшая молодого человека с почти благоговейным вниманием.
— Первое состоит в том, чтобы покинуть этот дом.
— Мы уедем?!
— Не беспокойтесь, матушка, о вашей будущей судьбе; я трудолюбив и полон сил, а чувство долга благодаря вам столь сильно воспитано во мне, что вы можете без страха опереться на меня и рассчитывать впредь только на своего сына.
— О, я обещаю тебе это, мой дорогой сын.
— Затем, — продолжил молодой человек глухим голосом, — нам надо будет найти… вы сами знаете кого.
— О Боже! — воскликнула Милетта, дрожа от страха.
— Не подумайте, матушка, что я намереваюсь принудить вас вновь разделить свою жизнь с тем, кто так виноват перед вами. Вовсе нет; но он страдает, у него нет крова над головой; быть может, ему нечего есть, а ведь он мой отец, и я обязан разделить между вами и им плоды моего труда. И потом, — понизив голос, продолжил Мариус, — кто знает? Быть может, мои мольбы заставят его порвать со своей достойной сожаления прошлой жизнью и вернуться к более порядочному существованию.
Мариус говорил все это спокойно и просто, хотя и с решимостью, обнаруживавшей одновременно твердость и возвышенность его характера. Обожание, испытываемое Милеттой к своему благородному сыну, заставило ее на время забыть о собственных горестях.
Однако одна ее боль все равно оставалась острой и мучительной.
Милетта никогда не стремилась вникнуть в социальные теории, но, сама того не подозревая, она пробила в них брешь. Когда муж бросил ее, ей казалось, что общество не может оставить ее без поддержки. И, когда такая поддержка представилась, она посчитала, что ее долг состоит в том, чтобы быть такой же преданной, покорной и верной тому, кто протянул ей в трудную минуту руку помощи, такой же, какой она была в браке, освященном Богом и людьми. Вследствие этого ее стали одолевать сомнения в правильности своего положения. Она до конца осознала это лишь в самое последнее время, когда закон, не имея возможности признать за Мариусом преимущества этого незаконного брака и отказываясь видеть в юноше кого-нибудь иного, кроме сына Пьера Мана, ясно показал ей все отрицательные стороны этого союза.
Но если рассудок ее и уступал перед очевидностью этого факта, то о сердце ее нельзя было так сказать.
У Милетты никогда не было к г-ну Кумбу того, что называют любовью. То, что она испытывала к нему, можно определить лишь словом «привязанность», а это чувство весьма неопределенное, и основания для него чаше всего мало ощутимы и почти всегда различны, однако оно бесконечно более могущественное, чем любовь, поскольку, в отличие от нее, не бывает поводом к тем бурям, что оставляют тучи на самых прекрасных горизонтах, и поскольку время, возраст и привычка лишь усиливают это чувство и укрепляют его, в противоположность любви.
Прошло двадцать лет их совместной жизни, и, несмотря на необычные привычки, какие г-н Кумб привносил в свои ласки, несмотря на его эгоизм, его глупую заносчивость, его чванство, его причуды и скупость, в душе Милетты привязанность к этому человеку находилась в непосредственной близости к той, что она питала к своему сыну.
И, какой бы покорной судьбе она ни казалась, мысль о возможности вскоре покинуть этот дом и никогда более не видеть бывшего грузчика, потрясла ее; она не могла себе представить, чтобы такое стало возможным.
— Но, — робко и после долгих колебаний сказала она своему сыну, — как нам объявить о нашем решении господину Кумбу?
— Я позабочусь об этом, матушка.
— Бог мой! Что же с ним будет, когда он останется один?
Молодой человек словно читал в душе матери: он понял, чего ей стоила такая жертва.
— Матушка, — сказал он почтительно, но твердо, — я никогда не забуду того, чем я обязан моему благодетелю: всю свою жизнь буду помнить, как он качал меня на своих коленях, как на протяжении двадцати лет я ел его хлеб, утром и вечером его имя будет повторяться в моих молитвах, и я надеюсь, что Господь не позволит мне умереть прежде, чем я успею доказать, какую признательность и любовь я питаю в душе моей к этому человеку; однако я не нахожу возможным продлевать более пребывание в этом доме.
Затем, видя, как при этих словах рыдания Милетты усилились, он добавил:
— Мне не надлежит влиять более на ваше решение, моя добрая матушка, и я понимаю, насколько тяжело вам покидать дом, где вы были столь счастливы, и вступать в неясное будущее. Я понимаю, насколько жестоко требовать от вас отказаться от привязанности, которая была вам дорога, поэтому готов склониться перед вашей волей, и не бойтесь, что я стану роптать или жаловаться. Если вы останетесь в этом доме, я буду лишен счастья заключать вас в свои объятия, но сердце мое останется с вами и будет целиком занято вами.
Милетта порывисто обняла своего сына, тем самым давая понять, что она взяла верх над своими сомнениями и сожалениями.
— О матушка, поверьте же, что если теперь будете страдать вы, то буду страдать и я.
И, вырвавшись из объятий Милетты, Мариус стремительно выбежал из комнаты, словно он хотел избавить ее от зрелища переживаний, выстоять которые у него не хватало душевных сил.
До тех пор он не думал о Мадлен.
Однако последние слова матери вызвали в его душе образ девушки.
И вместе с этим образом к нему пришло понимание того положения, в каком он оказался.
Он, сын вовсе не г-на Кумба, почтенного труженика, уважаемого и богатого, а Пьера Мана, заклейменного человеческим правосудием один раз точно, а может быть, и много раз, — он уже больше не мог, если только не из низости или по безрассудству, мечтать о браке с мадемуазель Мадлен Риуф.
И от этой пронзившей его мысли он испытал страшное потрясение.
Он катался по земле, впиваясь в нее ногтями, рыдал и бросал к ночь спои проклятия: слишком сильным и неожиданным было его падение, чтобы не оказаться мучительным для него. В течение нескольких минут он не мог отдать себе отчета о происходящем it его голове; единственное, что способны были вымолвить его губы, — это имя Мадлен.
Затем мало-помалу мысли его пришли в порядок; он покраснел от того, что так сильно поддался отчаянию, и решил бороться с ним.
«Что ж, надо быть мужчиной, — подумал он, — и если надо страдать, то я буду страдать так, как подобает мужчине. Я сказал матушке о двух обязательствах, которые нам следует выполнить; я полагаю, что есть и третье и оно касается лично меня: сказать всю правду мадемуазель Мадлен и освободить ее отданной ею клятвы».
Подавляя последнее рыдание и сдерживая слезы, против его воли все еще лившиеся из глаз, Мариус пошел искать лестницу и, найдя, приставил ее к стене.
Поднявшись на последнюю ступеньку, он бросил взгляд на шале и увидел, что одно из окон второго этажа было освещено.
«Она там», — сказал он себе.
И, усевшись на гребне стены, он подтянул лестницу к себе и переставил ее из сада г-на Кумба в сад мадемуазель Риуф, куда и спустился, настроенный столь же решительно, как и в тот вечер, когда он впервые шел этой дорогой на свое первое свидание с Мадлен, хотя теперь его сердце было переполнено совсем иными чувствами.
XVI ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПЬЕР МАЛА ВМЕШИВАЕТСЯ В ДЕЛО НА СВОЙ ЛАД
Шале мадемуазель Риуф, как и деревенский домик г-на Кумба, со всех сторон было окружено садом; однако протяженность этого сада со стороны дороги — иными словами, со стороны главного фасада дома, составляла метров сто, а в той части, где он выходил к морю, — метров двадцать.
Лестница, которой Мариус пользовался для своих ночных вылазок, обычно лежала под навесом, примыкавшим к ломику; молодой человек пристраивал ее в той части стены, где ветви смоковницы могли отчасти скрыть его действия; однако, весь во власти охватившего его возбуждения, он и не подумал принять обычные меры предосторожности и приставил лестницу к тому углу стены, что был обращен к морскому берегу, почти точно над калиткой, через которую из деревенского домика ходили к морю и через которую г-н Кумб непременно должен был пройти, возвращаясь этим вечером к себе домой.
Охваченный решимостью честно посвятить свою любимую в только что открывшуюся ему тайну и вернуть ей слово, полученное им от нее, ничуть не скрывая при этом того отчаяния, какое вызывал у него отказ от столь дорогих его сердцу надежд, но в то же время мужественно выполнить свой долг порядочного человека, укрепив свою любимую в решении, которое не могло не внушить ей его признание, Мариус решил про себя, что, если Мадлен не окажется в саду, где она обычно его ждала, он проникнет в дом, чтобы встретиться с ней. Лихорадочно возбужденный, он теперь так же торопился заявить ей о разрыве их отношений, как всего несколько часов назад страстно желал укрепить ее уверенность в том, что ничто на свете не сможет заставить его забыть ту, которая сама, по своей воле, обручилась с ним.
Оказавшись по другую сторону стены, он шел теперь по направлению к шале, даже не заботясь о том, чтобы приглушить шум своих шагов, раздававшихся на песчаной дорожке; но едва он очутился у первого этажа шале, как ему показалось, что за кисейными занавесками вырисовывается чья-то тень. Он остановился. Темнота была непроницаемой, но именно по этой причине ему удалось определить, что эта тень на фоне освещенного изнутри окна принадлежала вовсе не Мадлен. Ему подумалось, что, испытывая крайнее нетерпение и тревогу, он пришел чуть раньше обычного часа их свиданий, и его появление может опорочить Мадлен, если случайно в ее доме оказался какой-то посторонний посетитель.
Эта мысль изменила решение Мариуса, и он почувствовал необходимость, прежде чем стучаться в дверь шале, достоверно убедиться в том, что Мадлен в доме одна.
Но с того места, где он находился, ему были видны только боковые стороны здания.
Тогда он вернулся к тому месту, откуда пришел, проделал лаз среди кипарисов, изначально высаженных г-ном Жаном Риуфом вдоль общей с участком г-на Кумба ограды, и проскользнул внутрь этой двойной стены из зелени и камня. Следуя по такой весьма узкой дорожке, он добрался до самого конца сада, в той его части, где проходила дорога из Монредона в Марсель, затем во второй раз прошел сквозь стену кипарисов и оказался со стороны противоположного фасада дома, среди зарослей лавра и бересклета, украшавших собою эту часть сада.
Теперь шале находилось перед его глазами, и он взглядом охватывал целиком весь его фасад, обращенный на проезжую дорогу.
Ни малейшего шума не доносилось из дома; лишь одно окно второго этажа оставалось освещенным, но оно находилось не в той стороне, где была комната Мадлен.
Мариус не знал, что и думать обо всех этих странностях, и мысли его, и без того беспорядочные, путались все сильнее и сильнее.
В эту минуту до его слуха донесся глухой стук колес экипажа, рысью ехавшего по дороге из Марселя; этот шум все нарастал, и вскоре экипаж остановился у ворот ограды.
Но все внимание молодого человека в это время было обращено на шале.
И в самом деле, в доме продолжало происходить нечто ничуть не менее странное, чем то, что он уже увидел.
Он обнаружил, что свет, замеченный им в доме с самого начала, стал колыхаться; свет как молния промелькнул за окном коридора, и, поскольку занавесок на окне не было, Мариус сумел заметить, что лампу нес мужчина; затем на мгновение этот свет появился в комнате Мадлен и там внезапно погас. Все погрузилось во мрак; но из комнаты Мадлен доносилось нечто вроде невнятного бормотания, нечто вроде постороннего шума, который нельзя было различить.
Внезапно одно из стекол окна разлетелось вдребезги, и вслед за зловещим звоном разбитого стекла раздался жуткий крик, полный боли и отчаянного призыва на помощь.
— Мадлен! — вскрикнул Мариус, бросаясь вперед из своего укрытия.
— О великий Боже! Да что здесь такое происходит? — раздался с другой стороны кустарников голос, и молодой человек узнал в нем голос девушки, из-за которой он так волновался. То действительно была Мадлен: она только что вышла из экипажа и, открыв калитку, входила в сад.
Окончательно удостоверившись, что опасность угрожала вовсе не его любимой, Мариус забыл обо всем, даже об ужасном крике, все еще висевшем в воздухе, и побежал ей навстречу.
Когда он иступил в круг тусклого спета, отбрасываемого фонарем и руках кучера, он был настолько бледен, а лицо его так взволнованно, что Мадлен отступила на шаг назад, как будто собиралась попросить зашиты у кучера и горничной, сопровождавших ее в эту минуту; но новый крик, на этот раз не столь громкий, но более жалобный, походивший скорее на стон, донесся до тех, кто стоял внизу.
— Мариус! Мариус! — закричала Мадлен. — Да что там происходит с моим братом?
— С вашим братом?! — изумленно воскликнул Мариус, ничего не знавший о пребывании Жана Риуфа в Монредоне, поскольку г-н Кумб похитил письмо Мадлен.
— Да, да, с моим братом, говорю я вам! Это его сейчас убивают! Заклинаю вас, бегите к нему на помощь!
Мариус, совершенно растерявшись, сделал всего один прыжок по направлению к шале; однако, как мы уже говорили, расстояние, какое ему следовало преодолеть, было значительным. Едва только он успел занести ногу на лужайку, раскинувшую свой зеленый ковер под окнами шале, как у одного из углов балкона, опоясывавшего весь дом целиком, он заметил силуэт какого-то человека. Тот переступил через перила балкона, затем ухватился за них, разжал руки и упал, присев к самой земле, потом поднялся и исчез за кипарисами.
— Убийца! — закричал Мариус.
И он стремглав бросился догонять того, кто, очевидно, только что совершил преступление.
К несчастью, Мариус потерял убийцу из виду сразу же, как только тот скрылся за кипарисами; зато он воспользовался временем, потраченным злоумышленником на то, чтобы прийти в себя после падения, и приблизился к нему: он уже слышал шум его шагов и его порывистое дыхание.
Они оба бежали к тому месту, какое совсем недавно избрал молодой человек, желая понаблюдать за шале, бежали по темному проходу, тянувшемуся за кипарисами, и оба оказались там, где находился Мариус в ту минуту, когда раздался первый крик.
Здесь Мариус перестал различать какие-либо звуки, но внезапно увидел преследуемого им человека на верху общей для обоих владений ограды; цепляясь за неровности стены, юноша, не без усилий, тоже взобрался на ее гребень. Человек этот уже спрыгнул в сад г-на Кумба, и, поскольку все это происходило как раз в сосняке, любимом владельцем домика, Мариус увидел, как ветки сосен сомкнулись за спиной беглеца. Не теряя ни секунды, молодой человек соскользнул на землю. Сосняк не был слишком большим для поисков — Мариус пересек его в два или три шага; но, оказавшись на другом его конце и не увиден там никого, он на какое-то мгновение заколебался и огляделся вокруг.
Взгляд его упал на уличную калитку, распахнутую настежь; теперь у него не было никаких сомнений, что тот, кого он преследовал, выбрал именно это направление; он в самом деле заметил тень, заворачивающую за угол ограды деревенского домика, и устремился к калитке.
Тень эта опережала его на всю ширину ограды.
Погоня возобновилась.
Беглец достиг уже пустырей, расположенных на Красной косе, где, вне всякого сомнения, он надеялся спрятаться в углублениях какой-нибудь скалы. Мариус разгадал его замысел и, вместо того чтобы бежать за ним по прямой, свернул в сторону таким образом, чтобы перерезать своему противнику дорогу к морю.
Не прошло и нескольких минут, как он заметил, что в скорости бега у него было явное преимущество перед преследуемым и что очень скоро ему удастся настигнуть его.
И действительно, в ту минуту, когда оба они оказались на одной возвышенности, отделенные друг от друга не более чем двадцатью шагами, причем Мариус находился ближе к морю, а убийца — к деревне, тот внезапно остановился.
Молодой человек бросился к нему с возгласом:
— Сдавайся, негодяй!
Но едва он сделал пять или шесть шагов навстречу убийце, как что-то со свистом пронеслось в воздухе, словно молния, и лезвие ножа оставило след на бедре Мариуса.
Нож, который бандит прятал в рукаве, был брошен им, словно дротик. Вне всякого сомнения, только то, что убийца задыхался от бега, помешало ему воспользоваться этим оружием с привычной для мужчин Прованса ловкостью и рана, нанесенная им, оказалась легкой.
Мариус с неистовой силой набросился на того, кто только что попытался убить его, и оба покатились по земле. Сделав невероятное усилие, бандит попытался было подняться на ноги, но незаурядная сила позволила Мариусу удержать противника на земле и прижать его правую руку, которой тот попытался, правда весьма безуспешно, схватить какое-либо другое орудие смерти.
— Черт побери! — воскликнул убийца, убедившись в бесполезности предпринимаемых им усилий. — Не надо делать глупостей, мой голубок! Я сдаюсь, а раз сдаюсь, то, лишаю вас права убить меня; это наше с гильотиной дело: позвольте нам самим выпутываться из него.
При звуке этого голоса Мариус почувствовал, как кровь застыла у него к жилах; на несколько секунд дыхание его полностью остановилось, и он, без сомнения, стал бледнее того, кто был прижат его коленом к земле.
«Нет, это невозможно!» — прошептал он про себя.
И, схватив бандита за голову, повернул ее так, чтобы она вышла из тени, отбрасываемой им самим, и на нее упал слабый свет звезд.
Долго рассматривал он это безобразное лицо, ставшее еще более безобразным из-за страха, который заставил, несмотря на напускное бахвальство преступника, дрожать его сердце; после этого он замер на несколько мгновений, низвергнутый в скорбь, как если бы его разум отказывался верить в то, что удостоверяли его глаза, и у него еще могли оставаться сомнения. Затем из груди Мариуса вырвался вздох: из-за душевных мучений молодого человека он прозвучал ужаснее тех предсмертных криков, какие недавно раздавались в шале; мышцы Мариуса расслабились сами по себе, руки разомкнулись, и тело его, словно подчиняясь какой-то неведомой силе, оказалось отодвинутым от человека, которого он прижимал к земле.
Сомнений быть не могло, этот человек был не кем иным, как нищим, встреченным им среди прибрежных скал. Это был Пьер Мана, это был его родной отец!
А тот, едва почувствовав себя освобожденным от сжимавших объятий, силу которых он успел оценить, вскочил на ноги и приготовился к бегству.
— Эх, черт побери! — воскликнул он, относя эту передышку на счет ножевого удара, нанесенного им противнику. — Разговоры кончились, хватит. Сдается мне, что я вставил вам перо в нижнюю часть корпуса и что рука старика не дрожит скорее на дальнем расстоянии, чем вблизи! Прощай, голубок! Наилучшие пожелания от меня господину комиссару и господам жандармам, если вы останетесь на этом свете, и передайте привет от меня господину из шале на том свете, если вы перейдете туда; что же касается меня, то я смываюсь.
— Не убегайте! — обратился к нему Мариус срывающимся, дрожащим голосом, какой бывает у больного горячкой во время сильнейшего приступа. — Не убегайте! Будьте спокойны, я не выдам вас.
— Складно врешь, однако все же не так, чтобы такой стреляный воробей, как я, позволил себя провести. Прощай, голубок; чего я тебе пожелаю, так это отличного здоровья! Рассуждая трезво, я должен был бы еще разок пустить тебе кровь, как сделал это только что, и не покидать тебя до той поры, пока твой язык не излечится от зуда болтать; но, если уж этого не случилось, это значит, что ты столкнулся с порядочным человеком. Однажды ночью ты оказал мне услугу гам, на берегу, поэтому я пощажу тебя; мы квиты, и я не заставляю тебя говорить мне «До свидания».
— О, убейте меня, убейте! — возбужденно воскликнул Мариус, судорожно вцепившись в свои волосы руками. — Только освободите меня от этого опостылевшего мне существования. Я благословлю вас за это, и мой последний вздох на этой земле будет пожеланием счастья вам.
Нищий остановился в удивлении — в голосе Мариуса было столько искренности, что невозможно было заподозрить молодого человека во лжи.
— Ай-ай, бедняжка! — воскликнул бандит. — Да что же это творится в твоей голове? Эх, черт побери! Думаю, что во время погони, которую ты мне устроил, у тебя буссоль забарахлила в нактоузе, но это уж вовсе не мои дела. Я вижу, как там, внизу, мигают огни: этой ночью воздух побережья не слишком полезен для меня, так что прощай, приятель!
— Тем не менее вы отсюда не уйдете, пока не выслушаете меня! — сказал Мариус, вставая рядом с бандитом и хватая его за руку.
Тот сделал было резкое движение, чтобы освободиться, но молодой человек скрутил ему руку с такой силой, какая должна была доказать его противнику, что полученное ранение ничуть не убавило мощи у того, кто так упорно только что преследовал его; бандит подавил крик, вызванный болью, и пригнулся к земле, чтобы вырваться.
— Черт побери! Такое рукопожатие делает честь тому, кому вы его делаете, молодой человек… Ну же, отпустите меня, я сделаю все, что вы захотите. Я всю жизнь слышал о том, что не надо ни в чем отказывать детям и сумасшедшим… Только, пожалуйста, давайте немного пригнемся, поскольку оставаться стоять вот так, в полный рост, на берегу, когда столько охотничьих собак разыскивают мою бедную особу, несколько рискованно.
И, не ожидая ответа Мариуса, Пьер Мана присел позади скалы и знаком предложил молодому человеку последовать его примеру; однако Мариус оставался стоять и сохранял молчание.
— Ну, чего вы хотите, черт побери? — спросил бандит. — Вы полная противоположность маленькому барабанщику из Касиса, которому надо дать два су за то, чтобы он постучал по своей ослиной коже, и четыре су, чтобы заставить его умолкнуть. У вас было желание поболтать; я согласен сыграть для нас роль красной тряпки, и нот, извольте, вы немы как рыба.
— Пьер Мана, — сказал Мариус, стараясь побороть свое волнение, — послушайте меня.
Нищий вздрогнул и устремил свой взгляд на Мариуса; его глаза горели в темноте, как два уголька.
— Вы знаете, как меня зовут? — прошептал он глухо и угрожающе.
— Пьер Мана, — продолжал молодой человек, — вы были плохим мужем и плохим отцом, вы бросили свою жену и своего ребенка.
— Черт побери! — воскликнул нищий. — Ты, случаем, не хочешь, чтобы я тебе исповедался?
И он разразился бесстыдным смехом.
Мариус продолжал;
— Вы только что совершили преступление, добавив тем самым еще одно к тем, какими вы уже осквернили свою жизнь.
— Это твоя вина, мой мальчик, — ответил нищий, — если бы ты тогда дал мне двадцать франков, я бы отказался от мысли пойти к мадемуазель; но чего ты хочешь ожидать от человека, получившего твои несчастные сорок су? Не увидя никого в ее комнате, я изо всех сил набивал свои карманы, учитывая проявленное ею ко мне чувство милосердия, пока этот дурак, оказавшийся вдруг рядом, не нашел дурным, что я привел в беспорядок его секретер. Теперь ты прекрасно видишь, что это преступление по праву принадлежит тебе и что, если б у тебя было хоть немного совести, ты бы покаялся вместо меня.
— Пьер Мана, — торжественным тоном продолжал молодой человек, — приближается час, когда вам придется дать отчет перед судом Божьим за все преступления, совершенные вами. Разве мысль об этом не приводит вас в трепет? И неужели, если не угрызения совести, то боязнь страшного наказания, какое вас ожидает, не проникает вам в сердце?
— Это смотря по обстоятельствам, — ответил бандит.
— Послушайте, — не успокаивался Мариус, — ведь как бы ни очерствело ваше сердце, вы не можете не признать вмешательства Провидения в то, что происходит этим вечером; другой мог бы бежать за вами следом, другой, а не я, тот, кто не мог и не хотел бы вас упустить и силой удержал бы вас; но нет, Господь избрал не кого-нибудь другого, а именно меня; значит, Всевышний желает дать вам возможность раскаяться. Пьер Мана, воспользуйтесь ею.
— Эх, ну надо же, ты говоришь о раскаянии, мой мальчик! Я напрасно натирал им свой хлеб, оно не придало ему вкуса, какой способна придать одна долька чеснока.
— Подумайте над тем, что я вам только что сказал, Пьер Мана, — упорствовал Мариус, совершенно раздавленный бесстыдством бандита и ощущавший, что он впадает от этого в глубочайшее уныние, — я вам обещаю скрыть ваше имя; обещаю вам заранее: чтобы спасти вас, я пойду даже на ложь; я дам об убийце, чьи следы несу на своем теле, такое описание примет, что в течение нескольких дней с вас будут сняты подозрения; воспользуйтесь всем этим, чтобы бежать, пересечь границу и покинуть родину.
— Именно это я и намереваюсь сделать, — ответил негодяй, — поэтому и решился во что бы то ни стало наложить лапу на кубышку.
И, сказав это, Пьер Мана порылся, ухмыляясь, в кармане своих штанов; но, без сомнения, он не нашел там того, что искал, поскольку, застыв в неподвижной позе, он стал судорожно шарить руками по всей одежде; потом из уст его вырвалось ужасное богохульство.
— Я потерял это! — воскликнул он.
Затем он схватил Мариуса за горло:
— Ты украл это у меня! Признайся, что ты это сделал, негодяй и лицемер ты эдакий!
Молодой человек вовсе не отбивался от него и даже не пытался избавиться от его мертвой хватки, несмотря на боль, которую причиняли ему впившиеся в горло ногти убийцы.
— Обыщите меня, — сказал он бандиту сдавленным голосом.
Спокойствие, с каким это было сказано, заставило Пьера Мана понять, что он ошибался насчет Мариуса и что деньги не украдены, а потеряны им самим.
Тогда он стал вновь посылать проклятия судьбе, но перестал обвинять молодого человека в потере своей добычи.
Мариус же, оставаясь в горестном спокойствии, предоставил нищему возможность излить свое отчаяние.
Затем он произнес:
— Все еще можно поправить. Я не богат, но кое-какие сбережения у меня есть; я передам вам их завтра с тем, чтобы облегчить вам возможность покинуть Францию.
— Черт побери! — воскликнул Пьер Мана. — Какой все-таки счастливый у меня сегодня вечер! А что, эти ваши сбережения значительные?
— Когда отдают последнее, то у того, кто берет, нет права требовать еще больше, — ответил Мариус, чувствовавший, вопреки связи, соединявшей его с этим человеком, непреодолимое отвращение к нему.
— Да, ты прав, голубок. Но все же, ответь мне, что за причина побуждает тебя быть столь заинтересованным в моей судьбе? Будь ты женщиной, я бы решил, что нахожусь еще в том возрасте, когда способен вызвать страсть у представительниц слабого пола, — продолжал он, гнусно ухмыляясь.
— Какое вам дело до причины, побуждающей меня действовать, если я делаю все для вашей пользы? Завтра у вас будут деньги, разве это не все, что вам нужно?
— Так здорово сказано, что это стоило бы даже записать.
Затем, словно пораженный неожиданной догадкой, бандит внезапно спросил, пристально глядя на Мариуса:
— А сколько вам лет?
Молодой человек понял, на что был направлен этот вопрос, и вздрогнул от неожиданности.
— Двадцать шесть, — ответил он.
У Мариуса было такое мужественное лицо, что он вполне мог прибавить себе несколько лет, и названный им возраст не показался бандиту невероятным.
— Двадцать шесть лет… Тогда это не может быть то, что я подумал, — совсем тихо прошептал Пьер Мана, однако не так тихо, чтобы Мариус не расслышал его слов.
Несколько минут старый бандит пребывал в задумчивости.
Во время этих размышлений нищего душа молодого человека испытывала муки ада.
Он спрашивал самого себя, имел ли он право, каким бы ни был опустившимся негодяем и преступником его отец, отрекаться от него, отказываться от его ласк и, наконец, хранить молчание; быть может, обретя вновь жену и сына, Пьер Мана раскрыл бы свою душу новым чувствам? Поведение бандита, когда он, несомненно, сопоставил возраст того, с кем вел разговор, с возрастом, какого должен был достичь к этому времени брошенный им сын, доказывало, что еще не все отцовские инстинкты угасли в нем; используя этот рычаг, разве было не дозволено поверить в возможность облагородить эту падшую душу? На мгновение Мариус испытал искушение броситься ему в ноги с криком «Отец мой!».
Но тут к нему пришло воспоминание о Милетте. Он смутно ощутил, какие последствия могло иметь такое его признание для нее; он охотно согласился бы пожертвовать собой, но никак не мог пойти на то, чтобы принести в жертву, быть может совершенно напрасно, собственную мать.
— О чем вы думаете? — почти нежно спросил он Пьера Мана, видя, что тот продолжает хранить молчание.
— Ах, черт побери! — грубо отвечал бандит. — О чем я думаю, голубок? Я размышляю над тем, к каким средствам ты сможешь прибегнуть, чтобы доставить мне эти деньги, поскольку их у тебя нет при себе, как я полагаю.
При этих словах все иллюзии молодого человека насчет нравственного возрождения закоренелого злодея исчезли как дым.
— Да, их нет, — ответил он сухо, — но вам стоит только назначить мне на завтра встречу среди скал, и я сам принесу вам эти деньги.
— Ха-ха, я прямо сейчас вижу, как ты туда идешь, хитрец ты эдакий, — произнес Пьер Мана, — ты хочешь меня сцапать, не так ли? Признавайся тотчас же!
— Если бы мои намерения были такими, несчастный вы человек, — сказал Мариус, — то разве так бы я себя повел? Вы же признаете, что я сильнее вас. Я бы тогда схватил вас за горло и держал так до тех пор, пока бы не подошли вызванные мною таможенники.
— Это верно, черт побери! Но какого дьявола вам хочется сделать для меня столько добра?
— Дело совсем не в этом… В котором часу я найду вас завтра среди скал?
— О, только не там. После сегодняшнего вечернего дельца здешние прибрежные скалы превратились в заповедник диких кроликов, где будут обшаривать все норы; я предпочитаю попробовать встретиться в Марселе: итак, если вы желаете исправить совершенную вами ошибку, вынудившую меня чуток убить этого шельмеца, который явился помешать моей работе у вашей доброй подружки, то вы найдете меня завтра между полуднем и часом дня на Новой площади.
— На Новой площади, в порту! — воскликнул Мариус, удивленный тем, что Пьер Мана помышляет показаться в наиболее людном месте Марселя.
— Без сомнения, там, — ответил Пьер Мана, — в этот час площадь заполнена грузчиками и матросами: ведь только когда рыбка плавает одна, ее легко поймать на крючок.
— Пусть будет так, — ответил Мариус, — завтра между полуднем и часом дня.
— У вас с собой есть какая-нибудь мелочь? — спросил Пьер Мана с тягучей и гнусавой интонацией нищего. — Дайте ее мне, голубок, это несколько вдохновит мое терпение.
Мариус вытащил кошелек из кармана и бросил к ногам убийцы.
Тот поднял его и взвесил на руке.
— Эх, черт побери! — со вздохом сказал он. — Этот кошелек далеко не так тяжел, как кошелек мадемуазель. Да, определенно, знакомство с ней приятнее, чем с тобой, голубок; теперь же необходимо, чтобы ты первым убрался отсюда.
— Прощайте, — бросил Мариус, не в силах отыскать какие-то другие слова в своей душе, приходящей во все большее отчаяние.
— Нет, не «прощайте», черт побери, а «до свидания», и до завтра. И не продавайте меня; вы видели, как славно я владею ножом, и если вы попытаетесь меня предать, то убегайте хоть на тридцать шагов, спасайтесь бегством хоть за спинами десяти жандармов, — я клянусь сделать дырку в вашем сердце.
Глубоко опечаленный, Мариус столь быстро удалялся от этого места, что он не услышал половины угроз, которые нищий адресовал ему вместо благодарности.
К тому же со стороны деревни доносился неясный гул голосов: горящие соломенные жгуты и факелы отбрасывали на окрестности шале мрачные, дымные отблески. Зрелище всеобщего волнения всколыхнуло в сердце молодого человека воспоминание о Мадлен, и образ той, которую он любил, придал ему немного мужества. И хотя только что состоявшаяся встреча сына Милетты с его настоящим отцом унесла из его сердца смутные надежды, которые, быть может, еще хранились там, относительно планов их брака, столь бережно лелеянных им, оно все так же пылало, когда Мариусу надо было перейти от зрелища человеческой низости к печальной последней миссии, какую ему осталось выполнить, — утешить любимую им женщину, прежде чем навсегда покинуть ее.
И Мариус ускорил шаг.
Подойдя ближе, он с удивлением обнаружил, что все эти крики, которые сопровождались колыхавшимися всполохами огней, доносились вовсе не из сада шале, а с владений г-на Кумба.
С тревожно бьющимся сердцем он вошел на эту территорию, с трудом прокладывая себе путь среди жителей Монредона, стоявших группками и обменивавшихся разными толками по поводу убийства, только что происшедшего в их деревне; наконец, он вошел в дом.
Обе комнаты первого этажа были заполнены посторонними людьми и блюстителями порядка. Господин Кумб, склонив голову, бледный, онемевший и оцепеневший, будто его поразило ударом молнии, с наручниками на запястьях, сидел на краю дивана между двумя жандармами.
XVII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН КУМБ, НЕ ЖЕЛАЯ НИКОГО СПАСАТЬ, СОВЕРШИЛ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ СВОЙ КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
Вернемся немного назад и объясним, что же все-таки произошло. Господин Кумб предположил, что Мариус, проникнув в сад соседей, встретит там не мадемуазель Риуф, которую он жаждал увидеть, а г-на Риуфа, к встрече с которым он вовсе не стремился; из этого воспоследуют объяснения, угрозы и вызовы, а это непременно вновь придаст отношениям с соседями тот враждебный характер, какой был у них до того, как, по выражению бывшего грузчика, в дело впуталась любовь; он очень рассчитывал, что в результате бурной ссоры, какая просто не могла не состояться, гнусные поползновения молодых людей к брачному союзу исчезнут сами собой.
Истинный Капулетти, г-н Кумб отвергал любой союз одного из своих ближних с Монтекки.
Драматическая развязка, которая должна была последовать за гармоничным согласием, установившимся, вопреки его желаниям, между двумя молодыми людьми, заранее радовала его. И в самом деле, такая развязка была на пользу его закоренелой ненависти к дому Риуфов; к тому же она приятно льстила его самолюбию. И какими бы ребяческими ни были его расчеты, какая бы роль в них ни была предоставлена случаю, г-н Кумб был, тем не менее, удовлетворен макиавеллиевским глубокомыслием, с каким он построил козни и утаил письмо Мадлен; полагая себя в недавнем прошлом хвастуном, теперь он расценивал себя не иначе как соперником Талейранов и Меттернихов; тщеславие г-на Кумба, задетое его садоводческими неудачами, пускало в ход все, что только попадалось ему под руку.
Но, как всякий знает, победа бывает полной лишь при условии, если наслаждаешься ею лично. Сформулировав себе общеизвестную истину, г-н Кумб отказался ставить свои снасти в море в этот вечер и решил, что станет незримым, но не беспристрастным зрителем того спектакля, какой он не только предвидел, но и столь искусно подстроил.
И в то время как все считали, что г-н Кумб вышел в море, он, напротив, вскарабкался на скалу, с вершины которой можно было обозревать владения врага, и стал ожидать дальнейших событий с тем терпением, какое стало его счастливой способностью вследствие двадцатилетних занятий искусством ловли рыбы на удочку.
Однако не на шиитом им мосту начались страсти г-на Кумба, о коих было объявлено нами и заглавии данной главы; первые минуты, проведенные им на вершине скалы в наблюдениях, показались ему даже довольно приятными. Воображение его, подобно лошади Дон Кихота, закусило удила и мчалось среди розово-лазурных облаков. Стоит воображению броситься во владения мечты, и его уже не остановить: г-н Кумб видел разрушение шале, его собственного Карфагена; он почти не сомневался, что г-н Жан Риуф, узнав о планах своей сестры вступить в неравный брак, принудит ее покинуть их жилище, и он уже смутно видел, как мистраль колышет выросшие на развалинах ненавистных стен чертополох и крапиву.
Именно в то время как он наслаждался столь радужными картинами будущего, Пьер Мана, до той поры прятавшийся в сосняке, предпринял вылазку, которая должна была привести его к краже со взломом.
Мы слышали, как бандит сам рассказывал Мариусу о том, что дверь в контору торгового дома Риуфов была для него наполовину открыта, а по части воображения Пьер Мана не уступал даже самому г-ну Кумбу — он мечтал о горах банкнот и водопадах золота и серебра. К несчастью, из наведенных им справок он узнал, что один из служащих конторы, свирепый дракон, вооруженный двумя пистолетами, охраняет этот сад гесперид, а привратник и один из курьеров ночуют в пределах досягаемости человеческого голоса, всегда готовые оказать вооруженную поддержку своему товарищу. Тогда Пьер Мана устремил свои мечты к шале, сделав вывод (отдадим должное логике его мышления), что столь широкая денежная река предполагает и притоки. Ну а Пьер Мана был исполнен здравомыслия: он смирился с необходимостью испить из притоков, не имея возможности напиться из самой реки. Прибыль в этом деле была бы меньше, но меньше были бы и опасности; бандит предполагал удостовериться, что мадемуазель Риуф находится одна со служанкой в своем шале в Монредоне, и на это рассчитывал.
И действительно, начало предпринятого им дела окрылило его. Пьер Мана бесшумно открыл застекленную дверь, ведущую с первого этажа прямо в сад, снял ботинки и, взяв их в руки, поднялся по главной лестнице, проскользнул в комнату с окном, в котором он накануне увидел мадемуазель Риуф, еще до того предположив, что это ее окно. Туго набитый кошелек, который он прибрал к рукам, как только открыл первый ящик, подтвердил, что его предположения не были ошибочными. К несчастью, построив одно правильное умозаключение, человек непременно хочет сделать еще более удачное. Так произошло и на этот раз: ощупывая в темноте предметы, Пьер Мана наткнулся на секретер, который, как показалось ему при одном лишь прикосновении, должен был заключать в своем чреве сокровища Перу; пальцы его задрожали, и это отозвалось у него головокружением; он сразу вспомнил, что в угловой части дома видел освещенное окно, однако он предполагал, что это было окно комнаты, где спала служанка; тут Пьер Мана рассчитывал на свою испытанную сноровку. Если, впрочем, на беду, эта женщина явится, подумал он, то тем хуже для нее — зачем ей вмешиваться в дела, которые ее не касаются? На этот случай у Пьера Мана были надежные средства заставить ее замолчать; он взял из своего снаряжения стамеску и с силой нажал на створку искушавшего его секретера. Однако этот предмет не был той мебелью, что дает вторгаться в себя бесшумно; его створки расцепились с таким чудовищным треском, что Жан Риуф, спокойно что-то читавший, ожидая возвращения сестры, мгновенно появился в комнате вместо служанки, которую предполагал увидеть Пьер Мана.
Крики брата Мадлен, когда бандит дважды ударил его ножом, не донеслись до г-на Кумба, чей наблюдательный пункт был расположен, как мы уже сказали, позади дома; он услышал только какую-то суматоху, указывающую на то, что в шале происходит нечто вроде драки. Господин Кумб подумал, что представление, которое он соблаговолил позволить себе как прихоть, оказалось бурным; его интерес усилился, он весь обратился. в слух, и ничего более. Однако через несколько минут, после того как Мариус устремился за убегавшим убийцей, Мадлен поняла, какой опасности подвергался ее брат, и это придало ей силы; она бросилась в дом, по-прежнему сопровождаемая служанкой и кучером.
На втором этаже дома их ожидало страшное зрелище. Посреди комнаты Мадлен в луже собственной крови лежал Жан Риуф. Не в силах вынести увиденное, девушка лишилась чувств и упала прямо на тело брата, не заметив, что он еще дышит. Служанка и кучер бросились на балкон: один возвещая об убийстве, а другая призывая на помощь. Когда г-н Кумб услышал эти крики, явно свидетельствовавшие о том, что комедия превращается в трагедию, все происходящее начало развлекать г-на Кумба гораздо меньше, чем он предполагал. Ему в голову не приходила мысль, что встреча двух молодых людей может иметь столь прискорбные последствия.
Он задумал посеять раздор, самое большее — дуэль, а ныне пожинал убийство. Он надеялся, что благодаря встрече двух молодых людей ему удастся продемонстрировать, разумеется в роли секунданта, свою небывалую смелость, о которой он так громко и так часто говорил, что в конце концов сам начал в нее верить. Однако предполагаемая храбрость г-на Кумба немедленно получила оглушительное опровержение, причем такое, чтобы навсегда отвратить его от марсельского бахвальства.
Когда он услышал крики служанки: «Убит господин Риуф!», обращенные к сбегавшимся жителям Монредона, он испытал леденящее кровь чувство, какое должен испытывать путешественник, затерявшийся среди Альп, при виде обрушивающейся на его голову снежной лавины; холодный пот выступал у него на лбу, волосы вставали дыбом, зубы громко стучали, ноги дрожали и подкашивались; бывший грузчик стал соскальзывать вниз по крутому скату скалы, на вершине которой он сидел, и скатился к самой ее подошве.
Это падение, удар, который за ним последовал, и ушибы, которые оно причинило драгоценному кожному покрову г-на Кумба, ударявшегося о неровности скалы, привели его мысли к полнейшей сумятице. Объятый паническим страхом, он встал на ноги, и, забыв подобрать свою шляпу, бросился бежать к своему домику так быстро, как только это позволяло охватившее его волнение.
Тревога г-на Кумба была столь сильной, что он не заметил промелькнувших в двух шагах от него таможенников, покинувших свой пост и со всех ног бежавших к месту разыгравшейся страшной трагедии. Зато сами они, не имея никакого повода для волнения, сразу заметили этого человека с обнаженной головой, едва переводившего дух и бежавшего оттуда, где, по всей вероятности, только что было совершено убийство.
И человек этот не мог быть не кем иным, как убийцей: они бросились за ним в погоню. Почувствовав это, г-н Кумб удвоил усилия, но нараставшее в нем от бега возбуждение увеличивало его растерянность и он достиг своей калитки с таким восторгом, с каким потерпевший кораблекрушение, не ждущий уже ничего, кроме смерти, встречает спасение. Наконец, он влетел во двор и с силой захлопнул калитку перед самым носом таможенников, протянувших было руки, чтобы схватить его. Ударом ноги преодолев такую хрупкую преграду, представители государственной власти схватили бывшего грузчика за шиворот в тот миг, когда тот споткнулся, налетев на подножку лестницы, приставленной Мариусом к стене сада. И, как только их грубые руки остановили бег г-на Кумба, он потерял последнее из того помутившегося разума, что еще оставалось у него, бросился перед ними на колени и, сложив руки, закричал:
— Пощадите, помилуйте, господа! Я все вам расскажу и выдам убийцу.
Большего от него и не требовалось. Те, кто его задержал, от сомнений перешли к уверенности. Несмотря на его крики и возражения, г-ну Кумбу связали руки. К этому времени сбежались все соседи; среди них нашлись завсегдатаи бонвенского кафе, где бывший грузчик рассыпался в самом безудержном бахвальстве. Когда они узнали, что г-н Кумб убил г-на Риуфа, общее их мнение было таково: «Нас это не удивляет; мы прекрасно знали, что эта история окончится именно таким образом».
Так что г-н Кумб забавлялся все меньше и меньше, и, по правде говоря, не без оснований. Между тем он немного оправился от ужасающе удрученного состояния. Влияние домашнего очага на людей, по складу характера похожих на г-на Кумба, огромно. Какой бы слабостью ни отличается человек, он обретает некую силу, когда вновь возвращается в родные стены, освященные законом и любовью. Стены, каждая деталь которых знакома ему и которые защищали его от солнца, дождя и бури, передают ему ту живительную энергию, какую земля отдавала Антею, — эти стены становятся способными оборонять его. Мертвенно-бледный, с потухшим взглядом, тяжело дыша, г-н Кумб тем не менее как сквозь туман наблюдал затем, что происходило вокруг него. Случай, ничтожный по сравнению с событиями, жертвой которых он только что стал, заставил его снова прийти в себя и обрести силы для самозащиты. Сквозь дверь, оставленную приоткрытой постоянно входящими и выходящими людьми, он вдруг заметил одного юного любопытного. Чтобы наблюдать за всей сценой и в свое удовольствие рассматривать преступника, сорванец уцепился за ветвь знаменитой смоковницы, и та согнулась под его тяжестью, готовая в любую минуту сломаться.
Такое посягательство на его собственность показалось г-ну Кумбу гораздо более чудовищным, чем то, что он стал жертвой недоразумения и с ним дурно обращались.
— Ах ты скверная обезьяна! — воскликнул он. — Если ты сейчас же не спустишься оттуда, я обещаю надавать тебе кучу затрещин! А ну-ка, слезай оттуда, говорю тебе!
И, обернувшись к тем, кто его охранял, он добавил:
— Позор связывать руки ни в чем не повинному человеку, как вы это сделали сейчас, в то время как всякое жулье разоряет богатство страны и ломает в ней деревья.
Слово «жулье» вызвало у присутствовавших ропот недовольства.
Что же касается того, чтобы отпустить человека, произнесшего его, то от этого они воздержались, хотя совсем растерявшаяся Милетта присоединяла свои настояния к распоряжениям ее хозяина. Эта короткая вспышка гнева оказала на г-на Кумба такое же воздействие, какое на раненого производит кровопускание: она остудила его голову, и он начал трезво оценивать обстановку. Он по-прежнему дрожал и был не более, чем прежде, в состоянии подавить раздражение всех своих нервов. Но, вместо того чтобы напрасно тратить время на свои просьбы, он начал приводить правдоподобные доводы в пользу своей невиновности и в первый раз за все время произнес имя Мариуса. Если Милетту, когда она узнала о страшном обвинении, нависшем над ее хозяином, охватил ужас, то, когда она услышала, что г-н Кумб переложил всю ответственность за совершенное преступление на молодого человека, отчаянию ее не было предела.
Отчаяние это не выразилось у нее ни в криках, ни в рыданиях, как это могло бы случиться, будь она женщиной Севера. Нет, выражение лица ее, до этого спокойное и мягкое, стало угрожающим; глаза ее сверкали как молнии, ноздри раздувались, губы дрожали, и она, на мгновение забыв о двадцати годах, прожитых в почтительном смирении, о своей глубокой привязанности к г-ну Кумбу и признательности к нему, пробившись сквозь толпу любопытных, тремя рядами окружавших его, встала в центре круга прямо напротив него.
— Во имя Господа Бога, — воскликнула она, будто не могла поверить в то, что услышала собственными ушами, — что вы здесь такое говорите, сударь, а? Повторите, я, должно быть, плохо расслышала.
Господин Кумб низко опустил голову при этом вопросе, предвестнике настоящей бури, уже начавшей клокотать в материнском сердце; какое-то мгновение стыд перед людьми и нравственное сознание боролись с его эгоизмом, но инстинкт самосохранения, столь сильный у него, быстро одержал верх.
— По правде сказать, — сказал он, — каждый в этом мире отвечает за себя. Пусть Мариус сам скажет, что он убил господина Риуфа во время драки и пусть сам разбирается с судьями; это его дело, а вовсе не мое. Мариус мне не сын после всего этого.
Произнося последние слова, г-н Кумб пристально посмотрел на Милетту: он надеялся, что целомудрие женщины принудит к молчанию мать.
— О нет, он не наш сын, — пне себя повторила Милетта громким голосом, — и именно потому, что он не наш сын, он, если бы его несправедливо обвинили в убийстве, не был бы таким подлым, чтобы возлагать ответственность за совершенное преступление на другого невиновного. Да, он не ваш сын, и именно поэтому он слишком великодушен, чтобы убивать своего ближнего — будь то ножом или словами.
При каждой фразе, произнесенной ею, г-н Кумб делал такое движение, как будто его ударяли по лицу. Когда же Милетта закончила, он возопил:
— О гром небесный! Что я слышу здесь? Да это конец света!.. Ты осмеливаешься поддерживать его и выступать против меня? Женщина, так-то ты отблагодарила меня за мою глупость — растить твоего скверного мальчишку, кормить его своим хлебом, страдать из-за того, что ты носишь мою фамилию, не будучи моей супругой, — ведь эта несчастная не является моей женою, как вы могли подумать, — добавил он, обращаясь к слушавшим. — Ах, так ты хочешь, чтобы вместо его головы упала моя?! Ты присоединяешься к моим врагам!.. Ну что ж, для начала я тебя выгоняю, я вновь бросаю тебя в нищету, откуда ты была вытащена мной. Подожди, подожди только пока не придет господин мэр и, едва твоему негодяю-сыну будет уплачено по счету, убирайся.
Милетта собралась было ответить с прежней горячностью, но в это время раздался голос одного из присутствующих:
— Ах, оставьте этого человека, пусть себе болтает; разве вы не видите, что он почти сошел с ума от страха? Я как раз находился в шале, когда приехал хирург, чтобы помочь господину Риуфу, и слышал, как мадемуазель Мадлен, плача навзрыд, рассказывала, что видела Мариуса устремившимся в погоню за убийцей. Вы теперь видите, что он невиновен, поскольку, наоборот, преследовал того, кто совершил нападение.
— Мадемуазель Мадден! — закричал г-н Кумб. — Еще бы, я думаю, что она, так же как и эта, будет защищать его от всех…
Внезапно г-н Кумб прервал себя на полуслове. Он вдруг заметил суровое лицо Мариуса, который несколько минут назад вошел в комнату и услышал большую часть состоявшегося диалога. Молодой человек сделал шаг вперед — Милетта заметила его и бросилась его обнимать.
— Наконец, ты пришел, слава Господу! — воскликнула она. — Знаешь ли ты, что здесь происходит, мой бедный мальчик? Тебя обвиняют: утверждают, что именно ты нанес удар господину Риуфу. Защищайся, Мариус, докажи всем тем, кто осмеливается выдвинуть против тебя такую клевету, что ты слишком благороден и великодушен, чтобы оказаться виновником такого подлого убийства.
— Матушка моя, — ответил молодой человек спокойно, но низко опустив голову, — господин Кумб был прав, когда только что сказал: каждый в этом мире отвечает за себя; вот почему кровь должна пасть на голову того, кто ее пролил.
— Бог мой, что ты такое говоришь? — воскликнула Милетта.
— Я заявляю, что займу место господина Кумба, обвиненного ложно и несправедливо; я объявляю также, что отдаю свои руки оковам, связывающим его руки; и, наконец, я хочу сказать, что если кто-то и должен ответить за совершенное убийство, так это я, Мариус Мана, а не господин Кумб.
— О, это невозможно! — воскликнула Милетта. — И тебе, как только что ему, я отвечу: ты лжешь! Можно обмануть людей, можно обмануть судей, но ни Бога, ни родную мать обмануть нельзя! Осмелился бы ты посмотреть мне прямо в глаза, как ты это делал только что и как ты делаешь это в данную минуту, если б твои руки были обагрены кровью ближнего? Нет и нет, это не могло сделать великодушное сердце, которое, только этим вечером узнав о жалком положении, с каким я смирилась ради него, не стало колебаться, выбирая между нищетой и укорами собственной совести; нет, не такой человек нападает в темноте на ближнего своего, используя злодейское оружие!
Затем, видя, что представители властей арестовывают Мариуса, не освободив, однако, руки г-ну Кумбу, она воскликнула:
— Не делайте этого, господа, не делайте! Говорю вам, он невиновен, я уверена в этом! О, заклинаю вас, не делайте этого!
— Матушка, во имя Неба, не терзайте мне душу, как вы это делаете. Разве вы не понимаете, что мне необходимо собрать все свое мужество?!
— Но тогда скажи им при мне, что это неправда, — промолвила бедная мать. — Разве ты, в свою очередь, не видишь, что я сейчас сойду с ума, и неужели одну меня ты не пожалеешь? Ах, Боже мой, Мариус, пощади свою мать!
Произнося последние слова, Милетта упала на пол.
Мариус протянул к ней руки, но они были уже снизаны, поэтому он смог лишь приподнять ее, а позаботились о ней соседи: потрясенные всей этой сиеной, они отнесли полуживую Милетту в соседнюю комнату.
Как раз в это время прибыл представитель судебной власти. Он собрал все сведения, допросил того, кого обвиняло общественное мнение, и того, кто сам себя назвал убийцей. Мариус был краток и точен в своих утверждениях; он заявил, что именно он напал на г-на Риуфа; однако он упорно отказывался признаться в цели этого преступления и уточнить обстоятельства, в результате которых он стал виновником происшедшего. Молодой человек вернулся в деревенский домик с единственным твердым решением — не выдавать Пьера Мана; но когда он осознал, жертвой какого недоразумения стал г-н Кумб, когда он увидел, к своему большому огорчению, какой страшный удар это обвинение нанесло бывшему грузчику, и понял, какого труда тому стоило оправдываться, он, не колеблясь ни секунды, решил уплатить ему свой долг признательности и возложить на себя позор и, быть может, наказание.
Господин Кумб был по сравнению со своим приемным сыном гораздо более точным в своих ответах; он рассказал обо всем, что произошло за день: как уже утром он узнал тайну Мариуса; как он сохранил письмо, написанное Мадлен, и как, наконец, он хотел насладиться растерянностью своего воспитанника и гневом брата мадемуазель Риуф.
В подробностях, представленных г-ном Кумбом, была печать искренности, подкрепленной к тому же сильным волнением, которое он не мог побороть; трезвомыслящему и беспристрастному человеку было совершенно невозможно не заметить звучания правды в словах, слетавших с этих мертвенно-бледных и дрожащих губ. К тому же г-н Кумб представил письмо Мадлен в качестве документа, подтверждающего его заявление. И следователь распорядился, чтобы задержанного освободили.
Что касается Мариуса, то к его признаниям объяснения бывшего грузчика прибавили, казалось бы, множество правдоподобных подробностей. Однако два момента оставались необъяснимыми. Что это был за человек, которого ясно видели служанка и кучер да и сама Мадлен и который, преследуемый сыном Милетты, пробежал мимо них словно тень? Как связать историю этого любовного свидания с кражей, совершенной в комнате девушки, причем кражей, дважды установленной: сначала — отсутствием кошелька в том выдвижном ящике, где он лежал, а затем — обнаружением этою кошелька и салу г-на Кумба?
Следователь приказал еще раз пригласить обнимаемого и засыпал его вопросами; но Мариус, пожелавший признать себя виновным и убийстве, не хотел сознаваться и совершении кражи: он был непреклонен и отказывался давать какие-либо показания в связи с этим. Тогда ему передали письмо от Мадлен, и сначала показалось, что оно произвело на него впечатление, способное изменить его мнение. Он прочитал его дважды, обливаясь при этом слезами; затем он стал умолять следователя спасти, уничтожив это письмо, честь девушки, ибо из-за искренности его признаний она будет напрасно опорочена; но, поскольку следователь заявил ему, что письмо должно фигурировать в деле, Мариус вновь замкнулся в молчании и не ответил более ни на один вопрос. Разъяснить все могла очная ставка, однако состояние здоровья раненого было весьма серьезным, и хирург заявил, что в данное время об этом нечего даже и думать; в итоге следователь распорядился доставить Мариуса в городскую тюрьму.
Соседи плотным кольцом окружили Милетту, чтобы помешать ей присутствовать при отправлении туда ее несчастного сына.
Мало-помалу все посторонние покинули деревенский домик. Господин Кумб, зорко следивший за уходом каждого из них, проводил последнего, чтобы тщательно запереть калитку, ведущую на улицу, и только потом вернулся в дом. Он нашел несчастную мать на том самом месте, где он ее оставил; она неподвижно сидела прямо на полу, подтянув колени к груди, положив руки на колени и опустив подбородок на руки, и смотрела перед собой застывшим невидящим взглядом. И какой бы толстой коркой эгоизма ни было покрыто сердце бывшего грузчика, ему показалось, что на такое немое горе у Милетты есть основания. Складывалось впечатление, что сердце этого человека, до той поры бесчувственное, впервые в жизни сжалось при виде не его собственных, а чужих страданий, и глаза его, слегка увлажнившись, заблестели гораздо сильнее обыкновенного.
Он подошел к бедной, отчаявшейся матери и почти ласковым голосом обратился к ней. Милетта, казалось, даже не слышала его.
— Не надо на меня сердиться, женщина, — сказал г-н Кумб. — Какого черта! Когда с человеком случается нервный припадок, он никогда не отвечает за то, что делает, и иногда бьет именно того, кого больше всего любит. Да, дело, связанное с шале, досадное, и совершенно естественно, что я, будучи невиновным, стад отбиваться, как только понял, в чем меня обвиняют.
Милетта продолжала сидеть в угрюмо застывшей позе, словно превратилась в статую, — так неподвижно она сидела и так незаметно было ее дыхание.
— Ну же, скажи мне что-нибудь, женщина. Ничто не указывает на то, что мы его не спасем. Утверждают, что с помощью денег можно все уладить в этом мире; ну что ж, если это обойдется мне в сотню-другую… в кое-что… не надо же вести себя с теми, кого любишь, как какой-нибудь еврей. Будь спокойна, мать, мы сделаем так, чтобы он был оправдан.
Но, видя, как напрасно он расточает свое красноречие и предлагает принести жертву, г-н Кумб замолчал и из груди его вырвался тяжелый вздох. Однако мы обязаны признать, чтобы не изменить точности, присущей правдивому историку: вздох этот был адресован отнюдь не бедной матери, но шкафу, где Милетта закрывала продукты, храня ключ от него у себя в кармане; и именно туда в течение нескольких минут был устремлен его полный вожделения взгляд.
Господин Кумб не был потрясен ни несчастьем Мариуса, ни горем Милетты — он просто был голоден. Какое-то время он продолжал сидеть, раздираемый борьбой между позывами своего голодного желудка и чувством уважения, какое внушает несчастье.
При других обстоятельствах эта борьба не имела бы неясный исход, и аппетит г-на Кумба одержал бы верх над любым посторонним соображением; но душа его явно находилась на пути к исправлению, поэтому около получаса он еще посидел рядом с Милеттой, ожидая, что она, наконец, выйдет из оцепенения, но, в конце концов, видя, что его терпение столь же бесполезно, как и его настояния, он, к своему великому сожалению, принял решение лечь спать без ужина.
Хотя, в итоге, ему пришлось запастись покорностью судьбе, ибо утром следующего дня, проснувшись, он напрасно стал искать Милетту в домике и по соседству.
Бедная женщина исчезла, и, покидая дом, она, разумеется нечаянно — г-н Кумб, несмотря на дурное расположение духа, обвинил ее не в каком-то ином преступлении, а в рассеянности, — так вот, Милетта унесла с собой ключи, а это означало, что г-н Кумб, которого взлом пугал, даже если речь шла о его собственном жилище, остался без завтрака, так же как накануне вечером — без ужина.
XVIII МАТЬ И ВОЗЛЮБЛЕННАЯ
Как и в первые минуты своего ареста, в тюрьме Мариус оставался твердым и смиренным. Такое спокойствие и мужество вдохновлялось его страстной любовью к Мадлен. И чем больше он размышлял, тем больше убеждался в невозможности того, чтобы мадемуазель Риуф, как бы ни сложились обстоятельства, сочеталась браком с сыном Пьера Мана. Не имея возможности жениться на той, которую он любил и которая первая протянула ему свою руку, когда он даже не осмеливался мечтать об этом, Мариус стал думать о смерти: она казалась ему легкой и сладкой, и он призывал ее от всего сердца, считая, что только она способна избавить его от страданий.
Он размышлял о своей матери, и его религиозное чувство помогало ему переносить горечь воспоминаний о ней. Он жертвовал собой, чтобы одновременно спасти и своего отца и своего благодетеля. Бог не может покинуть его; он примет последнюю просьбу Мариуса, с которой тот рассчитывал обратиться к нему, — поддержать Милетту на тернистом пути, что ей еще предстояло пройти на земле.
Итак, он оставался непоколебимым во время своего первого допроса, состоявшегося на следующий день. Лишь только следователь распорядился, чтобы арестованного отвели в одиночную камеру, где того содержали, как ему сообщили, что одна молодая дама настоятельно требует встречи с ним.
Нетерпение особы, добивавшейся этого свидания, было столь велико, что она не стала дожидаться возвращения своего посыльного, и сквозь приоткрытую дверь в полутьме прихожей был виден ее силуэт.
Следователь появился перед ней и, указав ей рукой на стул, сел напротив.
Она не стала ждать, когда судейский первым обратится к ней с вопросом.
— Моя просьба, сударь, вне всякого сомнения, покажется вам странной и необдуманной, — произнесла она с твердостью в голосе, которую не ослабило волнение. — Быть может, вы станете порицать ее; но моя совесть и, чтобы быть до конца искренней, еще одно чувство оправдывают ее, и этого вполне достаточно, чтобы я выполнила свой долг. Я мадемуазель Мадлен Руиф.
Следователь поклонился. Девушка приподняла вуаль, скрывавшую ее лицо, и собеседник получил возможность любоваться им: своим благородством и красотой, несмотря на его бледность и глубокий отпечаток, оставленный треногами минувшей страшной ночи, оно вызвало в нем подлинный интерес.
— Я оставила ложе, на котором борется со смертью мой бедный брат, — продолжала Мадлен, — с тем чтобы прийти к вам и выполнить насущный долг, перед лицом которого должно отступить любое другое соображение.
— Мне кажется, я догадываюсь о том, что привело вас ко мне, мадемуазель, — заявил следователь, — и к несчастью предвижу также, что буду вынужден, к моему великому огорчению, ответить отказом на вашу просьбу. Как мужчина я испытываю, разумеется, крайнее нежелание отдавать на людское поругание репутацию женщины, особенно когда эта женщина принадлежит, как вы, мадемуазель, к почтенному семейству; но судья должен быть выше соображений такого рода. Он гораздо больше зависит от Бога, нежели от ближних своих, и, выполняя свою миссию, должен, так же как Бог, расценивать как нечто суетное привилегии людей и общественные различия.
— Я вас не понимаю, сударь, — отозвалась Мадлен.
— Я буду более точным: вы, разумеется, пришли повторить просьбу, с которой этот несчастный — и я воздаю ему за это должное — обратился ко мне вчера вечером: сделать так, чтобы исчезло письмо, которое подтверждает характер отношений, какие мне не надлежит оценивать, существовавших между вами и обвиняемым.
— Нет, сударь, вовсе нет. Вы ошибаетесь, — с благородной решимостью возразила Мадлен, — и я протестую против такого предположения, поскольку оно отвратительно. Я люблю Мариуса и без тени стыда признаюсь сегодня в том, о чем не постыдилась написать вчера. Я пришла к вам вовсе не для того, чтобы просить скрыть правду, а с тем, чтобы ее восстановить. Я только сейчас узнала об аресте Мариуса и имею весьма неполное представление о подробностях его; я очень боюсь, что Мариус, из благородных чувств и самопожертвования, откажется сознаться в том, что оправдывало его присутствие в черте моего владения, и я пришла, чтобы сообщить вам об этом.
— Такое благородство чувств делает вам честь, мадемуазель, однако все это бесполезно. Если признания подозреваемого и вызывали бы у нас сомнения, то сопоставление обстоятельств дела, а также заявление господина Кумба помогли бы снять их. Доказано, мадемуазель, что тот, кого вы полюбили, виновен в попытке убийства, в результате чего вы, возможно, лишитесь своего брата, которым вы тоже должны дорожить.
Следователь особо подчеркнул последние слова.
Однако Мадлен осталась невозмутимой.
— Я нам сейчас покажусь весьма странной девушкой, сударь; но, даже рискуя навлечь на себя ваше порицание, я не склоню голову, ибо уверена в том, что позже буду вознаграждена вашим уважением за ошибку, в какую вы могли бы впасть в данную минуту. Полюбив того, о ком мы с вами говорим, я вовсе не уступила пустой прихоти; да она меня, благодарение Господу, больше и не обольщала. Предоставленная самой себе с ранних лет, я уже тогда осознала, что все в жизни серьезно. Я избрала его по своей воле и собственному желанию; я долго размышляла о том, как поступить, и, чтобы я стала сожалеть об этом, понадобится что-то совершенно иное, чем те утверждения, на которых, вне всякого сомнения, основывается ваше обвинение. В отношении вашей последней фразы, я отвечу так: если я и оставила скорбное ложе, к которому привязывает меня мой долг, то только потому, что сам брат, будь он в состоянии говорить, сказал бы мне, приблизившись к минуте нашего расставания навечно: «Пойди и спаси невиновного!»
— Невиновного! — повторил судейский.
— Да, сударь, невиновного, — уверенно ответила Мадлен.
— По правде говоря, мадемуазель, я сожалею о вашей ослепленности. Редко случается так, что нам дается возможность до окончания следствия обосновать свое мнение о виновности подозреваемого; но на этот раз, при наличии доказательств, какие нахожу с избытком на каждом шагу при продвижении вперед в этом злополучном деле, я смею, напротив, уже сегодня утверждать не только то, что подозреваемый виновен, но могу шаг за шагом проследить за ним весь путь совершения преступления, а также уточнить все обстоятельства его. Он ищет вас в саду, но не находит; тогда он проникает в дом, где встречает вашего брата, и из-за невозможности объяснить ему свое присутствие у вас в столь поздний час наносит ему удар. Бог мой, такое случается на свете каждый день.
— Нет, сударь, все происходило совсем не так, поскольку Мариус уже находился в саду рядом со мной в тот момент, когда мой брат издал первый крик. И как вы объясняете эту кражу?
— Думая о необходимости бежать, не имея личных денежных средств, он в растерянности схватил первое, что ему попалось под руку.
— А как быть со сломанным секретером и тем человеком, которого мы мельком увидели и в погоню за которым побежал Мариус?
— Ваши возражения, мадемуазель, могут лишь ухудшить положение несчастного; они заставляют сделать предположение о наличии у него пособников и о предумышленности преступления, о чем мы не думали до сих пор, ибо до сих нор не нашли ни одного свидетеля, кроме него самого.
— Так неужели же вы, сударь, если от вас ничто не ускользает, не поняли, — все больше оживляясь, продолжала Мадлен, — что он признал себя виновным лишь для того, чтобы отвести подозрения, нависшие над его стариком-отцом?
— Такое самопожертвование в самом деле было бы весьма похвально, — холодно ответил следователь, — если бы оно было правдоподобно, но увы! Оно вряд ли имеет право на существование: дело в том, что господин Кумб вовсе не отец обвиняемого.
— Что вы такое говорите? Господин Кумб не отец Мариуса?!
— Мадемуазель, за несколько минут общения с вами я получил возможность оценить ваш характер. Выражаю вам свое сожаление, но вы вызываете во мне интерес, достаточный для того, чтобы я попытался приоткрыть завесу на ваших глазах, которую вы никак не хотите снимать, и поднес к вашей ране раскаленное железо. Да, мадемуазель Мадлен, Мариус вовсе не сын господина Кумба. Мы с вами живем в такой век, когда люди должным образом относятся к нелепым предрассудкам происхождения; тем не менее чувство человеческой справедливости не позволит вам преодолеть то предубеждение, с которым вы столкнетесь, если будете сильно упорствовать в своем желании непременно соединить свою судьбу с этим молодым человеком.
— Договаривайте, сударь, ради Бога, договаривайте! — воскликнула Мадлен, задыхаясь от волнения.
— Отец Мариуса был по справедливости заклеймен как преступник. Отца Мариуса зовут не господин Кумб, а Пьер Мана.
Мадлен приподнялась, чтобы лучше расслышать то, что ответил ей судейский. Когда он закончил, она в изнеможении упала в кресло, словно в словах его заключался ее смертный приговор. Силы, до сих пор ее поддерживавшие, внезапно оставили ее. Она задохнулась от рыданий и закрыла руками лицо, залитое слезами.
Следователь наклонился к ней.
— Не падайте духом, дитя мое, — сказал он ей, — вы только что поведали мне, как с раннего детства привыкали к серьезной жизни, и вот настал час воспользоваться полученными уроками. То, что в нашем возрасте называли любовью, чаше всего идет не от сердца, а от воображения. То, что вы испытываете, не должно поэтому чрезмерно огорчать вас. Вообразите себе, что вам приснился сон, и вот, наконец, настал миг пробуждения. Будьте более благоразумны в будущем: не доверяйте той восторженности чувств, что, пытаясь ввести в заблуждение тех, кто поддается ей, принимает видимость здравого смысла. Помните, что мы давно уже не живем в сказочные времена древних римлян, что все весьма просто в нашем современном обществе, и, чтобы быть в нем правильно понятой и почитаемой, добродетель ничего не должна преувеличивать, даже величие души; и этого молодого человека, виновен он или нет, что будет доказано во время судебного разбирательства, вы должны забыть. Он не отвечает за преступления своего отца — это верно; не отвечает он и за волю случая, бросившего его не в одну колыбель, а в другую, и это тоже верно; говорить о врожденной склонности к преступлению несправедливо и нелепо, и я заранее соглашусь в этом с вами, однако в мире существуют свои законы, и перед ними следует склонить голову, если вы не испытываете желания быть раздавленной их железной дланью. А теперь простите меня за это назидание — его уместность оправдывают мои седые волосы и право отца семейства.
Мадлен выслушала следователя молча, не пытаясь прервать его, и, по мере того как он произносил свою речь, рыдания ее постепенно утихали; когда же он кончил говорить, она снова открыла свое благородное и гордое лицо.
— Я благодарю вас, сударь, — сказала она, — за вашу доброжелательность и сочувствие, какие вы столь явно желаете засвидетельствовать мне. Я полагаю, что вы сохраните эти чувства по отношению ко мне, поскольку, чем лучше вы меня узнаете, тем больше сочтете меня достойной их. Я уверена: если вы и осуждаете меня вместе со всеми, то ваше сердце все же оправдывает меня.
— Как! — воскликнул следователь, искренне полагавший, что ему удалось убедить Мадлен. — Неужели вы все еще думаете…
— Сударь, вы только что сказали сами; такое предубеждение несправедливо и нелепо. Женщина и христианка, я не могу согласиться с тем, чтобы несправедливое и нелепое стало считаться приемлемым и правильным; я не могу согласиться с тем, чтобы какая-то несправедливость и нелепость могли бы освободить меня от клятвы, данной мною по доброй воле. Если Мариус невиновен, во что я продолжаю верить, я буду вместе с ним скорбеть о совершенных его отцом преступлениях, краснея за них наравне с ним; я буду бок о бок с ним делать асе, чтобы восстановить честь имени, которое мы будем носить имеете.
— Я посчитаюсь нами, мадемуазель, но, сознаюсь, не могу одобрить вас.
— Не предрешая будущего, я хочу заняться настоящим. Я являюсь главной виновницей всех несчастий Мариуса; именно я посодействовала тому, чтобы низвергнуть его в бездну, и именно мне надлежит сделать все, что в моих силах, чтобы вызволить его оттуда.
— Я очень сомневаюсь, что вы добьетесь в этом успеха, — с грустью произнес следователь. — Против него все косвенные доказательства, а еще больше, чем косвенные доказательства, против него его собственные признания.
— Здесь есть одна тайна, какую я в самом деле не могу постичь; но с Божьей помощью, возможно, мне это удастся.
— Единственно, кто мог бы ее прояснить, мадемуазель, так это ваш брат, но, к несчастью, весьма сомнительно, что к нему, как мне стало известно после разговора с хирургом сегодня утром, перед его кончиной вернется речь.
— Она обязательно вернется к нему, сударь, и Господь поможет ему в этом, чтобы наказать виновного и оправдать невинного.
Мадемуазель Риуф попрощалась со следователем, оставив его в состоянии крайнего ошеломления от проявленного ею мужества.
День еще не наступил, когда Милетта покинула деревенский домик г-на Кумба.
Создав человека для борьбы, Провидение разумно соразмерило в нем чувствительность с его силами. Когда сердце переполнено болью, когда достаточно добавить лишь каплю к этой чаше горечи, чтобы разбить ее, тогда слезы сами перестают литься из глаз, мысли останавливаются, способность восприятия пропадает и кажется, будто душа покидает тело, оставляя его в оцепенении, в состоянии между сном и смертью, и, уступив тело горю, устремляется в бесконечные пространства, где становится недосягаемой для его воздействия.
Именно так случилось с матерью Мариуса. Она настолько беззаветно любила свое дитя, что разразившаяся катастрофа несомненно убила бы ее, если бы сила обрушившегося на нее удара, который ее разум отказывался воспринять, не погрузил бы бедную мать в то оцепенение, в каком мы видели ее в последний раз. Она долго сидела на каменном полу, такая же холодная и неподвижная, как и он. Когда она пыталась, сделав над собой усилие, мысленно сосредоточиться, когда она старалась припомнить псе обстоятельства этого страшного вечера, ей казалось, что она стала жертвой какого-то тягостного кошмара, однако у нее еще оставалось достаточно чувства самосохранения, чтобы бояться пробуждения.
Она думала только о Мариусе, и ни о чем больше, но странное дело: в этих видениях перед ее мысленным взором проходил и вновь появлялся беззаботный ребенок, а не обвиняемый в убийстве юноша. Иногда, правда, будто сознание ее стыдилось этого чувства болезненной тревоги, будто бы оно решало, что для испытания ее материнской верности такое страдание не было еще достаточно жестоким, по телу ее пробегала сильная нервная дрожь, и посреди кровавого облака ее взору представлялось беспорядочное скопление кинжалов, цепей и эшафотов. Все волокна ее мозга извивались и вибрировали в одно и то же время, и ей казалось, что голова ее расколется, как только слезы, наконец, смогут ручьем хлынуть из глаз; но глаза ее оставались сухими и воспаленными. Способность вспоминать снова угасла, и Милетта впала в прежнее состояние безучастности. Эта безучастность была столь глубокой, что Милетта мгновенно заснула, не меняя ни своего места, ни своего положения.
Когда она проснулась, лучи зари, отражаясь от белоснежных вершин Маршья-Вер, пробивались сквозь оконные стекла и проливали бледный свет в комнату. Первое, что различил ее взгляд в полумраке, была куртка, которую накануне сын брал с собой на рыбную ловлю, а по возвращении бросил на стул. Тогда она все припомнила: она услышала сначала голос г-на Кумба, обвинявшего ее сына, затем голос сына, обвинявшего самого себя; она вновь увидела тесно сгрудившихся любопытных, следователя, жандармов, и реальность — арест Мариуса — впервые за все время ясно и отчетливо предстала в ее сознании.
Она бросилась к куртке — немому свидетелю, доказывавшему ей, что происходящая драма никак не была сном. Она прижала куртку к своей груди, неистово покрывая всю ее поцелуями, словно пыталась уловить в ее плотной ткани какие-то флюиды того, кто ее носил. Затем она разрыдалась судорожно и беззвучно, и несколько слезинок омыли ее налитые кровью глаза. Внезапно бедная женщина отбросила в сторону свою драгоценную реликвию и устремилась к выходу из дома.
Милетта подумала, что ей безусловно не откажут в просьбе обнять на прощание сына, каким бы виновным он ни был. У нее ушло едва ли полчаса, чтобы преодолеть путь от Монредона до Марселя. Всех, кто встречался ей на пути, она расспрашивала, как найти дорогу к тюрьме, и при киле ее такой — бледной, с блуждающим взглядом, с седеющими прядями колос, выбившимися из-под чепчика и ниспадающими на лицо, — прохожие вполне могли заподозрить, что она сама совершила какое-то преступление.
Потрясение, полученное Милеттой, ослабило работу мозга, подготовило ее к такого рода тихому помешательству, какое обычно называется мономанией, и ее мономания целиком и полностью сосредоточилась на Мариусе.
Сначала она спрашивала себя, будет ли ей предоставлена возможность обнять сына, и тут же приходила к убеждению, что непременно увидит его. Именно поэтому, позвонив к ворота тюрьмы и увидев, как они открылись перед нею, Милетта пересекла порог так уверенно, что подбежавшему стражнику пришлось применить силу, чтобы вытолкнуть ее обратно на улицу. Он объяснил ей, что заключенного можно посетить, имея при себе пропуск, подписанный главным прокурором, однако Мариусу, сидящему к одиночной камере, такая милость не может быть оказана.
Милетта не слушала его: она целиком была поглощена созерцанием этих мрачных толстых стен, железных ворот, решеток, цепей, замков и вооруженных людей, стоящих на страже у ворот; она никак не могла понять, почему все эти излишние предосторожности приняты против ее доброго и кроткого Мариуса; вся эта груда камней показалась ей похожей на гробницу, всей своей тяжестью давящей на тело ее сына, и она содрогнулась от этих мыслей.
Тюремщик еще раз повторил ей только что сказанное, но это ее вовсе не остановило, и она не упала духом.
— Я подожду, — сказала она ему.
И, перейдя через улицу, она села прямо на мостовой, напротив входа в тюрьму.
Весь день Милетта провела не сходя с места, не обращая внимания ни на насмешки прохожих, ни на струи дождя, непрестанно стекавшие с крыши, которая нависала над тем местом, где она сидела; но, не отзываясь на замечания в свой адрес по поводу бесполезности ее надежд, она сразу становилась внимательной и тревожной при малейшем шуме, возникавшем за огромными черными воротами; она вся трепетала, слыша, как скрипят воротные петли, и продолжала по-прежнему верить в появление в железном проеме своего сына и готова была в любую минуту раскрыть ему свои объятия.
Проявление такой стойкости и скорбного смирения тронули, в конце концов, даже сердце тюремщика, ставшее твердокаменным от ежедневного созерцания зрелища человеческих страданий.
С наступлением номера он вышел из своего служебного помещении и направился прямо к бедной женщине.
Милетта решила, что он ищет именно ее, и от радости громко вскрикнула.
— Голубушка, — сказал тюремщик, — вы не можете оставаться здесь.
— Почему? — спросила Милетта своим нежным и печальным голосом. — Я ведь никому не причиняю неприятностей.
— Разумеется, это так, но ведь вы промокли и непременно заболеете, стоит вам только провести ночь на улице.
— Тем лучше! Господь воздаст моему сыну за мои страдания.
— Кроме того, если патруль увидит вас здесь, то вы будете арестованы и посажены в тюрьму.
— В тюрьму вместе с ним? Тем лучше!
— Нет, не с ним; совсем напротив: когда его заберут из одиночки, вам не удастся с ним увидеться, поскольку вы сами будете находиться в тюрьме как бродяга.
— Что ж, я уйду отсюда, добрый господин, сейчас уйду, только скажите мне, как скоро я смогу прижать его к своему сердцу? Бог мой, мне кажется, что уже вечность, как мы разлучены с ним, но не продлится же это очень долго, не так ли, мой добрый господин? Ведь это не он убил. Он не способен совершить преступление, и если б вы увидели его, то тотчас же подумали бы именно так. Не правда ли, он очень красив, мой сын? Но сейчас это еще что; когда он был маленьким, он был такой славный! Такой набожный! Знаете ли, однажды на праздник Тела Господня я нарядила его святым Иоанном Крестителем — мне кажется, будто вчера все это было, — знали бы вы, как он был хорош в овечьей шкуре и с маленьким деревянным крестом, который он нес на плече! Если б вы увидели его, то поклялись бы, что это ангел Божий, убежавший из рая. Когда мы вечером возвращались после окончания шествия домой, нам встретился нищий с протянутой рукой; ребенку нечего было дать ему, и он не осмелился попросить у меня, потому что я шла под руку с господином Кумбом. Когда я обернулась, у моего бедного дорогого ребенка все лицо было мокрым от слез! И вот моего сына обвиняют в том, что он пролил кровь ближнего своего! Да разве это возможно? Я полагаюсь на вас… И потом, если его осудят, я не смогу пережить его смерть. Вы понимаете меня, не так ли? Мать не может продолжать жить после смерти своего ребенка. Судьи справедливы, на то они и судьи, они не захотят одним ударом покарать и мать и сына. Они отдадут его мне… Не правда ли, сударь, они отдадут его мне?
Пока она произносила эту речь, отрывистое звучание которой придавало ей еще большую бессвязность, тюремщик, с шумом потряхивая огромной связкой ключей, висевшей у него за поясом, несколько раз подносил руку к глазам.
— Вы вправе надеяться, славная женщина; надежда так же необходима нашему сердцу, как воздух нашим легким; но вам надо вернуться домой; ваш сын чувствует себя хорошо…
— Вы его видели? — с живостью воскликнула Милетта.
— Разумеется.
— И вы еще раз увидите его?
— Вполне возможно.
— О, какой же вы счастливый! Но вы можете передать ему, что я здесь, рядом с ним, настолько близко от него, насколько это возможно для меня? Скажите же ему об этом, умоляю вас; этим вы облегчите страдания сразу двух несчастных, потому что он любит меня, сударь; он любит меня, мой бедный мальчик, так же, как я нежно люблю его сама. И я уверена, что самое большое отчаяние вызывает у него разлука со мной. Скажите ему, что я пришла сюда, что день за днем я буду приходить сюда, пока, наконец, вы не позволите мне войти туда, где он находится… Бог мой, ведь вы скажете ему все это, не так ли?
— Я обещаю вам это при условии, что вы сейчас совершенно спокойно и разумно пойдете к себе домой.
— О да, я сейчас уйду отсюда, мой добрый господин, уйду сию же секунду, только вы скажите ему, что сегодня я была у ворот его тюрьмы, и я каждый день буду повторять ваше имя в своих молитвах.
Милетта схватила тюремщика за руку и, несмотря на все усилия, предпринятые им, чтобы уклониться от этого, поднесла ее к губам и быстро удалилась, бросив взгляд на угрюмые тюремные стены, заточившие самое дорогое, что только было у нее в этой жизни.
Она долго блуждала в лабиринте улиц старого Марселя, обойдя таким образом почти весь полуостров, протянувшийся от старого порта до того места, где в наши дни построили новые доки. Милетта не искала ни крова, ни ночлега; она шла без всякой цели, чтобы как-то провести время — то время, что отделяло ее от столь желанного завтра, когда сбудутся, в чем она не сомневалась, ее надежды. В ту минуту, когда, обогнув старый крытый рынок, она собиралась пойти по одной из узких улочек, окружавших его, рядом с ней прошел мрачный и неспокойный на вид человек.
Его внешность произвела на Милетту необыкновенное действие: с ее лица вдруг исчезло выражение унылой растерянности, какое оно приобрело со времени постигшего ее накануне горя, оно оживилось, глаза ее заблестели в темноте, и в то же время она судорожно вздрогнула всем телом. Она ускорила шаг, чтобы обогнать этого человека. Когда они оба проходили под уличным фонарем, Милетта резко обернулась и оказалась лицом к лицу с этим запоздавшим прохожим.
— Пьер Мана! — воскликнула она, хватая его за запястье.
Хотя улочка была совершенно пустынной, совесть Пьера Мана была не настолько чиста, чтобы с удовольствием услышать свое имя, произнесенное кем-то во весь голос; резким движением он попытался высвободить свою руку, чтобы убежать, но пальцы Милетты, можно сказать, приобрели мощь клешей. И какие усилия ни предпринимал бандит, он не мог вырвать свою руку, из этой руки. Тогда мать Мариуса приблизила свое лицо почти вплотную к лицу своего бывшего мужа.
— Узнаешь меня, Пьер Мана? — с дрожью в голосе промолвила она.
Пьер Мана побледнел и с ужасом откинул голову назад.
— Ах, так ты узнал меня! — продолжала бедная женщина. — Ну что ж, тогда верни мне моего ребенка.
— Твоего ребенка? — с неподдельным ужасом переспросил Пьер Мана.
— Да, моего ребенка, Мариуса, моего сына; верни мне моего ребенка, которого забрали в тюрьму вместо тебя. Верни мне Мариуса, который понесет наказание за твое преступление. Мне надо его вернуть, слышишь меня, Пьер Мана?
— Ах, черт тебя побери, да замолчишь ты, или же…
— Мне замолчать? Как бы не так, — ответила Милетта с новым приливом сил, — замолчать, когда руки его связаны цепями, которые должны были бы сковывать твои?! Молчать, когда он пленник, а ты на свободе? И мне молчать?.. Так ты считаешь, что я не знаю, кто совершил это убийство и кражу? Господь второй раз сталкивает меня с тобой, чтобы я поняла, что виновником случившегося являешься ты. Я видела, как ты в тот вечер, словно волк, рыскал вокруг наших домов, но, даже почувствовав запах крови и увидев следы грабежа, не воскликнула: «Это именно он прошел там!» Я была как помешанная.
— Я не понимаю тебя, да и не знаю, что ты хочешь всем этим сказать.
— Какое мне дело! Только бы судьи были совершенно убеждены в том, что именно ты убил господина Риуфа.
— Господина Риуфа!
— И Мариус пришел с повинной, — продолжала Милетта, которая благодаря материнскому инстинкту вдруг обрела удивительную интуитивную ясность сознания, — только потому, что не хотел позволить обвинить невиновного, не мог подставить своего отца под топор палача…
— Мариус? — переспросил Пьер Мана, начавший что-то понимать. — Такой стройный брюнете черными усами?
— Он был со мной вчера в то время, когда ты появился у нашей калитки.
— Эх, черт побери! — воскликнул бандит, которого с давних пор не покидало чувство уверенности. — Этот парень окажет честь своей фамилии!
— Поразмысли над примером, какой он подает тебе, Пьер.
— Ай-ай, бедняжка! Конечно, я безумно горд тем, что являюсь его отцом.
— А лучше последуй такому примеру; это твой сын так же как и мой, и не дай ему одержать над тобой верх в отваге и благородстве. Само Небо предоставляет тебе возможность такого искупления, какое загладит все твои проступки. Пойди найди судей, пойди освободи нашего сына, и я тоже забуду 0 страданиях, которые ты причинил мне, и если только Господь позволит мне жить на этой земле, так лишь затем, чтобы молиться о твоей душе и благословлять память о тебе.
Пьер Мана почесал затылок, но не проявил никакого восторга по поводу предложения, только что сделанного ему Милеттой.
— Вот как! — сказал он. — Меня мороз подирает по коже от твоих просьб. Прежде чем решиться на такое, надо поразмыслить; я ведь ничего не делаю необдуманно.
— Тогда подумай над тем, что ему грозит эшафот! Подумай и над тем, что во избежание такого позора он может посягнуть на свою жизнь!
— Лох[38]! Он совершил бы ошибку, — холодно возразил Пьер Мана, любивший вставлять в свою речь кое-какие словечки из гнусного словаря злодеев. — По всем повадкам ну просто господин, — продолжал он с чувством некоего презрительного превосходства, — а свода законов не знает. Воровство с перелезанием через стену — на нем, это правда; но, что бы ни делал кляузник[39], — преднамеренность убийства будет снята, у него будут смягчающие вину обстоятельства — и его отправят косить лужок[40], вот и все.
— Косить лужок?! — повторила Милетта, угадывавшая что-то страшное в загадочных выражениях, долетавших до ее слуха.
— Или же, если тебе так больше нравится, в Тулон, — заметил Пьер Мана. — Или, если ты все еще не поняла, о чем идет речь, на каторжные работы, как выражаются фраера[41].
— На галеры! — воскликнула Милетта.
— Ну что ж, верно, и так тоже говорят: на галеры.
— Но галеры — это же хуже, чем смерть!
— Будет тебе! Какая глупость; это жмурики глаза не откроют, а те, кто носит колодки…
— О! — воскликнула Милетта, закрывая лицо руками.
— … однажды выбрасывают их в железный лом, и доказательство этому — я, стоящий сейчас здесь.
— О! — снова воскликнула бедная женщина, привнося во второе восклицание больше неподдельного ужаса, чем в первое.
— Не считая, конечно, того, — добавил бывший каторжник, — что, когда он там окажется, ему далеко не во вред пойдет, что он мой сын; я пошлю пароль, и ему останется только выбрать себе там товарища, способного подставить ему плечо: друзья есть даже в воровском мире. Так что будь спокойна, он там не засидится.
— На каторге! Мой сын на каторге! — воскликнула Милетта. — Но ты ведь не знаешь, Пьер, что, какой бы огромной ни была моя любовь к нему, я лучше предпочту оплакивать его смерть, чем краснеть за его позор!.. На галерах! Мариус — каторжник! Да ты сошел с ума, Пьер!
— Послушай, мы встретимся с тобой завтра, в это же время; ты найдешь меня на этой же улице, и мы посмотрим, что можно будет сделать.
— Нет, — твердо ответила Милетта, — я не испытываю к тебе доверия, Пьер: если бы у тебя действительно было отцовское сердце, разве стал бы ты откладывать на завтра то, что можешь сделать для сына сегодня, когда он страдает, когда он окропляет своими слезами солому, на которую его бросили. Нет, нет, я тебя не оставлю.
Милетта протянула руку, чтобы схватить Пьера Мана за блузу; но он, пригнувшись, проскользнул у нее под рукой и в один прыжок пересек улицу.
— Тогда следуй за мной! — крикнул он.
Каким бы быстрым и неожиданным ни было бегство бандита, Милетта не отказалась от попытки догнать его: она пересекла улицу с той же решительностью, какую проявил он; материнская ярость придала ей сверхъестественную силу, и она бежала за ним на расстоянии нескольких шаток.
На бегу она громко знала на помощь.
Пьер Мана сделал крутой попорот.
— А, попался, — закричала Милетта, хватаясь за край его одежды, — не думай ускользнуть от меня, я тебя больше не оставлю, я неотступно буду следовать за тобой как твоя тень!
И, заметив, что негодяй поднял на нее руку, она смело продолжала, подставляя ему свою грудь:
— Ну, ударь меня! Я тебя больше не боюсь; убей меня, если хочешь! Господь не захочет, чтобы невиновный погиб вместо преступника, и из моего трепещущего и безжизненного тела поднимется голос и будет повторять так, как я тебе повторяю: «Это Пьер Мана, каторжник, вор и убийца; это не мой сын, а Пьер Мана ограбил и убил господина Риуфа!»
Положение Пьера Мана становилось критическим.
Он стоял как раз напротив одного из самых мрачных и мерзких домов, находившихся на одной из отвратительных узких улочек, которые являются позором старого Марселя, к одной из тех клоак под открытым небом, где посреди самых мерзких отбросов кишит и быстро размножается пятая часть населения фокейского города, страшных логовищ, перед которыми прохожий с ужасом отступает, спрашивая самого себя, несмотря на живое подтверждение, какое он видит собственными глазами: как только люди соглашаются прозябать в подобных трущобах?
Эти средоточия заразных нечистот в то же время являются сборищем всех человеческих пороков; они служат сценой для оргий, устраиваемых матросами; для них привычны пьяные вопли, стук раздаваемых ударов, хрипы раненых; вот почему, несмотря на крики бедной Милетты, ни одно из окон не отворилось и ни один из обитателей этих кварталов не появился на пороге.
Но полиция очень бдительно следит за порядком в этих кварталах и может совершить обход в любую минуту.
Пьер Мана понял, что ему для собственного спасения требовалось немедленно прекратить эту сцену: его огромная рука, опустившись, прикрыла нижнюю часть лица его жены и зажала ей рот.
Милетта вцепилась зубами в эту руку и с неистовой яростью укусила ее.
Но, несмотря на нестерпимую боль, Пьер Мана не отдернул свою руку; свободной рукой он так сильно сдавил горло матери Мариуса, что незамедлительно последовало охватившее ее удушье.
Тогда, продолжая зажимать ей горло своим окровавленным кляпом, он приподнял Милетту другой, освободившейся рукой и с этим грузом углубился в темный и зловонный узкий проход одного изломов, о которых мы только что говорили.
Таким образом он пришел во двор, такой сумрачный и узкий, что напоминал колодец. Добравшись сюда, до прибежища, где ему, вне всякого сомнения, нечего было опасаться, и не беспокоясь о шуме, который он собирался поднять, каторжник бросил свою жену через наполовину разбитую оконную раму, расположенную на уровне мостовой.
Все, что осталось от оконного стекла, сразу же разлетелось вдребезги, и бездыханное тело Милетты, проломив несколько сгнивших деревянных досок, упало в нечто вроде подвала, который, учитывая его расположение ниже уровня земли, в Марселе вполне мог считаться погребом.
Пьер Мана исчез на несколько минут; вернувшись обратно, он принес фонарь и ключ.
Отперев дверь в подвал и спустившись туда по ступенькам, он открыл замок и задвижки двери, находившейся в углу подвала, и, схватив тело Милетты за плечи, потащил его к углублению, скрывавшемуся за этой дверью.
Милетта так и не сделала ни одного движения; Пьер Мана приложил свою руку к груди женщины и почувствовал, что сердце ее все еще продолжало биться.
— Эх, черт побери! — воскликнул он. — Я так и знал, что еще не забыл, как надо правильно выполнять такое упражнение; я только хотел привести его в исполнение в два приема и был совершенно уверен, что не довел дело до конца. Черт! Не убивают же свою жену, когда находят ее после двадцати лет разлуки: посмотрим, старательно ли в течение этих двадцати лет она блюла интересы семьи?
Он поставил фонарь рядом с головой Милетты и принялся выворачивать карманы бедной женщины с ловкостью, свидетельствующей о его долгом опыте.
Он нашел в них ключи и несколько монет. Презрительно бросив ключи на землю, он положил деньги к себе в карман, тщательно закрыл на замок и засов дверь клетушки, где осталась его жертва, а затем запер дверь подвала; в довершение он из предосторожности поставил перед разбитым окном несколько бочек и ушел оттуда прочь, чтобы провести остаток ночи в одном из притонов Марселя.
XIX ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПЬЕР МАЛА, КАЖЕТСЯ, РЕШАЕТСЯ ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ СВОИМ ОТЦОВСКИМ ЧУВСТВАМ ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Мы с нами не последуем за Пьером Манн в кабаки, куда он, как мы видели, направился. Наше авторское перо редко, разве что в каких-нибудь чрезвычайных обстоятельствах, прибегало к описаниям подобного рода заведений, и лишь с чувством глубочайшего отвращения мы выводим из тьмы, которая воспринимается как их естественное убежище, кое-кого из тех опустившихся существ, что затеяли преступную или враждебную борьбу против общества. Как можно видеть, нас принуждали к этому лишь потребности нашего повествования. Однако, рискуя утратить привлекательность живописности и преимущества колорита, мы не будем употреблять во зло опрометчивое любопытство читателя, рисуя далее картины нравов современных бродяг; мы не будем пачкать анатомический стол, на котором мы пытаемся показать те или иные тайны человеческой души, соприкосновением его с гнусной грязью, в какой коснеют подонки общества.
Итак, покинем Пьера Мана и вернемся к Милетте.
Пьер Мана не ошибся; она действительно не была мертвой, но прошло довольно много времени, прежде чем она пришла в себя.
Когда наконец бедная женщина вновь открыла глаза, она обнаружила, что находится в непроглядной тьме.
Сделав естественное в ее положении движение, она поднялась на ноги и уткнулась головой в сводчатый потолок.
Первая ее мысль была вовсе не о том, что она сама заживо погребена в своего рода склепе; первая ее мысль была о Мариусе, находящемся в тюрьме.
Быть может, пробил час, когда вход в тюрьму был открыт для нее; быть может, именно в этот час ее приглашали туда, а она не могла воспользоваться этим.
Несмотря на окружавший ее мрак, Милетта по наитию нашла дверь; она попыталась расшатать ее массивные доски, сильно ушибла руки и ноги о дерево, сорвала ногти на пальцах рук и при этом в полном отчаянии выкрикивала имя своего сына.
Однако Пьер Мана не напрасно рассчитывал на надежность и укромность подвала, отвечавшего перед каторжником за ту, одно слово которой могло его погубить.
Дверь стойко выдерживала неистовый натиск на нее Милетты, и отчаянные крики бедной женщины растворялись в мертвой тишине, царившей вокруг.
И тогда ее охватил один из тех приступов ярости, что близок к безумию. Она покатилась по земле, стала рвать на себе волосы, бить себя в грудь кулаками и ударяться головой о стену. Несчастная то громко произносила имя Мариуса, призывая Небо в свидетели, что вовсе не по своей вине она не рядом с ним в эту минуту, то жалобно умоляла палача и заклинала его вернуть ей сына.
В конце концов, изнуренная, разбитая и подавленная горем, она осталась простертой на земле, и ее бесконечное отчаяние прорывалось лишь в глухих рыданиях, перераставших в мучительную икоту.
Милетта дошла до полного упадка сил, как вдруг проделанное в верхней части двери окошечко, не замеченное ею, распахнулось. Глаза ее, уже привыкшие к темноте, различили незнакомое лицо, прижавшееся к железной решетке, которая ограждала окошечко с внутренней стороны.
— Послушай, ты не собираешься, наконец, заткнуться, мерзавка? — грубо спросил незнакомец. — Ну и легкие у тебя! Почище, чем кузнечные меха. Ты так и будешь кричать с утра до вечера не переставая?!
— О сударь! — воскликнула Милетта, умоляюще складывая руки.
— Ну же, чего ты хочешь? Говори!
— Я хочу увидеть Мариуса, ради Бога, позвольте мне увидеть Мариуса!
— Вот негодяй, которому повезло, что его так хотят увидеть! Но, поскольку я не подряжался делать так, чтобы ты увидела Мариуса, то могу призвать тебя лишь к одному — замолчать, или в противном случае, когда твой друг придет, чтобы принести тебе паек, я настоятельно попрошу его преподать тебе урок, показав, как здесь успокаивают непослушных деток.
После этого окошечко захлопнулось. Появление незнакомца и его зловещие слова заставили бедную женщину несколько приутихнуть, но не напугали ее. Напротив, услышав его угрозу, она обрела уверенность, что положение вовсе не было таким, как ей можно было опасаться всего за минуту до этого: она не была навсегда отрезана от мира живых и еще могла снова встретиться с тем, ради кого она готова была отдать собственную жизнь. К тому же, тот, кого незнакомец назвал ее другом, не мог быть не кем иным, как Пьером Мана; значит, она еще увидит его и он принесет ей еду, — ясно, что он не хотел ее смерти.
А если в сердце у нею осталась еще капля жалости к своей несчастной жене, ей, возможно, удастся разжалобить его. После того как в голову ей пришли такие соображения, на что она не была способна уже несколько часов, у нее внезапно появился рой мыслей. Сначала она подумала о побеге; она попыталась ясно представить себе место своего пребывания, для чего исследовала его вдоль и поперек, заменяя свое зрительное восприятие осязанием.
Это действительно был подвал, составлявший в длину около дюжины футов, а в ширину — около шести или восьми и не имевший ни окошка, через которое пробивался бы дневной свет, ни какого-либо другого отверстия для воздуха, кроме упомянутого нами окошечка в двери. Руки узницы, ощупывавшие все окружавшие ее поверхности, не ощущали ничего, кроме липких от влажности стен, что в достаточной степени указывало на расположение подвала ниже уровня земли.
Кроме того, размеры камней, из которых была сложена стена, были так велики, что, с учетом еще и их толщины, не было никакой вероятности того, что, даже если ей удастся освободить от цемента один из этих камней, у нее хватит сил вынуть его из кладки.
Тогда она села на пол, глубоко расстроенная и обескураженная; у нее оставался лишь один шанс — нет, не выжить, что значила для нее жизнь! — вновь увидеть своего сына, и этот шанс полностью зависел от Пьера Мана: именно он держал в своих руках судьбу Мариуса. И тогда мало-помалу, несмотря на добродетельные начала Милетты, все предстало перед ней в новом свете. Каторга, перспективу которой для Мариуса нарисовал Пьер Мана, казалась ей уже менее страшной с того мгновения, как она сделает из Мариуса невинного мученика; по крайней мере, каторга была еще жизнью: на каторге она смогла бы его снова увидеть; красная роба каторжника, прикрывающая это преданное сердце, которое пожертвовало собой ради своего отца, представлялась ей теперь менее безобразной и отталкивающей. Она упрекала себя в том, что перепутала отца с сыном, предложив первому проявить беззаветную преданность, к чему была способна только душа второго, и постепенно ошибки, совершенные ею в течение вечера, одна за другой зримо предстали перед ней.
Милетта решила сделать все возможное, чтобы растрогать бандита, вместо того чтобы угрожать ему, как она это делала; несчастная мать принялась заранее думать о том, что она скажет ему, как только увидит его вновь. Она старательно исследовала вес уголки и тайники своего сердца с целью найти там хоть что-то, способное смягчить эту очерствевшую душу; но слова, произносимые ею про себя совсем тихо, не могли передать громкий вопль материнской души, вырвавшийся из ее уст и готовый вырываться оттуда снова. Вопль этот звучал где-то внутри ее и не мог достичь ее рта, и она приходила в отчаяние от этой несостоятельности человеческой речи. Она восклицала: «Это не так, это не то!» — и снова возвращалась к той же теме, пытаясь придать ей новую форму.
Но вот в подвале раздались тяжелые шаги, и вся кровь Милетты отлила от ее сердца, у нее перехватило дыхание, — осужденный на казнь, который слышит приближающиеся к нему шаги палача, не испытывает больше беспокойства, чем его испытывала эта бедная женщина в ту минуту.
Со своей стороны, Пьер Мана — ведь это был именно он — показался бы ей, если б только она могла его видеть, встревоженным и озабоченным. На самом деле, и тревога, и озабоченность его были вполне оправданы. Хозяин разбойничьего притона, в котором квартировал Пьер Мана и к которому относился и подвал, где он поместил свою жертву, недвусмысленно заявил ему, что он не желает ее держать у себя более ни дня: незаконное лишение кого-либо свободы предусматривалось в Уголовном кодексе как преступление. Хозяин добавил, что с тем большим основанием он не желает, чтобы в его доме было совершено преступление. Пьеру Мана оставалось только сожалеть, что он не задушил тогда до конца свою жертву, проявив таким образом то, что наедине с самим собой он характеризовал как слабоволие.
Так что он вошел в подвал весьма задумчивый, тщательно запер дверь, поставил в угол кувшин с водой, положил там же кусок черного хлеба, который он имел на всякий случай и, чтобы продемонстрировать свои добрые намерения, захватил с собой, и встал, прислонившись к стене.
— Итак, — сказал он, — ты наконец решила помолчать, не так ли? Само собой разумеется, ты правильно сделала, черт побери!
Бедная женщина подползла к тому месту, откуда раздавался этот голос, и обняла колени своего мужа.
— Пьер, — сказала она ему с оттенком мягкого упрека в голосе и так, словно успела забыть характер того, к кому она обращалась, — Пьер, ты так грубо обошелся со мной этой ночью, и почему же? Да потому, что я больше своей жизни люблю бедного ребенка, которого я имею от тебя.
— Но, черт побери, я упрекаю тебя вовсе не за то, что ты любишь его больше своей жизни, нет, а за то, что ты любишь его больше моей жизни, — с ухмылкой ответил Пьер Мана, впрочем явно восхищенный такой переменой, происшедшей с несчастной женщиной, — переменой, которая давала ему возможность немедленно выполнить приказания хозяина этого жуткого жилья.
— Я не стану больше требовать, чтобы ты пожертвовал своей жизнью ради сына, Пьер, ведь только мать помышляет о таком. Я тогда была как помешанная, ты же видел; этот арест, тюрьма, куда посадили Мариуса, — все это так подействовало на меня, что я просто потеряла голову. И я думала, что ты будешь счастлив спасти своего ребенка ценой собственной жизни, как сделала бы я на твоем месте. Не надо на меня за это сердиться, я забыла, что мать любит дитя на свой лад, а отец — на свой; но и ты, Пьер, в свою очередь пообещай мне сделать для меня одно: пообещай, что ты не похоронишь меня в этом подвале и что я выйду отсюда живой и невредимой.
— Ах, так ты боишься за себя, как мне кажется, а совсем недавно прикидывалась такой храброй!
— О да, я боюсь, но не за себя, клянусь тебе в этом; я боюсь за него, моего бедного мальчика. Ты только подумай, Пьер, умри я, и у него не останется никого в целом свете, чтобы утешить его, разделить с ним его горе, помочь ему нести груз его оков. О, я умоляю тебя, Пьер, не лишай нашего ребенка нежности родной матери — он так в ней нуждается сейчас. Позволь мне вернуться к нему.
— Позволить тебе выйти, чтобы ты меня выдала, а потом, как только они задержат Пьера Мана, на которого тебе не следовало бы сердиться, раз он тебя освободил, ты будешь смеяться над ним вместе с мальцом? Полно же, ты принимаешь меня за кого-то другого, моя славная!
— Крестом нашего Спасителя, головой нашего ребенка я клянусь не выдавать тебя, Пьер, и даю тебе в том священную клятву.
— Да уж, ты их прекрасно держишь, эти свои клятвы, — нагло возразил бандит, — я свидетель данных тобою супружеских клятв.
Милетта нагнула голову и ничего не ответила.
— Нет уж, ты покинешь меня не раньше, чем будешь по ту сторону границы. По существу говоря, чрезвычайно глупо иметь законную супругу и перестать этим пользоваться. Закон требует, чтобы ты следовала за мной, моя красотка, и надо подчиняться закону. Мне очень не хотелось бы показаться слишком строгим судьей и отношении прошлого, но что касается будущего, то это другое дело.
Затем, указывая пальцем на стены темницы, он добавил:
— Вот тебя и вернули в супружеский дом, и я желаю, чтобы ты здесь оставалась.
— А Мариус? Как же Мариус? — воскликнула бедная мать. — Тогда я больше не увижу Мариуса! О Пьер, сжалься надо мной; вспомни, что когда-то ты любил меня, что ты лежал у моих ног, чтобы я воспротивилась воле моих родителей, желавших выдать меня за другого, и я дала согласие, бросившись в твои объятия. Ну, ради памяти об этом дне, Пьер, не отталкивай меня, не разлучай меня с моим сыном.
— Послушай, — сказал бандит, явно начавший намечать какой-то план, — я не намного злее кого-либо другого; парень — храбрый малый, и, если только это не будет стоить мне моей шкуры, я расположен кое-что сделать для него.
— О мой Бог! — промолвила Милетта, задыхаясь от забрезжившей перед ней надежды.
— Да, — добавил он, притворившись, что размышляет, — я все решил: я не стану сам его спасать, но позволю тебе спасти его.
— И что требуется для этого сделать?
— Видишь ли, не сегодня и даже не завтра малец предстанет перед судьями и ему будет вынесен приговор; правосудие не очень-то спешит, таким образом, у меня есть время дать тягу и оказаться на другом берегу Вара. А как только я окажусь на другом берегу Вара, куда ты будешь так любезна сопровождать меня, я скажу тебе: «Вот теперь, Милетта, ты можешь делать и говорить что хочешь; Пьеру Мана наплевать на все, он говорит прощай своей неблагодарной родине и никогда больше туда не вернется».
— О Пьер, не говоря ни слова, я буду сопровождать тебя туда, куда ты только захочешь; я даже буду защищать тебя в случае надобности. Какая же я глупая, что раньше не поняла, — ведь есть такой способ!
— Разумеется, он есть, но…
— В чем дело?
— … но родину не покидают вот так, без единого су в кармане, и Пьер Мана далеко не ребенок, чтобы такому учиться. Ну-ка, подумай хорошенько, какую сумму ты сможешь изыскать в пользу несчастного и гонимого супруга? Кстати, малец кое-что обещал сделать для меня, но его взяли до того, как он успел выполнить свое благое намерение.
Затем, с видом волка, сделавшегося пастухом, он произнес, садясь рядом с ней:
— Ты подумай, моя славная, подумай как следует.
— Но у меня ничего нет, совершенно ничего, — ответила она.
— Ничего?
— Ни гроша.
— А как ты думаешь, сколько малец собирался мне дать?
— Да все, что у него было, я уверена в этом.
— А какой суммы могло достичь то, что у него было?
— Возможно, шести или семи сотен франков.
— Это не так уж много, — заметил Пьер Мана, — по в конце концов…
И, помолчав минуту, он спросил:
— А где лежат эти его шесть или семь сотен франков?
— Они находятся в его комнате, в доме господина Кумба.
— Ну что ж, ты дашь мне эти деньги, и с ними я дам тягу. Что до остального, — продолжал Пьер Мана, — имея ремесло, ни в чем не испытываешь стеснения.
— Но эти деньги, — прошептала Милетта, — не мои, Пьер.
— Неужто, спасая своего ребенка, ты еще будешь колебаться, можно ли тебе распоряжаться его деньгами и теми деньгами, что он собирался мне дать?
— Ну что ж, — сказала Милетта, — действительно, ты прав, я пойду поищу эти деньги и вручу их тебе.
— Женщина, тебе известно, что я тебе сказал.
— А что ты мне сказал, Пьер? Ведь ты говорил немало.
— Я сказал тебе, что мы не расстанемся друг с другом до тех пор, пока я не окажусь на другом берегу Вара.
— Если мы не будем расставаться, то как же тогда ты хочешь, чтобы я отправилась искать эти деньги в комнате Мариуса?
— Мы пойдем туда вместе.
— Вместе?
— Ну, решай: или одно, или другое, — сказал Пьер Мана, возвращаясь к своему обычному грубому тону.
— И когда мы пойдем туда?
— Сегодня же вечером, не позже, и прямо отсюда; будь умницей — выпьем нашу воду, съедим наш хлеб и не будем шуметь.
И Пьер Мана встал, ловко и бесшумно положив в свой карман два или три ключа, со вчерашнего вечера лежавшие на одном и том же месте, на земле, — ключи, о которых Милетта даже и не вспомнила, но он, будучи весьма осмотрительным человеком, не забыл. После этого он вышел из подвала, на прощание еще раз посоветовав узнице быть благоразумной.
Во дворе он встретил хозяина притона.
— Ну, — спросил у него тот, — и когда будет переезд?
— Сегодня вечером, папаша Вели!
— Сегодня вечером — это слишком поздно.
— Прояви немного терпения.
— Нет уж, слишком много проявил я терпения по отношению к тебе, а ты, лодырь, лентяйничаешь с утра до вечера, ничего не платишь за жилье и теперь еще обременяешь меня какой-то дрянью, от которой одной гораздо больше шума, чем от всего остального заведения. Ну же, немедленно убирайтесь отсюда, ты и твоя шлюха!
— Да не спешите вы так: я тут голыша кормлю[42], а вы беспокоите меня именно в то время, когда я размышляю!
— А ты мне тут не небылицы плетешь?
— Вовсе нет, именно для того чтобы довести дело до благополучного конца, я помирился со своей супругой, с которой мы вот уже двадцать лет живем врозь. В данную минуту она как раз составляет завещание в мою пользу.
Услышав такое объяснение, кажущееся правдоподобным, папаша Вели, по-видимому, смягчился и, поскольку уже рассвело, отправился по своим делам, которых у него было не мало.
XX ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН КУМБ СОВЕРШАЕТ САМЫЙ ОТЛИЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ, КАКОЙ КОГДА-ЛИБО ПРОИЗВОДИЛ ЛЮБИТЕЛЬ ОХОТЫ
Когда дело касалось денег, Пьер Мана проявлял образцовую пунктуальность. Двенадцать часов спустя после разговора, изложенного нами выше, то есть в девять часов пополудни, в безлунный вечер, он во второй раз за этот день открыл дверь подвала, куда была заключена Милетта.
Она уже стояла и ждала его. Совесть ее была совершенно спокойна; она поняла, что никто, даже Бог не упрекнет ее за желание спасти своего сына за счет его собственных денег.
— Ну, что ты решила? — мрачно спросил Пьер Мама.
— Хорошо, — ответила Милетта, — я готова следовать за тобой и выполнить то, что ты требуешь от меня.
Пьер Мана удивленно посмотрел на нее: он полагал, что ему еще предстояло сломить ее последнее сопротивление. Неужели Милетта за его почти невинным требованием не разгадала подлинного замысла, отнюдь не содержащего в себе ничего невинного? Будучи не в состоянии поверить в простодушие, бандит охотно верил в скрытность.
Слова Милетты, таким образом, вызвали у него глубокое недоверие.
— Ах-ах, — сказал он, — кажется, флюгер повернулся в другую сторону?
— Вовсе нет, — просто ответила Милетта, — разве я тебе не говорила, что готова выполнить все, что ты от меня требуешь?
— Тогда пошли! — грубо прервал ее Пьер Мана.
Бедная женщина бегом выбежала из подвала. При виде порыва, с каким она бросилась бежать из своей тюрьмы, можно было понять, сколь сильны в ней были воспоминания об опасностях, какие ей там угрожали. Пьер Мана резко остановил ее, схватив за платье. Толчок был таким сильным и неожиданным, что Милетта упала на колени.
— О, не так быстро, не так быстро, — сказал он, — по правде сказать, такая поспешность не предвещает ничего хорошего: это заставляет меня думать, что ты так торопишься попасть на улицу, чтобы закричать «Караул!», привлечь внимание четырех солдат и капрала, которые избавят тебя от твоего дорогого супруга. Послушай, я, конечно, не знаю, но ты вызываешь у меня желание обойтись без твоего общества, каким бы приятным оно ни было.
— Я клянусь тебе, Пьер!.. — поспешно вымолвила бедная женщина.
— Не клянись, — прервал ее Пьер Мана, — вот кто мне ответит за тебя лучше, чем все твои клятвы.
И Милетта почувствовала холодное прикосновение острого кинжала, который презренный негодяй приставил к ее груди.
— Видишь ли, — сказал Пьер Мана, — что касается меня, то я не предаю, но тебе надо знать, что я и не позволяю это делать. Когда мы выйдем на улицу, издай один крик, произнеси одно слово, сделай один жест, которые меня не устроят, и тогда мой Убивец в ту же секунду выполнит свою работу. Об этом стоит подумать, не так ли? Так подумай же, советую тебе, и чтобы еще лучше доказать тебе, насколько я дорожу тем, что ты следуешь моим советам, я сейчас приму небольшую предосторожность — она не позволит тебе поддаться искушениям, каким ты, будучи женщиной, возможно, не сумеешь противостоять.
Пьер Мана потушил фонарь и положил его к себе в карман; затем он наложил тугую повязку на глаза своей жены, позаботившись подтянуть завязки чепчика таким образом, чтобы скрыть верхнюю часть ее лица; потом он схватил ее руку, зажал у себя под мышкой и крепко прижал к груди. И наконец, для большей уверенности, он сжал пальцы Милетты в своей руке.
— Теперь, — сказал он ей, — не бойся опереться на свою естественную и законную опору, моя дорогая подруга. Ах, черт побери! Я уверен, что издалека в ночных сумерках нас примут за жениха и невесту, без памяти влюбленных друг в друга.
Болтая так на ходу, Пьер Мана пошел вперед, и Милетта, почувствовав порыв свежего уличного воздуха, ударивший ей в лицо, поняла, что они вышли из прохода.
Она с облегчением вздохнула.
— Так-так, — сказал Пьер Мана, от чьего внимания ничто не ускользало, — вот и дыхание к нам возвращается; впрочем, оно нам понадобится, ведь нам надо сделать большой конец.
Так они продвигались вперед, и, хотя повязка на глазах бедной женщины не давала ей что-либо увидеть вокруг, она, тем не менее, поняла, что ее муж прибег к невероятным предосторожностям, чтобы пройти через город. Он ни за что не ступал на новую улицу, прежде чем обследовать ее внимательным взглядом, и остановки в пути были частыми; не раз бандит делал крутой поворот, возвращаясь назад, словно на дороге возникала какая-то непредвиденная опасность. Милетта же, начавшая тревожиться, не намерен ли Пьер Мана избавиться от нее, казалось, стала жертвой раздиравших ее мучительных опасений: как только он останавливался, она настораживалась и прислушивалась с тем глубоким беспокойством, с каким воин-индеец в своих лесах вслушивается в шаги приближающегося врага; но, то ли Пьер Мана лавировал с необычайной ловкостью, то ли в этот поздний час на улицах редко встречались прохожие, она напрасно прислушивалась: слышны были лишь звуки ее собственных шагов и шагов ее вожатого, гулко отдававшихся на плитах мостовой.
Вскоре они стали взбираться на крутой откос, на котором у них под ногами перекатывалась галька, в то время как глухой и монотонный шум морских ноли, бившихся о скалы, начал пробуждать внимание Милетты и указывать ей направление пути, которым она следовала: она возвращалась в Монредон.
Так они и продолжали идти. Внезапно, в ту минуту, когда свежий ветер с моря и шелест волн подсказали ей, что они достигли побережья, она почувствовала, как муж поднял ее на руки, вошел в воду, строго приказав ей не дотрагиваться до повязки на глазах, и сделал несколько шагов вперед, несмотря на сопротивление волн; уцепившись за лодку, тихо покачивавшуюся на швартове, он положил туда свою ношу, влез сам и расположился рядом с ней, затем перерезал канат и, взявшись за весла, отправился в открытое море. И только тогда он позволил Милетте приподнять платок, которым были завязаны ее глаза. Воспользовавшись этим разрешением, Милетта огляделась вокруг: она и Пьер Мана были совсем одни в лодке, затерянные среди бескрайнего моря в беспредельной тьме. Каторжник хранил молчание и с нетерпением налегал на весла. Милетта поняла, что он спешил удалиться от берега, который, впрочем, был от них уже слишком далеко, чтобы звук человеческого голоса мог перекрыть шум волн и достичь побережья; со стороны открытого моря она не заметила ничего, кроме огней маяка Планье, гигантской звездой то вспыхивавшего, то гаснувшего на черном занавесе — небе, слившемся с горизонтом.
Несколько мгновений спустя Пьер Мана убрал весла, расчехлил рей, вокруг которого был намотан парус, и распустил полотнище по ветру; однако тот дул с юго-востока, и такое его направление никак не ускоряло их ход. И, только меняя галсы, лодка могла подойти к Монредону, на который каторжник взял курс. Добрых два часа он потратил таким образом на лавирование и, лишь когда лодка поравнялась с Прадо, свернул парус и вновь налег на весла.
Вдали уже показались пики Маршья-Вер. По мере приближения лодки к берегу Милетта, как если бы она догадывалась, что они движутся к неизвестности, ощутила учащенное биение своего сердца; временами удары его были столь частыми и сильными, что казалось, будто оно вот-вот вырвется из груди. Вплоть до этого времени Пьер Мана сохранял молчание, но при виде цели, на которой сосредоточивались его преступные мысли, он вновь обрел свою обычную насмешливую словоохотливость.
— Черт побери! — воскликнул он. — Ты не можешь не сказать, Милетта, что у тебя лучший во всем Провансе муж. Посмотри-ка, я не только привел тебя за город, но еще и ставлю пол угрозу спои дела и теряю час и пути, чтобы доставить тебе удовольствие морской прогулкой. И теперь, — добавил он, высаживаясь на берег, — ты отлично понимаешь, я надеюсь, что такая обходительность должна быть вознаграждена.
— Пьер, — ответила Милетта, — если только после всего, что ты потребуешь от меня, наступит освобождение нашего бедного сына, я сделаю все, что тебе будет приятно.
— Ну что ж, в добрый час, коли так сказано.
И взяв жену за руку, Пьер Мана направился к деревенскому домику, черные очертания которого выделялись во мраке даже на фоне темной ночи.
Подойдя к домику, Милетта, словно к ней только сейчас вернулась память, стала проворно рыться у себя в кармане и, наконец, издала удивленный возглас.
— В чем дело? — спросил Пьер Мана.
— Дело в том, что я потеряла ключи от дома.
— К счастью, именно я их нашел, — сказал бандит, позвякивая небольшой связкой ключей, собранных им на одну веревочку.
И с первой же попытки Пьер Мана с ловкостью, наглядно доказывавшей его опытность в делах подобного рода, без труда подобрал ключ к двери, выходившей в сад.
Она отворилась, слегка поскрипывая (г-н Кумб был слишком бережливым, чтобы использовать оливковое масло для смазывания дверных петель).
— Теперь, — сказала Милетта, дотронувшись до руки Пьера Мана, — позволь мне войти сюда одной.
— Как это одной?
— Да, я принесу тебе то, что пообещала.
— Ах, черт возьми! Хорошенькое дело! Наручники, вот что ты мне принесешь, да? И потом, по пути сюда множество разных мыслей пришло мне в голову: как говорится, ночь — хорошая советчица.
Бедная женщина затрепетала от страха.
— И какие же мысли пришли тебе на ум? — спросила она. — Я полагала, что между нами все решено.
— Сколько уже лет ты живешь вместе с господином Кумбом?
— Примерно лет восемнадцать-девятнадцать, — ответила Милетта, потупив взор.
— Тогда у тебя должна быть славная кубышка.
— То есть, как это — кубышка?
— Вот так, я тебя знаю, ты женщина бережливая, и за твою работу, каким бы скрягой ни был этот старый мерзавец, он должен был платить тебе, самое малое, около двух сотен франком it год; и если считать по двести франком в год, то имеете с процентами это составит около десяти или двенадцати тысяч франком — ясно? Итак, поскольку я являюсь главой общего имущества супругом, именно мне принадлежит право распоряжаться этими деньгами. Так где эти десять или двенадцать тысяч франков?
— Но, несчастный ты человек, — отметила Милетта, — я никогда и не думала что-либо просить у господина Кумба, так же как и он никогда не думал о том, чтобы давать мне что-нибудь. Я старательно блюла интересы дома, он оде мал и кормил меня; он одевал и кормил Мариуса. Кроме того, он взял на себя расходы по его образованию.
— Что ж, я понимаю так, что тебе и господину Кумбу нужно промести между собой расчеты. Отлично, проводи меня в его комнату, мы проведем расчеты, и, как только это будет сделано, я ему дам расписку, погашающую обязательства, чтобы после меня никто ничего у него не требовал.
— Что ты такое говоришь, несчастный человек?
— Я говорю только о том, чтобы ты проводила меня прямо в спальню старого скряги, причем не мешкая, и, как только мы там окажемся, сказала мне, где негодяй прячет наши деньги.
— Наши деньги?
— Ну да, наши деньги; поскольку он тебе не платил жалованья за работу, поскольку ты блюла его интересы и поскольку благодаря тебе он увеличил капитал, половина всех сбережений, накопленных за годы вашей совместной жизни, принадлежит тебе. Я обещаю тебе взять ровно половину, точно нашу долю. Итак, никаких угрызений совести — и вперед.
— Никогда! Никогда! — воскликнула Милетта.
Но, произнеся во второй раз это слово, она вскрикнула от боли, почувствовав как острие ножа бандита вонзилось ей в плечо.
— Пьер! Пьер! — вскричала она. — Я сделаю все, что ты требуешь, но поклянись мне, что ни один волосок не упадет с головы того, кого ты хочешь ограбить.
— Будь спокойна, я слишком хорошо понимаю, чем мы с тобой обязаны ему за заботу, проявленную к тебе на протяжении двадцати лет, а также за те небольшие средства, что он приберег нам с тобой на старость. И не будем терять время: как говорят американцы, время — это деньги.
— Бог мой! Бог мой! Ты же дал мне надежду, что покинешь Францию, как только кошелек Мариуса окажется у тебя в руках.
— Чего ты хочешь? Аппетит приходит но время еды, а потом я старею и, к особенности за границей, не буду раздосадован возможностью пожить немного на спою ренту. Кстати, кроме Мариуса, у меня нет другого законного наследника, поэтому когда-нибудь псе это достанется ему. Бедный малец! Так что на самом деле мы сейчас с тобой собираемся поработать на него. Вот почему я так спешу приняться за дело. Идем, веди меня, бездельница! (И он снова вонзил ей острие ножа в плечо.)
Милетта тяжело вздохнула, первой пошла вперед и, остановившись перед дверью, пробормотала:
— Здесь.
Приложив ухо к двери, бандит прислушался; несмотря на разделявшую их дверь, явственно доносилось шумное дыхание г-на Кумба, указывавшее, что храпяший спал глубоким сном.
Пьер Мана нащупал рукой замок; ключ был в замочной скважине: хотя дверь дома была закрыта, г-н Кумб для безопасности запирался у себя в комнате.
Бандит осторожно отодвинул язычок замка; замок издал легкий скрип, как это было, когда они открывали дверь в дом, но его заглушил храп спящего г-на Кумба.
Пьер Мана быстро вошел, втащив за собой Милетту, которая была ни жива ни мертва, и закрыл за собой дверь.
Приняв эту меру предосторожности, он пробормотал, словно был у себя дома:
— Ну, теперь зажжем свечу, при свете работается лучше.
Милетта шептала про себя молитву; от страха она почти лишилась чувств.
Ярко вспыхнула спичка, ее пламя зажгло фитиль, и тусклый свет горящего скверного сала разлился по комнате.
При этом свете, каким бы слабым он ни был, можно было разглядеть г-на Кумба, спящего в своей постели сном праведника.
Пьер Мана подошел к нему и пальцем тронул его за плечо.
Господин Кумб пробудился.
Ничто не способно описать удивление, более того — ужас бывшего грузчика, когда, открыв глаза, он увидел зловещее лицо бандита.
Он хотел закричать, но Пьер Мана приставил нож к его горлу.
— Не надо шума, прошу вас, мой добрый господин, — сказал каторжник. — Ведь лучшая работа всегда делается молча, и потом, вы видите в моей руке то, чем я могу заткнуть вам рот, если только вы откроете его слишком широко и, главное, заговорите слишком громко.
Господин Кумб растерянно поводил глазами вокруг себя.
Он увидел Милетту: и сильном волнении он до сих пор не успел заметить ее.
— Милетта! Милетта! — воскликнул он. — Что это за человек?
— Так вы меня не узнаете? — спросил Пьер Мана. — Что ж, это забавно, а я узнал вас сразу же и нахожу вас таким же безобразным, каким видел в последний раз. Такова счастливая способность мерзких лиц — не меняться на протяжении жизни, и у вас было все, чтобы остаться таким, каким вы были прежде; но я, за кого эта дама вышла замуж по любви, потому что я был красивым парнем, не мог воспользоваться такой счастливой привилегией, и потому вы и не узнаете меня; Милетта, назови, наконец, мое имя господину Кумбу.
— Пьер Мана! — воскликнул тот, собравшись с мыслями и воскрешая воспоминание о той страшной ночи, когда бандит хотел повесить свою жену.
— Да, вот именно, Пьер Мана, мой добрый господин, пришедший к вам вместе со своей супругой, чтобы свести с вами кое-какие счеты, слишком долго остававшиеся несведенными.
— О Милетта, Милетта! — вскричал г-н Кумб, в растерянности не замечавший, как бедная женщина глазами указывала ему на находившееся у него под рукой ружье, ствол которого отбрасывал блик света в один из углов комнаты.
— Мой дорогой господин, речь идет не о Милетте, — продолжил Пьер Мана. — Черт побери! В вашем возрасте стыдно не знать, что именно муж защищает интересы общего имущества супругов. Так что обращайтесь не к моей жене, а ко мне.
— В таком случае, чего вы желаете? — запинаясь, спросил г-н Кумб.
— Черт возьми! Чего я желаю? Денег! — нагло заявил каторжник. — Тех, что вам будет угодно отдать моей жене, чтобы оплатить те добрые услуги, какие она оказывала вам на протяжении девятнадцати лет.
Цвет лица г-на Кумба из мертвенно-бледного превратился в зеленоватый.
— Но у меня нет денег, — сказал он.
— При вас, я полагаю, их действительно нет, если только ваша кубышка не припрятана в соломенном тюфяке, и тогда денежки лежат под вами. Я уверен, что, поискав как следует там и сям, вы найдете несколько банковских билетов в тысячу франков, которые валяются без дела в каком-нибудь углу вашей комнаты.
— Так, значит, вы хотите меня обокрасть? — спросил г-н Кумб с таким изумлением, какое выглядело бы комичным, не будь положение столь серьезным.
— Эх, черт побери! — сказал в ответ Пьер Мана. — Я не придираюсь к словам, все сойдет, лишь бы вы побыстрее выложили деньги; но в противном случае, черт возьми! Я опасный человек, и я вас об этом предупреждаю.
— Деньги! — повторил г-н Кумб, кому его необычайная скупость придала некоторую смелость. — И не рассчитывайте на них, вы не получите ни единого су, и, если я и должен что-то вашей жене, пусть она придет сюда завтра. Наступит день, и тогда каждый из нас увидит, как нам следует свести наши счеты.
— К несчастью, — вымолвил Пьер Мана, принимая все более угрожающий вид, — моя жена, так же как и я, стала ночной птичкой, а потому сведем наши счеты немедленно.
— Ах, Милетта, Милетта! — повторял несчастный г-н Кумб.
Милетта, глубоко взволнованная горестной интонацией этого обращения к ней г-на Кумба, сделала попытку ускользнуть из рук бандита, но тот, согнув Милетту как тростинку своей левой рукой, повалил ее, подмяв под себя, и придавил ей грудь ногой.
— Ах, черт побери! — закричал он. — Так ты уже забыла то, что недавно сказала мне, а?! Ты хотела прийти сюда, но не пожелала сообщить мне, где он прячет свои денежки, этот любимчик твоего сердца! Ну что ж! Знаешь ли ты, что я сейчас сделаю, а? Я вас сейчас убью обоих и уложу рядом в одну кровать, а сам буду прогуливаться с высоко поднятой головой, ибо закон на моей стороне.
Говоря так, бандит ударял Милетту в грудь своим тяжелым башмаком.
Господин Кумб не смог вынести этого зрелища. Забыв обо всем, — о своем золоте, о неравенстве сил, о том, что был совсем раздет и безоружен, забыв о самом себе, он кинулся на этого лютого зверя.
Ужас и отчаяние придали этому простодушному человеку такую энергию, что Пьер пошатнулся от его удара и, вынужденный сделать шаг назад, приподнял, сам того не желая, ногу, которой он придерживал лежавшую на полу Милетту.
Совершенно истерзанная, с трудом переводя дыхание, она воспользовалась этой короткой передышкой, чтобы с ловкостью пантеры выпрямиться и броситься к окну.
Но Пьер Мана разгадал ее замысел. Невероятным усилием он освободился от г-на Кумба, резко оттолкнул его, в 18 — 7045 результате чего тот навзничь упал па спою кропать, и бросился на Милетту с ножом в руке.
Оружие, словно молния, сверкнуло и полутьме комнаты и, опустившись, перестало блестеть.
Милетта упала на пол, даже не отозвавшись на крик, исторгнутый из груди г-на Кумба.
Казалось, ужас парализовал бывшего грузчика, и он закрыл лицо руками.
— Твои деньги! Твои деньги! — вопил каторжник, резко встряхивая его.
Господин Кумб уже было указал пальцем на свой секретер, как вдруг ему показалось, что он увидел, как в темноте скользнула человеческая фигура, приближаясь к убийце.
То была Милетта: бледная, умирающая, теряющая кровь из-за глубокой раны, она собрала последние свои силы, чтобы прийти на помощь г-ну Кумбу.
Пьер Мана не видел и не слышал ее; шум, доносившийся извне, завладел в эту минуту его вниманием.
— Ах, так вот где лежит твое золото? — вымолвил, наконец, Пьер Мана.
— Да, — ответил г-н Кумб, стучавший зубами от охватившего его страха, — и всем самым святым, что только есть у меня, я клянусь вам в этом.
— Ну что ж, черт побери! Я буду проедать и пропивать его за ваше здоровье, за здоровье вас обоих. Я отомстил за себя и обогатился, то есть за один раз сделал два добрых дела.
И, подняв нож, с лезвия которого стекала кровь, Пьер Мана сказал угрожающе:
— Ну, отправляйся же вслед за своей любовницей.
И он замахнулся на г-на Кумба страшным ножом, но именно в это мгновение Милетта из последних сил бросилась на каторжника и обхватила его руками.
— Ваше ружье! Ваше ружье! — вскрикнула бедная женщина слабеющим голосом. — Или он вас сейчас убьет так же, как и меня.
Поняв, с кем он имеет дело, Пьер Мана решил, что ему будет легко отделаться от Милетты.
Но она обхватила его с такою силой, какая обычно характерна для расстающихся с жизнью и особенно поразительна у утопленников; руки ее приобрели силу железных ободьев, спаянных друг с другом.
Напрасно Пьер Мана извивался по-змеиному, изо всех сил тряс умирающую и снова ударил ее ножом, он никак не мог добиться того, чтобы она выпустила его.
Однако крик отчаяния, исторгнутый умирающей Милеттой, пробудил, наконец, в г-не Кумбе инстинкт самосохранения, утерянный им было из-за предсмертной тоски. Заряженное ружье оказалось к его руках само собой, что, описывая позже эту сиену, он отнес за счет проявленного им необычайного хладнокровия; он вскинул ружье и выстрелил, не приложив его к плечу и не целясь, как будто это было всегда свойственно ему. И Пьер Мана, сраженный прямо в грудь двумястами свинцовых дробинок, составлявшими заряд, упал как подкошенный к ногам хозяина деревенского домика.
Задыхаясь от волнения, г-н Кумб чуть было сам не потерял сознание, как вдруг услышал сильный стук в дверь и громкий женский голос:
— Да что же вы там делаете, господин Кумб?.. Мой брат заговорил, и вовсе не Мариус является его убийцей!
XXI МУЧЕНИЦА
Господин Кумб отбросил ружье в сторону, чтобы скорее помочь Милетте. Услышав этот незнакомый голос, он вдруг решил, что ему угрожает целый легион бандитов; но одержанная им победа воодушевила его; вздрогнув, словно конь при звуке трубы, он вновь схватил свое оружие и подбежал к окну в позе солдата, готового открыть огонь.
Тем не менее, даже подстрекаемый к боевым действиям собственной храбростью, он не забыл, что одной из добродетелей воина является осмотрительность, а потому, прежде чем открыть окно, предпринял некоторые меры предосторожности и ни в коем случае не стал высовываться наружу.
— Что вам нужно? — промолвил он с такой замогильной интонацией в голосе, какую только смог найти в глубине своих бронхов.
— Чтобы вы немедленно отправлялись в Марсель. Мой брат спасен, к нему вернулась способность говорить, и он уже сделал заявление о том, что Мариус не убийца. Пойдите походатайствуйте об очной ставке.
Услышав женский голос, г-н Кумб осознал, что он напрасно сосредоточил в себе в эту минуту новый запас доблести.
— Эх, черт бы побрал всех этих шлюх, — произнес он, возвращаясь к Милетте и пытаясь высвободить ее из-под тела бандита, — так речь идет о Мариусе? Да мне совершенно плевать и на него, и на ваше поручение, и на вашего брата. Что вы там мне рассказываете, когда я только что сражался как настоящий спартанец, когда я по пояс в крови и когда все мои заботы требуются сейчас бедной Милетте! Пойдите же, если вам будет угодно, и сами прогуляйтесь в Марсель или скорее придите мне на помощь, поскольку этот презренный негодяй оказался таким же тяжелым, каким он был злым.
Господин Кумб действительно нуждался в помощи.
Его нервы были настолько сильно расшатаны, что, в то время как колени его дрожали и ноги подкашивались, руки его, оцепенев, потеряли всю свою силу. Напрасно он пытался сдвинуть труп, всей своей тяжестью давивший на тело матери Мариуса. Один вид Милетты, голова которой виднелась из-под груди бандита, ее мертвенно-бледное и окровавленное лицо, широко открытый рот, полуоткрытые глаза и, наконец, невозможность оказать ей помощь — все это попеременно бросало его то в отчаяние, то в ярость. Он обращался к бедной женщине с теми словами нежности, какие не говорил ей с тех самых пор, как узнал ее; затем, разражаясь страшными проклятиями в адрес ее палача, оплакивал ее судьбу поистине взволнованным голосом и, наконец, совершенно обезумев от ярости, бил ногами труп ее убийцы.
Ответ г-на Кумба, крики, рыдания и глухие удары, доносившиеся из комнаты, повергли Мадлен — ведь именно она звала с улицы хозяина деревенского домика — в странное недоумение. Господин Кумб днем и ночью вел такую яростную войну с птичками, что выстрел, который девушка услышала, войдя в сад, вовсе не удивил ее; но странные слова, с какими сосед обратился к ней, зловещие звуки, долетевшие до ее слуха, заставили Мадлен сделать предположение, что случилось несчастье: либо г-н Кумб сошел с ума, либо в его доме разразилась новая страшная беда.
Она стала звать на помощь и на всякий случай попыталась открыть дверь.
Но, как мы уже упоминали, Пьер Мана слишком хорошо знал свое дело, чтобы не закрыть за собой дверь.
— Если вы хотите, чтобы я вошла, надо мне открыть. Откройте же, господин Кумб! — кричала Мадлен, сбившая себе все пальцы в попытках расшатать замочную задвижку.
— У меня времени с избытком, — ответил г-н Кумб, — сломайте, разбейте эту дверь, если она не хочет открываться; у меня есть средства для замены ее новой. Мне нет дела до двери, мне ни до чего нет деда, лишь бы только моя бедная Милетта была жива… Ах, Боже мой, ах, Боже мой!
И, возбужденно и судорожно хватая руками труп, г-н Кумб снопа и снопа пытался уменьшить тяжесть груза, давившего на бездыханное тело его подруги.
Тем временем со стороны шале доносился голос мадемуазель Риуф. Кругом забили тревогу, люди поспешили на помощь и проникли на место действия кровавой сцены.
Мадлен, вошедшая первой, в ужасе отступила назад при виде двух трупов; но, узнав Милетту, Мадлен с решимостью, какую, как мы видели, она успела проявить, справилась со своим волнением и, поборов страх, помогла перенести мать своего возлюбленного на кровать г-на Кумба.
Тот, казалось, совершенно потерял разум; он брал уже холодные руки Милетты в свои и жалобным голосом восклицал:
— Врача! Врача! Я лишь грузчик, это правда, но я смогу оплатить его визит как негоциант.
Мадлен приложила руку к груди Милетты и по биению ее сердца почувствовала, что жизненные силы еще не полностью угасли в ней.
И действительно, несколько минут спустя раненая приоткрыла глаза.
Первое слово, которое произнесла Милетта, было именем ее сына. Услышав его, Мадлен разрыдалась и, наклонившись над кроватью, обняла бедную женщину и, прижимая ее к своему сердцу, воскликнула:
— Он спасен! Живите, только живите, моя матушка, чтобы разделить с нами наше счастье!
Милетта осторожно отстранила девушку и в течение нескольких минут с умилением, отражавшем все, что происходило в ее душе, смотрела на нее. Потом две огромные слезы тихо покатились по ее бледным щекам.
— Вы его любите, — сказала она, — и я могу умереть. Не он нанес удар вашему брату, убийца лежит здесь, вот он. Засвидетельствуйте это в случае необходимости! Готовая предстать перед Господом, я клянусь в этом.
И, сделав неимоверное усилие, она подняла руку и жестом указала на Пьера Мана, труп которого как раз поднимали.
— Этого не нужно, моя матушка, — ответила Мадлен, — его невиновность вполне может быть доказана без вашего свидетельского показания; выйдя из беспамятства, мой брат заявил, что Мариус вовсе не виновен.
Милетта подняла глаза к Небу, сложила руки, и вся ее поза, шевеление губ, выражение лица явно указывали на то, что она благодарила Бога.
— Господи! — произнесла она и конце. — Пусть но милости твоей именно он закроет мне глаза.
— Не думайте об этом, моя матушка! Вы не умрете, вы будете жить, чтобы быть счастливой его счастьем.
— Да, только бы она жила, — перебил ее г-н Кумб прерывающимся от рыданий голосом, — и пусть даже это будет стоить мне сумасшедших денег, я хочу, чтобы она жила. Ты будешь жить, моя бедная Милетта, будешь жить; и как говорит эта добрая мадемуазель, обладающая значительно большими достоинствами по сравнению с другими членами ее семьи, ты будешь жить, чтобы быть счастливой. Видишь ли, — добавил он, наклонившись над ней и шепча ей на ухо, — теперь, когда мы окончательно отделались от этого подонка, я могу жениться на тебе, и я женюсь на тебе и дам свою фамилию твоему сыну, у тебя будет все… нет, половина того, чем я владею; и, хотя я постоянно ношу один и тот же левит, — прошептал он, понизив голос так, чтобы никто, кроме Милетты, не услышал его, — я богат и, быть может, гораздо богаче, — добавил он с горечью, — тех людей, что растрачивают богатства земли Господа Бога, выращивая на ней массу зловонной дряни. Знаешь, в нижней части секретера, который этот злодей взломал бы, если бы ты так храбро не бросилась на него, — так вот, в нем лежат шестьдесят тысяч франков золотом, и это еще не все, вот так-то! Еще есть рента, дом в Марселе и деревенский домик. Итак, ты всем этим будешь владеть вместе со мной. Ты прекрасно понимаешь, что не можешь умереть!
Услышав такой довод, в силе действия которого г-н Кумб не сомневался, Милетта горько улыбнулась.
Богатства г-на Кумба стоили слишком мало перед вечным сиянием Неба, раскрывавшего уже для нее свои горизонты. Однако она, приблизив свои губы к лицу г-на Кумба, запечатлела у него на лбу целомудренный и в то же время нежный поцелуй; затем она повернула голову в сторону Мадлен.
— Будьте тысячу раз благословенны, — сказала она, — за вашу любовь к нему… Я прошу вас о последнем утешении: постарайтесь сделать так, чтобы я обняла его еще один раз!
Мадлен понимающе кивнула и вышла из домика.
Прибыл комиссар полиции; он рассчитывал на присутствие Мадлен, чтобы получить свидетельские показания Милетты и г-на Кумба по поводу событий, происшедших той памятной ночью. Мадлен проводила его в шале к постели своего брата.
Тесак Пьера Мана поразил г-на Жана Риуфа в грудь и вошел в грудную полость, затронув стенки сердца; рана была опасной, но не смертельной. Холодное оружие, пойдя в соприкосновение с наиболее важным из наших органов, вызвало кровотечение в легких, что и привело к продолжительному обмороку, лишившему раненого чувств более чем на тридцать часов.
Он повторил комиссару полиции то же, что сказал своей сестре, и, благодаря его описанию примет своего убийцы, совершенно точно совпадавшему с обликом того, кто смертельно ранил Милетту, вся эта мрачная история начала постепенно проясняться. Он вручил Мадлен записку для передачи ее следователю, чтобы испросить его — основываясь на желании умирающей — распорядиться хотя бы о временном освобождении Мариуса из-под стражи.
Тем временем Милетта слабела прямо на глазах.
Ей стоило нечеловеческих усилий рассказать комиссару полиции в подробностях обо всем, что произошло между нею и ее мужем; ей это удалось, но силы ее при этом иссякли. Ее рану надрезали по краям и расширили; однако сокращение мышц, возникшее вследствие того, что она удерживала Пьера Мана, чтобы дать г-ну Кумбу время приготовиться к защите, привело к весьма значительному внутреннему кровоизлиянию; дыхание ее становилось все более затрудненным, а хрип — все более пронзительным. При каждом приступе икоты, вызывавшем у нее сильнейшую боль, на ее губах появлялась красноватая пена; синеватые круги под глазами расширялись; выражение глаз становилось неподвижным; на лбу выступили капли холодного пота, а кожа, еще совсем недавно такая белоснежная и атласная, стала вдруг шероховатой.
Печальное зрелище этой агонии закончилось для г-на Кумба тем, что он почти лишился рассудка. Казалось, что, когда для него пробил час потерять свою спутницу жизни, он осознал истинную цену этого сокровища, которое он столь долго, на протяжении двадцати лет недооценивал, и теперь искупал свое неблагодарное равнодушие. Его отчаяние выражалось чуть ли не в ярости; он никак не хотел смириться с тем, что приношение в жертву денег не могло сохранить ему Милетту, и его скорбь, еще суетная, превозносила то, что он был настроен сделать. Он поносил врача, тревожил последние мгновения пребывания умирающей на земле, и пришлось удалить его от нее.
Лицо Милетты, напротив, сохраняло полную безмятежность и полный покой. Когда на смену врачу пришел священник, она слушала его увещания с благоговейностью искренней веры. Однако, несмотря на ее религиозное рвение, время от времени она казалась беспокойной: она с усилием отрывала голову от подушки и внимательно к чему-то прислушивалась; губы ее растягивались в улыбке, слабый огонек света появлялся в ее глазах, обращенных к Небу, и, осознавая, что тот, кого она ждала, еще не пришел, шептала:
— Боже, Боже, да исполнится воля твоя!
Вскоре стало казаться, что она совсем близка к концу: глаза ее стали неподвижно смотреть в одну точку; о едва заметном биении жизни в ней можно было судить лишь по легкому шевелению ее губ, пена на которых становилась все более и более бесцветной. Она потеряла много крови и вот-вот должна была испустить последний вздох.
Вдруг, в тот миг, когда врач пытался уловить последние биения ее пульса, она самостоятельно приподнялась и села на кровати, чем привела в ужас присутствующих. Тогда все услышали шаги человека, стремительно поднимавшегося по лестнице; звук их чудесным образом связал готовую оборваться нить, на которой все еще висела ее жизнь.
— Это он!.. Благодарю тебя, Господь мой, благодарю! — внятно воскликнула Милетта.
И в самом деле, в проем е двери показалось взволнованное лицо Мариуса; но, прежде чем он пересек порог двери, каким бы стремительным ни был его порыв, руки бедной женщины, протянутые навстречу ему, тяжело упали на кровать. Она испустила слабый вздох, и молодой человек, потерявший от горя голову, бросился обнимать не что иное, как покинутое жизнью тело своей матери.
Бог, вне всякого сомнения, предначертал другие утешения этому смиренному и достойному похвалы созданию, поскольку он отказал ему еще раз ощутить на губах поцелуй своего ребенка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поскольку его отец уже не мог понести наказание, Мариус без колебаний рассказал об обстоятельствах, заставивших его взять на себя ответственность за одно из последних преступлений Пьера Мана. Показания Милетты и утверждения г-на Жана Риуфа подкрепили его рассказ. Временное освобождение Мариуса стало окончательным.
Какой бы сильной ни была его любовь к Мадлен, какими бы очевидными ни были проявления ее нежной любви к нему, он, тем не менее, никак не отозвался на ее напоминание об их планах супружества, взлелеянных ими еще во время их первой прогулки среди прибрежных скал.
Благородный а своих чувствах и чрезмерно деликатный, он ужасался при мысли о том, что может принести девушке позор, связанный с именем его родного отца. Он испытывал стойкое нежелание давать той, кого он любил больше всего на свете, имя, обесчещенное каторгой.
Тем временем намеки мадемуазель Риуф становились более явными и Жан, оправившийся от ранения и совершенно убежденный в том, что счастье его сестры связано с этим браком, отправился к Мариусу и сделал ему формальное предложение. Сын Милетты пребывал в раздумьях и попросил дать ему еще несколько дней на размышление.
В действительности эта отсрочка была нужна ему лишь для того, чтобы подготовить себя к жертвоприношению, которое он рассматривал как свой долг. Он решил уехать куда-нибудь; он рассчитывал, что время и его отсутствие вылечат сердечную рану мадемуазель Мадлен; что же касается его душевной муки, то он не хотел и думать о ней. Накануне того дня, когда Мариус должен был дать ответ г-ну Риуфу, в час, когда г-н Кумб, по его мнению, должен был спать, он взвалил на плечо мешок со своими скромными пожитками и, взяв в руки дорожный посох, отправился в путь, не осмеливаясь даже бросить прощальный взгляд на шале, где оставалась та, которую он так обожал.
Когда он преодолел полчетверти льё, ему вдруг послышался позади легкий скрип песка и чье-то дыхание, словно кто-то украдкой шел за ним. Он резко обернулся и увидел Мадлен, шедшую за ним следом.
— Это вы, вы, Мадлен?! — воскликнул он.
— Ну разумеется, неблагодарный, — ответила она, — я же не забыла, как мы поклялись, что ничто в этом мире не сможет помешать нам принадлежать друг другу. Вы уходите отсюда, так разве место вашей супруги не рядом с вами?..
Две недели спустя тот же священник, что принял последний вздох Милетты, сочетал молодых людей браком в маленькой церкви Бонвена.
По этому случаю г-н Кумб проявил несравненное великодушие: он пожелал усыновить Мариуса и дать ему денег перед вступлением его в брак. Молодой человек не согласился на это, и сразу после свадьбы он и его супруга уехали в Триест, где они намеревались основать торговый дом, подобный тому, который Жан Риуф сохранил в Марселе.
Довольно долго после смерти Милетты хозяин деревенского домика оставался безутешным, хотя в утешениях он не испытывал недостатка.
Мариус и его жена не захотели, чтобы шале было продано; право пользования им они предоставили г-ну Кумбу, взявшему на себя обязанность содержать его и порядке; однако бывший грузчик настолько усердно избегал заниматься этим, что по прошествии некоторого времени прекрасный сад Мадлен, как он того и желал, с буйством тропической растительности заполнили крапива, колючий кустарник и сорная трава. Господин Кумб любил подниматься по лестнице, с помощью которой Мариус представал перед своей возлюбленной, и созерцать приходящую в запустение землю, следить за тем, как постепенно чахнут кусты, подмечать следы, которые каждый мистраль оставлял на прекрасном шале. И в этом подтверждении своего триумфа он находил забвение своим скорбям, отравившим последние годы его жизни, и когда, вдоволь насладившись этим зрелищем, он возвращался к себе в дом, одиночество уже не казалось ему таким горьким.
Постигшая его катастрофа имела еще и другое вознаграждение: она прочно закрепила за ним репутацию храброго человека, которой он так домогался. В Монредоне отцы рассказывали о его подвигах своим детям; вечерами напролет они слагали эти рассказы.
Первые годы все, что напоминало г-ну Кумбу ту, которая была столь смиренно предана ему, бросало его в дрожь, но понемногу похвалы его поведению стали достаточно приятно щекотать его самолюбие, и это чувство подавило сразу и его скорби, и угрызения совести; и очень скоро его прежнее тщеславие настолько сильно стало проступать, что в результате он, вместо того чтобы бояться разговоров, имевших отношение к смерти Пьера Мана, сам намеренно вызывал их. Справедливости ради надо сказать, что преувеличения тех, кто восхвалял подвиги г-на Кумба, придавали им чрезвычайные размеры.
Бандит постепенно превратился в пять ужасных разбойников, и половину их убил г-н Кумб, тогда как другие обратились в бегство.
Господин Кумб не возражал. Читая восхищение в обращенных к нему глазах слушателей, он говорил:
— Ах, Боже мой, но это не так уж трудно, как кажется; надо всего лишь немного сноровки и хладнокровия… Неужто вы думаете, что я не попаду в человека — я, кто попадает дробинкой в глаз воробья, причем с таким изяществом, словно вставляя ее рукой?
Короче говоря, преобладающая страсть г-на Кумба восторжествовала у него над всем, что еще оставалось на этой земле от бедной Милетты: над ее памятью.
Мало-помалу его посещения кладбища в Бонвене, где покоилась Милетта, становились все более редкими; вскоре он и вовсе перестал туда ходить, и земляной свод, покрывавший ее прах, порос травой, такой же густой, как и и саду шале.
Он забыл о ней столь прочно, что, когда он скончался (причем, как это свойственно эгоистам, в исключительно подходящее для этого время — за две недели до открытия канала на реке Дюране, благодаря которому безлюдные пространства Монредона заполнились бы садами, а это вновь внесло бы беспокойство в жизнь хозяина деревенского домика), в его завещании не было обнаружено ни слова, подтверждавшего, что он все еще помнил о Мариусе или о его матери.
Нет мелких страстей, зато есть мелкие сердца.
КОММЕНТАРИИ
ПРУССКИЙ ТЕРРОР
Роман Дюма «Прусский террор» («Le Теггсиг prussienne») посвящен нескольким эпизодам одного из этапов воссоединения Германии «сверху» (по выражению главы прусской дипломатии того времени Бисмарка — «железом и кровью»), а по сути дела, ее завоевания Прусским королевством в 1866 г. в результате войны с Австрией. Посетив в том же году поля сражений на западе Германии, Дюма написал злободневный роман-предостережение. В нем он пытался обратить внимание Франции на опасность формирования сильного единого немецкого государства у ее границ. Однако французское общественное мнение и французское правительство и сами хорошо сознавали эту опасность, что, впрочем, не помогло предотвратить ее и избежать разгрома Франции во Франко-прусской войне 1870–1871 гг., окончательно обеспечившего единство Германии.
«Прусский террор» впервые печатался в газете «Ситуация» с 20.08 по 20.11.1867 г.
«Ситуация» («La Situation») — французская политическая газета, издававшаяся в Париже после войны 1866 г. на средства бывшего короля Ганновера Георга V и выступавшая против нового порядка в Германии.
Время действия романа — 7 июня 1866 г. — 5 июня 1867 г.
Первое отдельное его издание: Paris, Michel Levy freres, 2 v., l2mo, 1867.
По другим источникам, первое отдельное его издание появилось в Париже в 1867 г. в «Библиотеке газеты “Ситуация”» под названием «Прусский террор. Эпизод войны 1866 года» («Le Terreur prussienne. Episode de la guerre en 1866»).
Перевод романа был выполнен специально для настоящего Собрания сочинений по изданию: Paris, Calmann-Levy, 2 v., 12mo — и по нему же была проведена сверка с оригиналом.
Это первое издание романа на русском языке.
7… Если посмотреть на Берлин с кафедрального собора, то есть с самого высокого сооружения… — Берлинский кафедральный собор (или Домский собор) находится в центре Берлина, на т. н. «Острове музеев» (образованном рекой Шпрее и каналом), против королевского дворца; прежнее его здание (о котором здесь идет речь) было сооружено в 1747–1750 гг. как придворная церковь; в 1817 г. оно было перестроено, но в 1893 г. взорвано, и на его месте в нач. XX в. возвели новое здание собора.
… главными фигурами на ней кажутся Бранденбургские ворота, театр, Арсенал, Большой дворец, Домский собор, Опера, Музей, католическая церковь, Малый дворец и французская церковь. — Бранден-бургскис 1юрота — триумфальная арка в стиле античной архитектуры, возведенная в 1789–1793 гг., а в 1868 г. дополненная пристройками; украшена многочисленными скульптурами; на ней находится большая статуя Победы на колеснице, отлитая в 1789–1794 гг. по проекту выдающегося немецкого скульптора И.Г.Шадова (1764–1850). В 1807 г. по приказанию Наполеона эта скульптурная группа была увезена во французскую столицу, но после его падения в 1814 г. возвращена на место; расположена на западной оконечности центральной улицы Берлина — Унтср-дсн-Линден.
Театр — скорее всего, имеется в виду театр Метрополь, помешавшийся на Унтср-дсн-Линдсн, неподалеку от Бранденбургских ворот, к западу; ныне в его здании располагается театр Комической оперы. Арсенал (более распространенное его название — Цейхгауз) находится у западного конца Унтер-дсн-Линден; построен в стиле барокко архитектором Мильдом и скульптором Андреасом в 1695/1698-1706 гг. как помещение для хранения вооружения, военного снаряжения, обмундирования и т. д.; в XIX в. в нем помешалея военный музей, известный прекрасной коллекцией оружия; ныне в его здании размешается Музей немецкой истории.
Большой дворец — имеется в виду дворец прусских королей, затем германских императоров (разрушен бомбардировкой в 1945 г.); находился на площади Л юстгартен, располагающейся на Острове музеев; начал сооружаться в XVI в., но в основном был построен в 1699–1716 гг., хотя в нем сохранились и части более старого родового замка Гоген цоллернов.
Домский собор — см. выше. Опера — имеется в виду здание Государственной оперы на Унтер-ден-Линдсн, построенное в 1741–1743 гг. архитектором Г.В.Кнобельсдорфом (1659–1753). Католическая церковь — вероятно, подразумевается собор святой Хедвиги, находящийся недалеко от Унтер-ден-Линден, позади Оперного театра; имеет огромный купол и украшен фигурами двенадцати апостолов; построен по рисунку короля Фридриха II в 1743–1773 гг. в подражание одной из церквей Рима.
Музей — вероятно, имеется в виду Старый музей, находящийся в северной части Острова музеев; построен в 1824–1828 гг. знаменитым немецким архитектором К.Ф.Шинкелем (1781–1841) в греческом стиле; в нем размешены коллекции античной скульптуры, живописи (до кон. XVIII в.), нумизматики и различных редкостей. Со старым музеем соединен колоннадой Новый музей, построенный в 1848–1855 гг. В нем собраны египетские и германские редкости, предметы этнографии, копии скульптур и коллекция гравюр. Малый дворец — имеется в виду расположенный на Унтер-ден-Линден дворец короля Вильгельма I; построен в 30-х гг. XIX в. Французская церковь (точнее: Французский собор) расположен в центре города, на Французской улице, южнее Унтер-ден-Линден; построен французскими эмигрантами-протестантами, которые покинули свою родину после отмены в 1685 г. Нантского эдикта 1598 г., гарантировавшего им свободу вероисповедания.
… Подобно тому как Сена делит Париж надвое… — Сена — река во Франции, длиной 776 км; течет преимущественно по Парижскому бассейну и впадает в пролив Ла-Манш, образуя эстуарий; соединсна каналами с Шельдой. Маасом. Рейном, Соной и Луарой; на ней стоят Париж и Руан; в эстуарии се расположен порт Гавр.
… Берлин разделен на две почти равные части рекой Шпрее. — Шпрее (Шпре) — река в Германии, правый приток реки Хафель; дли на 400 км; берет начало в Судетах (горы на юго-востоке Германии, северо-востоке Чехии и юго-западе Польши).
… эта река не раскрывает объятий и не заключает в них остров, подобный острову Сите… — Сите — остров на Сене, исторический центр Парижа; в I в. до н. э. на нем располагалась резиденция римских властей; в V–VII и X–XUI вв. дворец на Сите служил местом пребывания французских монархов, а позднее стал (и остается поныне, несмотря на все перестройки) Дворцом правосудия; на острове находится кафедральный собор Парижа, национальная святыня Франции, — собор Парижской Богоматери.
… вырытые руками людей два канала… один с правого берега, другой — с левого, образуют в самой середине города два острова неравной величины. — Здесь у Дюма неточность: оба упомянутых канала находятся на левом берегу Шпрее.
Первый из них, канал Купферграбен, образует в центре Берлина Остров музеев, где кроме вышеперечисленных зданий находятся гвардейские казармы, Национальная галерея, Музей императора Фридриха и другие исторические здания.
Второй из них, Ландверканал, отходит от левого берега Шпрее выше Купферграбена по течению и снова соединяется с рекой на западной окраине Берлина. На образованном Ландверканалом и Шпрее большом острове расположен парк Тиргартен, служащий излюбленным местом прогулок берлинцев, деловой центр города, охватывающий улицы Унтер-ден-Линден и Фридрихштрассе, а также Университет, Опера, много памятников, ряд вокзалов и гостиниц, посольства важнейших держав и т. д.
Скорее всего, Дюма решил, что канал Купферграбен — это главное русло Шпрее.
… в Турине, этом южном Берлине… — Турин — главный город области Пьемонт на северо-западе Италии; в 1720–1861 гг. (с перерывом) — столица Сардинского королевства; в 1798 г. был занят французами, но в следующем году освобожден войсками Суворова; с 1800 г. и до падения в 1814 г. империи Наполеона оставался под властью Франции.
Дюма сравнивает Турин с Берлином потому, что оба эти города первоначально были столицами второстепенных феодальных владений и стали крупными политическими центрами лишь в новое время. В 60—70-х гг. XIX в. вокруг Пьемонта произошло объединение Италии, так же как вокруг Пруссии — объединение Германии, и в 1861–1864 гг. Турин был столицей объединенного Итальянского королевства.
… соответствует нашей улице Сен-Жак и нашему кварталу Сент-Андредез-Ар. — Улица Сен-Жак — одна из важнейших магистралей левобережной части Парижа; ведет от Малого моста, переброшенного через южный рукав Сены, на юг и вливается за бывшими городскими укреплениями водноименное предместье.
Квартал Сент-Андре-дез-Ар — подразумевается район площади
Сснт-Андрс-дсз-Ар, которая расположена на южном берегу Сены у моста Сен-Мишель и образована в нам. XIX в. на месте снесенной церкви святого Андрея (Сент-Андре).
От моста Сен-Мишель к западу отходит улица Сент-Анд ре-дез-Ар, известная с XII в.; в средние века она была одной из главных в этом районе Парижа.
В районах квартала Сент-Андре-дез-Ар и улицы Сен-Жак, принадлежащих к старейшим районам Парижа, расположено много значительных и замечательных по своей архитектуре зданий: Парижский университет, Люксембургский дворец с большим парком, Пантеон, немало старинных церквей и монастырей и многое другое.
… аристократический Берлин… высится по правую и по левую стороны Фридрихштрассе — улицы, тянущейся через весь город, от площади Бель-Альянс, откуда вы входите в город, до площади Оран иенбургер, где вы из него выходите. — Фридрихштрассе — одна из центральных улиц Берлина, проходящая через старую часть города с юга на север; вместе с Унтер-ден-Линден, которую она пересекает под прямым углом, представляет собой центр планировки города; прежде на ней находились дорогие гостиницы и многие высшие государственные учреждения. Весь этот район был очень сильно разрушен во время боев за взятие Берлина в апреле-мае 1945 г. Площадь Бель-Альянс (в годы, когда Берлин был столицей ГДР, она называлась Меринг-Плац) — овальная площадь на правом берегу Ландверканала, в южной части центра Берлина; названа в честь окончательной победы над Наполеоном при Ватерлоо 18 июня 1815 г. (в военно-исторической литературе это сражение по имени одного из населенных пунктов на его поле называется также битвой при Бель-Альянсе); на ней находится высокая гранитная колоннада с чугунной статуей Победы, а около нее — четыре мраморные группы, символизирующие четыре нации, которые участвовали в битве: англичане, пруссаки, нидерландцы и французы. Площадь Ораниенбургер, расположенная на правом берегу Шпрее, замыкает Фридрихштрассе с севера.
… На уровне двух третей своей длины Фридрихштрассе пересекается Липовой аллеей… — Липовая аллея (Унтер-ден-Линден) — улица в центре Берлина, которая с востока выходит к Брандербургским воротам, образуя ось планировки центральной части города; свое название получила отлип, которые были посажены в 1647 г. на проходившей здесь дорожке для конных прогулок курфюрстов; к сер. XIX в. эта прежде деловая улица превратилась в праздничную прогулочную аллею, на которой проходили шествия, парады и т. д.; на ней находились дворцы немецких принцев, посольства ряда держав (в том числе русское), Берлинский университет, Опера и т. д.
… пересекая аристократический район, она тянется от Оружейной площади до Большого дворца. — Оружейная площадь — вероятно, имеется в виду Парижская площадь, расположенная с восточной стороны Бранденбургских ворот.
… нараставшая враждебность Пруссии к Австрии и ее отказ собрать сейм Гольштейна для избрания герцога Августенбургского… — Сейм — средневековое сословно-представительное учреждение, собиравшееся в государствах и провинциях Европы по инициативе монарха или в каких-либо исключительных случаях; состояло из местной знати и выборных от других сословий; в разных странах имело разные названия: «тинг» в Дании, «ландтаг» в Германии, «штаты» во Франции, «сейм» в Польше и Чехии и др. В русскоязычной литературе обычно употребляется польский термин. Гольштейн (Голштиния) — провинция (вместе с Шлезвигом) на северо-западе Германии, между Балтийским и Северным морями; главный город — Киль; в средние века феодальное владение (с 1100 г. — графство, с 1474 г. — герцогство), оказавшееся объектом многовекового спора между Германией и Данией; попеременно входила в состав то Датского королевства, то Священной Римской империи; после наполеоновских войн была вместе с Шлезвигом передана на правах личной унии Датскому королевству; после войн сер. XIX в. (см. ниже) вошла вместе со Шлезвигом в Германскую империю; ныне — в составе ФРГ.
Здесь имеется в виду обострение в 1866 г. т. н. Шлезвиг-Гольштейн-скоро вопроса — общеевропейской дипломатической проблемы первой пол. и сер. XIX в., в которой сталкивались одновременно: стремление немецкого населения северогерманских герцогств Шлезвиг и Гольштейн к освобождению от власти Дании и к воссоединению с Германией, поползновения Пруссии отнять эти земли у Дании и сохранить их за собой, стратегические и торговые интересы Англии и России, желавших оставить герцогства, расположенные выгодно в военном отношении, за слабой Данией, а также стремление Австрии не допустить усиления Пруссии, с которой она соперничала за гегемонию в Германии.
К этим противоречиям примешивались чрезвычайно запутанные династические интересы двух ветвей датского королевского дома — Августен бурге кой и правившей в XIX в. Глюксбургской, — с которыми были родственно связаны династии Англии, Пруссии, России, Швеции и ряда немецких государств. К тому же в Дании наследование престола допускалось по женской линии, а в Шлезвиг-Гольштейне — только по мужской, на чем и основывали свои притязания Августе нбурги.
Само юридическое положение герцогств было очень сложно. Принадлежавшие Дании, они до 1806 г. оставались членами Священной Римской империи; после падения Наполеона и переустройства Европы они оказались под властью короля Дании, при этом Шлезвиг был частью датского государства, а Гольштейн — членом Германского союза.
Попытка Пруссии в 1848–1850 гг. воспользоваться национально-освободительным движением в герцогствах и присоединить их военной силой оказалась неудачной: под давлением европейских держав там было восстановлено прежнее положение. Следующую попытку захвата Шлезвиг-Гольштейна Пруссия предприняла в конце 1863–1864 гг., и на этот раз она привлекла на свою сторону Австрию, не желавшую отдавать инициативу выступления в защиту общегерманских интересов своей сопернице. В 1863 г. умер бездетный датский король Фридрих VII (1803–1863; правил с 1848 г.), и его родственник, принц Фридрих Августенбургский (1829–1880), предъявил свои права на герцогства. Его поддержали мелкие и средние германские государства, и по решению сейма Германского союза войска Саксонии и Ганновера заняли Шлезвиг и Гольштейн. Принц Фридрих, признанный герцогом и получивший имя Фридрих VIII, прибыл в свои владения. Однако против этого выступили Австрия и Пруссия, потребовавшие его удаления оттуда.
В это же время Дания предприняла попытку укрепить свои связи с Шлезвигом и Гольштейном: на основе новой конституции первый был включен в состав Дании, а второму была предоставлена автономия. В ответ на это Австрия и Пруссия ультимативно потребовали отмены конституции, а после отклонения датским правительством ультиматума в феврале 1864 г. начали войну. К июлю Дания была разбита; по Венскому миру от 30 октября Шлезвиг-Гольштейн и герцогство Лауэнбург перешли в совместное владение Австрии и Пруссии. Протест принца Августенбургского против лишения его наследства результатов не имел, и он покинул Шлезвиг-Гольштейн. Совместное владение (кондоминиум) Шлезвиг-Гольштейном было оформлено конвенцией 1865 г., по которой Швезвигом управляла Пруссия, а Гольштейном — Австрия, что создавало возможность будущего конфликта, на что и рассчитывал Бисмарк, почти открыто провоцировавший обще германскую войну. Действительно, в январе 1866 г. Пруссия обвинила Австрию в нарушении конвенции
1865 г., в частности в ущемлении ее прав в Гольштейне и в поддержке претендента Августенбурга, вновь выступившего с протестом против лишения его герцогств.
Отношения двух великих германских держав еще более обострились в апреле 1866 г., когда Пруссия отказалась передать свои разногласия с Австрией на рассмотрение сейма Германского союза, а затем предложила реформу Союза, обеспечивавшую в нем прусскую гегемонию. После того как этот проект был отвергнут Австрией и другими немецкими государствами, война Пруссии почти со всей остальной Германией стала неизбежной.
Военные действия Австро-прусской войны начались 8 июня 1866 г. (объявление войны последовало 17-го) и проходили на трех направлениях. Главными были действия в Центральной и Восточной Германии, где основные силы пруссаков, начав наступление через Саксонию и Чехию генеральным направлением на Вену, 3 июля
1866 г. разгромили австрийскую и саксонскую армии при Садове (см. примеч. к с. 214). Вспомогательными действиями пруссаков, прикрывавшими фланг и тыл их главных сил, были бои в Западной Германии, где прусская армия разгромила войска немецких союзников Австрии — Ганновера, Гессена и Баварии — и заняла территории двух первых из этих государств.
20 июня Итальянское королевство, состоявшее в союзе с Пруссией, начало в Северной Италии военные действия против Австрии, которые закончились его поражением. Однако, несмотря на свои военные неудачи, Италия по условиям мирного договора от 3 октября 1866 г. в Вене получила через посредство Франции Венецианскую область, до войны принадлежавшую Австрии.
В Германии военные действия после Садовы фактически прекратились. Бисмарку удалось после бурных споров отклонить Вильгельма I и прусских генералов от намерения взять Вену, поскольку существовала угроза, что в этот конфликт вмешается Франция, а в австрийских владениях вспыхнет революция.
По мирному договору от 23 августа 1866 г. в Праге, заключенному между Пруссией и Австрией, последняя признавала все территориальные изменения в Германии, произведенные Пруссией (присоединение к ней Ганновера, Шлезвиг-Гольштейна, Гессен-Касселя и Нассау), роспуск Германского союза и замену его Северогерманским союзом во главе с Пруссией и без участия Австрийской империи, а также заключение Прусским королевством договоров с южногерманскими государствами, превратившимися в его сателлитов. Война 1866 г. завершила многовековую борьбу Австрии и Пруссии за господство в Германии и предопределила объединение этой страны, которое объективно стало прогрессивным историческим событием, хотя осуществлено оно было под гегемонией юнкерско-буржуазной державы.
Германский союз — объединение немецких государств, созданное в 1815 г. Венским конгрессом и первоначально включавшее 34 государства и 4 вольных города. Союз не имел ни централизованной армии, ни финансовых средств и сохранял все основные черты феодальной раздробленности; его единственный центральный орган — Союзный сейм, заседавший во Франкфурте-на-Майне под председательством представителя Австрии, обладал ограниченными правами и служил орудием реакционных сил в борьбе против революционного движения. Распавшийся во время революции 1848–1849 гг., Германский союз был в 1850 г. восстановлен. Он окончательно прекратил свое существование во время Австропрусской войны 1866 г. и был заменен Северогерманскими союзом. Ссверогерманский союз — союзное германское государство, образованное в 1867 г. под главенством Пруссии после ее победы в Австро-прусской войне, вместо распавшегося Германского союза. В Северогерманский союз вошло 19 германских государств и 3 вольных города, которые формально были признаны автономными. Конституция Северогерманского союза обеспечивала господствующее положение в нем Пруссии: прусский король был объявлен президентом Союза и главнокомандующим союзными вооруженными силами, ему передавалось руководство внешней политикой. Законодательные полномочия рейхстага Союза, избиравшегося на основе всеобщего избирательного права, были сильно ограничены: принятые им законы вступали в силу после одобрения их реакционным по своему составу союзным советом и утверждения президентом. В 1870 г. к Союзу были присоединены остававшиеся ранее вне его Бавария, Баден, Вюртемберг и Гессен-Дармштадт. Создание Северогерманского союза являлось шагом вперед по пути к национальному единству Германии; в январе 1871 г. Союз прекратил свое существование в связи с образованием Германской империи.
… слухи о предстоящей мобилизации ландвера и роспуске Ландтага… — Ландвер (нем. Landwehr, от Land — «земля» и Wehr — «оборона») — резервная часть вооруженных сил Пруссии в XIX — нач. XX в. В результате преобразования прусской армии в кон. 50-нач. 60-х гг. XIX в. в ландвер первого призыва (первой очереди) зачислялись военнообязанные старших возрастов (от 25 до 32 лет), отбывшие действительную военную службу и срок в воинском запасе. Затем они зачислялись еще на 7 лет в ландвер второй очереди. В мирное время солдаты ландвера призывались на краткосрочные учебные сборы. Первоначально ландверные части, формировавшиеся в военное время, должны были нести службу внутри страны. Но уже в первой длительной войне Пруссии после преобразования ландверной системы — Франко-прусской войне 1870–1871 гг. — части ландвера шли на пополнение действующей армии и участвовали в боях. После Австро-прусс кой войны 1866 г. система ландвера была введена в армиях Австрии и всех германских государств.
В 1866 г. мобилизация ландвера была проведена 8–9 мая, одновременно с мобилизацией армии.
Ландтаги (нем. Landtag, от Land — «земля», Tag — «собрание») — сословные представительные собрания, существовавшие со средних веков в германских государствах и провинциях. Здесь речь идет о нижней палате прусского парламента, которая была введена согласно конституции 1848 г., «дарованной» стране королем. Ландтаг Пруссии избирался по трехстепенной системе на основе высокого имущественного ценза. Сильное давление местной администрации приводило к фактическому назначению депутатов, среди которых преобладали в 60-х гг. представители либеральной буржуазии. Полномочия Ландтага были весьма ограничены, и он, по существу, являлся совещательным органом.
Однако летом 1866 г. Ландтаг не был распущен. Начало его заседаний было отсрочено еще 22 февраля того же года. Связано это было с тем, что в Пруссии в то время продолжался начавшийся еще в конце 1862 г. т. н. конституционный конфликт между правительством и Ландтагом из-за его отказа утвердить кредиты на реорганизацию армии. В 60-х гг. правительство несколько раз распускало Ландтаг, но, не добившись в нем нужного большинства, с 1863 г. управляло страной без утвержденного бюджета. Конфликт разрешился только после войны 1866 г., когда прусская буржуазия капитулировала перед Бисмарком.
… телеграфные сообщения из Франции, якобы содержавшие угрозы в адрес Пруссии, угрозы, исходившие из уст самого императора французов. — Император французов — официальный титул, который носил император Наполеон III, принц Луи Наполеон Бонапарт (1808–1873), племянник императора Наполеона I (третий сын его брата Луи Бонапарта и Гортензии де Богарне); бонапартистами считался законным претендентом на престол; в 1836 и 1840 гг. предпринимал попытки захватить власть во Франции, в конце 1848 г. был избран президентом Второй французской республики, в декабре 1851 г. совершил государственный переворот и установил режим личной власти, а через год провозгласил себя императором под именем Наполеона III; проводил агрессивную и авантюристическую внешнюю политику; в сентябре 1870 г. после первых поражений во Франко-прусской войне 1870–1871 гг. был свергнут с престола; умер в эмиграции, в Англии.
Политика Бисмарка, направленная на вытеснение Австрии из Германии, сильно зависела от позиции Франции, великой державы и одного из сильнейших в военном отношении государств Западной Европы. В этой стране общественное мнение было резко антипрусским, поскольку все осознавали опасность объединения Германии. Но Бисмарку после сложных переговоров удалось привлечь на свою сторону Наполеона III. Французский император понимал, что речь шла о разрушении системы международных отношений, созданной после разгрома Наполеона I договорами 1815 г. между Францией и ее победителями, и рассчитывал, что война между Пруссией и Австрией будет долгой и приведет обе страны к истощению, а это обеспечит Франции гегемонию в Европе. Кроме того, император не обладал в это время достаточными военными силами, поскольку значительная часть французской армии была занята в авантюрной экспедиции в Мексике (см. примеч. к с. 32), которую он желал подчинить своему влиянию. Поэтому Наполеон III оказал поддержку Пруссии, заняв нейтральную позицию. 6 мая 1866 г. он выступил в городе Осере с речью, в которой обрушился на трактаты 1815 г. По существу, это означало разрешение Пруссии начать войну.
… какой-нибудь направленный против Франции ямб под названием «Рейн», «Лейпциг» или «Ватерлоо». — В сер. XIX в. одним из противоречий между Францией и германскими государствами был вопрос о французской границе на северо-востоке страны. Французские военные специалисты совершенно справедливо считали, что обладание Пруссией землями на левом берегу Рейна создает сильную стратегическую угрозу Франции, т. к. в 1815 г. часть ее восточной границы была проведена слишком близко от важных центров страны. Поэтому французское общественное мнение требовало установления границы по Рейну, а военные географы заявляли, что «опасность начинается там, где Рейн нас покидает» (южная часть франко-германской границы шла по Рейну.)
Завоевание земель по левому берегу Рейна было одной из целей внешней политики Наполеона III. Он выдвинул агрессивный внешнеполитический принцип «естественных границ» — т. е. границ по естественным оборонительным рубежам. Одним из таких рубежей на северо-восточной границе Франции был Рейн. Германские государства и немецкое общественное мнение резко отвергали эти претензии. Тема «наш немецкий' Рейн» была в то время частым мотивом немецкой литературы. Победы над Наполеоном I при Лейпциге и Ватерлоо (см. ниже) были предметами немецкой национальной гордости и часто фигурировали в художественной литературе.
Ямбы — жанр стихотворений в поэзии XVIII–XIX вв., характеризующийся чередованием длинных и коротких строк в строфе; в первой пол. XIX в. имели в основном сатирическое и публицистическое содержание и были распространены преимущественно во французской и русской поэзии.
… с тех времен, когда некий галльский легион, составив авангард римских войск, вошел в Германию. — Имеется в виду эпизод покорения древнеримским полководцем, политическим деятелем и писателем Гаем Юлием Цезарем (102/100-44 до н. э.). кельтских племен галлов (58–50 гг. до н. э.), населявших территории современной Франции, а также части Бельгии и Швейцарии. В ходе этой борьбы в Галлию в 56 г. до н. э. вторглись племена древних германцев. Нанеся германцам поражение, Цезарь перешел Рейн и преследовал эти племена на их земле. Для этого римляне зимой 55 г. до н. э. построили огромный мост, представлявший собой чудо инженерного искусства того времени, и вошли в Германию. Однако они пробыли гам всего 18 дней, и, строго говоря, это была краткосрочная карательная экспедиция. В войне с вторгшимися в Галлию германцами и в походе в Германию участвовали и союзные Цезарю галлы. Легион — основная римская войсковая единица, численность которой менялась от века к веку и при Цезаре достигала К) тысяч человек; состоял из тяжеловооруженных воинов, строившихся в определенном боевом порядке, а также вспомогательных легковооруженных отрядов и небольшого количества кавалерии.
После весны 58 г. до н. э. Цезарь, получивший от государства четыре легиона, навербовал на свои средства ешс шесть легионов. Один из них был сформирован из перешедших на его сторону галлов; он получил галльское имя «Алауда» (что означает «Жаворонок»), поскольку его солдаты носили на своих шлемах султан из перьев. Возможно, о нем здесь и идет речь.
… попробуем обратиться ко временам Росбахского сражения… — У селения Росбах в Пруссии 5 ноября 1757 г., во время Семилетней войны, войска прусского короля Фридриха II разгромили войска Франции и Австрии.
Семилетняя война 1756–1763 гг. велась между Австрией, Францией, Россией и Саксонией с одной стороны и Пруссией и Англией — с другой. По сути дела, то была одна из первых в истории мировых войн. Военные действия шли в Германии, Индии, на морях и в Америке. Причинами этого конфликта стало англо-французское морское и колониальное соперничество и стремление Пруссии к территориальным захватам в Германии. В ходе войны Франция потерпела ряд тяжелых поражений и лишилась части своих колоний в Америке и Индии. Пруссия же, хотя и была разгромлена (главным образом русскими войсками), сохранила занятые ею германские земли.
9… наши предположения коснулись бы военной слабости учеников Фрид риха Великого… — Фридрих II Великий (1712–1786) — прусский король с 1740 г.; считался великим полководцем и действительно внес значительный вклад в военное искусство; несмотря на его пристрастие к военной муштре, деспотизму и мелочному педантизму в управлении, был достаточно образованным человеком и стремился создать себе репутацию «короля-философа», для чего заигрывал с деятелями Просвещения; имея склонность к литературе, сочинял стихи, правда весьма посредственные, а также написал довольно много философских, политических и исторических сочинений и мемуары; стремился к гегемонии в Германии и проводил агрессивную внешнюю политику; был одним из инициаторов разделов Польши.
Фридрих II имел в своей армии несколько способных военачальников. Однако никто из них не мог сравниться по своим талантам с ним самим. Кроме того, они были сторонниками шаблонных боевых приемов. Это и привело к ряду поражений пруссаков от русских войск во время Семилетней войны и от французов во время войны первой коалиции европейских держав против революционной Франции (1792–1797), а затем и к сокрушительному разгрому Пруссии Наполеоном в 1806 г.
… которую они проявили в сравнении с нами после пресловутого манифеста, когда герцог Брауншвейгский пригрозил Франции не оставить камня на камне от Парижа. — Герцог Брауншвейгский — немецкий владетельный князь Карл II Вильгельм Фердинанд, герцог Брауншвсйг-Вольфенбютельский (1735–1806); прусский военачальник, генерал-фельдмаршал; участник Семилстней войны и войн против революционной Франции и Наполеона, в 1792–1794 гг. главнокомандующий союзными австро-прусскими войсками; его манифест от 25 июля 1792 г. в защиту Людовика XVI и с угрозами в адрес сторонников Революции вызвал бурное возмущение во Франции и ускорил падение французской монархии.
… в /792 году хватило лишь одной битвы при Вальми, чтобы выставить пруссаков из Франции… — Вальми — селение в Северо-Восточной Франции, в сражении близ которого 20 сентября 1792 г. французские войска под командованием генералов Дюмурье и Келлермана нанесли поражение австро-прусской армии и остановили ее наступление на Париж.
… в 1806 году единственной битвы при Йене оказалось достаточно для того, чтобы перед нами распахнулись ворота Берлина. — В начальный период войны Наполеона с четвертой коалицией (Англия, Россия, Пруссия, Саксония и др.; 1806–1807), 14 октября 1806 г., произошли два сражения: под Йеной (город в герцогстве Саксен-Веймар на реке Зале в Центральной Германии) и под Ауэрштедтом (селение в 20 км севернее Йены); под Йеной французами командовал Наполеон, а под Ауэрштедтом — маршал Даву; оба сражения закончились полным разгромом прусских войск, и 27 октября французы вступили в Берлин.
… этим двум датам нашего триумфа враги наши — ошибаюсь, соперники — противопоставляют Лейпциг и Ватерлоо. — Битва под Лейпцигом происходила 16–19 октября 1813 г. Наполеон во главе 185-тысячной французской армии (в нее входили, кроме того, итальянские, польские, голландские и бельгийские контингенты, а также войска его немецких союзников) удерживал Лейпциг. Против него действовали силы коалиции — 160 тыс. австрийцев и русских под командованием князя Шварценберга и 60 тыс. пруссаков под командованием фельдмаршала Блюхера. 16 октября Шварценберг предпринял атаку. Упорный бой длился до ночи, и французы добились некоторого успеха. Обе стороны ночью получили подкрепление, и к утру 17 октября Наполеон располагал 150-тысячной армией, а союзники — 300-тысячной, однако в тот день веласьтолько перестрелка. 18 октября Наполеон выступил из города, чтобы оттеснить союзников и освободить дорогу для своего отхода, но был отброшен на всех направлениях и вернулся в Лейпциг. В тот же день вся саксонская армия, сражавшаяся в рядах французов, перешла на сторону союзников. В ночь на 19 октября французы оставили Лейпциг, уйдя из него по единственному сохранившемуся мосту. Наполеон потерял 60 тыс. убитыми и ранеными, 11 тыс. французов было взято в плен; союзники потеряли свыше 50 тыс. человек павшими. Сражение при Лейпциге означало проигрыш всей немецкой кампании Наполеона 1813 г. и конец его господства в Германии.
В битве при Ватерлоо (населенный пункт в Бельгии, в провинции
Брабант, к югу от Брюсселя) 18 июня 1815 г. армия Наполеона была разгромлена войсками Англии, Нидерландов и Пруссии. После этого поражения Наполеон окончательно отрекся от престола и вскоре был сослан на остров Святой Елены.
… в Лейпцигском сражении — сами немцы назвали его «Битва народов» — на долю пруссаков выпадает только четвертая часть победы, ибо вместе с ними в нем участвовали австрийцы, русские, шведы, не считая при этом еще и саксонцев, заслуживающих, однако, чтобы о них не забывали. — В Лейпцигском сражении, получившем название «Битва народов», союзники имели свыше 300 тыс. человек, из них 126 тыс. русских, 89 тыс. австрийцев, 72 тыс. пруссаков и 18 тыс. шведов. Так что прусские контингенты в этом сражении действительно составляли несколько менее 25 % союзных войск. Честь победы в нем во многом принадлежит русским войскам (составлявшим 40 % числа союзников), хотя император Александр I, по-видимому не доверяя своим генералам, разбросал русские корпуса по всем четырем армиям союзников, которыми командовали немецкие и шведские генералы, а не свел их в одно соединение. Саксонская армия, сражавшаяся под Лейпцигом вначале на стороне Наполеона, а 18 октября перешедшая на сторону союзников, имела там 3 000 солдат и 30 орудий.
… Что же касается Ватерлоо, то для пруссаков это только полу победа, поскольку Наполеон, оставаясь хозяином положения ко времени их прибытия, уже истощил свои силы в шестичасовом бою с англичанами. — Накануне сражения при Ватерлоо Наполеон 16 июня 1815 г. нанес частичное поражение прусско-саксонской армии фельдмаршала Блюхера (примерно 60 тыс. человек) уЛиньи. После этого Блюхер, заранее условившись с английским фельдмаршалом Веллингтоном о соединении с ним, двинулся кружным путем к Ватерлоо. Наполеон отправил для преследования Блюхера корпус маршала Груши. Однако Груши действовал вяло, упустил Блюхера и отверг требования своих генералов идти на звуки канонады, которую они слышали. Сражение у Ватерлоо началось в 11 часов утра 18 июня, когда прусская армия была уже на подходе. Наполеон до конца дня безуспешно атаковал позиции англонидерландских войск Веллингтона, и те в 8 часов вечера предприняли контрнаступление; одновременно и пруссаки, накапливавшиеся в течение дня у правого фланга французов, начали общую атаку. Эти вечерние действия союзников решили исход битвы. В ней 72 тыс. французов сражались против 130 тыс. союзников.
… в утреннем выпуске «Staats Anzeiger» о ней не было ни слова. — Имеется в виду «Королевско-прусский государственный вестник» («Koniglich-Preussische Staats-Anzeiger») — немецкая ежедневная газета, официальный орган прусского правительства; под этим названием выходила в Берлине с 1851 по 1871 гг.
… Как и в Париже, в Берлине есть свои приверженцы «Вестника»… — Прусская газета «Staats-Anzeiger» («Государственный вестник») сопоставляется здесь с французской ежедневной газетой «Moniteur Universel» («Всеобщий вестник»), которая была основана в 1789 г. в Париже как орган либералов, в 1799–1869 гг. являлась официальной правительственной газетой и выходила до 1901 г.
… К последним присоединились и читатели «Tages Telegraph», ежедневного телеграфного листка… — Сведений об этой газете найти не удалось.
10… Подписчики же «Kreuz Zeitung» (а их было много, ибо само собою разумеется, что «Крестовая газета» не только орган аристократии, но и печатный листок премьер-министра)… — «Kreuz-Zeitung» («Крестовая газета») — общепринятое название газеты «Neuc Preussische Zeitung» («Новой прусской газеты»), органа крайних консерваторов Пруссии; была основана в 1848 г. для борьбы с революцией; называлась так потому, что рядом с заголовком на ней был изображен знак военного ордена Железный крест, учрежденного в 1813 г. в честь Освободительной войны 1813–1814 гг. против наполеоновского господства; организатором и редактором се был прусский политический деятель Герман Вагснер (1815–1889), один из лидеров консерваторов.
Звания премьер-министра в Пруссии в то время не было. Глава правительства носил титул министр-президента.
… в толпе ссылались еще на десятка два других изданий, и ежедневных, и еженедельных, таких, как «Burger Zeitung», то есть «Гражданская газета», «National Zeitung» и «Volks Zeitung>. — «Burger-Zeitung» — сведений об этом издании найти не удалось. «National-Zeitung» («Национальная газета») — немецкая газета либерального направления; под этим названием выходила в Берлине в 1848–1915 гг.
«Volks-Zeitung» («Народная газета») — немецкая ежедневная газета, орган оппозиционной либеральной буржуазии; выходила в Берлине с 1853 г.
… Один крейцер! — Крейцер — мелкая разменная монета в Южной Германии и в Австрии; названа по изображению на одной из ее сторон креста (по-немецки — Kreuz); имела хождение в XIII–XIX вв.; первоначально — серебряная, затем — медная; в XIX в. равнялась 1/60 гульдена (или флорина).
… его Величество император Наполеон III, направляясь из Парижа в Осер… — Наполеон III — см. примеч. к с. 8.
Осер — главный город департамента Йонна; расположен в 170 км к юго-востоку от Парижа.
… память о Первой империи не стерлась в ваших сердцах. — Первая империя во Франции — время с 1804 по 1814 гг. и несколько месяцев 1815 г., период, когда Франция по своему государственному устройству была империей во главе с Наполеоном I Бонапартом.
… я со своей стороны унаследовал чувства главы нашей семьи… — То есть Наполеона I.
… к жителям департамента Йонны я испытываю особую благодарность… — Йонна — французский департамент в центральной части Франции, названный по имени реки Йонна; расположен на пути из Парижа в Лион; славится винами прекрасного качества.
11… этот департамент одним из первых отдал за меня свой голос в 1848 году. — Имеются в виду дополнительные выборы в Учредительное собрание Второй французской республики (1848–1852). 4 июня 1848 г. Луи Бонапарт одержал на них неожиданную победу. Однако утверждение его избрания вызвало в Собрании бурные споры.
Принца обвиняли в недобросовестной агитации, и поэтому, хотя его кандидатура была утверждена, Бонапарт, посчитав свое появление на политической сцене преждевременным, отказался от мандата и остался в Лондоне, где он в то время жил.
… относился… с ненавистью к договорам /8/5 года… — Имеется в виду Парижский мирный договор между Францией и участниками седьмой антифранцузской коалиции (Россия, Англия, Австрия и Пруссия), подписанный 20 ноября 1815 г. после окончательного падения Наполеона. Условия этого договора были тяжелейшими для Франции: она сводилась к границам 1790 г., лишаясь многих стратегически важных пунктов и областей на своей северной и восточной границах; ее территория на срок от трех до пяти лет оккупировалась армией союзников, которая содержалась французами; она уплачивала контрибуцию в 700 миллионов франков и должна была удовлетворить претензии частных лиц; Франция и союзники подтверждали условия мирного договора 1814 г., заключенного после первого отречения Наполеона, и решения Венского конгресса.
… племянник Наполеона / занес руку над Рейном. — Наполеон I Бонапарт (1769–1821) — французский государственный деятель и полководец, реформатор военного искусства; во время Революции — генерал Республики; в ноябре 1799 г. совершил государственный переворот и, при формальном сохранении республиканского образа правления, получил всю полноту личной власти, установив т. н. режим Консульства; в 1804 г. стал императором под именем Наполеона 1; в апреле 1814 г., потерпев поражение в войне против коалиции европейских держав, отрекся от престола и был сослан на остров Эльбу в Средиземном море; весной 1815 г. ненадолго вернул себе власть (в истории этот период называется «Сто дней»), но, потерпев окончательное поражение, был сослан на остров Святой Елены в Атлантическом океане, где и умер.
О претензиях Франции на левый берег Рейна см. примеч. к с. 8.
В 1865 г., в процессе дипломатической подготовки войны с Австрией, Бисмарк дважды вел переговоры с Наполеоном 111 и предложил ему компенсировать территориальное увеличение Пруссии уступкой Франции великого герцогства Люксембург. Однако Наполеон завел речь об аннексии Бельгии, и Бисмарк, ничего не обещая, тем не менее подал ему надежду на это. Император отложил на время свои намерения, надеясь на длительную войну и взаимное ослабление воюющих. Уже в ходе Австро-прусс кой войны часть руководителей Франции настаивала на военном вмешательстве в пользу Австрии, рассчитывая на территориальную компенсацию, однако этому помешал быстрый разгром австрийцев и неготовность французской армии к боевым действиям. После войны (летом и осенью 1866 г.) Франция все же предъявила Пруссии претензии на некоторые земли по Рейну и на Люксембург. Бисмарк, уже не нуждаясь во французском нейтралитете, отверг эти притязания, однако сумел в то же время получить от французского посла документ, фиксировавший требования его страны. Позже, во время Франко-прусс кой войны, он использовал его для анти наполеоновской агитации.
… для ее описания можно было бы воспользоваться ярким образом Шиллера в его «Разбойниках»: все обручи небесной бочки вот-вот должны были лопнуть. — Шиллер, Иоганн Фридрих (1759–1805) — выдающийся немецкий поэт, драматург, историк и теоретик искусства; один из основоположников немецкой классической литературы. Его творчеству свойственны бунтарскйй пафос, утверждение человеческого достоинства, романтический порыв, напряженный драматизм. Созданная им в 1781 г. драма в прозе «Разбойники» была воспринята с овременниками как поэтический манифест угнетенного немецкого народа.
Здесь, вероятно, подразумеваются слова разбойника Роллера, рассказывающего своим товарищам подробности того, как он был спасен от казни Карлом Моором, своим атаманом. Моор поджег город, где должна была состояться эта казнь, и на воздух взлетел пороховой погреб. «То-то был треск, словно обруч лопнул на небесной бочке», — вспоминает Роллер, которому удалось после этого взрыва воспользоваться испугом стражников и убежать (II, 3).
… Один студент из Гёттингена… — Имеется в виду университет города Гёттинген в Западной Германии; основанный в первой пол. XVIII в., он был известнейшим немецким высшим учебным заведением, одним из философских центров; ведущее значение в нем имели исторические, политические, естественные и математические науки.
… одну из самых гневных поэм Фридриха Рюккерта — «Возвращение». — Рюккерт, Фридрих Иоганн Михаэль (1788–1866) — немецкий поэт и ученый-востоковед; автор патриотических песен, звавших немцев на освободительную войну против армий Наполеона I и вошедших в сборник «Немецкие стихотворения» (1814); переводчик классической восточной литературы.
…мы отправляем тех читателей, кому любопытно было бы сравнить наш перевод с оригиналом, к книге этого поэта, озаглавленной «Железные сонеты». — «Железные сонеты» («Geharnischte Sonette») — сборник патриотических стихотворений Рюккерта, вышедший в свет в Штутгарте в 1814 г.
… Березины предсмертный крик нас оглушил… — Березина — река в Белоруссии, правый приток Днепра, длиною в 613 км. Через эту реку в конце ноября 1812 г. переправлялась отступавшая из Москвы наполеоновская армия, и в результате чрезмерного скопления людей и обозов, обшей деморализации и кровопролитных боев французы понесли здесь огромные человеческие потери и утратили значительную часть артиллерии и обозов. Согласно официальным русским источникам, на Березине после оттепели было найдено 36 тыс. тел. После Березины Великая армия перестала существовать как организованная сила.
… Когда на статуе читаю: «Йена» // И вижу на мосту: «Аустерлиц!» — В 1806–1813 гг. в Париже, в центре города, в честь победы при Йене (см. примеч. к с. 8) был построен мост через Сену, названный Йенским; он был украшен скульптурными группами, символизирующими различные народы мира. В 1815 г., во время оккупации Парижа союзниками, Блюхер хотел взорвать Йенский мост, но его удалось спасти благодаря вмешательству русского императора Александра I. Статуи в честь победы при Йене в Париже не было.
Во время войны Франции с третьей европейской коалицией (Англия, Австрия, Россия, Неаполитанское королевство и др.; сентябрь-декабрь 1805 г.) в сражении при Аустерлице (местечко в Чехии; соврем. Славков) 2 декабря 1805 г. Наполеон одержал одну из самых блестящих своих побед, разгромив войска Австрии и России. В честь этой битвы в Париже в 1802–1807 гг. был построен мост через Сену, названный Аустерлицким. Он расположен выше острова Сите по течению Сены.
Во время Реставрации оба моста были переименованы, но после окончательного падения Бурбонов старые названия были им возвращены.
… Колонна бронзы, а на ней… // Победа — из свинца и стали, — // Держащая в цепях Дунай и Рейн. — Имеется в виду колонна Великой армии, или Аустерлицкая, обычно называемая Вандомской по имени площади в Париже, на которой она находится; воздвигнута в 1810 г. в честь победы Франции над Австрией и Россией в войне 1805 г. и увенчана бронзовой статуей Наполеона. В 1814 г. эта скульптура была убрана с колонны правительством Реставрации, но после окончательного падения Бурбонов восстановлена.
В этих стихотворных строчках содержится намек на победы Наполеона над Австрией, земли которой лежали по Дунаю, и немецкими государствами, по которым протекал Рейн.
… «Да здравствует король Вильгельм!»… — Вильгельм I Гогенцоллерн (1797–1888) — второй сын короля Фридриха Вильгельма (II, до 1861 г. принц Прусский, наследник престола, немецкий реакционный военный и политический деятель; во время мартовской революции 1848 г. в Берлине требовал расправы над восставшими, за что получил прозвище «Картечный принц»; вынужден был бежать в Англию; в 1849 г. во главе прусских войск подавил баденско-п фальце кое восстание; в 1858–1861 гг. принц-регент Пруссии после окончательного умопомешательства своего старшего брата Фридриха Вильгельма IV; с 1861 г. король Пруссии; поддерживал политику Бисмарка объединения Германии сверху «железом и кровью»; во время Австро-прусской (1866) и Франко-прусской войн (1870–1871) — главнокомандующий прусской и германской армиями; в 1867–1871 гг. президент Северогерманского союза; с 1871 г. император Германской империи.
… на этот раз из сборника Кернера «Лира и меч». — Кёрнер, Карл Теодор (1791–1813) — немецкий поэт и писатель, студент горной академии Фрейберга, Лейпцигского и Берлинского университетов; в 1813 г. принял участие добровольцем в освободительной войне против наполеоновского господства, воспевал ее; был убит в бою. «Лира и меч» («Leyer und Schwert») — сборник патриотических песен Кернера, вышедший в свет в 1814 г.
… люди узнали певца, возвращавшегося с репетиции из Большого театра. — Большой театр — т. е. Государственная опера (см. примеч. к с. 7).
… этому певцу пришла в голову мысль исполнить в театре известную песню Беккера «Свободный немецкий Рейн!»… — Беккер, Николаус (1809–1845) — студент-юрист, не закончивший курса и ставший мелким судейским чиновником; в 1840 г. в ответ на взрыв шовинизма во Франции, главным требованием которого было присоединение земель полевому берегу Рейна, сочинил стихотворение «Немецкий Рейн». В стихотворении были слова «Его нс получить им, // Немецкий вольный Рейн», и оно встретило в Германии восторженный прием, неоднократно перелагалось на музыку и широко использовалось немецкими националистами. Король Фридрих Вильгельм IV пожаловал автору значительную денежную награду.
14… в туманном полумраке // Чуть различима Лорелей… — Лорелей (Лорелея) — героиня немецкой средневековой баллады: прекрасная дева, которая живет на утесе над Рейном и своим пением завлекает, а затем губит рыбаков.
… Пока готическим соборам // Еще не вышел жизни срок… — Готика (ит. gotico, букв, «готский» — от названия германского племени готов) — художественный стиль, сложившийся между сер. XII и XV–XVI вв. и завершивший развитие средневекового искусства Европы.
15… с короткой остроконечной бородкой и тонкими усиками Ван Дейка… — Ван Дейк, Антонис (1599–1641) — фламандский художник, мастер портрета; работал также в Италии и Англии; первые шаги в живописи сделал в мастерской прославленного фламандского художника Рубенса (1577–1640).
… Династия Гогенцоллернов. — Гогенцоллерны — династия бранденбургских курфюрстов (1415–1701), прусских королей (1701–1918) и германских императоров (1871–1918).
… он сказал на превосходном саксонском, наилучшем, какой только можно услышать от Тьонвиля до Мемеля… — Здесь имеется в виду немецкий литературный язык, складывавшийся на протяжении нескольких веков (примерно с XIV по XIX в.) на базе восточно-средненемецкого диалекта т. н. «саксонских земель».
Тьонвиль — город в Северной Франции, на реке Мозель, в департаменте Мозель, близ границ с Люксембургом и Германией. Мемель (соврем. Клайпеда) — древнейший литовский город, морской порт на берегу Балтийского моря и Куршского залива; в 1252 г. захвачен рыцарями военно-монашеского Ливонского ордена, которые дали ему название Мемель; с 1525 г. принадлежал Прусскому герцогству, в 1629–1635 гг. — Швеции, с 1701 г. — Прусскому королевству; с 1871 г. находился в составе Германской империи, в 1920 г. передан в ведение Антанты, в 1923 г. возвращен Литве; в 1939 г. захвачен Германией; в 1945 г. возврашен Литве.
От Тьонвиля до Мемеля — т. е. на всей территории, где преобладает немецкий язык.
16… получил образование в Гейдельберге. — Гейдельберг — старинный город в Юго-Западной Германии, на реке Неккар; резиденция владетельных князей исторической прирейнской области Пфальце XIII в. Гейдельбергский университет, старейший в Германии, существует с 1386 г.; в кон. XV-нач. XVI в. достиг большой славы, но в XVII—
XVIII вв. из-за войн и влияния иезуитов пришел в упадок; в нач.
XIX в. начал возрождаться; в нем работали многие выдающиеся немецкие ученые; обладает богатой библиотекой.
… Я живу в гостинице «Черный Орел»… — Гостиница, по-видимому, названа в честь геральдического знака Пруссии — черного одноглавого орла.
… описал им по четырех-пятиметровой окружности… молниеносное и могучее мулине… — Мулине — фехтовальный прием, при котором шпага или палка движется в горизонтальной плоскости вокруг корпуса нападающего.
17… это был на самом деле ответ на «Немецкий Рейн», и ответ этот дал Мюссе. — Мюссе, Альфред де (1810–1857) — французский поэт, романист и драматург; в его творчестве ярко выражено неприятие современной ему действительности — Реставрации Бурбонов и буржуазной Июльской монархии; глубоко и правдиво отразил в своих произведениях сложность и противоречивость духовной жизни современного ему человека; старался держаться в стороне от политики, но иногда все же выступал с политико-сатирическими и публицистическими стихами. Одним из них было стихотворение «Немецкий Рейн» («Le Rhin allemand», 1841) — ответ нат.н. «Рейнский гимн» Н.Беккера (см. примеч. к с. 13).
… Одной рукой своей Конде// Сорвал реки покров зеленый… — Конде, Луи II де Бурбон, принц де (1621–1686) — член французского королевского дома, знаменитый полководец, прозванный Великим Конде; одержал много побед в войнах сер. и второй пол. XVII в.; в 1672–1675 гг. успешно руководил французскими войсками в войне с Голландией (1672–1678). 12 июня 1672 г. французы под его командованием с боем форсировали Рейн, и эта успешная операция вошла в анналы военной истории.
… Его наш Цезарь не находит… — Имя Цезаря (см. примеч. к с. 8) нередко служило синонимом имени победоносного полководца. Здесь имеется в виду Наполеон.
20… люди с удивлением узнали графа Эдмунда фон Бёзеверка — минист ра короля Вильгельма. — Прообразом этого персонажа стал Отто Эдуард Леопольд Бисмарк фон Шёнхаузен (1815–1898) — реакционный государственный деятель и дипломат Пруссии и Германской империи, с 1890 г. князь и герцог Лауэнбургский; происходил из семьи померанских помешиков; прослушал курс лекций в университете; в 1835–1838 гг. был на мелких судебных должностях; во время революции 1848 г. неудачно пытался организовать контрреволюционное ополчение, чем обратил на себя внимание правящих кругов; в 1851–1859 гг. бьш полномочным представителем Пруссии в сейме Германского союза, а затем — послом в Петербурге (1859—
1862) и Париже (1862); в 1862 г., в разгар т. н. конституционного конфликта между королевской властью и Ландтагом по поводу кредитов на реорганизацию армии, стал министром-президентом и министром иностранных дел Пруссии и руководил без одобрения Ландтага; проводил политику объединения Германии «сверху» под главенством Пруссии в интересах ее монархии, прусского юнкерства (см. примеч. к с. 27) и крупной буржуазии, пользуясь при этом поддержкой короля, но действовал независимо, часто вступая с ним в тактические конфликты; с образованием в 1871 г. Германской империи стал ее канцлером и фактическим правителем, ведя борьбу с буржуазно-помещичьими кругами, сопротивлявшимися централизации власти, с одной стороны, и с рабочим движением, а также национальным движением в ненемецких областях Империи — с другой; во внешней политике стремился предотвратить реванш Франции, ограбленной в войне 1870–1871 гг., и создание антигерманских коалиций; заключил в 1879 и 1882 гг. союзы с Италией и Австро-Венгрией («Тройственный союз»), направленные против Франции и России и ставшие основой политики, которая привела к Первой мировой войне; проводил также активную колониальную политику, что обострило отношения Германии с Англией; в 1890 г. после неудачной попытки продлить закон против социалистов и конфликта с новым императором Вильгельмом II был уволен в отставку; оставил интересные мемуары.
В настоящем романе министр-президент появляется в момент покушения на него студента Юлиуса Когена (на самом деле, оно произошло не 7 июня 1866 г., как в повествовании Дюма, а 7 мая того же года). Неудачливый убийца выпустил в министра пять пуль из револьвера. По другим источникам, в этот день на Бисмарка покушался Фердинанд Кон Блинд, пасынок известного журналиста-де-мократа К.Блинда (см. примеч. к с. 59). В тот же день покушавшийся покончил жизнь самоубийством.
Отметим, что Дюма дал своему персонажу фамилию Бёзеверк (Воеsewerk) «со значением»: она образована от нем. Bose («злой») и Werk («дело») и означает «Злодеев», «Худодеев».
… пошел к Малому королевскому дворцу… — Малый дворец — см. примеч. к с. 7.
… Тут встречаются венды, галлоры, кашубы, куроны, латыши и литовцы, поляки и потомки франкских беженцев. — Венды — немецкое название западных славян, населявших в I тыс. Восточную Германию и истребленных или онемеченных германскими феодалами в XII–XVII вв.; ныне немцы называют так остатки этих племен — лужицких сербов.
Галлоры — рабочие на солеварнях в городе Галле в Саксонии (после наполеоновских войн отошедшем к Пруссии), которые составляли своеобразный этнический тип, к кон. XIX в. уже исчезавший; происхождение их до конца не выяснено; в XIX в. жили чрезвычайно замкнуто.
Кашубы — западнославянская народность, живущая в Польше, по берегу Балтийского моря, к западу от устья Вислы, и этнически весьма близкая к полякам; сохранили свою самобытность, несмотря на многочисленные попытки онемечивания их в XVII–XX вв., когда их земля входила в состав Пруссии.
Куроны (латинизированное название куршей) — древнее латышское племя, жившее на побережье Балтийского моря и Рижского залива; много веков сопротивлялись агрессии датчан, скандинавов и немцев, но были покорены Ливонским орденом, а затем входили в состав герцогства Курляндского, Польши и России; ныне полностью слились с латышами.
Франкские беженцы — вероятно, имеются в виду французские протестанты (гугеноты), в большом количестве эмигрировавшие в Германию после отмены в 1685 г. Нантского эдикта 1598 г.
Этой фразой Дюма совершенно правильно с исторической точки зрения подчеркивает, что курфюршество Бранденбург и королевство Пруссия возникли на землях западных славян, покоренных немецкими князьями.
… Король Пруссии и сегодня еще с гордостью носит титул герцога Кашубского. — Прусские короли носили и XIX в. титул герцога кашубов (Herzog von Kaschubcn), хотя Кашубского герцогства никогда нс существовало.
… Герцог Фридрих — вот кто основал не величие, но процветание дома Гогенцоллернов. — Фридрих Гогенцоллерн (1371–1440) — бургграф Нюрнбергский (с 1389 г.); в награду за помощь императору Вснцеславу получил в 1411 г. в управление Бранденбург; в 1415 г. купил титул курфюрста и принял имя Фридрих I; активно участвовал в имперских междоусобиях, домогался императорского титула и владения Саксонией.
… Вначале он служил императору Венцеславу… — Венцеслав (Венцель; 1361–1419) — император Священной Римской империи и германский король в 1378–1400 гг. и чешский король в 1378–1419 гг. под именем Вацлава IV; принадлежал к династии Люксембургов; вел неудачную борьбу против немецких феодалов и союзов городов, которая привела к ослаблению императорской власти; в 1400 г. собранием четырех курфюрстов — архиепископов Трира, Майнца, Кёльна и пфальцграфа Рейнского — был лишен императорского достоинства; в Чехии также был принужден к значительным уступкам крупным владетелям, но, опираясь на рыцарство и горожан, способствовал ослаблению немецкого влияния.
… переметнулся в лагерь императора Оттона, соперника Венцеслава… — Здесь какая-то неясность: соперником Венцеслава, возглавившим выступления против него венгерских и чешских феодалов, был его брат, будущий император Сигизмунд I (см. при меч. ниже); последний император, носивший имя Оттон — СЙтон IV (см. примеч. к с. 174) — умер в 1218 г., т. е. задолго до упомянутых Дюма событий. Преемником Венцеслава, отстраненного от императорского престола в 1400 г., стал император Рупрехт(см. примеч. к с. 172). После его смерти императором в 1411 г. был избран Сигизмунд.
… объявил себя сторонником Сигизмунда, брата Венцеслава. — Сигизмунд I Люксембургский (1368–1437) — король Венгрии с 1387 г., император с 1411 г., король Чехии в 1419–1421 и 1436–1437 гг.; опирался на католическую церковь и знать, вел борьбу с чешским национальным движением; предпринял несколько грабительских походов в Италию; в 1396 г. потерпел поражение в крестовом походе против турок.
… В 1400 году, в то самое время, когда Карл VI возвел в дворянство золотых и серебряных дел мастера Рауля, давшего ему взаймы денег… — Карл VI (1368–1422) — французский король с 1380 г.; ббльшая часть его царствования отмечена неудачами в Столетней войне (1337–1453) с Англией и гражданскими раздорами, прежде всего враждой «бургиньонов» («бургундцев») и «арманьяков», т. е. сторонников двух соперничавших за власть и влияние родственников короля — герцога Бургундского и герцога Орлеанского (которого поддерживал графд'Арманьяк). Эти потрясения в значительной мере были связаны с тяжелым психическим заболеванием Карла VI.
В средние века золотых и серебряных дел мастера часто выступали в качестве ростовщиков и банкиров, ссужая деньгами коронованных особ.
Рауль (Raoul) — сведений об этом персонаже найти нс удалось.
… Сигизмунд, попав в затруднительное положение, занял 100 000 золотых флоринов у Фридриха, взявшего у него в залог маркграфство Бранденбургское. — Флорин (ит. floren от flos — «лилия») — название старинной высокопробной золотой монеты, изначально (с 1252 г.) чеканившейся во Флоренции и носившей изображение лилии — символа этого города (откуда и пошло ее название). Тип флорина вызвал к жизни множество подражаний, и подобная монета чеканилась во многих странах.
Маркграфство Бранденбургское (Бранденбургская марка) — феодальное владение в Центральной и Восточной Германии; возникло в XII в. в ходе завоевания германскими феодалами земель западнославянских племен, живших на Эльбе (полабских славян); название получило от Бранибора, главного города племени гаволян; в XII–XV вв. управлялось представителями нескольких немецких династий; в 1411 г. было передано Гогенцоллернам; в 1415 г. получило права курфюршества; постоянно расширялось за счет покупки новых владений, наследования и завоеваний; в 1618 г. курфюрст Иоганн Сигизмунд (правил в 1608–1619 гг.) получил от Польши в лен герцогство Пруссию. Сложившееся таким образом Бранденбургско-прусское государство получило в 1701 г. права королевства, а сам Бранденбург стал в 1815 г. его провинцией. После Второй мировой войны Бранденбург получил самоуправление и вошел в состав ГДР; ныне входит в ФРГ.
… Сигизмунд, вынужденный оплачивать безумные траты на церковный собор в Констанце, задолжал Фридриху на этот раз 400 000 золотых флоринов. — Констанц — город в Южной Германии, в земле Баден-Вюртемберг, на берегу Боденского озера.
Констанцский собор (1414–1418) — вселенский собор католической церкви, созванный с целью укрепить ее позиции в условиях начавшегося реформационного движения. На соборе были осуждены учения вождей Реформации Джона Уиклифа и Яна Гуса. Собор формально ликвидировал раскол католической церкви, избрав ее нового главу, папу Мартина V. Однако решения собора вызвали новый подъем гуситского движения в Чехии.
…он продал ему, вернее уступил в счет долга, Бранденбургскую марку и курфюрстское достоинство. — Курфюрсты — высшие владетели Священной Римской империи, фактически независимые, имевшие право избирать императора.
Всего было семеро курфюрстов: архиепископы Кёльнский (председатель коллегии), Майнцский и Трирский, король Богемский (Чешский), герцог Саксонский, маркграф Бранденбургский и пфальцграф Рейнский.
… В J70I году курфюршество было возвышено до королевства. Герцог Фридрих III стал королем Фридрихом I и принял титул короля Пруссии. — Фридрих III (1657–1713) — курфюрст Бранденбург-
19-7045 ский с 1688 г. и король Прусский под именем Фридриха I с 1701 г.; н своей политике стремился к абсолютизму и полной политической независимости; отличался веротерпимостью, принимал религиозных эмигрантов; покупкой и политическими комбинациями значительно увеличил свои владения; в декабре 1700 г. добился королевского титула в обмен на оказание помощи Империи в ее войнах.
…в 1525 году Альбрехт Гоген цоллерн, великий магистр Тевтонского ордена, которому принадлежала Пруссия, изменил своей вере и, перейдя в лютеранство, был признан прусским наследственным герцогом под сюзеренитетом Польши. — Альбрехт Гоген цоллерн (или Альбрехт Бранденбургский; 1490–1568) — последний великий магистр (гроссмейстер) Тевтонского ордена (с 1510 г.); пытался освободить Орден от вассальной зависимости по отношению к Польше, но в 1525 г., после неудачной войны, приуял лютеранство, провел секуляризацию Ордена и превратил его в герцогство Пруссию, наследственное в его роде и сохранившее ленную зависимость от Польши. Тевтонский орден — военно-монашеский орден, сыгравший большую роль в т. н. «натиске на Восток» (Drang nach Osten) — завоевании и колонизации западнославянских и прибалтийских земель германскими феодалами; был основан в Палестине в 1128 г. немецкими рыцарями для завоевания Гроба Господня и назывался вначале братством Святой Марии Тевтонской, затем орденом Святой Девы Иерусалимской; название «Тевтонский» (по имени племени древних германцев) получил в 1191 г.; после поражения крестоносцев в Палестине переместился в Венецию, Венгрию, ас нач. XIII в., по приглашению польских князей, в Восточную Пруссию для борьбы против языческого племени пруссов. К нач. XIV в., «проповедуя» христианство огнем и мечом, истребляя местное население и опираясь на помощь Священной Римской империи, орден создал в низовьях Вислы большое собственное государство на завоеванных польских, прусских и литовских землях. Сувереном этого государства был римский папа. Дальнейшее наступление «псов-рыца-рей» на Польшу, Литву и Русь продолжалось, но закончилось крахом, вызвавшим общий упадок орденского государства. Его, важнейшими вехами стали: разгром Ливонского ордена (или ордена Меченосцев — ветви тевтонцев) в Ледовом побоище в 1242 г. на Чудском озере, разгром самого Тевтонского ордена при Грюнваль-де в 1410 г. русскими, польскими и литовскими войсками, а также многочисленные восстания пруссов и литовцев. В 1462 г. орден был вынужден признать вассальную зависимость от Польши. К 1525 г. великий магистр Альбрехт Бранденбургский провел на землях ордена реформацию и превратил их в герцогство Пруссию, ставшее вассалом Польши.
Лютеранство — одно из протестантских вероучений, основателем которого был Мартин Лютер (1483–1546); возникло в Германии в XVI в.; распространено главным образом в Германии и скандинавских странах. Исходные пункты его: учение о Священном писании как единственном источнике вероучения, доступном толкованию каждого; отрицание церковной иерархии; признание церковных таинств (крещение, причащение и др.) лишь внешними знаками общения с Христом; более простое, чем в католичестве, церковное богослужение, в котором большее место отведено проповедям;
иная организация церковного устройства, находящаяся в ведении высшего представителя гражданской власти.
… В 1613 году курфюрст Иоганн Сигизмунд, желая заполучить для дома Гогенцоллернов герцогство Клеве, последовал примеру Альбрехта и стал кальвинистом. — Иоганн Сигизмунд, или Сигизмунд I (1572–1619) — курфюрст Бранденбургский с 1608 г.; в 1609 г. предъявил от имени своей жены Анны права на западногерманские герцогства Клеве, Берг, Юлих и графство Марк в связи с угасанием там правящей династии; после долгих переговоров в 1614 г. стал владетелем Клеве и Марка, что ускорило начало Тридцатилетией войны; в 1613 г. стал кальвинистом; в 1618 г. получил по наследству Пруссию, которая приняла его только после признания им суверенитета Польши. Герцогство Клеве — феодальное владение по нижнему течению Рейна, в XI–XIV вв. графство в составе Священной Римской империи; с 1417 г. — герцогство; в 1521 г. присоединило герцогства Юлих и Берг; в 1614 г. перешло к курфюрстам Бранденбургским, а в 1701 г. — к королям Прусским; во время революционных и наполеоновских войн было захвачено Францией; в 1806 г. Наполеон пожаловал Клеве (вместе с Юлихом и Бергом) своему соратнику маршалу Мюрату; в 1814–1815 гг. оно было возвращено Пруссии, за исключением части, отошедшей к Нидерландам; ныне входит в ФРГ. Кальвинизм — течение в протестантизме, основанное Жаном Кальвином (1509–1564), выходцем из Франции и жителем (фактически — правителем, хотя он и не занимал никаких официальных постов) города Женевы. Кальвинисты представляли собой более радикальное, нежели лютеране, направление в Реформации, выступали за выборность руководителей общин (пресвитеров), тогда как лютеране признавали назначенное светскими властями церковное руководство. Сторонники Кальвина также были, во всяком случае в идеале, за абсолютное подчинение верующего общине; в целом кальвинисты считались более набожными, чем лютеране, и даже фанатичными. Кальвинизм более всего был распространен в Швейцарии, Шотландии и Южной Франции.
… Итог политике бранденбургского курфюрста в двух словах подвел Лейбниц… — Лейбниц, Вильгельм Готфрид (1646–1716) — немецкий философ, математик и физик; был близок к прусскому двору; по его инициативе в Берлине в 1700 г. была основана Академия наук, первым президентом которой он стал.
22… Он женился вторым браком на знаменитой Доротее, учредившей в
Берлине молочные лавки и таверны… — Доротея (1635–1680) — принцесса Гольштейн-Глюксбургская, вторая жена (с 1668 г.) курфюрста Фридриха Вильгельма; известна своими раздорами с детьми мужа от первого брака.
… Что же касается Фридриха II (мы оставляем за ним всю его репутацию военного деятеля), то он, дабы расположить к себе Россию, предложил великим князьям Московским поставлять (этим термином он пользовался) немецких принцесс по самой сходной цене. — Великие князья Московские — имеются в виду члены Российского императорского дома, носившие с XVIII в. этот титул. Московией называли Россию в Западной Европе еще в XVIII в. по названию Московского великого княжества XIV–XVI вв.
19#
… Именно так он и поставил принцессу Ангальтскую, ставшую Екатериной Великой. — Екатерина II Великая (1729–1796) — русская императрица с 1761 г.; с 1762 г., после низвержения и убийства своего мужа императора Петра 111 Федоровича, правила единолично; дочь немецкого князя Антальт-Цербстского, генерала прусской службы, она, тем не менее, старалась всеми силами доказать свою приверженность православию и идее укрепления российской государственности; наибольших успехов в этом направлении она достигла в области внешней политики, расширив границы России путем присоединения территорий после победоносных войн с турками (1768–1775, 1787–1791) и за счет трех разделов Польши (1772, 1793 и 1795); при ней Россия заявила о себе как о мощной державе, способной оказывать существенное влияние на ход мировой истории; во внутренней политике жестко придерживалась курса на усиление самодержавия и крепостничества, расширение привилегий дворянства и подавление свободомыслия.
Кроме Екатерины II, во второй пол. XVIII в. за российских великих князей вышли замуж:
1) принцесса Гессен-Дармштадтекая Вильгельмина (1755–1776), после принятия православия Наталья Алексеевна, первая жена (с 1776 г.) великого князя Павла Петровича (1754–1801), с 1796 г. императора Павла I; умерла в родах;
2) принцесса Вюртембергская София Доротея Августа Луиза (1759–1828), в православии Мария Федоровна, вторая жена (с 1776 г.) Павла I, дочь генерала прусской службы; в России заведовала женскими воспитательными и благотворительными учреждениями;
3) дочь маркграфа Баден-Дурлахского Луиза Мария Августа (1779–1826), в православии Елизавета Алексеевна, жена (с 1793 г.) великого князя Александра Павловича (1777–1825), с 1801 г. императора Александра I; много занималась делами благотворительности;
4) принцесса Юлиана Генриетта Ульрика Саксен-Кобургская (1781–1860), в православии Анна, с 17 % г. жена великого князя Константина Павловича (1779–1831), второго сына Павла I; в 1820 г. их бездетный брак был расторгнут.
Всего же во второй пол. XVIII в. велись переговоры о браках одиннадцати немецких принцесс с русскими великими князьями. Фридрих II действительно стремился к установлению родственных связей немецких князей (которые были и его родственниками) с русским императорским домом. Это давало ему возможность оказывать некоторое влияние на петербургский двор и правительство. Подобные браки, впрочем, были в обычаях того времени, когда династические связи считались приемами внешней политики. Они были и в русле русской внешней политики, стремившейся к влиянию в германских государствах. Начало этой традиции, продолжавшейся до конца правления династии Романовых, положил еще Петр I, желавший завладеть каким-нибудь немецким княжеством и стать одним из государей Священной Римской империи.
… именно он совершил первый раздел Польши. — Прогрессирующий развал польского государства под тяжестью социальных, политических, национальных и религиозных противоречий сделал его во второй пол. XVIII в. нежизнеспособным, и оно оказалось легкой добычей захватнических устремлений сопредельных держав. Вопрос об отторжении различных частей Польши обсуждался европейской дипломатией с нач. 60-х гг. В 1769 г. с подобной инициативой выступила Пруссия, воспользовавшись войной Барской конфедерации и восстанием части польской шляхты против политики королевской власти. В результате в 1772 г. от Польши были отторгнуты значительные территории. Пруссия получила в северной части страны область Вармию, некоторые воеводства, прилегающие к Балтийскому морю, и часть Великой Польши (территории в северо-западной части страны, в бассейне реки Варта); Австрия захватила часть Краковского воеводства и часть Западной Украины; Россия присоединила к себе значительную часть Белоруссии и заняла часть Латвии, т. е. непольские земли, захваченные Польшей и Литвой в XIV–XVI вв. Трактат о разделе был утвержден сеймом в 1773 г.
… он написал своему брату, принцу Генриху, следующую нечестивость: «Приезжай, мы причастимся от одного и того же евхаристического тела — от ПольшиМ — Принц Генрих Прусский (1726–1802) — брат Фридриха II, показавший себя способным военачальником во время Семилетней войны; находился с королем в натянутых отношениях и поэтому большой роли в прусской политике не играл. Евхаристия (гр. «благодарение») — обряд, который сопровождает таинство причащения в христианском богослужении, когда верующие вкушают освященные особо приготовленные хлеб и вино (у католиков миряне вкушают только хлеб), т. н. святые дары, символизирующие тело и кровь Христову, и приобщаются таким образом к его святости.
… Фридрих И не оставил детей, и… его в этом упрекнули, словно подобное случилось по его собственной вине… — Здесь содержится намек на опровергнутый затем в специальной литературе слух о том, что гомосексуализм Фридриха Великого объяснялся его врожденным физическим недостатком.
… Его племянник, Фридрих Вильгельм 11, занял трон после него, и он же в 1792году вторгся во Францию. — Фридрих Вильгельм II (1744–1797) — король Пруссии с 1786 г., племянник Фридриха II; во внутренней политике отличался крайней реакционностью; во время его царствования Пруссия участвовала во втором и третьем разделах Польши; в 1792 г. принимал участие в войне первой коалиции (1792–1797) феодальных европейских держав (Австрия, Неаполитанское королевство, Испания, германские государства, Англия) против революционной Франции; после ряда поражений в 1795 г. заключил в Базеле сепаратный мир с Францией.
… но уходить ему оттуда пришлось без барабанов и фанфар и в сопровождении Дантона и Дюмурье. — Имеется в виду неудачное наступление армий Австрии и Пруссии в 1792 г. на Париж, в котором участвовал Фридрих Вильгельм II. После поражения при Вальми (см. примеч. к с. 9) армия союзников в состоянии полного разложения вынуждена была покинуть Францию.
Дантон, Жорж Жак (1759–1794) — виднейший деятель Французской революции; депутат Конвента, выдающийся оратор, вождь умеренного крыла якобинцев; был казнен. Осенью 1792 г. он был министром юстиции во французском правительстве и одним из организаторов отпора интервентам.
Дюмурье, Шарль Франсуа (1739–1823) — французский полководец; и молодости вел жизнь, полную авантюр, участвовал во многих войнах; во время Революции перешел на ее сторону, примкнув к жирондистам; в 1792 г. министр иностранных дел; в 1792–1793 гг. командовал армией; под его руководством французские войска отразили при Вальми вторжение неприятеля; в 1793 г. был обвинен в сношениях с врагом и бежал за границу; окончил жизнь в эмиграции… Наследовал ему его собственный сын, Фридрих Вильгельм II/. — Фридрих Вильгельм 111 (1770–1840) — король Пруссии с 1797 г.; участвовал в войне четвертой (1806–1807) антифранцузской коалиции; после разгрома Пруссии Францией в 1806–1807 гг. согласился на унизительный мир, оказался фактическим вассалом Наполеона и был вынужден пойти на проведение в своей стране буржуазных реформ; в 1813 г., после поражения Наполеона в России, вновь примкнул к союзникам; в 1815 г. вступил в Свяшенный союз европейских монархов; стремился сохранить в Пруссии реакционноабсолютистский режим.
… Это уже человек, связанный с Йеной! — Поражение пруссаков под Йеной (см. примеч. к с. 9) в известной степени стало символом военного и политического краха Пруссии, возглавляемой тогда Фридрихом Вильгельмом III.
… Фридрих Вильгельм IV… взошел на трон в июне 1840года. — Фридрих Вильгельм IV (1795–1861) — сын Фридриха Вильгельма III, король Пруссии с 1840 г.; по вступлении на престол под давлением либеральной оппозиции провел ряд незначительных либеральных мероприятий (в частности, объявил амнистию и облегчил цензуру), но в целом далеко не оправдал надежд на изменение реакционного правительственного курса; в период 1848–1849 гг. жестоко подавлял революционное движение; после революции 1848 года проводил последовательную реакционную политику; с 1857 г. по причине умопомешательства отошел от управления государством, и в 1858 г. регентом стал его брат Вильгельм, впоследствии Вильгельм I (см. примеч. к с. 13).
… всходя на прусский трон, сказал Александру фон Гумбольдту… — Гумбольдт, Александр, барон фон (1769–1859) — известный географ и естествоиспытатель, один из передовых людей своего времени; младший брат прусского государственного деятеля, публициста и лингвиста Вильгельма фон Гумбольдта (1767–1835).
… Карл X, всходя на французский трон, сказал примерно то же самое, вернее, г-н де Мартиньяк сказал это за него. — Карл X (1757–1836) — французский король в 1824–1830 гг. из старшей ветви династии Бурбонов; младший брат Людовика XVI и Людовика XVIII; до вступления на престол носил титул графа д’Артуа; стремился к восстановлению дореволюционного королевского абсолютизма; летом 1830 г. предпринял попытку ликвидировать конституционные гарантии, установленные Хартией 1814 года, что вызвало 27 июля восстание в Париже — т. н. Июльскую революцию, вынудившую его отречься от престола и эмигрировать. Власть в государстве перешла к младшей ветви Бурбонов — Орлеанам.
Мартиньяк, Жан Батист Сильвер Гэ, виконт де (1778–1832) — политический деятель эпохи Реставрации; по профессии адвокат, ставший генеральным прокурором а Лиможе; а 1821 г. был избран в Палату депутатов, где выделялся своим ораторским талантом; вначале поддерживал ультрароялистов; в 1823 г. принял участие во французской интервенции в Испанию с целью подавления революции в этой стране — был гражданским комиссаром при главнокомандующем, сыне графа д’Артуа, герцоге Ангулемском (1775–1844); получил от правительства Реставрации ряд отличий и наград, в частности в 1824 г. стал виконтом, тем не менее постепенно начал отходить от своих прежних политических позиций и сближаться с либералами; в январе 1828 г., став министром внутренних дел и фактическим главой кабинета, осуществил некоторые умеренно-либеральные мероприятия. Однако в августе 1829 г. король распустил этот кабинет и призвал к власти Полиньяка, чья политика быстро привела страну к революции. В 1830 г., после Июльской революции, Мартиньяк с успехом выступал защитником на процессе Полиньяка и его министров.
… он организовал в своем государстве единомыслие по принципу ландвера духа. И эту заботу он поручил министру Эйххорну. — Эйххорн, Иоганн Альбрехт Фридрих (1779–1856) — прусский реакционный государственный деятель, в 1840–1848 гг. министр по делам культа, просвещения и медицины; в его ведении находились цензура и надзор за печатью.
… Имя его, означающее «белка», оказалось пророческим. — Фамилия Эйххорн (нем. Eichhorn) означает «белка». Министр Эйххорн так и изображался на карикатурах того времени — в образе белки.
… он вынужден был стать услужливым орудием для пиетистическои партии, главой которой был сам король. — Пиетизм (от лат. pieta — «благочестие») — религиозное течение, возникшее в XVII в. среди протестантов Германии, отвергавшее внешнюю обрядность в пользу мистицизма и имевшее целью усиление влияния строгого благочестия.
… Фридрих Вильгельм наряду с королем Людвигом Баварским был самым большим любителем литературы… — Людвиг I (1786–1868) — король Баварии в 1825–1848 гг.; в качестве генерала участвовал в войнах Наполеона, выступая на стороне Франции; во внутренней политике колебался между умеренным либерализмом и клерикализмом; покровительствовал ученым, деятелям театра и изобразительного искусства, писателям, и даже сам занимался литературой; под влиянием революции 1848–1849 гг. отрекся от престола и стал жить как частное лицо.
… вынужденный, по воле случая, как наш сатирик Буало… подавать пример добрых нравов… — Буало-Депрео, Никола (1636–1711) — французский поэт и критик, теоретик классицизма; историограф Людовика XIV, придворный поэт; член Французской академии (1683); знаменит также как автор сатир на житейские, моральные и литературные темы.
Известно, что Буало из-за полученного им в детстве увечья (мальчика ущипнул за пенис гусь) поневоле пришлось сохранять всю жизнь строгое целомудрие.
… у того все же было оправдание, которого не мог представить Фридрих Великий… — См. примеч. к с. 21.
… упрекнул баварского короля в том, что тот возмутил мир коронованных особ своей близостью с Лолой Монтес. — Монтес, Лола (1818–1861) — известная авантюристка, танцовщица, дочь испанского офицера; с 1846 г. фаворитка баварского короля Людвига I, оказывавшая влияние на его политику; в 1848 г. вынуждена была бежать из Мюнхена после народного бунта.
… В /847 году… в Берлине, наконец, собрался прусский Ландтаг. — 3 февраля 1847 г. Фридрих Вильгельм IV под давлением финансовых затруднений и буржуазной оппозиции издал указ о периодическом созыве прусского Ландтага из депутатов провинциальных ландтагов для обсуждения налоговых вопросов. Это было воспринято в стране как выполнение конституционных обещаний, данных еще Фридрихом Вильгельмом III во время борьбы с Наполеоном. Однако надежды общества вскоре сменились недовольством: в Соединенном ландтаге (как его называли) преобладали дворяне, его компетенция была очень узка, а прерогативы не обеспечены. 11 апреля 1847 г. король открыл Ландтаг речью, в которой он отверг все надежды на конституцию. Затем он резко отклонил петицию, содержащую требования Ландтага. В свою очередь Ландтаг стал отклонять предложения правительства. В такой обстановке само существование Ландтага оказалось бесплодным, и он был распущен в том же году.
24… разрывая конституцию, он сказал: — Не желаю, чтобы клочок бумаги оказался между моим народом и Богом. — В русской исторической литературе имеется несколько вариантов изложения и цитирования этих слов Фридриха Вильгельма IV, произнесенных им в Соединенном ландтаге 11 апреля 1847 г. По-видимому, наиболее точен следующий вариант: «Я никогда не позволю, чтобы между Господом, нашим Небесным владыкой, и этой страной стал, словно второе Провидение, исписанный лист бумаги…»
… Когда разразилась революция /848 года, ей эхом откликнулся и Берлин. — Буржуазно-демократические и буржуазные революции 1848–1849 гг. справедливо характеризуются некоторыми учеными как «потрясение Европы». Охватившие почти все главные страны континента, а в остальных его частях получившие сильные отзвуки, они сопровождались многочисленными восстаниями, гражданскими, национально-освободительными и межгосударственными войнами, а также крушениями монархий. Причинами этих революций были экономический кризис 1847 г. и назревшая необходимость ликвидации феодализма и крепостничества, раздробленности и иностранного порабощения ряда стран, реакционных режимов — т. е. препятствий, сковывавших экономическое и политическое развитие государств.
Революции 1848–1849 гг. достигли своих исторических целей лишь частично. В большинстве стран буржуазия, их возглавлявшая, была испугана народными движениями и пошла на соглашения с реакционными монархиями. Но революционные события открыли возможности для дальнейших преобразований и осуществления их целей в ближайшем будущем.
Началом революций 1848–1849 гг. было восстание 22–24 февраля в Париже, свергнувшее монархию Орлеанов.
В Германии революция началась в южногерманских мелких и средних государствах в конце <|ювраля — начале марта 1848 г. 13 марта произошло революционное восстание в Вене — столице Австрийской империи.
В Пруссии революционные волнения начались в первые дни марта. 18 марта в Берлине народ окружил королевский Д1юрсц. Когда королевская гвардия оттеснила толпу, началось восстание, окончившееся победой революционеров. Войска вывели из Берлина, была объявлена амнистия заключенным и образовано либеральное министерство. Однако благодаря союзу либералов с королевской властью скоро началось наступление реакции: рабочие и крестьянские выступления были подавлены, либералы удалены из правительства, а демократические и рабочие союзы и газеты запрещены; жестоким образом было усмирено восстание поляков в Познани. В декабре 1848 г. был совершен государственный переворот и разогнано прусское Учредительное собрание. Фридрих Вильгельм ^отказался признать конституцию, выработанную общегерманским Национальным собранием, которое было созвано во Франкфурте после победоносных мартовских революций в германских государствах. Эта конституция, не решая важнейших социальных и национальных вопросов, объявляла Германию единым государством, главой которого должен был стать прусский король. Летом 1849 г. прусские войска подавили в Юго-Западной Германии восстание в защиту этой конституции и тем самым единства страны. Это означало конец немецкой революции 1848–1849 гг.
… покидая столицу, он проезжал мимо трупов повстанцев… ему крикнули: «Шляпу долой!» — и он вынужден был обнажить голову… — Этот эпизод изложен у Дюма не совсем точно. Фридрих Вильгельм IV действительно хотел бежать 18–19 марта 1848 г. из Берлина, но он не смог этого сделать. 19 марта народ заставил его выйти на балкон дворца и обнажить голову перед проносимыми мимо телами погибших на баррикадах бойцов.
… а в это время толпа пела знаменитый гимн, сочиненный великой курфюрстиной… — Великая курфюрстина — Луиза Генриетта Оранская (1627–1667), первая жена (с 1646 г.) бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма I (1628–1688), основателя прусской военно-феодальной монархии, прозванного великим курфюрстом; поэтесса, кроме упомянутой религиозной песни «Иисус, лишь на тебя я уповаю» написавшая еще несколько церковных гимнов.
… абсолютизм сумел сломить сопротивление Национального собрания… — Национальное собрание — прусское Учредительное собрание, решение о созыве которого под влиянием победы мартовской революции приняли либеральное министерство и второй Соединенный ландтаг в апреле 1848 г. Выборы в Собрание состоялись в мае того же года на основе всеобщего избирательного права (но в две ступени) и дали внушительную победу либералам. Заседания его открылись 22 мая. С самого начала своего существования Собрание подвергалось сильному давлению реакции и королевской власти, но не осмеливалось оказать ему серьезное сопротивление. Собрание не решалось пойти на революционные меры — принять хотя бы ограниченную конституцию, провести отмену феодальных повинностей в деревне и осуществить мероприятия, улучшающие положение рабочих; всеобщее возмущение вылито и то, что оно фактически отмежевалось от восстания 18 марта. В результате всего этого Собрание лишилось поддержки народа. Между тем в течение лета и осени 1848 г. продолжалось наступление реакции, которому Собрание оказывало лишь пассивное сопротивление. Было уволено в отставку несколько либеральных министров, распущено народное ополчение, в Берлин снова были введены войска. В ноябре заседания Собрания были приостановлены на две недели, а само оно было переведено в небольшой город Бранденбург, где 5 декабря
1848 г. его распустили.
… Мантёйфель, политика которого завершилась полным провалом в Ольмюце, когда Австрия одержала верх… — Мантёйфель, Отто Теодор, барон фон (1805–1882) — прусский реакционный государственный деятель; в Соединенном ландтаге 1847 г. и во время революции 1848–1849 гг. был энергичным защитником правления бюрократии и противником либеральных притязаний; в ноябре 1848 г. был назначен министром внутренних дел; в 1850–1858 гг. министр-президент правительства; в 1864 г. был избран в верхнюю палату парламента, где он выступал в защиту принципов реакции.
Ведя борьбу с революционным движением в своей стране в 1848—
1849 гг., прусское правительство одновременно продолжало стремиться к гегемонии в Германии. Пруссия воспользовалась страхом мелких германских государств перед революцией и создала т. н. Прусскую, или Ограниченную, унию из 26 немецких княжеств, фактически отделив их от Германского союза. Несмотря на взятые на себя обязательства, она также поддерживала войну герцогств Шлезвиг и Гольштейн против Дании. Летом 1850 г. прусские войска заняли курфюршество Гессен. Подобные действия Пруссии вызвали ее конфликт с Австрией: Германия была на грани войны. Однако на стороне Австрии выступила Россия, игравшая тогда роль арбитра вделах Средней Европы. Император Николай I заявил, что не потерпит изменений в Германии и окажет австрийцам военную помощь. Попытки прусской дипломатии опереться на помощь Англии оказались неудачными; против Ограниченной унии высказалась также Франция. В результате Пруссия была вынуждена отступить. Это было оформлено соглашением между Австрией и Пруссией, подписанном 11 ноября 1850 г. при посредничестве России Мантёйфелем и министром-президентом Австрии князем Ф.Шварценбергом (1800–1852) в Ольмюце (ныне Оломоуц в Чехии). Пруссия пропускала австрийские и баварские войска в Гессен и Гольштейн и отказывалась от всяких изменений в договорах 1815 г., т. е. от реформы Германского союза и покушений на господство в нем Австрии.
… Вестфален, воскресивший провинциальные ландтаги и приведший короля к пресловутой варшавской встрече — Вестфален, Фердинанд Отто Вильгельм, фон (1799–1876) — в 1850–1858 гг. прусский министр внутренних дел в министерстве Мантёйфеля; вместе с ним был уволен в отставку принцем-регентом Вильгельмом; сводный брат жены Карла Маркса — Женни.
После 1815 г. Пруссия делилась на 9 провинций (Восточная Пруссия, Западная Пруссия, Бранденбург, Померания, Силезия, Познань, Саксония, Вестфалия и Рейнская провинция). Провинции делились на округа, а округа — на уезды.
Заключению соглашений и Ольмюце предшествовало свидание в Варшаве прусского наследного принца Вильгельма, прусского министра-прсзидснта Мантёйфеля, а также австрийского императора Франца Иосифа I (1830–1916; правил с 1848 г.) и министра-прсзи-дента Шварценберга с Николаем I в октябре 1850 г. Русский император в разразившемся тогда конфликте потребовал от Пруссии, чтобы она отступила перед Австрией.
Варшава — старинный польский город, известный с XIII в.; с конца этого столетия столица Мазовсцкого княжества; с 1526 г. столица Польши; в 1795 г. захвачена Пруссией; в 1806 г. занята войсками Наполеона; в 1807–1814 гг. столица Великого герцогства Варшавского; после падения Наполеона отошла к России и стала столицей королевства Польского, входившего в Российскую империю.
… Шталь, крещеный еврей и иезуит-протестант, ставший чем-то вроде несостоявшегося великого инквизитора… — Шталь, Фридрих Юлий (1802–1861) — немецкий ученый-юрист, публицист и политический деятель; по происхождению еврей, принявший лютеранство; профессор в нескольких немецких университетах, с 1840 г. преподавал в Берлине; крайний реакционер; в своих работах обосновывал феодально-консервативные взгляды, что привлекло к нему симпатии Фридриха Вильгельма IV и прусской придворной аристократии; с 1849 г. был членом верхней палаты, а с 1852 г. — членом верховного совета евангелической церкви (с этой должности был уволен в 1858 г. вместе с Мантёйфелем); до самой смерти был главой феодально-консервативной партии; автор многих публицистических и научных работ.
Иезуиты — члены Общества Иисуса, важнейшего из католических монашеских орденов, основанного в XVI в.; ставили своей целью борьбу любыми средствами против еретиков и протестантов за укрепление церкви и веры; имя иезуитов стало символом лицемерия и неразборчивости в средствах для достижения цели. Их преступления и сомнительные коммерческие операции вызывали всеобщее возмущение; в 1773 г. указом папы римского орден был распушен (восстановлен в 1814 г.).
Инквизиция (от лат. inquisitio — «розыск») — тайное судебно-полицейское учреждение католической церкви в XIII–XIX вв., созданное для борьбы с ересями; особой жестокостью известна испанская инквизиция, которую с 1483 г. возглавлял доминиканский монах Торквемада (см. примеч. к с. 177), первый великий инквизитор.
… оба Герлаха, эти гении интриги, историей своей связанные с историей двух шпионов — Ладенберга и Техена. — Герлах, Леопольд, фон (1790–1861) — прусский генерал и придворный; участник войн против Наполеона; крайний реакционер; вследствие своей личной близости к Фридриху Вильгельму IV, а затем к Вильгельму I оказывал большое влияние на политику Пруссии, направляя ее в клерикально-реакционном духе.
Герлах, Эрнст Людвиг (1796–1877) — германский политический деятель, один из основателей «Крестовой газеты» (см. примеч. к с. 10), президент апелляционного суда в Магдебурге; с 1849 г. депутат прусской палаты, в которой он вел упорную борьбу против конституционализма и за восстановление средневековых дворянских привилегий; выступал против войны 1866 г. с Австрией, протип исключения ее из Германского союза и против ликвидации мелких немецких княжеств; младший брат Леопольда Герлаха. Ладенберг, Адальберт фон (1798–1855) — прусский государственный деятель, сотрудник Эйххорна, в 1848–1850 гг. министр вероисповеданий, просвещения и медицины.
Техен (Techen) — сведений об этой фигуре найти не удалось.
… Хотя Фридрих Вильгельм /V присягнул конституции, учредившей две палаты еще 6 февраля /850 года, только при Вильгельме Людвиге, его наследнике, то есть при государе, который и в наши дни занимает трон, Палата господ и Палата представителей начали действовать. — Конституция 1850 г. уничтожала даже ограниченные завоевания революции 1848–1849 гг. в Пруссии и восстанавливала там в полном объеме королевский абсолютизм. В соответствии с этой конституцией в Пруссии должен был действовать ландтаг, состоявший из двух палат: верхней палаты и палаты депутатов. В первую входили: I) принцы королевского дома, представители главных дворянских родов, обер-бургомистры городов и представители университетов; 2) лица, пожизненно назначаемые королем; 3) 120 выборных лиц из числа наиболее крупных налогоплательщиков. В 1854–1855 гг. этот порядок был изменен и вся верхняя палата, с тех пор именовавшаяся Палатой господ, стала состоять из пожизненно назначаемых королем членов. Палата депутатов избиралась по трехклассной цензовой системе (существовавшей до 1918 г.), которая обеспечивала большинство мест наиболее крупным налогоплательщикам. За палатами сохранилось право принимать законы, утверждать бюджет и налоги. Господствующей силой в Ландтаге и в стране являлась прусская земельная аристократия. Конституция 1850 г. просуществовала до падения монархии в 1918 г.
Однако утверждение Дюма, что прусские палаты начали действовать только в царствование Вильгельма I (речь идет именно о нем: его полное имя было Вильгельм Фридрих Людвиг), не точно. Они работали в 50-е гг. в царствование Фридриха Вильгельма IV, хотя тогда нижняя палата обладала фактически лишь совещательными функциями. Вероятно, Дюма имеет в виду активное вмешательство нижней прусской палаты в политику — отказ голосовать за кредиты на военную реформу в 1859–1866 гг… Такое действительно имело место во времена регентства, а затем царствования Вильгельма I.
… Эта лига явила на свет знаменитую ассоциацию, названную, конечно иносказательно, «Патриотический союз» и имевшую целью отмену конституции. — Вероятно, Дюма имеет в виду организованный 15–16 сентября 1859 г. во Франкфурте-на-Май не немецкий Национальный союз. В эту новую политическую организацию правоцентристского толка вошли либеральные деятели и поправевшие участники демократического движения. Она представляла интересы немецких промышленников и торговцев, а также лиц свободных профессий. Политическими требованиями Союза были: единство Германии под главенством Пруссии и при исключении Австрии, реформа конституции Германского союза. Союз призывал Пруссию активно вести в этом направлении внешнюю политику и предлагал доверить руководство ею Бисмарку, кандидатура которого на высшие посты в государстве не раз обсуждалась в 50-х гг. в придворных кругах. Хотя Союз был обшенемецким, большинство его членов (8 тыс. из 15 тыс.) было пруссаками. После Австро-прусской войны 1866 г. и образования Ссвсрогерманского союза, кош цели Национального союза были в основном достигнуты, он заявил о своем самороспуске (это произошло 11 ноября 1867 г.).
… Тогда-то и появился в Кёнигсберге в качестве первого председателя граф Эдмунд фон Бёзеверк… — Бисмарк появился на политической сцене в 1847 г. в Берлине, когда в Соединенном ландтаге он резко выступил в защиту королевского абсолютизма и интересов прусского юнкерства. Уже тогда он был тесно связан с кругами наиболее реакционных консерваторов-юнкеров, объединившихся вокруг «Крестовой газеты».
Кёнигсберг — в XIX в. главный город, порт и крепость в провинции Восточная Пруссия, при впадении реки П ре гель в залив Фриш-Гаф (ныне Калининградский) Балтийского моря; основан тевтонскими рыцарями в 1255 г.; с 1457 г. столица ордена; в 1525–1618 гг. резиденция прусских герцогов, в дальнейшем традиционное место коронования прусских королей; в XVIII–XIX вв. один из интеллектуальных центров Германии, известный своим университетом; после Второй мировой войны — город Калининград в составе России. Первый председатель (оберпрезидент) — глава администрации провинции в Пруссии. (Отметим, что Бисмарк в Кёнигсберге никогда не служил.)
… довелось услышать во время моей последней поездки во Франкфурт. — Имеется в виду Франкфурт-на-Майне — один из крупнейших городов Западной Германии; расположен в земле Гессен, на реке Майн, в 30 км от места ее слияния с Рейном; известен с VIII в., был императорской резиденцией; уже в средние века славился своими ярмарками и являлся важнейшим финансовым и коммерческим центром; до 1806 г. был вольным имперским городом, а в 1806 г. Наполеон превратил его в столицу Великого герцогства Франкфуртского; в 1815–1866 гг. — вольный город, местопребывание сейма Германского союза; в 1866 г. вошел в состав Пруссии. Дюма вспоминает здесь о своей короткой поездке в Германию весной 1867 г.: 6 марта он выехал из Парижа, 7-го прибыл во Франкфурт и, посетив Садову и Лангензальцу, 12 марта вернулся во Францию.
… Один померанский генерал… Померания — это немецкая Беотия… — Померания — в XVII–XX вв. прусская провинция на южном берегу Балтийского моря; район преимущественно сельскохозяйственного производства с преобладанием крупного помещичьего землевладения; название получила от группы западнославянских племен — поморян, завоеванных и онемеченных германскими феодалами. Ныне большая часть Померании (Поморье) входит в состав Польши, меньшая — Германии. В Померании находились родовые поместья семейства Бисмарков.
Беотия — в древности одна из самых значительных областей в Средней Греции, пограничная с Аттикой; там, как и в Померании, преобладающую роль играло сельскохозяйственное производство, которое базировалось на плодородных землях; афиняне считали беотийцев грубыми, мужиковатыми и неуклюжими людьми.
… стоя с гарнизоном в Дармштадте, скучал… — Дармштадт — город в Западной Германии, в 35 км юго-западнее Франкфурта; известен с XI в.; столица Великого герцогства Гессен-Дармштадт; в XIX–XX вв. — крупный культурный и научный центр; в 1866 г. вошел в состав Пруссии; ныне — в земле Гессен.
27… занимал должность атташе посольства во Франкфурте и звался просто Эдмундом фон Бёзеверком. — Во Франкфурте заседал союзный сейм Германского союза — представительный орган входивших в него государств.
Бисмарк в 1851 г. получил назначение сначала советником, затем посланником Пруссии при Союзном сейме во Франкфурте и оставался там до 1859 г. Графский титул он получил в 1865 г. после успешного окончания войны с Данией.
… сделал остановку в вольном городеt собираясь провести смотр гарнизона Майнца… — Вольными имперскими городами в средневековой Германии назывались города, непосредственно являвшиеся членами Священной Римской империи и подчинявшиеся прямо императору. По своему положению они приближались к независимым городским республикам и пользовались правами самоуправления и высшего суда, чеканки монеты, заключения внешних договоров, содержания войска и др.
Майнц — город в Германии, на левом берегу Рейна, близ впадения в него реки Майн (земля Рейнланд-Пфальц); в средние века — центр Майнцского курфюршества; возглавлял Рейнский союз городов; в 1797 г. был присоединен к Франции; с 1816 г. находился в составе Великого герцогства Гессен-Дармштадт; в 1866 г. вошел в состав Пруссии.
… События 1858 года ввергли короля в весьма затруднительное положение, и он подумал, что лишь тот человек, который спас его честь тогда в Майнце, теперь может спасти его корону в Берлине. — Год 1858-й ознаменовался в Пруссии серьезным усилением болезни Фридриха Вильгельма IV (он страдал размягчением мозга), приведшем к его полному умопомешательству, в это же время обострились отношения между реакционной правящей феодальной кликой и либералами. В связи с этим кризисом кронпринц Вильгельм потребовал предоставления ему руководства страной и 7 октября 1858 г. в качестве регента государства взял в свои руки управление. Королем здесь назван, по-видимому, принц-регент Вильгельм, уже пользовавшийся тогда королевскими прерогативами.
Однако Бисмарк был призван к власти позже. На проведенных в конце 1858 г. выборах партия консерваторов, которая, собственно, и призвала Вильгельма, чтобы сохранить свою власть, потерпела поражение. Выборы 1861 г. принесли еще более полную победу организовавшейся в том же году либерально-буржуазной Прогрессистской партии. Она выдвинула программу реформ, которые должны были обеспечить правление буржуазии и парламентского режима. В это же время разыгрывался конституционный конфликт (см. примеч. к с. 8) между правительством и нижней палатой по поводу военной реформы. В этих условиях принц Вильгельм, который стал в 1861 г. королем, передал пост главы правительства Бисмарку, тесно связанному с крайними консерваторами и зарекомендовавшему себя стойким монархистом и сторонником объединения Германии под главенством Пруссии.
… граф фон Бёзеверк стал тогда главой Junker Partei, взгляды которой выражала «Крестовая газета». — То есть главой юнкерской партии — реакционеров, управлявших в то время Пруссией. Юнкеры — название в Германии крупных землевладельцев-дво-рян, которые вели в сер. XIX в. хозяйство еще полуфеодальными методами и пользовались до 60-х гг. монополией на власть. В Пруссии цитаделью юнкерства были ее восточные провинции. «Крестовая газета» — см. примем, к с. 10.
… бросил застывшей в оцепенении Палате слова, которые не только подводили итог всей его политике, но были и следствием ее: «Сила выше права!» — Эти слова (другой вариант русского перевода их: «Сила преобладает над правом!») при обсуждении вопроса о назначении Бисмарка произнес граф Максимилиан фон Шверин (1804–1872), представитель дворянства и бюрократии, министр внутренних дел Пруссии в 1859–1862 гг. Король был так напуган победой либералов на выборах и отказом Палаты вотировать кредиты на военную реформу, что готов был отказаться от престола. Однако Бисмарк заявил, что согласен управлять без парламентского большинства и без утвержденного им бюджета и что при конфликте побеждает сильнейший. Этот принцип и был сформулирован Шверином в приведенных выше словах.
… выше правосудия, справедливости — того, за что человечество борется вот уже шесть тысяч лет и что Франция завоевала только 4 августа 1789года. — На заседании французского Учредительного собрания в ночь с 4 на 5 августа, получившей название «ночи чудес», представители либеральной аристократии, испуганные крестьянским движением в стране, внесли предложение об отказе от феодальных прав дворянства. Окончательное решение об отмене т. н. «личных», второстепенных прав было принято Собранием 11 августа. Главные феодальные права, связанные с платежами крестьян сеньорам (подати, пошлины при продаже и наследовании земельного владения, церковная десятина и др.), подлежали отмене только за выкуп. С этим первым реальным ударом, нанесенным феодализму, связана дальнейшая его гибель во Франции, а также попытка осуществления в этой стране основных идей Революции — Свободы, Равенства и Братства.
… Франция… стала знаменем наций, символическим светочем человеческого разума на пути к прогрессу — столпом облачным днем и столпом огненным ночью. — Здесь использован библейский образ, связанный с эпизодом исхода евреев из Египта: «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью» (Исход, 13:21).
… Венские договоры как раз и доказали бесполезность принятых против нее предосторожностей. Францию не ослабишь, ее только разгневаешь. — Имеются в виду решения Венского конгресса 1815 г., на котором монархи держав-союзниц по анти наполеоновским коалициям решали вопросы устройства послевоенной Европы. По решениям этого конгресса Франция была сведена к границам 1792 г., на ее северных и восточных рубежах были созданы или усилены буферные государства в качестве гарантии против возможной в будушсм французской агрессии, а часть французской территории была на несколько лет оккупирована союзниками.
… Вильгельм I, союзник Виктора Эммануила, — тот самый человек, кто после битвы у Новары через прусского генерала Виллизена поахал похвалы Радецкому, палачу Милана. — Виктор Эммануил II (1820–1878) — король Сардинский с 1849 г.; происходил из Савойской династии; с большим дипломатическим искусством, используя международные противоречия, династические войны и национально-освободительное и революционное движения, осуществил в 1859–1870 гг. объединение Италии, королем которой он стал в 1861 г.
В число союзников Вильгельма король Виктор Эммануил вошел 8 апреля 1866 г., когда между Сардинией и Пруссией был подписан в Берлине договор о войне против Австрии.
Виллизсн, Фридрих Адольф (1798–1864) — прусский генерал, принимавший участие в подавлении революционного и национально-освободительного движения в Италии в 1848–1849 гг.; прусский посол в Италии (1862–1864).
Новара — город в Северной Италии, административный центр одноименной провинции. 23 марта 1849 г., в ходе Австро-итальянской войны 1848–1849 гг. и во время революции 1848–1849 гг. в Италии, у Новары произошло сражение, в котором участвовали 47 тыс. пьемонтцев и три австрийских корпуса обшей численностью в 45 тыс. человек под командованием Радецкого. После ожесточенной схватки пьемонтцы были наголову разбиты и в полном беспорядке бежали. Побежденная сторона по условиям мира выплатила Австрии огромную контрибуцию. Поражение при Новаре открыло дорогу к подавлению итальянской революции.
Радецкий, Йозеф, граф фон (1766–1858) — австрийский фельдмаршал, участник войн с Турцией и с республиканской и наполеоновской Францией; с 1831 г. командовал австрийской армией в Италии, где зарекомендовал себя как холодный и суровый реакционер; в 1848–1849 гг. жестоко подавлял итальянское революционное и национально-освободительное движение; затем был назначен генерал-губернатором австрийских владений в Италии — т. н. Ломбардо-Венецианского королевства, где жестокими мерами «наводил порядок». Милан — старинный город на севере Италии, центр Ломбардии; в средние века — городская республика и столица самостоятельного герцогства; в 1525 г. попал под власть Австрии; с 1797 г. стал столицей зависимых от Франции Цизальпинской и Итальянской республик и Итальянского королевства (с перерывом в 1799–1800 гг., когда он был занят русско-австрийскими войсками); с 1815 г. снова попал под австрийское иго; в 1859 г. вошел в состав Сардинского, а в 1861 г. — единого Итальянского королевства.
18 марта 1848 г. в Милане началось революционное народное восстание против австрийского господства. Австрийские войска, брошенные по приказанию Радецкого на восставших, 23 марта были вынуждены покинуть город. Отступая, австрийцы убивали женщин и детей и выжигали целые кварталы.
… как увязать прусское невежество со знаменитой системой обязательного образования? — В XIX в. Пруссия занимала одно из первых мест в Европе по начальному народному образованию, которое было обязательно для детей начиная с шестилетнего возраста.
В стране существовала развитая сел» начальных и средних государственных и частных народных школ, много было также общеобразовательных средних школ (гимназий, прогимназий, реальных училищ и др.), неплохо было развито и среднее специальное образование. По мнению фельдмаршала Мольткс, своими военными успехами в XIX в. Пруссия была обязана высокому уровню народного образования («При Садове победил школьный учитель»).
… Junker Раrtei состоит из младших сыновей дворянских семей; они вынуждены зарабатывать на жизнь… — Это утверждение не совсем точно. В консервативном лагере Пруссии в сер. XIX в. тон задавала крупная земельная аристократия (к которой принадлежал и Бисмарк). В конце столетия к ней присоединилась промышленная буржуазия. Разумеется, политических консерваторов всецело поддерживало офицерство и чиновничество, вербовавшееся в огромном большинстве из дворян.
Младшим сыновьям дворянских семей приходилось, как говорится, «зарабатывать на жизнь», поскольку в Пруссии, как и почти во всей Западной Европе, существовала система майоратов. При ней наследственное имущество дворянской семьи переходило почти исключительно к старшему сыну.
… большая часть членов либеральной и прогрессистской фракции Палаты представителей в отношении своего положения и своих должностей зависит от правительства. — Прогрессисте кая партия («Германская прогрессивная партия») — буржуазно-либеральная партия, организовавшаяся в 1861 г. Прогрессисты провозгласили свою верность прусской конституции, требовали объединения Германии под главенством Пруссии, подчеркивали свой национализм, но выдвигали и требования либеральных реформ. В Ландтаге прогрессисты находились в оппозиции к правительству, но эта оппозиция ограничивалась лишь парламентскими выступлениями и отказами в кредитах (т. к. в 1861–1866 г. прогрессисты имели там большинство). После победы над Австрией в 1866 г. и изменения настроений прусской буржуазии произошел раскол в партии — из нее вышло ее правое крыло. В 1889 г. прогрессисты вошли в Немецкую свободомыслящую партию. Все названные ниже политики входили в партию прогрессистов.
… Так обстоит дело с Вальде ком, называемым крестьянским королем; Гаркортом, раненным у Линьи; Шульце-Деличем — родоначальником кооперативных обществ; Якоби — известным памфлетистом; Вирховым — знаменитым профессором-медиком, и с Гнейстом — лучшим оратором партии. — Вальде к, Бенедикт Франц Лео (1802–1870) — немецкий политический деятель, один из лидеров буржуазных радикалов и Прогрессистской партии, по профессии юрист, участник революции 1848–1849 гг., многолетний депутат прусского ландтага, в котором он находился в оппозиции правительству.
Гаркорт, Фридрих Вильгельм (1793–1880) — немецкий промышленник и политический деятель, с 1848 г. депутат прусского ландтага (где он примыкал к прогрессистам), сейма Северогерманского союза и германского рейхстага.
Линьи — селение в Бельгии, у которого 16 июня 1815 г., во время войны с седьмой коалицией, Наполеон одержал последнюю свою победу — над прусско-саксонской армией.
Шульцс-Дслич, Герман (1808–1883) — немецкий экономист и политический деятель; сторонник объединения Германии под главенством Пруссии, один из создателей Национального союза; в 60-х гг. был в числе лидеров прогрессистов, пытался отвлечь рабочих от революционной борьбы путем организации кооперативных обществ. Якоби, Иоганн (1805–1877) — немецкий публицист и политический деятель, по профессии врач, автор политических памфлетов против прусской монархии; в 1848 г. один из руководителей левого крыла в прусском Учредительном собрании; в начале 60-х гг. примкнул к прогрессистам; был противником политики объединения Германии путем династических войн, за что подвергся заключению; в 1872 г. примкнул к Социал-демократической партии. Вирхов, Рудольф (1821–1902) — видный немецкий врач и ученый (основатель клеточной патологии), профессор Берлинского университета; в 60-х гг. XIX в. один из лидеров прогрессистов; выступал против политики Бисмарка, расходясь с ним, однако, лишь в тактических вопросах; в 1871 г. открыто перешел на позиции реакции и клерикализма.
Гнейст, Генрих Рудольф Герман Фридрих (1816–1895) — немецкий юрист и политический деятель, профессор Берлинского университета, член прусской палаты депутатов (с 1858 г.) и германского рейхстага (с 1868 г.); в начале 60-х гг. представитель либеральной оппозиции, с 1866 г. национал-либерал.
… председатель Грабов, приглашенный на концерт в королевский дворец… — Грабов, Вильгельм (1802–1874) — прусский политический деятель, умеренный либерал, в 1848 г. председатель прусского Национального собрания, принадлежавший к его правому крылу; заместитель председателя (1850–1861) и председатель (1862–1866) прусской палаты депутатов.
… почему же так падает нравственное чувство в Пруссии и даже в прочих тевтонских землях? — Тевтоны — группа германских племен, вторгшихся во II в. до н. э во владения Древнего Рима. В новое время — название немцев вообще в художественной литературе и публицистике.
… началось нравственное падение Германии и ее превращение из Минервы в Палладу, то есть из богини Науки и Мудрости в богиню Войны. — Минерва (гр. Афина Паллада) — в античной мифологии богиня-воительница и девственница, покровительница мудрости и женских ремесел.
Здесь имеется в виду засилье реакции бюрократизма и военщины, распространившееся на всю Германию после того, как Пруссия заняла в ней господствующее положение.
… не подумайте, что он наградил его большим крестом «За заслуги». — Прусский орден «Зазаслуги» (официально он назывался по-французски: «Pour le merite») был основан в курфюршестве Бранденбург в 1665 г. как офицерский; в нач. XVIII в. был забыт, но в 1740 г. восстановлен в Пруссии как награда за военные и гражданские заслуги; в 1810–1842 гг. жаловался только за подвиги на войне. Знак ордена — черный мальтийский кресте золотыми орлами по углам, носимый на черной ленте; особые его знаки — серебряные полосы на ленте, а также дубовые листья на ленте и звезде высшей степени ордена.
… Что касается репутации Берлинского университета, то она заимствованная… — Берлинский университет, основанный в 1809 г., постоянно имел в числе своих профессоров ряд выдающихся ученых Германии; с университетом связана обсерватория и ряд научно-исследовательских институтов.
… Даже Коперник, которым пруссаки так гордятся, родился в Торне, когда этот город принадлежал еще Тевтонскому ордену. — Коперник, Николай (1473–1543) — польский астроном, выдающийся деятель эпохи Возрождения, создатель гелиоцентрической системы мира; в 1491–1494 гг. учился в Краковском, Болонском и Падуанском университетах, где изучал астрономию, право, медицину; с 1497 г. был каноником Вармийской епархии; в 1520–1521 гг. участвовал в войне с Тевтонским орденом, был одним из руководителей обороны города Фромборка и докладчиком на сейме, созванном после заключения перемирия.
Торн (польск. Торунь) — город в северной части Польши, центр Торуньского воеводства; основанный рыцарями Тевтонского ордена (см. примеч. кс. 21) в 1231 г., стал важнейшим торговым центром; в 1411 г. перешел под власть Польши; по второму разделу Польши оказался в составе Пруссии (1793); в 1806 г. вошел в Великое герцогство Варшавское, а в 1815 г. снова стал принадлежать Пруссии; с 1919 г. принадлежит Польше.
… В начале XVII века Силезия стала родиной поэтов: Опица, Грифиуса и Гофмансвальдау. — Силезия — историческая область в верхнем течении реки Одра (нем. Одер), ныне находящаяся на территории Польши и Чехии; в I тыс. была заселена западнославянскими племенами; в 990 г. вошла в состав Польши, с XIV в. — в составе Чехии; подвергалась активной немецкой колонизации; в 1740–1742 гг. большая ее часть была захвачена Пруссией; в средние века — одна из самых экономически развитых областей Средней Европы и до 70-х гг. XIX в. основной горнорудный район Пруссии; после 1921 г. снова вошла в состав Польши.
Опиц, Мартин (1597–1639) — немецкий поэт и теоретик литературы; родился в Силезии, в городе Бунцлау (ныне Болеславец в Польше); был также педагогом и дипломатом на польской службе; автор стихов и поэм, пользовавшихся большим успехом; заложил основы немецкого классицизма, отстаивал чистоту немецкого литературного языка.
Грифиус, Андреас (1616–1664) — немецкий поэт и драматург, сын пастора; родился в Силезии, в городе Глогау (ныне Глогув в Польше); частично писал на местном диалекте, а также по-латински и по-немецки; стихи его полны пессимизма, навеянного разорением Германии во время Тридцатилетней войны (1618–1648); с середины 40-х гг. писал преимущественно исторические трагедии в стиле барокко, полные сценических эффектов и трактовавшие этические и политические вопросы современности.
Гофмансвальдау, Христиан Гофман фон (1617–1679) — немецкий поэт, родившийся в Силезии, в городе Бреслау (ныне Вроцлав в Польше); представитель аристократической прециозной литературы, довел до предела тенденции поэтического жеманства, напыщенность языка и вычурность стиля; в своих стихах печалился о бренности всего земного.
… В /74/ году пруссаки захватили тот край и очень скоро о себе заявил литературный голод. — Пруссия захватила Силезию в 1740–1741 гг. в результате вероломного вторжения во владения Австрийской монархии. Эта операция была частью общеевропейской войны за Австрийское наследство (1740–1748) между Австрией, Англией, Нидерландами и Россией с одной стороны, и Францией, Пруссией, Испанией и рядом германских и итальянских государств — с другой. Война велась за наследственные земли австрийской династии Габсбургов после смерти в 1740 г. императора Карла VI, не оставившего мужского потомства (поэтому, с точки зрения феодального права, они считались выморочными), а также за торговое, морское и колониальное первенство. Австрия уже в 1742 г. заключила мир с Пруссией ценой уступки ей Силезии. Однако в 1744 г. король Фридрих II (см. примеч. к с. 9) снова начал военные действия, и мир 1745 г. подтвердил уступку ему Силезии.
… Среди великих писателей, ученых, философов и поэтов есть всего два пруссака: Гумбольдт, который в течение всей своей жизни не осмеливался высказать все, что он думал о Фридрихе Вильгельме и о Пруссии, но в переписке, опубликованной Варнхагеном, сказал нам об этом после своей смерти; и Кант, который провел жизнь в своем небольшом городке Кёнигсберге, подальше от королевских милостей. — Варнхаген (Фарнгаген) фон Энзе, Карл Август (1785–1858) — немецкий писатель и литературный критик либерального направления; участник войн 1809 и 1813–1814 гг. против Наполеона; некоторое время был на прусской дипломатической службе.
В I860 г. немецкая писательница Людмила Ассинг (1821–1880), племянница Варнхагена, издала его переписку с Гумбольдтом (см. примеч. к с. 22), вышедшую в Лейпциге под названием «Письма Александра фон Гумбольдта Варнхагену фон Энзе в 1827–1858 годах» («Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den Jahren 1827 bis 1858»).
Кант, Иммануил (1724–1804) — великий немецкий философ-идеалист, родоначальник немецкой классической философии; в 1755—
1770 гг. — доцент, в 1770–1796 гг. — профессор Кёнигсбергского университета.
… У них, конечно, еще есть и Гейне, но Гейне родился в Дюссельдорфе… — Гейне, Генрих (1797–1856) — великий немецкий революционный поэт, поэзия которого прочно связана с идеями демократии и социального освобождения, с критикой реакционных порядков в Германии; с 1831 г. жил в эмиграции во Франции; глубоко страдал от разлуки с родиной.
Дюссельдорф — промышленный город в Западной Германии, порт на Рейне, ныне административный центр земли Северный Рейн-Вестфалия; впервые упоминается в XII в.; в кон. XIII в. получил права города; со второй пол. XIV в. — резиденция графов и герцогов Берга; с XVII в. — во владении курфюршества Пфальц, Франции, Баварии; в 1805–1815 гг. столица вассального наполеоновского Великого герцогства Берг; с 1815 г. находился во владении Пруссии.
… в свои двадцать пять лет став изгнанником, провел двадцать два года среди своих новых сограждан… — Гейне уехал во Францию в возрасте 34 лет и умер в Париже, проведя в эмиграции 25 лет.
… Вилаiid, Лессинг, Гёте, Шиллер, Иффланд, Коцебу, Герстенберг, Грильпарцер, Гейнзе, Клоп шток, Новалис, Штольберг, Фосс, Хебель, Пфеффель, Геллерт, Кернер, Уланд, Анастазиус Грюн, Ленау, Плотен, Клаудиус, Гейне… — Виланд, Христоф Мартин (1733–1813) — немецкий писатель, поэт, переводчик; сторонник просвещенного абсолютизма; создал легкую, живую литературную форму.
Лессинг, Готхольд Эфраим (1729–1781) — немецкий драматург, теоретик искусства, литературный критик, просветитель; один из основоположников немецкой классической литературы.
Гёте, Иоганн Вольфганг (1749–1832) — великий немецкий поэт, писатель и мыслитель, основоположник немецкой литературы нового времени.
Шиллер — см. примеч. к с. II.
Иффланд, Август Вильгельм (1759–1814) — немецкий театральный деятель, актер и драматург; написал несколько сочинений мемуарного и теоретического характера о театральном искусстве и несколько драм, проникнутых мещанской моралью и сентиментальностью (стиль их стал называться «иффпандизмом»).
Коцебу, Август Фридрих Фердинанд (1761–1819) — немецкий романист, драматург и театральный деятель, руководивший в течение ряда лет немецким театром в Петербурге; монархист и реакционер, противник Французской революции; из ненависти к немецким либералам, симпатизировавшим Наполеону I, он согласился вести шпионскую деятельность в пользу России, за что, согласно одной из версий, его и убил в марте 1819 г. немецкий студент-богослов из Эрлангена Карл Людвиг Занд (1795–1820), казненный несколько месяцев спустя. Герстенберг, Генрих Вильгельм фон (1737–1823) — немецкий писатель и критик, один из предшественников поэзии «Бури и натиски»; способствовал своими произведениями продолжению канонов классицизма; познакомил немецкого читателя с мифологией и литературой Древней Скандинавии.
Грильпарцер, Франц (1791–1872) — австрийский писатель; автор стихов, эпиграмм, романтических новелл; прославился как драматург, в его пьесах переплетаются элементы романтизма, классицизма и реализма; до 1848 г. находился в оппозиции, но после революции 1848–1849 гг. поменял свои взгляды на консервативные. Гейнзе (Хейнзе), Иоганн Якоб Вильгельм (1746–1803) — немецкий романист и поэт, предшественник романтизма, провозглашавший культ земной жизни и красоты.
Клопшток, Фридрих Готлиб (1724–1803) — немецкий поэт и драматург; осуждал зависимость мелких немецких князей от иностранных дворов, мечтал о единстве Германии; приветствовал Французскую революцию.
Новалис (настоящее имя Фридрих, барон фон Харденберг; 1772–1801) — немецкий прозаик и поэт; автор философских повестей. Штольберг, Кристиан, граф фон (1748–1821) — немецкий поэт, сформировавшийся под влиянием Клопштока; автор лирических стихов и баллад, а также драм с хорами.
Известен также был Штольберг, Фридрих Леопольд, граф фон (1750–1819) — брат предыдущего, немецкий поэт, историк религии и переводчик; в юношеских стихах воспевал героическое прошлое Германии, затем порвал с вольнолюбивыми настроениями и выступал с нападками на Французскую революцию, выражая дух реакционного дворянства.
Фосс, Иоганн Генрих (1751–1826) — немецкий поэт и автор памфлетов против реакционных тенденций в литературе, принадлежавший к радикально-демократическому литературному крылу Германии; приветствовал Французскую революцию; в его сентиментальных стихах, воспевающих деревню, звучат мотивы социального протеста. Хебель, Иоганн Петер (1760–1826) — немецкий поэт и писатель; продолжал традиции короткого рассказа и сентиментальных стихов, воспевающих сельскую жизнь и сочувствующих социальным низам; черпал свои сюжеты из фольклорных источников. Пфеффель, Готлиб Конрад (1736–1809) — немецкий поэт и писатель, родом из Эльзаса; автор басен, нравоучительных рассказов и романов; был слеп.
Гсллерт, Христиан Фюрхтеготт(1715–1769) — немецкий поэт и писатель, просветитель; автор курса лекций на моральные темы, стихов и комедий.
Кернер — см. примеч. к с. 13.
Уланд, Людвиг (1787–1862) — немецкий поэт-романтик, исследователь литературы, один из создателей германистики; придерживался демократических взглядов, был одним из основоположников политической лирики; в 1819–1826 гг. и в 1832–1838 гг. входил в число лидеров либерально-демократической оппозиции в вюртембергском ландтаге; многие его стихи положены на музыку известными композиторами.
Анастазиус Грюн — литературный псевдоним австрийского писателя и политического деятеля Антона Александра, графа фон Ауэрсперга (1806–1876), который начал литературную деятельность как новеллист, затем обратился к поэзии в духе романтизма; как представитель либерализма выступал против политики Габсбургов и реакционного пруссачества, приветствовал революцию 1848–1849 гг. Ленау, Николаус (настоящее имя — Франц Нимбш Эдлер фон Штреленау; 1802–1850) — австрийский поэт-романтик, происходивший из обедневшей дворянской семьи; придерживался демократических взглядов, хотя был захвачен т. н. «мировой скорбью» — социальным пессимизмом, который толкал его и на жалобы, и на социальный протест; приветствовал польское национальное восстание 1831 г.; с 1844 г. страдал душевной болезнью. Платен, Карл Август, граф фон Платен-Халлермюнде (1796–1835) — немецкий поэт, в начале своего творческого пути — романтик, затем обратился к античности и классицизму; в его лирике отразились пессимизм и философские раздумья; исповедовал либеральные взгляды; приветствовал польское восстание; по мнению некоторых исследователей, был создателем немецкой политической лирики.
Клаудиус, Маттиас (1740–1815) — немецкий поэт-лирик и публицист, выступавший под псевдонимами Асмус, Вансбенер, Бете; как просветитель обличал пороки феодализма, но при этом осуждал Французскую революцию; в конце жизни склонился к мистицизму. Гейне — см. примеч. выше.
… Весь период правления Вильгельма I, протянувшийся от начала 1862 года до войны в Дании… — См. примеч. к с. 8.
…в это же время втайне занимались реорганизацией армии. — Военная реформа в Пруссии начала проводиться с 1859 г., вслед за приходом к власти принца-регента Вильгельма и после того как мобилизация, предпринятая в связи с Австро-итапо-французской войной 1859 г., выявила принципиальные недостатки прусской военной системы. В целом преобразования были завершены к 1866 г. и заключались в следующем: более полно стала проводиться всеобщая воинская повинность, за счет чего значительно увеличилась армия; мобилизованные в 1859 г. ландверные полки были переформированы в линейные и оставлены в действующей армии, что также увеличило ее силу; произошло перераспределение контингентов военнообязанных между воинскими разрядами (действительная служба, резерв, ландвер и др.) и сократились сроки пребывания в них; были усилены артиллерия и кавалерия, улучшено коневодство; армия была перевооружена и получила лучшую для того времени нарезную полевую пушку и заряжающуюся с казенной части винтовку; обучение солдат было приближено к боевым условиям; были разработаны новые тактические приемы и значительно улучшена подготовка офицеров; генеральный штаб стал разрабатывать планы с учетом достижений техники, развития железных дорог.
… некий депутат… сказал… На какой-то срок даже невозможное бывает возможным. Но не забывайте, что всему есть срок! — Выяснить, кому принадлежат эти слова, не удалось.
… как бы значительны ни были события, происходившие тогда от Китая до Мексики, глаза всей Европы не отрывались от него. — В Китае в 50-60-х гг. XIX в. развертывались события, положившие конец вековой изоляции этой страны и начало превращению ее в полуколонию европейских государств. В 1856 г. Англия, желая расширить свои торговые права в Китае, спровоцировала инцидент в порту Кантон и начала войну, получившую в истории название Второй Опиумной (1856–1860), т. к. одним из требований английских купцов был свободный ввоз опиума в Китай из Индии. В 1857 г. к ней присоединилась Франция, использовав в качестве предлога совершенное когда-то в Китае убийство европейского миссионера, даже имя которого было неизвестно. Китайская армия была разбита, союзники угрожали Пекину. В войне участвовали также американские силы, хотя США официально были с Китаем в мире. В результате в 1858 г. Англия, США и Франция подписали с Китаем в городе Тяньцзине договоры, по которым Китай открывал для европейской и американской торговли ряд портов, предоставлял европейским и американским купцам право свободного плавания по реке Янцзы и передвижения по своей территории. Союзники получали контрибуцию и право создать ряд военных опорных и торговых пунктов в приморских китайских землях. Присоединившаяся к переговорам Россия получила устье Амура, левый берег этой реки и право морской торговли с Китаем.
Однако в 1860 г. Англия и Франция, не удовлетворенные Тянь-цзинскими договорами, начали новую войну. Союзники заняли Пекин, варварски разграбив и разрушив при этом императорские дворцы. В 1861 г. Китай был принужден подписать новый договор, расширявший условия Тяньцзинекого. Аналогичные соглашения были подписаны с США и несколькими европейскими странами (Пруссией, Испанией, Нидерландами и др.). Американцы фактически восстановили работорговлю, получив право вербовки и вывоза китайских рабочих. Россия же получила Уссурийскую область. Помимо того, в Южном Китае с 1850 г. шла гражданская война — антифеодальное, восновном крестьянское, восстаниетайпинов. Тайпины создали свое государство, наносили поражения императорским войскам и даже угрожали Пекину; они выступили и против закреплявшихся в Китае европейских колонизаторов. Одновременно в Китае происходили и другие восстания —‘как самих китайцев, так и народов, покоренных китайскими императорами. Европейцы вмешались в эту борьбу в 1862–1864 гг.; они оказали китайским правительственным войскам помощь оружием, офицерами и добровольческими отрядами, вследствие чего к 1866 г. тайпины были уничтожены. В Мексике же в это время происходило следующее. В результате т. н. Мексиканской экспедиции 1861–1863 гг. — колониальной авантюры, затеянной Наполеоном III, — французская армия вторглась в Мексику; страна была занята иноземными войсками (впрочем, полный контроль над всей территорией установить им так и не удалось), законное республиканское правительство было свергнуто и назначенное оккупационными властями т. н. «собрание нотаблей» в 1863 г. провозгласило Мексику империей, а на ее трон призвало австрийского эрцгерцога Максимилиана Габсбурга (1832–1867), младшего брата императора Франца Иосифа. Эрцгерцог, даровитый писатель и неисправимый романтик, почитатель одновременно германского императора Карла V (1500–1558; правил в 1519–1556 гг.) и Наполеона I, желавший быть государем сразу и Божьей милостью, ведь именно Карл V, предок Максимилиана, в качестве испанского короля (1516–1556) присоединил Мексику к своим владениям, и по воле народа (по примеру Наполеона III Максимилиан потребовал проведения референдума о призвании его на престол, и эта пародия на народное волеизъявление состоялась под угрозой французского оружия и с явной фальсификацией результатов голосования), принял приглашение «нотаблей» и в 1864 г. прибыл в Мексику. Однако в начале 1867 г. из-за давления со стороны США и общественного недовольства в собственной стране 40-тысячный французский экспедиционный корпус был отозван на родину, и Максимилиан, оказавшийся не в силах со своей слабой и не желавшей воевать армией сопротивляться войскам республиканцев, которые не складывали оружия весь период оккупации, потерпел поражение, был арестован, судим военным судом и расстрелян.
… Молодые дипломаты, признававшиеся самим себе, что они не дотягивают до силы Талеиранов, Меттернихов и Нессельроде, изучали его деятельность… — Талейран-Перигор, Шарль Морис (1754–1838) — выдающийся французский дипломат, происходивший из старинной аристократической семьи; в 1788–1791 гг. епископ; член Учредительного собрания, присоединившийся к депутатам от буржуазии; министр иностранных дел в 1797–1799, 1799–1807, 1814–1815 гг.; получил от Наполеона титул князя Беневентского; посол в Лондоне в 1830–1834 гг.; был известен крайней политической беспринципностью, корыстолюбием и необычайным остроумием. Меттерних-Виннебург, Клеменс Венцель Лотар, князь (1773–1859) — австрийский государственный деятель и дипломат, один из столпов европейской реакции; посол в Дрездене (1801–1803), Берлине (1803–1805) и Париже (1805–1809); осенью 1809 г. пел переговоры о заключении мира с Францией, но, не достигнув успеха, вышел в отставку; с 1809 г. министр иностранных дел, фактически возглавлявший австрийское правительство; ориентировался на союзе Францией против России, но в 1813–1814 гг. выступил как один из руководителей очередной антифранцузской коалиции; в 1814–1815 гг. председательствовал на Венском конгрессе, определившем послевоенное устройство Европы; в 1815 г. был в числе организаторов Свящеиного союза европейских монархов для борьбы против революционных и национально-освободительных движений и либеральных идей; с 1821 г. канцлер Австрийской монархии; в 1848 г. был свергнут революцией и бежал в Англию; возвратился в 1850 г. и иногда выступал советником правительства, но к власти уже нс вернулся. Нессельроде, Карл Роберт, или Карл Васильевич (1780–1862) — граф, министр иностранных дел России (1816–1856); с 1812 г. находился при армии, исполняя различные дипломатические поручения; участник Венского конгресса 1814–1815 гг. и конгрессов Священного союза в Ахене, Троппау-Лайбахс и Вероне; с 1845 г. канцлер; в 1856 г. уволен в отставку; в своей дипломатической деятельности нс проявил себя как способный политик и был послушным исполнителем воли Николая I; поддерживая европейскую реакцию и ориентируясь на союз с Австрией и Пруссией, зачастую уступал им в ущерб интересам России.
… 1st es der Mann? — Этот вопрос (нем. «Это и есть Человек?») — намек на слова римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата: «Esse, homo» — «Сс, Человек» (Иоанн, 19: 5). С такими словами Пилат обратился к жителям Иерусалима, убеждая их в невиновности Христа. В современном немецком переводе Евангелия они звучат так: «Siehe, der Mensch!»
… Германия ждет своего освободителя, как евреи ждут Мессию. — Согласно религиозным представлениям иудаизма, в час тяжких бед и испытаний Израиля должен явиться праведный царь, выходец из дома Иессеева, помазанник (др. — евр. «машийах», арамейское «мешиха», грецизированное «мессия») Божий, который устроит судьбы избранного народа. В писаниях пророков богоизбранный царь постепенно превращается из политического руководителя во всечеловеческого примирителя, в Спасителя мира, искупившего грехи этого мира своей смертью (например, Исайя, 53: 8). Таким Мессией якобы и явился Иисус.
… если верить светловолосым германским поэтам. — Согласно распространенным представлениям, нашедшим отражение и в литературе, настоящий германец должен быть светловолосым.
… Послушайте, что говорит Гейне по этому поводу… — В тексте приведены заключительные фразы из книги Гейне «К истории религии и философии в Германии» («Zur Geschichte der Religion und Philosophic in Deutschland»; немецкое издание вышло в 1834 г., французское — в 1835 г.).
… вот что говорит со своей стороны Людвиг Б.… — Скорее всего, здесь имеется в виду Людвиг Бёрне (Лёб Барух; 1786–1837) — немецкий публицист и критик, представитель радикального крыла немецкой демократии; с 1822 г. жид в Париже; к концу жизни стал сторонником христианского социализма.
… Франция… одним ударом в три дня завершила дело трех веков… — Подразумевается Июльская революция 1830 года во Франции, продолжавшаяся три дня — 27, 28 и 29 июля.
… Победа над Шлезвиг-Гольштейном подвела его к вершине удачи… — Имеется в виду война Пруссии и Австрии с Данией в 1864 г. (см. примем, к с. 8.)
… новые осложнения, возникшие по поводу избрания герцога Августен-бургского, опять поставили под вопрос все… — О герцоге Августен-бургском см. примем, к с. 8.
… и охлаждение к себе Вильгельма I он отнес на смет вемного недружелюбия королевы по отношению к нему. — О королеве Августе см. примем, к с. 37.
… то же самое Провидение некогда допустило убийство Генриха IVи Густава Адольфа… — Генрих IV Бурбон (1553–1610) — король французский (он же Генрих III, король Наваррский); сын Антуана де Бурбона, герцога Вандомского, первого принца крови, и Жанны III д’Апьбре, королевы Наваррской; глава протестантской партии во Франции (официально — с 1569 г., реально — со второй пол. 1570-х гг.); с 1589 г. — король Франции (не признанный большей частью подданных); утвердился на престоле после ряда лет упорной борьбы; военных действий, политических и дипломатических усилий (в том числе его перехода в католичество в 1593 г.); в 1598 г. заключил выгодный для страны мире Испанией и издал Нантский эдикт, обеспечивший французским протестантам свободу вероисповедания и давший им ряд политических гарантий; в 1610 г., накануне возобновления военного конфликта с Габсбургами, был убит католическим фанатиком Равальяком. Один из самых знаменитых и популярных королей Франции, он добился прекращения почти сорокалетней кровавой религиозной гражданской войны, обеспечил экономическое и политическое возрождение страны, укрепил королевскую власть и повысил международный престиж своего государства. Густав II Адольф (1594–1632) — король Швеции с 1611 г., видный полководец и военный реформатор, провел ряд реформ, укрепивших абсолютистское государство, его экономику и армию; во внешней политике стремился к превращению Балтийского моря в «шведское озеро»; в результате войн с Польшей и Московским государством завоевал Восточную Прибалтику; в 1630 г. вступил в Тридцатилетнюю войну на стороне протестантов, захватил Северную Германию; погиб в бою.
Однако здесь, скорее всего, имеется в виду Густав III (1746–1792) — король Швеции в 1771–1792 гг.; в 1772 г. произвел государственный переворот, отстранив от власти аристократическую олигархию и установив свою неограниченную власть; в 1792 г. готовился к войне против революционной Франции, но был убит политическим противником.
… если с пристрастием поискать в «Готском Альманахе»… — «Готский альманах» — генеалогический, дипломатический и статистический ежегодник, содержащий сведения о знатных родах, династиях и правительствах стран Европы и издававшийся с 1764 г. в городе Гота (в Восточной Германии. н Тюрингии) на французском и немецком языках.
… эта женщина была королева Мария Луиза Августа Катерина, дочь Карла Фридриха, великого герцога Саксен-Веймарского, известная всей Европе под именем королевы Августы. — Августа (1811–1890) — урожденная принцесса Саксен-Веймарская, жена Вильгельма I, дочь великого герцога Карла Фридриха Саксен-Веймарского и русской великой княгини Марии Павловны.
Герцогство Саксен-Веймарское (точнее: Саксен-Всймар-Эйзенах) — феодальное владение в Центральной Германии, возникшее в X в.; с XIV в. находилось под властью Эрнестинской ветви Веттинов, владетелей Саксонии; части герцогства, несмотря на нередкие их разделы, оставались связанными между собой; в XVIII в. было одним из культурных центров Германии; в 1806 г. участвовало на стороне Пруссии в войне с Наполеоном, но после его разгрома вошло в наполеоновский Рейнский союз германских государств, а в 1813 г. присоединилось к шестой анти наполеоновской коалиции. В 1815 г. Венский конгресс увеличил его территорию и в звании великого герцогства оно вошло в Германский союз, а в 1871 г. — в Германскую империю. В 60-х гг. XIX в. Саксен-Веймар-Эйзенах поддерживал политику объединения Германии, проводимую Бисмарком.
… На левом рукаве ее платья красовалась эмблема женского ордена Королевы Луизы. — Этот орден был основан в 1813–1814 гг. в честь прусской королевы Луизы (1776–1810), с 1793 г. жены прусского короля Фридриха Вильгельма III; в 1848–1849 гг. восстановлен; знаки ордена: крест черной эмали, имеющий в центре звезду, а в ней инициал «Ь> («Louise»).
… мне не довелось родиться бароном, но это не помешает мне умереть герцогом. — Предвидение романиста, вложившего эти слова в уста своего персонажа, оправдались в 1890 г.: за восемь лет до своей смерти Бисмарк получил титул герцога Лауэнбургского.
… застегнутый снизу доверху на все пуговицы синий редингот… — Редингот — длинный сюртук особого покроя; первоначально — одежда для верховой езды.
… специальное отверстие, чтобы пропускать через него рукоять и темляк его шпаги. — Темляк — петля из кожи или тесьмы с кистью на ней, укрепленная на рукоятке холодного оружия; надевалась на кисть руки, чтобы удерживать в бою саблю или палаш.
… На шее король носил большой крест с Черным Орлом… — Орден Черного Орла — высшая награда Пруссии, учрежденная в 1701 г. в честь провозглашения ее королевством; нес на себе геральдический знак прусских королей; первоначально жаловался принцам королевского дома и имел всего лишь 30 кавалеров, но позже их число не ограничивалось; знаки ордена: крест темно-голубой эмали с черными орлами между лучами и звезда с девизом «Suum quique» («Каждому свое»); носили крест на оранжевой ленте или цепи, звенья которой изображали орлов.
… король не станет германским императором без того, чтобы королева не стала императрицей. — Король Вильгельм I был провозглашен германским императором 18 января 1871 г., спустя полтора месяца после смерти Дюма: так оправдалось еще одно пророчество великого писателя.
… Разве получится Италия, если у итальянцев не будет Рима, не будет Венеции? — Римские папы считали себя не только духовными, но и светскими владыками, опираясь при этом на Папскую (или Церковную) область — свои владения в Средней Италии, существовавшие в 756-1870 гг. Уничтоженная Наполеоном в 1809 г., Папская область была восстановлена в 1815 г. решениями Венского конгресса. После Итальянской революции 1848–1849 гг., одним из лозунгов которой было единство страны, владычество папы в Папской области держалось только на французских и австрийских штыках. В I860 г. некоторые части Папской области присоединились к Сардинскому, а затем к Итальянскому королевству. Под властью папы остался лишь Рим. Венеция — имеются в виду владения бывшей торговой республики Венеция на Апеннинском полуострове; после войн Французской республики и Наполеона по решению Венского конгресса они вошли в Ломбардо-Венецианское королевство в составе Австрийской империи.
… В настоящее время Италия совершает свое становление… — Движение за воссоединение Италии, слившееся в значительной степени с национально-освободительной борьбой против австрийского владычества, т. н. Рисорджименто, захватило почти весь XIX в. Заключительный этап его пришелся на 1859–1870 гг. В этот период на Апеннинском полуострове образовалось единое государство во главе с Сардинским королевством (Пьемонтом). Произошло это главным образом в результате народного движения и династических войн. Первая такая война, в которой Пьемонт в союзе с Францией воевал с Австрией, велась в 1859 г. В это же время народные восстания в герцогствах Парма, Модена и Тоскана Северной и Средней Италии изгнали правителей из дома австрийских Габсбургов. Хотя итальянцы и французы одержали крупные победы над австрийской армией, Наполеон III за спиной своего союзника Виктора Эммануила II поспешил заключить мир с Австрией, поскольку он опасался начавшегося в Италии подъема революционного движения и вмешательства германских государств, недовольных ослаблением Австрийской монархии. По условиям мира Пьемонт получил в Северной Италии лишь Ломбардию (Венеция осталась за Австрией); главой всей Италии объявлялся папа римский; в Парму, Модену и Тоскану должны были вернуться австрийские эрцгерцоги. Правда, народное движение не допустило их на престолы, и эти области присоединились к Пьемонту. Однако Пьемонту пришлось уступить Франции за ее помощь в войне свои западные области Ниццу и Савойю (заселенные, справедливости ради надо сказать, в основном французами).
Следующим шагом к объединению Италии была революция на юге Италии в Королевстве обеих Сицилий (Неаполитанском). Весной I860 г. началось восстание на острове Сицилия, на помощь которому пришли добровольцы с севера во главе с народным героем Италии Джузеппе Гарибальди (1807–1882). Освободив Сицилию, его войска перешли на юг Апеннинского полуострова и, разгромив неаполитанские войска, свергли правившую в Неаполе династию Бурбонов. В это же время на юг двинулись пьемонтские войска, которым Гарибальди передал завоеванные им земли. Так в основном сложилась территория единого Итальянского королевства, провозглашенного в 1861 г.
Вне объединенной Италии осушись лишь папский Рим и Венецианская область, принадлежавшая Австрии. Две попытки Гарибальди (1862 и 1867 гг.) изгнать папу из Рима были отражены пьемонтскими и французскими войсками. Рим был присоединен к Итальянскому королевству только в 1870 г., когда Франция после поражений в войне с Пруссией вынуждена была вывести из Рима свои воинские части. Венецианская область после поражения Австрии в войне с Пруссией в 1866 г. была передана Наполеону III, а тот отдал се Итальянскому королевству.
Так было завершено объединение Италии.
… Франции, которая уже отдала ей Ломбардию и позволила ей взять герцогства и Неаполь. — Ломбардия — историческая область на севере Италии; в III в. до н. э. была завоевана Римом, в VI в. — германским племенем лангобардов, от которых она получила свое название; входила также в состав Византии (VI в.) и империи Карла Великого (VIII–IX вв.); в X в. была включена в Священную Римскую империю; экономическое развитие и богатство ломбардских городов сделало область в средние века и новое время объектом притязаний Испании, Германии, Австрии и Франции; веер. XIX в. вошла в состав королевства Пьемонт, а затем — в единую Италию. По мирному договору, заключенному в Виллафранке в июле 1859 г., Австрийская монархия формально уступала Ломбардию Франции, которая затем передавала ее Сардинскому королевству.
Свергнувшие австрийское иго герцогства Парма, Модена и Тоскана, а также Неаполитанское королевство были присоединены к Пьемонту с согласия Наполеона III после его переговоров с главой пьемонтского правительства Кавуром.
… окажемся на Молдау с тремястами тысячами солдат… — Молдау — немецкое название Влтавы, левого притока Лабы (Эльбы), на котором стоит Прага; длина этой реки 420 км; весь ее бассейн в те годы относился к Австрийской монархии.
… я опираюсь на мнение наследника короны и на мнение принца Фридриха Карла… — Наследник короны (кронпринц) — Фридрих Вильгельм Николай Карл Гогенцоллерн (1831–1888), король прусский и германский император (1888) под именем Фридриха III, прусский фельдмаршал (1870), участник Датской войны 1864 г., во время Австро-прусс кой (1866) и Франко-прусс кой войн (1870–1871) успешно командовал армией; пользовался большой популярностью в войсках; придерживался конституционно-либеральных взглядов и порицал внутреннюю политику Бисмарка; в 1887 г. серьезно заболел, и это вызвало большие разногласия в политических и медицинских кругах Германии. Либералы, связывавшие свои планы с царствованием Фридриха Вильгельма, настаивали на его дееспособности и возможности излечить его без хирургического вмешательства. Консерваторы же утверждали, что он неизлечимо болен раком горла и требовали провести операцию. В связи с этим встал вопрос об отстранении принца от наследования престола. Фридрих Вильгельм после смерти отца все же стал императором, но царствовал всего лишь 30 дней. Все это время он находился в основном под политическим влиянием Бисмарка, хотя и конфликтовал с ним. Фридрих Карл Николай Гогенцоллерн (1827–1885) — прусский принц, 1юснпчал1>ник и поенный писатель; примыкал к консер|шторам; участвовал и 1848–1849 гг. в войне с Данией, в 1849 г. — в подавлении революционного восстания в юго-западной Германии; в войне Австрии и Пруссии с Данией в 1864 г. командовал прусскими войсками, а затем всеми силами союзников; в войне с Австрией в 1866 г. успешно командовал армией, во Франко-прусской войне 1870–1871 гг. — армией и группой армий; с октября 1870 г. — генерал-фельдмаршал.
… принц Фридрих Карл, родившийся двадцать девятого июня тысяча восемьсот первого года… — Принц Фридрих Карл родился в 1827 г.
40… Венский конгресс накроил все эти монархии. — Венский конгресс, проходивший в сентябре 1814 — июне 1815 гг., завершил войны коалиций европейских держав с республиканской и наполеоновской Францией; в нем участвовали представители всех европейских стран, кроме Турции; ведушая роль в нем принадлежала России, Англии и Австрии; главными его задачами было восстановление прежних порядков, реставрация свергнутых династий, борьба с революционными и национально-освободительными движениями, создание гарантий против возобновления Францией завоевательных войн, передел Европы в интересах победителей. Сушествовавшис вначале резкие разногласия между союзниками (приведшие, в частности, к подписанию 3 января 1815 г. тайного договора между Англией, Австрией и Францией, направленного против России и Пруссии) уступили место сближению участников конгресса в результате возвращения Наполеона во Францию с Эльбы; была образована новая (седьмая) антина-полеоновская коалиция, и 9 июня 1815 г. состоялось подписание заключительного акта. Согласно решениям конгресса, Франция была лишена всех ее недавних завоеваний; Бельгия и Голландия объединены в Нидерландское королевство; большая часть Великого герцогства Варшавского перешла к России; Познань осталась за Пруссией, получившей также почти половину территории Саксонии, Рейнскую провинцию и Вестфалию; в Италии восстановили Сардинское королевство, вернув ему Савойю и Ниццу; из 19 швейцарских кантонов образовалась Швейцарская конфедерация; германские государства и немецкая часть австрийских владений вошли во вновь организованный Германский союз; Норвегию отторгли от Дании и передали Швеции; Англия получила большую часть захваченных ею в войне территорий, в том числе Мальту, Ионические острова, Цейлон и тд.
41… А Пруссия? Это же огромная шея: голова ее доходит до Тьонвиля, хвост — до Мемеля, а на животе ее — горб, потому что она заглотнула половину Саксонии. — Тьонвиль, Мемель — см. примеч. к с. 15. Саксония — историческая область в Восточной Германии; бывшая территория западных славян, захваченная в X в. немецкими феодалами; с 1423 г. курфюршество; в 30-х гг. XVI в. приняла лютеранство; с кон. XVII в. до сер. XVIII в. была тесно связана с Польшей, объединяясь личностью единого монарха; участвовала в войнах с революционной Францией, в 1806 г. вступила в союз с Пруссией против Наполеона и после поражения под Йеной (14 октября 1806 г.) перешла на его сторону, вступила в Рейнский союз и стала королевством; по решению Венского конгресса около половины ее территорий отошло к Пруссии; в 1866 г. участвовала на стороне Австрии в войне с Пруссией; в 1871 г. вошла в Германскую империю.
… Королевство перерезано надвое другим королевством — Ганновером… — Ганновер — немецкое княжество и короле велю (до 1866 г.) в Северо-Западной Германии; его историческим ядром было герцогство Брауншвейг-Люнебург (существовало с 1235 г.), столицей которого с 1636 г. стал город Ганновер (постепенно и само герцогство стало называться Ганноверским); с 1692 г. курфюршество; в 1714 г. ганноверский курфюрст Георг Людвиг стал королем Англии Георгом I (уния между Великобританией и Ганновером существовала до 1837 г.). В 1807 г. Ганновер был присоединен Наполеоном к образованному им в Германии вассальному Вестфальскому королевству, а по решению Венского конгресса стал королевством и вошел в Германский союз; после Австро-прусской войны 1866 г. превращен в прусскую провинцию; ныне входит в состав земли Нижняя Саксония.
… В Англии уже прошли времена Питта и Кобурга. Англия — покорная служанка Манчестерской школы, Гладстонов, Кобденов и их учеников… — Питт, Уильям (в исторической литературе его обычно называют Питтом Младшим; 1759–1806) — английский государственный деятель, лидер тори (консерваторов); премьер-министр в 1783–1801 и в 1804–1806 гг.; главный организатор антифранцузских коалиций европейских государств.
Кобург — по-видимому, Альберт Франц Август Карл Эммануил, принц Саксен-Кобургский (1819–1861), с 1840 г. — принц-консорг (принц-супруг) английской королевы Виктории (см. примеч. к с. 84); не вмешиваясь в политику, посвятил себя общественной деятельности и благотворительности, но при этом имел большое влияние на королеву; в конце своей жизни пользовался в стране огромной популярностью. Манчестерской школой, или манчестерцами, в Англии веер. XIX в. называли сторонников фритредерства (от англ, free trade — «свободная торговля»). Это направление в политической экономии, возникшее в последней трети XVIII в., представляло интересы промышленной буржуазии и требовало отмены ввозных и вывозных пошлин и невмешательства государства в хозяйственную деятельность. В Англии фритредерство в XIX в. было весьмо популярно, так как при ее положении «мастерской мира» оно давало английской промышленности неоспоримое превосходство на мировом рынке. Сторонников свободной торговли в Англии возглавляли фабриканты Манчестера, тогда крупнейшего центра текстильной промышленности (отсюда и их название). Манчестерцы сосредоточили свои усилия на отмене принятых во время наполеоновских войн хлебных законов, которые устанавливали высокие ввозные пошлины на зерно, выгодные помешикам-тори. Снижение пошлин позволяло удешевить в Англии продукты питания и снизить заработную плату. В сер. XIX в. почти все ввозные и вывозные пошлины в Англии были отменены благодаря тому, что в парламенте на сторону фритредеров встали либералы и часть консерваторов, покинувших свою партию.
Гладстон, Уильям Юарт (1809–1898) — английский государственный деятель, сын богатого купца; в 23 года стал членом парламента; в первые годы своей политической деятельности консерватор; в начале 50-х гг. вышел из своей партии в связи с разногласиями по поводу свободы торговли, сторонником которой он был; в 1858 г. стал министром финансов в либеральном кабинете; с 1868 г. лидер либералов; более тридцати лет занимал различные министерские посты; четыре раза был премьер-министром; во внутренней политике придерживался реакционных взглядов, поддерживал рабство негров в колониях и США, подавлял освободительное движение в Ирландии.
Кобден, Ричард (1804–1865) — английский фабрикант, экономист и политический деятель, идеолог промышленной буржуазии; один из основателей «Лиги борьбы против хлебных законов»; во внутренней политике стоял за компромисс с земельной аристократией, во внешней — поддерживал колониальную экспансию; член парламента.
… И разве вам не нужна и Саксония? — Франция не позволит до нее дотронуться, хотя бы в память старого короля, который остался ей верен в тысяча восемьсот тринадцатом году. — Имеется в виду Фридрих Август I (1750–1828) — курфюрст Саксонии с 1763 г. (фактически с 1768 г.), король с 1806 г., в 1791–1794 гг. король Польши; после Тильзита великий герцог Варшавский; его правление способствовало экономическому развитию страны; во внешней политике он стремился к соблюдению нейтралитета, но в 1793–1796 и 1806 гг. вынужден был принять участие в коалиционных войнах против Франции; в 1806–1813 гг. был в союзе с Наполеоном, по которому Саксония в 1809 г. приняла участие в войне против Австрии и в 1812–1813 гг. — против России и Пруссии; в 1813 г. остался до конца верен союзу с Францией и после сражения под Лейпцигом был в плену; по мирному договору 1815 г. лишился части наследственных земель и Великого герцогства Варшавского.
… Теперь посмотрим, не нужен ли нам Гессен? — Гессен — феодальное владение на юго-западе Германии, ландграфство, ставшее в XIII в. независимым и в 1526 г. принявшее протестантизм; в 1567 г. разделилось на герцогства Гессен-Дармштадт и Гессен-Кассель, которые назывались по имени своих главных городов и входили в Священную Римскую империю, а после наполеоновских войн — в Германский союз. Гессен-Дармштадт (Гессен) в 1828 г. примкнул к прусской таможенной системе, хотя в нем и были сильны антипрусские настроения; в 1866 г. стал великим герцогством; выставил целую дивизию во время Франко-прусс кой войны; в 1871 г. вошел в Германскую империю.
Гессен-Кассель (Кургессен) — с 1567 г. независимое герцогство, с 1803 г. курфюршество; в 1807–1813 гг. было завоевано Наполеоном и вошло в созданное им в Германии вассальное Вестфальское королевство; после падения империи Наполеона восстановило свою самостоятельность и снова стало называться курфюршеством; в 1866 г. было аннексировано Пруссией и превратилось в округ провинции Гессен-Нассау.
… Союз никогда не оставит нам всего Гессена. — Имеется в виду Германский союз (см. примеч. к с. 8).
… А не нужен ли нам Франкфурт-на-Майне? — Франкфурт-на-Майне — см. примеч. к с. 25.
… Город, где заседает Сейм! — Имеется в виду Сейм Германского союза — его представительный орган, заседавший во Франкфурте-на-Майне; состоял из представителей входивших в Союз государств, не имел ни армии, ни средств, а решения его для членов Союза не были обязательными.
… Четыреста пятьдесят тысяч в Австрии… — Накануне войны 1866 г. Австрия располагала армией в 435 тыс. человек и I 096 орудий; кроме того, она могла собрать до 100 тыс. ополчения.
… Двести пятьдесят тысяч, которые высвободит Венецианская область. — Венецианская область на северо-западе Италии во время действия романа принадлежали Австрии, которая держала там значительную армию — до 80 тыс. человек.
… Австрийский император слишком упрям, чтобы отдать Венецианскую область, не устроив двух-трех битв… — Незадолго до Австропрусской войны 1866 г. Наполеон III предложил австрийскому императору Францу Иосифу I (см. примеч. к с. 24) уступить Венецию Итальянскому королевству, чтобы избежать его выступления на стороне Пруссии. Франц Иосиф отказался, однако после своего поражения на германском театре военных действий уступил Венецию Наполеону 111, а тот передал се Италии.
42… Бавария — сто шестьдесят тысяч человек. — Бавария — истори ческая область в Южной Германии, в бассейне Дуная; во время действия романа независимое государство; образовалось из герцогства немецкого племени баваров, входившего в империю Карла Великого; с XII в. герцогство, а затем курфюршество в составе Священной Римской империи; участвовала в войнах против революционной Франции; в 1801–1813 гг. выступала на стороне Наполеона, в 1806 г. стала королевством и вошла в Рейнский союз, значительно увеличив при этом свою территорию; в 1813 г. выступила на стороне анти французе кой коалиции; участвовала в Австро- прусской войне 1866 г. на стороне Австрии; в 1871 г. вошла в Германскую империю, сохранив некоторые свои особые права.
Бавария в 1866 г. имела армию в 60 тыс. человек и 200 орудий; формально участвуя в начавшейся войне на стороне Австрия, серьезной роли в боевых действиях эта армия не сыграла.
… Баварией я займусь сам: ее король слишком любит музыку, и ему не понравится шум пушечной пальбы. — Имеется в виду Людвиг II (1845–1886) — король Баварский с 1864 г.; идеалистично настроенный, исполненный романтизма, одновременно восторженный и склонный к меланхолии, молодой король прежде всего желал быть меценатом и осыпал милостями Рихарда Вагнера, страстным почитателем которого он был; в 1866 г., во время Австро-прусской войны, принял сторону Австрии; после этой войны стал сторонником политики Бисмарка, при нем Бавария вступила в союз с Пруссией и приняла участие во Франкопрусской войне; в 1871 г. формально выступил инициатором создания Германской империи, выговорив в ней для Баварии некоторые особые права; в 1886 г., когда выяснилось его умопомешательство, он был отстранен от управления и вскоре утонул при неясных обстоятельствах.
… Ганновер — двадцать пять. тысяч… — Военные силы Ганновера в 1866 г. составляли 20 тыс. человек и 42 орудия.
… Саксония — пятнадцать тысяч. — Армия Саксонии насчитывала в 1866 г. 32 тыс. человек и 68 орудий.
… сто пятьдесят тысяч солдат от Союза. — Всего силы государств — членов Германского союза, выступивших в 1866 г. на стороне Авст-
20-7045 рии, составляли 171 тыс. человек и 483 орудия, но к началу военных действий в готовности были 150 тыс. человек и 430 орудий.
43… вышел в Брауншвейге на вокзал… — Брауншвейг — город в Запад ной Германии; столица одноименного герцогства, придерживавшегося в XVIII–XIX вв. прусской ориентации и стоявшего на стороне Пруссии в войне 1866 г.; город известен с XI в., сохранил много памятников старины.
… небрежно накинул на плечо ремень с двустволкой системы Лефошё. — Лефошё, Казимир (1802–1852) — парижский оружейный мастер; предложил в 50-х гг. XIX в. систему ружья, заряжающегося с казенной части, а позднее — унитарный патрон (т. е. гильзу из картона или металла, содержащую вместе вышибной заряд и пулю) и систему револьвера; однако из-за своего невысокого качества эти изобретения широкого распространения нс получили.
… тиковых штанов и кожаных гетр. — Тик — плотная льняная или хлопчатобумажная ткань, обычно полосатая.
Гетры — здесь: застегивающаяся накладка, закрывающая ногу от щиколотки до колен.
… За ним следовал совершенно черный красавец-спаниель… — Спаниель — небольшая охотничья собака на боровую, полевую и водоплавающую дичь; имеет несколько разновидностей; встречаются различные ее масти.
… повез нашего путешественника в гостиницу «Англетер» на Большой площади. — Вероятно, имеется в виду одна из двух крупных площадей, расположенных в центре Брауншвейга: Бургплац («Городская площадь») и Шлосс-плац («Замковая площадь»).
46 Льё — старинная французская мера длины: земельное льё равнялось 4,444 км, почтовое — 3,898 км, морское — 5,556 км.
… Это стоит четыре флорина. — Флорин — здесь, вероятно, имеется в виду чеканившаяся в XVIII–XIX вв. австрийская монета крупного достоинства, называвшаяся также гульденом и имевшая вес 12,3457 г серебра высокой пробы.
… Из Саксенхаузена. — Что это такое, Саксенхаузен? — Предместье Франкфурта. — Саксенхаузен — южное предместье Франкфурта, расположенное на левом берегу Майна.
47… саксонская колония со времен Карла Великого. — Карл Великий (742–814) — король франков с 768 г., император с 800 г.; по его имени названа королевская и императорская династия Каролингов (751–987), самым выдающимся представителем которой он был; сын короля Пипина Короткого и Берты, дочери графа Кариберта Ланского; после смерти отца правил лишь частью франкского государства (другая принадлежала его брату Карломану), но с 771 г. стал единоличным правителем воссоединенного государства. В результате его многочисленных завоевательных походов (против лангобардов, баварского герцога Тассилона, саксов, арабов в Испании и др.) границы франкского королевства расширились и включили в себя весь западный христианский мир; в 800 г. он был коронован в Риме папой Львом III (750–816; папа с 795 г.) императорской короной; стремился к укреплению границ империи, к централизации власти, подчинению обширного государства единым законам;
важную опору королевской власти видел в католической церкви; в его царствование произошел заметный подъем в области культуры (т. н. «Каролингское возрождение»).
В 772–804 гг. Карл Великий после чрезвычайно жестоких войн покорил и обратил в христианство германские племена саксов, живших на северо-западе Германии между нижним течением Рейна и нижним течением Эльбы. Постепенно саксы слились е другими германскими племенами, а область их поселения получила название Нижней Саксонии. Выходцы оттуда и образовали Саксснхаузен.
… вы славные ребята, вроде овернцев, только немецких. — Овернцы — жители Оверни (историческая область в Центральной Франции; главный город — Клермон-Ферран), в XVIII–XIX вв. отсталого в экономическом и культурном отношении района; многие овернцы уезжали из дома на заработки, отпрамялись даже за границу. Особенно много их оседало в Париже, где они занимались неквалифицированным трудом и без конца давали поводы для насмешек парижан. В XVI11—XIX вв. слово «овернец» стало на французском языке синонимом понятий «идиот», «тупица» и т. п.
49… Здесь есть замок и парк господина де Резе, французского посла… —
Резе, Гюстав Арман Анри, граф де (1831—?) — французский дипломат и историк, посланник в Турине, Брауншвейге, Дармштадте и Ганновере (1863–1866); с 1870 г. в отставке, выпустил несколько сборников исторических документов.
51… я бы отправился на Тридцатилетнюю войну… — Тридцатилетняя война — см. примеч. к с. 172.
… Это история про нож Жано: в ноже заменили лезвие, потом и рукоять, но это все тот же нож. — Жано — во французском фольклоре комический тип, олицетворяющий глупость.
Ножом Жано во французском языке называется предмет, состоящий из нескольких последовательно заменяемых частей, но сохраняющий при этом старое название.
52… две улицы города Ганновера, ведущие к главной площади, на которой высится конная статуя короля Эрнста Августа… — Эрнст Август I (1771–1851) — король Ганновера с 1837 г., пятый сын английского короля Георга III; в Англии носил титул герцога Кумберлендского и заседал в Палате лордов, где примыкал к тори; участвовал в революционных и наполеоновских войнах; стал ганноверским государем после того как английский трон унаследовала его племянница Виктория, дочь его старшего брата герцога Кентского, которая в силу действовавшего в Ганновере салического закона (запрещающего женщинам наследование престола) не могла одновременно занять и ганноверский престол, до того автоматически принадлежавший английским монархам из Ганноверской династии, и он оказался вакантным; в Ганновере отменил конституцию и проводил самодержавную политику, был сторонником прусской муштры и противником объединения Германии. В Ганновере ему действительно был поставлен памятник.
… остановился только у дверей гостиницы «Королевская». — Гостиница с таким названием в самом деле существовала в Ганновере того времени: она находилась на вокзальной площади.
54… спросил… название главной газеты королевства… она называется «Новая ганноверская газета». — «Новая ганноверская газета» («Ncue Hannoversche Zcitung») — немецкая реакционная газета, издававшаяся в Ганновере в 50-60-х гг. XIX в.
… Главный редактор «Ганноверской газеты»… господин Бодемайер… — Бодсмайср (Bodemeyer) — сведений об этом персонаже найти нс удалось.
… знаю только адрес газеты: улица Парок. — Название улице дали парки — три богини судьбы в римской мифологии: Нона, Децима и Морга; соответствуют греческим богиням мойрам, которые вершат судьбы людей.
… Вы будете обедать за табльдотом? — Табльдот (фр. table d'hote) — обший обеденный стол в пансионах, санаториях и гостиницах на Западе.
55… Она без гербов и корон, только с простым крестом Почетного легиона. — Имеется в виду орден Почетного легиона — высшая награда Франции, вручаемая за военные и гражданские заслуги; ныне имеет пять степеней; основан Бонапартом в 1802 г.; первые награждения им произведены в 1804 г.; знак ордена имеет форму пятилучевого креста белой эмали на красной ленте. Здесь, вероятно, имеется в виду низшая степень ордена — кавалерская.
56… будь это прекрасные дубы в лесу Фонтенбло… — Фонтенбло — город во Франции, приблизительно в 70 км к юго-востоку от Парижа (в соврем, департаменте Се на-и-Марна); там находится замок, построенный в XVI в. королем Франциском I и служивший летней резиденцией французских монархов вплоть до XIX в.; город окружен большими лесами, в которых в средние века проходили королевские охоты… или великолепные сосны на вилле Памфили в Риме… — Вилла Памфили — великолепный дом, построенный около 1650 г. для римского аристократа князя Камилло Памфили; позднее перешел к семейству Дориа; вилла была богато украшена и известна роскошными садами.
… будь это набросок турецкой кофейни, как у Декана, или кавалерийской стычки, как у Беранже… — Декан, Александр Габриель (1803–1860) — французский художник и график романтического направления; автор литографий и направленных против режима Реставрации жанровых картин и карикатур; пейзажист и анималист; писал также картины на сюжеты из жизни Востока, на библейские и исторические темы. Беранже (Berenger) — сведений об этом художнике найти не удалось.
…не говоря уже о языке Руссо, он изъяснялся на языке Мильтона, Гёте, Кальдерона и Данте. — То есть на французском, английском, немецком, испанском и итальянском языках.
Руссо, Жан Жак (1712–1778) — французский философ, писатель и композитор, сыгравший большую роль в идейной подготовке Великой французской революции.
Мильтон, Джон (1608–1674) — английский поэт, публицист, историк и переводчик, автор лирических стихотворений, поэм и трагедий; был близок к пуританам, одному из крайних течений английского протестантизма, противникам официальной англиканской церкви; во время Английской революции XVII в. выступал с политическими памфлетами в ее поддержку; был сторонником республики и секретарем лидера революции О.Кромвеля (1599–1658); в главном с ноем произведении, поэме «Потерянный рай», пользуясь библейским материалом, защищал право человека нарушить жизненные правила, установленные богословием, и закономерность восстания против самого Бога. Эти тираноборческие и богоборческие тенденции воплощены им в образе Сатаны.
Гете — см. примеч. к с. 31.
Кальдерон, Педро дс ла Барка (1600–1681) — испанский драматург, автор 108 светских и 73 духовных драм и мистерий, отличающихся глубоким национальным чувством, религиозным фанатизмом и преданностью королевской власти.
Данте Алигьери (1265–1321) — великий итальянский поэт, создатель современного итальянского литературного языка, автор поэмы «Божественная комедия», сборников стихотворений, научных трактатов.
… он изучал оккультные науки, кабалу, тайны учения орфиков, хиромантию и, наконец, хирогномонию, то есть современную науку д Арпантиньи и Дебароля… — Оккультные науки (от лат. occultus — «тайный», «сокровенный») — общее название учений, признающих существование скрытых сил в человеке и космосе, познание которых доступно лишь посвященным.
Кабала (или каббала) — средневековое мистическое течение в иудейской религии, проповедовавшее поиск основы всех вещей в цифрах и буквах еврейского алфавита.
Орфики — приверженцы орфизма, древнегреческого тайного религиозного течения, возникшего в VI в. до н. э. и дожившего до первых веков христианства. Создателем его якобы был герой древнегреческих мифов замечательный певец и поэт Орфей, давший учению свое имя и создавший его идеологическую основу — гимны, эпические поэмы и философские сочинения. Орфики учили, что природа человека двойственна, в нем борются добро и зло. Они создали специальные очистительные обряды, чтобы спасти в человеке доброе начало. Орфизм создал также свое собственное учение о мироздании и богах, свою мифологию, весьма отличающуюся от классической. Некоторые орфические идеи были восприняты классической античной философией, а через нее и христианством. Хиромантия — гадание по линиям и выпуклостям человеческой ладони.
Хирогномония — искусство определять характер, темперамент, способности, недостатки и другие качества человека по его руке, ее форме и виду.
Арпантиньи, Казимир Станислас д’ (1791–1864) — французский хиромант; в 1820–1844 гг. служил в армии; в 1839 г. издал руководство по хиромантии, выдержавшее множество изданий.
Дебароль, Адольф (1801–1886) — французский художник и писатель, хиромант; написал две книги, посвященные хиромантии (1859 и 1874 гг.); в конце 1846 г. совершил вместе с Дюма путешествие в Испанию; в 1855 г. издал книгу «Два артиста в Испании» («Deux Artistes en Espagne»).
… добился самых больших успехов… во французском боксе… — Французский бокс (или т. н. «сават», от фр. savate — «башмак») — вид рукопашного боя, в котором основными приемами служат удары ногами. Создателем его был некий Шарль Лекур. В первой пол.
XIX в. этот жестокий вид спорта был обязательным предметом обучения молодых людей из высшего общества.
… Когда Франции совместно с Англией решила совершить жепедицию в Китай… — См. примем, к с. 32.
…в англо-французском авангарде он форсировал отмель на реке Пей-хо и одним из первых вошел в Пекин, в императорский дворец. — Пей-хо (Пейко) — река а Северном Китае, близ которой стоит Пекин. Здесь имеется а виду один из эпизодов Второй Опиумной войны во время похода англо-французского корпуса на Пекин (см. примем, к с. 32).
… отправил оттуда две картины на Выставку… — Возможно, здесь подразумевается II Всемирная выставка, состоявшаяся в Париже в 1855 г., однако Вторая Опиумная война, с театра которой Бенедикт отправлял в Париж свои картины, происходила в 1856–1860 гг.,т.с. позднее.
… Один из его товарищей тянул за него жребий на рекрутском наборе… — Согласно системе воинской повинности, принятой во Франции в то время, призывники ежегодного контингента тянули жребий, определявший, кто из них должен поступить на военную службу, а кто — попасть в резерв.
… он решил вернуться домой через Яву… — Ява — остров в Юго-Восточной Азии, в Малайском архипелаге; в настоящее время территория Индонезии.
… в Малаккском проливе на него напали малайские пираты… — Малаккский пролив — длинный пролив у берегов Юго-Восточной Азии, между островом Суматра и полуостровом Малакка. Еще в средние века этот район оживленного торгового судоходства был ареной организованного морского разбоя.
… у него были два великолепных карабина-револьвера… — По-видимому, здесь речь идет о ружье с патронным магазином т. н. срединного типа, т. е. укрепленным в средней части оружия, ниже затвора. Отдельные виды таких магазинов имели форму револьверного барабана, часть которого вместе с находившимся внутри патроном при повороте досылалась в затвор и представляла собой патронник, где воспламенялся заряд. Первое более или менее удобное для применения револьверное ружье появилось в 1837 г., однако оружие такого типа не получило распространения, потому что появились новые конструкции винтовок и револьверов различных систем.
… отправившись на месяц в Чандернагор, он вместе с самыми рьяными и самыми отважными охотниками добывал тигров и пантер в бенгальских джунглях. — Чандернагор — небольшой город на северо-востоке Индии, недалеко от Калькутты; до 1950 г. (с перерывами) был владением Франции.
Бенгалия — историческая область на юге Азии, в бассейне нижнего течения Ганга и дельты Ганга и Брахмапутры; с древних времен на ее территории существовали различные индийские государства; в 1757 г. была захвачена английскими колонизаторами и превращена в одну из провинций Индии. В 1947 г. Западная Бенгалия вошла в состав Индии, Восточная Бенгалия — в состав Пакистана. С 1971 г. Восточная Бенгалия — это государство Бангладеш.
… он остановился на Цейлоне… — Цейлон (в настоящее время Шри-
Ланка) — острой и Индийском океане у южной оконечности полуострова Индостан.
… уехал с Цейлона и в Джидде встретился со знаменитым охотником Вессьером… — Джидда (Джсдда) — город и порт в Аравии, на Красном морс.
Вессьср (Vayssiers) — сведений об этом персонаже найти не удалось.
… продавал шкуры тигров и львов, убиваемых им в Нубии… — Нубия — древняя страна в Африке, в верховьях Нила; название получила в III в. от местного племени нобадов (или нубадов); во время действия романа се территория находилась во владении Египта; с 1899 г. — в совместном владении Египта и Англии (Англо-египетский Судан); ныне входит в государство Судан.
Следует заметить, что тигры в Африке нс водятся.
… бивни слонов, убиваемых им в Абиссинии. — Абиссиния (соврем. Эфиопия) — государство в Северо-Восточной Африке; известно с XI11 в.; во второй пол. XIX в. подвергалось колониальной экспансии европейских держав, в 1936–1941 гг. была завоевана Италией; с 1941 г. независима.
… через Каир, Александрию и Мальту вернулся в Париж… — Каир — столица Египта, город и порт в нижнем течении Нила; известен с III в. как военное поселение; после завоевания Египта арабами — город-креп ость, с X в. — столица халифата.
Александрия — город, основанный Александром Македонским в дельте Нила в Египте в 332–331 гг. до н. э. и ставший столицей Птолемеевской династии, а также торговым и культурным центром Востока; с арабским завоеванием 640 г. пришел в упадок.
Мальта — остров в центральной части Средиземного моря; был колонизован финикийцами в XIII в. до н. э.; в VI в. до н. э. владение Карфагена, с 218 г. до н. э. — Рима, в 395–870 гг. — под властью Византии, затем — арабов; в 1091 г. завоеван норманнами и присоединен к Сицилии; в 1530 г. на нем утвердился духовно-рыцарский орден иоаннитов (иначе «Мальтийский»); в 1798 г. захвачен наполеоновской Францией, в 1800 г. — Англией, объявившей его своей колонией (что было подтверждено Парижским договором 1814 г.).
… проехал киргизские степи и охотился с соколом у князя Тюменя… — Киргизы (также киргиз-кайсаки) — в XIX в. название, ныне устаревшее, казахов, народа, обитающего в основном на территории республики Казахстан и в других республиках Средней Азии и сложившегося из тюркских и монгольских племен. Здесь речь, по-ви-димому, идет о степях Прикаспийской низменности.
Упоминание здесь князя Тюменя связано с тем, что Дюма во время своего путешествия по России (15.06.1858-15.02.1859), направляясь через предкавказские степи в Грузию, 29–30 октября 1858 г. был гостем некоего калмыцкого степного феодала князя Тюменя и был им встречен с большим радушием, о чем писатель сообщает в своей книге «В России» (главы LXVIII–LXXI: «В Калмыкии», «Праздник у князя Тюменя», «Продолжение праздника» и «Дикие лошади»). Князья Тюменские, имевшие восточное происхождение, перешли на службу к московским царям в сер. XVI в., когда Иван IV присоединил все Среднее и Нижнее Поволжье.
… затем он вернулся через Ногайские степи, посетил Кизляр, Дербент, Баку, Тифлис, Константинополь и Арины; совершил экскурсии в Марафон, в Фивы, на Соломин, в Аргос, Коринф и возвратился через Мессину, Палермо, Тунис, Константину, Алжир, Тетуан, Танжер, Гибралтар, Лиссабон и Бордо… — Ногайская степь — полупустынная степь к Предкавказье, между реками Терек и Кума; находится главным образом в границах Дагестана; название получила от тюркской народности ногайцев (ногаев), некогда кочевавших по Северному Кавказу и в XVI–XVIII вв. постепенно вступивших в русское подданство.
Кизляр — город в Дагестане, в дельте Терека, неподалеку от западного берега Каспийского моря; известен с XVII в.; с XVIII в. — пограничная крепость России.
Дербент — город в Дагестане, в узком проходе между горами и западным берегом Каспийского моря на пути в Закавказье с севера; из-за своего выгодного военного и торгового положения был объектом захвата многих государств региона еще до н. э.; в 1806 г. вошел в состав России.
Баку — город в Закавказье, на Каспийском море, ныне столица Азербайджана; известен с VIII–IX вв.; был столицей местного феодального государства ширваншахов, затем находился во владении Ирана, а в XVIII в. стал центром самостоятельного ханства, присоединенного в 1806 г. к России; с 1859 г. — губернский город, превращавшийся в центр нефтяной промышленности.
Тифлис (Тбилиси) — город в Закавказье, известный с IV в.; с VI в. столица Грузии; в средние века — один из крупнейших городов, торговых и культурных центров Ближнего Востока; неоднократно подвергался нападениям со стороны соседних мусульманских государств и разрушениям; в 1801 г. с присоединением Грузии к России стал губернским городом, а позже — административным центром Кавказского наместничества.
Константинополь (соврем. Стамбул, Истанбул) — крупнейший город и порт Турции; расположен на обоих берегах пролива Босфор у Мраморного моря; во время действия романа — турецкая столица. Афины — один из древнейших городов мира, в античные времена город-государство, центр Афинского морского союза, политический и культурный центр всей Древней Греции; во II в. до н. э. попал под власть Рима, а затем Византии; в 1458 г. был завоеван турками, под властью которых пришел в полный упадок, и многие его античные памятники подверглись разрушению; с 1833 г. стал столицей независимой Греции.
Марафон — селение на берегу Марафонского залива Эгейского моря, приблизительно в 40 км северо-восточнее Афин; близ него в 490 г. до н. э. во время Греко-персидских войн 500–449 гг. до н. э. войска Афин нанесли поражение высадившейся персидской армии. Согласно легенде, некий греческий воин пробежал тогда весь путь до Афин и воскликнул, достигнув цели: «Мы победили!», — после чего пал мертвым. Фивы — город в Средней Греции, многократно упоминаемый в греческой мифологии; в IV в. до н. э. играл значительную роль в борьбе за гегемонию в Греции.
Саламин — остров у берегов Греции, в заливе Сароникос Эгейского моря; упоминается еще в древнегреческих мифах; в 480 г. до н. э. у этого острова флот греческих городов-государств разгромил флот персов. Аргос — древний греческий город на полуострове Пелопоннес, извсстсн со II тыс. до н. э.; был главным городом самостоятельного царства, одним из центров античной культуры; затем попал под власть Рима, Турции и других завоевателей; во время действия романа был незначительным городком.
Коринф — древнегреческий город на перешейке, соединяющем Пелопоннес со Средней Грецией, центр ремесел и торговли; несколько раз подвергался разрушениям; в 522–523 гг. восстановлен как крепость. Мессина — город в северо-восточной части острова Сицилия, бывшая греческая колония; крупный порт на западном берегу Мессинского пролива, отделяющего Сицилию от материка.
Палермо — один из древнейших городов Сицилии; в XI–XIII вв. — столица Сицилийского королевства; в 1799 и 1806–1815 гг. столица неаполитанских королей после их бегства из Неаполя; ныне — административный центр одноименной провинции.
Тунис — город в Северной Африке, неподалеку от Средиземного моря, столица одноименного арабского государства с 1956 г.; основан, по-видимому, в X в. до н. э.; во времена древнего мира и раннего средневековья входил в состав нескольких античных и арабских государств; с нач. XVIII в. стал самостоятельным; в 1881 г. завоеван Францией. Константина — город на северо-востоке Алжира, центр одноименного департамента; известен с глубокой древности; завоеван французами в конце 1837 г.
Алжир — столица государства Алжир, город и порт на африканском берегу Средиземного моря; основан в X в.; входил в состав многих мусульманских государств Северной Африки; с нач. XVI в. — вассал Турции; в 1830 г. завоеван Францией и стал центром французских колониальных владений в Африке.
Тетуан — приморский город в Марокко, на берегу Средиземного моря; основан в 1492 г. мусульманам и-эм и грантам и из Испании; в 1859–1861 гг. временно был занят испанцами.
Танжер — город и порт в Северо-Западной Африке, на берегу Гибралтарского пролива; основан задолго до н. э. как финикийская колония; затем входил в состав многих государств региона; в XIX в. был главным портом Марокко и резиденцией иностранных дипломатов; в 1912–1956 гг. — центр международной зоны; в 1957 г. воссоединен с Марокко. Гибралтар — колония, крепость и военно-морская база Великобритании, расположенная на южном берегу Пиренейского полуострова и контролирующая Гибралтарский пролив, важная стратегическая позиция; крепость основана арабами в VIII в.; захвачена Англией в 1704 г. Лиссабон — столица Португалии; расположен на правом берегу реки Тежу (Тахо); в 1147 г. был отбит у мавров, и король Альфонс I перенес туда свою столицу. Восточная часть города сохранила свой средневековый облик с прекрасными памятниками архитектуры — собором XIII–XIV вв., церквами, дворцами; после разрушительного землетрясения 1755 г., сопровождавшегося пожаром, город был отстроен почти заново. Бордо — город и порт на юго-западе Франции, в устье реки Гаронна; в древности — кельтское поселение; в средние века столица герцогства Гиень (Аквитании); ныне — административный центр департамента Жиронда; в составе Франкского государства, а затем Франции — с 507 г.; во время Революции — один из оплотов жирондистов. Таким образом, Бенедикт возвращается во Францию через Поволжье, Заволжские и Прикаспийские степи, Кавказ, Турцию, Грецию, Северную Африку и Пиренейский полуостров, огибая всю Европу с востока и юга.
… посетив Брюссель, Антверпен, Амстердам, Мюнхен, Вену и Дрезден, он оказался в Берлине… — Брюссель — старинный город в Бельгии, известен с VII в., главный город герцогства Брабант; в средние века входил в состав нескольких феодальных государств, а после наполеоновских войн — в состав Нидерландского королевства; с 1831 г. — столица независимой Бельгии; центр легкой промышленности и торговли; в нем сохранилось много архитектурных памятников средневековья и XIX в.
Антверпен — город в Бельгии, морской порт на реке Шельда, близ Северного моря; с XV в., после упадка Брюгге, становится крупнейшим торговым и транспортным центром Северной Европы; в кон. XVI в. считался самым большим городом мира; со второй пол. XVII в., когда по Вестфальскому миру 1648 г. (завершившему Тридцатилстнюю войну) устье Шельды было закрыто, начинается его упадок.
Амстердам — столица Нидерландов, порт на Северном море, с XVII в. приобрел мировое значение как центр торговли и кредита. Мюнхен — крупный город в Южной Германии, на реке Изар; основанный в XII в., был столицей герцогства Бавария, а в 1806–1918 гг. — столицей королевства Бавария; ныне центр земли Бавария в ФРГ. Дрезден — старинный город в Восточной Германии, известен с древности как поселение серболужицких славян; в X–XII вв. его область была завоевана саксонскими феодалами; с кон. XV в. резиденция саксонских герцогов, затем столица курфюршества, а с нач. XVIII в. — королевства Саксония; ныне главный город земли Саксония ФРГ.
… его зовут Блинд, он сын человека, изгнанного в 1848году из страны и носившего то же имя. — Блинд, Карл (1826–1907) — немецкий журналист-демократ, участник революционного движения в 1848–1849 гг. в Бадене; вынужден был эмигрировать сначала в Швейцарию, потом в Англию, где был одним из лидеров эмиграции; там же сблизился с Марксом, но затем стал его непримиримым противником; в 1870–1871 гг. поддерживал политику Бисмарка в германском вопросе; примыкал к консервативной немецкой партии национал-либералов (см. также примеч. к с. 20).
… без единой жалобы переносил жажду, когда ему пришлось путешествовать в Амурской пустыне… — Возможно, под Амурской пустыней («desert d’Amour») здесь понимаются Каракумы, охватываюшие территорию к запалу от реки Аму-Дарья (фр. Amou-Daria) до хребта Копет-Даг, по другую сторону которого лежит Иран (заметим, что на с. 80 романа говорится о путешествии Бенедикта в Персию).
… считал преступлением против гастрономии не предложить своим гостям (то есть людям, чьим счастьем он распоряжался в течение двух часов, как говаривал Брийа-Саварен) все, чего только можно пожелать… — Брийа-Саварен, Ансельм (1755–1826) — французский писатель, по профессии юрист; известный гастроном, автор сочинения «Физиология вкуса» («Physiologie du gout», 1826).
Здесь имеется в виду 20-й а<{юризм Брийа-Саварена: «Миссия хозяина дома — это миссия жреца: пригласить кого-либо на обед означает взять на себя заботу о нравственном и физическом блаженстве этого человека на все то время, пока он пробудет под нашим кровом!»
60… в столицу его величества короли Георга V. — Георг V (1819–1878) — король Ганновера в 1851–1866 гг. из династии Всльфов, сын короля Эрнста Августа (см. примеч. к с. 52); был слеп и по указу отца мог подписывать государственные бумаги только в присутствии четырех свидетелей; управлял в самодержавном духе, хотя при вступлении на престол дал обещание соблюдать конституцию; отрицательно относился к объединению Германии под главенством Пруссии, не без основания опасаясь поглощения ею мелких и средних немецких государств, и в Австро-прусской войне 1866 г. выступил на стороне Австрии; после поражения и оккупации Пруссией его королевства эмигрировал в Вену, потом в Париж, где вел оживленную агитацию за возвращение ему престола; лишь в 1868 г. подписал договор об отречении и прекращении антипрусской агитации в обмен на денежную компенсацию, но этот договор нс был выполнен ни одной из сторон.
… Упас, жителей той Галлии, что задала столько работы Цезарю… — См. примеч. к с. 8.
… семь-восемь лет тому назад мне пришлось заехать в Мангейм, город, где раньше пяти часов вечера не встретишь на улице ни одной живой души. — Мангейм — город и порт в Германии, на правом берегу Рейна, при впадении в него реки Неккар (соврем, земля Баден-Вюртемберг). Дюма посетил Мангейм в сентябре 1857 г. вместе с актрисой Лиллой Бульовски (1833–1909), о чем он тепло и с юмором рассказывает в своей повести «Любовное приключение» (1860).
61… у которой перед английским сплином есть то преимущество… — Сплин (англ, spleen — «селезенка») — тоскливое, подавленное настроение, уныние, хандра; в старину это настроение объяснялось болезнью селезенки и шутливо считалось свойством английского характера.
62… выбрался из него с другой стороны, что выходила на Беренштрассе… — Беренштрассе — одна из центральных улиц Берлина; идет параллельно Унтер-ден-Линден, к югу от нее.
63… Утверждают, что официальная газета напечатает завтра указ короля о роспуске Ландтага. — Официальная газета — «Королевско-прусский государственный вестник» (см. примеч. к с. 9).
Указ о роспуске Ландтага — см. примеч. к с. 8.
… могу сказать, как Эней: «Et quorum pars magna fui». — Эней — в «Илиаде» Гомера и античной мифологии сын богини любви и красоты Венеры (гр. Афродиты), один из главных участников Троянской войны, союзник троянцев; по преданию, стал предком основателей Рима Ромула и Рема и аристократического римского рода Юлиев; главный герой эпической поэмы древнеримского поэта Вергилия (70–19 до н. э) «Энеида», посвященной его подвигам и странствиям после падения Трои.
Словами «Et quorum pars magna fui» («В чем сам я участвовал много») Эней начинает рассказ о Троянской войне и падении Трои («Энеида», II, 6).
64… из четырех частей света… Из пяти… если посчитать Океанию… — Океания — общее название островов в центральной и юго-западной части Тихого океана, расположенных в тропических и субтропических широтах; вместе с Австралией объединяется в пятую часть света (после Европы, Азии, Африки и Америки).
… гспета обмана давать столько-то ударов тамтама в день. — Тамтам — самозиучаший ударный инструмент в симфоническом оркестре, разновидность гонга.
… напрасно опускается на них ферула негодующего Аристарха. — Ферула (лат. ferula — «хлыст», «розга») — деревянная линейка, которой в старину били по пальцам провинившихся школьников. Аристарх Самофракийский (первая пол. II в. до н. э.) — древнегреческий филолог, критик, грамматик, текстолог; жил в Египте; страдал какой-то неизлечимой болезнью и уморил себя голодом в возрасте 72 лет; известен критической редакцией гомеровского эпоса «Илиада» и «Одиссея», курсом лекций о Гомере, изданиями сочинений других классиков. Его имя стало синонимом строгой, но справедливой критики.
67… у меня есть письмо от нашего директора изящных искусств к господину Каульбаху, придворному художнику короля Георга. — В то время в структуре французского министерства просвещения существовал отдел изящных искусств и начальника его называли «директор изящных искусств».
Каульбах, Фридрих (1822–1920) — немецкий художник, портретист, придворный живописец короля Ганновера, профессор Ганноверского высшего технического училища.
… Один, настоящий современный карфагенянин, все видел с позиции интересов промышленности и торговли… — Карфаген — город-государство в Северной Африке (в районе современного города Туниса); основан в IX в. до н. э.; в III–II вв. до н. э. вел борьбу с Римом за господство в Западном Средиземноморье; в 146 г. до н. э. был взят и разрушен римлянами; до своей гибели был одним из крупнейших центров ремесел и торговли своего времени, и Дюма сопоставляет с ним современную ему Англию.
… превратился в того льва, о котором говорит Жерар… — Жерар, Сесиль Жюль Базиль (1817–1864) — офицер французских колониальных войск в Северной Африке, знаменитый охотник, приобретший европейскую известность и прозванный «Истребитель львов» и «Грозный европеец» (последнее прозвище он получил от арабов); утонул во время экспедиции в глубь континента; автор двух книг о своих охотах. Дюма был знаком с Жераром, восхищался им и написал о нем очерк «Жерар, Истребитель львов» («Gerard, leTueurde lions», 1857).
68… когда голова Людовика ХУ/упала на площади Революции, для Европы и даже для всего мира это имело совсем иные последствия, нем когда голова Марии Стюарт упала в Фотерингее, а голова Карла / — в Уайтхолле… — Людовик XVI (1754–1793) — французский король в 1774–1792 гг.; с начала Революции призывал иностранные державы к интервенции против Франции; свергнут народным восстанием 10 августа 1792 г., осужден Конвентом и казнен.
Площадь Революции (соврем, площадь Согласия) — одна из красивейших площадей Парижа и центров его планировки; была спроектирована в сер. XVIII в. и тогда называлась площадью Людовика XV; расположена на правом берегу Сены между проспектом Елисейские поля и садом дворца Тюильри; во время Революции неоднократно служила местом казней.
Мария Стюарт (1542–1587) — королева Шотландии (1542–1567) и
620
Франции (1559–1560); католичка, свергнутая с престола восставшими протестантскими лордами, она бежала в Англию, где как претендентка на английский престол была арестована и после многолетнего заключения обезглавлена 8 февраля 1587 г. во дворе замка Фотерингей, находящегося в Средней Англии, в графстве Нортгемптоншир. Карл I Стюарт (1600–1649) — английский король с 1625 г., казненный во время Английской революции по приговору специально созданного Верховного судебного трибунала.
Уайтхолл — улица в центре Лондона, на которой помешаются высшие правительственные учреждения. В XVII в. на ней стоял королевский дворец Уайтхолл, где находился в заключении Карл I во время суда над ним. Ныне сохранилась только часть его — Банкетная палата, перед которой для казни короля был воздвигнут эшафот. Сравнивая исторические последствия этих трех казней коронованных особ, следует сказать, что казнь Марии Стюарт была событием династической борьбы и на остальной мир произвела впечатление в основном трагической судьбой шотландской королевы.
Казнь Карла I повлияла на мировую историю куда более значительно, т. к. Английская революция открыла целый ее период — историю нового времени; однако через 11 лет монархия в Англии была реставрирована и там установился компромисс между основными противоборствовавшими в революции сторонами.
Что же касается Великой французской революции, одним из кульминационных событий которой стала казнь Людовика XVI, то она действительно открыла новую эпоху в истории человечества — эпоху буржуазного общества. Поэтому трагическую гибель французского короля п исатель трактует здесь как событие судьбоносное для всего мира, в отличие от казни Марии Стюарт и Карла I.
… Разве у нашего Канта не было ваших французских идеи раньше, нем у французов! Вы, вы уничтожили Бога только в девяносто третьем, а он обезглавил его еще в восемьдесят шестом. — Имеется в виду дехристианизаторская политика якобинской диктатуры в период наивысшего подъема Французской революции, в 1793–1794 гг. В это время проводилась принудительная присяга духовенства конституции, неприсягнувшим священникам запрещалось служить; закрывались церкви и монастыри, а их имущество конфисковывалось; отменялось церковное оформление актов гдажданского состояния; делались попытки введения новой «гражданской религии» — культов Разума и Верховного существа и,т. д.
Кант (см. примеч. к с. 31) в своей работе «Критика чистого разума» (1781) подверг критике доказательства бытия Божьего, признав его теоретически недоказуемыми. Отсюда он сделал вывод, что бытие Божье и бессмертие души не только теоретически недоказуемы, но и теоретически неопровержимы и должны оставаться предметом веры. Во время Французской революции (в 1794 г.) Кант по требованию прусского правительства отказался от выступлений с критикой религии.
… Кант был великим астрономом, он предсказал существование планеты Уран… — Свои астрономические и космогонические взгляды, включая гипотезу об образовании планетной системы из первоначальной туманности (гипотезу Канта-Лапласа), Кант изложил в работе «Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels» («Всеобщее естествознание и теория неба», 1755).
В XVII–XVIII im. астрономы несколько раз наблюдали планету Уран, седьмую в солнечной системе, но принимали ее за звезду; открыта она была в 1781 г. английским любителсм-астрономом Уильямом Гсршслем (1738–1822).
… мы ничего не можем знать об этом ноумене, которого называют Богом… — Ноумен (гр. nou me поп) — в философии Канта непознаваемая «вещь в себе».
69… когда им подносят «Критику чистого разума»…—
«Критика чистого разума» («Kritik der reinen Vernunft», 1781) — одно из основных философских сочинений Канта; в этой работе автор начал разработку собственной философской системы, пытаясь ограничить область знания, чтобы «дать место вере» и тем самым примирить эти два направления мысли.
… меч, который в Германии убил Бога деистов… — Деисты, последователи деизма (от лат. deus — «бог») — религиозно-философского учения, которое признает Бога как мировой разум и создателя Вселенной, но отвергает дальнейшее его участие в ее жизни.
… Иммануил Кант, этот великий разрушитель в царстве мысли, далеко превзошел в смысле терроризма Максимилиана Робеспьера, этого великого разрушителя в царстве реалий… — Робеспьер, Максимилиан (1758–1794) — деятель Великой Французской революции, вождь якобинцев, глава революционного правительства (1793–1794); в борьбе с внутренними и внешними врагами Революции во время террора обескровил Конвент казнями своих бывших сторонников и противников и подготовил собственное свержение и казнь (переворот 9 термидора).
… Но Лейбниц в свою очередь был всего лишь учеником Декарта, как Кант был плагиатором Сильвена. — Лейбниц — см. примеч. к с. 21. Декарт, Рене (1596–1650) — французский философ, математик, физик и физиолог, автор теории, объясняющей образование и движение небесных тел вихревым движением частиц материи.
Сильвен (Sylvain) — не идентифирован.
… Замените животный дух электричеством и флюидом жизни, и Декарт окажется близок к правде, он прикоснется к тому, что Клод Бернар скажет 22октября 1864года… — «Животными духами» Декарт называл легчайшие подвижные частицы материи, которые в зависимости от характера раздражения мозга идут по нервам (или нервным «трубкам») к мышцам, вызывая ответную мышечную реакцию; таким образом, он предвосхитил понятия нервных импульсов и рефлексов.
Флюид — некий психический ток, излучаемый человеком.
Бернар, Клод (1813–1878) — знаменитый французский естествоиспытатель, физиолог и патолог; профессор Парижского университета (1854), член Французской академии наук (1868); в философии — позитивист, отрицал роль философии в развитии естественных наук; объяснил патогенез сахарного диабета.
71… жил на другом конце города, на площади Ватерлоо… — Площадь Ва терлоо находится в юго-западной части Ганновера; на ней расположены арсенал и казармы; она украшена мемориальной колонной и статуей генерала графа КА. фон Альтена (см. примеч. к с. 205), который в сражении при Ватерлоо командовал ганноверскими частями.
… крыльцом в стиле Ренессанса… — Ренессанс (Возрождение) — период в культурном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы в XIV–XVI вв., переходный от средневековья к новому времени; отличительные его черты — антифеодальный и антицсрковный, светский характер, гуманистическая направленность, обращение к культурному наследию древности, как бы его «возрождение». В архитектуре Возрождения вместо церковных зданий главное место заняли светские постройки, отличавшиеся величественностью, гармоничностью и соразмерностью человеку.
… Он попытался соединить Каба и Бонингтона… — Каба, Луи (1812–1893) — французский художник-пейзажист; работал с натуры, написал много видов Франции.
Бонингтон, Ричард Паркс (1802–1828) — английский художник-реалист, учился, жил и работал во Франции; автор лирических пейзажей, исторических картин и портретов.
… ученик Шеффера по исторической живописи, он сохранил идеализм своего учителя, увлеченно изучая колористические приемы Делакруа. — Шеффер, Ари (1795–1858) — французский художник голландского происхождения; принадлежал к романтическому направлению; оставил много картин на исторические, батальные и жанровые сюжеты, а также на темы литературных произведений, в том числе и трагедии Гете «Фауст». Делакруа, Эжен (1798–1863) — французский художник романтического направления, реалист; автор многочисленных картин на исторические и аллегорические сюжеты, портретов, зарисовок из жизни Востока; произведения его отличаются богатством и свежестью красок.
… принадлежал к эклектической школе… — Эклектизм (от гр. eklektikos — «выбирающий») — отсутствие целостности, единства в убеждениях, теориях и т. д.; в искусстве — формальное, механическое соединение различных стилей.
… Он въехал в Германию, располагая двумя суждениями о немцах: одно он почерпнул от гениальной женщины, относившейся к немцам дружелюбно, — от г-жи де Сталь; другое от остроумного мужчины, питавшего к немцам мало симпатий, — от г-на Виардо. — Сталь-Гольштейн, Анна Луиза Жермена де (1766–1817) — французская писательница, публицистка и теоретик литературы; противница политического деспотизма; в кон. 80—нач. 90-х гг. XVIII в. хозяйка литературного салона в Париже, где собирались сторонники конституционной монархии; в 1792 г. эмигрировала и вернулась во Францию после переворота 9 термидора; в годы наполеоновского господства подверглась изгнанию. Перу госпожи де Сталь принадлежит книга «О Германии» («De ГАПе-magne», 1810), откуда, вероятно, и взята приведенная Дюма цитата. Виардо, Луи (1800–1883) — французский писатель, искусствовед и журналист, в 1838–1839 гг. директор Итальянского театра в Париже; посетив все столицы Европы, составил многотомное описание их художественных коллекций «Музеи Европы» (1860); выпустил также несколько трудов по истории и литературе Испании; много переводил, особенно с испанского, а позднее и с русского языков… Вот уже три века художественная Германия спит в пещере Эпименида… — Эпименид с острова Крит — полулегендарный древнегреческий мудрец и религиозный деятель, живший на рубеже мифического и исторического времени, предположительно в VII в. до н. э.; он упорядочил отправление культа богов в Афинах и на острове Делос; по-видимому, был жрецом верховного бога Зевса и бога-покровителя искусств и прорицателя Аполлона; был автором стихов, космогонических сочинений и предсказаний, некоторые из которых вошли в ранние христианские сочинения. Согласно легендам, его душа могла на время покидать тело; там же рассказывается о его более чем пятидесятилетием сне в одной из пешер.
… Там были копии Альбрехта Дюрера, Гольбейна, Лукаса Кранаха. — Дюрер, Альбрехт (1471–1528) — немецкий художник, гравер и рисовальщик; крупнейший представитель искусства Возрождения в Германии. Гольбейн — по-видимому, Ганс Гольбейн Младший (1497–1543), немецкий художник и график эпохи Возрождения; работал также в Швейцарии и Англии; автор портретов и жанровых и аллегорических гравюр. Кранах, Лукас Старший (настоящая фамилия — Мюллер или Зундер; 1472–1553) — немецкий художник и гравер; автор картин на христианские религиозные и мифологические сюжеты.
… Там были почти такие же оконченные эскизы, как и оригинал его фресок в Берлинском музее: «Битва друзов», «Рассеяние народов», «Взятие Титом Иерусалима», «Обращение Видукинда» и «Крестоносцы под стенами Иерусалима». — Дюма путает здесь Фридриха Каульбаха (см. примеч. к с. 67) с его дядей Вильгельмом Каульбахом. Каульбах, Вильгельм (1805–1874) — немецкий художник, представитель официального салонного академизма, с 1849 г. директор Академии художеств в Мюнхене; автор иллюстраций к произведениям классической литературы (Гёте, Шекспира и др.) и циклов исторических фресок в музеях Мюнхена и Берлина.
«Битва друзов» — вероятно, здесь какая-то ошибка Дюма, и имеется в виду фреска В.Каульбаха «Битва гуннов» в вестибюле Нового Берлинского музея, написанная по заказу Фридриха Вильгельма III в 1834–1837 гг.; другое ее название — «Каталаунская битва». Картина изображает в аллепорически-фантастическом духе сражение между гуннами, с одной стороны, и римлянами, галлами и германскими племенами — с другой, произошедшее в 451 г. недалеко от современного города Шал он-сюр- Марн в Северо-Восточной Франции. Победа союзников остановила продвижение гуннов в Западной Европе. Гунны — кочевой народ Центральной Азии, создавший на территории Монголии и Южного Прибайкалья в III–II вв. до н. э. племенной союз; в I в. н. э. гунны начали движение на запад и к IV в. заняли земли от Дона до Карпат; в сер. V в. под предводительством Атиллы (ум. в 453 г.) совершили ряд опустошительных вторжений в пределы Римской империи и создали на ее территории государство, которое после смерти их вождя распалось.
«Рассеяние народов» — вероятно, имеется в виду фреска В.Каульбаха «Вавилонское столпотворение» в Новом Берлинском музее. Она написана на сюжет библейского рассказа (Бытие, 11: 4–8) о том, как люди вознамерились построить башню высотой до небес, но разгневанный Бог смешал языки строителей, и они рассеялись по земле. «Взятие Иерусалима Титом» (или «Разрушение Иерусалима») — фреска В.Каульбаха в Новом Берлинском музее; изображает взятие римской армией в 70 г. Иерусалима — столицы и священного города иудеев — во время Иудейской войны (восстания древних евреев против римского владычества в 66–70 гг.); полна не только исторических, но и фантастических образов; написана в 1839–1845 гг.; по другим источникам, находится в мюнхенском музее Пинакотека. Тит Флавий Веспасиан (39–81) — римский императоре 79 г., второй из династии Флавиев; в истории обычно называется просто Титом; во время Иудейской войны командовал римскими войсками. «Обращение Видукинда» — вероятно, подразумевается картина В.Каульбаха «Свидание Карла Великого и Видукинда» (или «Карл Великий и Видукинд»), находящаяся в мюнхенском музее. Видукинд — вождь саксов; во второй поп. VIII в. возглавил несколько восстаний против Карла Великого; в конце концов был побежден, принял христианство и получил от императора титул саксонского герцога. «Крестоносцы под стенами Иерусалима» (или «Крестоносцы под Иерусалимом») — фреска В.Каульбаха в Новом Берлинском музее; изображает религиозный экстаз христианского войска, участвовавшего в первом крестовом походе (1096–1099), когда оно впервые увидело священный город.
… вы, французы, привыкшие к живописи господ Жироде, Жерара и Герена^ его признали с трудом. — Жироде-Триозон, Анн Луи (1764/1767— 1824) — французский художник, последователь искусства классицизма; автор картин на батальные, религиозные и мифологические темы, портретов, книжных иллюстраций; написал также поэму о живописи и несколько сочинений по теории этого вида искусства; переводил поэтов Древней Греции.
Жерар, Франсуа, барон (1770–1837) — французский художник, представитель искусства классицизма, автор портретов и исторических полотен; в период Консульства и Империи Наполеона — официальный живописец двора.
Герен Пьер Нарсис (1774–1833) — французский художник, представитель искусства классицизма, автор картин на мифологические сюжеты; его творчеству свойственны театральность и мелодраматические эффекты.
… но вы же видели, как потом восторжествовала справедливость. — Творчество Делакруа на протяжении его жизни и после его смерти часто вызывало оживленную полемику в художественных кругах. Прогрессивная критика поддерживала художника, искусствоведы и политики консервативного толка — осуждали. В этой полемике принял участие в поддержку Делакруа и Дюма, несмотря на то что тот относился к его творчеству довольно прохладно. 10 декабря 1864 г. на посмертной выставке Делакруа писатель выступил с публичной лекцией, состоявшей из рассказов о жизни и картинах Делакруа и выдержанной в доброжелательном духе.
… Каульбах, человек в возрасте пятидесяти пяти лет… — В 1866 г. Фридриху Каульбаху, придворному живописцу ганноверского короля, было 44 года, а его дяде, Вильгельму Каульбаху, — 61 год.
… путешествуя из Китая в Петербург и из Астрабада в Алжир… — Астрабад (соврем. Горган) — старинный торговый город в Северном Иране, неподалеку от берега Каспийского моря.
… посылать в Музеи полотна… — Вероятно, имеется в виду парижский музей Лувра, т. е. Национальный музей искусств в королевском дворце Лувр; основан по декрету Конвента от 27 июля 1793 г. и открыт для публики 8 ноября того же года; в основу его собрания легли национализированные во время Революции королевские коллекции, дополненные сокровищами из церквей, дворцов аристократии, а впоследствии и из завоеванных стран; ныне — одно из величайших художественных хранилищ в мире.
… ваши картины… «Коринфская куртизанка, сжигающая свои одежды после клятвы святому Павлу», «Битва на Пейхо» и «Вид Танжера». — Павел, святой (ок. 5/15—ок. 66) — апостол, один из величайших проповедников христианства; первоначально носил имя Савл и жестоко преследовал христиан, но потерял зрение; исцеленный по воле Иисуса, он раскаялся, уверовал в Христа и стал ревностным распространителем его учения; по мнению некоторых древних богословов, дал первую систематизацию учения Христа; церковь приписывает ему авторство четырнадцати апостольских посланий; казнен во время гонения на христиан, воздвигнутого императором Нероном. Пейхо — см. примеч. к с. 57.
Коринф, Танжер — см. примеч. к с. 58.
75… линия жизниуменя двойная… — Имеется в виду т. н. линия-сестра (или линия Марса), проходящая со стороны большого пальца параллельно линии жизни; встречается далеко не у всех людей и, по мнению хиромантов, обеспечивает человеку защиту в опасные периоды его жизни.
… и он показал Каульбаху ту часть руки, которую хироманты называют холмом Венеры. — Холм Венеры — в хиромантии возвышение на человеческой ладони, расположенное у основания большого пальца и якобы определяющее способности человека к любви, его страстность и живость.
76… Спорю, что вы не знаете моей лучшей картины. — «Император Оттон, посещающий могилу Карла Великого»? — Эю картина не Фридриха Каульбаха, в мастерской которого находится Бенедикт, а Вильгельма Каульбаха. В XIX в. она хранилась в Германском музее в Нюрнберге. Оттон III (980—1002) — император Священной Римской империи с 983 г.; принадлежал к Саксонской династии; во время его правления сильно ослабела центральная власть в Германии и усилилась самостоятельность крупных феодалов.
… на его будничном мундире гвардейских егерей… были генеральские эполеты. — Егеря (фр. chasseurs) — в XVII–XIX вв. легкая пехота, действовавшая преимущественно в рассыпном строю; ее задачей было расстраивать ружейным огнем плотные построения войск, противника.
… два оставшихся на нем креста были: один — орденом Вельфов, другой — орденом Эрнста Августа. — Орден Вельфов (точнее: «Королевский Ганноверский орден Вельфов») — высшая награда Ганновера, учрежденная в 1815 г. по поводу восстановления независимости страны после наполеоновских войн и названная в честь правящей династии. Поскольку первый ганноверский король, учредитель ордена (см. примеч. к с. 52), был принц английского королевского дома, то орден рассматривался современниками скорее как английский и большинство его кавалеров были англичанами. С 1842 г. орден имел четыре степени, две звезды и цепь. Знак его: синий четырехконечный кресте раздвоенными концами, в середине креста — белая бегущая лошадь (т. е. геральдический знак герцогои Брауншвейгских, перешедший к ганноверцам), а вокруг него девиз «Ncc aspera terrent» (лат. «Трудности нс страшат»).
Всльфы (Гвелы|>ы) — немецкий феодальный род, игравший видную роль в истории Германии в средние века; к его потомкам принадлежали и государи Ганновера.
Орден Эрнста Августа («Гражданский и военный орден Эрнста Августа») был учрежден в 1865 г. и просуществовал менее года; знак его — крест с коронами в углах и девиз «Suscipere ct finirc» (лат. «Начать и кончить»).
77… в этом ордене узнал большой крест Святого Георга — его имели право носить только государи. — Имеется в виду ганноверский орден Святого Георга; был учрежден в 1839 г. и имел одну степень — темно-голубой крест на темно-красной ленте — и девиз «Nunquam rctrorsum» (лат. «Никогда вспять»). В 1866 г. в связи с уничтожением ганноверской государственности этот орден, как и другие ганноверские ордена, прекратил свое существование.
… этот молодой человек… был наследный принц. — Имеется в виду Эрнст Август Вильгельм Адольф Георг Фридрих (1845–1923) — наследный принц Ганноверский, герцог Брауншвейг-Люнебургский; как член английского королевского дома после смерти отца (1878) носил титул герцога Кумберлсндского; с 1866 г., после того как Пруссия аннексировала Ганновер, жил в Вене; в 1884 и 1906 гг. безуспешно заявлял свои права на герцогство Брауншвейгское и был призван на его престол в день германской революции 9 ноября 1918 г., что, естественно, никакого практического результата не имело.
…Я слишком большой ценитель Шекспира, Вальтера Скотта и Байрона… — Шекспир, Уильям (1564–1616) — великий английский драматург и поэт.
Скотт, Вальтер (1771–1832) — английский писатель и поэт, создатель жанра исторического романа; собиратель и издатель памятников шотландского фольклора; автор исторических и историко-литературных трудов.
Байрон, Джордж Гордон, лорд (1788–1824) — великий английский поэт-романтик, оказавший огромное влияние на современников и потомков как своими произведениями, так и чертами своей личности и стилем своей жизни; в его произведениях, особенно поэмах, создан образ непонятого, отверженного и разочарованного романтического героя-бунтаря, породившего множество подражателей в жизни и в литературе («байронизм», «байронический стиль»).
80… Я рассчитываю на три. Число три угодно богам. — Число «три» во многих древних религиях считалось священным, что выражалось в существовании божественных триад — групл из трех родственных богов, постепенно сливавшихся в одно триединое божество. Это понятие и священство числа «три» воплотилось в христианскую Троицу — триединство Бога Отца (Яхве, или Саваофа), Бога Сына (Христа) и Бога Духа Святого.
… он по прямой линии потомок волшебника Турпина, дяди Карла Великого, и занимается in partibusремеслом своего предка. — Турпин — полулегендарное лицо; исторический Турпин был приближенным Карла Великого и архиепископом Реймсским (753–794); ему приписывают популярную в средние века латинскую хронику «О жизни и деяниях Карла Великого», представляющую а основном обработку народного эпоса о походе императора» Испанию. В некоторых сказаниях его называют в числе двенадцати рыцарей, ближайших сподвижников Карла, которые составляли содружество, заседавшее за круглым стором.
In partibus infidclium (лат. «В стране неверных») — добавление к титулу католических епископов, назначавшихся на фиктивные должности в нехристианских странах; в речевом обороте — за границей, в изгнании.
… Вы, случайно, не спирит… — Спириты — последователи спиритизма, мистической веры в загробную жизнь душ умерших, возникшей еще в древности. В XVIII в. спиритизм был обновлен шведским естествоиспытателем и мистиком Эммануилом Сведенборгом (1688–1772), доказывавшим возможность общения с потусторонним миром, и изобретателем «животного магнетизма» австрийским врачом Францем Антоном Месмером (1733–1815). В сер. XIX в. спиритизм получил широкое распространение в Северной Америке, а с 1852 г. — в Европе, где в моду вошли т. н. спиритические сеансы с духами умерших, проходившие при посредстве медиумов — лиц, которые будто бы обладают особой таинственной силой, посредников между живыми и душами умерших. На этих сеансах медиумы якобы вызывали души и передавали им вопросы присутствующих, в ответ на которые духи издавали стуки, заставляли вертеться столы, понуждали медиумов совершенно автоматически писать какие-либо тексты и т. д. Ученые-материал исты считали воззрения спиритов худшим ридом суеверий, а прогрессивные писатели высмеивали их.
… Император такой, как китайский император, у которого сто пятьдесят миллионов подданных… — Номинально китайским императором в 1866 г. был малолетний Тунчжи (1856–1874; правил с 1861 г.), но реальная власть находилась в руках его матери — императрицы-регентши Цыси (1835–1908).
… или как император Александр, чье царство занимает девятую часть света. — Имеется в виду Александр II Николаевич (1818–1881) — император всероссийский с 1855 г.; осуществил отмену крепостного права (1861) и провел ряд половинчатых буржуазных реформ; в годы его царствования Россия присоединила значительные земли на Кавказе и в Средней Азии; с конца 70-х гг. усилил репрессивную политику против революционного движения.
… великих королей делают вовсе не большие королевства: ведь Фессалия дала Ахилла, а Македония — Александра. — Ахилл (Ахиллес) — в древнегреческой мифологии и «Илиаде» Гомера храбрейший из греческих героев, осаждавших Трою.
Фессалия — историческая область на востоке Северной Греции; там находился город Фтия, царем которой был отец Ахилла — Пелей. Македония — здесь: рабовладельческое государство в северной части Балканского полуострова, сложившееся в сер. V в. до н. э.; в сер. IV в. до н. э. добилась гегемонии над греческими городами-государствами и послужила базой для походов царя Александра; веер. II в. до н. э. была покорена Римом.
Александр Македонский (356–323 до н. э.) — царь Македонии с 336 г. до н. э., полководец и завоеватель; создал крупнейшую монархию древности, которая распалась после его смерти.
81… Вельфы происходят… от Генриха Льва, герцога Нижней Саксонии,
одного из самых заметных государей XII века. — Генрих Лев (1129–1195) — немецкий владетельный князь из рода Вельфов, герцог Саксонии (1139–1180) и Баварии (1156–1180), один из главных участников покорения западнославянских земель, из которых он образовал герцогство Мекленбург; вступил в борьбу с императором Фридрихом I Барбароссой; чрезмерное усиление герцога вызвало опасения других князей Империи, которые поддержали императора; Генрих Лев был разбит и лишен владений.
Нижняя Саксония — историческая область на северо-западе Германии, лежащая между Рейном и Эльбой в их нижнем течении; была заселена германским племенем саксов, завоеванных в кон. VIII — нач. IX в. Франкским государством. В IX в. на территории саксов образовалось Саксонское герцогство, вошедшее в Священную Римскую империю, а позже в королевство Ганновер и Германскую империю. Ныне территория Нижней Саксонии — часть одноименной земли ФРГ.
… Он был сын Людвига Гордого, герцога Нижнеи Саксонии, то есть той земли, где сегодня расположены Ольденбург, Ганновер, Брауншвейг, Мекленбург и часть Шлезвиг-Гольштейна. — Здесь у Дюма неточность: отцом Генриха Льва был герцог Саксонский из дома Вельфов Генрих IX Гордый (1108–1139), получивший в приданое за своей женой обширные впадения в Саксонии; поддерживал императора Лотаря II в борьбе с крупными немецкими феодалами и даже получил от него знаки императорского достоинства, но попытка занять престол ему не удалась. Ольденбург — феодальное владение в Северо-Западной Германии, с XI в. графство, значительно расширившееся за счет захватов соседних земель; с кон. XVIII в. — герцогство; во время наполеоновских войн было захвачено Францией; Венский конгресс включил в состав Ольденбурга несколько мелких соседних владений и объявил его великим герцогством; в 1871 г. вошел в Германскую империю; ныне — в составе земли Нижняя Саксония ФРГ.
Ганновер — см. примеч. к с. 41.
Брауншвейг — до 1946 г. был землей в Северо-Западной Германии, между реками Эльба и Одер, затем вошел в землю ФРГ Нижняя Саксония; как самостоятельное герцогство в составе Священной Римской империи образовался веер. XIII в.; в XVIII в., после многочисленных разделов и переделов между членами правящего дома Вельфов, образовались герцогство Брауншвейг-Люнебург, составившее основу курфюршества Ганновер, и карликовое герцогство Брауншвейг-Вольфенбюттель. В 1807 г. брауншвейгские земли вошли в Вестфальское королевство, а после наполеоновских войн Брауншвейг вернул себе самостоятельность; поддерживал политику Пруссии; в 1871 г. вошел в Германскую империю.
Мекленбург — бывшая территория западнославянских племен на северо-востоке современной Германии; в XII в. была завоевана Генрихом Львом и подверглась насильственной христианизации и германизации; там образовалось немецкое Мекленбургское княжество, находившееся в вассальной зависимости от саксонских герцогов; в 1348 г. княжество стало герцогством в составе Священной Римской империи; в 1701 г. разделилось на две части; в 1867 г. оба новых герцогства вошли в Северогерманский союз, а в 1871 г. — в Германскую империю. Шлезвиг-Гольштейн — см. примеч. к с. 8.
… Его мать выла дочь германского императора Лотарн. — Лотарь II (1060–1137) — германский император из Саксонской династии; при поддержке духовенства был избран в 1125 г. германским королем, но утвердился на престоле лишь после многолетней борьбы с германскими князьями; в 1133 г. был коронован в Риме императором. Его единственная дочь Гертруда (1115–1143) — жена с 1125 г. Генриха Гордого, в результате брака с которым все владения ее отца перешли к Всльфам; мать Генриха Льва; овдовев, в 1139 г. вышла замуж за маркграфа австрийского Генриха по прозвищу Язомиргот (из-за его привычки все время приговаривать «Ja so mir Gott helfet» — нем. «Да поможет мне Бог»).
… Какое-то время его владения простирались от Зёйдер-Зе и Северного моря до Адриатики, от Ольденбурга до Венеции… — Зейдер-Зе — обширный и глубокий залив Северного моря у берегов Нидерландов; в настоящее время отделен от моря, в значительной степени осушен и опреснен (соврем, название — Эйсселмер).
Северное море расположено у северовосточных берегов Европы; часть Атлантического океана; омывает Нидерланды, Германию, Данию, Норвегию и Великобританию.
Адриатическое море расположено у южных берегов Европы; часть Средиземноморского бассейна; находится между Апеннинским и Балканским полустровом.
… Его прозвище — ГенрихЛев — пришло к нему оттого, что он приручил льва… — Согласно немецким народным балладам, герцог Генрих во время паломничества в Святую землю спас льва, изнемогавшего в битве с драконом, и лев всю жизнь не расставался со своим спасителем и верно служил ему, чему Генрих и был обязан своим прозвищем.
… Этот лев, изваянный из мрамора, и сейчас венчает колонну посреди рынка в Брауншвейге. — Эта скульптура, ставшая символом города, сохранилась доныне и стоит на площади перед замком Данквардероде.
… Разведясь со своей первой женой, он женился на Матильде, дочери Генриха // Английского и сестре Ричарда Львиное Сердце. — Первой женой Генриха Льва (с 1162 г.) была Клеменция, дочь владетельного князя Церингенского в Юго-Западной Германии.
Матильда (1156–1189) — английская принцесса, старшая дочь Генриха II.
Генрих 11 (1133–1189) — английский король с 1154 г., родоначальник династии Плантагенетов; присоединил к английской короне обширные наследственные владения во Франции; стремился к централизации власти и к захвату неподвластных ему частей Великобритании, начал колониальное завоевание Ирландии.
Ричард I, по прозвищу Львиное Сердце (1157–1199) — король Англии с 1189 г., сын Генриха II; отличался большой храбростью и воинственностью, считался образцовым воином и был скорее странствующим рыцарем, чем королем; за время своего правления провел в стране всего несколько месяцев, участвуя в различных военных предприятиях, например в третьем крестовом походе (1189–1192); убит во время войны с Францией.
… когда королева Анна умерла бездетной, англичане, за исключением Якова III, все как один обратили взоры в сторону ганноверского дома и взяли себе королем Георга I, который через Матильду происходил от
Плантагенетов. — Анна Стюарт (1665–1714) — английская королева, вторая дочь короля Якова II (1633–1701; правил в 1685–1688 гг.), последняя правительница Англии из рода Стюартов; в 16X8 г. во время восстания, т. н. «Славной революции», была против своего отца; в 1702 г. вступила на престол; важнейшими событиями се царствования были: война за Испанское наследство (1702–1713), заложившая основы морского и колониального могущества Англии, и слияние Англии и Шотландии в единое королевство.
Яков III — имеется в виду Яков Стюарт, по прозвищу Претендент, или шевалье де Сен-Жорж (1688–1766), сын свергнутого во время Славной революции английского короля Якова II, сводный брат королевы Анны; признанный рядом европейских государств как король Яков III, неудачно пытался вернуть себе трон в 1708, 1715–1716 и 1745–1746 гг. Ганноверский дом — так в Англии в XVIII в. называли представителей династии Всльфов, правившей в Ганновере.
Георг I (1660–1727) — с 1698 г. курфюрст Ганноверский из династии Вельфов, с 1714 г. английский король, унаследовавший трон после бездетной Анны; однако он получил его нс благодаря весьма отдаленному родству с Плантагенетами через Матильду, а благодаря родству со Стюартами: он был правнуком английского короля Карла I, т. е. племянником Анны, а главное, протестантом, что для английского общества нач. XVIII в. имело важное значение (Яков 111, ближайший наследник Анны, был католик). Его права были зафиксированы в парламентском Акте о престолонаследии 1701 г. Георг так и остался чужд своему королевству, не выучил английского языка и занимался в основном Ганновером; при нем начала складываться система управления Англией при помощи кабинета, формируемого парламентом и независимого от монарха.
Плантагенеты — династия английских королей, правившая в 1154–1399 гг.; получила имя от прозвища своего родоначальника французского феодала Годфруа (или Готфрида) V графа Анжуйского, имевшего привычку носить на шлеме ветку дрока (лат. planta genista).
… были из тех же самых ганноверских и брауншвейгских саксов, что отвоевали Англию у пиктов и к им ров и образовали такую могучую расу англосаксов, что Вильгельму Нормандскому оказалось легче завоевать их, чем покорить. — Здесь речь идет о завоевании в V–VI вв. острова Великобритании германскими племенами англов, саксов и ютов, ассимилировавших прежнее кельтское население. Ганноверские и брауншвейгские саксы — имеются в виду саксы, обитавшие к востоку от нижнего течения Рейна до низовьев Эльбы. Пикты — группа племен, населявших в древности Шотландию; в VI в. были обращены в христианство; в IX в. были покорены кельтским племенем скоттов, давших название стране, и смешались с ними.
Кимры — кельтское племя, коренные обитатели Уэльса (на юго-западе Великобритании).
Вильгельм Нормандский — Вильгельм Незаконнорожденный (1027/1028-1087), герцог Нормандии с 1035 г.; укрепив свою власть и создав сильное рыцарское войско, в которое им были привлечены авантюристы из других стран, он высадился в 1066 г. на юге Великобритании, разбил саксов, покорил большую часть острова и положил начало Английскому королевству, став королем Вильгельмом I и получив прозвище Завоеватель.
… по рассказам вестфальцев… — Вестфалией в средние «ска со второй пол. VIII в. называлась западная масть Саксонского герцогства, присоединенного Карлом Великим к своей империи.
… он ехал из Касселя в Брауншвейг… — Кассель — город в Центральной Германии, на реке Фульда; известен с X в.; во время, описываемое в романе, столица курфюршества Гессен-Касссль; затем главный город прусской провинции Гессен-Нассау.
… заставил упасть десять тысяч голов у Ирменсаба. — Возможно, здесь неточность или опечатка в оригинале и имеется в виду Ирминсул (Irminsul, а не Irmensaab) — так назывались находившиеся в современных Вестфалии и Тюрингии культовые фаллические символы в святилищах саксов, разрушенные Карлом Великим в 772 г. Следует заметить, что покорение саксов проходило с чрезвычайной жестокостью и сопровождалось массовыми казнями пленных и избиениями местных жителей.
… Карл Великий воткнул в землю свой меч — он называл его «Весельчак»… — Такое имя (фр. «Жуайсз») носит меч Карла Великого в поэме «Песнь о Роланде».
… борьбу продолжал Видукинд. — Видукинд — см. примем, к с. 73.
… отбросил франков к самому Рейну и угрожал Кёльну и Майнцу… — Франки — группа западногерманских племен, завоевавших в V в. Галлию (территорию современной Франции) и создавших собственное государственное образование, которое стало предшественником Священной Римской империи и Французского королевства; в VI–VIII вв. во Франкское государство вошли также земли в Южной и Центральной Германии и в Северной Италии, и в 800 г. Карл Великий, его государь, принял титул императора; в IX в. это государство распалось.
Кёльн — крупный город в Западной Германии (земля Северный Рейн — Вестфалия) на реке Рейн; основан римлянами в I в. до н. э.; с кон. VIII в. — столица духовного княжества-архиепископства; торгово-промышленный центр; в 1794 г. был занят французами; после падения империи Наполеона передан Пруссии.
Майнц — см. примем, к с. 27.
… был в Вестфалии, на вершине горы под названием Берг-Кирхен. — Берг-Кирхен (Beig-Kirchen) — этот топоним идентифицировать не удалось.
83… Порода белых лошадей… с красными ноздрями, розовыми глазами и про зрачными ушами, до сих пор существует в Ганновере. — Ганноверская порода коней произошла от смешения нескольких типов лошадей, главным образом восточного и норикского (центральноевропейского). В XIX в. упряжные ганноверские кони были потомками крупной и тяжеловесной рыцарской лошади средних веков. Верховая разновидность их произошла от скрещивания с английской чистокровной лошадью.
… англосакских вождей, возглавлявших поход в Англию, звали Хенгист иХорса. — Хенгист (Хенгест) и Хорса — исторические лица, вожди первых отрядов англов и саксов, вторгшихся в Южную Англию в V в.
… 28 мая 1660 года в Ганновере родился ребенок, отец которого был Эрнст Август, герцог Брауншвейг-Люнебургский. Мать ребенка была умнейшая принцесса София, внучка короля Якова I Английского от его дочери Елизаветы. — Имеется в виду будущий (с 1714 г.) король Великобритании и Ирландии Георг I (см. примем, к с. 77), в 1698—
1727 гг. — курфюрст Ганноверский под именем Георга Людвига.
Эрнст Август, герцог Браунш вейг-Люнсбургский (1629–1698) — первый курфюрст Ганноверский; был предназначен к духовной карьере и занимал высокие посты в лютеранской иерархии, но после отказа его старшего брата от женитьбы обвенчался с внучкой английского короля Якова I Софией (1658) и унаследовал родовые владения (1679); вел активную внешнюю политику, в основном помогая Империи в ее борьбе против Франции, и за эту помошь добился в 1692 г. специально созданного для него в Ганновере звания курфюрста. София (1630–1714) — дочь курфюрста Фридриха V Пфальце кого и Елизаветы Стюарт, дочери английского короля Якова I; вдова с 1698 г.; в 1701 г. была объявлена наследницей престола Великобритании, который в 1714 г. занял ее сын Георг; оставила после себя обширную переписку и мемуары, изданные в XIX в.
Яков I (1566–1625) — король Англии с 1603 г. и король Шотландии с 1566 г. под именем Якова VI; отец Карла I.
Елизавета Стюарт (1596–1662) — дочьанглийского короля Якова I; получила строгое протестантское воспитание и серьезное образование; в 1618 г. вышла замуж за курфюрста Фридриха V Пфальце кого, главу немецких протестантов того времени; после 1632 г. из-за опустошения ее владений во время Тридцатилетней войны жила в Нидерландах; в 60-х гг. возвратилась в Англию.
… В 1682 году принц Георг женился на Софии Доротее, дочери последнего герцога Целльского, и эта женитьба сделала принца Георга наследником владений Люнебург-Целле. — София Доротея (1666–1726) — курфюрстина Ганноверская с 1692 г. и номинальная королева Англии с 1714 г., дочь герцога Георга Вильгельма фон Браун швей г-Люне-бург-Целле, жена курфюрста Георга Людвига; очень красивая и прекрасно образованная, она не пользовалась расположением свекрови и мужа, т. к. целью его брака с ней было лишь присоединение Целле к владениям Ганновера; в 1694 г. была обвинена в неверности, ее брак был расторгнут, а сама София Доротея пожизненно заключена в замок Альден (отсюда ее второе историческое имя — принцесса фон Альден).
… От этого союза родились Георг Ни София, мать Фридриха Великого. — Георг II (1683–1760) — кораль Великобритании и Ирландии и курфюрст Ганноверский с 1727 г.; занимался преимущественно делами своего курфюршества, направлял вето интересах внешнюю политику и ресурсы Англии; делами королевства интересовался мало, предоставив правление кабинету министров; основал университет в Гёттингене. София Доротея (1687–1757) — дочь английского короля Георга I, жена прусского короля Фридриха Вильгельма, мать Фридриха II Великого; усердно старалась сгладить трения, возникавшие между ее мужем и сыном.
… Тринадцатого августа /7/4 года Георг был провозглашен королем Великобритании и Ирландии, хотя он никогда не ступал на английскую землю. — См. при меч. к с. 77.
… Он пытался объясняться со своим премьер-министром Уолполом только одним способом… — Уолпол, Роберт, граф Орфорд (1676—
1745) — английский государственный деятель, лидер партии вигов; с 1701 г. член парламента, в 1715–1717 и 1726–1742 гг. премьер-министр; при нем окончательно сложилась система управления страной кабинетом министров во главе с лидером парламентского большинстиа. Уолпол проводил политику в интересах вигской олигархии крупных земельных магнатов и верхушки финансовой и торговой буржуазии, в частности поддерживал обезземеливание крестьянства (т. н. «парламентские огораживания»); на время его правления пришелся расцвет коррупции; во внешней политике стремился к ослаблению Франции.
… как австрийский император одновременно является королем Богемии и Венгрии. — Богемия (немецкое название Чехии) входила в Священную Римскую империю со второй пол. XII в. до ее упразднения в 1806 г., а Венгрия — с 1526 по 1806 г.; в 1806–1867 гг. обе они входили в состав Австрийской империи, а в 1867–1918 гг. — Австро-Венгерской… В 1837году, после смерти Вильгельма IV, английский трон достался юной принцессе Виктории, потому что ее отец, герцог Кентский, был старше Эрнста Августа, герцога Кумберлендского. — Вильгельм IV — Уильям Генри, герцог Кларенс (1765–1837), третий сын английского короля Георга 111; с 1822 г. первый лорд адмиралтейства; в 1828 г. вступил в конфликт с кабинетом тори по поводу отношения к национально-освободительной борьбе греков против Турции и вышел в отставку; с 1830 г. король Великобритании, Ирландии и Ганновера под именем Вильгельма IV; важнейшим событием его царствования в Англии было проведение в 1832 г. парламентской реформы, предоставившей избирательное право широким кругам буржуазии; в Ганновере он ввел в 1833 г. конституцию.
Виктория (1819–1901) — королева Великобритании и Ирландии с 1837 г., императрица Индии с 1876 г.; внучка короля Георга III, она взошла на трон после того как ее дядя Вильгельм IV умер бездетным. Герцог Кентский, Эдуард (1767–1820) — четвертый сын Георга III, английский фельдмаршал, отец королевы Виктории.
Эрнст Август, герцог Кумберлендский — см. примеч. к с. 52.
… Его сын, Георг V, родившийся в 1819 году, наследовал ему в 1851 году. — См. примеч. к с. 60.
… ганноверский народ никогда не выплачивал своим герцогам, курфюрстам и королям никакого цивильного листа. — Цивильный лист — денежные суммы, ежегодно предоставляемые конституционному монарху для личных нужд и содержания двора.
85… Имена на визитных карточках принадлежали майору Фридриху фон
Белову и г-ну Георгу Клейсту, редактору «Kreuz Zeitung». — Фридрих фон Белов — безусловно, вымышленный персонаж.
Клейст — возможно, здесь подразумевается Ганс Гуго фон Кпейст-Рецов (1814–1892), прусский государственный деятель, один из лидеров крайних консерваторов и основателей «Крестовой газеты» (см. примеч. к с. 9).
88… Мы едем в Эйленриде. Это ганноверский Булонский лес. — Эйленри-де — лес на окраине Ганновера, район увеселительных заведений. Булонский лес — лесной массив у западных окраин тогдашнего Парижа, в средние века место королевских охот, ныне общественный лесопарк в черте города; здесь часто происходили дуэли.
89… братство «Союз добродетели» не дошло все-таки до того, чтобы принять в свою компанию рабочего… — «Союз добродетели» (нем. Tugendbund; полное название — «Общество развития общественн 1,1 х добродетелей, или Нравственно-научный союз») — патриотическое общество, основанное в нач. 1808 г. в Пруссии (в Кенигсберге) представителями либерального дворянства и буржуазной интеллигенции; ставило с вой ми задачами подъем патриотизма, национальное воспитание юношества, укрепление правившей династии, усиление армии. Тайной его целью была подготовка свержения французского господства. В декабре 1809 г. Союз по требованию Наполеона был закрыт, но он продолжал свою деятельность нелегально. После падения наполеоновской империи, в условиях воцарившейся в Германии реакции, он подвергся преследованиям и распался. Деятельность Тугсндбунда оценивалась современниками весьма высоко; считалось, что он удержал Пруссию от выступления в 1809 г. на стороне Австрии и организовал восстание против французов в 1813 г. Однако значение Союза, которому приписывалось даже спасение всей Европы, его влияние и распространение чрезвычайно преувеличивались, хотя он сыграл известную роль в подготовке Освободительной войны 1813–1814 гг. против Наполеона. Число членов Тугсндбунда нс превышало 300–400 человек, а его сторонники находились лишь в восточных районах Германии. Компания, состоящая из офицеров, журналиста и врача, названа здесь «Союзом добродетели» иронически.
90 …На голове у художника красовалась фетровая шляпа на манер Ван Дейка… — Ван Дейк — см. примеч. к с. 15.
… подчеркивала его молодую и сильную, как у Поллукса, шею. — Поллукс — латинизированное имя героя древнегреческой мифологии Полидевка, знаменитого кулачного бойца, сына верховного бога Зевса; он и его брат Кастор (их называли Диоскурами) прославились великими подвигами и дружбой.
Известно очень много изображений Диоскуров; в европейском искусстве их часто изображали детьми.
91… на Сатурновом холме, то есть у основания среднего пальца, была та самая роковая звезда, которая предсказывает насильственную смерть. — На человеческой ладони, согласно хиромантии, знаком планеты Сатурн помечена выпуклость ниже среднего пальца. Напомним, что Сатурн — один из древнейших римских богов; первоначально его культ был, по-видимому, связан с земледелием, а позднее он был отождествлен с древнегреческим Кроном (Хроносом) и стал символом неумолимого времени. В астрологии Сатурн считается холодной, мрачной планетой, влияющей на судьбу зловещим образом.
92… постановка в первой позиции… — Первая позиция (ангард) — основное положение фехтовальщика, в котором он стоит правым боком к противнику, вытянув шпагу горизонтально на уровне плеча; левая рука его приподнята и согнута в локте; ноги расставлены и слегка согнуты, ступни развернуты под прямым углом.
… похоже на франиузскую боевую стойку — кварту, но, тем не менее, в ней есть и чуточку от третьей позиции… — Четвертая фехтовальная позиция (кварта) почти не отличается от третьей (тьерса). В обеих боец стоит прямо, расставив и слегка согнув ноги; носок левой ноги развернут по отношению к ступне правой ноги примерно на 45 градусов; шпага немного приподнята (в четвертой позиции — чуть выше); левая рука приподнята и согнута. Основное различие позиций состоит в положении кисти правой руки: в третей позиции она держит эфес шпаги прямо, а в четвертой — слегка вывернута вверх.
96… у господина Фелльнера, бургомистра Франкфурта… — Фелльнср — историческое лицо, бургомистр Франкфурта-на-Майне в 1866 г.; покончил жизнь самоубийством из-за грабежа в породе, учиненного занявшими его пруссаками; его смерть подробно описана Дюма ниже.
97… тянулась от дельтовидной мышцы до предплечья. — Дельтовидная мышца — крупная мышца в верхней части плеча; имеет вид греческой буквы «дельта», отчего и получила свое название.
102… предстоит вспомнить то, что пришло на свет с улицы Муфтар. —
Улица Муфтар находится в парижском предместье Сен-Марсель, недалеко от предместья Сен-Жак; одна из старейших в городе, известная с XIII в., она была заселена беднотой; свое название получила от имени расположенного в этом районе холма Сефар, которое постепенно преобразовалось в Муфтар.
… встал в позу парижского гамена, занимающегося французским боксом… — Гаменами в Париже называют уличных подростков — веселых, храбрых и жуликоватых.
Французский бокс — см. примеч. к с. 57.
104… у меня найдется с десяток друзей, которые дали бы по тысяче луидоров… — Луидор (луи, «золотой Людовика») — французская золотая монета крупного достоинства, чеканившаяся с XVII в.; в XIX в. луидор стоил 20 франков; во времена Первой и Второй империй аналогичная монета называлась наполеондором.
… нанимаюсь вот так, с лошадью и кабриолетом, служить вам бесплатно… — Кабриолет — легкий одноконный двухколесный экипаж.
106… Наследный принц приглашал… к себе в замок Херренхаузен… — Харренхаузен — королевский дворец, окруженный садом и расположенный взападной части Ганновера, на берегу реки Лейне; построен в 1698 г… прицепил к поясу саблю, подарок Саид-паши… — Саид-паша (1822–1863) — формально турецкий вице-король Египта с 1854 г., а по существу независимый правитель; провел в стране некоторые реформы; находился под влиянием Франции; предоставил французской компании концессию на строительство Суэцкого канала, который сооружался фактически за счет принудительного труда египетских крестьян-феллахов.
107… мой первый удар ножом в Чандернагоре. — Чандернагор — см. примеч. к с. 58.
108… В Чандернагоре я пробыл уже два дня, когда услышал о том, что готовится большая охота на левом берегу Хугли. — Хугли — рукав реки Ганг в Индии; на нем в 140 км от моря стоит Калькутта.
… у меня был револьвер и черкесский кинжал… — Черкесы (более точное название — адыгейцы, или адыге) — кавказский народ, живущий в северо-западной части Кавказа.
109… дорога затенялась великолепными деревьями — то были: банановые пальмы, латании, мимозы, тюльпанные деревья и равеналы… — Банановая пальма — огромная многолетняя трава, листья которой образуют ложный ствол, подобный древесному; ее родина — тропичсская Африка и Азия, Северная Австралия и Малайский архипелаг; одно из древнейших культурных растений, приносящее сладкие мучнистые плоды.
Латания — род растений семейства пальмовых, распространенных на островах Индийского океана. В европейском цветоводстве латанией обычно называют восточноазиатскую небольшую вееролиствснную пальму, вывезенную в Южную Европу и прижившуюся в местных грунтах.
Мимозы — род растений семейства бобовых; известно до 350 видов трав, лиан, кустарников и деревьев этого рода.
Тюльпанное дерево — род листопадных деревьев семейства магнолиевых; произрастает в Северной Америке и Центральном Китае; в Западной Европе и России разводится как декоративное растение. Равснала (или «дерево путешественников») — древовидное растение семейства банановых.
… фиговое дерево… разрастается целим лесом баобабов… — Фиговое дерево (инжир, или смоковница) — плодовое дерево семейства тутовых; произрастает в Средиземноморье и Азии.
Баобаб — огромное дерево со съедобными плодами, характерное для саванн Африки.
МО… шесть собак английских, шесть — африканских борзых. — Борзые — группа древних охотничьих ловчих собак, отличающихся большой быстротой бега.
М2… в Калькутте на пари отправился убивать тигрицу… — Калькутта — город и порт на северо-востоке Индии, в дельте реки Ганг; образовался в кон. XVII в. из фактории английской Ост-Индской компании, построенной ею крепости и близлежащих деревень; в XVIII–XIX вв. основной опорный пункт английских колонизаторов и база их проникновения в центральные районы Индии.
113… подарил мне эту дамасскую саблю. — Дамаск — один из самых древних городов мира; входил в древности и в средние века в состав многих государств Ближнего Востока; в 1516 г. был завоеван турками; в настоящее время — столица Сирии.
Здесь речь идет о клинке из знаменитой дамасской стали — разновидности булата, стали с высоким содержанием углерода; она отличается особой прочностью и известна с глубокой древности.
114… У ваших трех мастодонтов такой комический вид… — Мастодонты — большая группа вымерших гигантских хоботных животных, предков слонов.
… Не поедешь же снова в Калькутту или в Пондишери… — Калькутта — см. примеч. кс. 112.
Пондишери (Путтуччери) — город на юго-востоке Индостана, недалеко от Бенгальского залива; основан французами в 1674 г.; был объектом борьбы между Францией, Нидерландами и Англией; закреплен за первой в 1816 г. и до 1954 г. был центром се индийских колониальных владений.
… корабль Английской компании высадил меня на Цейлоне… — Речь, вероятно, идет об английской Ост-Индской компании, основанной в 1600 г. и получившей от правительства монопольное право на торговлю со всеми странами Индийского и Тихого океана. Помимо многочисленных опорных пунктов в районах своих операций. Компания имела свою армию и флот и превратилась в сер. XVIII в. в политическую силу; захватила обширные территории, активно участвовала в колониальных войнах Англии, была главной силой при завоевании англичанами Индии; ликвидирована в 1858 г.
… сэру Джорджу Дугласу, одному из младших сыновей той обширной семьи Дугласов, которая сыграла роль во всех серьезных событиях, сотрясавших трон Англии. — Дугласы — старинный шотландский дворянский род кельтского происхождения, известный с VIII в.; по другим сведениям, происходил из Фландрии. Дугласы занимали видное место в истории средневековой Шотландии, служили также в Англии, во Франции, Швеции и России; получили титулы графов и герцогов Ангус… с такой же подвижностью и с таким же изяществом, какие мы наблюдаем у корюшки или уклейки… — Корюшки — семейство небольших промысловых рыб; водятся в морских и речных водах Северного полушария.
Уклейка — род небольших пресноводных рыб семейства карповых; обитают в реках Европы и Азии; объекты спортивного рыболовства.
115… труслив на манер нашего короля Генриха Четвертого… — Дюма несколько раз в своих романах говорит о физической робости Генриха IV (см. примеч. к с. 35), которого якобы охватывала дрожь при свисте пуль. Однако современники считали короля храбрым воином.
… это изобретение одного из ваших оружейников? — Да, Девима. — Девим, Луи Франсуа (1806–1873) — известный французский оружейник, в основном изготовлявший гражданское оружие (дуэльные пистолеты, охотничьи ружья и т. п.); его продукция пользовалась большим спросом, неоднократно экспонировалась и награждалась на парижских и международных выставках; автор ряда изобретений и усовершенствований в области оружейного производства; кавалер многих орденов.
116… Вам нужно взять три двуствольных карабина, которые называются двойными барретами. — Баррет — бытовавшее в XIX в. название английского нарезного охотничьего ружья.
… отправил мне трех ап по в, то есть трех надежных негров, и двух кули. — Аппы (appos) — местное название негров-слуг.
Кули — на языке тамилов (одной из народностей Цейлона) носильщики, грузчики, чернорабочие.
… Мы пересекли Коломбо. — Коломбо — город и порт на западном берегу острова Шри-Ланка, столица этого государства; в средние века под названием Коламкотта был известен как крупнейший торговый центр региона; в 1517 г. захвачен португальцами, в 1656 г. — голландцами, в 1796 г. — англичанами.
117 …Вы находитесь на Галлефасе — это местное Прадо. — Галлефас (Галле Фас) — набережная в Коломбо, с которой открывается прекрасный вид на океан.
Прадо — одна из центральных площадей Мадрида, столицы Испании… хотя дорога из Коломбо в Бентенн — одна из самых примечательных. — Бентенн (Bentenne) — этот топоним не идентифицирован; возможно, здесь опечатка в оригинале и имеется в виду город Бентота (Bentota), расположенный на юго-западном берегу острова Шри-Ланка, к югу от Коломбо.
… Дикие слоны водятся только между Бептешюм и Баду мои. — Бадулла — город в юго-восточной части острова Шри-Ланка, в гористой местности; ныне — центр чаепроизводящего района.
… слон, направляемый своим карнаком… — Карнак — погонщик слонов в Индии и на Цейлоне.
118 Бомбей — один из крупнейших городов на западе Индии, порт на Аравийском море.
119… как снопы пшеницы на току, лежали железные деревья, талипотовые пальмы, банановые деревья, равеналы. — Железное дерево — название ряда видов деревьев и их древесины, отличающейся большой прочностью; произрастают в тропических и субтропических странах. Талипотовая пальма (зонтичная пальма) — дерево из семейства пальм; растет во влажных тропических лесах Цейлона и Индии; культивируется в оранжереях как декоративное растение.
122… Свинец, бумага, порох — все туда вошло. — В сер. XIX в., несмотря на то что был уже изобретен унитарный патрон, ружейные патроны часто состояли из бумажного пакетика, содержащего вышибной заряд пороха, и отдельной свинцовой пули.
123… читал в описаниях путешествий Левайяна в Африку… — Левайян, Франсуа (1753–1824) — известный путешественник и естествоиспытатель; был родом из голландской колонии в Южной Америке.
124… осматривал Джидду на Красном море… — См. примеч. к с. 58.
… На нем были египетские феска и кафтан… — Феска (от названия города Фес в Марокко) — красный мужской головной убор в форме усеченного конуса с кисточкой различных цветов; распространен в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
… он носил бретонские короткие штаны и кожаные обтягивающие гетры. — Имеются в виду широкие штаны (т. н. брака), которые в древности носили галлы; римляне считали их символом варварства. Бретань — историческая провинция в Северо-Западной Франции, расположенная на одноименном полуострове; в настоящее время ее территория охватывает департаменты Финистер, Морбиан, Кот-дю-Нор, Иль-и-Вилен.
… отправлю к г-ну Эймера, нашему консулу в Суэце… — Эймера (Eymerat) — сведений об этом персонаже найти не удалось.
Суэц — город и порт в Египте, на Красном море, у южной оконечности Суэцкого канала; известен с X в.; в XVI в. был завоеван Турцией и стал важной военной и торговой базой; затем пришел в упадок и стал возрождаться в связи со строительством Суэцкого канала, открытого в 1869 г.; с 1882 г. до нач. 50-х гг. XX в. был оккупирован англичанами.
… на следующий день, к вечеру, мы были в Массауа. — Массауа (Массава) — город и порт на севере Эфиопии, на Красном море.
… в изобилующих дичью лесах вдоль верховий Атбары… — Атбара (араб. Бахр-Эль-Асуад) — река в Эфиопии и Судане; длина 1 120 км; правый приток Нила.
125… там было целое племя змей разных видов: кобра, кафрелло, рогатая гадюка, аспид… — Кобра — общее название десяти видов очень ядовитых змей из семейства аспидовых; второе название — очковая змея; обитают в Африке и Южной Азии.
Кафрслло (cafrcllo) — сведений о такой змее найти нс удалось. Рогатая гадюка — небольшая ядовитая змея из семейства гадюк; название получила от расположенных над ее глазами небольших выростов, напоминающих рожки; обитает в Северной Африке и Аравии. Аспиды — обширное и широко распространенное семейство ядовитых змей, обитающих в жарких странах.
… поросль из ателя и кура я… — Атсль (athcl) — об этом растении сведений найти не удалось.
Курай (зольник) — название нескольких полупустынных и пустынных растений из родов солянок и верблюдок; служат кормом скоту.
126… мне чудилось, будто передо мной голова Медузы: я был полностью парализован страхом. — Медуза — в древнегреческой мифологии одна из горгон — крылатых чудовищ с женской головой и змеями вместо волос. Лица горгон были столь страшны, что человек, взглянувший на них, обращался в камень. Герой Персей убил Медузу, отрубив ей голову, и несколько раз использовал эту голову как оружие, обращая своих врагов в камень.
128… облачился в местную одежду, состоявшую из штанов и куари. — Куари (couari) — сведений о такой одежде найти не удалось.
… ствол тамариндового дерева… — Тамаринд — крупное (до 25 м) вечнозеленое тропическое дерево семейства цезальпиниевых с кистями белых цветов; плоды его (под названием индийские финики) употребляются в пищу и для приготовления из них напитков.
… опирался на руку своего адъютанта, г-на фон Веделя… — Ведель, Альфред, граф — сенешаль двора короля Ганновера в 1866 г.
129… и не постарался соединить учение Лафатера и Галля с учением д ’Арпантиньи. — Лафатер, Иоганн Каспар (1741–1801) — швейцарский писатель, пастор в Цюрихе, автор богословских сочинений, а также стихов, романов и драм на сюжеты Священной истории; один из основоположников физиогномики (или физиономики) — учения об определении душевных качеств человека по чертам и выражению его лица; посвятил ей книгу «Физиогномический набросок для поощрения человекознания и человеколюбия» («Physiognomische Fragmente zur Befordening der Menschenkenntnis und Menschenliebe»); она вышла в свет в четырех томах в Лейпциге и Винтертуре в 1775–1778 гг. Галль, Франц Йозеф (1758–1828) — австрийский врач и анатом, занимавшийся исследованием строения мозга; в 1785 г. окончил медицинский факультет в Вене, оттуда в 1805 г. был изгнан за присущие ему материалистические взгляды; продолжал свою деятельность в Париже; фактически был основоположником френологии. Д’Арпантиньи — см. примеч. к с. 56.
… с точки зрения френологии ясно выраженные чрезвычайно развитыми органами поэзии… — Френология — учение об определении способностей человека по строению его черепа, созданное Ф.Галлем. Согласно френологическому учению, головной мозг есть главный орган всех духовных и физических функций человека; все психические свойства человека локализуются в полушариях мозга и при своем развитии вызывают разрастание определенного его участка; это разрастание в свою очередь вызывает выпуклость на соответствующем участке черепа; недоразвитость же какого-либо психического свойства индивидуума проявляется, напротив, но опади нс на определенном участке его черепа. В действительности рельеф мозга нс определяет психику человека, а форма черепа нс повторяет форму мозга.
… высокое покровителитво, оказанное вами бедному сапожнику Лампе, лекарю-ботанику, уроженцу Гослара, изобретателю лечения травами… — Лампе (Lampc) — сведений об этом персонаже найти не удалось.
Гослар — город в Германии, в восточной части Ганновера; основан в 920 г.; в 1867 г. вместе с Ганновером вошел в Северогерманский союз, а в 1877 г. — в Германскую империю.
130… знаю…его карьеру солдата, прерванную саблей французского кирасира, который раскроил ему череп на равнинах Шампани. — Кирасиры — род тяжелой кавалерии в европейских армиях в XVI–XX вв.; комплектовались из людей крупного сложения и сидели на рослых конях, имели на вооружении латы и каски; в бою предназначались для нанесения решающего удара.
Шампань — историческая провинция в северо-восточной части Франции.
Войска германских государств вели военные действия на территории Шампани в 1792 и 1814 гг. во время вторжения туда армий первой (1792–1797) и шестой (1813–1814) антифранцузских коалиций; здесь, скорее всего, речь идет о кампании 1814 г.
131… бросил вызов лейпцигским врачам. — В Лейпцигском университете с 1438 г. существовал медицинский факультет; в XIX в. там преподавали многие выдающиеся немецкие медики.
… гулкое имя вроде звучания цимбал. — Цимбалы — струнный ударный музыкальный инструмент в виде плоского деревянного корпуса трапециевидной или прямоугольной формы с натянутыми металлическими струнами, звук из которых извлекают ударами деревянных палочек или колотушек.
… в ночном покое сияют звезды, и мне кажется, что я слышу мелодию их стройных звуков, раздающихся при их вращении по небесным сферам, что так прекрасно показал божественный Пифагор… — Пифагор (ок. 540–500 до н. э.) — древнегреческий философ, математик и религиозно-нравственный рефюрматор с острова Самос; основатель философской системы, названной его именем. Подлинными сочинениями Пифагора мы не располагаем, и, согласно античной традиции, их никогда и не существовало. Из взглядов философа, дошедших до нас только в пересказах его последователей, надежно зафиксированы лишь учение о бессмертии души, учение о переселении душ (метемпсихозе) в сочетании с «памятью предков», требование бескровных жертвоприношений богам, очищение тела через вегетарианство, души — через познание музыкальночисловой структуры космоса, представляющего собой гармонию чисел и их отношений. Пифагор ввел в древнегреческую философию учение о гармонии (или музыке) сфер, т. е. о музыкальном звучании планет и планетных сфер.
133… как развит Аполлонов холм, вот здесь, под безымянным пальцем! —
Аполлонов холм — в хиромантии выпуклость ладони у основания
21-7045 бе зымянного пальца, указывающая на художественные и творческие способности человека.
Аполлон — см. примеч. к с. 73.
… посмотрите на Марсов холм: он находится в той части ладони, что противоположна большому пальцу… — Здесь имеется в виду т. н. холм отрицательного (или обороняющегося) Марса, находящийся под мизинцем (ниже холма Меркурия) и в хиромантии помеченный знаком планеты Марс; дает сведения о выдержке человека и умению постоять за себя. Кроме того, существует еще холм положительного (или агрессивного) Марса, находящийся между указательным и большим пальцами, ниже холма Юпитера; твердость этого холма указывает на храбрость человека и его стремление к победе. Напомним, что Марс — в древнеримской мифологии первоначально бог плодоносящих сил природы и мужской мощи; затем он превратился в бога войны и отождествился с древнегреческим богом войны Аресом (Ареем).
… Сатурн против нас. Сатурн угрожает. — См. примеч. к с. 91.
… линия судьбы тянется у вас одновременно к мозгу и к холму Солнца… — Линия судьбы — согласно хиромантии, одна из четырех основных линий на ладони человека (наряду с линиями сердца, головы и жизни), хотя она есть не у всех; располагается приблизительно в центре ладони: начинается у запястья и идет вверх к пальцам; определяет цель, смысл, мотивации жизни индивидуума и указывает направление, в котором возможно достижение жизненного успеха.
… на Юпитере есть чудесное сияние… — В хиромантии знаком планеты Юпитер помечено возвышение ладони ниже указательного пальца: оно называется холмом Юпитера; высокий, широкий холм Юпитера (именно он здесь имеется в виду) считается признаком ума, самолюбия и способности к лидерству.
Напомним, что Юпитер — в древнеримской мифологии верховный бог, бог неба, дневного света, грозы и грома, во многом схожий, а позднее отождествленный с греческим Зевсом.
… в тридцать девять лет я стал королем. — Георг V (см. примеч. к с. 60) стал королем в 32 года.
134… купался в море у Нордернея. — Нордерней — курорт на острове
Нордерней в Немецком (Северном) море; в XIX в. входил в состав Ганноверского королевства.
… Глостер предлагал свое королевство за коня… — Это слова короля Ричарда III из исторической хроники У.Шекспира «Король Ричард III» (V, 4): «А horse! a horse! my kingdom fora horse!»
Ричард III (1452–1485) — английский король (с 1483 г.) из династии Йорков; до вступления на престол носил титул герцога Глостера, принимал активное участие в борьбе за престол против соперничавшей династии Ланкастеров; в конце концов потерпел поражение и пал в бою; герой исторических хроник Шекспира «Король Генрих VI» и «Король Ричард III».
… Один из ваших близких не только предаст вас, но еще и ограбит. — Здесь подразумевается родственник, хотя и дальний, короля Ганновера — прусский король Вильгельм I. В ходе войны 1866 г. Ганновер был занят Пруссией, а потом присоединен к ней. Денежная компенсация за него выплачена не была.
… Линия Солнца предсказывает победу, но победу пустую, бесполезную, безрезультатную. — Линия Солнца, идущая параллельно линии судьбы, обычно короткая, заканчивается у холма Аполлона; хироманты утверждают, что люди с развитой линией Солнца обладают возможностями добиться больших успехов.
27 июля 1866 г. у города Лангензальца в Ганновере ганноверская армия одержала победу над прусскими войсками. Однако стратегическая выгода досталась побежденным, которые задержали движение ганноверских сил на соединение с австрийцами. Через несколько дней ганноверская армия, окруженная превосходящими силами пруссаков, сдалась в плен.
… линия Солнца прерывается над головной линией, исходящей от Марса и перерезающей также холм Юпитера. — Головная линия (линия головы) пересекает человеческую ладонь почти в горизонтальном направлении; она отходит от края ладони выше большого пальца (от положительного Марса) и идет к се противоположному краю; по ее длине и структуре хироманты делают заключение об умственной энергии человека.
138… Ньютон говорил: «Изобретение большого пальца у человека уже довольно, чтобы заставить меня поверить в Бога». — Ньютон, Исаак (1643–1727) — английский физик, механик, астроном и математик; сформулировал основные законы классической механики, открыл закон всемирного тяготения, заложил основы дифференциального и интегрального исчисления.
Материалистические научные воззрения Ньютона сочетались у него с глубокой религиозностью. Он последовательно выступал в защиту религии и англиканской церкви, занимался поисками доказательства бытия Божьего, написал много богословских сочинений, о которых иногда и сам отзывался как о мистических мечтаниях (большинство их не было опубликовано).
…. будучи вольтерьянцем, он приходил в ужас от всего, что могло увлечь его по пути мистицизма. — Вольтерьянец — в XVIII–XIX вв. свободомыслящий независимый в суждениях человек, вольнодумец; человек, разделяющий воззрения Вольтера.
Вольтер (настоящее имя Мари Франсуа Аруэ; 1694–1778) — французский писатель и философ-просветитель; сыграл огромную роль в идейной подготовке Великой французской революции. Мистицизм — мировоззрение, основанное на мистике, вере в сверхъестественное, таинственное, в возможность общения человека с потусторонним миром.
… Никакая новая система не могла быть мыслима, пока торжествовала Ньютонова пустота. — В ньютоновой механике пространство представляется как абсолютно пустое и лишенное материи.
140… происходил из семьи коренных жителей Бреслау… — Бреслау (соврем.
Вроцлав) — старинный славянский город Бреславдь, известный с X в.; в средние века входил последовательно в состав Чехии, Венгрии, Австрии; в 1742 г. перешел к Пруссии и подвергся сильной германизации; после Второй мировой войны войны — в составе Польши.
… учился он в Йенскомуниверситете. — Йенский университет, основанный в 1558 г., — один из самых известных университетов в Германии; сыграл большую роль в культурной жизни страны; в нем учились и преподавали многие выдающиеся немецкие ученые.
… приехал в самое живописное место на Рейне, туда, где находится Семигорье. — Ссмигорье (Siebengebirge) — гористая местность на правом берегу Рейна в его среднем течении, начинающаяся примерно напротив Бад-Годесберга и продолжающаяся на юг до Бад-Хоннефа… великолепный готический замок, только что заново отделанный. Это было владение брата прусского короля, в то время еще только наследного принца. — Имеется в виду Рсйнштейн — живописный старинный замок на берегу Рейна, в его среднем течении; отреставрирован в 1829 г.; в XIX в. принадлежал королю Вильгельму I.
141… беззаботно постучал в ворота донжона. — Донжон — главная, отдельно стоящая башня феодального замка (по форме — четырехугольная или круглая), служившая его обитателям последним убежищем при нападении неприятеля.
142… все же остался на ночь и спал в кровати ландграфа Филиппа. — Вероятно, подразумевается Филипп I Великодушный (1504–1567) — ландграф Гессенский (с 1509 г.), один из вождей реформации в Германии и имперских князей-протестантов в их борьбе против императора, с которым он в то же время пытался сблизиться; жестоко подавлял крестьянское движение и рыцарские восстания… его вызвали в кабинет великого герцога. — Имеется в виду Карл Александр Саксен-Веймар-Эйзенахский (1818—?) — великий герцог с 1853 г.; строго придерживался конституционных принципов правления; поддерживал прусскую политику объединения Германии.
143… приветствовать его величество короля Пруссии Вильгельма Первого, только что вступившего на трон. — См. при меч. к с. 13.
… желает видеть его на следующий день в своем Потсдамском дворце. — Потсдам — окружной центр, город у юго-западных окраин Берлина, на реке Хафель; в XIX в. относился к провинции Бранденбург, с XVIII в. резиденция прусских королей. В Потсдаме к сер. XVIII в. сложился большой дворцово-парковый ансамбль. Здесь, вероятно, имеется в виду т. н. «Городской замок», возведенный в XVII в. и перестроенный в 1745–1751 гг. в стиле классицизма.
… принял его в замке Рейнштейн. — Рейнштейн — см. примеч. к с. 140.
144… показал ему могилу и шпагу Фридриха Великого. — Фридрих II (см. примеч. к с. 9) был похоронен в гарнизонной церкви в Потсдаме.
… осмотреть замок Сан-Суси, располагавшийся всего в двух километрах от Потсдама. — Сан-Суси — изящный одноэтажный дворец, расположенный в Потсдамском парке; построен в 1745–1747 гг.
… в парке этого замка находилась та знаменитая мельница, которую мельник когда-то ни за что не захотел продать королю Фридриху II, выиграв процесс против короля. — Имеется в виду знаменитая история с мельницей, которая мешала Фридриху II расширить по своему вкусу парк при его дворце Сан-Суси. Король снизошел до беседы с мельником Арнольдом, но тот отказался продать мельницу даже за сумму, значительно превышавшую ее действительную стоимость. Стойкость мельника, его уверенность в справедливости немсцких законом настолько понравились королю, что он сделал эту незначительную историю достоянием гласности и в кон. XVIII в. она стала весьма популярной.
Существует и иной вариант истории с мельником: на этот раз благодаря своевременному вмешательству короля Фридриха мельник был спасен от судейского произвола. Несправедливое решение суда первой инстанции, подтвержденное в Берлине, было отменено лично Фридрихом, и он, разобравшись в деле, отправил в отставку государственного канцлера и несколько высших судейских чиновников.
145… король пожаловал Фридриху орден Красного Орла… — Этот бранден бургско-прусский орден анекдотически отразил историю царствующего дома и в известной степени историю Прусского государства. Он был основан маркграфом Бранденбург-Байрсйтским Христианом Эрнстом в 1660 г. во французском городе Бордо, где проходила встреча испанского и французского королей в связи с заключением мира между Испанией и Францией и одновременно между Бранденбургом и Австрией; имел форму перевязи под коленом по образцу английского ордена Подвязки, учрежденного когда-то в этом же городе, и девиз «Concordant» (лат. «Живут в согласии»). В 1705 г. сын Христиана Эрнста Георг Вильгельм, недовольный вторичной женитьбой своего отца, учредил в память своей матери Елизаветы «Орден Искренности» (фр. «De la Sincerite»). В ответ Христиан Эрнст восстановил забытый орден 1660 г., придав ему форму креста голубого цвета, углы которого были заняты красными брандербургскими и черными прусскими орлами. Французский девиз ордена «Constante et etemelle sincerite» («Постоянная и вечная искренность») первыми своими буквами CEES повторял начальные буквы имен маркграфа и его жены. Став в 1712 г. маркграфом, Георг Вильгельм предал орден отца 1705 г. забвению и издал новый статут ордена «Искренности», дав ему новый девиз «Semper idem» (лат. «Всегда тот же») и новую форму: крест белой эмали с белым орлом в центре. В 1734 г. орден (при новом маркграфе) получил другое название — орден Бранденбургского Красного Орла, а девиз его стал: «Sincere et constanter» («лат. «Искренне и стойко»).
В 1769 г. линия маркграфов Бранденбургских пресеклась, и орден Красного Орла в 1792 г. был причислен к прусским в качестве следующего по значению за орденом Черного Орла. В Пруссии он имел шесть степеней с большим разнообразием знаков, цепь и три звезды.
… познакомился…со старинной семьей, происходившей от французских беженцев времен отмены Нантского эдикта и с тех пор принявшей католичество. — Нантский эдикт, изданный в 1598 г. французским королем Генрихом IV, обеспечивал французским протестантам свободу вероисповедания, право содержать своих представителей при дворе и давал им ряд политических и военных гарантий. В 1685 г. эдикт был отменен, протестантская религия воспрещена, ее сторонников преследовали и насильно принуждали к переходу в католичество. Эти гонения вызвали массовую эмиграцию протестантов в другие страны Европы, в частности в Германию, что принесло Франции большой ущерб из-за потери квалифицированной рабочей силы и капиталов.
… став матерью семейства, превратиться в римскую матрону — Лукрецию и Корнелию вместе взятые. — Матрона — знатная и почтенная женщина, мать семейства в Древнем Риме.
Лукреция — жена Тарквиния Коллатина, родственника последнего римского царя Тарквиния Гордого (534/533-510/509 до н. э.); согласно преданию, отличалась скромностью и трудолюбием, была верной и преданной женой; обесчещенная царским сыном Секстом Тарквинием, лишила себя жизни, что послужило поводом для изгнания Тарквинисв и основания Римской республики.
Корнелия (ок. 189-ок. 110 до н. э.) — дочь знаменитого полководца Публия Корнелия Сципиона Африканского, посвятившая себя воспитанию сыновей — знаменитых реформаторов Тиберия и Гая Гракхов; осталась в истории как образец благородной римлянки, славной своими добродетелями и разносторонними знаниями.
… кружево черных ресниц, которые придавали ее сиявшим зрачкам темный отсвет черных триполийских бриллиантов. — Здесь, скорее всего, речь идет о городе Триполи в Ливане, где издавна занимаются огранкой алмазов.
146… Нездоровье… проявилось грудной болезнью… — В XIX в. грудными болезнями называли болезни легких и дыхательных путей; здесь имеется в виду чахотка.
… адъютантом собственного сына его величества или его двоюродного брата. — Имеются в виду кронпринц Фридрих Вильгельм, будущий император Фридрих III, и его двоюродный брат принц Фридрих Карл (см. примеч. к с. 39).
147… Во Франкфурте-на-Майне, в районе Росс-Маркта, рядом с Большой улицей, напротив протестантской церкви, что сохранила за собою имя святой Екатерины, стоит дом, построенный в архитектурном стиле переходного периода от эпохи Людовика XIV к эпохе Людовика XV. — Франкфурт-на-Май не — см. примеч. к с. 25. Росс-Маркт («Конный рынок») — большая площадь в центре Франкфурта, на которой стоит памятник изобретателю книгопечатания Гутенбергу.
Церковь святой Екатерины, принадлежавшая в XIX в. прихожанам евангелического вероисповедания, была построена в XVII в. Людовик XIV (1638–1715) — французский король; эпоха его правления, которую часто называют в истории «веком Людовика XIV», или «веком Людовика Великого», — время наивысшего расцвета абсолютизма во Франции, величия страны и подъема ее культуры, которой король покровительствовал. Историками-роялистами он прославляется как «наместник Бога на земле», а его знаменитая фраза: «Государство — это я!» расценивается как провозглашенный принцип абсолютизма.
Людовик XV (1710–1774) — король Франции с 1715 г., правнук Людовика XIV; отличался безнравственным образом жизни; его царствование ознаменовалось поражениями Франции в колониальной борьбе с Англией и углублением кризиса французского абсолютизма. Веку Людовика XIV соответствует в искусстве художественный стиль барокко, в котором была достигнута высокая степень взаимопроникновения архитектуры, скульптуры и живописи. Для этого стиля характерны монументальность, эффектность и зрелищность произведений искусства, создание огромных архитектурных и дворцово-парковых ансамблей. Искусство барокко достигло наибольшего развития как выражение дворянской культуры в тех странах, в которых были самые сильные абсолютистские режимы, — например, во Франции, где был создан особый парадный стиль дворцового убранства. «Высокие» сюжеты барокко (особенно в живописи) сознательно противопоставлялись бытовому жанру. При некоторой стандартизации форм произведения барочной архитектуры отличались богатым декором, что позволяет говорить о переходном периоде от барокко к стилю рококо.
Стилем Людовика XV часто называют развитое рококо — разновидность этого аристократического направления в архитектуре, живописи и декоративно-при клад ном искусстве, господствовавшего в кон. XVII-cep. XVIII в. Для художественных произведений в стиле рококо характерна изящная, но вместе с тем сложная и вычурная форма.
150… хотел иметь там гарнизон на время заседания Сейма… — Весной
1866 г. на обсуждение Сейма Германского союза Бисмарк внес два вопроса: о реформе Союза, по сути означавшей превращение его из конфедерации в единое государство, и вопрос о трениях между Пруссией и Австрией по поводу Шлезвига и Гольштейна. Эти предложения, а особенно вступление пруссаков в Гольштейн 8 июня, по существу, провоцировали Австрию. В ответ Австрия 11 июня внесла в Сейм предложение мобилизовать войска союзных государств против Пруссии. 14 июня состоялось заседание Сейма, на котором было принято австрийское предложение. В тот же день Пруссия заявила о выходе из Союза, а 16-го начала военные действия.
152 …все это, мне кажется, полностью входит в привычки некоей Дианы Вернон. — Диана Вернон — благородная девушка, героиня романа «Роб Рой» В.Скотта (см. примеч. к с. 77).
154… Когда — то прежде существовала Австрийская империя, которая при
Карле V недолгое время господствовала над Европой и над Америкой, над Восточной Индией и над Западной Индией. — Карл V Габсбург (1500–1558) — император Священной Римской империи (1519–1556) и король Испании (1516–1556) под именем Карлоса I; в состав его державы входили также Нидерланды, Южная Италия, Сицилия, Сардиния и испанские колонии в Азии и Америке; проводил политику жестого подавления реформации; вел многочисленные войны за создание единой мировой христианской монархии; после провала этих планов отрекся от всех своих престолов. Однако здесь у Дюма терминологическая неточность: Карл V был государем Священной Римской империи германской нации (см. примеч. к с. 8). Что касается Австрийской империи, то она возникла лишь 1806 г., после упразднения ее предшественницы: в нее вошли наследственные земли Габсбургов.
Восточной Индией (Ост-Индией) называли с XVI в. земли Юго-Восточной Азии в противовес Западной Индии (Вест-Индии), землям Южной и Центральной Америки. Это название появилось потому, что Колумб, открыв Америку, принял ее за восточное окончание Евроазиатского материка, достичь который он рассчитывал, плывя на запад.
… С высоты Далматских гор она смотрела, как вставало солнце, с высоты Андийских Кордильер она взирала, как солнце садилось. — Далматские горы — горы Далмации, исторической области на западном берегу Адриатического моря, а точнее — Динаре кого нагорья, расположенного на ее территории. В XVI в. побережье Далмации принадлежало Венеции, а внутренние ее районы — Турции.
Андийские Кордильеры (или Анды) — самая длинная (9 (MM) км) и одна из самых высоких в мире (гора Аконкагуа — 6 960 м) горных цепей, окаймляющих с севера и запада всю Южную Америку, южная часть Кордильер. Анды проходят по территории Чили, Перу и др. государств, чьи земли в XVI в. были колониями Испании.
В этой фразе Дюма использует старинное выражение, метафорически определяющее обширность владений Карла V, — «В его империи никогда не заходило солнце».
… Эта империя была больше империи Александра Македонского, больше империи Августа, больше империи Карла Великого. — Александр Македонский — см. примеч. к с. 80.
Август (63 до н. э.-14 н. э.) — древнеримский государственный деятель и полководец; внучатый племянник и приемный сын Гая Юлия Цезаря, носивший имя Гай Октавий Фурин; в 44 г. до н. э. принял имя Гай Юлий Цезарь Октавиан; с 27 г. до н. э. первый римский император (под именем Цезаря Августа). В Римскую империю, помимо Италии, во время правления Августа входили территории Галлии (соврем. Франция и Бельгия), Испании, Швейцарии, Южной и Северо-Западной Германии, Венгрии, Северной Африки, Египта, Балканского полуострова. Малой Азии, Сицилии и других островов Средиземного моря.
Карл Великий — см. примеч. к с. 47.
… Себе самой она взяла у нее Фландрию, герцогство Бар, Бургундию, Эльзас и Лотарингию. — Фландрия — историческая область в Западной Европе, на побережье Северного моря; самоназвание ее населения — фламандцы. Ныне часть исторической Фландрии входит в состав Бельгии (провинции Восточная Фландрия и Западная Фландрия), часть — Франции (департамент Нор), часть — Нидерландского королевства (южные регионы провинции Зеландия).
Бар (или Барруа) — графство, затем герцогство в Северо-Восточной Франции, на территории соврем, департамента Мёз; главный город — Барле-Дюк; в 1431 г. соединилось с герцогством Лотарингским и в 1766 г. отошло к французской короне.
Бургундия — имеется в виду герцогство Бургундия (X–XV вв.), крупное феодальное владение в Восточной Франции. После распада этого владения в 1477 г. часть его территорий захватила Франция, а часть — Империя (Нидерланды и графствоФранш-Конте, или графство Бургундия). Франш-Конте, земли которого ныне занимают департаменты Верхняя Сона, Ду и Юра, было отвоевано Францией в 1674 г. Лотарингия — историческая область на северо-востоке Франции (соврем, департаменты Мозель, Мёрт-и-Мозель, Мёз, Вогезы); часть древнего Лотарингского королевства, возникшего в 855 г. в ходе распада Франкского государства и названного по имени ее первого короля Лотаря II, а затем вошедшего как герцогство в состав Германского королевства; объект постоянной борьбы между германскими и французскими правителями; формально подчинялась императору Священной Римской империи, но имела постоянно растущие культурные, политические и экономические связи с Францией, особенное кон. XV в.; с 1552 г. началось присоединение ее земель к Франции (епископства Мец, Туль и Верден); в период Тридцатилетней войны она была оккупирована Францией, а герцоги ее лишены власти; в 1697 г. герцогство восстановлено как часть
Германской империи; по Венскому миру 1738 г. отошла к Станиславу Лсшинскому, лишенному польского трона, а после его смерти и 1766 г. вошла в состав Франции; однако борьба с Германией за нее велась и позднее.
Эльзас — историческая область на границе между Францией и Германией, служившая яблоком раздора между этими двумя государствами в течение многих веков; с IX в. входила в состав Германской империи, отошла к Франции в 1678 г.; ныне разделена на департаменты Верхний Рейн, Нижний Рейн и Бельфор.
155… Для внука короля Людовика XIV она взяла у нее Испанию, обе Индии и острова. — Имеется в виду Филипп V (1683–1746) — король Испании с 1700 г., второй внук Людовика XIV, носивший во Франции титул герцога Анжуйского; став монархом согласно завещанию последнего испанского Габсбурга (своего двоюродного деда), он был вынужден отстаивать свои права в ходе войны за Испанское наследство (1701–1714), которую при поддержке Франции вел против Англии, Голландии и Империи; робкий, ленивый неврастеник, отличавшийся большой набожностью, Филипп был поддержан в этой борьбе своей юной, но весьма энергичной женой Марией Луизой Савойской (1688–1714); дважды изгоняемый врагами из Мадрида, он отказался покинуть трон даже по настоянию своего деда и по окончании войны остался королем Испании, хотя по условиям мирных договоров 1713 и 1714 гг. был вынужден отречься от своих прав на французскую корону и уступить Австрии Нидерланды, Милан, Неаполь, Сардинию, Сицилию, Менорку, а Англии — Гибралтар; с тех пор главной целью его политики стало возвращение утраченных им прав и владений; потеряв в 1714 г. первую супругу, он в том же году женился на Елизавете Фарнезе (1692–1766), принцессе Пармской, и сразу же попал под ее влияние; главным смыслом деятельности новой испанской королевы, сознававшей, что испанский трон достанется, скорее всего, королевским сыновьям от первого брака, стали заботы об устройстве ее собственных детей (предпочтительнее — в Италии); с того времени Испания вела активную внешнюю политику, воюя в Италии и сближаясь то с Францией, то с Империей; ухудшение душевного здоровья короля заставило его отречься от престола в пользу старшего сына, Луиса (1724), но внезапная кончина принца вынудила Филиппа вернуться на трон; смерть настигла короля во время новой военной кампании испанцев в Италии — в период войны за Австрийское наследство (1741–1748). Цели, которые ставили себе царственные супруги, оказались в значительной степени достигнутыми: династия Бурбонов укрепилась в Испании, Филиппу наследовал его второй сын от первого брака Фердинанд VI (1712–1759), старшему из сыновей Елизаветы (будущему испанскому королю Карлу III) достались Неаполь и Сицилия, а ее младший сын стал герцогом Пармы и Пьяченцы.
…Для сына короля Филиппа V она взяла Неаполь и Сицилию. — Имеется в виду принц Карл (1716–1788) — сын короля Филиппа V, сводный брат испанского короля Фердинанда VI. Во время общеевропейской войны за Польское наследство (1733–1739) Испания выступила на стороне Франции против Австрии, России и Саксонии; испанские войска заняли в конце 1734 и в 1735 гг. Неаполь и Сицилию и принц Карл стал в 1734–1759 гг. под именем Карла VII королем Обеих Сицилий, где он провел ряд реформ, принесших ему большую популярность; с 1759 г., после смерти старшего брата, стал под именем Карла III королем Испании; в новом своем государстве также провел много реформ в духе просвещенного абсолютизма, укрепивших королевскую власть и улучшивших экономическое и военное положение страны; во внешней политике ориентировался на союзнические отношения с Францией.
… Она взяла у нее Нидерланды, чтобы из них сделать два отдельных королевства — Бельгию и Голландию. — В этой фразе Дюма очень упрощает и сближает по времени события, связанные с образованием королевств Бельгии и Нидерландов. Накануне Великой французской революции и связанных с ней революционных и наполеоновских войн Бельгия являлась владением Габсбургов и входила в состав Священной Римской империи. В 1794 г. она была завоевана Францией и закреплена за ней по Кампоформийскому мирному договору с Австрией в 1797 г. Голландия (официально называвшаяся республикой Соединенных провинций) была завоевана в 1795 г., и там была провозглашена вассальная по отношению к Франции Батавская республика. В 1806 г. Наполеон превратил эту республику в королевство для одного из своих братьев, но в 1810 г. уничтожил это королевство и включил его территорию в свою империю. В 1814 г. территория Бельгии и Голландии была освобождена войсками государств — участников шестой анти наполеоновской коалиции. Формально-юридически и Бельгия, и Голландия входили в состав Священной Римской империи, хотя эта принадлежность к 1806 году — году упразднения Империи, фактически была забыта.
В 1815 г. Венский конгресс держав-победительниц Наполеона, устанавливавший послевоенное устройство Европы, объединил Бельгию и Голландию в единое Нидерландское королевство. Как сравнительно крупное государство, оно должно было входить в «санитарный кордон» на случай возобновления французской агрессии. Но в Бельгии в 1830 г. произошла революция, и страна провозгласила независимость, признанную державами Европы в 1831 г.
… Наконец, она взяла у нее Ломбардию и Венецию, чтобы отдать их Италии. — См. примеч. к с. 39.
… Сегодня пределы этой империи… таковы: на западе — Тироль, на востоке — Молдавия… — Тироль — историческая область в Альпах; с XII–XIII вв. — графство, включенное в 1363 г. в состав владений австрийских Габсбургов; в 1796–1797 гг. его территория входила в театр военных действий Итальянской кампании Бонапарта; в 1805 г. присоединена к Баварии, затем поделена между ней и подвластными Франции землями — Итальянским королевством и Иллирийскими провинциями; в 1809–1810 гг. — район освободительного крестьянского восстания против французов; возвращена Австрийской империи решениями Венского конгресса в 1814–1815 гг.; по Сен-Жерменскому мирному договору 1919 г., заключенному Австро-Венгрией с ее противниками по Первой мировой войне, разделена между Австрией и Италией. Молдавия (точное название — Молдова) — историческая область на севере Балканского полуострова, ныне частично принадлежащая Румынии, а частично составляющая республику Молдавия; в древности была заселена фракийскими, скифскими и славянскими племенами; п I–II im. была запоем на Римской империей и подверглась значительной романизации, оказывающей свое влияние до настоящего времени; в средние века находилась под властью многих государств Юго-Восточной Европы, пока в кон. XVI в. княжество Молдова (образовалось в XIII–XIV вв.) нс попало на несколько веков в зависимость от Турции; в новое время было объектом борьбы между Турцией, Россией и Австрией; по Парижскому мирному договору 1856 г. Молдова вместе с соседним княжеством Валахией стала вассалом Турции под гарантией европейских держав; в 1859 г., после упорной освободительной борьбы, Валахия и Молдова составили единое Румынское государство.
В XVI11—XIX вв. Австрия неоднократно пыталась завладеть т. н. Дунайскими княжествами, но сделать ей это нс удалось.
… Австрии как таковой просто пет, а есть герцогство Австрийское со столицей Веной… — Герцогство Австрийское образовалось в XII в. на верхнем течении Дуная, на месте Восточной марки — землях западных славян, завоеванных немецкими феодалами. Несколько раньше оно получило название «Австрия», по-немецки Osterreich («Восточная империя»). В XII–XIVI вв. Австрия присоединила соседние земли Штирию, Крайну, Каринтию и стала одним из самых сильных княжеств Священной Римской империи; во второй пол. XIII в. была захвачена императором Рудольфом Габсбургом и стала наследственным владением его дома.
… один из австрийских герцогов в 1192 году взял в плен Ричарда Львиное Сердце, когда тот возвращался из Палестины, и отпустил его только за выкуп в двести пятьдесят тысяч золотых экю. — При возвращении из Палестины после третьего крестового похода Ричард Львиное Сердце (см. примеч. к с. 81) в конце 1192 г. был взят в плен своим врагом — австрийским герцогом Леопольдом V (1157–1194; правил с 1177 г.), а затем передан за большие деньги императору Генриху VI (1165–1197; правил с 1189 г.); отпущен он был только весной 1194 г. за огромный выкуп.
Экю — старинная французская монета; золотые экю выпускались с 1266 г. и чеканились до 1653 г., вес монеты колебался от 5 г до 3,3 г. В 1641 г. были введены серебряные экю; первоначальная их стоимость составляла три ливра, а с начала XVIII в. стали обращаться и экю стоимостью в шесть ливров.
Ричард был отпущен из плена за выкуп в 100 000 фунтов стерлингов.
… состоит из Богемии, Венгрии, Иллирии, Тироля, Моравии, Силезии, Хорвато-Славонского королевства, Сербской Воеводины, Темешварского Баната, Трансильвании, Галиции, Далмации и Штирии. — Богемия — см. примеч. к с. 84.
После распада Венгерского государства в 1526 г. в результате разгрома его турками в битве при Могаче Габсбурги захватили западную часть страны, а в войнах XVII–XVIII вв. с турками — остальные венгерские земли. Венгрия находилась в полном подчинении Австрии, но сохраняла местное самоуправление. В то же время в стране шла постоянная борьба против иностранного владычества. После поражения революции 1848–1849 гг. от венгерской территории были отрезаны некоторые по большей частью славянские земли, завоеванные в средние века венгерскими королями. После разгрома в войне с Пруссией в 1866 г. правительство Австрийской монархии было вынуждено пойти навстречу требованиям венгерского дворянства и буржуазии, и Венгрия была восстановлена в 1867 г. как самостоятельное королевство со своим сеймом и правительством, однако оно было объединено с другими австрийскими землями личной унией в лице монарха излома Габсбургов. При этом отторгнутые в 1849 г. земли были ей возвращены.
Иллирия — область на северо-западе Балканского полуострова; в I в. н. э. была завоевана Римом; затем входила в состав нескольких государств, имевших владения на Балканах; в XVIII в. принадлежала Австрии; в 1809 г., после поражения Австрийской империи в войне с Наполеоном, была уступлена Франции и составила вместе с некоторыми соседними областями вассальное государственное образование — Иллирийские провинции; после падения Наполеона была возвращена Австрийской империи в качестве ее части — королевства Иллирии, в которое вошли также некоторые балканские, итальянские, хорватские и словенские земли; после распада Австро-Венгрии в 1918 г. вошла в Югославию.
Тироль — см. примеч. выше.
Моравия (Морава) — историческая область в Чехии, с древних времен населенная западнославянскими племенами; в VIII–IX вв. была одной из основных частей Моравского княжества — ранне-феодального славянского государства; с XI в. как особое княжество вошла в состав Чешского корлевства; в 1526 г. попала под власть австрийских Габсбургов; в 1849 г. была выделена з особую коронную землю. Силезия — см. примеч. к с. 30.
Хорвато-Славонское королевство — точнее: королевство Хорватия и Славония.
Хорватия — историческая область на северо-западе Балканского полуострова, где в IX в. сложилось славянское государство, находившееся в XI I–XVI вв. в унии с Венгрией; после его гибели в результате битвы при Могаче хорватские земли были разделены между австрийскими Габсбургами, ставшими королями Хорватии, и Турцией. В 1809 г. часть Хорватии вошла в Иллирийские провинции, но после падения империи Наполеона королевство было восстановлено. При установлении австро-венгерского дуализма в 1867 г. Хорватия стала частью Венгрии на правах автономии; после распада Австро-Венгерской империи вошла в состав Югославии; ныне самостоятельная республика.
Славония — историческая область Балканского полуострова между реками Драва и Сава, с раннего средневековья — автономная часть Хорватии, пограничная с Турцией; в XVII–XVIII вв. была подчинена непосредственно имперскому правительству в Вене; в XX в. вместе с Хорватией вошла в состав Югославии.
Сербская Воеводина — область на севере Югославии, на границе с Венгрией и Румынией, издавна населенная южными славянами; в IX в. была захвачена венграми; до начала нового времени попеременно входила в состав Венгрии и Австрии; после установления в 1867 г. австро-венгерского дуализма была включена в состав Венгрии; после крушения Австро-Венгерской империи в 1918 г. вошла в Югославию. Темешварский Банат (венгерское название пограничной области, полученное по входившему в нее городу Темешвару — соврем. Тимишоара в Румынии) — историческая область Юго-Восточной Европы, на стыке границ Румынии, Венгрии и Югославии; возник как феодальное владение в XI в., затем попал под власть Венгрии, а в XVI в. — Турции; в 1699 г. уступлен Австрии; в нач. XX в. присоединен к Венгрии; в 1849–1860 гг. образовал вместе с Воеводиной особую область в составе Австрийской империи; после распада Австро-Венгрии разделен между Югославией и Румынией. Трансильвания — историческая область на севере Румынии, называемая в истории также Зибенбюрген (Ссмиградье) в связи с тем, что в XII в. здесь поселились немцы; в XI в. попала в зависимость от венгров; в 1541 г. стала вассальным по отношению к Турции княжеством, остававшимся фактически независимым; с кон. XVII в. попала под власть Габсбургов; после распада Австро-Венгрии перешла к Румынии. Галиция — историческая область на Западной Украине и частично в Польше; в XI11—XIV вв. входила в Гал и ц коВолы нс кос княжество Киевской Руси; в XIV в. была завоевана Литвой, а затем вошла в состав Польши; в XVIII в. в результате разделов Польши вошла в состав монархии Габсбургов; после ее распада в 1918 г. была захвачена Польшей; в 1939 г. воссоединилась с Украиной.
Далмация — см. примеч. к с. 154.
Штирия (Штейермарк) — провинция в Южной Австрии; в XI–XII вв. входила в Каринтийское маркграфство; с 1180 г. особое герцогство в составе Свяшенной Римской империи, название которому дал город Штейер; в 1192 г. вошла в состав герцогства Австрия, перешедшего в XIII в. к Габсбургам; до 1918 г. входила последовательно в состав Священной Римской, Австрийской и Австро-Венгерской империй; после Первой мировой войны ее южная часть, населенная в основном славянами, была передана Югославии, другая часть осталась в составе Австрии.
… это отличает Штирию, состоящую из Норика и древней Паннонии. — Норик — древнеримская провинция к югу от верховьев Дуная, на территории современных Штирии и Каринтии; завоевана в I в. до н. э.; после падения Римской империи вошла большей частью в государство остготов, а позднее — в состав герцогства Штирия. Паннония — область в бассейне среднего течения Дуная, в древности населенная иллирийскими и кельтскими племенами; в кон. I в. до н. э. стала римской провинцией; в первые века нашей эры неоднократно подвергалась нашествиям кочевых племен; в IX–X вв. была завоевана венграми и стала основой венгерского государства.
156… те славянские глаза, которые Гомер приписывает Минерве и которые сияют как изумруды. — Гомер (соврем, датировка его творений — вторая пол. VIII в. до н. э.) — легендарный древнегреческий эпический поэт, по преданию слепой бродячий певец, которому со времен античности традиция приписывает авторство поэм «Илиада» и «Одиссея». Минерва — см. примеч. к с. 30.
В «Илиаде» и «Одиссее» (согласно наиболее распространенным русским переводам Н.И.Гнедича и В.А.Жуковского) Афина Паллада чаше всего называется «светлоокой»; это единственный там эпитет, относящийся к ее глазам.
… Служа капитаном в гусарском полку Лихтенштейна… — Гусары — род легкой кавалерии, появившийся в сер. XV в. в Венгрии как дворянское ополчение; название произошло от венг. huszar — «двадцатый», т. к. на поенную службу назначался каждый дпадцатый Д1юрянин.
Лихтенштейны — австрийский дворянский род, известный с XII в., с XVII в. княжеский; дал несколько видных генералов австрийской армии, и их именами в XIX в. было названо несколько полков ар* тиллсрии и кавалерии.
… двух тирольских охотников, одетых в свои национальные костюмы… — Тироль — см. примем, к с. 155.
158… отправиться на охоту на кабана, которого я собирался потревожить завтра поутру в Таунусе… — Таунус — горный хребет в районе среднего течения Рейна, между этой рекой и реками Лан и Майн; наибольшая высота 880 м; Франкфурт расположен рядом с ним.
159… этот малый — Геркулес какой-то? — Геркулес (гр. Геракл) — величайший из героев древнегреческой мифологии; прославился своей атлетической мошью и богатырскими подвигами; двенадцать самых известных из них по приговору богов он должен был совершить на службе у своего родственника, за что ему было обещано бессмертие… но сложен, видите ли, как у Альфреда де Мюссе — Гасан, которого мать сделала совсем крошенным, чтобы он лучше получился. — Гасан — герой поэмы Мюссе (см. примем, к с. 17) «Намуна» (1832), француз, принявший ислам. О своем персонаже автор говорит так (I, X; пер. Д.Минаева):
Он матерью своею благородной
Как будто неспроста был маленьким рожден:
Пусть невелик, но безупречен он.
164… все перевернулось от Берлина до Пешта и даже до Инсбрука… — Пешт — часть столицы Венгрии Будапешта, лежащая на левом берегу Дуная; основан, по-видимому, в XII в.; в 1872 г. слился в один город с древней столицей Венгрии Будой (Офеном), лежащей на противоположном берегу реки; в XVI — нам. ЮС в. вместе со всей страной входил в состав Австрийской (с 1867 г. — Австро-Венгерской) монархии; в нач. XIX в. был крупным административным центром. Инсбрук — город в Западной Австрии, получивший городские права в сер. XIII в.; в средние века лежал на пересечении важных торговых путей; в 1805–1814 гг. принадлежал Баварии, затем Австрии; административный центр провинции Тироль.
165… от моего старого друга Гёте… — Гёте — см. примем, к с. 31.
… от моей старинной подруги г-жи Шрёдер… — Шрёдер, Антония София (1781–1868) — выдающаяся немецкая актриса романтического направления; на сцене выступала с 12 лет; играла в театрах Петербурга, Ревеля, Вены, Гамбурга.
Известной немецкой актрисой была и ее дочь Шрёдер-Девриент, Вильгельм и на (урожденная Шрёдер; 1805–1860) — на сцене выступала с пяти лет; сценическую карьеру начала как драматическая актриса, играла в трагедиях Расина, Шиллера; с 1821 г. стала оперной певицей (сопрано); за участие в Дрезденском восстании 1849 года была выслана из Саксонии и не выступала до 1856 г.; в ее искусстве сочетались вокальное мастерство и драматический талант.
… от барона фон Гумбольдта. — См. примем, к с. 22.
166… произошло это в тысяча восемьсот четырнадцатом году, на костюмированпом балу, который давался в Средопостм… — Срсдопостье — четверг на третьей неделе Великого поста.
… Среди бала… объявили новость о высадке этого проклятого Наполеона. — Имеется в виду возвращение Наполеона I во Францию после бегства с Эльбы: I марта 1815 г. (так что госпожа фон Бслинг явно ошибалась, когда говорила, что памятный ей костюмированный бал состоялся в 1814 г.) он высадился на южном побережье Франции (бухта Жуан) и при поддержке широких слоев населения, недовольных реставрацией Бурбонов, через Грасс, Гренобль и Лион 20 марта вступил в Париж (причем посланные против него войска переходили на его сторону), после чего наступило второе правление Наполеона I, т. н. «Сто дней» (20 марта — 22 июня 1815 г.); против вернувшегося императора выступила седьмая антифранцузская коалиция европейских держав; в битве при Ватерлоо (18 июня) Наполеон потерпел поражение от английских, нидерландских и прусских войск, в результате чего 22 июня 1815 г. он вторично отрекся от престола.
… Наполеон опять взошел на трон. — Это произошло 20 марта 1815 г.
167… это имело бы вид мольеровской развязки. — Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен; 1622–1673) — французский драматург, актер и театральный деятель, создатель жанра высокой комедии.
168… он является местом заседания имперского Сейма. — Имперский сейм (рейхстаг) — собрание феодальных владетелей (духовных и светских), а с XIII в. и представителей городов, входивших в состав Священной Римской империи; собирался по усмотрению императора для обсуждения вопросов войны, мира, финансов и наиболее важных законодательных актов; по мере ослабления связей между членами Империи значение Сейма постепенно слабело и в конце концов утратило реальное содержание.
Рейхстаги часто собирались во Франкфурте как в одном из главных городов Империи, месте выборов и коронования императоров. Однако в данном случае речь идет о сейме Германского союза (см. примеч. к с. 41), постоянно заседавшем во Франкфурте до его роспуска.
… Решения этого собрания носят название рецессов. — Рецесс (имперский протокол) — собрание постановлений, принятых имперским сеймом в течение одной сессии; составлялись до 1654 г.
… Сейм, существующий с самых старых времен, сначала не имел определенного местопребывания: он собирался то в Нюрнберге, то в Регенсбурге, то в Аугсбурге. — Нюрнберг — город на реке Пегниц (Бавария); известен с сер. XI в., в средние века центр ремесел и торговли; с XIII в. вольный имперский город; в XV в. один из богатейших городов Германии, в XV–XVI вв. центр художественной, литературной и научной жизни; в. XI–XVI вв. не раз служил местом заседаний рейхстага; в XIX–XX вв. город-музей; во время Второй мировой войны сильно разрушен англо-американской авиацией; в XX в. известен как центр фашистского движения и процессом 1947 г. над лидерами фашистской Германии.
Регенсбург — город в Юго-Западной Германии, на Дунае; входил в состав Священной Римской империи; с XIII в. вольный имперский город; в средние века крупный торговый центр; в 1810 г. вошел в состав королевства Бавария; в 1663–1806 гг. в нем заседал рейхстаг.
Аугсбург — город» Южной Германии, у слияния рек Вертах и Лех; основан в кон. I в. до н. э. как римская военная колония; с кон. XIII в. вольный имперский город, с 1806 г. в составе Баварии; в средние века играл большую роль в транзитной торговле между Северной и Южной Европой; был крупным культурным центром; здесь неоднократно заседал имперский сейм, и особенно известно его собрание в 1530 г., на котором императору Карлу V было вручено т. н. Аугсбургское исповедание — изложение основ лютеранства.
… 9 июня 1815 года, актом Венского конгресса, Франкфурт был объявлен местом собраний Сейма Германского союза. — Венский конгресс — см. примем, к с. 40.
Германский союз — см. примеч. к с. 8.
170… жители Франкфурта имеют право на четверть голосов в Сейме, другие три четверти принадлежат трем другим вольным городам — Гамбургу, Бремену и Любеку. — То есть имеют право на четверть голосов, предоставленных в союзном Сейме городам-членам Союза. Гамбург — крупный промышленный и торговый город, морской и речной порт на реке Эльба, примерно в 100 км от Северного моря; до кон. VIII в. небольшая крепость, основанная во времена Карла Великого, в кон. XIII в. добился независимости; в 1510 г. получил права вольного имперского города; в 1815 г. вошел в Германский союз, в 1867 г. — в Северогерманский союз, а в 1871 г. — в Германскую империю; ныне на правах земли входит в ФРГ.
Бремен — город и порт на реке Везер в Северо-Западной Германии; известен с кон. VIII в.; в XIV–XV вв. добился полной независимости; в XVI в. провел реформацию; в 1646 г. получил права вольного города; в XVII–XVIII вв. отстоял от Швеции и Ганновера свои права; в 1810 г. включен Наполеоном в свою империю; после ее падения входил в Германский союз; в 1867 г. был занят пруссаками; с 1871 г. — в составе Германской империи; в 1933 г. лишен прав вольного города; ныне — центр одноименной земли ФРГ.
Любек — важный морской и речной порт в Северной Германии, ныне в земле Шлезвиг-Гольштейн; известен с кон. IX в. как поселение западных славян; в 1137 г. оно было разрушено, и в 1143 г. неподалеку от него возник немецкий город, получивший в 1226 г. права вольного имперского города; вместе с Гамбургом и Бременом до XV в. состоял в союзе морских торговых городов Северного и Балтийского морей — Ганзе; в 1806–1813 гг. входил в империю Наполеона; в 1867 г. был включен в Северогерманский союз, в 1871 г. — в Германскую империю; в 30-х гг. XIX в. был лишен своих вольностей.
… в годовщину Лейпцигской битвы… — О битве под Лейпцигом см. примеч. к с. 8.
… для покупки городу двух четырехфунтовых пушек… — Калибр гладкоствольной пушки в XIX в. определялся весом каменного ядра, диаметр которого был равен диаметру канала ствола.
… огнем и дымом… обязан Священному союзу. — Священный союз — союз России, Австрии и Пруссии, заключенный 26 сентября 1815 г. в Париже для поддержания неприкосновенности границ, установленных Венским конгрессом 1814–1815 гг., и борьбы против революционных и национально-освободительных движений и идей. Союз, к которому присоединились почти все монархии Европы, стремился к сохранению абсолютных монархий; по решению его конгрессов государства-члены Союза вмешивались во внутренние дела других стран. После 1822 г. он фактически распался из-за противоречий между его участникам и другими странами.
… прекрасный и раскидистый английский парк… — Английский парк — тип свободно распланированного пейзажного парка, возникший в сер. XVI11 в.; в основе его композиции лежат мотивы живой природы.
… походит на огромный букет камелий, обрамленный вереском, — Камелия — род вечнозеленых деревьев и кустарников из семейства чайных, произрастает в тропиках и субтропиках Азии; в умеренном поясе разводится в оранжереях как декоративное растение. Камелия имеет одиночные крупные цветы, белые или красные с большим количеством оттенков.
… это дата церковного собора, созванного там в 794году, того самого собора, на котором обсуждался вопрос о культе икон. — Церковные соборы — собрания представителей церкви для обсуждения вопросов вероучения, религиозной жизни, устройства вероисповедальных христианских обшеств и церковной дисциплины. В римско-католической церкви это собрание епископов, других высших чинов церкви и теологов. Историческая практика показала, что на соборах в средние века видную роль играли также крупные феодалы.
В частности, Франкфуртский собор 794 г. был созван Карлом Великим, который председательствовал на нем. Собор осудил распространенную в VIII в. адопцианскую ересь, представление которой о природе Христа расходилось с официальным, отменил решения II Никейского собора о почитании икон, а также принял некоторые постановления экономического характера.
Вопрос о культе икон был связан с социально-политическим и религиозным движением в Византии в VIII — пер. пол. IX в., т. н. иконоборчеством, объявляюшим иконы идолами, а культ икон — идолопоклонством; против икон боролись столичная знать, церковь, монашество; в 730 г. император Лев 111 запретил культ икон, и на соборе 754 г. он был объявлен ересью. II Никейский собор (787) заклеймил иконоборчество и восстановил почитание икон (но не их культ), после чего на недолгое время произошло объединение Восточной и Западной церквей, но из этого процесса оказался исключенным Карл Великий; опасаясь за свои державные интересы, он выступил против решений Никейского собора и созвал собор бывшей Западной империи.
… он стоял точно в том месте, где позже была выстроена церковь святого Леонарда. — Католическая церковь святого Леонарда во Франкфурте была построена в готическом стиле в XIV в.
Леонард, святой — франкский воин, сподвижник короля Хлодвига при завоевании Галлии в V–VI вв.; постригся в монахи после 496 г.; святой католической церкви, покровитель заключенных; память о нем отмечается в ноябре.
… около 796 года Карл Великий основал колонию Саксенхаузен… — Саксенхаузен — см. примеч. к с. 46.
… В 822 году Людовик Благочестивый построил здесь, на месте нынешнего Залхофа, замок Зал… — Людовик I Благочестивый (778–840) — сын Карла Великого, король франков и император с 814 г.;
22-7045 получил свое прозвище за покровительство церкви; при нем фактически произошел распад империи, разделенной в 817 г. между его сыновьями; сам император сохранил лишь верховную власть и титул. В 822 г. Людовик построил на берегу Майна императорский замок Кайзерпфальц, на месте которого в XIV в. был сооружен новый дворец императоров Залхоф.
… В 853 году Людовик Немецкий возвел город до ранга столицы Восточного Франкского королевства… — Людовик II Немецкий (ок. 804/805-876) — государь Восточно-Франкского королевства (будущей Германии) с 843 г. после окончательного раздела империи Карла Великого; сын Людовика I Благочестивого; в 870 г., после войны с королем Западно-Франкского королевства Карлом Лысым, захватил часть Лотарингии; вел неудачные войны против западных славян. Франкфург-на-Майне получил значение столицы Восточно-Франкского королевства по Верденскому договору 843 г. Частое пребывание в нем королей, а потом императоров, созыв рейхстагов и церковных соборов способствовали его экономическому расцвету. Восточно-Франкское королевство — государство, возникшее после распада империи Карла Великого на ее землях к востоку от Рейна (т. е. на германских) и окончательно оформившееся в 911 г. Оно не было единым ни этнически, ни политически и состояло из герцогств Швабии (по верхнему Дунаю), Баварии (на юге страны), Франконии (по среднему Рейну и Майну) и Саксонии с Тюрингией (в северной части страны); позже к ним прибавилась Лотарингия. Королевская власть там была слаба и вела беспрерывные войны с крупными феодалами, поскольку то был период развития феодальных отношений и феодальной раздробленности. Вместе с тем германские феодалы вели агрессивную внешнюю политику, стремясь к захвату славянских и итальянских земель. В 951 г. король Оттон (936–971) из Саксонской династии, сменившей в 911 г. потомков Карла Великого, захватил Северную Италию, а в 961 г. — Рим; в 962 г. он короновался императорской короной. Возникло новое феодальное государственное образование — Священная Римская империя германской нации, основой которой послужило Восточ но-Франкс кое королевство.
171… Обычай выбирать императоров во Франкфурте начался со времен великой Швабской династии, при одном упоминании о которой в уме возникает целый мир образов… — Имеется в виду династия герцогов Швабии Гогенштауфенов, занимавшая престол Священной Римской империи в 1138–1254 гг. Первым из императоров этой династии, избранным на трон во Франкфурте, был Фридрих i Барбаросса (1152–1190). Гогенштауфены стремились к утверждению своего господства в феодальном мире и верховенства в Европе, что привело к их столкновениям с имперскими князьями, римским папой и городами Северной Германии и Ломбардии. Эта борьба закончилась полным поражением Гоген штауфенов. Швабская династия была истреблена, а раздробленность Германии усилилась.
… В 1240 году император Фридрих II выдал охранные грамоты всем, кто хотел посетить франкфуртскую ярмарку. — Фридрих II Гогенштауфен (1194–1250) — германский король и император Священной Римской империи (с 1212 г.) и король Сицилии (с 1215 г.); получил титул короля Иерусалимского в результате шестого кресто но го походи (1228–1229), который он возглавлял; считал центром своих владений Сицилийское королевство и предоставил в Германии почти неограниченную свободу имперским князьям.
… Император Людовик Баварский, желая, чтобы избрание его было признано, проявил любовь к городу и дал ему большие привилегии… — Людовик IV Баварский (1287–1347) — император Священной Римской империи с 1314 г.; принадлежал к роду баварских герцогов Виттельсбахов; вел в 1314–1322 гг. длительную борьбу за престол с австрийским эрцгерцогом Фридрихом Красивым, победил его и взял в плен, но затем примирился с ним; в 1327–1328 гг. совершил поход в Италию и короновался в Риме против воли папы, что вызвало многолетний конфликт с римской курией; этот конфликт разрешился постановлением курфюрстов от 1338 г., объявивших результаты своих выборов независимыми от утверждения папой. Людовик Баварский широко раздавал князьям привилегии, при нем усилилась децентрализация Германии, но сам он сильно увеличил свои наследственные владения.
… Император Гонтран фон Шварценбург, поддержанный сенатом и гражданами Франкфурта, умер там 14 июня 1349 года, как говорят, от отравления. — Гонтран фон Шварценбург (или Гюнтер фон Шварцбург;?—1349) — представитель Бланкенбургской линии немецкого феодального графского рода, владевшего землями в Тюрингии; в январе 1349 г. был избран императором в противовес Карлу IV, но потерпел поражение от своего соперника, отрекся от престола и в июне того же года умер.
… Карл IV… пожаловал Франкфурту подтверждение права быть местом, где избирались императоры Священной Римской империи германской нации, что было вписано в Золотую буллу, провозглашенную в 1356 году… — Священная Римская империя германской нации — государственное образование, существовавшее с 962 г. и в разные периоды номинально и действительно включавшее в себя Германию, часть Италии, Нидерланды, Чехию, Швейцарию, Австрию и другие страны; в сер. XVII в. фактически распалась и в 1806 г. формально прекратила свое существование. В XVIII в. под Империей подразумевались владения дома Габсбургов: Австрия, Чехия, Венгрия, Бельгия, а также южнославянские, североитальянские, польские и некоторые немецкие земли. Карл IV (1316–1378) — император Священной Римской империи и король Чехии (под именем Карла I) с 1346 г.; происходил из рода Люксембургов; полагал центром своих земель Чехию, объявленную наследственным владением Люксембургов, где он проводил политику укрепления королевской власти, поощрял ремесла и торговлю, открыл университет в Праге; на императорском престоле утвердился только в 1349 г. после борьбы с князьями; в Германии стремился расширить свои наследственные земли.
Золотая булла — постановление, принятое на рейхстагах Священной Римской империи в Нюрнберге и Меце в 1356 г. при участии императора Карла IV и ставшее «основным законом немецкого многовластия». Булла устанавливала постоянный состав коллегии князей-избирателей, оформляла их фактически полную самостоятельность во внешних, внутренних и экономических делах, запрещала союзы городов; в целом она ослабляла императорскую власть и способствовала политической раздробленности Германии.
Булла — в средние века латинское название капсулы (bulla), в которую заключалась печать, скреплявшая государственный акт; затем также называлось само постановление императора Священной Римской империи (или папы римского).
… заложил основы свободного городского управления во Франкфурте, продав городу должность reichsschultheissen. — Речь идет о т. н. имперских фогтах (или фохтах) — чиновниках, исполнявших судебные и административные функции в имперских владениях. Франкфурт стал вольным имперским городом в 1245 г. В 1257 г. из него были удалены имперские фогты и город стал управляться собственными бургомистрами, полицией и городским советом.
… во время Эрфуртской встречи, когда он сидел за столом вместе с дюжиной государей… — Эрфурт — город в Германии, в бассейне реки Эльба, на реке Гера; административный центр одноименного округа; старинное поселение, с IX в. служившее местом торгового обмена между славянами и франками; с XIII в. находился в зависимости от Майнцского епископства; в 1803–1806 гг. принадлежал Пруссии; в 1806 г. был занят французами; после падения наполеоновской империи вернулся в состав Пруссии и вместе с ней в 1871 г. вошел в состав Германской империи.
Здесь с 27 сентября по 14 октября 1808 г., спустя год после подписания Тильзитского мира Франции с Россией и Пруссией, проходил съезд немецких вассалов Наполеона I (или, как его называли, «Эрфуртский конгресс», «Парламент монархов»); на нем присутствовали короли Баварии, Саксонии, Вестфалии, Вюртемберга и множество более мелких немецких властителей. Главным событием съезда стала проходившая в эти дни встреча французского и русского императоров — Наполеона I и Александра I. Именно здесь были приняты важные для Наполеона I решения. 30 сентября между Россией и Францией было подписано секретное соглашение (Эрфуртская конвенция 1808 г.), статьи которого устанавливали тайный оборонительный союз против Австрии, что было необходимо Наполеону для сдерживания ее все возраставших реваншистских настроений, а также ввиду начатого им завоевания Испании… вплоть до утверждения Рейнского союза… — Рейнский союз (конфедерация), состоявший первоначально из 16 государств Западной и Южной Германии, а позднее включивший еще 20 государств Западной, Средней и Северной Германии, был связан с Францией военным договором и фактически находился в вассальной зависимости от нее, обеспечивая Наполеону господство в Германии.
… Князь-примас, почувствовав себя на своей почве… — Здесь имеется в виду Карл Теодор, барон фон Дальберг (1744–1817) — последний архиепископ-курфюрст Майнца, переведенный Наполеоном I в Регенсбург, а затем во Франкфурт с титулом примаса (т. е. первого по своему сану епископа) Германии; был также верховным канцлером Рейнского союза и председателем его сейма; в 1810 г. уступил Регенсбург Баварии, в обмен получив княжество Фульда, графство Ханау и титул великого герцога; отрекся от престола в 1813 г.; был другом Гёте и Шиллера.
172… когда я имел честь быть младшим лейтенантом в артиллерии, мне пришлось целых три года сидеть в гарнизоне в Валансе. — Баланс — административный центр департамента Дром на юго-востоке Франции. Наполеон Бонапарт служил в полку Да Фера, расквартированном в
Балансе, с 3 ноября 1785 г.; в июне 1788 г., когда молодой офицер вернулся из очередного отпуска на Корсику в свой полк, тот стоял уже в городе Осон в департаменте Кот-д'Ор. Во второй раз он прибыл в гарнизон Баланса в июне 1791 г., став лейтенантом и получив назначение в 4-й артиллерийский полк; однако уже в сентябре он вновь уехал на Корсику.
… жил в главном городе департамента Дром… — Дром — департамент в Юго-Восточной Франции, расположенный по среднему течению реки Роны; район с преобладанием сельскохозяйственного производства; административный центр — город Баланс.
… флорентийцы при Монте-Аперто, где они проиграли ту знаменитую битву, что, по словам Данте, окрасила Арбию в красный цвет… — Речь идет об эпизоде политической борьбы во Флоренции между партией гиббслинов, представлявших аристократию, сторонников императора, и гвельфами, сторонниками папы, представлявшими торгово-ремесленные круги.
Монте-Аперто — селение близ Флоренций, на реке Арбия, место сражения 4 сентября 1260 г., в котором участвовали флорентийские гвельфы и изгнанные из города гибеллины. Гвельфы были наголову разгромлены, гибеллины вернулись во Флоренцию и восстановили там свою власть, которая продлилась до 1267 г.
Битва при Арби и неоднократно описана в литературе; в частности она упоминается в поэме «Ад», первой части «Божественной комедии» Данте (см. примем, к с. 56):
В память истреблен ья.
Окрасившего Арбию в багрец,
У нас во храме так творят моленья.
(X, 85–86; пер. МЛозинского).
… жители Франкфурта 12мая 1339 года тоже проиграли битву — у Эшборна — против рыцарей из Кронберга и пфальцграфа Рупрехта. — Эшборн — селение примерно в 10 км к западу от Франкфурта, на пути в Кронберг.
Кронберг — замок в 16 км к западу от Франкфурта-на-Майне. Пфальцами в ранее средневековье именовали в Германии личные земельные владения императора Священной Римской империи, принадлежавшие ему не по праву наследования, а в соответствии с их саном (напомним: на протяжении всего средневековья императоры были выборными и принадлежали к различным династиям); императорские наместники в пфальцах именовались пфальцграфами. С XI в. пфальцы превратились в обычные феодальные владения, пфальцграфы стали наследственными князьями, а само это название постепенно исчезло, кроме пфальцграфства Рейнского (занимавшего приблизительно территорию нынешней земли ФРГ Рейнланд-Пфальц), которое стало именоваться Пфальц как имя собственное. Пфальцграф Рейнский являлся курфюрстом Империи. Дробление Пфальца в XIV–XVI вв. привело к тому, что во владениях пфальцграфов Рейнских остался прирейнский Нижний Пфальц (его владетелей именовали курфюрстами П(|шьцскими); Верхний Пфальц (его владетели носили титул герцогов Пфальцских) отошел к Виттельсбахам и иногда включался в герцогство Баварское, иногда являлся самостоятельным уделом (ныне это приблизительно территория северной части земли Бавария в ФРГ). Кроме того, в Верхнем Пфальце существовали уделы, кладется и которых также носили титулы пфальцграфов.
Пфальцграф Рупрехт — он же Роберт Виттельсбах (1352–1410) по прозвищу Клем, т.с. «Короткий»; курфюрст Пфальце кий с 1398 г.; в 1400 г. был избран рейнскими курфюрстами императором Священной Римской империи под именем Рупрехта II, однако нс был признан всей империей; безуспешно пытался поднять авторитет императорской власти в Германии.
… Их мэр, Винтер Ваземский, и их капитан. Руль Швейнсхеймский, были взяты там в плен вместе с шестьюстами гражданами города. — Сведений об этих персонажах (Winter du Wasem, Rule dc Schwcin-slicim) найти не удалось.
… Тридцатилетняя война тоже привела в некоторое смятение имперский город, и, несмотря на сопротивление Сената, король Густав Адольф вошел в город / 7 ноября 1631 года… — Тридцатилетия я война (1618–1648) — первая общеевропейская война (фактически целый ряд войн) за господство на континенте между блоком держав, который возглавляла династия Габсбургов (Священная Римская империя, фактически входившие в нее австрийские владения Габсбургского дома и часть примкнувших к ней немецких государств, а также Испания), и их противниками — рядом государств Германии, Данией, Швецией, Францией и Нидерландами. Первый лагерь поддерживали римский папа и Польша; второй — Англия, Франция и Россия. Как всегда в средние века, война велась под религиозными лозунгами, как якобы борьба между католической и протестантской религиями, хотя и в том и в другом лагере воевали страны обоих вероисповеданий. Германия была в то время раздроблена на несколько сот самостоятельных государств — княжеств и городов, формально объединенных в Священную Римскую империю германской нации. Действия протестантских государств в Тридцатилетней войне были направлены в первую очередь против стеснявшей их императорской власти, поддерживавшей католическую реакцию. Война закончилась Вестфальским миром 1648 г. Главным ее последствием было сильнейшее разорение Германии, надолго задержавшее ее экономическое развитие. Война привела к ослаблению власти императора, к усилению политической раздробленности Германии, к подавлению национально-освободительного движения в ненемецких областях Империи, к ускорению т. н. вторичного закрепощения немецкого крестьянства. Война вызвала также значительные изменения в международном положении. Гегемония на континенте перешла к Франции, в разряд великих держав вошла Швеция, а Нидерланды упрочили свое положение буржуазной республики, завоеванное в борьбе против испанского владычества в XVI в. Поражение Империи и Испании означало окончательный крах планов Габсбургов создать всемирную католическую державу. Военные действия 1618–1648 гг. оказали значительное влияние на развитие военного дела в целом. Сенат — имеется в виду городской совет из42 членов, управлявший Франкфуртом с 1257 г. после получения им прав вольного имперского города.
Густав II Адольф — см. при меч. к с. 35.
… которых только в 1635 году Ламбуа удалось выгнать из Саксенха-
662 умна. — Ламбуа, Вильгельм (ок. 1600–1670) — имперский фельдмаршал (с 1639 г.), граф (с 1645 г.), участник Тридцатилетней войны; одержал несколько побед над шведами.
…он в одно прекрасное утро был отдан под управление князю-примасу Карлу Дальбергу и превратился в столицу Великого герцогства Франкфуртского. — Великое герцогство Франкфуртское — карликовое вассальное немецкое государство, созданное 16 февраля 1810 г. Наполеоном; включало в себя, помимо Франкфурта-на-Майне, еще пять близлежащих городов; управлялось по французским законам; великим герцогом был назначен Карл Дальберг (см. примеч. к с. 174). Введение континентальной блокады и военные расходы сильно подорвали экономику герцогства и вызвали недовольство даже его правительства. Осенью 1813 г. герцогство было занято войсками союзников и упразднено, а Франкфурту был возвращен статус вольного города.
… Самое интересное здание во Франкфурте — это бесспорно Рёмер, большое строение, где находится зал Курфюрстов, сегодня используемый для заседаний Верховного сената города Франкфурта… — Рёмер — ратуша Франкфурта, построенная в 1405–1413 гг.; несколько раз перестраивалась; расположена на площади Святого Павла, на возвышенности правого берега Майна.
… и зал Императоров…в котором выставлены портреты всех императоров, от Конрада до Леопольда И… — Здесь явно имеется в виду Конрад I (7-918) — герцог Франконский (906), по матери принадлежавший к династии Каролингов; в 911 г. был избран германским королем, но императором он не был (при нем Священной Римской империи еще не существовало); его правление отмечено раздорами с крупными феодалами и неудачной борьбой с набегами венгров. Леопольд II (1747–1792) — австрийский эрцгерцог из дома Габсбургов; великий герцог Тосканский в 1765–1790 гг.; с 1790 г. император Священной Римской империи.
173 …И получилось так, что, когда был избран Франц //, все ниши в зале были уже заняты и их не хватило для нового цезаря. — Франц II Габсбург (1768–1835) — последний император Священной Римской империи (1792–1806), первый австрийский император (1804–1835) под именем Франца I; вел войны против Французской революции и Наполеона, однако после многочисленных поражений заключил с ним союз против России; тем не менее в 1813 г. примкнул к шестой анти французе кой коалиции и весьма способствовал падению Наполеона; был одним из организаторов Священного союза. Цезарями обычно называли императоров Священной Римской империи (нем. Keiser). Это название произошло от фамильного прозвища «Цезарь» императоров первой династии Римской империи Юлиев-Клавдиев. Затем это слово вошло в титулатуру Римской империи и стало синонимом слова «император».
… но в 1805году старая Г?рманекая империя рухнула под грохот пушек Аустерлица… — Аустерлиц — см. примеч. к с. 12.
К нач. XIX в. Священная Римская империя германской нации фактически уже распалась. Император на деле сохранял свою власть лишь над наследственными владениями Габсбургов; в Германии он пользовался влиянием лишь постольку, поскольку опекал множество мелких и мельчайших светских и духовных княжеств. Всего германских государств насчитывалась в 1789 г. свыше I 8(H). В стране бурно росло стремление к ее единству. Этим воспользовался Наполеон, желавший упорядочить этот хаос и усилить средние княжества, чтобы создать из них противовес потенциальному врагу — Австрии. Созванная им в начале 1803 г. Имперская депутация упразднила 112 государств — среди них много вольных городов и духовных владений. Их земли были присоединены к более крупным образованиям. Таким образом, под давлением Франции влияние Австрии в Германии было подорвано. Ввиду этого император Франц II задолго до Аустерлица, в августе 1804 г., в дополнение к титулу императора Священной Римской империи принял титул и императора Австрии, т. е. земель Габсбургов. 6 августа 1806 г., когда вся Германия была под полным влиянием Наполеона, а Пруссия находилась накануне разгрома, Франц II отказался от германской императорской короны и освободил всех членов Империи от их обязательств… сам Нострадамус не сумел бы сделать это лучше. — Нострадамус — латинизированное имя Мишеля Нотрдама (1503–1566), придворного врача французского короля Карла IX и астролога, прославившегося книгой «Centuries» («Столетия»; первое издание в Лионе в 1555 г.) — сборником его предсказаний событий европейской истории.
… От Конрада до Фердинанда I, то есть от 911 до 1556 года, коронация происходила в Ахене. — О Конраде I см. примеч к с. 172. Фердинанд I Габсбург (1503–1564) — король Чехии и Венгрии (1526), эрцгерцог Австрийский (1521), римский король (1531), ставший императором Священной Римской империи в 1556 г., после отречения его брата Карла V (см. примеч. к с. 154); вел активную борьбу с немецкими протестантами.
От времен Карла Великого (см. примеч. к с. 8) до сер. XIV в. столицей Германского королевства и второй столицей Священной Римской империи (первая, естественно, Рим) был Ахен (ныне — в ФРГ, в земле Северный Рейн — Вестфалия, близ границы с Нидерландами). По-французски Ахен именуется Эксла-Шапель (Aixla-Chapelle, т. е. Экс-Капелла), в честь одного из самых известных строений раннего средневековья — восьмиугольной трехъярусной дворцовой капеллы, воздвигнутой по повелению и при активном участии Карла Великого ок. 796–805 гг. мастером Эйдом (Эдом) из Меца; эта капелла, посреди которой стоял императорский трон, была не только местом коронации германских королей (как императоры они короновались чаще всего, хотя и не обязательно, в соборе святого Петра в Риме), но и как бы средоточием власти королей-императоров.
… В 1564 году, с Максимилиана И, началась череда императоров, избиравшихся во Франкфурте. — Максимилиан II (1527–1576) — сын Фердинанда I, с 1564 г. император Священной Римской империи, король Богемии и Венгрии; целиком зависел в финансовых вопросах от австрийских, чешских и венгерских феодалов, сделал им значительные политические и религиозные уступки; при нем в Империи широко распространился протестантизм.
… В 1794 году сорок пятый император Германии занял сорок пятую нишу в Императорском зале. — Имеется в виду Франц II (см. примеч. выше)… говорит Виктор Гюго в своей книге о Рейне… — Гюго, Виктор Мари (1802–1885) — знаменитый французский поэт, драматург и романист демократического направления; имел титул виконта и в этом качестве при Июльской монархии в 1845–1848 гг. был членом Палаты пэров, где выступал как либерал; при Второй республике в 1849 г. был избран членом Законодательного собрания; после бонапартистского переворота 1851 г. жил до 1870 г. в эмиграции. Здесь имеется в виду книга Гюго «Рейн» («Lc Rliin»), выпушенная втрех частях в 1842 г. Первая ее часть «Письма к другу» («Lettrcs a un ami») — отчет автора о его путешествиях в Германию, свидетельствующий о глубоком знании автором предмета; вторая часть — легенда «Прекрасный Пекопен» («Beau Pecopin»); третья часть — «Заключение», в котором рассматривается политическое положение в Европе того времени. Ниже Дюма цитирует письмо XXIV «Франкфурт-на-Майне» («Francfort-sur-lc-Mein») из первой части этой книги Гюго. Кроме того, он иногда почти дословно пересказывает здесь и другие места из этого письма, а также использует целые фрагменты из собственной книги «Прогулки по берегам Рейна» («Exursions sur les bords du Rhin», 1841, глава «Франкфурт»).
174… с когда-то позолоченными нервюрами… — Нервюра — в архитек туре стрелка, ребро свода.
176… здесь в молчании смотрят друг на друга… три Конрада, семь Ген рихов, четыре Оттона, одинЛотарь, четыре Фридриха, один Филипп, два Рудольфа, один Адольф, два Альбрехта, один Людовик, четыре Карла, один Венцеслав, один Роберт, один Сигизмунд, два Максимилиана, три Фердинанда, один Матвей, два Леопольда, два Иосифа, два Франца — сорок пять призраков: на протяжении девяти веков, с 9/1 по 1806 год, они прошествовали через мировую историю с мечом святого Петра в одной руке и державою Карла Великого в другой. — Конрад I — см. примеч. к с. 172.
Конрад II (ок. 990-1039) — император Священной Римской империи с 1027 г., первый из Салического дома, и германский король с 1024 г.; значительно расширил размеры Империи, завладев Бургундией, Чехией и некоторыми польскими землями, Баварией; раздавал церковные владения своим сторонникам.
Конрад III Гогенштауфен (1093/1094— 1152) — император с 1138 г., первый из этой династии.
Конрад IV Гогенштауфен (1228–1254) — император с 1250 г., германский король с 1237 г.
Генрих I Птицелов (876–936) — германский король с 919 г., первый из Саксонской династии (он не был императором Священной Римской империи и умер еще до ее создания).
Генрих II Святой (973—1024) — император с 1002 г., последний из Саксонской династии.
Генрих III Черный (1017–1056) — императоре 1039 г., происходил из Салического дома.
Генрих IV (1050–1106) — император с 1056 г., сын предыдущего; известен своими длительными распрями с папским престолом. Генрих V (1081–1125) — император с 1106 г., последний из Франконской династии.
Генрих VI (1165–1197) — императоре 1190 г., происходил из династии Гогенштауфенов.
Генрих VII (1275–1313) — императоре 1308 г., первый из Люксембургской династии.
Оттон I Великий (912–973) — первый император Священной Римской империи (962), германский король (936); происходил из Саксонской династии.
Оттон II (955–983) — император с 973 г.; сын Оттона I.
Оттон III — см. примем, к с. 76.
Оттон IV Брауншвейгский (ок. 1174–1218) — императоре 1198 г. (престол смог занять только в 1209 г., после длительной борьбы); происходил из династии Вельфов.
Лотарь II (ок. 1068–1137) — император с 1125 г., происходил из рода саксонских герцогов.
Фридрих I Барбаросса (ок. 1123–1190) — император с 1152 г., происходил из династии Гогенштауфенов.
Фридрих II — см. примем, к с. 171.
Фридрих III Прекрасный (1286–1326) — император и германский король с 1313 г., не признанный мастью курфюрстов.
Фридрих 111 Габсбург (1415–1493) — с 1440 г. германский король под именем Фридриха IV и император под именем Фридриха III. Филипп I Швабский (1177–1208) — император и германский король с 1198 г., сын Фридриха I Барбароссы; герцог Швабский (11 %); был избран благодаря подкупу курфюрстов; царствование его прошло в междоусобиях, во время которых он был убит.
Рудольф I (1218–1291) — император с 1273 г., первый из рода Габсбургов; закрепил за своим родом Австрию и Штирию и стал одним из сильнейших князей Германии.
Рудольф II Габсбург (1552–1612) — императоре 1576 г.
Адольф Нассауский (1250/1255-1298) — германский король и императоре 1292 г.; был низложен и убит во время междоусобий; прах его был помещен в императорской усыпальнице в Шпейере. Альбрехт I Габсбург (1250–1308) — германский король и император с 1298 г.; боролся за престол с Адольфом Нассауским.
Альбрехт II (1398–1439) — императоре 1438 г., эрцгерцог австрийский под именем Альбрехта V (1404), король Чехии (1437) и Венгрии (1438). Людовик Баварский — см. примем, к с. 170.
Карл IV — см. примем, к с. 171.
Карл V — см. примем, к с. 154.
Карл VI Габсбург (1685–1740) — император с 1711 г.
Карл VII (1697–1745) — император с 1742 г., курфюрст Баварский (1726); претендент на императорский престол во время войны за Австрийское наследство (1740–1748).
Венцеслав — см. примем, к с. 21.
Роберт — см. примем, к с. 172.
Сигизмунд — см. примем, к с. 21.
Максимилиан I Габсбург (1459–1519) — император с 1493 г., австрийский эрцгерцог и король римлян (I486); значительно расширил владения своего дома.
Максимилиан II — см. примем, к с. 174.
Фердинанд I (1503–1564) — император с 1556 г., брат Карла V, родоначальник немецкой линии Габсбургов; король Чехии (1526), Венгрии (1527).
Фердинанд II Габсбург (1578–1637) — император с 1619 г., король Чехии (1617), Венгрии (1618); один из наиболее жестоких гонителей протестантов.
Фердинанд III Габсбург (1608–1657) — император с 1637 г., сын Фердинанда II; король Венгрии (1627), Чехии (1625).
Матвей (Матиаш) II (1557–1619) — император и король Венгрии и Чехии с 1612 г.; проводил политику католической реакции. Леопольд I Габсбург (1640–1705) — император с 1657 г.
Леопольд II — см. примем, к с. 172.
Иосиф I Габсбург (1678–1711) — император с 1705 г., король Венгрии (1687), король римлян (1690).
Иосиф II Габсбург (1741–1790) — император с 1765 г., до 1780 г. соправитель своей матери Марии Терезии; провел ряд реформ в духе просвещенного абсолютизма.
Франц I (1708–1765) — императоре 1745 г., герцог Лотарингский (1729–1735), великий герцог Тосканский (1737–1765); основатель лотарингской линии Габсбургов.
Франц II — см. примем, к с. 173.
Святой Петр — один из первых двенадцати апостолов Христа, получивший от него предназначение стать главой новой церкви; по преданию — первый римский епископ; казнен в Риме во время гонения на христиан ок. 65 г.
Одним из атрибутов Петра служит меч, держа который, он охраняет вход в рай.
Держава — эмблема власти монарха: шар, символизирующий Землю.
… После церемонии, происходившей в кафедральной церкви святого Варфоломея, более известной под простым названием Собора… — Вероятно, имеется в виду франкфуртский католический собор, основанный в 852 г. Новое его здание, в котором с 1562 г. короновались императоры Священной Римской империи, построено в 1235 г. в готическом стиле. В 1867 г. часть собора пострадала от пожара и была восстановлена в 1869–1880 гг.
… Трирский, майнцский и кёльнский курфюрсты… — Трир — самый старый город Германии, лежит на правом берегу Мозеля; в нем до настоящего времени сохранились памятники эпохи римского владычества, когда он неоднократно служил резиденцией римских императоров; в средние века был столицей Трирского архиепископства, глава которого здесь и имеется в виду; в 1794 г. находился под властью французов, затем — в составе Пруссии; ныне — в земле Рейнланд — Пфальц ФРГ. Майнц — см. примеч. к с. 27.
Кёльн — см. примеч. к с. 82.
… с короной на голове, со скипетром и державой в руках… — Скипетр — жезл, один из знаков монархической власти.
175… После Рёмера одна из самых интересных городских достопримеча тельностей Франкфурта — Еврейская улица. — Еврейская улица — гетто средневекового Франкфурта; помещалась в центре города; во второй пол. XIX в. была переименована.
… когда автор этих строк посетил Франкфурт в первый раз, то есть тридцать лет тому назад… — Дюма вспоминает о своем первом путешествии в Германию, происходившем в 1838 г.: во Франкфурт он приехал 27 августа и пробыл в нем до 21 сентября. О своем посещении этого города писатель рассказывает в книге «Прогулки по берегам Рейна».
… настоящие евреи, ненавидевшие христиан, как Шейлок, и настоящие христиане, ненавидевшие евреев, как Торквемада. — Шсйлок — жестокий ростовщик, герой пьесы У.Шекспира «Венецианский купец». Торквемада (Торкемада), Томас (1420–1498) — основатель испанской королевской инквизиции, доминиканский монах; был близок ко двору и благодаря этому был назначен «великим инквизитором»; яростный антисемит и гонитель евреев, хотя сам был еврейского происхождения.
176… исконные жители города, которые образовывали патрициат старого вольного имперского города… — Патрициат — высший привилегированный слой населения городов Западной Европы в средние века; богатые купцы, ростовщики, городские землевладельцы.
… Главные семьи его таковы… семьи барона Хольцхаузена, барона Гидеррода, Гетмана… — Сведений о Хольцхаузенах и Гидерродах (Holzhauscn; Guidderrod) найти нс удалось.
Бетманы (известны также под фамилией Бетман-Гольвсг) — дворянская семья XVIII–XX вв. во Франкфурте, связанная с финансовым миром; владельцы одноименного банка; принимали активное участие в политической жизни Германии.
… Среди них мы назовем семьи Феи, Гонтар, Бернус, Люттерот… — Сведений об этих семействах (Fay, Gontard, Bernus, Lutterot) найти не удалось.
… Этоt скажем, семьи Брентано, Борньи и Бролонгаро. — Брентано — франкфуртская семья интеллигентов, из которой в XIX в. вышло несколько видных политических деятелей, ученых и литераторов. Сведений о семействах Борньи и Бролонгаро (Borgnis; Brolongaro) найти не удалось.
… вся еврейская община, которая собирается вокруг дома Ротшильдов как вокруг семьи местного и неоспоримого происхождения. — Банкирский дом Ротшильдов во время действия романа был одним из крупнейших в Европе и с кон. XVIII в. успешно кредитовал европейские правительства, приобретая вместе с тем и большое политическое влияние. Основателем фирмы Ротшильдов был Мейер Ансельм Ротшильд (1743–1812) из Франкфурта. В нач. XIX в. его сыновья учредили банкирские дома в Вене, Париже и Лондоне.
… объединены общей любовью к дому Габсбургов… — Габсбурги — немецкая императорская и королевская династия, правившая в Священной Римской империи германской нации в 1273–1804 гг. (с перерывами), в Австрийской империи и Австро-Венгерской монархии в 1804–1918 гг. и в Испании в 1516–1700 гг., в Чехии и Венгрии с 1526 г., в XVIII–XIX вв. — в ряде мелких итальянских, государств.
177… Великий курфюрст Гессенский собственной персоной приезжает в эти места… — Возможно, имеется в виду курфюрст Фридрих Вильгельм I (1802–1875) — правил в 1847–1866 гг.; внутри своих владений проводил крайне реакционную политику и противился объединению Германии вокруг Пруссии; в войне 1866 г. выступил на стороне Австрии, но был арестован пруссаками; после войны, заключив договор с Пруссией, за денежное вознаграждение отказался от своих прав на Гессен-Кассель; остаток жизни провел в Праге, продолжая агитировать за восстановление своего престола.
178… Вслед за шлезвиг-гольштейнской историей Сейм во Франкфурте был созван 9 июня… — Вероятно, имеется в виду вступление пруссаков 8 июня 1866 г. в Гольштейн, после чего австрийцы поспешно оттуда эвакуировались.
… баварский полковник Лессель, в течение долгих лет был представителем Баварии в союзной военной комиссии… — Лессель, Филипп, подполковник — в 1866 г. член военной комиссии при Сейме Германского союза, представитель Баварии.
Военная комиссия при Сейме Германского союза состояла в 1866 г. из представителей Пруссии, Австрии и Баварии. В нее входили также офицеры трех армейских корпусов, которые должен был сформировать Союз во время войны. Эта комиссия, как и все органы Союза, имела чисто номинальный характер, поскольку постоянной армии он не имел.
179… по линии Майн-Везер в направлении Вецлара… — Майн — река в
Западной Германии, правый приток Рейна; длина 524 км; вдоль по его течению стоят города Байрёйт, Швейнфурт, Вюрцбург, Ашшафенбург, Франкфурт и Майнц.
Везер — река в Северной Германии; образуется слиянием рек Верра и Фульда; длина 440 км; впадает в Северное море.
Вецлар — город в Западной Германии, к северу от Франкфурта, при впадении в Лан реки Диль; до 1803 г. вольный имперский город, затем вошел в состав Пруссии.
… он ждал друга на Цейле. — Цейль — большая улица в центре Франкфурта.
… Карл придет на свидание с нею в небольшую католическую церковь Нотр-Дам-де-ла-Круа. — Сведений о такой франкфуртской церкви (Notre Dame de la Croix) найти не удалось.
181… В тот миг, когда я тебя увидела, я, как Джульетта, сказала: «Буду твоей или лягу в могилу!» — Джульетта — героиня трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта», девушка, погибшая от любви. Здесь, вероятно имеются в виду слова Джульетты, обрашенные к кормилице сразу после знакомства с Ромео: «И если он женат, //То мне могила будет брачным ложем» (I, 5; пер. Т Л. Щепкиной-Ку перни к); в оригинале они звучат так: «If he be married // My grave is like to be my wedding-bed».
182… мне безразлично, кто выйдет победителем, Франц Иосиф или Вильгельм Первый. — Франц Иосиф I Габсбург (1830–1916) — император Австрии с 1848 г.; его правительство подавило революцию 1848–1849 гг. и восстановило абсолютистский режим; после поражения в войне 1866 г. с Пруссией вынужден был согласиться на установление австро-венгерского дуализма; заключил союз с Германией (1879) и проводил агрессивную политику на Балканах, что подготовило Первую мировую войну; умер за два года до развала своей империи.
184… вести бои в Гессене, в герцогстве Баденском и в Баварии — в местах,
расположенных вблизи Франкфурта. — Баден — феодальное владение на юго-западе Германии, с XI в. входившее в состав Священной Римской империи и имевшее столицу в городе Карлсруэ; в 1806 г., благодаря союзу с Наполеоном, значительно расширило свою территорию и получило статус великого герцогства (до этого с 1130 г. было маркграфством); в 1806–1813 гг. входило в Рейнский союз; в 1871 г. вошло в Германскую империю, ныне находится в составе ФРГ.
… в бывшем монастыре кармелиток. — Кармелитки — монахини женского монашеского ордена католической церкви, имевшего очень строгий устав; название получили от горы Кармель, или Кармиль (в Палестине), на которой, по преданию, была основана первая обшина мужского ордена монахов-кармслитов.
186… полк по Цейлю и по улице Всех Святых подходил под марш Радецкого к Ганноверскому железнодорожному вокзалу. — Улица Всех Святых продолжает улицу Цейль.
Марш Радецкого — австрийский военный марш, названный в честь фельдмаршала Радецкого (см. примеч. к с. 28); написан в 1848 г. И. Штраусом — отцом (1804–1849).
Ганноверский вокзал расположен в восточной части Франкфурта… бросила ему скабиозу… — Скабиоза — род растений из семейства ворсянковых, однолетние или многолетние травы или кустарники; используется в декоративном садоводстве.
187… В своей книге о Германии Дебароль говорит… — Сведений о такой книге Дсбароля найти нс удалось.
… пересекая границу от Острова до Одерберга… — Остров — город в Северо-Западной Чехии, у границы с Германией.
Одерберг (ныне Богумин) — город в Северо-Восточной Чехии, у границы с Польшей.
Около этих городов, принадлежавших тогда Австрийской империи, находились соответственно крайняя западная и крайняя восточная точки прусско-австрийской границы.
… на родине Гёте в полной мере можно было оценить эту разницу… — Гёте (см. примеч. к с. 31) родился во Франкфурте-на-Майне.
… верилось… в превосходство австрийского оружия… — Эту уверенность разделяли в то время многие видные военные специалисты Европы, поскольку в памяти были живы разгром прусской армии Наполеоном, педантизм прусской военной системы, а точных сведений о результатах прусской военной реформы 1860-х гг. не имелось.
188… Фишер, главный редактор «Post Zeitung»… — Сведений об этом персонаже (Ficher) найти не удалось.
«Post Zeitung» — вероятно, имеется в виду «Frankfurter Postzeitung» («Франкфуртская почтовая газета»), выходившая во Франкфурте-на-Майне в 1619–1866 гг.; в 50-х гг. была органом Союзного сейма; данное название носила с 1852 г.
… сенатор фон Берну с, один из самых изысканных людей во Франкфурте… — Сведений об этом персонаже (Bernus) найти не удалось.
… беседовал с… доктором Шпельцем, начальником полиции… — Сведений об этом персонаже (Speltz) найти не удалось.
… Ее разбили при Палестро, при Мадженте и при Сольферино… — Палестро — селение в Северной Италии, на реке Сезия; здесь 30 мая 1859 г. во время Австро-итало-французской войны пьемонтские войска нанесли поражение австрийцам; победа эта имела большое стратегическое значение, т. к. она обеспечила обходное движение союзной армии. Маджента — селение в Северной Италии, в 22 км западнее Милана; здесь 4 июня 1859 г. состоялось крупное сражение Австро-итало-французской войны: союзники одержали победу, хотя и не решительную. Сольферино — селение в Северной Италии, у южного берега озера
Гарда; здесь 24 июня 1859 г. состоялось решающее сражение Австро-итало-французской войны. Победа франко-пьемонтской армии под командованием Наполеона III вынудила австрийского императора пойти на мир.
189… если у пруссаков есть ландвер, то у австрийцев есть ланд штурм… — Ландвер — см. примем, к с. 8.
Ландштурм (от нем. Land — «земля», «страна» и Sturm — «буря», «гроза») — первоначально земское ополчение, возникшее в Австрии в 1809 г. и в Пруссии в 1813 г., во время войн Наполеона; позднее категория военнообязанных старшего возраста, подлежащая призыву в случае войны; в него входили также лица младшего возраста, ранее освобожденные от службы; призывался во время войны и составлял особые формирования для внутренней службы, а также охраны границ; на практике часто использовался для пополнения действующей армии и боевых действий.
… три четверти прусской армии вооружены игольчатыми ружьямиt которые делают восемь — десять выстрелов в минуту. — В 1860-х гг. XIX в. прусская армия была перевооружена заряжающимся с казенной части (что позволяло легко вести стрельбу с колена и лежа) игольчатым нарезным ружьем, разработанным в 1840 г. И.Н.Дрейзе (1787–1867) и называвшимся винтовкой Дрейзе. Эта винтовка имела бумажный унитарный патрон и по своей скорострельности превосходила другие винтовки того времени в 4–5 раз. Ружье называлось игольчатым потому, что оно имело в качестве бойка длинную иглу, которая проходила через весь патрон и взрывало капсуль, укрепленный в его передней части.
… уже не то время, когда маршал Саксонский говорил, что ружье это только штыковище. — Маршал Саксонский — граф Мориц Саксонский (1696–1750), незаконный сын курфюрста Саксонии (с 1694 г.), короля Польши (с 1697 г.) Августа II Сильного (1670–1733); французский полководец и военный теоретик, маршал Франции; придавал большое значение моральному фактору в войне; автор книги «Мои мечтания, или Записки о военном искусстве» («Mes Reveries ou Memoires sur I’art de la guerre»; 1732; издана в 1757 г.), в которой он сформулировал многие принципы военного дела, воплотившиеся в практику в войнах Французской революции.
… от Кёниггреца до Триеста и от Зальцбурга до Пешта… — Кёниггрец — город в Восточной Чехии (соврем. Градец-Кралове); в 1866 г. принадлежал Австрийской монархии. Неподалеку от него 3 июля 1866 г. произошло решающее сражение Австро-прусской войны, в котором пруссаки одержали победу. В исторической литературе оно называется также сражением при Садове (см. примеч. к с. 214). Триест — древний город и порт на северо-востоке Италии; в средние века — объект борьбы между Венецией, Византией и Священной Римской империей; в 1719 г. захвачен Габсбургами; в нач. XIX в. превратился в крупный порт, сосредоточивший в своих руках морскую торговлю Австрии с Ближним Востоком; после Первой мировой войны отошел к Италии.
Зальцбург — город в Западной Австрии, на реке Зальцах, у баварской границы; ныне административный центр одноименной провинции; промышленный и культурный центр; вырос в V–VI11 вв.
на месте дрсвнсримской колонии. На территории провинции Зальцбург в XIII — нач. XIX в. располагалось самостоятельное церковное княжество, упраздненное как светское владение в 1803 г. и в 1805 г. перешедшее в качестве герцогства к Австрии. По мирному договору 1809 г. Зальцбург был уступлен Наполеону, и тот передал его Баварии; в 1814 г. герцогство вернулось в состав Австрийской империи. Пешт — см. примеч. к с. 164.
… и о них можно сказать то же самоеt что древние римляне говорили о марсах: «Что сделаешь против марсов или без марсов?» — Марсы — древнее италийское воинственное племя, жившее в Средней Италии и неоднократно воевавшее с Римом.
190… Этот человек… был крупнейшим франкфуртским виноторговцем,
и звали его Герман Мумм. — Сведений об этом персонаже (Mumm) найти не удалось.
… «Szozflt»… это венгерская «Марсельеза», сочиненная поэтом Вёрёшмарти. — Вёрёшмарти, Михай (1800–1855) — венгерский поэт-романтик, сторонник политических и экономических реформ и национальной независимости Венгрии; участник революции 1848–1849 гг., после которой он подвергся преследованиям. Написанное им патриотическое стихотворение 30-х гг. «Призыв» («Szozat») пользовалось такой популярностью, что его и в самом деле называли венгерской «Марсельезой». «Марсельеза» — революционная песня; первоначально называлась «Боевая песнь Рейнской армии»; с кон. XIX в. — государственный гимн Франции; написана в Страсбурге в апреле 1792 г. поэтом и композитором, военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лилем (1760–1836); под названием «Гимн марсельцев» (сокращенно «Марсельеза») в 1792 г. была принесена в Париж батальоном добровольцев из Марселя и быстро стала популярнейшей песней Революции.
… господин государственный советник. — Государственный советник — звание в гражданской чиновной иерархии в немецких государствах.
… Из домов, что были выписаны мною в коробке из Нюрнберга, я строю деревню… — Город Нюрнберг (см. примеч. к с. 168) издавна был известен как центр производства игрушек.
… А что такое барон?… Это много, если твое имя Монморанси. Это ничто, если тебя зовут Ротшильд. — Баронами в Западной Европе в VI–VII вв. называли вообще знатных людей, а в XI–XIII вв. — представителей крупной феодальной знати, которые могли одновременно носить и другие титулы. Впоследствии бароны заняли низшее пятое место в феодальной иерархии.
Монморанси — древнейший аристократический род, основателем которого считается Бушар I, барон де Монморанси (изв. с 958 г., ум. в 978 г.); дал Франции нескольких коннетаблей и маршалов; с 1551 г. его представители носили титул герцогов.
Ротшильды (см. примеч. к с. 176) имели баронский титул, пожалованный сыновьям основателя рода, Мейера Ансельма Ротшильда, в нач. XIX в. (по-видимому, за устройство государственных займов).
… австрийский император назначил генерала Бенедека главнокомандующим со всеми полномочиями. — Бенедек, Людвиг (1804–1881) — австрийский военачальник, участник подавления революционных восстаний 1846–1849 гг. в Галиции, Италии и Венгрии и Австроитало-французской 1юйны 1X59 г.; начальник австрийского генерального штаба (1X60) и с этого же года командующий войсками в Италии; а 1X66 г., несмотря на его сопротивление, был перемещен на малознакомый ему немецкий театр, где он заменил эрцгерцога Альбрехта, тем самым оградив члена императорской фамилии от позора возможного поражения; обещание предоставить ему самостоятельность решений выполнено нс было; после поражения в войне с Пруссией в 1X66 г. был уволен в отставку.
… Его назначение обсуждалось в Совете… — Вероятно, имеется в виду Совет министров Австрийской монархии.
191… Сатурн с его непонятным кольцом и со всеми его семью золотыми лунами… — Ко времени создания романа было обнаружено уже 8 спутников Сатурна, из них 7 были открыты к 17X9 г. (Титан, Фемида, Диона, Рея, Я пет. Ми мае и Энкслад), а восьмой (Гиперион) — в 1848 г.; к настоящему времени их известно 18.
… в мифологии — ото низверженный с неба король. — Имеется в виду древнегреческий бог неба Уран, который был оскоплен и низвержен как владыка мира своим сыном Кроносом.
… Это Время, пожирающее своих детей… — Согласно древнегреческой мифологии, Кронос, символизирующий время, проглатывал своих детей после их рождения, ибо помнил, как сам он сверг своего отца Урана.
… в алхимии… самый дурной из металлов, свинец, определяют именем Сатурна. — На французском языке свинец называется saturne.
… Так же и в кабале… — Кабала — см. примеч. к с. 56.
… Генрих Второй был сатурнийцем, Людовик Тринадцатый был сатурнийцем. — Генрих II (1519–1559) — король Франции с 1547 г.; в 1559 г. завершил Итальянские войны; в его царствование во Франции значительно усилились преследования протестантов и налоговое бремя; случайно был смертельно ранен на рыцарском турнире. Людовик XIII (1601–1643) — король Франции с 1610 г.; старший сын Генриха IV; поддерживал политику своего первого министра Ришелье, направленную на централизацию страны и укрепление королевского абсолютизма
… люди, причинявшие огромные несчастья, рождаются под знаком Сатурна и Меркурия. — Планета Меркурий названа в честь Меркурия (гр. Гермеса) — бога-вестника богов, покровителя путешественников, торговли и т. д.; считалась непостоянным и изменчивым светилом.
…Я жалею бедных маленьких государей: вроде короля Ганновера, короля Саксонского… — Королем Саксонии в это время был Иоганн (Иоганн Непомук Мария Иосиф; 1801–1874; правил в 1854–1873 гг.), в Германском союзе поддерживавший политику Австрии и в войне 1866 г. вставший на ее сторону; увлекался литературой и занимался переводами (под псевдонимом Филалет).
193 …Их отца пруссаки расстреляли в тысяча восемьсот сорок восьмом году. — Вероятно, имеются в виду события двух республиканских восстаний в Бадене в 1848 г., но они были подавлены баденскими и вюртембергскими, а не прусскими войсками. Скорее речь могла бы идти о восстании за имперскую конституцию (т. е. за единство
Германии) летом 1849 г. в Пфальце и Бадене, которое было с большой жестокостью подавлено прусскими войсками под командованием принца Вильгельма, будущего короля Вильгельма I.
194… Нам луни пошлет Аврора… — Аврора — богиня утренней зари в древнеримской мифологии, а также название самой зари.
195… граф Плотен фон Халлермюнде предстал перед королем Ганновера. — Платен фон Халлермюнде, Адольф, граф (1814—?) — ганноверский государственный деятель и дипломат, посол в Париже в 1852–1855 гг.; в 1855–1866 гг. министр иностранных дел; последовал за королем Георгом V в изгнание.
… королева Мария сидела за вышиванием вместе с молодыми принцессами. — Имеются в виду ганноверская королева Мария Александрина Вильгсльмина Катерина Шарлотта Тереза Генриетта Полина Фредерика Георгина (1818-?), дочь герцога Йозефа Саксен-Аль-тенбургского, и две ее дочери: Фредерика София Мария Генриетта Амелия Тереза (1848—?) и Мария Эрнестина Жозефина Генриетта Тереза Елизавета Александрина (1849—?).
196… Вот вас и предает ваш собственный двоюродный брат. — Короля Ганновера Георга V и прусского короля Вильгельма I связывало не родство по крови, а свойство: сын прусского короля, наследный принц Фридрих Вильгельм (см. примеч. к с. 39), был женат на дочери английской королевы Виктории (см. примеч. к с. 84), которой ГеоргУ приходился племянником.
… граф Платен сделал устное заявлению князю Иссембургскому, который принес послание прусского короля… — Князь фон Иссембург-Будин-ген — полковник, посланник Пруссии в Ганновере в 1860–1866 гг.
197… приказ войскам, сосредоточенным в Миндене, вступить в Гянновер. — Минден — город в прусской провинции Вестфалия, примерно в 50 км западнее Ганновера; известен еще со времен римских завоеваний.
… закрепились в Гарбурге… — Гарбург — торговый и промышленный город в королевстве Ганновер, порт на реке Эльба, в 10 км южнее Гамбурга.
… и идти на соединение в Гёттинген. — Гёттинген — город в Западной Германии, в 95 км к югу от Ганновера, на реке Лейне; известен своим университетом, основанным в первой пол. XVIII в. и ставшим известнейшим немецким высшим учебным заведением.
198… Лунный холм полный и гладкий… — Лунный холм находится на противоположной относительно большого пальца стороне ладони, в ее нижней части; он якобы отвечает за воображение и творчество индивидуума, его одухотворенность и интуицию.
… Благодаря смирению, Диоген разбил свою миску, а Сократ улыбнулся смерти в глаза. — Диоген Синопский (412–323 до н. э.) — греческий философ, главный представитель школы киников, философского учения, согласно которому смысл человеческого существования сводится к умению довольствоваться малым и избегать зла; одновременно киниками отрицались культура, искусство, семья, государство, общественные ценности и устои, право собственности и сословное неравенство. Диоген, основной проповедник этих идей, воздействовал на умы своих современников собственным примером крайнего аскетизма: существует легенда, будто он довел свое существование до того, что жил в бочке (за что получил прозвище «собака»). Эпизод с миской приводит историк античной философии Диоген Лаэртский (первая пол. Ill в.) в труде «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Когда Диоген Синопский увидел, «как мальчик пил воду из горсти, он выбросил из сумы свою чашку, промолвив: “Мальчик превзошел меня простотой жизни". Он выбросил и миску, когда увидел мальчика, который, разбив свою плошку, ел чечевичную похлебку из куска выеденного хлеба» (VI, 2: 37). Сократ (470/469-399 до н. э.) — древнегреческий философ, один из основоположников диалектики, почитавшийся в древности как идеал мудреца; жил в Афинах, был обвинен в «поклонении новым божествам» и «развращении молодежи»; приговоренный к смерти, он спокойно выпил яд.
200… примите от меня эту бирюзу. — Бирюза — минерал голубого цве та, широко применяется в ювелирном деле, особенно на Востоке… благоухавшее кожаное саше. — Саше — ароматическая подушечка, наполненная смесью твердых душистых веществ.
202 Битва при Лангензальце. — Лангельзальца — город в Западной Гер мании, в 70 км к юго-востоку от Гёттингена; близ него 27–28 июня
1866 г., в ходе Австро-прусс кой войны, произошло кровопролитное сражение между войсками Ганновера под командованием генерала Арентшильда (14 тыс. человек) и пруссаками под командованием генерала Флиса (9 тыс. человек); пруссаки атаковали позиции ганноверцев и после упорного боя были отбиты, потеряв около 1 400 человек убитыми и ранеными; однако победа ганноверцев, тоже потерявших около I 400 человек, оказалась бесплодной, т. к. свежие прусские силы окружили ганноверские войска и вынудили их капитулировать. Эта битва была последним появлением Ганновера на исторической сцене в качестве независимого государства.
… гусарский полк королевы, которым командовал полковник Халлельт… — Сведений об этом персонаже (Hallelt) найти не удалось.
… Король поселился в гостинице «Корона»… — Гостиница «Корона» («Krone») в Гёттингене еще в нач. XX в. находилась на Вендерштрассе… Генерал Мантёйфель, прибывший из Гамбурга… — Мантёйфель, Энвин Ганс Карл (1809–1885) — прусский генерал, с 1871 г. генерал-фельдмаршал, участвовал в войне 1864 г. с Данией; накануне войны 1866 г. командовал прусскими войсками в Шлезвиг-Гольштейне, а во время войны — Май некой армией, действовавшей в Западной Германии; во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. командовал корпусом и армией; несколько раз исполнял дипломатические поручения в Петербурге. Гамбург — см. примеч. к с. 170.
… генерал Рабенгорст, прибывший из Миндена… — Сведений о прусском генерале Рабенгорсте (Rabenhorst) найти не удалось.
… генерал Байер, прибывший из Вецлара… — Байер, Густав Фридрих, фон (1812—?) — прусский генерал, участник подавления пфальцско-баденского восстания 1849 г.; во время войны 1866 г. командовал прусскими войсками, занявшими княжество Гессен-Кассель; в
1867 г. занимался реорганизацией армии Гессена; во время Франко-прусской войны командовал дивизией.
Всцлар — см. примем, к с. 179.
… король отправил курьеров к принцу Карлу Баварскому, брату старого короля Людвига… — Имеется в виду принц Карл Теодор Максимилиан Август Баварский (1795–1875), который в 1813–1814 гг. участвовал в войне шестой коалиции против Наполеона, а в 1866 г. неудачно командовал двумя корпусами войск Германского союза, действовавшими против пруссаков.
Король Людвиг Баварский — см. примем, к с. 23.
… должен был находиться в долине Верры… — Верра — река в Центральной Германии, в Тюрингии; правый приток Везсра.
… он направляется к Эйзенаху через Мюльхаузен, то есть через прусскую территорию. — Эйзенах — старинный город в Тюрингии; в XIX в. входил в герцогство Сакссн-Веймар и вместе с ним был включен в 1871 г. в Германскую империю.
Мюльхаузен — небольшой город в Тюрингии, на реке Унструт, в 30 км севернее Эйзенаха; к Пруссии присоединен в 1803 г.; в средние века один из центров реформации.
… Войска через Веркирхен подошли к Эйзенаху. — Топоним Веркирхен (Werkirchen) идентифицировать не удалось.
203… прибыл курьер от герцога Готского, на землях которого находился этот город… — Имеется в виду герцог Эрнст Саксен-Кобург-Готский (1818–1893), вступивший на престол в 1844 г., управлял в либеральном духе; вначале был сторонником австрийской гегемонии в Германии, но в 60-х гг. стал поддерживать политику объединения, проводимую Бисмарком; в 1866 г. был на стороне Пруссии; в 1867 г. вступил в Северогерманский союз; в 1871 г. его герцогство вошло в Германскую империю; был также композитором (сочинил несколько опер), путешественником и писателем, оставил мемуары… решили, оставив Эйзенах справа, двигаться к Готе. — Гота — главный город герцогства Саксен-Кобург-Готского; известен со времен Карла Великого; с XII в. принадлежал маркграфам Тюрингии, в XV в. перешел к саксонским курфюрстам, в 1826 г. стал резиденцией герцогов Саксен-Кобург-Готских; в 1871 г. вошел в Германскую империю; находится в 30 км восточнее Эйзенаха.
… король выехал в сопровождении майора Швеппе… — Сведений об этом персонаже (Schweppe) найти не удалось.
… придерживал его лошадь за незаметный трензель. — Трензель (нем. Trense) — металлические удила для управления лошадью: ими надавливают на ее язык и углы рта.
… в различных мундирах, соответствующих родам их войск или их должностям, граф фон Ведель, майор фон Кольрауш, г-н фон Кленк, гвардейский кирасир капитан фон Эйнем и г-н Мединг. — Граф фон Ведель — см. примеч. к с. 128.
Майор фон Кольрауш (Kohlrausch) — сведений о нем не найдено. Кленк, фон — видный чиновник в министерстве финансов Ганновера. Капитан фон Эйнем (Einem) — сведений о нем не найдено. Мединг, Эрнст Карл Георг, фон — управляющий двора королевы Ганновера в 1866 г.
… выехал из Лангензальцы на рассвете и направился в Тамсбрюк. —
Тамсбрюк — населенный пункт на реке Унструт, в 5 км севернее Лангензальцы.
… оказавшись па берегу Упструта… — Унструт — небольшая река, левый приток Зале; протекает через поле сражения уЛангензальцы; прикрывала расположение ганноверской армии с фронта.
… был атакован двумя прусскими корпусами. Ими командовали генералы Флис и Зеккендорф. — При Лангензальце ганноверская армия была атакована корпусом генерала Флиса; этот корпус, состоявший из шести батальонов, двух эскадронов и двух артиллерийских батарей, значительно уступал по численности ганноверцам.
Флис, Эдуард (1802–1886) — прусский генерал; в Австро-прусс кой войне командовал отдельным отрядом в авангарде армии Мантсйфеля, затем бригадой и дивизией.
Зеккендорф (SeckendorfT) — сведений о нем нс найдено.
… В числе гвардейских полков там был и полк королевы Августы… — Королева Августа — см. при меч. к с. 37.
… Слева от них, на небольшом возвышении, стояла деревушка Меркс — лебен. — Мсркслебсн — деревня на холме Кирхберг в 2 км северо-восточнее Лангензальцы, на левом берегу Унструта; деревня и холм находились в центре расположения ганноверцев и были ключевым пунктом их позиции; на Кирхберге стояла ганноверская артиллерия.
205… Раньше ганноверские войска были превосходными. В Испании они побеждали отборные французские войска. — Говоря о войне в Испании, Дюма, скорее всего, имеет в виду освободительную войну испанского народа против наполеоновского нашествия в 1808–1813 гг. В этой войне на стороне испанцев принимали участие английские войска, в составе которых в войнах XVIII — нач. XIX в. всегда присутствовали контингенты немецких союзников Англии, в том числе и Ганновера. Так, например, в войсках Веллингтона в 1808–1813 гг. сражался Немецкий легион, которым командовал ганноверский генерал граф Карл Август фон Альтен (1764–1840), с 1803 г., после занятия Наполеоном Ганновера, служивший в английской армии.
207… Эскадрон начал атаку через Негельштедт… — Негельштедт — селение на левом берегу Унструта, в 5 км к востоку от Лангензальцы; оказалось на левом фланге расположения пруссаков при Лангензальце.
… Из прусских канониров — живых только один. — Канонир (от фр. canon — «пушка») — солдат-артиллерист.
208… Музыка играла «God save the King!»… — «God save the King!» («Боже, храни короля!») — национальный гимн Великобритании; слова и музыка его анонимны и восходят к нескольким песням политического содержания и гимнам XVII в.; в 1740 г. был аранжирован и исполнен в честь дня рождения короля Георга II (см. примеч. к с. 83); с 1745 г. исполнение гимна считалось знаком лояльности к королевской власти; в разное время и разными исследователями авторами музыки гимна считались композиторы Джон Булль (1563–1628), Джон Кэри (7—1743) и Георг Фридрих Гендель (1685–1759); в XIX в. использовался как гимн и некоторыми другими странами, в том числе и Россией.
209… музыка играла похоронный марш Бетховена. — Бетховен, Людвиг ван (1770–1827) — великий немецкий композитор; сочинял во многих музыкальных жанрах; здесь, вероятно, имеется в виду траурный марш N.>12 (1801), приложенный к сонате N>8 («Патетическая»; 1798).
210… генерал Арентшияьд от имени ганноверского короля… — Генерал Арснтшил1*д был главнокомандующим ганноверской армией в 1866 г… ведьмы, пруссаки, пережили Йену. — Йена — см. примем, к с. 9… конгресс решит, должен ли я оставаться королем или стать отныне простым английским принцем… — Вероятно, под конгрессом здесь понимается Союзный сейм.
… я поеду к моему тестю, герцогу Саксен-Альтенбургскому… — Сакссн-Альтенбург — карликовое государство-герцогство в Саксонии; разделялось на две части другими владениями; возникло в средние века; в 1825 г. в связи с прекращением правящей линии саксонских герцогов перешло к дому Гильдбурггаузснов. Правивший в 1866 г. герцог Эрнст поддерживал политику Пруссии, и его войска участвовали в войне на се стороне. В 1871 г. герцогство вошло в Германскую империю.
… или к его величеству императору Австрийскому. — То есть к Францу Иосифу I Габсбургу (см. примем, к с. 182).
… Адъютант вез для короля орден Марии Терезии… — Орден Марии Терезии (точнее: «Военный орден Марии Терезии») — один из высших орденов Священной Римской, а потом и Австрийской империй; учрежден в 1757 г. в честь победы над прусской армией при Колине в ходе Семилетней войны; условиями награждений этим орденом, весьма редких, были: благородное происхождение, долгая служба, личные подвиги, получение раны; имел три степени; знак — крест белой эмали с расширяющимися концами, повешенный на пунцовую с белым ленту; девиз «Fortitudini» (лат. «За храбрость»). Мария Терезия (1717–1780) — императрица Священной Римской империи с 1740 г.
211… советником регенства г-ном Медингом… — Меди н г — см. п ри меч. к с. 203.
… министром иностранных дел г-ном фон Платеном… — См. примем. к с. 195.
… и своим военным министром г-ном фон Брандисом. — Брандис, Эверард, барон фон — генерал, военный министр Ганновера с июля 1855 г… перед тем как уехать в Вену, расположились в маленьком замке Фрёлихе Видеркер, что означает «Счастливое возвращение». — Сведений об этом замке (Frohlichc Wiederkehr) найти не удалось.
212… в Эмдене, в Восточной Фрисландии, на берегах Эмса. — Эмден — город и порт на Северном морс; известен с XIV в.; в кон. XV в. отошел к Габсбургам; после Нидерландской революции XVI в. был до 1774 г. под покровительством Голландии; затем (кроме времени революционных и наполеоновских войн) принадлежал Пруссии; с 1815 г. в составе Ганновера, после 1866 г. снова принадлежал Пруссии; ныне в составе земли Нижняя Саксония ФРГ.
Фрисландия (Фризия) — историческая область на севере Нидерландов, в средние века — графство, затем провинция в нидерландских владениях Карла V (он завладел этим графством в 1523 г.); в 1579 г. вошла в республику Соединенных провинций (Голландию), а в 1815 г. — в королевство Нидерланды; восточная часть Фрисландни, графство Остфрисланд, в 1815–1866 гг. принадлежала Ганноверу и была аннексирована в 1866 г. Пруссией.
Эмс — река в Северо-Западной Германии; впадает в Северное морс; длина 320 км; важный водный путь, соединенный каналами с Эльбой и Рейном; некогда протекала под стенами Эмдсна, ныне находится от него в 3 км.
… вернуться в Германию через Великое герцогство Люксембург. — Люксембург — графство, которое образовалось в 963 г., переходило из рук в руки и в 1353 г. стало герцогством, в 1443 г. (формально — в 1451 г.) отошло к Бургундии, в 1477 г. — к Габсбургам, став одной из провинций Нидерландов; переходил от испанских Габсбургов к Франции (большая его часть в 1659 г., полностью — в 1684 г.), затем — к австрийским Габсбургам (1713), затем — снова к Франции (1794); наконец, в 1815 г. было образовано Великое герцогство Люксембург, причем большая часть исторического Люксембурга отошла к образованному тогда Нидерландскому королевству, а после распада его в 1830 г. — к Бельгии (ныне составляет бельгийскую провинцию Люксембург).
… пройдя всю Голландию, присоединиться к нему в Роттердаме или в Гааге. — Голландия — здесь: одна из провинций Нидерландского королевства.
Роттердам — старинный город в Нидерландах, в провинции Южная Голландия, на северном рукаве дельты Рейна; один из крупнейших портов мира; упоминается с XIII в.; в 1340 г. получил права города; в 1572 г. примкнул к Нидерландской революции и вошел в республику Соединенных провинций, а после наполеоновских войн — в Нидерландское королевство.
Гаага — старинный город в Нидерландах, административный центр провинции Южная Голландия; первое упоминание о нем относится к 1097 г.; в XIII в. стал резиденцией графов Голландских; с образованием в результате Нидерландской революции XVI в. республики Соединенных провинций стал местом пребывания Генеральных штатов (ее сословного представительства) и фактической столицей; после Венского конгресса там находились правительство, парламент и королевский двор Нидерландов.
… пустился в дорогу в направлении Брюсселя, Намюра и Люксембурга. — Брюссель — см. при меч. к с. 58.
Намюр (флам. Немен) — город в Бельгии, в 55 км юго-восточнее Брюсселя, по пути в Люксембург; главный город одноименной провинции; играл большую роль в войнах XVII–XVIII вв. как важная крепость; до кон. XVIII в. входил в бельгийские владения Испании и Империи; в 1794 г. был занят французами; после наполеоновских войн вошел в Нидерландское королевство, а после бельгийской революции 1830 г. — в состав Бельгии.
… Они прибыли в Тьонвиль. — Тьонвиль — см. примеч. к с. 15.
213… В свое время он служил в Алжире… — То есть служил во французских войсках во время колониальной войны в Алжире в 30—40-х гг. XIX в.
… нашел… своего товарища по бивачной жизни… — Бивак — стоянка войск для ночлега и отдыха вне населенного пункта, оборудованная подручными средствами. Такой способ стоянки вошел в практику военного искусства во время войн Французской революции.
… череi Страсбург попали в Великое герцогство Баденское… — Страсбург (Страсбур) — главный город исторической области Эльзас; расположен в среднем течении Рейна; ныне административный центр французского департамента Нижний Рейн.
Баден — см. примеч. к с. 184.
… отправился в Меининген, столицу одного из… мельчайших саксонских герцогств… — Мейнинген — небольшой город в Саксонии, столица герцогства Саксен-Мей ни нген; городом стал в XI в.; во второй пол. XIX в. был известен новаторской труппой придворного драматического театра.
214… между битвой при Лангензальце и битвой при Садове. — Садова —
селение в 8 км северо-западнее Кёниггреца; близ него 3 июля 1866 г. произошло сражение прусских войск (220 тыс. человек и 924 орудия), которыми формально командовал Вильгельм I, а на самом деле — начальник генерального штаба генерал Мольтке (см. примеч. к с. 370), и австрийско-саксонских войск (215 тыс. человек, включая 30-тысячный саксонский корпус, и 770 орудий) под командованием генерала Бенедска. Австрийско-саксонские войска, по численности почти равные прусским, но значительно уступавшие им в артиллерии и качестве вооружения, после нескольких поражений во встречных боях заняли позиции на высотах юго-восточнее Садовы. Вслед за рядом атак по фронту союзников две прусские армии обошли их фланги и принудили противника к отступлению, вскоре перешедшему в бегство. Общие потери австрийско-саксонской армии составили примерно 20 % ее состава. Этот разгром предопределил общее поражение Австрии и ее немецких союзников в войне против Пруссии и Италии.
… Тридцатого июня Рудольфштадт и ганзейские города объявили, что выходят из Союза. — Рудольфштадт — небольшой город в Центральной Германии, на реке Зале; известен с IX в.; в XIX в. главный город карликового княжества Шварцбург-Рудольфштадт; в 1871 г. вошел в Германскую империю.
Ганзейские города — торговые города Германии (преимущественно морские) и некоторых прилегающих стран на Северном и Балтийском морях, которые входили в торговый и политический союз Ганза (от старонем. Hansa — «товарищество», «союз») XIV–XVII вв. Ганзейцы образовали союз для зашиты торговли и мореплавания, пролагали новые торговые пути, являясь крупнейшими посредниками в торговле с востоком, западом и югом Европы. Общее число городов Ганзы доходило до 60–70. Власть в них принадлежала купеческому патрициату. Свои торговые привилегии Ганза защищала военной силой. Расцвета она достигла в XIV–XV вв. Однако в XV–XVI вв. в Европе стали складываться крупные национальные государства (Англия, Франция, Нидерланды, Московское царство), к которым переходило торговое и промышленное преимущество, и, в сочетании с перемещением основных морских путей в Атлантику, это привело к распаду Ганзейского союза: последний его съезд состоялся в 1669 г. Однако бывшие члены Ганзы (Любек, Гамбург, Бремен и др.) и в XIX в. продолжали оставаться крупными торговыми центрами и их по инерции продолжали называть ганзейскими.
… Вюртембергские и баденские войска пересекли город… — Вюртемберг — историческая область на юго-западе Германии, с XIII в. графство, с 1495 г. герцогство; в 1800 г. был оккупирован Францией; будучи союзником Наполеона, стал королевством (1806) и иступил в Рейнский союз, значительно расширив свою территорию; в 1805–1813 гг. участвовал в войнах Наполеона; в 1871–1918 гг. входил (формально сохраняя самостоятельность) в Германскую империю; ныне входит в состав земли Баден-Вюртемберг ФРГ. Вюртемберг в 50–60 — х гг. XIX в. являлся противником германской политики Пруссии и поэтому в 1866 г. принял участие в войне на стороне Австрии. Однако 24 июля вюртембергские войска были разбиты, королевству грозила оккупация, и его правительство обратилось к Пруссии с предложением о перемирии. По Пражскому миру, завершившему войну, Вюртемберг был вынужден уплатить противнику большую контрибуцию. С Пруссией был заключен союз, и вюртембергская армия в случае новой войны должна была поступить под командование прусского короля.
В 1866 г. Баден (см. примеч. к с. 184) выступил вместе с Австрией и другими германскими государствами против Пруссии, но после ее победы заключил с нею союз; в 1870 г. это великое герцогство приняло участие во Франко-прусской войне, а в 1871 г. вошло в Германскую империю.
… Третьего июля Мекленбург, Гота и Рейс младшей линии объявили о своем выходе из Союза. — Мекленбург — см. примеч. к с. 81.
Гота — имеется в виду герцогство Саксен-Кобург-Готское в Саксонии, названное по своей столице городу Гота (см. примеч. к с. 203). Рейс младшей линии — точнее: Рейс-Гера-Шлейц-Лобенштейн-Эберсдорф — карликовое немецкое княжество, земли которого были разбросаны по Тюрингии; главный город — Гера; возникло в XVI в., когда разделилась правившая в княжестве Рейс династия; в нач. XIX в. разделилось на несколько владений, вновь сосредоточившихся в руках князя Генриха LXII в 1848 г.; в 1867 г. вступило в Северогерманский союз, а затем в Германскую империю.
215… Пятого июля… пришла весть о поражении Австрии между
Кёниггрецем и Иозефштадтом. — Речь идет о сражении при Садове (см. примеч. к с. 214).
Кёниггрец — см. примеч. к с. 189.
Иозефштадт (ныне Йосифов) — небольшой город в Чехии, в 15 км севернее Кёниггреца. Садова находится в нескольких километрах западнее Иозефштадта и Кёниггреца на равном расстоянии от обоих.
… то, что Шпельц предвидел насчет вооружения пруссаков… подтвердилось. — Австрийская винтовка 1866 г., несмотря на свои высокие качества, заряжалась, в отличие от прусского игольчатого ружья Дрейзе (см. примеч. к с. 191), с дула, что позволяло австрийским пехотинцам удобно стрелять лишь стоя и делало из них заметную мишень для огня противника.
Новейшие нарезные пушки Круппа, стоявшие на вооружении прусской армии, обладали решительным преимуществом перед австрийскими артиллерийскими орудиями.
… Ни в одном из столкновений австрийцы не получили преимущества. — Общее наступление прусских войск разворачивалось в конце июня 1866 г. через Саксонию и Чехию с генеральным направлением на Кёниггрец и Брно и далее на Вену. В этом движении пруссаки 27–30 июня одержали победы при Находе, Мюнхенгреце и Скалице. Эти сражения поставили австрийскую армию в критичсекос положение, и Бенедек, предвидя общее ее поражение, предложил заключить мир. Однако по настоянию Франца Иосифа ему пришлось дать 3 июля сражение при Садове. Единственную неудачу пруссаки в этой кампании потерпели, помимо Лангензальцы, в бою у Освенцима — в 50 км западнее Кракова, в стороне от главного театра военных действий.
… 8-й союзный корпус под командованием принца Александра Гессенского, состоявший из вюртембержцев, баденцев, гессенцев и австрийской бригады под командой графа Монте-Нуово… Граф Монте-Нуово, под чьим именем таилось более известное его имя — Нейперг, был сын Марии Луизы. — Александр, принц Гессен-Дармштадтский (1823–1888) — австрийский генерал, участник Австро-итало-французской войны 1859 г.; в Австро-прусской войне 1866 г. командовал армейским корпусом. Биографических сведений о графе Монте-Нуово найти не удалось. Отец его был Ней перг, Адам Ал ьберт, граф фон (1775–1829) — апетри й-ский фельдмаршал, происходивший из старинного немецкого графского рода из Швабии, который с нач. XVIII в. носил также титул князей Монте-Нуово; в 1814 г. был приставлен с неограниченными полномочиями к жене Наполеона Марии Луизе, имея тайное поручение заставить ее забыть супруга; позднее стал ее морганатическим мужем (1821) и министром при ней в Парме; Мария Луиза имела от него двух детей. Мария Луиза (1791–1847) — австрийская эрцгерцогиня, дочь императора Франца II; с 1810 г. вторая жена Наполеона, мать короля Римского, с 1815 г. герцогиня Пармская; после первого отречения мужа в 1814 г. фактически порвала с ним и вернулась на родину; впоследствии дважды выходила замуж морганатическим браком (1821 и 1834).
218… уступить Венецию Италии означало высвободить /60 тысяч сол дат, что могло усилить Северную армию. — Предложение уступить Венецию Италии было сделано Австрии в мае 1866 г. Наполеоном III в обмен на обещание удержать Италию от войны. Этот договор был парафирован 10 июня 1866 г., но так и не был выполнен.
Против Италии Австрия выставляла в начале войны 74 тыс. человек. По другим источникам, общие силы Австрии против Италии составляли 138 тыс. строевых солдат, из которых к началу военных действий были готовы 78 тыс.
Северной армией здесь названа австрийская армия, действовавшая против пруссаков и находившаяся к северу от основных земель Империи и итальянского театра военных действий.
… Двоюродный брат императора Франца Иосифа… граф имел все основания рисковать своей жизнью за торжество Австрийского дома, к которому он принадлежал. — То есть династии Габсбургов, к которой граф Монте-Нуово принадлежал по морганатической линии через свою мать Марию Луизу — австрийскую эрцгерцогиню, дочь императора Франца II Габсбурга.
Граф Монте-Нуово и император Франц Иосиф были внуками императора Франца II (отец Франца Иосифа, эрцгерцог Франц Карл, был родной брат Марии Луизы).
220… получал по полфлорина на питание… — Флорин — см. примеч. к с. 46.
… был вооружен добрым карабином Лефошё… — См. примеч. к с. 43… но в Книге Иова, глава тридцать семь, стих семь, сказано: «Он полагает печать па руку каждого человека, чтобы все люди тали дело Его». И Моисеи сказал: «Закон Божии будет написан у тебя на лбу и на руке твоей». — Иов — библейский герой; праведник и образец веры и терпения; был ввергнут Богом в страдания, но сохранил веру, за что был вознагражден; автор одной из древнейших книг Библии. Моисей — библейский пророк, вождь и законодатель народа израильского, освободивший его из египетского плена.
Вероятно, здесь имеется в виду следующее его наставление: «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем |и в душе твоей |… и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими» (Второзаконие, 6: 6–8).
222… «Homo sapiens clominabit astra», сказал Аристотель, что значит — «Человек разумный побеждает звезды». — Аристотель (384–322 до н. э.) — древнегреческий философ и ученый; его сочинения охватывают все области знания его времени.
Свободная трапеза — общая трапеза первых христиан перед началом их тайных богослужений, а также накануне их мученических казней… Пруссаки маршем шли на Франкфурт через Фогельсберг… — Фогел ьсберг — невысокие базальтовые горы в Средней Германии; расположены главным образом на территории Гессена.
223… одетая во все черное маркитантка… — Маркитанты (от ит. mercatante — «торговец») — мелкие торговцы продуктами питания и предметами солдатского обихода, находившиеся при войсках в лагерях и походе.
229… Прусский авангард появился в конце дефиле Фогельсберга! — Дефиле (фр. defile — «ущелье», «теснина») — узкий проход через сложный естественный рубеж.
… он ожидал врага со стороны Тюрингенскоголеса. — Тюрингснский лес — лесистый горный хребет в Центральной Германии, восточнее Франкфурта; длина ок. 100 км; высшая точка 982 м.
… отправил депешу в Дармштадт… — Дармштадт — см. примеч. к с. 25… выехать по железной дороге в Ашаффенбург… — Ашаффенбург — древний город в Баварии, в 40 км к юго-востоку от Франкфурта, на правом берегу Майна; известен еще с доримских времен; в средние века принадлежал к Майнцскому архиепископству; после его упразднения в 1803 г. отошел к князю Дальбергу, а в 1814 г. — к Баварии. 16 июля 1866 г. под Ашаффенбургом прусские войска нанесли поражение союзным войскам южногерманских государств и Австрии.
230… Итальянская бригада была отправлена на пароходах. — Имеется в виду воинская часть, сформированная из жителей итальянских владений Австрии.
233… отступаю с остатками армии на Дармштадт или Вюрцбург. —
Дармштадт расположен в 40 км к юго-западу от Ашаффенбурга. Вюрцбург — город в Баварии, на реке Майн; крупный промышленный центр; расположен в 60 км к юго-востоку от Ашаффенбурга; в 741-1801 гг. столица самостоятельного княжества-епископства в составе Священной Римской империи; по Люневильскому миру 1801 г. между Австрией и Францией епископство было лишено положения светского государства, а его территория передана Баварии. В 1805 г. земли бывшего княжества-епископства были превращены в курфюршество, а потом в великое герцогство и переданы австрийскому эрцгерцогу, бывшему великому герцогу Тосканскому Фердинанду III; после падения Наполеона возвращены Баварии.
234… разбитое их уланами австрийское каре… — Уланы — вид легкой кавалерии, вооруженной пиками; впервые появились в XIII–XIV вв. в монголо-татарском войске, в XVI в. — в Литве и Польше, в XVIII в. — в армиях Австрии и Пруссии; носили особые головные уборы: на конической шапке, покрывавшей голову, была укреплена основанием вверх трех- или четырехугольная пирамидка, иногда увенчанная небольшим султаном.
236… если через час мы будем в Деттингене. — Деттингснна-Майнс —
небольшой городок на правом берегу Майна, в 14 км ниже Ашаффенбурга по течению.
… Это напоминало «Битву на Фермодонте» Рубенса. — Рубенс, Питер Пауэл (1577–1640) — знаменитый фламандский художник-реалист; автор портретов и картин на религиозные, мифологические и аллегорические сюжеты, а также на темы сельской жизни.
Здесь, скорее всего, имеется в виду картина «Битва амазонок» (1618–1620), изображающая сражение греческих героев с легендарными девами-воительницами.
Фермодонт (соврем. Терме) — река в Малой Азии, впадающая в Черное море; на ней амазонки, по преданию, построили свою столицу Фемискиру.
238… за деревушкой Лидер… все исчезло. — Этот топоним (в оригинале он пишется то Lieber, то Lieder) идентифицировать не удалось.
… Они быстро проплыли мимо Майнашаффа, Штокштадта, Клейностхейма. — Майнашафф — селение на левом берегу Майна, напротив Ашаффенбурга.
Штокштадт — селение на левом берегу Майна, в 6 км ниже Ашаффенбурга по течению.
Клейностхейм — селение на левом берегу Майна, в 9 км ниже Ашаффенбурга по течению.
… берега Майна оставались пустынны вплоть до Майнфлингена. — Майнфлинген — селение на левом берегу Майна, в 15 км ниже Ашаффенбурга по течению.
239… устремился вперед, в Ханау… — Ханау — город на правом берегу Майна, в 35 км ниже Ашаффенбурга по течению.
240… проехала по дороге на Ашаффенбург до Дорнигхеймского леса. — Дорнигхейм — населенный пункт восточнее Франкфурта, на правом берегу Майна, приблизительно на полпути до Ханау.
242… пусть купит бинты, корпию… — Корпия — перевязочный материал, употреблявшийся до появления ваты: пучки ниток, выщипанных из обрывков хлопчатобумажной ткани.
243… генералу Штурму, командовавшему авангардом. — Штурм — по-видимому, вымышленное лицо.
… главная ставка генерала Штурма находилась в деревушке Хёрштейн, расположенной слева от большой дороги… — Хёрштейн — селение на правом берегу Майна, в 3 км к северо-востоку от Детгингена.
244… Эта должность стояла на пути к чину бригадного генерала. — Бригадный генерал — первый генеральский чин в армиях Франции, Англии и некоторых других государств. В прусской армии такого чина нс было: ему соответствовал чин генерал-майора.
249… рвала в клочья свое муслиновое платье… — Муслин — мягкая тонкая ткань, хлопчатобумажная, шерстяная или шелковая.
255… Они подплывали к Оффенбаху и уже видели, как вдали вырисовыва лись силуэты Франкфурта. — Оф<|)енбахна-Майнс — город в 5 км к юго-востоку от Франкфурта; известен с 977 г.; до 1815 г. был столицей самостоятельного княжества; с 1815 г. вошел в Великое герцогство Гессен; с 1871 г. — в составе Германской империи.
258… посетивший так называемый Лес, прогулочную аллею, где летом бывают все жители города Франкфурта… — Топоним с таким названием идентифицировать не удалось (в ориг. la Foret — фр. «Лес»).
259… генерал Фалькенштейн рассчитывал, что муниципалитет от имени города явится к нему изъявить свою покорность… — Фалькенштейн, Эдуард Фогель фон (1797–1885) — прусский генерал, участник войны шестой коалиции европейских государств против Франции в 1814 г., начальник штаба, а затем командующий прусско-австрийской армии в Датскую войну 1864 г.; в 1866 г. командовал операциями против западногерманских государств; заставил капитулировать армию Ганновера, но затем был заменен Мантёйфелем; во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. губернатор приморских областей Германии.
… И каждый в городе мог ожидать у себя к ужину статую Командора. — Имеется в виду эпизод из испанской средневековой легенды о распутнике и вольнодумце XIII в. доне Хуане Тенорио (дон Жуане), убитом монахами. Убийцы распустили слух, что дон Хуан был увлечен в ад статуей убитого им командора одного из военно-монашеских орденов, которую он дерзко пригласил на ужин. Легенда о дон Жуане нашла отражение в литературе не только Испании, но и других европейских стран.
260… сгруппировались на площади Шиллера и на Цейле… — Площадь Шиллера находится в центре Франкфурта; на ней установлен памятник поэту. Улица Цейль (см. примеч. к с. 179) подходит к площади Шиллера с восточной стороны.
261… подобный заем не мог быть произведен без особого на то постановления Сената и Законодательного корпуса… — Государственное устройство Франкфурта, установленное «Дополнительным к конституции актом» 1816 г., который объявлял Франкфурт вольным городом и членом Германского союза, было весьма сложным. В 1855 г. его, однако, несколько упростили. Франкфуртский сенат был одновременно и административной и одной из ветвей законодательной власти. Он составлялся из 42 членов — частично по жребию, частично путем кооптации из «совокупности гражданства» города. Эта «совокупность» состояла из христианского населения города: дворянства, духовенства, лиц свободных профессий, купцов и ремесленников, обладавших значительным имущественным цензом. Все они являлись гражданами городской республики и формально обладали полнотой власти.
Законодательный корпус был второй ветвью законодательной власти Франкфурта. Он состоял из двадцати "шенов Сената, двадцати членов Постоянного комитета (см. примеч. к с. 277) и из 45 членов, избираемых путем двухстепенных выборов «гражданством» города.
262
… Данной мне властью в герцогстве Нассау, городе Франкфурте и его окрестностях… — Нассау — герцогство в Западной Германии; как самостоятельное графство образовалось во второй пол. XII в.; части его неоднократно распадались и соединялись в зависимости от положения в правящей династии, носившей то же имя; в 1806 г. две части графства соединились и вошли в наполеоновский Рейнский союз, получив статус герцогства и увеличив свою территорию; в 1866 г. герцогство выступило на стороне Австрии и было присоединено к Пруссии.
… направил сенаторам Феллънеру и Мюмеру ноту… — Сведений о франкфуртском сенаторе Мюллере (Muller) найти не удалось.
263… Меня мало заботит, что меня прозвали вторым герцогом Альба/— Альба, Фернандо Альварес де Толедо, герцог (1507–1582) — испанский военный и политический деятель, участник почти всех войн габсбургского лагеря католической реакции в XVI в.; отличался фанатизмом и преданностью испанской монархии; в 1567–1573 гг. жесточайшими мерами безуспешно пытался подавить Нидерландскую революцию.
… Двадцать второго октября тысяча семьсот девяноста второго года главнокомандующий Юостин под предлогом того, что во Франкфурте изготавливали фальшивые ассигнаты, что здесь давали приют эмигрантам и поддерживали какого-то генерала-аристократа… навязал городу контрибуцию… — Кюстин, Адам Филипп, граф де (1740–1793) — французский генерал, участник Войны за независимость североамериканских колоний Англии; в 1792–1793 гг. командовал Рейнской армией в войне революционной Франции против первой коалиции европейских держав (1792–1797) и осенью 1792 г. захватил несколько крупных немецких городов; после ряда неудач был обвинен в измене и казнен. Франкфурт, занятый французами 23 октября 1792 г., в декабре того же года был отбит пруссаками.
Ассигнаты — французские бумажные деньги периода Революции; первоначально были выпущены в 1789 г. в качестве государственных ценных бумаг, но быстро превратились в обычное средство платежа; несмотря на обеспечение их национальными имуществами (землями, конфискованными у дворян-эм и грантов и духовенства), курс ассигнатов непрерывно падал, а их эмиссия росла; выпуск этих денег был прекращен в начале 1796 г.
264… министр Ролан… направил Лебрену, министру иностранных дел, протест против этой контрибуции. — Ролан де ла Платьер, Жан Мари (1734–1793) — депутат Конвента, один из лидеров жирондистов; министр внутренних дел в 1792–1793 гг.; после падения жирондистов бежал из Парижа в провинцию, где покончил жизнь самоубийством.
Лебрен-Тондю, Пьер Анри Мари (1763–1793) — французский политический деятель, близкий к жирондистам; министр иностранных дел после свержения монархии 10 августа 1792 г.; руководил переговорами с Пруссией после Вальми (сентябрь 1792 г.); был арестован и казнен в июне 1793 г.
265… Если бы у меня было такое состояние, как у господина Ротшильда или господина Бетмана… — Вероятно, имеется в виду Ротшильд, Карл, барон (1820–1886) — глава банкирского дома Ротшильдов во Франкфурте-на-Майне, депутат северогерманского, а затем германского рейхстага. Главой банкирского дома Бетманов (см. примеч. к с. 176) во Франкфурте был в это время И.М. Бетман-Гольвег.
… один франиузский генерал — то выл генерал Невингер… — Нсвингср, Жозеф Виктор (1736–1808) — французский генерал-майор, по рождению немец; служил по многих европейских армиях, в том числе и во французской; примкнул к Революции; участвовал в войне с первой антифранцузской коалицией (1792–1797); командовал бригадой в армии Кюстина; в конце 1792-начале 1793 гг. был комендантом Франкфурта.
266… двадцать питого октября тысяча семьсот девяноста второго года, первого года Французской революции… — Имеется в виду революционный календарь, принятый во Франции 5 октября 1793 г.; точкой отсчета в нем было начало эры Свободы — день провозглашения Республики 22 сентября 1792 г., а месяцы получали названия по характерным для их времени видам сельскохозяйственных работ и явлениям природы.
… когда нам будет выплачен последний талер… — Талер — серебряная монета крупного достоинства, чеканившаяся с нач. XVI в. в Чехии и имевшая хождение также в Германии, Скандинавии, Голландии, Италии и других странах; с сер. XVI в. денежная единица ссверогерманских государств, а затем Пруссии и Саксонии. Средневековые талеры и талеры германских государств начала XIX в. довольно сильно отличались друг от друга. В описываемое в романе время в Германии и Австрии обращался т. н. союзный талер, который чеканился из одной тридцатой фунта серебра (плюс одна девятая часть меди). Этот талер перестал чеканиться в Австрии с 1867 г., а в Германской империи с 1871 г., но там он сохранил свое хождение и стоил три марки.
267… сопровождая свои оскорбления тем набором ругательств, драгоценный образчик которых дают нам шиллеровскиеразбойники. — Имеются в виду персонажи пьесы Шиллера «Разбойники» (см. примеч. к с. II).
272… На следующий день были закрыты «Ведомости дня», «Друг народа», «Последние новости» и «Франкфуртский фонарь». — Сведений об этих газетах (их названия даны в оригинале на францухком) найти не удалось.
… Следующие франкфуртские издания могут выходить и дальше… «Франкфуртская газета»… — «Франкфуртская газета» («Frankfurter Journal») — ежедневная городская газета; издавалась с XVII в. по 1903 г. «Биржевая газета» — вероятно, имеется в виду «Франкфуртская биржевая газета» («Frankfurter Borsenzeitung») — ежедневная газета, в XIX в. имевшая демократическое направление; выходила с 1855 г.; с 1866 по 1943 гг. выходила под названием «Франкфуртская газета и торговый листок» («Frankfurter Zeitung und Handelsblatt»). Сведений обо всех остальных перечисленных далее газетах (их названия даны в оригинале на французском) найти нс удалось.
273… прусский полковник фон дер Гольц… прибыл сюда в сопровождении… подполковника Бёинга… — Возможно, имеется в виду Куно фон дер Гольц, барон (1817–1897) — немецкий генерал, участник Австропрусской 1866 г. и Франко-прусской 1870–1871 гг. войн.
Бейн г (Boeing) — сведений о нем не найдено.
274… г-жа Эрлангер, супруга известного банкира… — Сведений о франкфуртском банкире Эрлангере (Erlanger) найти не удалось. Известен, однако, Мишель Эрлангер (1828–1892) — крупный служаший банка парижских Ротшильдов.
275… было предложено сдать оружие в доминиканскую казарму… — То есть в казарму, помешавшуюся в бывшем доминиканском монастырс. Доминиканцы — нищенствующий монашеский орден, основанный в 1215 г. испанским монахом святым Домиником (1170–1221) и являвшийся опорой инквизиции.
… Господин генерал Врангель на два или три часа остался исполняющим его обязанности… — Сведений о прусском генерале Врангеле (Wrangel) найти не удалось.
… «Листокуведомлении», то есть официальная франкфуртская газета… — Сведений об этом издании (в оригинале его название дано по-французски — «La Feuille d’avis») не найдено.
… по пять фунтов 9унций… — Унция — 1/12 фунта, ок. 30,59 г.
… / 480центнеров морских сухарей… — Центнер — здесь: 100 фунтов.
276… Военный интендант Майнской армии Казуискиль. — Сведений о таком персонаже (Kasuiskil) нс найдено.
277… Затем следовали: члены Законодательного корпуса и Совета пятидесяти одного… — Советом пятидесяти одного здесь названа третья ветвь законодательной и административной власти Франкфурта — Постоянный комитет граждан, который составлялся путем жребия и кооптации и состоял из 51 человека.
278… направились к кладбищу Родельхейм. — Этот топоним (Rodelheim) идентифицировать не удалось.
280… в самую пору было бы устроить Франкфуртскую вечерню. — Здесь намек на Сицилийскую вечерню — народно-освободительное восстание 30 марта 1282 г. (в день Пасхи) в Палермо, сигнал к которому был дан звоном колоколов, созывающих прихожан на вечернюю службу.
Это восстание было направлено против французских феодалов (Анжуйской династии), завоевавших Неаполь и Сицилию в 1268 г. Причиной его было усиление феодального гнета, а поводом — бесчинства французских солдат. Восставшие уничтожили в Палермо весь французский гарнизон, и вскоре мятеж охватил остров целиком. На престол Сицилии в 1283 г. был призван король Арагона Педро III Великий (1236–1285), и весь остров перешел под власть арагонской династии.
281… направили следующую ноту полковнику Корцфлейшу, коменданту города… — Сведений об этом персонаже (Kortzfleisch) найти не удалось.
… уступает свое место генералу Рёдеру. — Сведений об этом персонаже (Roeder) найти не удалось.
282… Дула артиллерийских орудий были наведены на площадь Конного рынка, площадь Гёте, площадь Шиллера и Театральную площадь… — Площадь Конного рынка — см. примеч. к с. 147.
Площадь Гёте — расположена в западной стороне старой части Франкфурта; на ней стоит памятник поэту, воздвигнутый в 1844 г. Площадь Шиллера — см. примеч. к с. 260.
Театральная площадь — расположена в западной части Франкфурта; составляет единое пространство с площадью Гете, занимая ее северную часть.
283… батареи были установлены в Мюльбергере и Рёдерберге, а также на левом берегу Майна. — Мюльбергер — район Франкфурта, расположенный на левом берегу Майна; в XIX в. окраина города. Рёдерберг — район на восточной окраине Франкфурта.
… не имела близких отношений с леди Молит… — Леди Малит —
супруга сэра Александра Mi шита, посланника Великобритании при Сейме Германского союза с 1852 г.
285 Боккенхейм (томнее: Боккснхеймер-Штрассс) — две улицы с таким названием (Большая и Малая) расположены в западной части центра Франкфурта и выходят на Театральную площадь.
… На Вест-Эндской улице… взломали ударами топора двери пустого дома… — Всст-Эндская улица проходит в западной части. Франкфурта в меридиональном направлении; пересекает одноименную площадь с садом.
… вломился… к г-ну Ламбрехту Гуаита… — Сведений о таком персонаже (Lambrecht de Guaita) найти нс удалось.
286… Мне вспоминаются атаки на город и прохождение через него… хорватов и панду ров, русских с их казаками и башкирами… — Хорваты — южнославянский народ, обитающий в северо-западной части Балканского полуострова; с 1526 г. до 1918 г. заселенная ими область, Хорватия, входила в состав Австрийской и Австро-Венгерской монархий. Поэтому хорваты служили в австрийской армии, образуя главным образом легкую кавалерию (в средние века — иррегулярную). В XV1-XVII вв. они служили также наемниками в других европейских армиях.
Пандуры — пешие иррегулярные войска австрийской армии; формировались в селении Пандур в Венгрии в кон. XVII в. и поэтому получили такое название; использовались для действий на пересеченной местности и были известны своими насилиями и грабежами. Казачьи части составляли в войне 1813–1814 гг. против наполеоновской Франции значительную часть русской кавалерии и сыграли большую роль в победе союзных армий.
Башкиры, вошедшие в состав российского государства в XVI в., с кон. XVIII в. были обязаны нести военную службу и составили Башки ро-Мещеряковское иррегулярное войско. В Отечественную войну 1812 г. было сформировано до 20 башкирских кавалерийских полков, принявших затем участие в заграничных походах 1813–1814 гг.
… Дивизионный генерал Рёдер… — Дивизионный генерал — второй генеральский чин во французской армии; в прусской армии ему соответствовал чин генерал-лейтенанта.
287… по три ложки настойки дигиталиса в день. — Дигиталис — сердечно-сосудистый препарат из различных видов наперстянки.
290… Говорят, что любовь крепка, как смерть. — Здесь имеется в виду стих из библейской Песни песней Соломона (8: 6): «Ибо крепка, как смерть, любовь».
296… и года не прошло с тех пор, как госпожа и фрейлен фон Бисмарк делали мне здесь комплименты по поводу моих прохладительных напитков!.. — Госпожа фон Бисмарк — урожденная Иоганна фон Путткамер, супруга Бисмарка с 1847 г.
Дочь Бисмарка — графиня Мария Элизабет Иоанна (1848—?). Напомним, что Бисмарк, министр-президент Пруссии фигурирует в романе под именем г-на фон Бёзеверка (см. примеч. к с. 20).
297… встретил барона фон Шеле, генерального директора франкфуртского почтового ведомства. — Шеле, Эдуард Август Фридрих, барон фон (1805–1875) — германский государственный деятель, чинов-
23 — 7045 ник, противник политики Бисмарка, по образованию юрист; в 1858–1867 гг. генеральный директор частной почтовой службы князей Турни-Таксис в Германии и Австрии.
… получил приказ учредить черный кабинет, где будут вскрываться все письма… — Черным кабинетом называлось постоянно действующее учреждение при почтовом ведомстве, создаваемое для наблюдения за частной перепиской (главным образом, оппозиционеров); в европейских странах известны примерно с XVII в.
300… Не стану приводить вам цитат из Буало, Херберта, Ришрана,
Клода Бернара… — Буало — см. при меч. к с. 23.
Херберт — возможно, имеется в виду Джордж Херберт (1593–1633), английский поэт, происходивший из знатной семьи, но оставивший светскую карьеру и принявший духовный сан; принадлежал кт.н. «метафизической школе», для которой было характерно разочарование в идеалах Возрождения, мистические и религиозные темы поэзии. Ришран — вероятно, имеется в виду барон Ансельм Балтазар Ришран (1779–1840), французский медик (физиолог, патологоанатом, хирург), профессор Медицинской школы в Париже, один из организаторов Медицинской академии.
Клод Бернар — см. примеч. к с. 69.
305… начал службу в 1848и 1849годах, во время войны с Баденом… — Речь идет о пфальцско-баденском восстании 1849 г. (см. примеч. к с. 193).
309… он знает о состоянии каждого в ливрах, су и денье. — Вряд ли немецкий генерал, рассуждая о богатстве франкфуртских миллионеров, подсчитывал бы их состояния во французских деньгах — ливрах, су и денье.
314… держала мужа у себя на коленях примерно так же, как держит своего сына Иисуса Мадонна Микеланджело в его скульптуре, которую называют «La Pi eta». — Микеланджело Буонарроти (1475–1564) — итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт эпохи Возрождения. У Микеланджело есть несколько скульптурных групп с таким названием. Здесь, вероятно, имеется в виду группа «Оплакивание Христа» (1498–1501) в соборе святого Петра в Риме.
316… поехала просить королеву Августу… — См. примеч. к с. 37.
318… глубже понять Лукрецию и Корнелию древности. — См. примеч. к с. 145.
319… без паспорта проехать через Гессен, Тюрингию и Пруссию… — Тюрингия — в XIX в. земля Центральной Германии, бывшая область поселения немецкой племенной группы тюрингов, от кого она и получила свое название; в раннем средневековье входила в состав Франкского государства и Восточно-Франкского королевства; в X–XII вв. разделилась на несколько феодальных владений, и большая ее часть вошла в курфюршество, а потом королевство Саксонию; после войны 1866 г. вместе с Саксонией вошла в Северогерманский союз (1867) и Германскую империю (1871).
322… сумел выдвинуться во время войны 1848года с Баденом, Саксонией,
во время войны с Шлезвиг-Гольштейном… — Война с Баденом — см. примеч. к с. 193.
Война с Саксонией — имеется в виду рабочее восстание в Дрездене, столице этого королевства, 4–8 мая 1849 г. в ответ на отказ короля принять германскую имперскую консплуцию, выработанную Франкфуртеким национальным собранием 1848–1849 гг. Дрезденское восстанис было зверски подавлено саксонскими и прусскими войсками. Война в Шлезвиг-Гольштейне — вероятно, имеется в виду Датско-прусская война 1848–1849 гг. (см. примем, к с. 8).
325… сыграй нам «Последнюю мыслы> Вебера… — Вебер, Карл Мария фон (1786–1826) — немецкий композитор; один из родоначальников романтического стиля в немецкой музыке.
Упомянутое здесь произведение Вебера (в оригинале оно дано по-французски — «Demierc Pcnsee») найти нс удалось.
326… «Приглашение к вальсу» — другой шедевр того же автора. — Имеется в виду знаменитая фортепьянная пьеса Вебера «Приглашение к танцу» («Auffordcrung zum Tanzc», op. 65, 1819).
327… это Соломон со своими тремястами женами, это Давид со своими супружескими изменами, это Лот со своим кровосмесительством. — Соломон (ок. 990—ок. 928 до н. э.) — царь израильский приблизительно с 965 г. до н. э., сын царя Давида от Вирсавии и его преемник, славившийся мудростью и щедростью; построил великолепный храм в Иерусалиме и множество других зданий и сооружений, в том числе водопровод; по традиции считается автором библейской Книги Притчей Соломоновых, Книги Екклесиаста, или Проповедника, Книги Песней, Книги Премудрости Соломона и части псалмов. Согласно Библии, Соломон отличался необыкновенной любвеобильностью: «И было у него семьсот жен и триста наложниц; и развратили жены его сердце его» (111 Царств, 11:3).
Давид (ок. 1034—ок. 965 до н. э.) — царь Израиля приблизительно с 1004 г. до н. э. Здесь, вероятно, имеется в виду история его взаимоотношений с Вирсавией. Согласно Ветхому Завету, он увидел купающуюся Вирсавию, жену своего военачальника Урии Хеттсянина и воспылал к ней страстью. Царь послал Урию на войну и велел поставить его на самое опасное место. После гибели Урии Давид взял Вирсавию в жены, и она родила ему Соломона. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа» (11 Царств, 11: 27). У Давида, впрочем, было много других жен. Будучи женат на своей первой жене, Мелхоле, дочери царя Саула (I Царств, 18: 27), он взял себе еще двух жен и несколько наложниц (I Царств 25: 42). Позже, став царем, он взял себе еще немало жен и наложниц и имел от них много детей (II Царств, 3: 3; 5: 13). Однако такая практика семейной жизни не противоречила Закону и восточным обычаям и в Библии не осуждалась. Лот — персонаж Библии, племянник патриарха Авраама, переселившийся в Содом, где ему ежедневно приходилось видеть разврат и распутство жителей города; Бог Израиля, уничтоживший Содом за грехи его жителей, спас праведника Лота, но жена его погибла. Тогда две дочери Лота, желая продолжить свой род, напоили отца вином, поочередно сошлись с ним и родили сыновей от него (Бытие, 19: 26, 31–38).
… находила в Библии сильных женщин, таких, как Юдифь, Иаиль, и нигде не встретилось ей там любящей и верной жены. — Юдифь (Иудифь) — героиня древних евреев, жительница города Ветилуя; когда город осадили вавилоняне, она отправилась во вражеский лагерь, обольстила вавилонского полководца Олоферна и убила его во время сна. По преданию, библейская Книга Иудифь, повествующая об этих событиях, написана ею самой.
23'
Иаиль — одна из библейских героинь древних евреев; убила ханаанского полководца Сисару, когда он спасался от победивших его иудеев (Судей, 5: 24–27).
… как Моисеи говорил с Господом в Неопалимой купине. — Стоны и жалобы находившихся в египетском плену евреев были услышаны Богом, и он повелел Моисею (см. примем, к с. 221), бежавшему в землю Мадиамскую, вернуться к своему народу и спасти его от рабства, для чего Моисей был наделен им чудотворной силой. Моисей услышал глас Божий из пылающего, но не сгорающего куста (Неопалимой купины), появившегося перед ним, когда он пас свое стадо овец (Исход, 3: 1-14).
329… словно для взвешивания золота Рима, откупавшегося от галлов,
были приготовлены весы. — См. примем, к с. 336.
… попросила камергера Вальса… — Сведений об этом персонаже (Waals) найти нс удалось.
332… контрибуция… назначенная генералом Мантёйфелем городу Франкфурту, отменяется. — В наших источниках этот факт не отмечен: везде говорится лишь о тяжелых поборах.
333… отцепив от своего плеча орден Королевы Луизы, прикрепила его к плечу баронессы. — Орден Королевы Луизы — см. примем, к с. 37.
… он направлялся прямо в Рёмер… — Рёмер — см. примем, к с. 172.
336… причина которой терялась в таинственных обидах некоего министра,
бывшего прежде послом. — Речь идет о Бисмарке (см. примем, к с. 20), который в 1866 г. был министром-президентом Пруссии, а в 1851–1859 гг. был прусским послом при Сейме Германского союза во Франкфурте.
… бросил на чашу весов веревку бургомистра, более тяжелую, чем меч Бренна… — Как рассказывает знаменитый древнеримский историк Тит Ливий (59 до н. э—17 н. э.) в своем труде «История Рима от основания Города» (V, 38 и 48), в нач. IV в. до н. э. галлы совершили нашествие на Рим и наложили на него контрибуцию в тысячу фунтов золота. Когда же римляне отказались взвешивать золото неверными гирями врага, предводитель галлов Бренн со словами «Горе побежденным!» («Vae victis!») бросил на весы свой меч. Эго выражение стало крылатым. Однако Бренн — это не собственное имя, как ошибочно сообщает Тит Ливий, а звание предводителя галлов.
339… все гильдии со своими знаменами… — Гильдия (от нем. Gilde — «кор порация», «цех») — возникшие в средние века сначала временные, а потом и постоянные объединения купечества западноевропейских городов; имели целью защиту и помощь своим членам во время торговых поездок, монополизирование торговли, устранение конкурентов.
… на Казино (улица Санкт-Галль), принадлежавшем известнейшим горожанам… — Улица Санкт-Галль находится в западной стороне центра Франкфурта и выходит на площадь Росс-Маркт.
… на здании клуба Нового союза горожан (улица Корн-Маркт)… — Улица Корн-Маркт (Korn-Markt, т. е. Хлебного рынка) во Франкфурте — не идентифицирована.
… на здании клуба Старого Союза горожан (улица Эшенхейн)… — Улица Эшенхейн, расположенная в центре Франкфурта, ведет от площади Шиллера на север.
… значительное стечение народа образовалось на углу Росс-Маркта, у Большой улицы. — См. примсч. к с. 339.
344… шла к своему книжному шкафу, брала либо Уланда, либо Гёте, либо Шиллера и читала ему «Старого рыцаря» { «Лесного царя» или «Колокол». — «Старый рыцарь» (точное название: «Боярышник графа Эбергарда» — «Graf Eberhards Weissdorn») — стихотворение Уланда (см. примсч. кс. 31), под названием «Старый рыцарь» известное русскому читателю в вольном переводе В.А.Жуковского.
«Лесной царь» («Erlkonig», 1818) — фантастическая баллада Гёте (см. примеч. кс. 31); русскому читателю также известна в переводе В.А.Жуковского.
«Колокол» (точнее: «Песня о колоколе» — «Das Lied von derGlocke»; 1799) — стихотворение Шиллера (см. примеч. к с. 11), воспевающая радость созидания; русскому читателю известно в переводе И.Миримского.
… светловолосые германские девушкщ эти Маргариты, Шарлотты и Амалии… — Маргарита (Гретхен) — героиня трагедии Гёте «Фауст», возлюбленная заглавного героя.
Шарлотта — героиня романа Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774), возлюбленная заглавного героя.
Амалия фон Эдельрейх — героиня драмы Шиллера «Разбойники», возлюбленная главного героя Карла Моора.
… Шекспир сказал: «Англия — это лебединое гнездо, окруженное обширным прудом». — Подобных слов найти у Шекспира не удалось.
345… Поищите во Франции Офелий, Джульетт, Дездемон, Корнелий… — Офелия, возлюбленная Гамлета, героиня трагедии Шекспира «Гамлет, принц Датский».
Джульетта — см. примеч. к с. 181.
Дездемона — главная героиня трагедии Шекспира «Отелло», жертва ревности мужа.
Корнелия — см. примеч. к с. 145.
… что видят Лорелей в туманах над Рейном, Миньон в густой листве… — Лорелея — см. примеч. к с. 14.
Миньона — одна из героинь романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795–1796), девочка-сиротка, которую приютил заглавный герой романа — писатель и переводчик.
… ведь Шиллер так и встретил свою Луизу, а Гёте — свою Маргариту. — Луиза Миллер — героиня драмы Шиллера «Коварство и любовь», возлюбленная Фердинанда, главного героя пьесы.
Маргарита — см. примеч. к с. 344.
348… А если мы прибегнем к переливанию крови? — Переливание крови
(точнее: вливание ее в организм человека) было известно еще до н. э.; в XVII в., в связи с открытием кровообращения, начались переливания крови животных в кровеносные сосуды человека; в первой пол. XIX в. переливание крови было фактически запрещено, поскольку наряду с удачными опытами были зафиксированы и смертельные случаи (о несовместимости групп крови еще ничего не было известно). Так что в 1866 г. такая процедура должна была выглядеть вполне революционной.
… я прослушал лекции Мажанди… — Мажанди, Франсуа (1783–1855) — французский ученый-физиолог, автор работ о нервной системе.
349… я полностью отвергаю метод Мюллера и Лш1н/)епбаха, которые утверждают, что нужно вводить кровь, очищенную от фибринов с помощью взбалтывания, и, напротив, придерживаюсь мнения Берара, который считает, что нужно вливать кровь в природном виде и со всеми ее элементами. — Мюллер, Иоганн Петер (1801–1858) — немецкий естествоиспытатель, крупный физиолог, с 1833 г. профессор Берлинского университета; основные его работы посвящены изучению центральной нервной системы и органов чувств. Диффенбах, Иоганн Фридрих (1795–1847) — немецкий хирург; занимался вопросами переливания крови.
Фибрин — нерастворимое белковое вещество, образующееся при свертывании крови и выпадающее в виде клубка нитей.
Бсрар, Фредерик (1789–1828) — французский врач и философ, с 1825 г. профессор университета в Монпелье; представитель школы виталистов, признающих наличие в организме человека нематериальных жизненных сил.
351… Да соединит вас Бог Авраама, Исаака и Иакова… — Авраам —
герой Библии, патриарх, прародитель древних евреев; первоначально один из древнееврейских племенных богов.
Исаак — сын Авраама, библейский патриарх, один из прародителей древних евреев.
Иаков — сын Исаака, внук Авраама, библейский патриарх, отец двенадцати сыновей, прародитель двенадцати колен (племен) древних евреев; второе его имя — Израиль, от которого и произошло название израильского народа.
Бог Авраама, Исаака и Иакова — единый бог иудеев, христиан и мусульман.
355… обе парки уже покрыли саваном… — Парки — см. примеч. к с. 54.
362… вошел с ним в первую же кордегардию… — Кордегардия — помещение для военного караула, а также для содержания под стражей.
… Великий человек, который занимает пост вашего министра… — То есть Бисмарк (см. примеч. к с. 20).
363… что вполне перекликается со словами Цицерона: «Cedant агта togae». — Цицерон, Марк Туллий (106—43 до н. э.) — древнеримский политический деятель, юрист и писатель; сторонник республиканского строя; знаменитый оратор.
Приведенные слова («Пусть оружие уступит место тоге») — это стих из утраченной поэмы Цицерона «О своем консульстве», цитируемый им же в трактате «Об обязанностях» (I, 22, 77).
… он сходит на улицу Боккенхейм… — См. примеч. к с. 285.
364… запас туалетной воды от Джованни Мариа Фарина. — Фарина, Джованни Мариа (1686–1766) — итальянский химик и коммерсант; основал в Кёльне прославившую его фабрику одеколона, который до Всемирной выставки 1855 г. ввозили во Францию нелегально.
… мы проводим вас на Южный вокзал. — Южный вокзал в Кёльне находился в северо-восточной части города, на железнодорожной линии, которая вела в Бонн.
365… пошел к Соборной площади, где и находился магазин Джованни Мариа Фарина… — Соборная площадь расположена в центре Кёльна, неподалеку от левого берега Рейна; на ней стоит собор святого Петра, сооруженный в XIII–XIX вв.
367… каждый из этих людей держал на поводке какую-нибудь собаку:
бульдога, сторожевую, спаниеля, легавую, грифона… — Гри(|юн — порода охотничьих собак среднего размера.
… главнокомандующий фон Бойер с офицерским составом гарнизона. — Сведений об этом персонаже (Boyer) найти не удалось. Возможно, имеется в виду Байер (Вауег) — см. примем, к с. 202.
… Гражданский губернатор, барон Патов… — Вероятно, имеется в виду Патов, Эразмус Роберт (1821–1890) — прусский государственный деятель, либерал; министр торговли, промышленности и общественных работ (1848), министр финансов (1858–1862); в марте 1862 г. подал в отставку в знак протеста против политики Бисмарка; позднее был оберпрезидентом провинции Саксония.
… гражданский комиссар, г-н фон Мадай… — Сведений об этом персонаже (Madai) найти не удалось.
369… как говорил блаженной памяти мой отец… — То есть король Фридрих Вильгельм 111 (см. примем, к с. 22).
… Дано в моем замке Бабельсберг… — Бабельсберг — замок прусских королей, располагавшийся в окрестности Потсдама под Берлином; был построен в первой пол. XIX в.
… Многое сметали на живую нитку, но не сшили/— Насильственное объединение германских государств вокруг Пруссии вызвало у многих в Германии серьезное недовольство, которое особенно проявилось в южногерманских государствах — Баварии, Вюртемберге, Гессене и Бадене, вынужденных заключить с Северогерманским союзом военные договоры. Однако объединение Германии каким бы то ни было путем являлось исторической необходимостью и поэтому оказалось достаточно прочным.
… в кафе Прево на углу бульвара и улицы Пуасоньер. — Бульвар Пуасоньер — отрезок кольцевой магистрали Бульваров, проложенной в кон. XVII в. на месте снесенных старых крепостных стен Парижа; находится на ее северной стороне; открыт между 1680 и 1685 гг. Улица Пуасоньер идет на юг к Сене от восточного конца одноименного бульвара; известна с кон. XIII в., в середине этого века была частью дороги, которая вела из северных областей Франции к Центральному рынку Парижа; свое современное название носите кон. XVII в.
… спросил себе газету «Знамя». — «Знамя» («L’Etendard») — французская газета бонапартистского направления, выходившая в Париже с 1866 по 1868 гг. Выпуск газеты был прекращен в связи с раскрытием мошеннических операций, служивших источником ее финансирования.
370… генерал фон Мольтке… — Мольтке, Хельмут Карл Бернхард (1800–1891) — прусский генерал, с 1871 г. генерал-фельдмаршал, реакционный военный деятель и писатель, один из идеологов прусского милитаризма и шовинизма, начальник прусского (1857–1871) и имперского (1871–1888) генеральных штабов; во время Австропрусской войны 1866 г. и Франко-прусской войны 1870–1871 гг. фактический главнокомандующий.
… граф Пуклер, обер-го<1)меистер двора… — С не доний об этом персонаже (Puekier) найти не удгшось.
… генерал <1юн Тресков… — Треской, Удо (1808-1X85) — немецкий генерал; во время Франко-прусс кой войны командовал 1-й резервной дивизией и осадным корпусом под Бельфором.
… граф дюн Гольц, бригадный генерал… — Фон дер Гольцы — разветвленная прусская аристократическая семья, имевшая титулы графов и баронов и тесно связанная с армией; так, в 1866 г. адъютантом прусского короля был полковник фон дер Гольц — возможно, именно он здесь и имеется в виду.
… граф (/юн Легендорф, флигель-адъютант короля… — Сведений об этом персонаже (LehendorfF) найти нс удгшось.
… в четверть пятого, на Северном вокзале. — Этот вокзал расположен на северной окраине Парижа; открыт в 1846 г.; через него отправляются поезда в города севера страны (вокзал украшен символизирующими их статуями), в Бельгию, Германию и Россию.
… на пути, по которому король должен был проследовать в Тюильри. — Тюильри — королевский дворец в Париже; построен в сер. XVI в.; получил свое название от находившихся ранее на его месте небольших кирпичных (или черепичных) заводов (фр. tuileries); находился на правом берегу Сены, неподалеку от площади Людовика XV, от которой его отделял дворцовый сад; с осени 1789 г. — резиденция французских монархов; в 1871 г. уничтожен пожаром… ждал на углу бульвара Маджента… — Бульвар Маджента находится в северной части Парижа (в 60-х гг. XIX в. это была окраина города), неподалеку от Северного вокзала; открыт в 1855 г.; назван в честь победы войск Франции и Пьемонта над австрийскими войсками в Австро-итало-французской войне 1859 г. (см. также примеч. к с. 190)… направилась в гостиницу «Лувр». — «Гранд-отель Лувр» помещается в центре старого Парижа, на улице Риволи, неподалеку от королевского дворца Лувр, в честь которого он назван.
… Исчез за углом улицы Пирамид. — Улица Пирамид идет от улиц Риволи и Сент-Оноре в северном направлении к Бульварам; открыта в 1802 г.; названа в честь победы Бонапарта над египетскими мамелюками у пирамид неподалеку от Каира в 1798 г.
371… напротив места, где были казармы зуавов. — Зуавы — род фран цузской легкой пехоты (название «зуавы» происходит от наименования одного из алжирских племен). Впервые части зуавов были сформированы в первой трети XIX в. в Алжире как колониальные войска и состояли из местного населения; впоследствии они комплектовались из французов, но при этом у них сохранялась прежняя восточная одежда.
373… Мы указали на крепостные укрепления… — Имеются в виду укреп ления Парижа, построенные в начале 40-х гг. XIX в.; представляли собой мощную крепостную стену и цепь фортов, вынесенных на значительное расстояние впереди нее; были рассчитаны на оборону города от внешнего врага (что они хорошо выполнили в 1870–1871 гг. во время осады Парижа пруссаками в ходе Франко-прусской войны и в дни Парижской коммуны), а также для подавления революционных восстаний.
… Поехали по улице Ришелье, затем вдоль Бульваров. — Улица Ришелье находится i) центре старого Парижа; ведет от дворца Палс-Рояльвссвср-ном направлении к Бульварам; названа в честь кардинала Ришелье.
… Первым оружейником на их пути оказался Клоден. — Возможно, имеется в виду французский мастер-оружейник Фердинанд Клодсн, предложивший много усовершенствований оружия веер. XIX в. и получивший за это премии на французских и международных выставках. Магазин Клодена находился в Париже в северной части старого города, на улице Жоклс (ныне улица Леона Кладеля), как раз по пути от гостиницы «Лувр» к Бульварам.
… покатили дальше, до заставы Звезды, и выехали через ворота Майо. — Застава Звезды (Этуаль) располагалась на одноименной площади на холме в западной части Парижа (на этой площади, спланированной в 60—70-х гг. XVIII в., в 1806 г. была сооружена Триумфальная арка в честь побед Наполеона); была устроена в нач. XVIII в. для взимания ввозных пошлин в Париж. В сер. XIX в. здание заставы, имевшее четыре фронтона, находилось немного западнее Арки у начала авеню Великой армии — по ней начинался путь в городок Нёйи у западных окраин Парижа.
Ворота Майо, построенные в 1668 г., располагались в северо-восточной части стены, которой был обнесен Булонский лес (всего в ней было устроено одиннадцать ворот), у авеню Нёйи.
… они были собраны для четвертой позиции… — О четвертой фехтовальной позиции (кварте) см. примеч. к с. 92.
377… как тореадор оставляет свою шпагу в груди у быка. — В бое быков тореадор наносит удар не в грудь, а в холку быка, чтобы поразить его спинной мозг.
СЫН КАТОРЖНИКА
Повесть Дюма «Сын каторжника» («Lc Fils du format») впервые была напечатана в периодическом издании «Европейское обозрение» («Revue сигорёеппе») 15.08–16.10.1859 под названием «История деревенского домика и шале» («Господин Кумб») — «Histoire d'un Cabanon et d’un Chalet» («Monsieur Coumbes»). Первое се книжное издание во Франции: Paris, A.Bourdilliat et Со, 12шо, I860.
Под названием же «Сын каторжника» («Le His du format» — «Monsieur Coumbes») она впервые была напечатана в 1864 г. (Paris, Michel Levyfheres, 12mo).
Время ее действия: 1831–1849 гг.
Ранее выходивший перевод повести был сверен по изданию: «Histoire d’un Cabanon et d’un Chalet», Paris, Editions Jeanne Laffitte, 1997.
381… В то время… предместье Марселя было живописным и романтич ным… — Марсель — французский средиземноморский портовый город в департаменте Буш-дю-Рон («Устье Роны»); основан в VI в. до н. э. древнегреческими колонистами из Малой Азии (см. также примеч. к с. 382)… С высоты горы Нотр-Дам дела Гард… — Имеется в виду церковь Божьей Матери-охранительницы, одна из самых почитаемых святынь Марселя, его символ; известна с нач. XIII в.; находится на холме в южной части города, на территории крепости, воздвигнутой в XVI в. для обороны города со стороны моря.
… корабли и тартаны, испещрявшие белыми и красными парусами огромную голубую гладь моря… — Тартана — одномачтовое средиземноморское судно с грот-мачтой, которая несет парус на длинном рее, а также с выносной бизанью и бушпритом.
… пи один из этих домов, за исключением, быть может, построенных по берегам Ювоны на развалинах того самого замка Бель-Омбр, где некогда обитала внучка г-жи де Севинье… — Ювона (Ю|юн) — река в Южной Франции, в департаменте Буш-дю-Рон; протекает через южные окрестности Марселя и впадает в морс севернее Монрсдона. Замок Бель-Омбр (chateau dc Belle-Ombre) — сведений о нем найти нс удалось.
Севинье, Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза дс (1626–1696) — французская писательница; получила известность благодаря июим письмам к дочери, госпоже дс Гриньян: изданным в 1726 г., им суждено было стать литературным памятником и ценным историческим источником. Внучка госпожи дс Севинье, Полина дс Гриньян, вышла замуж в конце 1695 г. за маркиза Жана дс Симьяна, который принадлежал к старинному провансальскому роду и был придворным герцога Орлеанского, брата Людовика XIV; се переписка с бабушкой была издана в 1773 г. в Париже под названием «Новые, или недавно обнаруженные письма маркизы де Севинье и маркизы де Симьян» («Lettres nouvelles ou nou-vellcment rccouvres de la marquise dc Sevigne et de la marquise dc Simiane).
… лавровыми рощами, тамарисками и бересклетами… — Лавр — род вечнозеленых деревьев или кустарников, произрастающих в основном в Южной Европе и на Кавказе; имеет прочную и упругую древесину. Тамариск — род кустов или небольших деревьев, произрастающих в Европе, Центральной и Южной Азии и Африке; засухоустойчив; используется для плетения различных изделий; его кора содержит красящие и дубильные вещества.
Бересклет — род кустарников или небольших деревьев, встречающихся во всех частях света; культивируется как декоративное растение.
… Дюране не протекала тогда еще по этой местности… — Дюране — река в Южной Франции, приток Роны; длина ее 305 км; известна сильными наводнениями в своем нижнем течении.
… так, как поступил г-н де Жюсьё со своим кедром… — Жюсьё, Бернар (1699–1777) — французский ботаник; основатель ботанического сада в Версале, в котором он расположил растения по разработанной им т. н. естественной системе«; в 1736 г. посадил в парижском Ботаническом саду первый во Франции ливанский кедр.
382… деревня Монредон как нельзя более полно представляла собой образ иссохшей земли, некогда характерный для окрестностей старинного поселения фокейцев. — Монредон — селение у южных окраин Марселя; ныне вошло в черту города.
Фокея — в древности греческий город в Малой Азии, основанный выходцами из Афин. Фокейцами здесь названы марсельцы, так как их город, называвшийся в античные времена Массалией, был основан колонистами из Фокеи.
… Монредон расположен за тремя деревнями, называемыми Сен-Женьес, Бонвен и Мазарг; он находится в основании треугольника — мыса Круазет, который выдается в море… — Сен-Женьес (Saint-Genies) — идентифицировать этот топоним не удалось.
Бон йен — селение и южной окрестности Марселя, к к>1*у от города; ныне находится и черте города.
Мазарг — расположенное восточнее Монрсдона селение к югу от Марселя, ныне его пригород.
Круазст — мыс в южной окрестности Марселя.
… Восхитительный парк, который господа Пастре окружили степамиt, скрывал в себе скромную виллу, послужившую убежищем семье Бонапарта в период ее длительного пребывании в Марселе во время Революции… — Пастре — графское семейство, владевшее землями в окрестности Марселя; в 1974 г. принадлежавший ему парк площадью 125 га, располагающийся рядом с Монрсдоном, перешел в собственность города и называется теперь парком Монрсдон-Пастре. Весной 1793 г. Бонапарт (см. примеч. к с. II) после конфликта с сепаратистами на Корсике, где он служил, вынужден был покинуть родину и перевезти свою семью в Тулон, а затем в Марсель.
Отец Наполеона Бонапарта, Шарль Бонапарт (1746–1785), к этому времени уже умер, и семья будущего генерала включала его мать Летицию Рамолино (1750–1836) и братьев и сестер: Жозефа (1767–1844), Люсьена (1775–1840), Элизу (1777–1820), Луи (1778–1846), Полину (1780–1825), Каролину (1782–1839) и Жерома (1784–1860).
… короли и королевы доброй половины Европы оставили свои следы на его песчаных аллеях… — Из тех, кто бывал в этом парке, европейскими государями, помимо самого Наполеона, императора французов с 1804 г. и короля Италии с 1805 г., стали его братья и сестры: Жозеф — король Неаполя (1806–1808) и Испании (1808–1813); Люсьен — князь Канино (папский титул);
Элиза — княгиня Луккская и Пьомбино (с 1805 г.), великая герцогиня Тосканская (с 1809 г.);
Луи — король Голландии (1806–1810);
Полина — герцогиня Гвастальская (1806–1814);
Каролина, ставшая в 1800 г. супругой маршала Иоахима Мюрата (1767–1815), — великая герцогиня Бергская (1806–1808) и королева Неаполитанская (1808–1815);
Жером — король Вестфалии (1807–1814).
Кроме того, королевами стали обе девицы Клари (см. след, примем.).
… гостеприимство, оказанное этим особам, принесло своеобразное счастье г-ну Клари: его дети были вовлечены в мощный круговорот событий, приведших гостей марсельского парка к тронам, а их самих — к первым ступеням тронов. — Клари — богатый марсельский негоциант, свойственник семьи Бонапартов. Благодаря этим родственным связям члены семьи Клари в нач. XIX в. приобщились к политической жизни Франции и даже получили графский титул.
С монархическими кругами Европы были связаны две дочери Клари: Жюли Мари Клер Клари (7-1845) в 1794 г. вышла замуж за старшего брата Наполеона — Жозефа Бонапарта, который в 1806–1808 гг. был королем Неаполя, а в 1808–1813 гг. — королем Испании; Дезире Клари (1777–1860) вначале была невестой Наполеона, с которым ее познакомил Жозеф, но в 1798 г. вышла замуж за французского генерала (позднее маршала) Шарля Бернадотта (1764–1844), в 1810 г. избранного наследником шведского престола, а в 1818 г. ставшего королем Швеции под именем Карла XIV и основавшего нынешнюю династию шведских монархов.
… самой юной из дочерей Клари чуть было не предложили разделить судьбу с будущим повелителем мира. Уже шла речь о ее свадьбе с молодым артиллерийским командиром… — Наполеон до 1793 г., когда он был произведен сразу в генералы, был артиллерийским офицером французской армии.
… как говорил позднее в подобных же обстоятельствах нотариус г-жи де Богарне, невозможно было выйти замуж за человека, обладающего лишь плащом и шпагой. — Госпожа де Богарне — Жозефина Богарнс, урожденная Таше де ла Пажери (1763–1814); в 1796 г. вторым браком вышла замуж за Наполеона Бонапарта, тогда генерала Республики; с 1804 г. — императрица Франции; с 1809 г. — в разводе с Наполеоном (гак как нс могла иметь детей).
Нотариусом Жозефины Богарне в 1796 г. был некий метр Рснодо, преуспсваюший юрист, имевший контору в богатом районе Парижа, на улице Сент-Оноре. Приведенные здесь слова действительно были им сказаны.
383… шум этот, несомненно, докатился в одну сторону лишь до Старой Капеллы, а в другую — до Ла-Мадрага, этого Геркулесова столба Монредона. — Старая Капелла (Vieille Chapelle) — сведений найти не удалось. Ла-Мадраг — приморское селение к югу от Монредона, у горы Роз. Геркулесовы столбы — древнее, со времен античности, название Гибралтарского пролива, ведушего из Средиземного моря в Атлантический океан. В древности и средневековье был весьма популярен миф о том, что великий герой Геркулес (см. примеч. к с. 159), обладавший невероятной силой, поставил по обоим берегам пролива колонны, обозначив пределы обитаемого мира.
По другим мифам, Геркулес пробил пролив между Средиземным морем и обтекающей землю рекой Океаном, а вынутые им скалы нагромоздил по обоим его берегам.
… Paulo minora canamus. — Это переделанная строка Вергилия (см. примеч. к с. 63)»Paulo majora canamus» («Воспоем чуть более возвышенное» — Эклоги, IV, 1).
… что представляет собой деревенский домик в Провансе… — Прованс — историческая область на юго-востоке Франции; охватывает соврем, департаменты Буш-дю-Рон, Вар, Воклюз, Альпы Верхнего Прованса и Приморские Альпы; в кон. II–I в. дон. э. вошла в состав Римской державы (Provincia Romana; отсюда и название Прованс); в 411 г. завоевана германским племенем вестготов; в 536 г. вошла в состав Франкского государства; с 890 г. отдельное королевство; с 1032 г. графство в составе Священной Римской империи; в 1481 г. присоединена к Французскому королевству; до 1790 г. провинция, обладавшая особым статусом.
В широком смысле слова Провансом считается весь юг Франции.
384… город Марсель послал в Национальное собрание одного или двух грузчиков как своих представителей… — Национальное собрание — здесь имеется в виду Законодательное собрание, созванное на основе Конституции 1791 г. и провозгласившее Францию конституционной монархией. Оно было избрано по цензовой системе, при которой право голоса принадлежало только т. н. активным, т. е. состоятельным гражданам — менее пятой части населения страны. Большинство его членов были представителями крупной буржуазии. Собрание начало свою работу I октября 1791 г. и заседало до осени 1792 г., когда в результате народного 1юсстания К) августа оно вынуждено бшо уступит» власть Конвенту.
… он пришел в Марсель в сабо. — Сабо — башмаки, вырезанные из целого куска дерева; во Франции сшс в XIX в. обут» крестьян и городских бедняков.
385… После экспедиций в Морею, Наваринского мира и захвата Алжира… — В
марте 1821 г. в Греции началась национально-освободительная революция против турецкого владычества. Его центром была Южная Греция — полуостров Пелопоннес на южной оконечности Балканского полуострова, в средние века называвшийся Моресй. Это восстание сопровождалось гражданской войной между различными социальными группами народа. Первоначально греческая революция имела некоторые успехи, но к 1827 г. она была почти подавлена турками, прибегнувшими к помогай войск правителя Египта, который был вассалом турецкого султана. Однако к этому времени международное положение Греции изменилось. Зверства турок, всеобщее сочувствие к восставшим грекам со стороны европейских народов, а главное, усиление российского влияния в Греции заставили европейские державы, вначале относившиеся к греческой революции враждебно, вмешаться в конфликт на стороне греков.
В апреле 1826 г. в Петербурге был подписан англо-русский протокол о совместном посредничестве с целью прекращения войны и предоставления Греции независимости при условии уплаты ею дани турецкому султану.
В июле 1827 г. аналогичное соглашение заключили Англия и Франция. Однако Турция отвергла всякое посредничество. Тогда для давления на нее в греческие воды по инициативе России была направлена англо-француэско-русская эскадра. 20 октября 1827 г. эта эскадра в ответ на провокации египтян уничтожила в бухте города Наварин, расположенного на западном берегу Морей, турецко-египетский флот. Начавшаяся в 1828 г. Русско-турецкая война отвлекла на театр военных действий основные войска Турции и облегчила положение восставших. Победа России обеспечила их успех. По Адрианопольскому (который здесь назван Наваринским) мирному договору 1829 г. Турция признала автономию Греции.
Колониальную войну в Северной Африке Франция начала готовить еще при Наполеоне I. В 1827 г. между Францией и Алжиром возник конфликт по поводу финансовых претензий со стороны Алжира и его столица, город Алжир, был подвергнут блокаде. В июне 1830 г. французские войска высадились в Африке и заняли столицу Алжира. Освободительная борьба алжирцев против французских завоевателей под руководством Абдэль-Кадира (1808—
1883) продолжалась с 1832 по 1847 г. В 1847 г. Абдэль-Кадир был взят в плен. Однако эта колониальная война и покорение всей страны затянулись до 50-х гг. XIX в. Жестокость и насилия колонизаторов неоднократно вызывали восстания, наиболее крупные из которых произошли в 1859 и в 1871–1872 гг.
… на покупку двух арпанов этой земли. — Арпан — старинная французская поземельная мера; в разных провинциях Франции составляла от 0,2 до 0,5 га.
386… ш образец при их сооружении архитектор взял ют какого-то судна. — Ют (от гол. luit — «нанес», «хижина», «каюта») — кормовая надстройка судна, простирающаяся до его оконечности. На парусных кораблях ютом называлась часть палубы между бизань-мачтой (третьей от носа) и кормовым флагштоком.
… перешел к арабескам… — Арабески (от ит. arabcsco — «арабский») — вид сложного орнамента из геометрических фигур, листьев, цветов и т. п.; получил распространение в европейском искусстве главным образом под влиянием арабских образцов.
… Его жилище приобретало вид… Альгамбры… — Альгамбра (Альхамбра) — замок-дворец мавританских владетелей в городе Гранада в Испании; построен в XIII–XIV вв.; окружен большим парком; в 1526 г. дополнен дворцом, возведенным в стиле Возрождения.
… В то время, когда начинается эта история, г-н Кумб, испытывая на себе, как все артистические натуры, влияние романтического стиля, охватившее всех, превратил свое жилище в средневековый замок. — Романтизм — идейное и художественное течение, возникшее в Европе на рубеже XVIII–XIX вв. и нашедшее большое отражение в литературе, музыке и изобразительном искусстве; был порожден революционным и освободительным движением народных масс во время Французской революции и наполеоновских войн, а также неприятием буржуазного общества передовыми представителями искусства. В тематике своих произведений деятели романтического искусства, помимо критики буржуазного общества и интереса к фольклорным мотивам, обращались как к утопическому изображению будущего (т. н. прогрессивный романтизм), так и к идеализации феодального прошлого (консервативный романтизм). Нередко действие романтических произведений переносилось в экзотическую, необычную для Европы обстановку. В архитектуре романтизм имел не очень большое влияние и выразился в псевдоготическом стиле. Для него было характерно подражание образцам готической архитекзуры средних веков, в частности — использование имитации средневековых замков в строительстве городских и сельских особняков.
387… украшенные гербами, объяснить которые, разумеется, никогда бы не смогли ни д*Озье, ни Шерен. — Имя д’Озье носили французские ученые Пьер дела Гард д’Озье (1592–1660) и его сын Рене (1640–1732), известные специалисты по истории родословных дворянства.
Шерен, Бернар (1718–1785) — французский юрист и историк, специалист по феодальному праву и генеалогии дворянских родов.
… с каким Перро должен был разглядывать Лувр, когда воздвиг там колоннаду. — Перро, Клод (1613–1688) — французский архитектор, один из крупнейших представителей классицизма; по образованию врач; занимался также вопросами математики, теории архитектуры, физики, техники, писал стихи, выполнял переводы и иллюстрировал книги. Дувр — дворцовый комплекс в Париже; известен с XII в.; в XVI–XVII вв. — резиденция французских королей.
В 1667–1674 гг. Перро построил восточный корпус Дувра; его фасад представлял собой парадную галерею (т. н. «Галерея Перро»), которая должна была украшать вход во дворец.
… Этим врагом был мистраль… — Мистраль (фр. mistral, от лат. magistral is, букв. — «главенствующий») — холодный северный или северо-западный ветер, дующий в зимнее и весеннее время на южном побережье Франции и нередко достигающий силы шторма; чаще бывает в феврале — марте, иногда даже в мае; вызывает резкие похолодания, неблагоприятные для средиземноморских сельскохозяйственных культур и для ранних сортов фруктов и овощей… Бог поручил преследовать… колесницу этого триумфатора, играть роль античного раба и постоянно напоминать г-ну Кумбу… что, даже будучи властелином и создателем всех этих прекрасных творении, он остается всего лишь человеком, — В Древнем Риме существовал особый обычай лриумфа. Победоносный полководец, которому этот обряд присуждался в качестве высокой награды сенатом, должен был в составе процессии войска, несущего трофеи и ведущего множество пленников, проехать в особой пурпурной тоге по улицам Рима на колеснице. Считалось, что в это время он отождествляется с Юпитером. Однако, согласно верованиям древних, боги не могут допустить, чтобы смертный сравнялся с ними (т. н. «зависть богов»), и потому будут жестоко мстить счастливцу. Дабы отвести их гнев, необходимо было унизить триумфатора: поэтому воины, шедшие сзади колесницы, осыпали своего предводителя насмешками (шедшие впереди восхваляли его), а специально приставленный раб, ехавший на той же колеснице, должен был время от времени говорить ему на ухо: «Помни — ты всего лишь человек!»
… латиняне — circius… — Circius — так древние римляне называли западно-северо-западный ветер в Нарбоннекой Галлии (древнеримской провинции, лежавшей на территории современной Южной Франции, между Альпами и Пиренеями).
… Страбон назвал рсАхтуРореаС… — Страбон (ок. 64 до н. э. — ок. 20 н. э.) — древнеримский географ и историк, происходивший из Малой Азии; его основной труд «География» — важнейший источник сведений об античном мире.
Здесь имеется в виду данное Страбоном описание местности вблизи Массалии: «Вся лежащая выше страна, как и эта, подвержена действию ветров, но черный северный ветер, резкий и холодный, обрушивается на эту равнину с исключительной свирепостью; по крайней мере говорят, что он увлекает и катит даже некоторые камни; порывы ветра сбрасывают людей с повозок и срывают с них оружие и одежду» (IV, 7).
388… тот ветер, который, по словам, г-на Соссюра, так часто разбивал стекла замка Гриньян… — Соссюр, Орас Бенедикт (1740–1790) — швейцарский естествоиспытатель, профессор натурфилософии в Женеве (1762–1786), первый исследователь геологического строения Альп; положил начало альпинизму, совершив восхождение на гору Монблан; провел интересные наблюдения за движением воздуха, изменениями температуры и др.; изобрел ряд приборов для исследования явлений природы.
Гриньян — небольшой городок в Провансе; известен замком XVI в., с 1669 г. принадлежавшим графу де Гриньяну, зятю госпожи де Севинье; писательница часто жила в этом замке и умерла в нем (она похоронена в здешней городской церкви).
… тот самый ветер, который приподнял аббата Портал иса над уступом горы Сент-Виктуар и в одно мгновение убил его… — Сведений об аббате Порталисе (Portalis) и упомянутой в связи с ним истории обнаружить не удалось.
Сент-Виктуар — горный хребет в Южной Франции, а департаменте Буш-дю-Рон; высота I 011 м.
… он не свалил па его жилище гранитные пики горы Маршья-Вер… — Этот топоним (Marchia-Veyrc) идентифицировать не удалось.
389… в прошлом веке мы бы назвали ее страстью к «белокурой Амфитрите»… — Амфитрита — в греческой мифологии одна из морских богинь, супруга бога моря Посейдона (рим. Нептуна); обычно изображалась мчащейся по морю в колеснице в сопровождении морских нимф и чудовищ.
390… видел в нем неиссякаемый источник буйабеса. — Буйабсс — провансальское кушанье: острая и пряная рыбная похлебка, иногда приготовленная с вином.
… извлекал из гротов… с кор пен и других морских чудовищ, населяющих воды Средиземного моря… — Скорпсны (морские ерши) — семейство рыб из отряда окунеобразных; распространены во всех морях жаркого и умеренного поясов.
В оригинале здесь приведены еще пять провансальских названий местных рыб (roucas, bogucs, pataclifs, garri, ficlas); идентифицировать их не удалось.
… добавив туда масло, шафран и другие необходимые приправы… — Шафран — небольшое луковичное растение, в диком виде произрастающее на Балканском полуострове и в Малой Азии; высушенные рыльца его цветков имеют сильный пряный запах; культивируется; употребляется в кулинарии для окрашивания пищевых продуктов и как приправа; используется также в парфюмерии.
391… родом она была из Арля… — Арль — город в Южной Франции, в департаменте Буш-дю-Рон; с I в. до н. э. римская колония; в нем сохранилось много памятников античной архитектуры.
392… со всеми кабачками, которых было так много на улицах Старого порта… — Старый порт — древнейшая часть марсельской гавани; находится в заливе, глубоко вдающемся в сушу в центре города.
396… продлить свое пребывание в тюрьмах Экса… — Экс (точнее: Эксан-Прованс) — город в Южной Франции, в департаменте Буш-дю-Рон, к северу от Марселя.
399… Глава религиозной конгрегации… — Конгрегация — здесь: религи озное братство, включающее в свой состав как духовенство, так и мирян. Конгрегации стали создаваться католической церковью начиная с XVI в. с целью религиозной пропаганды и усиления своего влияния в народе.
401… эта рука принадлежала бы одной из грации. — Грации (гр. хариты) — в античной мифологии богини, воплощающие доброе, радостное и вечно юное начало жизни, олицетворение женской прелести и очарования. Их три — Аглая («Сияющая»), Евфросина («Благомыслящая») и Талия («Цветущая»).
402… не смог сохранить свое хладнокровие, не смог остаться в совершенно здравом рассудке в те самые минуты, когда его терял даже царь богов. — Речь идет о Зевсе (рим. Юпитере), верховном боге-громо-вержце, царе богов и людей в античной мифологии, который отличался большой любвеобильностью и имел множество любовных историй с богинями и смертными женщинами.
… стала находить в его домишке поистине олимпийские размеры. — Олимп — самый высокий горный массив в Греции у берегов Эгейского моря; в греческую мифологию вошел как священная гора, место пребывания богов.
403… в сундуке… прибавлялись экю за экю… — Экю — см. примем, к с. 155… тесной квартирки на улице Даре… — Улица Даре (фр. darse — «внутренняя гавань») расположена в центре старой части Марселя, неподалеку от Старого порта; идет параллельно улице Кансбьср, восточнее ее; соединяет улицу Паради с Римской улицей.
… в пещеристых убежищах горы Ванту… — Ванту — предгорье Аш>п в департаменте Воклюз (Юго-Восточная Франция); максимальная высота — 1912 м; известно своей повышенной влажностью и резкими ветрами.
404… Звали его, как и многих марсельцев, Мариус. Таким образам жители старого Марселя увековечивали память героя, освободившего их страну от нашествия кимвров… — В конце II в. до н. э. северные приграничные области древнеримского государства (соврем. Франция, Северная Италия и др.) подверглись опустошительному нашествию северных германцев — кимвров и тевтонов. В 102 и 101 гг. до н. э. это вторжение было отражено римскими войсками в битвах при Аквах Секстиевых и Всрцеллах (соответственно в Южной Франции и Северной Италии). Римлянами командовал Гай Марий (лат. Marius; 156—86 ло н. э.) — древнеримский полководец и государственный деятель, вождь демократической партии, который семь раз избирался консулом, вел многолетнюю борьбу за власть с представителями аристократической группировки, подвергался преследованиям и изгнанию и сыграл большую роль в превращении старого римского народного ополчения в наемное войско.
406… ни в Бонвене, ни в Эгаладах, ни в Бланкарде, ни за серебро, ни за золото — вы не смогли бы найти то, что вы сейчас увидите. — Бонвен — см. примеч. к с. 382.
Эгалады — населенный пункт в северо-западной окрестности Марселя, у подножия горного массива Этуаль; ныне представляет собой агломерацию городских предместий.
Бланкард — восточный пригород Марселя.
409… Это было шале… — Шале (фр. chalet) — здесь; в некоторых европейских странах небольшой загородный дом, архитектура которого подражает сельским домикам в горах Швейцарии.
410… Чаевые составляли пять луидоров. — Луидор (или луи, «золотой Людовика») — французская золотая монета крупного достоинства, чеканившаяся в XVII–XIX вв.; во времена Второй империи, когда был написан этот роман, называлась наполеондором и стоила 20 франков.
411… подсматривать за делами и поступками членов общества Вампиров. — Вампир — по суеверному представлению многих европейских народов, мертвец, выходящий из могилы, чтобы сосать кровь живых людей.
413… соорудил нечто вроде бельведера на своей почти плоской крыше… —
Бельведер (от ит. belvedere — «красивый вид») — здесь: вышка, надстройка над домом или небольшая отдельная постройка на возвышенном месте, откуда открывается вид на окружающее пространство.
… одежда серых кающихся грешников, тех, кого в Марселе называли членами общества Святой Троицы и в чш обязанности вх(н)ило погребение умерших. — Кающиеся — верующие, совершившие какой-либо тяжкий грех и за это приговоренные свяшснником-исповсдником к церковному наказанию (ограничению в посещении храма, посту, дополнительному «пению молитв и тл.). Кающиеся в Западной Европе объединялись в братства, называвшиеся обычно по цвету их особых одежд.
414… запели погребальные псалмы. — Псалмы — ветхозаветные религиозные гимны, песни и молитвы. Создание их приписывается древнееврейскому царю и библейскому герою Давиду (см. примеч. к с. 327), но анализ текстов показал, что они писались многими авторами на протяжении более тысячи лет. 150 псалмов, считающихся каноничсскими, объединены в библейскую книгу Псалтирь и используются христианами при богослужениях различного рода (в том числе погребальных) и в быту.
… Остальные кающиеся распевали «De pmfundis». — Имеется в виду начало католического покаянного псалма «De profundis» (букв. лат. «Из бездн»), читающегося как отходная молитва по умершему. В синодальном переводе: «Из глубины взываю к тебе. Господи» (Псалтирь, 129: I).
… сохранить себя для мести этим манам. — Маны — в римской религии духи мертвых, духи загробного мира.
… занимал досуг… партией игры в пикет. — Пикет — старинная комбинационная карточная игра, требующая специальной колоды; число се участников — от двух до четырех человек; даже небольшая ошибка в ней может привести к неудаче в казалось бы выигранной партии; была изобретена во Франции.
… было встречено взрывом гомерического хохота. — То есть очень громкого неудержимого смеха, каким смеялись боги в эпической поэме Гомера «Илиада». Выражение это стало нарицательным.
415 …не поехал на намеченную им прежде великолепную рыбную ловлю у Карри… — Карри (Carry) — этот топоним не идентифицирован. Возможно, здесь опечатка в оригинале и имеется в виду остров Жарр (Jarre) к югу от мыса Круазет.
416… будь эти молодые люди преемниками Гаспара де Бесса или Мандрена… — Гаспар де Бесс — провансальский разбойник XVIII в., который останавливал в горах и грабил дилижансы; почитался как местный Робин Гуд, раздававший добычу бедным; был четвертован. Мандрен, Луи (1724–1755) — знаменитый французский фальшивомонетчик и предводитель шайки контрабандистов.
… обзаведясь отличным двуствольным ружьем, купленным им у Зауэ… — Сведений о таком торговце оружием (Zaoue) найти не удалось.
418… чувствовал себя как какой-нибудь тунец… — Тунец — крупная промысловая рыба из семейства скумбриевых; водится главным образом в тропических и субтропических морях.
… он вообразил, что стал Робинзоном и перенесся на необитаемый остров вместе со своей любимой смоковницей, садом, домом и Милеттой, превратившейся в Пятнииу. — Робинзон Крузо — моряк, герой знаменитого романа английского писателя Даниел я Дефо (ок. 1660–1731) «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка» (1719). В первой части этой книги герой, потерпевший кораблекрушение, проводит несколько лет на необитаемом острове в обществе собаки и кошки. Пятница — туземец, спасенный Робинзоном и ставший затем его другом и помощником.
419… автор вынужден… совершить заимствование у старика Корнели. — Корнель, Пьер (1606–1684) — французский драматург, родоначальник французской трагедии и французского классицизма; автор стихотворных трагедий на исторические темы.
… его самолюбие безропотно согласилось пройти под кавдинским ярмом. — В 321 г. до н. э., во время Второй Самнитской войны (327–304), в конце концов окончившейся победой Рима над самнитами (воинственными горными племенами Средней Италии), римская армия под командованием консулов, одним из которых был Спурий Постумий, была окружена в Кавдинском ущелье и капитулировала. Воины и командиры сдали свое оружие, одежду и 1юеннос имущество и должны были совершить позорный обряд — пройти «под ярмом», т. е. через низкие воротца, связанные из копий. За такое поражение римский сенат выдал Постумия самнитам. Эту историю, вошедшую в поговорку как один из примеров величайшего унижения, рассказал Тит Ливий (см. примеч. к с. 336): IX, 1–6.
420… меня, как панцирь морского ежа, выбросят из этого мира… — Морские ежи — класс морских беспозвоночных животных типа иглокожих; имеют панцирь, покрытый иглами, с чем и связано их название; широко распространены в Мировом океане; в некоторых странах икра морских ежей употребляется в пишу.
421… Если понадобится ползти на коленях на Сент-Бом, чтобы молить Бога о вашем здоровье… — Сент-Бом (букв. «Святой Грот» от прованс. baoumo — «грот») — гора в Юго-Восточной Франции, к северу от Марселя, на берегу реки Дюране, в окрестности города Систсрон. Согласно легенде, в этих местах в 42 г. нашла прибежище Мария Магдалина (см. примеч. к с. 441) и провела здесь 33 года в молитвах и размышлениях — вплоть до своей смерти.
… ощутил, что он найдет в юноше Сида Кампеадора, которого он искал, хотя никогда о нем не слышал. — Исторический Сид Кампеадор («Господин Воитель»; настоящее имя — Родриго Диас де Бивар; 1026/1043—1099) — испанский рыцарь и военачальник, прославившийся в борьбе с маврами во время Реконкисты, т. е. в эпоху отвоевания народами Пиренейского полуострова (VIII–XV вв.) территорий, захваченных арабами; герой испанской эпической поэмы «Песнь о моем Сиде» (XII в.) и трагедии «Сид» (1636) Корнеля. Здесь имеется в виду персонаж трагедии «Сид». У Корнеля юный Сид, чтобы отомстить за оскорбление, нанесенное его старику-от-цу, убивает на поединке его обидчика, графа дона Гормаса, хотя тот — отец Химены, возлюбленной Сида.
424… Квартира и контора… располагались на улице Паради, то есть на одной из крупных артерий Марселя, выходящих на улицу Канебьер. — Улица Паради расположена в южной части Марселя; отходит от улицы Канебьер в восточном направлении недалеко от Старого порта. Улица Канебьер — широкая и короткая улица в центре Марселя, ведущая к Старому порту; место прогулок и предмет гордости марссльцев; сс пересекают несколько больших улиц, отходящих и западном и восточном направлениях; название она получила, по-ви-димому, от находившегося здесь в незапамятные времена канатного завода (лат. cannabis — «конопля»).
… зтого доп Гормаса, которого ему необходимо было наказать за нанесенные им г-ну Кумбу оскорбления. — См. при меч. к с. 421.
… Редингот его был застегнут до подбородка… — Редингот — см. примеч. к с. 38.
… оторвал свои нос от панки коносаментов… — Коносамент — расписка, выдаваемая капитаном судна или агентом морского транспортного предприятия грузоотправителю и удостоверяющая принятие груза к перевозке.
425… покатился по калькуттским циновкам… — Калькутта — см. примеч. кс. 112.
426… ее волосы, того золотистого цвета, который с такой любовью воспроизводили на своих полотнах художники Венеции, ниспадали ей на затылок… — Имеются в виду представители венецианской школы живописи, одного из главных направлений итальянской живописи, достигшего своего расцвета в период с XV до XVIII в. Венецианская живопись рано прониклась светским духом; произведения этой школы отличаются эмоциональностью и поэтичностью, высокой техникой и богатым колоритом; на многих картинах венецианцев изображены женщины с распушенными рыжеватыми волосами (например, на полотне Тициана «Мария Магдалина»).
… какой-нибудь мелкий корсарf преследующий, как он полагает, мирное торговое судно… — Корсары (от ит. corsaro — «пират») — так с XVI в. назывались лица, с разрешения правительства снаряжавшие за свой счет корабли (а часто и командовавшие ими) для борьбы с вражеской морской торговлей. На практике корсарство часто переходило в обыкновенный разбой и в сер. XIX в. было запрещено международными соглашениями.
… поднимает флаги расцвечивания и открывает грозные ряды батарей. — Флаги расцвечивания — флаги международного сигнального свода, в особых и торжественных случаях поднимаемые на кораблях (на снастях мачт и между мачтами).
432… убежал на мансарду, служившую ему жилищем… — Мансарда —
чердачное помещение под скатом крыши; получила свое название от фамилии французского архитектора Франсуа Мансара (1598–1666), прибегавшего к сооружению мансард в своих постройках для достижения декоративного эффекта.
434… ему привиделось, что он стал одним из четырех сыновей Эмона… —
Сыновья графа Эмона (или Эймона, или Аймона): Алар (нем. Адельгарт), Ришард (Ритсарт), Гишар (Витсарт) и Рено де Монтобан (Рональд из Монтальбана) — непокорные вассалы Карла Великого, храбрые рыцари, герои саги, первоначально, по-видимому, сложенной в раннем средневековье во Франции, а потом проникшей в Германию. Около 1200 г. сага была обработана в роман под названием «История четырех сыновей» («Histoire des quatre fils») и в поэму «Рено де Монтобан» («Renault de Montauban»). В виде книги для народного чтения эта сага была издана в 1493 г. в Лионе; в 1535 г. появился ее немецкий перевод.
… в ней был доставлен тюк инжира ui Смирны… — Смирна (сонрем. Измир) — турецкий город и порт и Малой Азии, на побережье Эгейского моря.
435… воскликнул он таким тоном, каким Александр Великий должен был
задавать вопросы своим полководцам. — Штаб Александре» Македонского (см. примем, к с. 80) состоял из большого числа способных военачальников, принимавших участие него походах и отличившихся в них. После смерти царя они получили прозвище «диадохи» (гр. «наследники») и вступили в междоусобную борьбу за его наследство, продолжавшуюся до 80-х гг. II в. до н. э. Наиболее известные из сподвижников Александра:
Антигон Одноглазый (384–301 до н. э.) — завладел Передней Азией, но был побежден и убит в бою;
Антипатр (ок. 400–319 до н. э.) — наместник европейской части империи Александра, удержавший се за собой;
Сслевк Никатор («Победитель»; ок. 358–280 до н. э.) — к концу жизни подчинил себе почти всю территорию царства Александра, кроме Египта.
Птолемей Сотср («Спаситель»; ок. 360–283 до н. э.) — стал царем Египта.
Неарх (ок. 360–314 до н. э.) — командующий флотом; в борьбе диадохов принял сторону Антигона.
Всего история сохранила имена более десяти соратников Александра Македонского. Некоторые из них были казнены или погибли в междоусобной борьбе.
437… Напрасно изобретать различные соусы для радужного губана… —
Радужный губан (морской юнкер) — небольшая рыба из отряда колючеперых; водится в теплых морях.
440… с оконечности несравненного бульвара, который все называли Прадо… — Прадо (исп. prado — «луг», «место для гуляний») — здесь: большой бульвар в Марселе, излюбленное место прогулок горожан; проложен в первой пол. XIX в. в южной части города; известен пышной растител ьностью.
441… Проходя по эспланаде де ла Турет, он увидел открытым вход в церковь Ла-Мажор. — Эспланада де ла Турет — широкая улица с аллеей, ведущая к площади у входа в собор Л а-Мажор.
Церковь Л а-Мажор (точнее: собор святой Марии Великой — Sainte Marie-Majeure) — кафедральный собор Марселя, расположенный в западной части старого города, у Старого порта; нынешнее его здание построено в византийском стиле во второй пол. XIX в. на месте прежней старинной церкви с тем же названием.
… Эта картина… была копией знаменитого полотна Корреджо, изображающего великую грешницу, покровительницу Мадлен. — Корреджо (настоящее имя — Антонио Аллегри; ок. 1489/1494-1534) — выдающийся итальянский художник эпохи Возрождения; автор картин и фресок на религиозные и мифологические сюжеты. Магдалина, Мария — христианская святая; происходила из города Магдала в Палестине (ныне Мигдал), чем объясняется ее прозвище; была одержима бесами и вела развратную жизнь, однако, исцеленная Христом, покаялась и стала его преданнейшей последовательницей и проповедницей его учения.
Поясним, что французское произношение имени Магдалина — Мадлен.
442… опрокинула скамеечку для молитвы… — Католики 1Ю а рем я моли гиы преклоняют колени на специальную низенькую скамеечку, соединенную с налоем — маленьким столиком для священных книг.
… готическим шрифтом были оттиснуты всего две буквы… — Готический шрифт (готическое письмо) — первоначально особый способ написания бука латинского алфа лита, появившийся и X–XI вв.; характеризуется угловатой и удлиненной (|юрмой букв; с появлением книгопечатания был переведен на типографские литеры; в XIX в. был распространен главным образом в Германии, где он сохранился до сих пор; в других западноевропейских странах в XIX в. этим шрифтом иногда печатали названия книг и газет.
443… попросил… подать ему то, что он называл левитом. — Левит — здесь: длинное мужское распашное плат1>е кон. XVIII в.
444… единодушно провозглашен святым Георгием. — Святой Георгий — христианский мученик; римский военачальник, ставший проповедником христианства и казненный ок. 303 г. во время гонений на христиан; согласно легенде, убил змея-дракона, истреблявшего жителей некоего города, и освободил дочь правителя этого города, отданную змею на съедение (по наиболее распространенной версии предания, привел змея к повиновению молитвой, после чего дева отвела чудовишс в город, где святой и поразил его мечом, а восхищенные жители обратились в христианство); считается покровителем воинов.
… выделывая зонтиком грозные мулине… — Мулине — см. примеч. к с. 16.
446… изящные клумбы роз, тубероз, гелиотропов, гвоздик… — Тубероза — многолетнее травянистое растение семейства амариллисовых; происходит из Центральной Америки; цветы его отличаются сильным ароматом; культивируется как декоративное и техническое растение; из его цветков добывается эфирное масло, используемое в парфюмерии. Гелиотроп — род кустарников, полукустарников и траве мелкими цветами; произрастают в тропиках и субтропиках; некоторые виды ядовиты; раньше их душистое эфирное масло употреблялось в парфюмерии.
447… превратился в эдемский сад, благоухание которого так жестоко мучило г-на Кумба… — Эдем — в библейских легендах земной рай, местопребывание первых людей до грехопадения; в переносном смысле — благодатный уголок земли.
451… пролив, отделяющий остров Помег от Монредона… — Помсг — небольшой остров в Средиземном морс, в 5 км к западу от Монредона.
452… какой-нибудь сентиментальный студент из Франкфурта. — Франкфурт — см. примеч. к с. 25.
453… прогулки на острова Риу, обычно служившие театром его подвигов… — Остров Риу расположен в 5 км к юго-востоку от мыса Круазст; рядом с ним находятся мелкие безымянные островки.
455… Дайте ему понюхать эту соль… — То есть нюхательную соль —
вещество с резким запахом, ранее употреблявшееся в медицине для приведения больного в чувство.
460… прежде чем наступит праздник святого Иоанна… — То есть день памяти святого мученика Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи (ум. ок. 28 г.), первым признавшим Иисуса мессией. Христианская церковь соединила этот религиозный праздник с летним земледсльчсским праздником многих народов Европы, отмечаемым а день летнего солнцестояния 24 июня. Праздник снятого Иоанна проходит обычно вечером (его называют иногда Иванова ночь) и сопровождается <|>ейсрвсрками, кострами и т. д.
461… куски бугелей: я отрываю их от обломков судов… — Бугель — метал лическое кольцо на мачте судна, служащее для крепления снастей.
465… лупа поднялась над холмами святого Варнавы… — Возвы шс н ность под названием холмы святого Варнавы находится в центральной части Марселя.
Варнава — христианский святой и мученик, соратник апостола Павла; жил в I в.; незадолго до распятия Христа уверовал в него и был избран им в число семидесяти апостолов; проповедовал на Ближнем Востоке; на острове Саламинс был побит камнями, убийцы пытались сжечь его тело, но оно не горело; день его памяти — 11 июля.
466… ему было предначертано, словно новоявленному Ат тиле, истребить всю рыбу в Марсельском заливе. — Аттила (ум. в 453 г.) — предводитель союза гуннских племен с 434 г.; в 40-50-х гг. V в. совершил несколько опустошительных вторжений в Римскую империю. В 451 г. на равнине у города Шалон-сюр-Марн римская армия, состоявшая главным образом из галлов и других варварских племен, нанесла поражение гуннам, после чего Аттила отступил за Рейн. Марсельский залив — здесь, вероятно, имеется в виду часть Средиземного моря, прилегающая к Марселю с запада и юга-запада.
… по своему объему достойно было присутствовать на обеде, во время которого супруга Грангузье съела столько требухи. — Этот эпизод содержится в главе IV первой книги романа Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»: жена великана Грангузье (его имя означает по-французски «Большая глотка») Гаргамелла («Пасть»), носившая в своем чреве Гаргантюа, на пиру съела шестнадцать бочек, два бочонка и шесть горшков соленых бычьих кишок.
Рабле, Франсуа (1494–1553) — французский писатель-гуманист эпохи Возрождения, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» — художественной энциклопедии французской культуры эпохи Возрождения; в гротескных образах романа раскрывает жизнеутверждающие идеалы своего времени: свободного приятия жизни, культ телесного и духовного удовлетворения потребностей.
… нежной Амфитрите, словно восставшему гиганту, казалось, хотелось взобраться на небо… — Возможно, здесь имеется в виду древнегреческий миф о том, как От и Эфиальт, сыновья Посейдона от Ифимедии, обладавшие сверхъестественной силой, объявили войну олимпийцам и грозили овладеть Герой и Артемидой; чтобы достичь Олимпа, они водрузили гору Пелион на гору Оссу, но, обманутые Артемидой, убили друг друга.
… был… расположен к тому, чтобы, как Ксеркс, отхлестать бичом это море… — Ксеркс I (др. — перс. Хшаяршан; ок. 519–465 до н. э.) — древнеперсидский царь династии Ахеменидов, правивший в 486–465 до н. э., сын Дария I; в 486–484 гг. до н. э. подавил восстание египтян; разрушил Вавилон, превратив Вавилонское царство в сатрапию; в 480 г. до н. э. начал поход против Греции, окончившийся поражениями персидского флота при Саламине (480 до н. э.) и Микале (479 до н. э.) и разгрома сухопутной персидской армии при Платеях (479 до н. э.); убит в результате дворцового заговора.
Здесь имеется в виду эпизод греко-персидских войн (500–449 до н. э.). В 480 г. до н. э. Ксеркс решил переправить свое огромное войско из Малой Азии в Европу через пролив Дарданеллы по мосту, наведенному на судах. Мост этот, длиной около 2 км, располагавшийся между городами Сеет и Абидос, строился несколько лет, причем дважды, так как первое подобное сооружение было разбито бурей, за что царь приказал в наказание высечь море плетьми.
… пытался отыграться на зубатках и султанках… — Зубатки — семейство морских промысловых рыб с мощными челюстями, с чем и связано их название; водятся в северной части Атлантического и Тихого океана.
Султанки (барабульки) — род небольших рыб отряда окунеобразных или колючеперых; характеризуются круто срезанной головой и усиками на нижней губе; имеют важное промысловое значение.
447… ему приходилось трудиться до кровавого пота, чтобы передвигаться на своей зверюге. — «Зверюга» (по-французски bete) — в Провансе общее название небольших плоскодонных судов различных типов.
470… путешественник, затерявшийся в страшных безлюдных ущельях Ольюля и услышавший, как от скалы к скале разносится призывный клич Гаспара де Бесса. — Олькхпь — небольшой город в Юго-Восточной Франции, в департаменте Вар, в 40 км к юго-востоку от Марселя; в окрестностях этого города разбойничал Гаспар де Бесс (см. примем, к с. 416).
471… дал Макиавелли десять очков вперед. — Макиавелли, Никколо (1469–1527) — один из виднейших деятелей итальянского Возрождения, историк, писатель, политик, постоянно развивавший идею о необходимости создания на территории Италии мощного независимого государства; идеолог сильной государственной власти, ради укрепления которой допускал применение любых средств.
474… уже нельзя было принять язык мадемуазель Мадлен за мальгашский. — Мальгаши — коренное население острова Мадагаскар; язык мальгашей принадлежит к малайско-полинезийской языковой группе.
… как если бы мэр Касиса захотел управлять Марселем! — Касис — небольшой город и порт на Средиземном море, в 10 км к юго-востоку от Марселя, в департаменте Буш-дю-Рон; известен со времен Древнего Рима.
476… белые крепостные стены замка Иф… — Замок Иф — замок-кре пость на одноименном острове в 2 км западнее Марселя; построен в первой пол. XVI в.; в XVIII–XIX вв. был государственной тюрьмой.
482… посмеялась надо мной, как марсовой над сухопутным солдатом… —
Марсовой — матрос, работающий с парусами.
В некоторых странах между флотом и сухопутными войсками, как между рядовыми, так и офицерами, существовало соперничество и даже вражда.
497… буссоль забарахлила в нактоузе… — Буссоль — геодезический и артил лерийский инструмент; служит для определения горизонтальных углов между магнитным меридианом и направлением на какой-либо предмет. Нактоуз — часть буссоли, выполненная из немагнитной полой трубы, которая несет все узлы магнитной системы прибора.
… надо дать два су… — Су — французская мелкая медная (а иногда и железная) монета, двадцатая часть франка.
498… твои несчастные сорок су… — Монета номиналом в 40 су (два франка) имела хождение во Франции в XIX в.
501… найдете меня завтра… на Новой шощади. — Новая площадь —
вероятно, имеется в виду набережная Нового берега на восточной стороне Старого порта в Марселе.
503… Истинный Капулетти, г-н Кумб отвергал любой союз одного из своих ближних с Монтекки. — Капулетти и Монтекки — персонажи трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», непримиримые враги, главы двух враждующих между собой дворянских семейств.
… теперь он расценивал себя не иначе как соперником Талейранов и Меттернихов… — См. примеч. к с. 32.
504… не на занятом им посту начались страсти г-на Кумба… — Беды г-на Кумба иронически сравниваются здесь со страданиями (по церковной терминологии — «страстями»), которые претерпел Иисус в последние дни своей земной жизни, между арестом и распятием.
… Воображение его, подобно лошади Дон Кихота, закусило удила… — Дон Кихот — обедневший дворянин, вообразивший себя странствующим рыцарем, главный герой романа великого испанского писателя Мигеля Сервантеса де Сааведра (1547–1616) «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», человек, чье стремление к справедливости и жажда подвигов приходят в непримиримое противоречие с действительностью; этот образ приобрел нарицательное значение.
Своей старой и больной лошади Дон Кихот дал имя Росинант, которое, как и имя ее хозяина, стало нарицательным.
… видел разрушение шале, его собственного Карфагена… — Карфаген — город-государство в Северной Африке в районе современного города Туниса; основан в кон. IX в. до н. э. финикийцами; крупный торговый центр, завоевавший много земель и распространивший свое влияние на всю западную часть Средиземноморья; после многолетней борьбы сДревним Римом в III–II вв. дон. э.был в 146 г. дон. э.разрушен римлянами.
… свирепый дракон… охраняет этот сад гесперид… — Геспериды — в греческой мифологии нимфы, дочери титана Атланта и дочери ночи Гесперы, обитавшие где-то на крайнем западе земли. Согласно мифу, геспериды жили в саду, где росли золотые яблоки, полученные в день ее свадьбы верховной богиней Герой от Геи — Земли. Похищение яблок из сада гесперид, охранявшегося драконом Ладоном, было одним из двенадцати подвигов Геракла.
505… должен был заключать в своем чреве сокровища Перу… — Перу — государство в западной части Южной Америки. В древности населявшие территорию Перу индейцы создали свое государство, которое в первой пол. XVI в. было разрушено завоевавшими страну испанскими колонизаторами, которые основали там вице-королевство. Испанцы вывезли из Перу громадное количество серебра и золота, как награбленного, так и добытого на местных рудниках путем эксплуатации подневольного труда индейцев.
507… передают ему ту живительную энергию, какую земля отдавала
Антею… — Антей — великан греческой мифологии, сын бога моря
Посейдона и богини Геи-Земли; жил» Ливии (так д ре анис греки называли известную им часть Африки) и заставлял всех людей, приходивших в его владении, бороться с ним. Антей был непобедим в единоборстве, пока он касался матери-земли, от которой получал все новые силы. Геракл победил Антея, подняв его в воздух и задушив.
522… однажды на праздник Тела Господня я нарядила его святым Иоанном
Крестителем… — Праздник Тела Господня установлен в 1264 г. христианской церковью в честь таинства пресуществления (превращения) вина и хлеба, над которыми совершается богослужение, в кровь и тело Христа; вкушая их во время службы, верующие приобщаются к святости Иисуса. У католиков этот праздник отмечается в десятое воскресенье после Пасхи, т. е. во второе воскресенье после Троицы. Иоанн Креститель — см. примеч. к с. 460.
526… если тебе так больше нравится, в Тулон… — Тулон — город и порт в Южной Франции, на Средиземном морс; расположен к востоку от Марселя; крупнейшая французская военно-морская база в этом районе; в XIX в. в Тулоне помешалась известная каторжная тюрьма.
… На галеры! — Галера — парусное и гребное (в основном) боевое или торговое судно VI–XIX вв. На военных галерах гребная команда в значительной степени комплектовалась из преступников, отбывающих наказание. Во Франции в нач. XVIII в. ссылка на галеры была заменена каторжными работами на суше, но слово «галеры» сохранилось в речевом обиходе как синоним слова «каторга».
535… у меня есть время дать тягу и оказаться на другом берегу Вара. —
Вар — река на юге Франции, длиной 120 км; впадает в Средиземное море западнее Ниццы; до I860 г., когда Ницца, принадлежавшая ранее Пьемонту, была присоединена к Франции, служила границей между Францией и Пьемонтом.
540… не заметила ничего, кроме огней маяка Планье… — План ье — маяк в 14 км к юго-западу от Марселя; открыт в 1774 г.
… расчехлил рей, вокруг которого был намотан парус… — Рей (рея) — металлический или деревянный поперечный брус, прикрепленный к мачте корабля; предназначен для крепления прямых парусов и поднятия сигналов.
Здесь имеется в виду рей, на котором поднимается треугольный косой (т. н. латинский) парус.
… меняя галсы, лодка могла подойти к Монредону:.. — Галс — курс судна относительно ветра. «Изменить галс» (или «лечь на другой галс») — означает повернуть судно так, чтобы ветер дул в другой его борт.
548… он не забыл, что одной из добродетелей воина является
осмотрительность… — Возможно, Дюма здесь перефразирует слова Фальстафа, героя хроники Шекспира «Король Генрих IV»: «Одно из украшений храбрости — скромность» (часть I, V, 4). Это изречение Фальстаф произносит после того, как он спасся в поединке, притворившись мертвым.
554… он и его супруга уехали в Триест… — См. примеч. к с. 189.
556… за две недели до открытия канала на реке Дюране… — Имеется в виду Марсельский канал, соединивший Дюране с Марселем для снабжения города водой и ирригации; построен в 1839–1849 гг.
Примечания
1
«Государственный вестник» (нем.).
(обратно)2
«Ежедневный телеграф» (нем.).
(обратно)3
«Крестовая газета» (нем.).
(обратно)4
«Национальная газета» (нем.).
(обратно)5
«Народная газета» (нем.).
(обратно)6
Здесь и далее стихи в переводе с французского И. Кудесовой.
(обратно)7
Господин Генрих (нем.).
(обратно)8
Француз! (нем.)
(обратно)9
«Немецкий Рейн».
(обратно)10
Юнкерская партия (нем.).
(обратно)11
Это и есть Человек? (нем.)
(обратно)12
Где пребывает Человек? (нем.)
(обратно)13
«К истории религии и философии в Германии», часть III.
(обратно)14
Спокойной ночи! (нем.)
(обратно)15
В чем сам я участвовал много (лат.) — «Энеида», II, 6.
(обратно)16
В стране неверных (лат.).
(обратно)17
Все в порядке! (англ.)
(обратно)18
Разрази меня Бог! (нем.)
(обратно)19
«Новая газета» (нем.).
(обратно)20
Мигрирующие гусеницы-шелкопряды (лат.).
(обратно)21
Имперский староста (нем.).
(обратно)22
Императорский зал (нем.).
(обратно)23
«Рейн», часть I, «Письма к другу», письмо XXIV.
(обратно)24
Боже, храни короля! (англ.)
(обратно)25
«Оплакивание Христа» (ит.).
(обратно)26
Певческий кружок (нем.).
(обратно)27
Перед самой кончиной (лат.).
(обратно)28
Пусть оружие уступит место тоге (лат.).
(обратно)29
Молокосос! (нем.)
(обратно)30
Проклятый малый! (нем.)
(обратно)31
Пес паршивый! (нем.)
(обратно)32
Воспоем чуть менее возвышенное (лат.).
(обратно)33
Сокрушительный (гр.).
(обратно)34
Западно-северо-западный ветер (лат,).
(обратно)35
Черный северный ветер (гр.).
(обратно)36
Страбон, «География», IV, 7.
(обратно)37
«Из бездн (взываю)» (лат.).
(обратно)38
Дурак. (Примеч. автора.)
(обратно)39
Королевский прокурор. (Примеч. автора.)
(обратно)40
На каторгу. (Примеч. автора.)
(обратно)41
Обыватели. (Примеч. автора.)
(обратно)42
Задумать кражу. (Примеч. автора.)
(обратно)
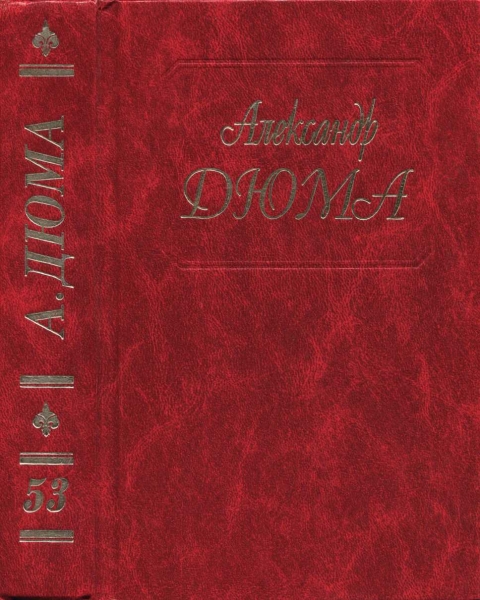

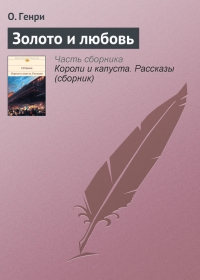
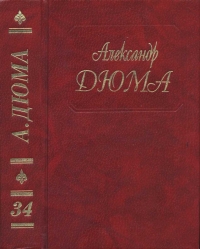

Комментарии к книге «Прусский террор. Сын каторжника», Александр Дюма
Всего 0 комментариев