Александр Дюма Блек
I ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ ЗНАКОМИТСЯ С ДВУМЯ ГЛАВНЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ РОМАНА
Шевалье де ла Гравери, совершая прогулку, уже второй раз обходил вокруг города.
Возможно, было бы более логичным начать повествование, сообщив читателю, кто такой шевалье де ла Гравери и в каком из восьмидесяти шести департаментов Франции расположен город, вдоль крепостных валов которого он прогуливался.
Но однажды, когда меня посетило чувство юмора, вероятно появившееся под воздействием тумана, которым я надышался во время своего недавнего пребывания в Англии, мной овладела решимость создать совершенно новое произведение, а именно построив его совсем по-иному в сравнении с другими романами.
Вот почему, вместо того чтобы начинать роман с начала, как это было принято до сих пор, я начинаю его с конца, будучи уверен, что мой пример найдет подражателей и через некоторое время все романы будут писать только так.
Впрочем, есть еще одна причина, почему я решил поступить таким образом.
Я боюсь, как бы сухое перечисление биографических подробностей не оттолкнуло читателя и не заставило его закрыть книгу после первой же страницы.
Итак, пока я удовольствуюсь сообщением читателю (и то лишь потому, что не в силах это от него утаить), что действие происходит в 1842 году в городе Шартран-Бос, на тенистой аллее, поросшей вязами и вьющейся вокруг старинных укреплений древней столицы племени карнутов, — аллее, в течение двух веков служившей последовательно сменявшим друг друга поколениям жителей Шартра одновременно и Елисейскими полями, и Маленьким Провансом.
Впрочем, решив не останавливаться слишком подробно на событиях прошлой жизни нашего героя или, точнее, одного из наших героев, чтобы читатель не обвинял меня в том, что я приберег для него вероломный удар, я продолжаю.
Итак, шевалье де ла Гравери, совершая прогулку, уже второй раз обходил вокруг города.
Он находился в той части бульвара, что возвышается над казармой кавалеристов: отсюда взгляду в малейших подробностях открывается весь обширный двор этой постройки.
Шевалье остановился.
Он останавливался здесь всегда.
Каждый день шевалье де ла Гравери выходил из дома ровно в полдень, выпив перед этим чашечку крепкого кофе и положив в задний карман сюртука три-четыре кусочка сахара, чтобы было что погрызть дорогой, и, замедляя или, наоборот, убыстряя свой шаг во второй половине своей прогулки, оказывался в одном и том же месте, том самом, о котором я только что рассказал, как раз в ту минуту, когда сигнал трубы призывал кавалеристов чистить лошадей.
Но ничто, за исключением красной орденской ленты на его одежде, не говорило о воинственных наклонностях шевалье де ла Гравери — его интересы были совершенно далеки от этого, и, напротив, доброта шевалье превосходила все, что только можно себе вообразить.
Но ему нравилось созерцать эту яркую и полную жизни картину, уносившую его в те времена, когда он сам (позже я вам расскажу, при каких обстоятельствах) служил в мушкетерах: факт его биографии, которым он страшно гордился с тех пор, как оставил службу.
Не пытаясь найти забвения, по крайней мере явно, горестей настоящего в воспоминаниях прошлых лет, вполне философски относясь к тому, что его волосы из светло-золотистых стали жемчужно-серыми, выглядя настолько же довольным своей наружной оболочкой, насколько куколка бабочки может быть довольна своим коконом, и вовсе не порхая на крыльях мотылька, что было свойственно прежним молодым аристократам, шевалье де ла Гравери ничуть не возражал, что среди мирных горожан, как и он приходивших к конюшням казармы ради ежедневного развлечения, он слыл подлинным знатоком военного искусства. И шевалье не задевало, если соседи спрашивали его: «Должно быть, шевалье, вы тоже в свое время были прекрасным офицером?»
Это предположение тем более льстило шевалье де ла Гравери, что оно было совершенно лишено оснований.
Равенство перед возрастными морщинами, которое у людей всего лишь служит прелюдией к великому равенству перед смертью, — вот утешение тех, кому есть в чем упрекнуть природу.
А у шевалье де ла Гравери не было никаких причин восхвалять своенравную природу, снисходительную кормилицу по отношению к одним и капризную мачеху по отношению к другим.
И вот сейчас, как мне кажется, настал момент описать внешность шевалье де ла Гравери; его духовный мир предстанет перед читателем чуть позже.
Это был человек невысокого роста, лет сорока семи или сорока восьми, пухленький и кругленький, словно женщина или евнух. Как я уже отметил, волосы у него когда-то были золотистого оттенка, но в его собственных описаниях они обычно выглядели как русые; его большим голубым глазам обычно было присуще выражение беспокойства, и, только когда он погружался в мечтательную задумчивость (а надо сказать, шевалье иногда предавался этому занятию), взгляд его становился мрачным и неподвижным. У него были большие плоские уши, бесформенные и дряблые; толстые и чувственные губы, причем нижняя слегка отвисала на австрийский лад; наконец, лицо его, местами красноватого оттенка, было почти мертвенно-бледное там, где не проступала краснота.
Эту верхнюю часть его тела поддерживала массивная и короткая шея, которая выступала из туловища, целиком ушедшего в живот в ущерб тонким и коротким рукам.
И наконец, это туловище передвигалось на маленьких ножках, круглых, как колбаски, и слегка искривленных в коленках.
Все это, вместе взятое, было одето в ту минуту, когда мы знакомим с ним читателя, следующим образом: на голове сидела черная шляпа с широкими полями и невысокой тульей; на шее был повязан галстук из тонкого вышитого батиста; туловище облегал жилет из белого пике, поверх которого красовался голубой сюртук с золотыми пуговицами; нижняя часть тела была засунута в нанковые панталоны — несколько коротковатые и тесноватые в коленях и в лодыжках, они позволяли увидеть пестрые носки из хлопка, спускавшиеся в открытые туфли с огромными пряжками.
Шевалье де ла Гравери, как мы упоминали, превратил для себя процедуру чистки лошадей в казарме кавалеристов в развлекательную часть своей прогулки, совершаемой им каждый день со скрупулезной заботливостью, с какой методичные характеры, достигнув определенного возраста, начинают выполнять предписания врачей.
Он оставлял эту процедуру себе на закуску; он вкушал ее, как любитель хорошо поесть вкушает легкое блюдо перед десертом.
Дойдя до деревянной скамейки, которая стояла на краю откоса, спускавшегося к конюшням, г-н де ла Гравери остановился и посмотрел, скоро ли начнется заветный спектакль; затем он степенно сел на скамейку, как истинный завсегдатай расположился бы в партере Комеди Франсез, и, опершись ладонями обеих рук на золотой набалдашник своей трости и положив на руки подбородок, стал ждать, когда звук трубы заменит три удара театрального постановщика.
И в самом деле, в этот день захватывающий спектакль чистки лошадей остановил, покорил и очаровал многих других, менее любопытных и более пресыщенных, чем наш шевалье; не то чтобы эта каждодневная операция содержала в себе нечто необычное, из ряда вон выходящее; нет, это были веете же лошади: гнедые, рыжие, саврасые, вороные, сивые, белые, чубарые и пегие, ржавшие и вздрагивавшие под щеткой или скребком; это были все те же кавалеристы в сабо и в рабочих холщовых штанах, те же скучающие младшие лейтенанты, тот же чопорный и важный полковой адъютант, выслеживающий малейшее нарушение установленных правил, подобно тому как кот выслеживает мышь или школьный надзиратель — учеников.
Однако в тот день, когда мы повстречались с шевалье де ла Гравери, прекрасное осеннее солнце освещало всю эту копошащуюся массу двуногих и четвероногих и увеличивало притягательность всей картины в целом и в каждой ее подробности.
Никогда еще крупы лошадей так не блестели, каски не отбрасывали столько огня, сабли не сверкали столь ослепительно, а лица не были столь рельефно очерчены — словом, никогда еще картина, открывавшаяся его взгляду, не была столь великолепна!
Два величественных шпиля, возвышавшихся над огромным собором, вспыхивали под горячим солнечным лучом, казалось заимствованным из неба Италии; в резких перепадах света и тени явственно проступали малейшие детали тончайшей зубчатой резьбы на шпилях, а листья деревьев, что росли по берегам реки Эр, переливались тысячью оттенков зеленого, красного и золотого!
И хотя шевалье никоим образом не принадлежал к романтической школе и ему ни разу не пришла в голову мысль прочитать «Поэтические раздумья» Ламартина или «Осенние листья» Виктора Гюго, это солнце, это движение, этот шум, это величие пейзажа околдовали его; и, как все ленивые умы, вместо того чтобы стать над зрелищем и по собственной воле предаться мечтам, направив их по тому пути, который мог бы быть ему наиболее приятен, шевалье вскоре полностью растворился в нем и впал в то состояние расслабленности ума, когда мысль, кажется, покидает мозг, а душа — тело, когда человек смотрит, ничего не видя, слушает, ничего не воспринимая, и когда сонм грез и видений, сменяя друг друга, как цветная мозаика в калейдоскопе (при этом у мечтателя даже недостало бы сил поймать хоть одно из своих видений и остановить его), в конце концов доводит его до состояния опьянения, отдаленно напоминающее состояние курильщиков опиума или любителей гашиша!
Шевалье де ла Гравери уже несколько минут предавался этой ленивой сонной мечтательности, как неожиданно одно из самых неоспоримых ощущений вернуло его к восприятию реальной жизни.
Ему показалось, что дерзкая рука украдкой пытается проникнуть в левый карман его редингота.
Шевалье де ла Гравери резко повернулся и, к своему великому изумлению, вместо бандитской физиономии какого-нибудь грабителя или карманника увидел честную и миролюбивую морду собаки: ничуть не смущаясь, что ее застали с поличным на месте преступления, она продолжала жадно тянуться к карману шевалье, слегка помахивая хвостом и заранее умильно облизываясь.
Животное, столь внезапно вырвавшее шевалье из состояния мечтательной созерцательности, принадлежало к той обширной породе спаниелей, что пришла к нам из Шотландии одновременно с помощью, которую Яков I отправил своему кузену Карлу VII. Он был черным (разумеется, мы говорим о спаниеле), с белой полосой, которая начиналась на горле, переходила, постепенно расширяясь, на грудь и, спускаясь между передних лап, образовывала нечто вроде жабо; хвост его был длинным и волнистым; шелковистая шерсть имела металлический отлив; уши, чуткие, длинные и низко посаженные, обрамляли умные, почти человеческие глаза; удлиненная морда имела на самом кончике небольшую отметину огненного цвета.
Для всех окружающих это было великолепное создание, вполне заслуживавшее того, чтобы им восхищались, но шевалье де ла Гравери, ставивший себе в заслугу безразличие по отношению ко всем животным вообще, а к собакам в частности, уделил всего лишь незначительное внимание внешним достоинствам этого спаниеля.
Он был раздосадован.
В течение секунды, которой ему хватило, чтобы осознать, что происходит за его спиной, шевалье де ла Гравери успел мысленно выстроить целую драму.
В городе Шартре были воры!
Шайка жуликов проникла в столицу Боса с намерением обчистить карманы ее добропорядочных горожан, которые, как было широко известно, наполняли их разного рода ценностями. Эти дерзкие злодеи были разоблачены, схвачены, приведены в суд присяжных, отправлены на каторгу — и все это благодаря проницательности и обостренности чувств простого фланёра: это была великолепная мизансцена, и вполне понятно, как неимоверно больно было падать с этих волнующих высот в однообразное спокойствие каждодневных встреч на прогулке вокруг города.
Вот почему, поддавшись первому порыву своего плохого настроения, направленному против виновника этого разочарования, шевалье попытался прогнать непрошеного гостя, по-олимпийски нахмурив брови: ему казалось, что перед подобным всемогуществом животное не сможет устоять.
Но собака бесстрашно выдержала этот огненный взгляд и, напротив, с дружелюбным видом созерцала своего противника. Ее огромные желтые, совершенно влажные зрачки, из которых исходило лучистое сияние, так выразительно смотрели на шевалье, что это зеркало души, как называют глаза как у людей, так и у собак, ясно говорило шевалье де ла Гравери: «Милосердия, сударь, умоляю вас!»
И все это с таким смиренным, таким жалостным видом, что шевалье почувствовал себя взволнованным до глубины души и лоб его разгладился; затем, порывшись в том самом кармане, куда спаниель пытался просунуть свою заостренную мордочку, он вытащил оттуда один из тех кусочков сахара, что возбудили алчность воришки.
Собака приняла его со всей мыслимой деликатностью; видя, как она открыла пасть, ловя эту лакомую милостыню, никто никогда не мог бы и подумать, что какая-нибудь гнусная мысль, мысль о краже, могла прийти в эту честную голову; возможно, сторонний наблюдатель мог бы пожелать, чтобы физиономия спаниеля выражала бы чуть большие признательности, в то время как сахар хрустел на белых зубах животного; но чревоугодие, которое является одним из семи смертных грехов, было одним их тех пороков, к которым шевалье относился весьма снисходительно, рассматривая его как одну из тех слабостей, что скрашивают человеческое существование. И потому, вместо того чтобы обидеться на животное за то, что на его физиономии было написано скорее чувство довольства, нежели признательности, шевалье с подлинным, почти завистливым восхищением следил за проявлениями гастрономического наслаждения, которое демонстрировало ему животное.
Впрочем, спаниель решительно был из породы попрошаек!
Едва свалившаяся на него подачка была уничтожена, животное, казалось, вспоминало о ней лишь для того, чтобы выпросить еще одну, что оно и делало, сладко облизываясь и принимая вновь то же самое умоляющее выражение и тот же самый покорный и ласковый вид, выгоду которых оно уже успело оценить, не помышляя о том, что, почти как все попрошайки, из вызывающего участие и сострадание становится назойливым просителем; но, вместо того чтобы рассердиться на него за его навязчивость, шевалье, напротив, поощрял его дурные наклонности, щедро одаривая кусочками сахара, и остановился лишь тогда, когда его карман опустел.
Наступил момент расплаты за сострадание. Шевалье де ла Гравери относился к его приближению с некоторой опаской; в благодеяниях, какими мы одариваем собаку, всегда присутствует некий оттенок самодовольства и даже эгоизма: нам нравится думать, будто вся их ценность заключена лишь в том, из чьих рук они исходят, и шевалье так часто видел разного рода должников, льстецов и прихвостней, отворачивавшихся от своего благодетеля при виде опустевшей кормушки, что, получив некоторое удовлетворение, о чем мы уже упоминали, он не осмеливался особо надеяться на то, что простой представитель собачьего племени не последует традициям и примерам, на протяжении череды веков подаваемым его собратьям сынами Адама.
Как бы ни должен был научить шевалье де ла Гравери его долгий жизненный путь философски относиться к подобного рода проблемам, ему трудно было бы вновь испытать, к тому же на своем горьком опыте, обыкновенную неблагодарность; так что он желал всего лишь спасти свое случайное знакомство от этого тяжелого испытания, а себя самого избавить от тех унижений, какие оно могло бы повлечь за собой; вот почему, после того как он в последний раз исследовал глубину кармана своего редингота и окончательно удостоверился, что продлить эти приятные отношения на величину хотя бы одного кусочка сахара у него нет никакой возможности, после того как на глазах спаниеля он вывернул свой карман, чтобы дать ему доказательство своей искренности и доброй воли, — он дружески приласкал животное, прощаясь с ним и одновременно подбадривая его; затем, поднявшись, он возобновил свою прогулку, не осмеливаясь оглянуться и посмотреть назад.
Как вы сами видите, все это не обличает в шевалье де ла Гравери дурного человека, а в спаниеле — дурную собаку.
А это уже достаточно много — вывести на сцену человека и собаку так, чтобы человек не был скверным, а собака не была злобной. Поэтому я полагаю необходимым еще раз вам повторить, учитывая эту первую нелепость, что я предлагаю вашему вниманию вовсе не роман, а подлинную историю.
Случай свел на этот раз доброго человека и добрую собаку.
Один раз не в счет!
II ГЛАВА, В КОТОРОЙ МАДЕМУАЗЕЛЬ МАРИАННА ОБНАРУЖИВАЕТ СВОЙ ХАРАКТЕР
Мы видели, что шевалье возобновил свою прогулку, не осмеливаясь обернуться, чтобы удостовериться, следует ли за ним собака.
Но он даже не дошел до моста Ла-Куртий — места, хорошо известного не только обитателям Шартра, но и жителям всего кантона, — как его решимость уже подверглась суровому испытанию, и только благодаря высокой силе духа ему удалось устоять перед нашептываниями демона любопытства.
Однако в ту минуту, когда шевалье де ла Гравери подошел к воротам Морар, его любопытство достигло такой степени возбуждения, что внезапное появление со стороны старой парижской дороги дилижанса с упряжкой из пяти лошадей, несущихся бешеным галопом, послужило ему предлогом, чтобы отойти в сторону; уступая дорогу, он как бы ненамеренно оглянулся и, к своему великому изумлению, увидел собаку: она следовала за ним по пятам, не отставая ни на шаг, и ступала так важно и степенно, как будто отдавала себе отчет в своих действиях и совершала их сознательно.
— Но мне нечем больше тебя угостить, мой бедный славный зверь! — воскликнул шевалье, выворачивая опустевшие карманы.
Можно было подумать, будто собака поняла смысл и значение этих слов: она стремительно бросилась вперед, сделала два или три немыслимых прыжка, как бы стремясь выразить свою признательность; затем, увидев, что шевалье стоит на месте, и не зная, как долго продлится эта остановка, она легла за землю, положила голову на вытянутые передние лапы, три или четыре раза весело пролаяла и стала ждать, когда ее новый друг возобновит свой путь.
При первом же движении шевалье собака резво вскочила и устремилась вперед.
Так же как до этого животное, казалось, поняло слова человека, так и человек, казалось, догадался, что означают действия животного.
Шевалье дела Гравери остановился и, всплеснув обеими руками, сказал:
— Хорошо, ты хочешь, чтобы мы дальше шли вместе, что ж, я тебя понимаю; но, бедняжка, не я твой хозяин, и, чтобы следовать за мной, ты должна кого-то покинуть, кого-то, кто тебя вырастил, давал тебе приют, кормил, заботился о тебе, ласкал, — какого-нибудь слепца, чьим поводырем ты, возможно, была, или пожилую даму, для которой ты, вероятно, служила единственным утешением. И вот несколько злосчастных кусочков сахара заставили тебя забыть о них, как позже, в свою очередь, ты забудешь меня, если я проявлю слабость и возьму тебя к себе. Пошел же прочь, Медор! — сказал шевалье, обращаясь на этот раз непосредственно к животному. — Ты всего лишь собака, ты не имеешь права быть неблагодарной… О! Вот если бы ты была человеком, — продолжил как бы между прочим шевалье, — то это было бы другое дело.
Но собака, вместо того чтобы повиноваться и уступить философским рассуждениям шевалье, залаяла еще громче, удвоила свои прыжки, и ее приглашения продолжить прогулку стали более настойчивыми.
К несчастью, эта новая череда мыслей, пришедших на ум шевалье, словно сумеречный прилив, когда каждый вновь надвигающийся вал кажется более угрюмым, чем предыдущий, омрачила его; конечно же сначала он был польщен, что внушил такую внезапную привязанность, выказанную ему собакой, но затем вследствие естественного поворота мыслей подумал, что за этой преданностью несомненно скрывается едва ли не черная неблагодарность; взвесив прочность этой столь внезапно возникшей привязанности к нему, он в конце концов укрепился во мнении, к которому, казалось, пришел уже много лет назад, мнении, согласно которому — я объясню это чуть позже — ни мужчины, ни женщины, ни животные не имели отныне права рассчитывать ни на малейшую долю его симпатий.
Благодаря этому умело составленному общему обзору читатель должен уже начать догадываться, что шевалье де ла Гравери исповедовал ту почтенную религию, богом которой является Тимон, а мессией — Альцест и которая называется мизантропией.
Вот почему, твердо решив резать по-живому, чтобы оборвать возникшую связь в минуту ее зарождения, он попробовал вначале прибегнуть к силе убеждения. Предлагая собаке в первый раз покинуть его, он назвал ее, как вы помните, Медором; теперь он возобновил свои уговоры, награждая ее поочередно мифологическими именами: Пирам, Морфей, Юпитер, Кастор, Поллукс, Актеон, Вулкан; потом последовали имена античной истории: Цезарь, Нестор, Ромул, Тарквиний, Аякс; затем прозвучали имена скандинавских героев: Оссиан, Один, Фингал, Тор, Фёрис; от них он перешел к английским именам: Трим, Том, Дик, Ник, Милорд, Стопп; с английских имен шевалье переключился на такие колоритные имена, как Султан, Фанор, Турок, Али, Мутон, Пердро. Наконец, он исчерпал все, что мог ему дать собачий мартиролог начиная со времен мифов и сказаний и кончая нашим рассудочным веком, чтобы вбить в голову упрямого спаниеля, что он не должен дальше следовать за ним; но если по отношению к людям существует пословица, гласящая: «Худший из глухих тот, кто не хочет слышать», то совершенно очевидно, по крайней мере в данных обстоятельствах, что она должна распространяться и на собак.
В самом деле, спаниель, только что буквально на лету угадывавший мысли своего нового друга, сейчас, казалось, был весьма далек от того, чтобы понимать его; чем больше лицо шевалье де ла Гравери принимало грозное и суровое выражение и чем больше он старался придать своему голосу резких металлических нот, тем более веселым и задорным становилось поведение собаки; казалось, она подавала реплики в каком-то милом шутливом разговоре; наконец, когда шевалье вопреки своей воле, но подчиняясь необходимости ясно и доходчиво выразить свое намерение, решился прибегнуть к ultima ratio[1] для собак и замахнулся своей тростью с золотым набалдашником, бедное животное с печальным видом легло на спину и безропотно подставило свои бока под удары палки.
Жизненные неудачи шевалье — мы вовсе не собираемся скрывать их от наших читателей — смогли превратить его в мизантропа, но от природы он вовсе не был злой человек.
Вот почему столь смиренное поведение спаниеля полностью обезоружило шевалье; он переложил свою трость из правой руки в левую, вытер лоб, ибо сцена, разыгранная им только что, когда ему пришлось сопроводить свои слова угрожающим жестом, заставила его вспотеть, и, признавая себя побежденным, но при этом утешая свое самолюбие надеждой взять реванш, вскричал:
— Проклятье! Что ж, иди, если хочешь, дрянь ты этакая! Но клянусь, не рассчитывай переступить порог моего дома.
Однако спаниель, видимо, придерживался того мнения, что тот, кто выигрывает время, выигрывает все; он немедленно вскочил на свои четыре лапы и совершенно удовлетворенный, не испытывая ни малейшего волнения, оживлял дальнейшую прогулку многочисленными прыжками и кульбитами вокруг хозяина, которого он, казалось, сам себе выбрал. Собака обращалась с шевалье как его старый друг, и это так бросалось в глаза, что все жители Шартра, встретившиеся им по дороге, с изумлением останавливались и возвращались к себе домой в восторге от того, что могут загадать своим друзьям и знакомым эту загадку, преподнеся ее в виде вопроса-утверждения: «Бог мой, разве у господина де ла Гравери теперь есть собака?»
Господин де ла Гравери, ставший мишенью для городских сплетен, которые, вероятно, должны были продолжаться еще два-три дня, держал себя с большим достоинством, всем своим видом выказывая одновременно полнейшую беспечность по отношению к любопытству, какое возбудила у горожан его прогулка, и надменное безразличие к своему спутнику. Шевалье вел себя точно так, будто совершал эту прогулку в полном одиночестве, останавливаясь повсюду в тех местах, где он привык всегда останавливаться: перед воротами Гийом (в них реставрировали старые бойницы); напротив зала для игры в мяч (в нее никак не могли вдохнуть жизнь шесть неумелых игроков, а также крики дюжины мальчишек, споривших, кому из них подсчитывать очки); рядом с канатчиком, чья лавка расположилась у подножия вала Угольщиков и за чьей работой он ежедневно следил с интересом, причину которого даже сам никогда не пытался понять.
И если порой какая-нибудь обаятельная ужимка собаки или какая-нибудь ее дразнящая ласка непроизвольно вызывали улыбку у шевалье, он старательно подавлял ее в себе и тут же вновь принимал свой чопорный вид, подобно отъявленному дуэлянту, который, после того как ложный выпад противника заставляет его раскрыться, вновь старательно занимает оборонительную позицию.
Таким образом они оба подошли к дому № 9 на улице Лис, где вот уже на протяжении многих лет обитал шевалье де ла Гравери.
Подойдя к дверям дома, он понял, что все случившееся было всего лишь своего рода прологом дальнейших событий и что настоящее сражение развернется именно здесь.
Однако собака, казалось, отдавала себе отчет только в том, что она находится у конечной цели своей прогулки.
В то время как шевалье вставлял ключ в замочную скважину, спаниель, на вид, по крайней мере, свободный от всякого беспокойства, невозмутимо дожидался, усевшись на свой хвост, пока откроется дверь, как будто долгая привычка позволяла ему считать этот дом своим собственным; вот почему, как только дверь стала приотворяться, собака проворно проскользнула между ног шевалье и сунула свой нос к порогу дома; но хозяин жилища буквально рванул на себя приоткрытую на треть дверь, и она захлопнулась перед носом животного, а ключ от толчка отлетел на середину улицы.
Спаниель бросился за ним и, несмотря на отвращение, которое собаки, как бы хорошо выдрессированы они ни были, обычно испытывают, когда им приходится брать в зубы что-то железное, осторожно взял ключ в пасть и принес его г-ну дела Гравери, причем проделал все это, выражаясь на охотничий лад, по-английски, то есть повернувшись к нему спиной и встав на задние лапы с тем, чтобы никоим образом не испачкать его передними.
Этот маневр, каким бы забавным он ни был, не тронул шевалье, но тем не менее дал ему пищу для некоторых раздумий.
Он понял, во-первых, что имеет дело не с первой попавшейся собакой и, во-вторых, что, не будучи в прямом смысле этого слова ученой, она дала ему доказательство того, что ее хорошо воспитали.
И хотя его первоначальное решение не было этим поколеблено, он все же понял, что собака заслуживала определенного уважения, и, поскольку два или три человека уже стояли и смотрели на них, а занавески в некоторых окнах отодвинулись, он решил не унижать своего достоинства и не опускаться до борьбы, которая могла бы закончиться не в его пользу, учитывая упрямство и силу животного, и, приняв такое решение, надумал призвать себе на помощь третье лицо.
Поэтому он положил в карман ключ, принесенный ему спаниелем, и, потянув за козью лапку, подвешенную на железной цепочке, услышал, как в доме зазвонил колокольчик.
Хотя звон явственно был слышен, он не произвел никакого действия: из дома по-прежнему не доносилось ни звука, как если бы шевалье позвонил у ворот замка Спящей красавицы, и лишь когда он удвоил свою энергию и звон колокольчика стал раздаваться все чаще и все настойчивее, доказывая, что звонивший не уступит первым, подъемное окно на втором этаже поползло вверх и в нем показалась голова угрюмой женщины лет пятидесяти.
Она с такими предосторожностями высунула голову из окна, как будто городу грозило новое вторжение норманнов или казаков, и попыталась выяснить, кто же поднял этот непонятный переполох.
Но г-н де ла Гравери, разумеется, ожидал, что откроется входная дверь, а не окно на втором этаже, и стал как раз напротив двери, дабы сократить себе тот путь, который ему предстояло преодолеть, чтобы оказаться в доме. Его фигура оказалась в тени карниза, целиком обвитого левкоями, такими густыми и зелеными, как будто они росли в ухоженном цветнике.
Кухарка никак не могла его разглядеть, она видела только собаку, которая, сидя на задних лапах в трех шагах от порога и, так же как и шевалье, дожидаясь, когда раскроется дверь, подняла голову и умным взглядом смотрела на новое лицо, появившееся на сцене.
Но вид этой собаки никоим образом не мог успокоить Марианну (так звали старую кухарку), а ее окрас тем более; вспомним, что, за исключением двух огненно-рыжих пятен на морде и белого жабо на груди, спаниель был черен, как вороново крыло, а Марианна не помнила ни одного из знакомых г-на дела Гравери, у кого была бы черная собака, и ей на ум приходило, что пес такого цвета сопровождал только дьявола.
И поскольку она знала, что г-н де ла Гравери поклялся никогда не заводить собаку, у нее и в мыслях не было, что это животное сопровождает шевалье.
К тому же шевалье никогда не звонил.
У г-на де ла Гравери, не любившего ждать, был свой ключ, и он с ним никогда не расставался.
Наконец, после минутного колебания, она отважилась робким голосом спросить:
— Кто там?
Шевалье, одновременно ориентируясь на звук голоса и следуя за взглядом спаниеля, покинул свой пост, отошел от двери на три шага и тоже поднял голову, приставив козырьком ладонь к глазам.
— А, это вы, Марианна! — произнес он. — Спускайтесь же вниз!
Но как только Марианна узнала своего хозяина, она перестала бояться и, вместо того чтобы повиноваться отданному ей приказанию, переспросила:
— Спускаться вниз? А это еще зачем?
— Ну, по-видимому, чтобы открыть мне, — ответил г-н де ла Гравери.
Лицо Марианны из слащавого и боязливого, каким оно было в начале переговоров, вновь стало раздраженным и угрюмым.
Она выдернула длинную спицу, воткнутую между чепцом и волосами, и, возобновив свое прерванное вязание, переспросила:
— Чтобы открыть вам? Открыть вам?
— Конечно.
— Разве у вас нет своего ключа?
— Не имеет значения, есть он у меня или нет, я вам приказываю спуститься.
— Что же, значит, вы его потеряли. Я уверена, что сегодня утром он у вас был; когда я чистила вашу одежду, ключ выпал из кармана ваших брюк, и я его положила обратно. Я не думала, что в вашем возрасте вы будете способны на такую рассеянность; но, видит Бог, учиться приходится всю жизнь.
— Марианна, — заявил шевалье, начиная проявлять легкие признаки нетерпения, которые доказывали, что он не настолько, как это можно было предположить, находился под каблуком у своей кухарки, — я вам велел спуститься.
— Он его потерял! — закричала она, не заметив едва уловимых ноток в тоне шевалье. — Он его потерял! Ах, Бог мой, что же с нами будет? Мне придется обегать весь город, заменить замок, а возможно, и всю дверь, ведь я не стану спать в доме, если ключ от него бродит по дорогам.
— У меня есть ключ, Марианна, — возразил шевалье, все больше теряя терпение, — но у меня есть свои причины, чтобы не воспользоваться им.
— Господи Иисусе, что за причины, спрашиваю я вас, могут помешать человеку, если ключ действительно лежит у него в кармане, войти с его помощью в свой собственный дом и не заставлять бедную женщину, и без того измученную работой, бегать взад-вперед по лестницам и коридорам?.. И вы мне как раз напомнили, что у меня на плите стоит ужин. Ах, он подгорает, я чувствую, он подгорает! О чем вы думаете, Бог мой!
И мадемуазель Марианна повернулась, чтобы уйти.
Однако терпение шевалье де ла Гравери истощилось; повелительным жестом он пригвоздил старую деву к месту и суровым тоном произнес:
— Довольно слов, идите и откройте мне дверь, полоумная старуха!
— Полоумная старуха! Открыть вам! — вскричала Марианна, судорожно вздымая над головой свое вязание, подобно тому как извергали проклятия в древности. — Как! У вас есть ключ! Вы в этом признаётесь, вы мне его даже показываете и после этого хотите заставить меня пройти через весь дом и пересечь двор! Этого не будет, сударь! Нет, этого не будет! Я уже давно устала от ваших прихотей и вовсе не собираюсь поддаваться еще одной.
— О! Отвратительная мегера, — пробормотал шевалье де ла Гравери, весьма удивленный этим сопротивлением и уже измученный борьбой с собакой. — По правде говоря, мне кажется, что, несмотря на ее необычайное мастерство в приготовлении ракового супа и подливки из кролика, я буду вынужден с ней расстаться. Но раз я любой ценой хочу не допустить того, чтобы этот проклятый спаниель переступил порог моего дома, уступим ей, даже если придется отложить расплату.
И он произнес более приветливым тоном:
— Марианна, я понимаю, что вас удивляет моя очевидная непоследовательность, но вот факт: вы видите эту собаку…
— Конечно, вижу, — сказала сварливая особа, чувствуя, что, действуя с позиции силы, она отвоюет все и что шевалье готов уступить.
— Ну вот, она сопровождает меня вопреки моей воле от казармы драгунов; я не знаю, как мне от нее отделаться, и хотел бы, чтобы вы вышли и отгоняли ее, пока я не войду в дом.
— Собака! — закричала Марианна. — И это из-за какой-то собаки вы беспокоите порядочную женщину, которая вот уже десять лет служит у вас. Собака!.. Хорошо же, я вам сейчас покажу, как их следует прогонять, этих собак!
И на этот раз Марианна исчезла из окна.
Шевалье де ла Гравери, уверенный, что коль скоро Марианна отошла от окна, то лишь для того, чтобы спуститься вниз и помочь ему осуществить этот небольшой маневр по изгнанию собаки, подошел к двери; в свою очередь собака, решительно настроенная продолжить знакомство с человеком, из чьего кармана появляются такие славные кусочки сахара, подошла к г-ну де ла Гравери.
Вдруг нечто вроде катаклизма разлучило человека и собаку.
Настоящая лавина воды, подобная Рейнскому или Ниагарскому водопаду, выплеснулась со второго этажа и окатила их обоих с ног до головы.
Раздался собачий визг, и животное скрылось.
Шевалье же вынул ключ из кармана, вставил его в замочную скважину, открыл дверь и переступил порог дома, испытывая вполне понятную ярость. Он сделал это как раз в то мгновение, когда Марианна послала ему несколько запоздалое предостережение:
— Поберегитесь, господин шевалье! Поберегитесь!
III ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ВИД ДОМА ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛА ГРАВЕРИ
Владение № 9 по улице Лис состояло из жилого здания, сада и двора.
Жилая часть его находилась между садом и двором.
Но только ни двор, ни сад не были расположены так, как это бывает обычно: двор впереди, а сад позади дома.
Нет, на этот раз двор был слева от дома, а сад — справа.
Окруженный по бокам двором и садом, дом выходил прямо на улицу.
Во дворе, через который обычно проходили в дом, было одно-единственное украшение — старая виноградная лоза: ее не обрезали вот уже лет десять, и, прилегая к фронтону соседнего дома, она пустила вдоль него побеги такой силы, что на память приходили девственные леса Нового Света.
И хотя двор был вымощен песчаником, сырость почвы и тень от крыш привели к тому, что в промежутках между плитами росла плотная, густая трава, и он был похож на рельефную шахматную доску с клетками, обозначенными песчаником.
Однако, к несчастью, шевалье де ла Гравери не был ни игроком в шахматы, ни игроком в шашки и никогда не помышлял извлечь выгоду из данного обстоятельства, которое составляло счастье Мери и г-на Лабурдоне.
Снаружи дом имел тот холодный и грустный вид, какой присущ большинству зданий в наших старых городах; покрывавшая ее известковая штукатурка осыпалась большими кусками, и на оголенных местах хорошо просматривалась кладка из бутового камня, а поверх ее местами одна рядом с другой были прибиты дранки; все это придавало фасаду дома сходство с человеческим лицом, изуродованным какой-то кожной болезнью.
Рамы окон, утратившие свою первоначальную сероватую окраску и почерневшие от обветшалости, были составлены из маленьких квадратиков, к тому же из экономии стекла для этих квадратиков были выбраны среди тех, что называют бутылочными донышками, и через них в комнаты проникал лишь зеленоватый свет.
Поскольку мы с вами пока всего лишь пересекли двор и продолжаем пребывать на первом этаже, необходимо слегка приоткрыть дверь на кухню, чтобы получить полное и верное представление о хозяине дома; в щель приотворенной двери видны кухонные плиты из белого фаянса, вычищенные и сверкающие, как пол в голландской гостиной, и большую часть времени рдеющие красноватыми отблесками раскаленного угля. Рядом с плитой — очаг колоссальных размеров; в нем весело и, как во времена наших предков, без мелочной бережливости пылают огромные поленья; он служит противнем и подставкой для вертела, вращающегося при помощи известного классического механизма, так славно подражающего перестуку мельницы. Очаг выложен кирпичом, на котором пламенеют раскаленные угли: без них немыслимо хорошо зажарить мясо; раскаленные угли ничто не сможет заменить, а современные экономисты — в большинстве своем отвратительные гастрономы — вздумали заменить их железной плитой. Напротив очага и плит, словно ряд багряных солнц, сверкала дюжина выстроившихся шеренгой соответственно своим размерам кастрюль (их ежедневно начищали до блеска, подобно тому, как каждый день драят пушки на корабле высокого класса), начиная с громадного котла без полуды, предназначенного для варки сиропов и варенья, и кончая микроскопическим сосудом для приготовления подлив, острых овощных соусов и различных приправ тонкой кухни.
Для тех, кто уже знает, что г-н де ла Гравери живет один, не имея ни жены, ни детей, ни собак, ни кошек, ни разного рода сотрапезников, с одной только Марианной, заменяющей ему всех домашних слуг, весь этот кулинарный арсенал явился бы откровением, и они так же легко узнали бы в шевалье утонченного гурмана, изысканного гастронома, предающегося радостям стола, как в средние века узнавали алхимика по горнам, тиглям и ретортам, перегонным кубам и чучелам ящериц.
А теперь, закрыв дверь на кухню, продолжим осмотр первого этажа.
Более чем скромную прихожую украшали лишь две вешалки с закругленными концами в виде грибов, на которые шевалье, вернувшись домой, вешал: на одну — свою шляпу, а на другую — зонтик в те дни, когда он выходил из дома с зонтиком вместо трости; дубовая скамья, на которой слуги ожидали своих хозяев, когда шевалье случалось принимать у себя кого-нибудь, а также квадраты из белого и черного камня, жалкая подделка под мрамор, но такие же холодные и сырые, как мраморные: холод и сырость, исходившие от них, не исчезали ни зимой, ни летом.
Просторная столовая и внушительных размеров гостиная, где огонь разводили только в те дни, когда шевалье де ла Гравери приглашал на обед гостей, то есть два раза в год, вместе с кухней и прихожей составляли весь первый этаж дома.
Впрочем, обе эти комнаты вполне соответствовали ветхой наружности дома: паркет в них разошелся и вздулся, потолок был серый от грязи, а рваные, запачканные и отошедшие от стены обои колыхались от дуновения ветра, когда открывали дверь.
Шесть деревянных стульев, выкрашенных в белый цвет, в стиле ампир, стол орехового дерева и буфет составляли всю обстановку столовой.
В гостиной три кресла и семь стульев как бы гонялись друг за другом, но им никак не удавалось соединиться вместе, в то время как кушетка со спинкой (и сиденье и спинка кушетки были набиты соломой) дерзко узурпировала место и название канапе; убранство и обстановку этой комнаты для приема гостей, комнаты, куда, за исключением торжественных случаев, владелец никогда не заходил, завершали круглый столик для кипятильника с подогревателем, часы с застывшими стрелками и неподвижным маятником и зеркало, которое состояло из двух половинок и отражало коленкоровые занавески в желтую и красную полоску, грустно висевшие на окнах.
Но на втором этаже все было совсем иначе; правда, там жил сам шевалье де ла Гравери, и прямо туда привела бы нас из кухни нить клубка, если бы у лабиринта на улице Лис была своя Ариадна.
Представьте себе три комнаты, отделанные, обставленные, обитые с такой тщательностью и заботой, так изящно и с таким вкусом, как это, кажется, бывает лишь у богатых вдовушек или франтих: все было предусмотрено, все было устроено так, чтобы сделать жизнь сладостной, удобной и приятной в этих трех похожих на бонбоньерки комнатах, у каждой из которых было свое назначение.
В гостиной — а она благодаря своим размерам была главной комнатой — стояла современная мебель, с внушительной респектабельностью и утонченной предусмотрительностью обитая во всех местах, которые предназначены были служить точкой опоры для телес шевалье. Книжный шкаф из черного дерева с инкрустациями из кожи — считалось, что он вышел из мастерской самого Буля, — был полон книг в переплетах из красного сафьяна; надо признать, что рука шевалье редко прикасалась к ним и они никогда надолго не привлекали его внимания; часы, изображающие Аврору на колеснице, колеса которой служили циферблатом, показывали время с безукоризненной точностью; по бокам их стояли два канделябра по пять свечей каждый; занавески из плотной шерстяной ткани, подобранные в тон мебели, были задрапированы на окнах с элегантностью, уместной и в будуаре на Шоссе д’Антен, а вот белые лепные украшения, на которых местами сохранились кое-какие следы позолоты, доказывали, что прежние жильцы или владельцы этого дома изысканностью вкуса даже превосходили г-на де ла Гравери.
Из гостиной перейдем в спальню.
Тому, кто входил в эту комнату, сразу же бросалась в глаза кровать колоссальных размеров как по высоте, так и по ширине. Вознесена она была непомерно, и увидевшему ее прежде всего приходило на ум, что человек, честолюбиво вознамерившийся лечь в эту кровать, должен, чтобы взобраться на нее, прибегнуть к помощи лестницы. Но человек, который покорил эту гору из шерсти и пуха, окруженную тройным рядом занавесок полога, достигнув вершины и находясь в самой середине алькова, своей теплой и мягкой обивкой напоминавшего гнездышко щегла, — этот человек чувствовал себя хозяином положения: оттуда он мог, проникнув взором в каждый уголок комнаты, провести смотр всем этим стульям, креслам, стульчикам у камина, софам и канапе, скамеечкам для ног, подушкам, лисьим шкурам, выставленным напоказ, красовавшимся, разложенным на толстом, шириною во всю комнату ковре, который заглушал любой шум, подобно коврам из Смирны. Кое-какие из этих предметов в расчете на зиму были покрыты мягкими бархатистыми тканями, другие, предназначенные для лета, были обиты кожей или сафьяном; все они отличались изысканностью и удобством формы, неожиданными, хитроумными изгибами, были приспособлены для отдыха и послеобеденного сна и, казалось, охраняли находившийся в их окружении камин со стоявшими на нем подсвечниками и канделябрами, украшенный экраном и устроенный так, чтобы не терялось ни частицы его тепла. Эта комната, наиболее удаленная от улицы, выходила в сад, и ни шум проезжающей повозки или кареты, ни крики продавцов и лай собак не могли потревожить сон спящего.
Направляясь из спальни в гостиную и пройдя ее насквозь, вы бы наткнулись на огромную старинную лаковую ширму — ее родиной был даже не Китай, а Коромандель. Этой ширмой была прикрыта дверь, ведущая в третью комнату; в этой комнате, увешанной коврами, из всей мебели стояли только круглый столик и кресло, оба красного дерева, и того же красного дерева сервант, на мраморной подставке которого виднелись два ведерка из накладного серебра, предназначенные для охлаждения шампанского; однако все стены — разумеется, стены комнаты — были заставлены рядами застекленных шкафов: их содержимое служило достойным и драгоценным приложением к кухне.
У каждого из этих шкафов, в самом деле, было свое назначение.
В одном из них сверкало массивное столовое серебро, сервиз белого фарфора с зеленой каймой и с вензелем шевалье, красный и белый богемский хрусталь — изящество его форм и тонкость линий несомненно должны были улучшать букет вина, которое в нем подносили ко рту и мимо двух чувственных губ доставляли к нежным частям верхнего нёба.
Во втором шкафу возвышались пирамиды столового белья с шелковистыми переливами, свидетельствовавшими о его изысканности.
В третьем, как дисциплинированные солдаты на параде, неподвижно выстроились, встав по росту в две или три шеренги, крепкие и десертные вина, произведенные во Франции, Австрии, Германии, Италии, Сицилии, Испании, Греции и заключенные в свои национальные бутылки: одни коренастые с коротким горлышком, другие изящные и вытянутые, вот эти с этикеткой на пузатом животике, а те оплетенные соломой или тростником, — все пленительные, многообещающие, будоражащие одновременно и воображение и любопытство и окруженные с флангов, подобно тому как армейский корпус бывает окружен легковооруженными отрядами, ликерами-космополитами в стеклянных кирасах всех цветов и всех форм.
И наконец, в последнем, самом большом, цеплялись за стены, висели по углам, нежились на полках разнообразные съестные припасы: паштеты из Нерака, колбасы из Арля и Лиона, абрикосовый мармелад из Оверни, яблочное желе из Руана, конфитюры из Бара, сухие варенья из Ле-Мана, горшки с имбирем из Китая, пикули и разнообразнейшие английские соусы, стручковый перец, анчоусы, сардины, кайеннский перец, сушеные и засахаренные фрукты — все то, что милейший мудрец Дюфуйю определяет и обозначает двумя словами, полными выразительности и достойными того, чтобы быть запечатленными в памяти всех гурманов: оснастка застолья.
После этого осмотра дома, возможно излишне подробного, но тем не менее показавшегося нам необходимым, читатель без труда догадается, что шевалье де ла Гравери был человек, весьма милостиво относящийся к своей собственной особе и проявляющий огромную заботу об удовольствиях своего желудка; однако, чтобы ни одна из черт того наброска портрета шевалье, что мы делаем, не осталась в тени, мы добавим, что эта ярко выраженная склонность к чревоугодию противоречила другой мании достойного дворянина — воображать себя постоянно больным и каждые четверть часа щупать свой пульс; добавим также, что он был ревностным коллекционером роз; и вот, дойдя до этого места в нашем повествовании и чувствуя, что дальнейший наш рассказ будет невозможен не только если мы не сделаем здесь остановку, но прежде всего если мы не вернемся на сорок восемь — пятьдесят лет назад, мы просим у нашего читателя позволения поведать, каким образом бедный шевалье приобрел эти три слабости.
IV ГЛАВА, В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ТОМ, КАК И ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ РОДИЛСЯ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛА ГРАВЕРИ
Пусть никто особенно не удивляется этому возврату в прошлое, который, впрочем, читатель должен был предугадать, видя, что мы встретились с нашим героем в том его возрасте, когда обычно самые интересные приключения в жизни, то есть любовные, уже позади; при этом мы обязуемся не заходить дальше 1793 года.
В 1793 году господин барон де ла Гравери, отец шевалье, находился в тюрьме Безансона под двойным обвинением: в отсутствии гражданских чувств и в переписке с эмигрантами.
Барон де ла Гравери вполне мог бы в свою защиту сослаться на то, что, с его точки зрения, он повиновался всего лишь самым священным законам природы, посылая своему старшему сыну и своему брату, находящимся за границей, некоторые суммы; но бывают такие периоды, когда общественные законы стоят выше законов природы, и барон де ла Гравери даже и не подумал прибегнуть к этому оправданию. А его преступление было из числа тех, что в то время неизбежно приводили человека на эшафот.
Баронесса де ла Гравери, оставшись на свободе, предпринимала, несмотря на последние месяцы беременности, самые отчаянные шаги, чтобы устроить побег своего мужа.
Благодаря золоту, которое направо и налево расточала эта несчастная женщина, ее небольшой заговор продвигался довольно успешно. Сторож обещал ослепнуть, смотритель — передать заключенному напильник и веревки, с помощью которых тот мог перепилить решетку и спуститься на улицу, где его ждала г-жа де ла Гравери, чтобы покинуть вместе с ним Францию.
Побег был назначен на 14 мая.
Никогда ни для кого время не тянулось так медленно, как тянулось оно для бедной женщины накануне этого рокового дня. Каждое мгновение она смотрела на часы и проклинала их неторопливый ход. Временами у нее кровь приливала к сердцу и она вдруг начинала задыхаться; ей казалось, что она не переживет эту ночь и никогда не увидит столь желанного рассвета.
К четырем часам дня, не в силах более оставаться на месте, она решила, чтобы заглушить снедавшую ее тревогу, пойти к одному отказавшемуся принести присягу священнику, которого один из его друзей прятал у себя в подвале, и обратиться к нему с просьбой присоединить его молитвы к ее собственным, дабы Божье милосердие снизошло на несчастного узника.
Итак, г-жа де ла Гравери вышла из дома.
Пытаясь пересечь в людской давке одну из улочек, ведущую к рынку, она услышала доносившийся с площади глухой и неумолчный шум огромной массы людей. Тогда она попробовала вернуться назад, но это было уже невозможно: выход был перекрыт, толпа, продвигаясь вперед, увлекала ее с одним из своих потоков, и, подобно тому как река впадает в море, людской поток, захвативший ее с собой, выплеснулся на площадь.
Площадь была забита народом, и над всеми головами возвышался красный силуэт гильотины, на верху которой багрово сверкал в последних лучах заходящего солнца роковой нож, ужасный символ равенства, если не перед законом, то, по крайней мере, перед смертью.
Госпожа де ла Гравери вздрогнула всем телом, ей захотелось убежать.
Но это было еще более невозможно, чем раньше; новый поток людей заполнил площадь и вынес г-жу дела Гравери в самый центр. Немыслимо было разорвать эти сжатые ряды людей; попытаться это сделать — значило бы подвергнуться риску выдать себя, обнаружить в себе аристократку и поставить на карту не только собственную жизнь, но и жизнь мужа.
Ум г-жи де ла Гравери, вот уже несколько дней направленный к достижению одной-единственной цели — бегству барона, приобрел удивительную ясность.
Она предусмотрительно подумала обо всем.
Госпожа де ла Гравери безропотно покорилась неизбежности и сделала над собой усилие, чтобы стойко вынести, не слишком выдавая свой ужас, это отвратительное зрелище, которое должно было развернуться на ее глазах.
Она не прикрыла лицо руками (этот жест привлек бы к ней внимание соседей), а поступила иначе — закрыла глаза.
Ни с чем не сравнимый шум, подкатывавшийся все ближе и ближе, подобно тому как горит подожженный пороховой привод, объявил о том, что везут жертв.
Вскоре толпа заволновалась и пришла в движение: это проехала и встала на свое место повозка с осужденными.
Сдавленная, раскачиваемая толпой из стороны в сторону, порой повисая в воздухе, г-жа де ла Гравери до сих пор держалась очень стойко и не открывала глаз; но в эту минуту ей показалось, что какая-то неведомая, а главное, непреодолимая сила приподняла ее веки. Она открыла глаза и увидела в нескольких шагах от себя повозку, а в этой повозке — своего мужа!
При виде этого она рванулась вперед, закричав так страшно, что окружавшая ее толпа любопытных раздалась и пропустила эту обезумевшую, задыхающуюся женщину с блуждающим взором; она с силой, которую даже самой хрупкой женщине придает приступ горя, переходящего в полнейшее отчаяние, оттолкнула тех, кто еще продолжал стоять между нею и повозкой с осужденными, и, пробив, подобно пушечному ядру, в этой плотно сжатой массе проход, достигла повозки.
Ее первым порывом и первым движением было вскарабкаться на эту тележку и соединиться с мужем, но жандармы, оправившись от первоначального изумления, оттолкнули ее.
Тогда она уцепилась за боковую решетку повозки, и из уст ее понеслись безумные вопли; вдруг, внезапно остановившись, она без перехода начала умолять палачей своего мужа так, как никакая жертва сама никогда не умоляла их.
Это была такая жуткая сцена, что, несмотря на кровожадные инстинкты, неизбежно развившиеся у толпы от каждодневной обыденности таких чудовищных драм, немало свирепых санкюлотов и многие из тех омерзительных рыночных мегер, которых чрезвычайно метко окрестили лакомками гильотины, почувствовали, как у них по щекам потекли обильные слезы. И когда природа изнемогла под гнетом боли, когда г-жа де ла Гравери, чувствуя, что силы покидают ее, вынуждена была отпустить повозку и потеряла сознание, несчастное создание нашло вокруг себя сострадательные сердца, готовые прийти ей на помощь.
Ее отнесли домой и немедленно послали за врачом.
Но потрясение было слишком жестоким; бедная женщина умерла через несколько часов в припадке горячки, родив на два месяца раньше срока тщедушного и хилого, как тростинка, младенца; это был тот самый шевалье де ла Гравери, чью интереснейшую историю мы сегодня рассказываем.
Старшая сестра г-жи де ла Гравери, канонисса де Ботерн, взяла на себя заботу о маленьком бедном сироте: родившись семимесячным, он был таким слабеньким, что врач считал его обреченным.
Однако горе, причиненное трагической смертью сестры и зятя, пробудило у этой старой девы материнские инстинкты, которые Бог вкладывает в сердце каждой женщины, но которые безбрачие иссушает и очерствляет в сердцах старых дев.
Самым горячим желанием г-жи де Ботерн было соединиться с теми, кого она оплакивала, но прежде ей надо было достойно и благочестиво выполнить задачу, которая после их смерти выпала на ее долю. С упрямством, свойственным всем незамужним женщинам, она решила, что ребенок должен выжить, и, выказав бездну терпения и самоотречения, опровергла предсказание этого ученого человека, с большей уверенностью предсказывавшего смерть, нежели обещавшего жизнь.
Как только дороги стали свободными, она вместе со своим сокровищем — так г-жа де Ботерн называла Станисласа Дьёдонне де ла Гравери — отправилась в дорогу, решив укрыться в общине немецких канонисс, к которой принадлежала сама.
Но поспешим дать нашим читателям некоторые разъяснения. Следует сказать, что община канонисс — это не монастырь, а чуть ли не наоборот, собрание светских дам, объединенных скорее общими вкусами и склонностями, чем суровостью данного ими обета. Они покидают обитель, когда им этого хочется, принимают у себя кого пожелают; даже их платье носит следы легковесности данных ими зароков. А поскольку элегантность и даже кокетство, похоже, ставят под угрозу благочестие и добродетель лишь окружающих, к этим слабостям в ордене относились с терпимостью.
И именно в этом окружении, наполовину светском, наполовину религиозном, был воспитан маленький де ла Гравери. Он вырос среди этих добрых и приветливых дам.
Мрачные события, ознаменовавшие его рождение, вызвали необычайный интерес к его судьбе со стороны всей небольшой общины, и ни одного ребенка, будь он наследником принца, короля или императора, никогда так не ласкали, не холили и не баловали, как его. Добрейшие дамы соревновались друг с другом в своей любви к де ла Гравери, изо всех сил балуя его, и в этом соперничестве г-жа де Ботерн, несмотря на свою нежность к юному Дьёдонне, почти всегда оставалась позади других. Одна слеза ребенка вызывала мигрень у всех в общине; каждый его зуб там был причиной десяти бессонных ночей, и не будь строжайших санитарных кордонов, которые тетушка установила против разного рода сладостей, и безжалостного таможенного досмотра, которому она подвергала его карманы, юный де ла Гравери скончался бы в младенческом возрасте, закормленный сладостями и напичканный конфетами, подобно Вер-Веру, так что на этом наше повествование уже закончилось бы, или, точнее, так никогда бы и не началось.
Всеобщая любовь к ребенку и забота о нем были так велики, что в определенной степени повлияли на его воспитание и образование.
Так, когда однажды г-жа де Ботерн отважилась предложить всего-навсего, чтобы Дьёдонне отправился к иезуитам во Фрейбург и там завершил свое образование, это вызвало громкие крики возмущения у всех канонисс. Ее обвинили в черствости по отношению к бедному мальчику, и этот замысел встретил такое всеобщее порицание, что любезная тетушка, чье сердце желало только одного — скорее сдаться, — даже не попыталась ему противостоять.
В результате маленький человечек получил право изучать только то, что ему нравилось, или где-то близко к этому; а поскольку природа не наградила его чрезмерной склонностью к наукам, это привело к тому, что он остался круглым невеждой.
И было бы наивным надеяться, что милейшие и достойные женщины будут развивать его нравственные понятия с большей предусмотрительностью, чем они занимались его образованием; канониссы не только ничего не поведали ребенку о людях, среди которых ему суждено было жить, и обычаях, с которыми ему предстояло сталкиваться, но и вдобавок сверх меры развили у него той заботливостью, с какой они ограждали свою маленькую куколку от грубой действительности этого мира, от впечатлений и потрясений, способных задеть его нежную душу и заставить содрогаться сердце, нервическую возбудимость, уже предрасположенную к крайним проявлениям из-за волнений, отклики которых ребенок, подобно Якову I, испытал в утробе матери.
Так же поступили и с физическими упражнениями, составляющими воспитание дворянина: юному Дьёдонне не позволили взять ни одного урока верховой езды; дело дошло до того, что у ребенка никогда не было других верховых животных, кроме осла садовника; но даже когда он садился на этого осла, одна из его добрых нянюшек вела животное под уздцы, добровольно исполняя при юном де ла Гравери ту роль, что с таким отвращением играл Аман при Мардохее.
В городе, где располагалась религиозная община, был превосходный учитель фехтования, и одно время даже встал вопрос, не отдать ли юного Дьёдонне учиться фехтованию; но, помимо того, что это очень утомительное упражнение, кто бы мог поручиться, что шевалье де ла Гравери, с его милым характером, столь кротким и приветливым, пришлось бы когда-нибудь драться на дуэли! Надо было быть злобным и коварным чудовищем, чтобы желать ему зла, но, слава Богу, такие чудовища встречаются редко.
В ста шагах от монастыря протекала великолепная река; она несла свои спокойные воды, гладкие как зеркало, мимо разноцветных лугов маргариток и лютиков; студенты из расположенного поблизости университета каждый день совершали здесь такие геройские безумства, перед которыми бледнеют деяния шиллеровского ныряльщика. Можно было бы три раза в неделю отправлять юного Дьёдонне на реку и под руководством искусного учителя плавания сделать из него настоящего ловца жемчуга; но в реке били ключи, и их холодная вода могла бы пагубно отразиться на здоровье ребенка. Дьёдонне довольствовался тем, что два раза в неделю плескался в ванной своей тетки.
В результате Дьёдонне не умел ни плавать, ни фехтовать, ни ездить верхом.
Вы видите, что воспитание шевалье мало чем отличалось от воспитания Ахилла; но только если бы среди милых дам, окружавших шевалье де ла Гравери, появился бы новый Улисс, обнажающий меч, то, вполне возможно, вместо того чтобы броситься к мечу, как поступил сын Фетиды и Пелея, Дьёдонне, ослепленный солнечными бликами на лезвии меча, спасался бы в самом глубоком подвале общины.
Все это крайне плачевно сказалось на физическом развитии и нравственных устоях Дьёдонне.
Ему было шестнадцать лет, а он не мог видеть, как дрожат слезы на глазах другого человека, чтобы тут же не заплакать самому; смерть воробья или канарейки, принадлежащих ему, приводила его к нервным припадкам; он сочинял трогательные элегии по случаю кончины майского жука, нечаянно раздавленного; и все это проявлялось в нем к огромному удовольствию и общему одобрению канонисс, которые превозносили утонченную деликатность его сердца, не подозревая, что развитие столь непомерной чувствительности обязательно должно привести их идола к преждевременному концу или же придать эгоистическую окраску этим чрезмерно филантропическим чувствам.
Исходя из этих предпосылок, невозможно было даже предположить, что Дьёдонне мог бы получить от своих воспитательниц какие-либо наставления, касающиеся искусства нравиться, и уроки науки любви.
Но все обстояло совсем по-иному.
У г-жи фон Флорсхайм, одной из подруг г-жи де Ботерн, была племянница, которая, так же как и племянник последней, жила вместе с ней в обители.
Эту девочку, двумя годами младше Дьёдонне, звали Матильда.
Она была белокура, подобно всем немкам, и, как у всех немок, с самого младенчества ее большие голубые глаза источали сентиментальность.
Как только малыши научились самостоятельно держаться на ногах, добрым канониссам показалось забавным подтолкнуть их друг к другу.
И если Дьёдонне не научили или не отдали учиться верховой езде, фехтованию и плаванию, то ему преподали совсем другой урок.
Когда, набегавшись по монастырскому цветнику, одетый, как пастушок Ватто, в курточку и панталоны из небесно-голубого атласа, в белый жилет, шелковые чулки и туфли на красных каблуках, Дьёдонне возвращался с букетом незабудок или веточкой жимолости, его учили преподносить эту веточку жимолости или этот букет незабудок своей юной подруге, преклоняя перед ней колено, согласно обычаям старинного рыцарства.
В те дни, когда стояла плохая погода и нельзя было выходить, г-жа де Ботерн садилась за спинет и исполняла менуэт Экзоде, а Дьёдонне и Матильда, взявшись за руки, выступали вперед, подобно двум маленьким куклам на пружинах, и начиналось хореографическое представление, заставлявшее радостно сиять глаза и расцветать сердца добрейших канонисс. Дьёдонне был в наряде пастушка, а Матильда, разумеется, была одета пастушкой.
По окончании менуэта, когда Дьёдонне галантно целовал у своей партнерши маленькую ручку, белую и надушенную, наступала минута всеобщего ликования: милые дамы млели от восторга, заключали детей в свои объятия, прижимали к себе, и маленькие танцоры буквально задыхались под градом поцелуев.
Это не был больше Дьёдонне, и это не была больше Матильда: это были маленький муж и маленькая жена, и когда они углублялись под сень величественных деревьев парка, подобно двум влюбленным в миниатюре, то, вместо того чтобы предостеречь их: «Дети, не ходите туда, уединение опасно, и полумрака следует избегать», добрые канониссы, если бы это было им подвластно, превратили бы полумрак в сумерки и прогнали бы из парка всех малиновок и сверчков, чтобы ничто не нарушало уединения их любимцев.
Получилось так, что оба ребенка забросили игры, свойственные их возрасту, и предались напыщенной жеманной мечтательности, которая преждевременно будила их чувственность и растлевала их души.
Ведь какими бы невинными, какими бы ангельскими ни казались отношения влюбленной пары добрым феям, покровительствовавшим ей, дьявол, исподтишка следивший за детьми, дал себе слово не упустить здесь своего.
Но что вы хотите!
Для этих светских затворниц два бедных ребенка были то же, что полный сожаления взгляд, которым путешественник окидывает прекрасную радующую взор долину: он только что пересек ее, но должен покинуть ради лежащих впереди бесплодных и унылых песков. По правде говоря, если такая картина и давала на короткое время отдых этим бедным старым сердцам, измученным страданиями, если она и смягчала горечь воспоминаний и позволяла вновь на несколько мгновений увидеть в розовом свете утраченные иллюзии молодости, если она* и давала возможность на краткий миг забыть о зубах из слоновой кости и пепельных волосах, то возвращение к окружающей их действительности в конечном счете стоило им больше пролитых слез, чем улыбок; после мимолетных радостей, доставленных этим обманчивым видением, было еще тяжелее безропотно сносить удары судьбы, надежды становились призрачнее, а вера менее горячей, и немало вздохов, так и не вырвавшихся из сокрушенных сердец, примешивалось к молитвам, исходившим из страдающих душ.
И наконец, самое главное, степенные и важные дамы, совершенно не догадываясь об этом, надругались над самым что ни на есть светлым на этой земле — над детством.
V ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛА ГРАВЕРИ
Когда Матильде исполнилось пятнадцать, а Дьёдонне семнадцать, их взаимные восторги, казалось, странным образом остыли.
Дьёдонне перестал приносить со своих прогулок незабудки и жимолость, по окончании менуэта он больше не целовал у Матильды руку, но ограничивался простым поклоном. И, наконец, никто больше не видел, как они простодушно уединялись в тени парковых деревьев.
Однако внимательный наблюдатель мог бы заметить, как Матильда нежно подносила к губам увядшие букеты, появившиеся у нее неизвестно откуда, и поспешно прятала их обратно за корсаж.
Однако тот же самый наблюдатель мог бы заметить, что в то мгновение, когда Дьёдонне в танце предлагал Матильде свою руку, он становился бледным как мел, а Матильда вся заливалась краской, и нервная дрожь пробегала по их телам подобно электрическому току.
Наконец, все тот же наблюдатель, не видя их больше гуляющими вместе по аллее, по которой они когда-то вдвоем углублялись в парк, мог проследить взглядом, как один шел вправо, другая уходила влево, и приметить, что, войдя в лес с двух противоположных сторон, они встречались около прелестного маленького ручейка, и тихое журчание его служило восхитительным аккомпанементом пению соловья, свившему свое гнездо на его берегу.
В тот день, когда ему исполнилось восемнадцать, а Матильде соответственно шестнадцать, Дьёдонне вошел в комнату своей тети, трижды поклонился так, как она его научила на тот случай, если бы ему пришлось представляться великой герцогине Стефании Баденской или королеве Луизе Прусской, и торжественно спросил у г-жи де Ботерн, как скоро он сможет соединиться узами брака с мадемуазель Матильдой фон Флорсхайм.
Этот вопрос вызвал у канониссы одну из тех вспышек веселья, которые угрожали ее здоровью, поскольку они были настолько бурными и неистовыми, что почти всегда заканчивались приступами кашля. Через некоторое время, когда смех уже вызвал слезы на глазах канониссы, а кашель — кровавую мокроту, между тем как Дьёдонне, стоя в третьей позиции менуэта, серьезно ожидал ее ответа, она сказала, что ему незачем торопиться, что у восемнадцатилетнего юноши есть еще в запасе по крайней мере около четырех-пяти лет, и только после этого ему приходит пора заботиться о таких делах, а когда подойдет это время, мысли молодого человека на этот счет могут полностью измениться.
Дьёдонне, как и положено воспитанному племяннику, ничего на это не возразил и удалился, почтительно простившись с тетушкой; однако, хотя вечер прошел как обычно, без каких бы то ни было происшествий, горничная г-жи де Ботерн, поднявшись на следующее утро в комнату молодого человека, чтобы отнести ему, как всегда, чашку кофе со сливками, нашла комнату пустой, а кровать совершенно нетронутой.
Она в ужасе побежала объявить об этой невероятной новости своей госпоже.
В то мгновение, когда она в третий раз повторяла г-же де Ботерн эту фразу: «Сударыня, я вас уверяю, что господин шевалье не прилег даже и на минуту», объявили о приходе г-жи фон Флорсхайм.
Госпожа фон Флорсхайм, вся бледная и совершенно потерянная, пришла поведать г-же де Ботерн, что ее племянница Матильда исчезла этой ночью.
Преступление юной пары, о котором красноречиво говорили эти две нетронутые кровати, было столь явным, как будто все видели воочию, как их две головы покоятся на одной подушке.
Слух об этом двойном бегстве распространился в одно мгновение, и вся община была охвачена сильным волнением.
Естественно, что обе тетушки страдали больше всех; они молились и плакали.
Их подруги метали громы и молнии, не задумываясь о том, что пришло время собирать урожай, только и всего, и что они пожинали когда-то ими же посеянное.
Наконец одна из них высказала суждение, что слезы и мольбы делу не помогут и было бы лучше без промедления отправиться на поиски беглецов.
Это суждение показалось здравым и было одобрено.
Беглецы были слишком неискушенными, чтобы прибегать к изощренным уловкам и скрывать свои следы. И уже на следующий день посланцы, отправленные за ними в погоню, привезли молодых людей обратно в монастырь.
Две заблудшие овцы вернулись в его лоно.
Но история с побегом на этом не закончилась. Госпожа фон Флорсхайм потребовала такого исхода этой истории, который должным образом возместил бы ущерб, нанесенный чести ее дома в лице ее племянницы.
Госпожа де Ботерн категорически ей отказала.
Ей удалось сохранить во Франции значительное состояние, и потому она полагала, что для наследника всех этих богатств совсем недостаточно лишь чести породниться с одной из самых прославленных фамилий Баварии; она требовала, чтобы у невесты, помимо родовой чести, было еще и приданое, а поскольку у Флорсхаймов были превосходные причины отвергнуть это требование г-жи де Ботерн, пожилая дама настаивала на том, чтобы в отношении этого дела сохранялось status quo[2], а прошлое предали забвению и если и не забыли, то, по крайней мере, простили.
Она уверяла, что это была всего лишь не имевшая никаких последствий детская шалость, которую г-жа фон Флорсхайм поощряла вместе со всей общиной.
Госпожа де Ботерн клялась своей честью, что Дьёдонне слишком благочестив, слишком хорошо воспитан, а главное, слишком молод, чтобы это путешествие в Мюнхен наедине с юной подругой — а мы забыли сказать, что именно в Мюнхене нашли беглецов, — могло бы привести к неподобающим результатам.
Но через несколько месяцев, несмотря на то что Дьёдонне и Матильде после их возвращения в общину решительно запретили видеться друг с другом, г-жа де Ботерн получила ясное доказательство тому, что она слишком поторопилась поручиться за невиновность своего племянника.
Дело обстояло столь серьезно, что по настоянию г-жи фон Флорсхайм духовник г-жи де Ботерн счел необходимым вмешаться.
Поддавшись уговорам своего уважаемого духовного наставника, г-жа де Ботерн, стремясь лишний раз завоевать признательность обоих молодых людей, сделала вид, что она уступает исключительно их слезам и мольбам, и, к великой радости всей общины канонисс, брак узаконил эту любовь, на которую они смотрели как на дело своих рук.
Новую чету поселили в небольшом домике в окрестности обители, и под покровительством канонисс, следивших за молодоженами с ненасытностью, пытливой придирчивостью и ревностью приемных родителей, медовый месяц юных супругов грозил затянуться.
Смерть г-жи де Ботерн была первым облачком, омрачившим их счастье; добрая дама оставила тридцать тысяч ливров ренты своему племяннику, но, к чести последнего, ни это значительное наследство, ни постоянное спряжение глагола «любить», в котором он упражнялся ежеминутно, не помешали ему найти искренние и благочестивые слезы, чтобы оплакать память своей второй матери.
Хотя Дьёдонне уже минуло двадцать лет и он превратился в молодого человека, ему так ни разу и не довелось пережить на своем веку испытаний, которые лишили бы его мягкости и наивности, присущих ему в детстве.
Он сохранил свои порывы всеохватывающей нежности и безграничного сострадания; однако эти чувства приобрели легкий налет грусти и меланхолии, вероятно родившихся вместе с ним, и явились следствием событий, предшествовавших его появлению на свет.
Он представлял собой удивительную натуру: человек, у которого не было ни склонностей, ни желаний. Из катехизиса он узнал названия страстей; но, повзрослев, он забыл их; весь целиком во власти любви, поглощенный Матильдой, растворившийся в Матильде, он с восхитительной покорностью потакал маленьким прихотям своей супруги, обладавшей несколько более живым умом, чем он сам. В этой истории с бегством на долю Матильды пришлась половина, если не три четверти, замысла и исполнения. Впрочем, эти прихоти, исполнявшиеся немедленно, как только о них заявлялось, не выходили за те тесные рамки, в которых они жили, не причиняли никаких неудобств и потрясений, не доставляли никаких волнений, никак не омрачали их существование, достойное золотого века.
Ни разу в жизни шевалье де ла Гравери не бросил любопытного взгляда поверх тех стен, что окружали его земной рай; инстинктивно, не отдавая себе отчета почему, он боялся окружающего мира, тот внушал ему страх; звуки, доносившиеся снаружи, заставляли его вздрагивать, и он изо всех сил пытался не подпустить их к себе, днем затыкая уши, а ночью натягивая одеяло себе на голову.
Вот почему, уже весьма расстроенный смертью тетушки и не до конца оправившийся от горя, он был безмерно потрясен, когда ему пришло письмо со штемпелем Парижа, подписанное бароном де ла Гравери.
Дьёдонне слышал о существовании этого старшего брата лишь однажды по случаю своей женитьбы и знал о нем из рассказа тетки.
Мы уже сказали, что Дьёдонне затыкал уши, дабы не слышать происходившее вокруг него.
Судите сами, достаточно ли хорошо он это делал.
До него едва донесся отзвук от первого падения трона Наполеона, и он совершенно ничего не слышал о его втором падении.
Разгромленная французская армия отступала по всей территории Германии; немецкая, австрийская и русская армии преследовали ее; людской поток разбивался об угол монастырских стен, обтекая монастырь справа и слева, и под защитой такого каменного корабля Дьёдонне совершенно не чувствовал ударов этих живых волн.
Барон де ла Гравери сообщал своему младшему брату обо всем, что тому было неизвестно — а именно что Реставрация вернула во Францию принцев королевского дома Бурбонов, — и уведомлял его, что ему необходимо исполнить долг, связанный с его происхождением, и приехать в Париж, ведь в подобные минуты дворяне должны сплотиться вокруг трона.
Само собой разумеется, первым порывом Дьёдонне было отказаться; шевалье проклинал Людовика XI вовсе не за то, что тот приказал казнить Немура и Сен-Поля, не за то, что тот велел убить графа д’Арманьяка, и не за то, что тот внушал смертельный ужас своему отцу, бедному Карлу VII, и он предпочел умереть от голода из боязни быть отравленным, — шевалье проклинал его за то, что тот изобрел почту!
Мы уже говорили, что Дьёдонне был посредственно образован, и он путал езду на почтовых с легкой почтой, которая занимается доставкой писем; но, на самом деле, обе они восходят ко временам Людовика XI, и одна является следствием другой.
Он впал в сильнейшее отчаяние, и г-жа де ла Гравери, открывшая в эту минуту дверь, увидела его руки, воздетые к Небу, и услышала, как он тихо пробормотал фразу:
— И почему только я не родился на острове Робинзона Крузо!
Она тут же поняла, что в жизни ее мужа должно было случиться нечто весьма ужасное, если он отважился на подобный жест и позволил себе произнести подобное пожелание.
Поэтому она незамедлительно справилась у шевалье, что за событие послужило причиной столь красноречивого жеста и этой мизантропической шутки, вырвавшихся у него.
Дьёдонне передал ей письмо с тем же видом, с которым Манлий — Тальма вручал письмо, раскрывавшее его измену, Сервилию — Дамасу.
Госпожа де ла Гравери, прочтя письмо, похоже, нисколько не разделяла огорчения своего мужа по поводу этой поездки и его опасений в отношении светской жизни. Воспитанная в стенах монастыря с его строгими правилами, Матильда наслушалась рассказов этих старых сплетниц — все они принадлежали к аристократическим родам — не только о французском королевском дворе, до 1789 года разумеется, но и о других европейских дворах как о местах, где царит подлинное наслаждение, и, повинуясь инстинкту врожденного кокетства, страстно желала блистать там.
Она отыскала двадцать причин, — при этом ни разу не признавшись в том, что сама мечтает об этом, — она отыскала двадцать причин, чтобы доказать своему мужу, что он должен подчиниться предписаниям главы семьи; но так много вовсе и не требовалось для человека, привыкшего повиноваться словам Матильды, подобно тому, как жители Аргоса повиновались Дельфийскому оракулу.
Итак, молодая чета решила покинуть прелестное гнездышко, где расцвела их любовь, и уехать во Францию в июле 1814 года.
После первой же почтовой станции начались нравственные мучения шевалье де ла Гравери.
Целиком отдавшись движению кареты, уносившей их обоих, чувствуя радость, что наконец-то она может насладиться видом новых мест и новых предметов, Матильда отвлеклась и стала уже не так старательно исполнять свою партию в дуэте элегической нежной влюбленности, который Дьёдонне пел с утра до вечера.
Дьёдонне быстро заметил это, и его крайне впечатлительная душа ощутила болезненный укол.
Поэтому он был в довольно печальном расположении духа, когда прибыл в Париж, и, найдя адрес барона внизу злополучного письма, послужившего причиной всего этого беспокойства, предстал перед своим старшим братом, подлинным аристократом, обосновавшимся в предместье Сен-Жермен, на улице Варенн, № 4.
Барон де ла Гравери был приблизительно на девятнадцать лет старше своего брата.
Он родился во времена монархии, в тот самый год, когда на трон вступил Людовик XVI.
В 1784 году он предоставил доказательства, что его род берет свое начало не позднее 1399 года, и в качестве пажа при королевских конюшнях был взят ко двору.
В 1789 году после взятия Бастилии он эмигрировал вместе со своим дядей.
Вследствие этого барон никогда не видел своего брата, а потому и не питал к нему особо нежных чувств.
К этому отсутствию нежности примешивалось живейшее чувство ревности, так как, увы! — и это будет видно из дальнейшего повествования — барон де ла Гравери не был безупречным человеком.
Вернувшись из эмиграции без малейшего состояния, избегнув тысячи опасностей, которым подвергалась его жизнь, он никак не мог простить своему младшему брату, что тот целиком унаследовал состояние канониссы де Ботерн, состояние, на которое, по его мнению, у него, как у старшего в роду, было больше прав, чем у младшего брата.
Как его брат получил это состояние? Ухаживая в стенах монастыря за двадцатью престарелыми дамами.
Если бы этот младший брат стал мальтийским рыцарем, как повелевал ему долг (а именно в этом усматривал его барон), тогда, возможно, старший брат и простил бы ему то, что он называл похищением наследства.
Но Дьёдонне, напротив, вступил в брак, и барон расцени вал как верх неприличия то, что младший брат, а значит, существо, которое в его глазах принадлежало к среднему роду, помыслил жениться, лишив таким образом будущих сыновей старшего брата того состояния, которое, будучи отобранным у их отца, должно было бы, по крайней мере, быть возвращено его детям.
Так что во время первого же свидания барон изложил шевалье свои мысли и чувства по этому поводу и с восхитительной самоуверенностью добавил, что Провидение, не позволившее г-же де ла Гравери благополучно доходить ее первую беременность, и дальше откажет — по крайней мере, он питает подобную надежду — в каком-либо потомстве этой поистине контрабандной чете, и сделает так, что рано или поздно наследство канониссы вернется к старшей ветви рода, ведь оно принадлежит ей по праву.
Это вступление вывело из себя г-жу де ла Гравери, сопровождавшую супруга к барону, и вызвало две крупные слезы на глазах Дьёдонне.
Мечтая стать прекрасным отцом, он оплакивал свое потомство, по приговору барона не имевшее права появиться на свет.
Он переводил взор то на жену, то на брата, и, казалось, спрашивал у того, как он может ставить ему в упрек его Матильду, такую милую, такую добрую, такую любящую.
Достоинства, которыми обладала молодая женщина и которые его любовь удваивала, утраивала, учетверяла, разве не служили достаточным оправданием? Или, подобно Альцесту, барон поклялся вечно ненавидеть женщин?
Но, обратившись мыслями к себе самому, подумав, что в самом деле он, остававшийся во Франции, не подвергавшийся никаким превратностям войны и никаким лишениям жизни в эмиграции, был теперь богат, в то время как его брат вернулся из изгнания лишь со шпагой на боку и эполетами на плечах; рассудив так, он испытал некоторые сомнения и спросил себя, не поступил ли он дурно, приняв наследство тетушки де Ботерн.
Тогда, даже не потрудившись все хорошенько обдумать, не останавливаясь перед знаками протеста, которые подавала ему кроткая Матильда, не желавшая следовать примеру святого Мартина и довольствоваться половиной плаща, попросив прощения у старшего брата за допущенную ошибку, последствия которой он только что осознал, Дьёдонне в тот же миг потребовал, чтобы барон взял себе половину состояния канониссы, и пожелал в тот же день подписать дарственную.
Барон согласился, не заставив себя долго упрашивать.
VI КАК ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛА ГРАВЕРИ СЛУЖИЛ В СЕРЫХ МУШКЕТЕРАХ
Каким бы бесчувственным и окаменевшим ни было сердце барона, его, казалось, тронула деликатность брата, и после того как дарственная бумага, составленная нотариусом барона, была подписана шевалье и парафирована им внизу каждой страницы и после каждого примечания, барон открыл ему свои объятия с душевным порывом, почти заставившим его забыть о своем достоинстве главы рода; шевалье бросился ему на грудь, разразившись слезами и конечно же испытывая за это простое проявление братской привязанности гораздо большую признательность, нежели барон испытывал к нему за полученные пятнадцать тысяч ренты, которые вместе с тем, чем он уже владел, составили в точности пятнадцать тысяч франков дохода.
Со своей стороны после взаимных поцелуев и объятий барон объявил, что в дальнейшем он будет воспринимать Дьёдонне и любить его как собственного сына и приложит все свои силы и употребит все свое влияние, чтобы устроить брату карьеру при дворе.
Желая дать ему в том неопровержимое доказательство, барон испросил для него патент на вступление в полк серых мушкетеров и, полагая приготовить чудесный сюрприз, ни слова не сказал ему о своих хлопотах.
И вот однажды вечером, садясь за стол, Дьёдонне нашел у себя под салфеткой патент, подписанный Людовиком и гласивший, что шевалье де ла Гравери удостаивается чести быть принятым в этот привилегированный полк.
И в самом деле это была огромная честь: отпрыски лучших фамилий Франции оспаривали право принадлежать к полку, называвшемуся в ту пору красной свитой.
Ведь черные мушкетеры, так же как и серые, были одеты в красное, и различие между ними было обусловлено мастью их лошадей, а не цветом их плащей; кроме того, каждый мушкетер имел чин лейтенанта.
Но как бы ни была велика оказанная честь, мы должны признать, что со времени получения письма, заставившего шевалье покинуть милые его сердцу услады уединенной жизни среди природы, г-н де ла Гравери ни разу не испытывал более ужасного удара, чем тот, что он испытал при виде этой грамоты.
У него закружилась голова, и он почувствовал, что вот-вот упадет в обморок; холодный пот покрыл все его тело.
С энергией, которую никто не вправе был ожидать от этого покладистого и добродушного человека, он отклонил эту честь, выдвинув в свое оправдание множество причин, и самой серьезной из них была, бесспорно, та, что в противоположность д’Артаньяну, своему знаменитому предшественнику, он не испытывал никакого влечения к мушкетерскому плащу.
Барон де ла Гравери узнал об этом отказе из письма, которое шевалье написал ab irato[3].
Барон пришел в неописуемую ярость; отказ шевалье его серьезно компрометировал: он использовал все свое влияние, чтобы добиться от короля драгоценной подписи. И если бы один из де л а Гравери объявил, что неспособен нести какую бы то ни было воинскую службу, то именно барон стал бы посмешищем всего двора.
Поэтому барон ответил брату так: хочет он того или нет, но ему придется надеть плащ мушкетера, и сообщил королю, что шевалье весьма признателен за оказанную милость, но, не в силах найти слова, чтобы выразить свою благодарность, поручил ему, барону, высказать его величеству всю свою признательность.
Для бедняги Дьёдонне уже не было обратного пути: барон дал ответ и поблагодарил от его имени.
Дьёдонне питал глубокое уважение к семейной иерархии: он испытывал нечто большее, чем любовь, к своему брату, который взял на себя все жизненные огорчения и невзгоды, оставив ему самому лишь одни удовольствия и наслаждения, и, несмотря на отказ от половины своего наследства (о чем он не пожалел ни на секунду, поспешим это отметить), шевалье все же порой продолжал спрашивать себя, не виноват ли он перед своим старшим братом, удерживая вторую половину.
Упреки в неблагодарности, которые барон лично приехал высказать шевалье, — поскольку, когда ему выпадала редкая возможность обратиться к брату с упреками, барон доставлял себе удовольствие сделать это лично, — так сильно задели Дьёдонне, что, не зная, как ответить на них, он не мог вымолвить ни одного слова.
Госпожа де ла Гравери лишь одними глазами попросила своего деверя пощадить ее бедного мужа, от чьего имени она, казалось, давала согласие.
В самом деле Матильда, еще не успевшая, вращаясь во французском обществе, растерять свои немецкие иллюзии, видела в Дьёдонне Антиноя девятнадцатого века и не сомневалась, что форма, тем более такая красивая, как у мушкетеров, лишь подчеркнет достоинства, которые она в нем предполагала; поэтому из супружеского кокетства она решила принять сторону деверя и поддержать его план.
Впрочем, этот план больше не нуждался ни в чьей поддержке, потому что барон уже дал ответ и выразил королю признательность от имени шевалье.
Дьёдонне отныне, хотел он того или нет, стал самым что ни на есть подлинным серым мушкетером с головы до пят и состоял в подчинении у герцога Рагузского, командующего военной свитой короля, мушкетерами и телохранителями.
Так оно все и было: неделю спустя несчастный шевалье надел на себя форму, сделав это с покорностью и смирением пуделя, которого облачили в току и тунику трубадура, чтобы заставить его плясать на натянутой веревке.
Форма была великолепна, особенно парадная.
Красный мундир, панталоны из белого кашемира, сапоги выше колен, каска с колышущимся султаном, кираса с блестящим позолоченным крестом.
Но бедняге Дьёдонне было совсем не по себе в этом блестящем одеянии.
Он не мнил о себе лучше, чем был на самом деле, и поэтому чувствовал себя неловким и смешным в ратных доспехах.
В самом деле, невысокого роста, полный, с красным лицом, лишенным всякой растительности, как у каноника ордена Святой Женевьевы, шевалье выглядел бы прехорошеньким в стихаре мальчика-певчего; обрядившись же в форму, он производил до ужаса нелепое впечатление.
Однако в одежде штатского шевалье был не более уродлив, чем позволяет себе быть большинство мужчин, и фраза, принятая в обиходе, чтобы сгладить недостаток грации и изящества, характерный для некоторых мужских особей: «Он не хорош собой и не дурен» — могла бы с таким же успехом относиться и к шевалье, и мы бы даже сказали, что с большим правом, чем ко всем остальным.
Но форма, придавая претензию этой скромной внешности, подчеркивала все ее недостатки.
Если он шел пешком, то складывалось такое впечатление, что сапоги вырастали прямо из живота шевалье, словно палка бильбоке, исходящая из его шара. Поэтому из-за коротких и пухлых ручек шевалье одни сравнивали его с морской птицей, которая, лишившись этих столь полезных конечностей, была окрещена «безрукой», то есть с пингвином; другие, увидев, как он проходит мимо, спрашивали у первого встречного: «Сударь, прошу вас, не могли бы вы мне сказать имя этого плюмажа, который там прогуливается?»
Но это было еще не самое худшее.
Чтобы иметь представление о том ужасе, который может пережить человек и не умереть от него, надо было видеть шевалье де ла Гравери верхом на лошади.
В десятилетнем возрасте, когда маленький шевалье забирался на верх лестницы, он звал свою тетку, канониссу де Ботерн, чтобы та подала ему руку и помогла спуститься.
В пятнадцать лет, когда порой он залезал на спину ослу садовника, одна из его благородных покровительниц неизменно стояла у головы осла, а другая рядом с его противоположной частью, чтобы, если ослу взбредет в голову закусить удила, одна могла бы схватить его за поводья, а другая удержать за хвост.
И как бы усердно шевалье ни посещал уроки верховой езды, как бы терпеливо он ни изучал теорию, ему не удавалось сгибать свои круглые и одновременно потерявшие всякую гибкость конечности в такт движению лошади.
Лошадь нашего героя, выбранная его братом, хотя шевалье и просил его найти самую смирную, была тем не менее безупречным конем, годным как для скачки, так и для сражения, полным жизни и огня.
Шевалье просил, чтобы лошадь была как можно ниже; но рост животных, принадлежавших офицерам из свиты короля — мушкетерам, гвардейцам или легким конникам, — должен был соответствовать строго определенной мерке, и ни одна лошадь, чей рост был меньше требуемого, не могла быть ими использована.
У шевалье кружилась голова, когда он смотрел сверху вниз с неподвижной площадки, поэтому он испытывал особое, непередаваемое головокружение, когда сидел в седле на горячем и резвом коне.
Взгромоздившись на Баярда — таково было имя, которым барон счел уместным наградить лошадь своего брата в память о коне четырех сыновей Эмона, — почти с той же устойчивостью и с тем же изяществом, с каким мешок с мукой громоздится на спине у мула, шевалье большую часть времени удерживался в седле лишь благодаря какому-то чуду равновесия, а в особо сложных обстоятельствах — благодаря доброжелательной поддержке своих товарищей справа и слева.
При внезапной команде «Стой!» шевалье спасал лишь его солидный вес, а иначе он уже раз двадцать нарушил бы строй, перелетев через голову своего коня.
К счастью для Дьёдонне, мягкость, любезность, скромность и предупредительность его тронули сердца товарищей, и они постыдились сделать посмешищем это совершенно безобидное существо, хотя, если бы он обладал малейшей каплей самодовольства, ничто, благодаря оказываемой ему помощи, не помешало бы ему считать себя самым блестящим наездником эскадрона.
Но все было совсем иначе, и Дьёдонне так скверно чувствовал себя под прекрасным вышитым крестом, который он носил на своей форме, что решительно отказался бы от мушкетерского плаща, если бы не опасался причинить этим огорчение своей супруге и рассориться со старшим братом.
Кроме того, было нечто, что внушало ему особенный ужас: рано или поздно наступит его очередь состоять в эскорте короля. В этом случае мушкетеры уже не соблюдали строя; они галопировали у дверцы кареты, и каждый был предоставлен самому себе. А королевские выезды происходили с регулярностью, приводившей шевалье в отчаяние: король Людовик XVIII был человеком чрезвычайно постоянным в своих привычках.
Его распорядок изо дня в день оставался неизменным, и это сильно упростило бы задачу современного Данжо, если бы у Людовика XVIII, так же как у его прославленного предшественника и предка, Людовика XIV, был свой Данжо.
И этого распорядка король придерживался ежедневно со дня своего возвращения в Париж 3 мая 1814 года до 25 декабря 1824 года, дня его смерти; пусть мне простят, если я ошибусь на день или два, ведь у меня нет под рукой «Искусства выверять даты».
Он вставал в семь часов утра, в восемь принимал первого дворянина королевских покоев или г-на Блакаса; на девять у него были назначены деловые встречи; в десять часов он завтракал со своей дежурной свитой и теми лицами, кому раз и навсегда было даровано позволение завтракать за королевским столом, то есть титулованными сановниками и капитанами свиты короля; завтрак первоначально длился не более двадцати пяти минут, но затем стал продолжаться три четверти часа, и на нем всегда присутствовала герцогиня Ангулемская с одной или двумя своими фрейлинами; после него все переходили в кабинет короля, где завязывалась беседа; без пяти минут одиннадцать (никогда ни минутой раньше) герцогиня удалялась, и тогда король, чтобы позабавить своих слушателей, рассказывал несколько непристойных историй, ожидавших своего часа; в десять минут двенадцатого, не позднее, он отпускал всех присутствующих; почти сразу после этого и до полудня наступало время аудиенций, даваемых частным лицам; в полдень король шел слушать мессу в сопровождении свиты, часто насчитывающей более двадцати человек и никогда — менее этого числа; возвратившись, он принимал министров или созывал свой совет, это случалось раз в неделю; после совета он час или два посвящал письму и чтению или набрасывал планы домов, а затем бросал их в огонь; в три или четыре часа — в зависимости от времени года — он выезжал на прогулку и делал четыре, пять, а то и все десять льё по улицам города в громадной берлине с несущейся во весь опор упряжкой лошадей. Без десяти шесть он возвращался в Тюильри; в шесть ужинал в кругу семьи, ел много, но был разборчив в выборе блюд, законным образом претендуя на звание гурмана; королевская семья проводила вместе время до восьми вечера; в восемь все, кто имел право входить к королю, предварительно не испрашивая аудиенции, могли просить о том, чтобы их допустили к королю, и бывали им приняты. В девять вечера его величество выходил и следовал в зал совета, где назначал дворцовый пароль; некоторые лица обладали привилегией присутствовать там в это время и пользовались ею, чтобы предстать перед королем; церемония утверждения пароля длилась двадцать минут; после этого король удалялся в свою комнату и либо составлял комментарии к Горацию, либо читал Вергилия или Расина; в одиннадцать он ложился спать.
Позже, когда г-жа дю Кэла и г-н Деказ стали пользоваться милостью короля, первая приезжала в среду после совета и проводила наедине с королем два или три часа, при этом никто не смел их тревожить и входить к ним.
Что касается г-на Деказа, то его очередь наступала вечером: он входил в комнату короля одновременно с его величеством, оставался с ним наедине и выходил от него лишь за четверть часа до того, как король ложился в постель.
Среди всей этой длинной череды мелких обязанностей, которые король возложил на себя и которые он выполнял со скрупулезной точностью, г-на де ла Гравери-младшего волновал лишь один-единственный ритуал.
Он заключался в следующем: ежедневно, вне зависимости оттого, хорошая или плохая стояла погода, его величество выезжал на прогулку и оставался вне стен дворца с трех часов дня до пяти часов сорока пяти минут вечера.
В этих прогулках короля каждый раз сопровождал эскорт из его свиты, и мушкетеров назначали в этот эскорт так же, как и других.
Но поскольку королевская свита была многочисленна, то на долю каждого эта обязанность выпадала только раз в месяц.
Случай распорядился так, что шевалье пришлось двадцать пять дней ждать, пока наступит его очередь.
Наконец она подошла.
Это был ужасный день! Матильда и барон были в восторге: они надеялись: один, что его брат, другая, что ее муж будет замечен королем.
При малейшем проблеске туманность могла стать звездой.
Увы! Злополучная будущая звезда была скрыта за кошмарной тучей — тучей страха.
Так же как наступил этот день, настал и час, когда конвой верхом на лошадях ожидал во дворе.
Король спустился, и, как обычно, едва он сел в карету, лошади понеслись вскачь.
Если бы кто-нибудь взглянул в эту минуту на шевалье де ла Гравери и увидел, каким мертвенно-бледным тот стал, то пожалел бы бедного шевалье.
Он совершенно не в силах был справиться со своей лошадью; к счастью, благородное животное было столь же хорошо выдрессировано, сколь плохо был обучен его хозяин: лошадь управляла всадником.
Умное животное, казалось, все понимало, оно само встало в строй и больше не покидало свое место.
Нет смысла даже и заикаться о том, что можно было бы ухватиться за луку седла: в одной руке шевалье были поводья, в другой — сабля.
Воображение шевалье уже рисовало ему картину того, как он, падая, натыкается на свое собственное оружие, и оно пронзает его; это причиняло ему такую тревогу, что его тело само собой непроизвольно отдалялось от сабли, а его рука — от тела.
В этот день прогулка была длинной: король обогнул половину Парижа; выехав через заставу Звезды, он вернулся через заставу Трона.
И хороший наездник после такого чувствовал бы себя разбитым; шевалье де ла Гравери был раздавлен до такой степени, как будто его сняли с колеса.
Хотя на дворе был январь, пот градом лился у него со лба, а рубашка насквозь промокла, словно он купался в Сене.
Шевалье бросил лошадь на попечение своего слуги и, отказавшись от традиционного ужина во дворце со своими товарищами, вскочил в фиакр и через несколько секунд был уже на Университетской улице, № 10.
Каким бы коротким ни было это расстояние, он не чувствовал в себе достаточно мужества и сил, чтобы преодолеть его пешком.
При виде Дьёдонне у Матильды вырвался крик: он, казалось, состарился сразу на десять лет.
Шевалье положил в свою постель грелку с сахаром, лег, три дня не вставал и потом в течение двух недель жаловался на боль во всем теле.
Увы! Как далека от него сейчас была безмятежная, полная покоя жизнь в маленьком баварском домике, с ее долгими свиданиями наедине с Матильдой, беседами, перемежающимися ласками, сладостными прогулками в сумерках по опушке леса и по берегу речки, прогулками, во время которых молчание обоих супругов так же красноречиво говорило об их влюбленности, как и самые нежные слова и ласки, настолько полным было слияние их душ. Где оно, время, проведенное в эгоистическом уединении; где очарование тех часов, что они провели вдвоем у камина, мечтая о тихой совместной старости, как у Филимона и Бавкиды?
Но хуже всего было то — а история с болями в пояснице еще больше подвигала ее в этом убеждении, — хуже всего было то, что г-жа де ла Гравери, сравнивая, была вынуждена признать, что ее шевалье не настолько уж и превосходил других мужчин, как она это предполагала до сих пор.
Миг, когда женщина начинает подозревать, что Создатель вполне мог бы и не отдыхать после того, как сотворил специально для нее объект, которому она до сих пор поклонялась как идолу, этот миг бывает роковым для любой любви и означает ужасное испытание для супружеской верности.
Муж, перешедший в разряд официальной валюты, с этого момента имеет лишь искусственно завышенную котировку.
Мы вовсе не хотим сказать, что в тот день, когда Матильда сделала это роковое открытие, она перестала любить своего мужа; совсем наоборот, та заботливость, с которой она ухаживала за ним дома, во время его недомогания, вызванного этим несчастным и злополучным назначением в эскорт короля, не шла ни в какое сравнение с тем вниманием, которым она окружала его на людях; некоторые ханжи даже полагали неприличной нежность молодой немки, открыто выказываемую ею г-ну де ла Гравери; но мы должны признать, чтобы ни на шаг не отступать от истины, что, оставаясь наедине с шевалье, Матильда открывала рот лишь тогда, когда ее одолевала зевота, и что ее обязанности светской женщины стали странным образом день ото дня увеличиваться.
Не стоит говорить, что шевалье де ла Гравери не заметил ничего внушающего подозрение, будто он уже не самый счастливый муж на свете; после женитьбы его продолжали так же баловать, как и в детстве, поэтому мало-помалу он стал относиться к чрезмерным заботам, расточаемым ему Матильдой, как к чему-то совершенно естественному и само собой разумеющемуся и полагал это самым малым и самым лучшим из того, что она могла бы делать.
Господин де ла Гравери был бы безусловно счастливейшим из мужей, если бы одновременно с тем, как он стал мужем, ему не выпал бы этот злополучный жребий вступить в ряды серых мушкетеров.
А этот ужасный черед быть назначенным в эскорт короля, неотвратимо наступавший каждый месяц и, подобно дамоклову мечу, висевший у него над головой, особенно отравлял самые сладостные его минуты!
VII ГЛАВА, В КОТОРОЙ СЛУЧИЛОСЬ СОБЫТИЕ, НАТРИ МЕСЯЦА ОСВОБОДИВШЕЕ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛА ГРАВЕРИ ОТ СЛУЖБЫ В ЭСКОРТЕ КОРОЛЯ
Вслед за январем прошел февраль; и вновь наступила очередь шевалье быть назначенным в эскорт короля. Начались те же самые тревоги, но только на этот раз они имели под собой гораздо более веские основания. Почувствовав, что поводья натянуты слабой рукой, лошадь мушкетера понесла, г-н де ла Гравери вылетел из седла, перелетел через холку коня, покатился по мостовой и вывихнул себе плечо. Когда его принесли домой, он был почти счастлив, что так легко отделался.
О случившемся с шевалье стало широко известно. Все высокопоставленные придворные либо послали ему свои карточки, либо явились к нему лично.
Король трижды справлялся о нем.
Барон был вне себя от радости.
— Постарайся умело воспользоваться случаем, — говорил он ему, — и твоя карьера сделана.
Шевалье был бы не прочь воспользоваться случаем, но при условии, чтобы ему ради этого не пришлось бы вновь сесть на лошадь.
Поэтому, хотя в домашней обстановке он и снимал свою руку с перевязи; хотя, оставаясь один, он и показывал перед зеркалом кулак незнакомцу, который вполне мог быть бароном; хотя, когда речь шла о том, чтобы обнять и прижать к груди жену, его поврежденная рука была столь же сильной, как и другая, — перед посетителями, приходившими справиться о его здоровье, перед офицерами из свиты короля, наносившими ему визит, он притворялся, что его мучают непрекращающиеся боли, и корчил дьявольские гримасы при каждом вольном или невольном движении рукой.
Он надеялся, что подобным образом ему удастся хоть единожды избежать очередного назначения в эскорт короля.
В итоге он не только нигде не показывался, но даже и не выходил из своей комнаты, а с постели вставал лишь для того, чтобы уютно расположиться в огромном глубоком кресле и вновь обрести это блаженство бесед вдвоем, которое он считал навеки утраченным.
И действительно, в то время как шевалье читал газеты, в частности «Монитёр» (это было его излюбленное чтение: в благодушном спокойствии этой газеты он находил некое соответствие своему характеру), Матильда, сидя рядом с ним, что-нибудь вышивала, зевая с риском вывихнуть себе челюсть, при этом она всякий раз скрывала от мужа это неприглядное действие, поднося свою работу к лицу и прикрывая открытый рот полотном.
Утром 7 марта, когда Матильда трудилась над своей вышивкой, а шевалье, удобно устроившись в кресле, читал «Монитёр», он увидел на его страницах следующее воззвание:
«ВОЗЗВАНИЕ
Мы приостановили 31 декабря прошлого года действие Палат, с тем чтобы они возобновили свои заседания 1 мая; все это время мы не покладая рук занимались деятельностью, призванной обеспечить общественное спокойствие и счастье наших подданных…»
— Да, это правильно, — прошептал шевалье, — и со своей стороны мне не в чем упрекнуть короля, кроме одного: его ежедневных выездов и его пристрастия к эскортам.
Затем он возобновил чтение:
«Это спокойствие нарушено; это счастье может быть поставлено под угрозу вследствие злого умысла и предательства…»
— О-о! — воскликнул шевалье. — Ты слышишь, Матильда?
— Да, — ответила Матильда, подавляя зевоту, — я слышу: «вследствие злого умысла и предательства», — но только я не понимаю.
— И я тоже, — заметил шевалье, — но сейчас все станет ясно.
И он продолжал читать:
«Если враги нашей родины возлагают свои надежды на разногласия; которые они всегда старались разжигать, то те, кто является ее опорой, ее законные защитники, опрокинут эту преступную надежду благодаря неоспоримой силе нерушимого объединения…»
— Безусловно, — сказал шевалье, — они опрокинут эту преступную надежду, и я первый стану в их ряды, если только моей руке станет лучше.
Затем он повернулся к Матильде:
— Какой великолепный слог у правительства! Не правда ли, дорогая?
— Да, — ответила Матильда, не раскрывая рта, ибо боялась, что если она его раскроет, то уже не совладает со своей челюстью.
— «Монитёр» сегодня довольно занимателен, — заметил шевалье.
И он продолжал читать:
«В связи с этим, выслушав доклад нашего любезного и верного канцлера Франции, сьёра Данбре, командора наших орденов, мы приказали и приказываем следующее…»
— А! — сказал шевалье. — Посмотрим, что приказывает король.
«Статья 1. Палата пэров и Палата депутатов от департаментов созываются в обычном месте проведения их заседаний.
Статья 2. Пэры и депутаты, отсутствующие в Париже, обязаны вернуться в него немедленно после ознакомления с настоящим воззванием.
Дано во дворце Тюильри 6 марта 1815 года, в двадцатое лето нашего царствования.
Подписано: Людовик».
— Вот странно, — сказал шевалье, — король созывает Палаты и не объясняет, почему он их созывает.
— Дьёдонне, ты все время обещал сводить меня ради развлечения на заседание, — сказала Матильда, зевнув так, что чуть не сломала себе челюсть в предвкушении удовольствия, которое она там получит.
— Ах! Подожди, пожалуйста! — воскликнул шевалье. — «Ордонанс»! Здесь есть какой-то ордонанс; возможно, этот ордонанс нам все сейчас объяснит.
И он прочел:
«ОРДОНАНС
На основании доклада нашего любезного и верного канцлера Франции, сьёра Данбре, командора наших орденов, мы приказали и приказываем, заявили и заявляем следующее:
Статья 1. Наполеон Бонапарт объявляется предателем и бунтовщиком за вооруженное вторжение в департамент Вар».
— Та-та-та, — произнес шевалье, — что здесь такое пишет «Монитёр»? Ты слышала, Матильда?
— «Предателем и бунтовщиком за вооруженное вторжение в департамент Вар». Но кто это предатель и бунтовщик?
— Наполеон Бонапарт, черт возьми! Но разве же они его не упрятали на какой-то остров?
— Да, действительно, — подхватила Матильда. — На остров Эльбу.
— Ну вот, значит, он не мог вторгнуться в департамент Вар, если, по меньшей мере, там нет моста, соединяющего остров Эльбу с вышеназванным департаментом. Ну что же, посмотрим, что там дальше.
«На основании этого предписывается всем наместникам, командующим вооруженными силами, национальной гвардии, гражданским властям и даже простым гражданам подвергнуть его преследованию…»
— Надеюсь, что ты будешь вести себя смирно, — промолвила Матильда, — и не станешь развлекаться, преследуя его?
— Постой! Постой! Это еще не все.
И шевалье возобновил чтение:
«…подвергнуть его преследованию, арестовать и немедленно передать в распоряжение военного трибунала, который, удостоверив его личность, наложит на него наказание, предписываемое законом».
Но в эту минуту шевалье пришлось прервать свое чтение, так как послышался стук открывающейся двери, которая вела в его спальню, и раздался голос слуги, докладывающего о приходе брата шевалье, барона де ла Гравери.
Барон был экипирован и вооружен, будто г-н Мальбрук, собравшийся на войну.
Шевалье побледнел, когда барон предстал перед ним в столь грозном виде.
— Ну, — сказал барон, — ты знаешь, что происходит?
— В общих чертах.
— Корсиканский людоед покинул свой остров и высадился в заливе Жуан.
— В заливе Жуан? А что это такое?
— Это небольшой порт в двух льё от Антиба.
— От Антиба?
— Да, и я пришел за тобой.
— За мной? Пришли за мной! Но зачем?
— Но разве ты не видел, что всем командующим вооруженными силами, всей национальной гвардии и даже простым гражданам предписано подвергнуть его преследованию? Ну вот, я и пришел за тобой, чтобы подвергнуть его преследованию.
Шевалье устремил на Матильду умоляющий взгляд: он смиренно признавал, что всегда в чрезвычайных обстоятельствах она была изобретательнее его и обладала большей силой воображения, поэтому он рассчитывал, что она вытащит его из этой истории.
Матильда поняла этот молчаливый крик о помощи.
— Но, — сказала она, обращаясь к барону, — мне кажется, дорогой деверь, что вы забыли одно обстоятельство.
— Что же?
— А то, что если вы вольны взять в руки вашу огромную саблю и преследовать кого вам угодно, то Дьёдонне не вправе этого делать.
— Как это он не вправе?!
— Да. Дьёдонне состоит в свите короля, и он будет делать то же, что и все остальные офицеры свиты. Покинуть Париж в такое время даже ради того, чтобы преследовать Наполеона, значило бы стать дезертиром.
Барон кусал себе губы.
— А! — заметил он. — Похоже, что это вы командир Дьёдонне?
— Нет, — просто ответила Матильда, — командиром Дьёдонне, по-моему, является герцог Рагузский.
И она спокойно принялась за свою вышивку, в то время как шевалье не сводил с нее восхищенных глаз.
— Ну, что же, пусть так, — произнес барон, — я отправляюсь без него.
— И вся заслуга тогда будет принадлежать только вам, вам одному, — сказала Матильда.
Барон бросил на молодую женщину ненавидящий взгляд и вышел.
— Что ты скажешь о визите моего брата? — спросил Дьёдонне, все еще дрожа.
— Я скажу, что, выманив у тебя половину состояния, он, пожалуй, не будет огорчен, если тебя убьют и он унаследует оставшуюся часть.
Дьёдонне поморщился, как бы говоря: «Ты вполне можешь оказаться права». Потом он подошел к Матильде и обнял ее, так прижав к своей груди, что она чуть не задохнулась; при этом он забыл, что обнимает ее с такой силой той рукой, которая его не слушалась.
Весь день в доме у шевалье было полно посетителей.
Каждый прибывший с визитом заводил разговор о странном событии; никто не сомневался, что Наполеон не пройдет и десяти льё, как он будет схвачен и расстрелян.
Но на вопрос: «А вы, как поступите вы?», который шевалье задавали в течение дня раз двадцать, он неизменно отвечал:
— Я принадлежу к свите короля и буду делать то, что делать будет свита по приказу короля.
И все находили этот ответ вполне уместным.
Впрочем, все визитеры уже встречали барона с его огромной саблей, и каждый знал, что он готов броситься в погоню за Корсиканским людоедом.
В тот же день к десяти часам стало известно, что граф д’Артуа отправляется в Лион, а герцог Бурбонский — в Вандею.
В ответ на эти две новости Дьёдонне заявил, строя ужасные гримасы, что его рука причиняет ему невыносимую боль.
Известия, полученные 8-го и 9-го, были весьма неопределенными.
Повсюду можно было встретить барона, который должен был вот-вот отправиться в погоню за Наполеоном и лишь выжидал, когда станет известно, где точно тот находится.
Если не считать некоторых болезненных ощущений в руке, Дьёдонне наслаждался полнейшим покоем.
Откуда к нему пришла такая философия? Принадлежал ли он к школе стоиков?
Нет.
Но у него родилась одна мысль, и с упрямством, присущим эгоизму, она прочно засела у него в мозгу.
Мы едва осмеливаемся признаться, что это была за мысль.
Ларошфуко как-то сказал, что в несчастьях даже нашего самого близкого друга всегда есть нечто доставляющее нам приятные мгновения.
К этому можно было бы добавить, что в самых грандиозных политических потрясениях, в катастрофах, свергающих троны, скипетры, короны, люди всегда находят какую-то свою мелочную выгоду, помогающую им переносить эти разрушительные события без особого недовольства.
Дьёдонне подумал, что если Наполеон вновь взошел бы на трон, то Людовик XVIII покинул бы Париж; покинув Париж, Людовик XVIII прекратил бы свои прогулки с трех до шести часов, а если бы он прекратил свои прогулки, то и служба в его эскорте была бы упразднена.
Ну а тогда не пришлось бы больше испытывать этот страх в течение целого дня и пребывать в состоянии гнетущего ожидания остальные тридцать дней.
О великий Боже, из чего порой складываются убеждения!
Сначала шевалье отбросил эту мысль как недостойную его, но она все возвращалась и возвращалась, пока не утвердилась у него в мозгу настолько, что не пожелала его больше покидать.
В результате, когда 9-го Дьёдонне прочел в «Монитёре», что Наполеон, вероятно, 10-го вечером войдет в Лион, эта новость не произвела на него такого сильного впечатления, как можно было бы ожидать.
Барон объявил, что, зная отныне, где найти Наполеона, он непременно бросится ему навстречу 11-го или 12-го, то есть как только подтвердится его вступление во вторую столицу королевства.
Днем 15-го распространился слух, что герцог Рагузский добился от короля приказа укрепить Тюильри и что король укроется там с министрами, Палатами и со всеми офицерами своей военной свиты. В Тюильри могли поместиться три тысячи человек.
Барон пришел сообщить эту новость своему брату; он сказал, что надеется непременно увидеть его в составе этого гарнизона.
— Я полагал, что ты уже уехал одиннадцатого, — ответил ему Дьёдонне.
— Действительно, я уже собирался уехать, когда подумал, что из Лиона в Париж ведут две дороги: одна через Бургундию, а другая — через Ниверне; я боялся, что пойду по одной, а он — по другой.
— Это веская причина, — заметила Матильда.
— Да, но я не вижу, — отвечал барон, — по какой причине мой брат не отдает себя в распоряжение короля.
— Именно это он и собирался сделать, — сказала Матильда.
И она взяла перо, чернила и бумагу.
— Что вы делаете? — спросил барон.
— Вы видите, я пишу.
— Кому?
— Герцогу Рагузскому.
— Что?
— Что мой муж отдает себя в его полное распоряжение.
— Разве Дьёдонне больше не умеет писать?
— Нет, если у него вывихнута правая рука.
И Матильда написала следующее:
«Господин маршал.
Мой супруг, шевалье Дьёдонне де ла Граверы, хотя и повредил себе руку так сильно, что я была вынуждена взять вместо него перо, чтобы написать Вам, тем не менее имеет честь напомнить Вам, что он состоит в красной свите короля. И какое бы решение Вы ни приняли, он хотел бы разделить опасность со своими товарищами.
Его преданность Его Величеству заменит ему силу.
Он имеет честь быть, господин маршал, и т. д., и т. д.»
— Так хорошо? — спросила Матильда у барона.
— Да, — ответил вне себя от гнева барон, — лучше и быть не может. И Дьёдонне весьма повезло, что у него такая жена, как вы.
— А, каково! — простодушно произнес Дьёдонне. — Я ведь вам говорил, что это настоящее сокровище.
Барон удалился, сказав, что отправляется за новостями.
Матильда отослала свое письмо в Тюильри.
Девятнадцатого, в девять часов утра, в Париже узнали, что Наполеон 17-го вошел в Осер и продолжает свой марш на столицу.
В одиннадцать часов король, отвергнувший план герцога Рагузского, вызвал маршала и объявил ему:
— Я уезжаю в полдень; отдайте соответствующие приказы моей военной свите.
Герцог Рагузский сделал необходимые распоряжения.
В полдень г-ну де ла Гравери доложили о приходе адъютанта маршала.
Он передал ответ маршала, адресованный непосредственно г-же де ла Гравери, о том, что король, помня о серьезной травме, которая вынуждает г-на дела Гравери не выходить из дома, и зная его преданность по отношению к монархии, дает ему позволение остаться дома; при этом король прекрасно сознает, что если он не видит его рядом с собой в столь критическую минуту, то в этом повинно ранение, полученное шевалье у него на службе.
— Хорошо, сударь, — ответила Матильда адъютанту, — передайте господину маршалу, что через час господин дела Гравери будет во дворце.
Дьёдонне широко раскрыл глаза.
Адъютант, в восторге от этой героини, восхищенно приветствовал ее и удалился.
Матильда передала письмо Дьёдонне.
— Но, — сказал тот, — мне кажется, что король отпустил меня.
— Да, — заметила Матильда. — Но это услуга такого рода, которую дворянин не должен принимать; вам следует сопровождать короля в его изгнании до тех пор, пока он не покинет пределы Франции; пусть даже вам придется для этого привязать себя к лошади.
Господин де ла Гравери был человеком весьма рассудительным.
— Вы правы, Матильда, — сказал он.
Затем, тем же тоном, каким, вероятно, эту же команду отдавал Цезарь, он произнес:
— Мое седло и мою походную лошадь!
Час спустя шевалье де ла Гравери был в Тюильри.
В полночь король выехал.
Прибыв в Ипр, король увидел шевалье и узнал его; он был третьим человеком, оставшимся с королем.
Король приказал принести три креста Святого Людовика и самолично прикрепил их на мундиры этих трех верных ему офицеров.
Затем он отослал их во Францию, заявив, что надеется вскоре вновь там с ними увидеться.
Шевалье проделал около ста льё верхом — с него этого было более чем достаточно; он продал свою лошадь за полцены, сел в дилижанс и вернулся в Париж.
Невозможно дать читателю представление о том, каким величественным жестом шевалье показал Матильде свой крест Святого Людовика.
Матильда вся сияла.
Дьёдонне справился о брате.
Тот наконец-то уехал 17-го.
Однако он уехал в Бельгию, не желая оставаться в Париже, будучи скомпрометирован своими воинственными настроениями, которые он так неосторожно всем демонстрировал.
VIII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛА ГРАВЕРИ ЗАВОДИТ НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА
События, последовавшие за возвращением Наполеона с острова Эльба, известны.
Дьёдонне, вернувшись к себе домой на Университетскую улицу, повесил крест Святого Людовика над изголовьем кровати Матильды в память о том, что этой наградой он обязан своей жене.
«Сто дней» не причинили ему ни малейшего волнения.
Дьёдонне был самым счастливым человеком из всех живущих на земле.
Он был кавалером ордена Святого Людовика и не был больше мушкетером!
Настала пора Второй реставрации; барон вернулся вслед за Бурбонами и вновь вселился в свой дом на улице Варенн.
Однако он не стал наносить визит брату. Он расценивал как огромную несправедливость то, что Дьёдонне был награжден, а он нет.
В результате шевалье де ла Гравери, лишившись своего посредника, обратился с просьбой прямо к королю.
Он добился того, что поменял свою шпагу мушкетера на жезл церемониймейстера; обмен, доставивший ему огромную радость, так как эта новая должность, совершенно гражданская и абсолютно мирная, гораздо лучше соответствовала его склонностям, чем прежняя.
Но случилось так, что, отделавшись от своих ратных доспехов, шевалье, по какой-то аномалии, довольно часто встречающейся у людей его темперамента, стал жадно искать общества тех, кто носил военную форму.
Он, казалось, поставил себе задачей доказать целому свету, что и его голову некогда украшал этот благословенный плюмаж, доставлявший ему столько неудобств в ту пору, когда у него было право его носить.
Вот почему, по долгу службы присутствуя на обедах в Тюильри, он предпочитал располагаться среди офицеров военной свиты и общался с ними на дружеской ноге.
Однажды он познакомился там с капитаном конных гренадеров, который в силу закона противоположностей понравился ему с первого взгляда.
Этот капитан был намного старше г-на де ла Гравери, которому в ту пору исполнилось двадцать пять или двадцать шесть лет; всего лишь несколько месяцев отделяли этого офицера от того дня, когда приказом министерства его должны были отправить в отставку.
У него были седые волосы, и несколько ранних морщин уже избороздили его лоб. Но по складу ума, по настрою своего сердца и по своему характеру г-н Дюмениль — так звали капитана — по-прежнему оставался двадцатилетним, и, пожалуй, во всей гвардии не нашлось бы ни одного младшего лейтенанта, который мог бы сравниться с ним в веселости, остроумии и беззаботной беспечности.
Во всех физических упражнениях, которыми г-н де ла Гравери, а точнее, старые канониссы, занимавшиеся его воспитанием, безмерно пренебрегали, капитан Дюмениль всегда был первым.
О его отваге в армии ходили легенды.
Эти качества произвели на шевалье чрезвычайно глубокое впечатление как раз потому, что сам он ими ни в коей мере не обладал; он тут же подумал, что подобный друг будет весьма ценным приобретением для такого несколько скучного жилища, каким был его дом; шевалье надеялся, что капитан развлечет Матильду, которая становилась все менее и менее общительной, оставаясь наедине с Дьёдонне; он рассудил, что воспользуется хорошим настроением, которое не замедлит прийти к его супруге, так же как оно приходило к нему самому, когда он слушал остроты своего нового знакомого. Вследствие всех этих соображений он немедленно стал ухаживать за капитаном так, как влюбленный — за желанной женщиной.
Спустя несколько часов их знакомство продвинулось настолько, что Дюмениль, не заставив себя долго упрашивать, согласился отобедать на следующий день у шевалье дома.
Впрочем, капитан — заметим это попутно — принадлежал к той породе людей, что приняли бы и приглашение дьявола, будь они твердо уверены, что жаркое там не окажется слишком подгоревшим.
Не подозревая того, г-н де ла Гравери именно в это время переживал самый критический период в своих семейных отношениях.
Госпожа де ла Гравери уже долгое время скучала. Скука у женщин, обладающих темпераментом Матильды, это легкий озноб, предвещающий лихорадку. Год, последовавший за Второй реставрацией, был насыщен весельем; молодая женщина пресытилась шумом и блеском, устала от танцев, ей наскучило банальное пустое кокетство — она переставала любить эти удовольствия и развлечения только ради их самих; она ощутила пустоту своего сердца, а г-жа де ла Гравери в этом напоминала природу: она приходила в ужас от пустоты.
Впрочем, по отношению к своему мужу она оставалась прежней или почти что прежней; благодаря привычке и воспитанию, роль заботливой и внимательной супруги укоренилась в ее сознании, и какое бы направление ни принимал ход ее мыслей, это ни в коей мере не отражалось на ее заботливой предупредительности, с которой она относилась к Дьёдонне; но, в сущности, меланхоличная нежность шевалье раздражала тонкую нервную систему его супруги, и взгляды, которые она бросала на него будто бы влюбленными глазками, понемногу стали наполняться едва сдерживаемой ненавистью; такое чувство женщины, подобные ей, всегда потихоньку испытывают к мужу, упрямо отказывающемуся предоставить им хоть малейший повод для жалоб, а следовательно, и малейшую возможность взять реванш.
В тот же день, когда г-н де ла Гравери привел в дом своего друга, с которым он познакомился накануне, барон, первый раз после долгого перерыва навестив Дьёдонне, представил своей невестке молодого лейтенанта гусарского полка, сопроводив это представление крайне лестными рекомендациями.
Этот молодой гусар и в самом деле был одним из самых блестящих офицеров, каких только можно было встретить; у него была тонкая и гибкая, как у женщины, талия, изящная осанка, ловко закрученные усы, самодовольный вид — короче, перед вами был готовый манекен, предназначенный для того, чтобы выгодно демонстрировать в лучах солнца блеск золотых галунов доломана или лихо носить ташку.
Вопрос о том, какое влияние может оказать на самочувствие и настроение очаровательной молодой женщины приятная внешность и жизнерадостный нрав, пока недостаточно исследован и никогда не будет исследован до конца.
С того благословенного дня, как капитан гренадеров и лейтенант гусаров впервые расположились у домашнего очага шевалье де ла Гравери, состояние хозяйки дома значительно улучшилось: бледность, порой стиравшая все краски на ее лице, исчезла; синеватые круги, ослаблявшие блеск ее глаз, пропали; она вновь преисполнилась веселья и прелестной улыбкой сопровождала все знаки внимания, оказываемые ею мужу, и благодаря этому они были ему в два раза милее и дороже.
Нежданный, но явный успех, достигнутый обоими лекарями, невольно и необычайно сильно привязал их к очаровательной больной. Они все время находились рядом с ней, и не прошло и двух недель, как они стали не просто привычными сотрапезниками, а ежедневными завсегдатаями в особняке де ла Гравери.
На всех прогулках и во всех поездках их постоянно видели вместе; неизменной компанией они появлялись на балах и спектаклях; дело дошло до того, что, как только где-либо показывалась г-жа де ла Гравери, можно было держать пари, что г-н де ла Гравери следовал за ней, а позади г-на де ла Гравери шли двое верных рыцарей.
Это, вероятно, было самое необычное, но и самое очаровательное семейное содружество.
Но это никоим образом не была заурядная семейная пара, состоящая из мужа и жены; это не был и тот семейный треугольник, который на каждом шагу встречаешь в Италии. Нет, это была семья, состоявшая из четырех человек, и в ней равными привилегиями пользовались все ее члены: хозяин дома, друг хозяина дома и протеже хозяйки; всем троим на редкость тонко и честно были отведены роли, каждый получал со скрупулезной точностью приходящуюся ему долю улыбок, сердечных благодарностей и признательных взглядов, все трое снискали право поочередно, в качестве вознаграждения, предлагать свою руку пленительной Матильде, а также нести ее шаль, веер или букет.
Госпожа де ла Гравери, распределяя свои знаки внимания, выказывала при этом отменное чувство справедливости, так что ни разу никому не дала повода ни к ревности, ни к недовольству.
Но самым довольным из этого трио мужчин, самым признательным не только Матильде, но и двум другим, бесспорно был Дьёдонне: он был вне себя от радости, когда размышлял о том, что нашел два новых клапана, посредством которых он может излить избыток нежности, переполнявший его сердце в дни уединения.
Как г-же де ла Гравери удавалось поддерживать это ровное настроение и это самоотречение при своем крохотном дворе?
Признаемся честно, что это один из тех женских секретов, в которые, несмотря на наши беспрестанные и постоянно возобновляемые исследования в этой области, нам так и не удалось проникнуть.
Но самое поразительное заключалось в том, что общество почти не злословило по поводу этого странного союза. Молодая немка казалась такой простодушной; столько наивности было даже в самом ее компрометирующем обращении с обоими офицерами; она была так изумительно естественна, что если кто-нибудь осмелился бы вдруг высказать хоть малейшее подозрение, то, весьма вероятно, его могли бы обвинить в том, что у него злое сердце.
Барон де ла Гравери стал тем ангелом с пылающим мечом, который изгнал трех блаженных из их рая.
Однажды после полудня Матильда, чувствуя легкое недомогание, осталась дома; г-н де Понфарси — так звали лейтенанта гусаров — был на дежурстве, шевалье де ла Гравери и его друг, капитан гренадеров, вдвоем гуляли по Елисейским полям.
И хотя обычный квартет заметно поредел, г-н де ла Гравери выглядел чрезвычайно радостным; он скорее подпрыгивал, чем шел, и это несмотря на полноту, ставшую весьма солидной, если учесть его возраст. Малейшее происшествие вызывало у него раскаты смеха, он беспрестанно весело потирал ладони; следуя священным законам дружбы, капитан Дюмениль целиком и полностью разделял это великолепное настроение.
Гуляя, они столкнулись с человеком, который, похоже, не был так же доволен судьбой, как они.
Это был барон де ла Гравери.
Он шел с таким угрюмым, таким озабоченным выражением лица, так низко надвинув на глаза шляпу, что они даже не узнали его.
Но он, почувствовав, что его задели, поднял голову и узнал их.
— Клянусь смертью Христовой! Я рад встретить вас, шевалье, — сказал старший брат, схватив младшего за руку.
— В самом деле! — произнес тот с болезненной гримасой, так сильно барон сжал ему руку.
— Да, я направляюсь к вам.
Дюмениль покачал головой: у него зародилось предчувствие несчастья.
А шевалье быстро, вновь обретя свое хорошее настроение, произнес:
— Надо же, как странно, я только что сказал Дюменилю: «Я должен прямо сейчас зайти к моему брату, чтобы сообщить ему эту радостную новость».
— Эту радостную новость? — повторил барон с мрачной улыбкой. — А, так у вас есть для меня радостная новость?
— Да.
— Ну, что же, тогда обмен будет не в вашу пользу, так как я собираюсь поведать вам нечто весьма неприятное.
Такому тонкому наблюдателю, каким был Дюмениль, легко было догадаться, что эта новость, которая должна была так огорчить шевалье, доставляла сильную радость барону.
По телу Дюмениля пробежала дрожь, а поскольку рука шевалье опиралась на руку капитана, то он вздрогнул вместе с ним, пока скорее испытывая простое сочувствие, чем предвидя что-либо.
— Но что же случилось? — пробормотал бедняга Дьёдонне, весь побледнев, настолько он был заранее испуган вспышкой бомбы, которую барон собирался метнуть в его счастье.
— Ничего. Пока.
— Что значит пока ничего?!
— Я вам расскажу обо всем позже, когда мы будем у меня в доме, если вы соблаговолите туда последовать за мной.
Дюмениль видел, что барон желал бы поговорить со своим братом наедине, и, так как первый нисколько не скрывал от второго, что собирается беседовать о вещах малоприятных для слуха, капитан тем более предпочел бы не присутствовать при беседе.
— Извините меня, мой дорогой Дьёдонне, — сказал он, — но я вдруг вспомнил, что меня ждут у полковника.
И он протянул одну руку шевалье, в то время как другой приветствовал барона.
Но Дьёдонне, оказавшись перед лицом неожиданного несчастья, не был способен встретить его в одиночку, и, хотя капитан только что попрощался с ним, отняв свою руку, шевалье вновь схватил ее и просунул себе под руку.
— Ба! — произнес он. — Еще сегодня утром вы мне говорили, даже больше, чем говорили, заявляли, что свободны весь день; вы останетесь, господин скромник, и мой брат будет говорить при вас. Что за черт! Только что вы согласились разделить со мной мою радость; теперь самое меньшее, что вы можете сделать, — это взять на себя часть моей досады.
— И правда, — сказал барон, — я в самом деле не вижу причин, почему бы мне не позволить господину капитану проникнуть в тайну, к которой он имеет почти такое же отношение, что и вы.
Капитан Дюмениль вскинул голову, как конь при звуках трубы, и слегка покраснел.
— Черт бы побрал этого старого пройдоху! Он испортит нам весь день! — прошептал он на ухо Дьёдонне.
Затем громким голосом (в нем одновременно звучали просьба и угроза) капитан произнес:
— Господин барон, без сомнения, хорошо поразмыслил, прежде чем предпринять задуманное им; однако позволю себе все же ему заметить, что откровения порой столь же опасны для того, кто их делает, сколь мучительны они бывают для того, кто их выслушивает.
— Сударь, — сухо ответил барон, — я знаю, к чему обязывает меня мой долг главы рода де ла Гравери, и лишь я один могу судить о том, как мне следует поступить в соответствии с требованиями моей чести.
«Что все это означает, Боже мой? — прошептал про себя бедный шевалье, покачивая головой. — У Дюмениля такой вид, будто он отлично знает, что собирается сообщить мне брат, а сам он мне ничего не пожелал сказать».
И он обратился к брату:
— Итак, мой дорогой барон, будьте откровенны и не тяните дольше; вы нас повергли в растерянность и смущение, что гораздо болезненнее и мучительнее для меня — я твердо уверен в этом, — чем та новость, которую вы хотите мне поведать.
— Тогда следуйте за мной в мой дом, — сказал барон.
И оба, Дьёдонне и капитан, держась по обе стороны от барона, спустились вниз по Елисейским полям и, миновав мост Согласия и Бургундскую улицу, оказались на улице Варенн, где жил барон.
Все трое были так озабочены, что во время всей этой длинной дороги ни один из них не проронил ни слова.
Беспокойство бедняги Дьёдонне удвоилось, когда он увидел, что старший брат провел их в самый отдаленный кабинет своих покоев и плотно закрыл за ними дверь.
Приняв эти меры предосторожности, призванные обеспечить полную конфиденциальность предстоящей беседы, барон торжественно вытащил из своего кармана письмо и, держа его в правой руке, показал своему младшему брату, в то время как левой он крепко сжимал руку последнего и с видом глубокого сочувствия повторял:
— Бедный брат! Бедный брат! Несчастный шевалье!
Такое вступление звучало столь мрачно, что Дьёдонне никак не решался взять в руки это письмо.
Этих мгновений растерянности было достаточно Дюменилю, чтобы бросить взгляд на письмо и узнать изящный, бисерный почерк. И прежде чем шевалье принял какое-либо решение, капитан гренадеров выхватил письмо.
— Клянусь кровью Христовой! — воскликнул капитан. — Он не станет его читать, господин барон! Он не станет читать ваше письмо!
Затем, выпрямившись и затянув потуже ремень своего мундира, он увлек г-на де ла Гравери-старшего в угол комнаты:
— Я принимаю ваши упреки и готов нести всю тяжесть последствий случившегося, но я не позволю раздавить счастье вашего бедного брата; есть люди, которые могут существовать лишь в мире своих мечтаний. Подумайте об этом!
И, понизив голос, он продолжил:
— Именем Господа, заклинаю, даруйте жизнь бедному агнцу; он, несомненно, создан из самого лучшего теста, которое Небо когда-либо посылало на землю в подарок.
— Нет, господин капитан, нет! — ответил барон, возвышая голос. — Нет, вопросы чести для нашей семьи превыше всего.
— Прекрасно! Прекрасно! — сказал капитан, словно желая обернуть все в невинную шутку. — Согласитесь, честь чем-то сильно напоминает оскорбленного мужа: она останется незапятнанной, если никто ни о чем не подозревает, и слегка задетой, когда все становится известно.
— Но, сударь, есть виновный, а безнаказанность не следует поощрять.
Капитан схватил барона за руку.
— Но кто, черт возьми, просит вас о пощаде? — с пылающими глазами воскликнул он. — Разве вы до сих пор еще не поняли, что я в полном вашем распоряжении, сударь?
— Нет, — продолжал барон, все больше и больше повышая голос. — Нет, необходимо, чтобы Дьёдонне знал, что его недостойная супруга и его не менее недостойный друг…
Капитан побледнел как мертвец и попытался рукой закрыть барону рот.
Но было слишком поздно: шевалье все слышал.
— Моя жена! — вскричал он. — Матильда! Неужели она мне изменила? Нет, это невозможно!
— Все же он добился своего, вот негодяй! — заметил капитан.
И, пожав плечами, он отошел от барона и сел в углу комнаты с видом человека, который сделал все возможное, чтобы помешать катастрофе, но, видя, что несмотря на все его усилия, она все же разразилась, безропотно покорился неизбежному.
— Невозможно? — переспросил барон, не обратив никакого внимания на жалобную нотку, с какой брат произнес это слово. — Если вы мне не верите, то попросите господина капитана вернуть вам письмо — он завладел им вопреки всем приличиям и правилам хорошего тона, — и вы найдете в нем доказательство вашего бесчестия.
Капитан Дюмениль, сидя в своем углу, внешне выглядел совершенно невозмутимым; но он кусал свой ус с видом человека, который далеко не так уж спокоен, как хотел бы казаться.
В это время Дьёдонне становился все бледнее и бледнее; несколько вырвавшихся у него слов объяснили его все возрастающую бледность.
— Моего бесчестия! — повторил он. — Моего бесчестия! Брат, но как же тогда мой ребенок?..
Барон рассмеялся.
— Этот ребенок, — продолжал шевалье, как будто и не слыша язвительного смеха своего брата, — этот ребенок, которому я так радовался все эти два дня, после того как Матильда сказала мне о нем; этот ребенок, о котором я мечтал, просыпаясь, и думал, засыпая; этот ребенок, которого я представлял уже лежащим в колыбели с бело-розовым, ангельским личиком; этот ребенок, нежное воркование которого уже заранее звучало в моих ушах; этот ребенок может быть не моим?.. О Боже, Боже! (Голос шевалье перешел в рыдания.) Я лишился разом и жены и ребенка!
Капитан приподнялся, как будто движимый желанием обнять шевалье, но тут же сел снова и, вместо того чтобы кусать усы, стал кусать кулаки.
Но барон, словно и не заметив ни отчаяния своего брата, ни гнева капитана, отвечал с грубой прямотой:
— Да. Ведь в этом письме — случай вручил мне его в руки, и я хотел вас познакомить с ним, но капитан Дюмениль завладел им и не отдает обратно — ваша супруга шлет своему любовнику поздравления по случаю своего будущего материнства.
Бедняга Дьёдонне ничего не ответил; он упал на колени, закрыл лицо руками и судорожно разрыдался.
Капитан не мог долее выносить этой сцены.
Он встал и направился прямо к барону.
— Сударь, — обратился он к нему вполголоса, — в этот момент, и вы прекрасно это понимаете, поскольку сделали для этого все, что могли, я больше себе не принадлежу; но, как только ваш досточтимый брат получит причитающееся ему по праву удовлетворение, я смогу оценить ваше поведение, как оно того заслуживает, и, поверьте, не премину это сделать.
Закончив свою речь, офицер откланялся и отправился к двери.
— Сударь, вы уходите? — спросил у него барон.
— Признаюсь вам, — ответил капитан, — я чувствую, что у меня недостанет сил вынести эту ужасную сцену.
— Что ж, уходите! Но верните мне письмо госпожи де ла Гравери.
— А почему я должен вам его возвращать? — надменно спросил капитан, нахмурив брови.
— Ну, хотя бы по той простой причине, что оно адресовано вовсе не вам, — проговорил барон.
Капитан оперся о стену, иначе бы он упал.
Действительно, капитан до сих пор думал, и читатель, должно быть, об этом догадался, что роль обвиняемого давала ему право быть более активным участником этой истории, чем предполагал барон.
Он быстро достал письмо, которое положил перед этим в один из своих карманов, развернул его и пробежал глазами первые строчки.
По вырвавшемуся у него непроизвольному жесту, по выражению его лица барон догадался обо всем.
— И вы тоже! — вскричал он, всплеснув руками. — Вы тоже! Что ж, значит, она гораздо большая негодяйка, чем я полагал.
— Да, сударь, я тоже, — подтвердил капитан, понизив голос.
— Как же так?
— Да, я тоже. Я презренный человек, такой же презренный, как и она, потому что посмел обмануть этого прекрасного, этого достойного, этого честного малого; скажите ему об этом, когда он придет в себя…
Но Дьёдонне, за это время вышедший из своего состояния оцепенения, прервал капитана.
— Дюмениль! — закричал он. — Дюмениль! Не покидай меня, мой друг; подумай, что, кроме твоей дружбы, у меня в этом мире не осталось ничего, что бы могло меня спасти и утешить.
Капитан, терзаемый угрызениями совести, колебался.
— О Боже, Боже мой! — воскликнул несчастный шевалье, ломая в отчаянии руки. — Неужели дружба такое же пустое слово, как и любовь?
Барон сделал движение по направлению к брату.
Это движение предопределило решение капитана.
Он с такой силой схватил старшего брата за руку, что у того лицо исказилось от боли, и, глядя ему прямо в глаза, вполголоса повелительно заявил:
— Ни слова больше, сударь. Впервые приключение подобного сорта вызывает у меня угрызения совести, однако они так мучительны, что не знаю, клянусь вам, хватит ли мне всей моей жизни, чтобы искупить свою вину; но тем не менее я постараюсь это сделать, сударь, полностью посвятив себя вашему брату, окружив его заботой и нежностью, без чего он не может больше жить. Сударь, не говорите ему больше ничего: не в вашей, да и не в моей власти перечеркнуть прошлое, но не терзайте еще сильнее это бедное сердце.
— Я ни перед чем не остановлюсь, — язвительно возразил ему барон, — чтобы заставить моего брата выгнать опозорившую его супругу и отказаться от ребенка, который похитил состояние, принадлежащее другим.
— О, скажите лучше — состояние, принадлежащее вам, так будет честнее. И с позиций эгоизма ваше поведение, возможно, простительно, — ответил капитан, бросая на барона взгляд, полный презрения. — Пусть будет так; но этого письма, написанного госпожой де ла Гравери господину де Понфарси, будет более чем достаточно, чтобы получить, даже в судебном порядке, то, что вы желаете.
— Тогда отдайте мне это письмо.
Дюмениль подумал несколько мгновений.
Потом он сказал:
— Я согласен, но при одном условии.
— Условии?
— О! Это вам решать, принимать его или нет, сударь, — нетерпеливо продолжал капитан, постукивая ногой. — Итак, поспешим. Или вы даете слово, или я разрываю это письмо.
— Сударь, клянусь своей честью дворянина…
— Дворянина, — прошептал Дюмениль с глубочайшим презрением. — Что ж, хорошо, поклянитесь вашей честью дворянина! Ведь, похоже, хотя вы и поступаете подобным образом, вы все еще продолжаете быть дворянином. Так вот, поклянитесь мне, что вы никогда не скажете вашему брату, что его одновременно предали двое мужчин, которых он звал своими друзьями; поклянитесь мне, наконец, что вы не станете препятствовать искуплению содеянного мною, чему я посвящу весь остаток своей жизни.
— Я клянусь вам, сударь, — сказал барон, пожирая глазами драгоценное письмо.
— Великолепно. Я настолько доверяю вам и вашей клятве, что даже не стану говорить, что я сделаю с вами, если вы ее нарушите.
И капитан вручил барону письмо, написанное Матильдой г-ну де Понфарси.
Затем, подойдя к шевалье, сидевшему все так же без сил, он сказал:
— Ну же, Дьёдонне, встань и обопрись о меня, ведь мы с тобой мужчины.
— О, спасибо, спасибо, — ответил шевалье, с усилием поднимаясь и падая в объятия капитана. — Ты меня не покинешь, правда? Ты меня не покинешь?
— Нет, нет, — пробормотал капитан, нежно гладя шевалье, как будто бы это был ребенок.
— Знаешь, — продолжал шевалье, и речь его прерывали рыдания, — я боюсь сойти с ума, так страшит меня мое будущее, до такой степени я уверен, что сравнение прошлого с настоящим сделает невыносимо отвратительным мое существование.
— Ну же, — проговорил барон. — Мужайся! Даже самая лучшая из женщин не стоит и половины тех слез, что ты здесь проливаешь вот уже четверть часа, а тем более мерзавка.
— О! Вы не знаете, вы не можете знать, — прервал его Дьёдонне, — что значила для меня эта женщина! У всех у вас есть светские салоны, двор, честолюбивые мечты, которые занимают вас; почести и награды, которых вы добиваетесь; у вас есть развлечения, которые наряду со сплетнями о работе обеих Палат занимают свое место в ваших сердцах; у вас также есть новые назначения, награды и отличия, которые получают ваши противники. У меня же в этом мире была только она, она одна; она была моей жизнью, моим счастьем, моей радостью, моими честолюбивыми надеждами. Только те слова, что я слышал из ее уст, только они одни имели для меня значение; а сейчас, когда я чувствую, что все это внезапно уходит от меня, мне кажется, что я вступаю в пустыню, где нет ни воды, ни солнца, ни света и где отныне мерилом времени будут лишь мои страдания! О Боже, Боже!..
— А, ерунда, — сказал барон. — Все это чепуха!
— Сударь!.. — голос капитана звучал почти угрожающе.
— Вы не помешаете сказать мне брату, — повторил барон, не теряя из виду свое наследство, — вы не помешаете мне сказать ему, что ради чести своего рода, чье имя он носит, он не должен допускать, чтобы это родовое имя было унижено; перестав уважать женщину, недостойную вас, вы перестанете ее любить.
— Все это, брат мой, софизм, парадокс, заблуждение! — вскричал шевалье с отчаянием. — В этот самый миг, слышите ли вы, в этот самый миг, когда ее вина разбивает мне сердце, когда краска стыда заливает мне лицо, так вот, в этот самый миг я ее люблю! Я ее люблю!
— Друг, — проговорил капитан, — надо быть мужчиной, надо жить!
— Жить! Зачем мне теперь жить?.. Ах, да, чтобы отомстить за себя, чтобы убить ее любовника. Да, по законам света, по законам чести один из нас, я или он, должен теперь умереть, потому что Бог создал ее женщиной, а значит, вероломной и бесчестной; и из-за того, что она, вероломная и бесчестная, нарушила супружескую верность, должен погибнуть человек, и все это, чтобы удовлетворить свет, ради чести, как будто бы свет волновало то, каким образом у меня украли мою радость, как будто бы честь когда-либо тревожилась о моих невзгодах или моем блаженстве. Но и свет, и честь заботит лишь одно — кровь. Светские люди как должное воспринимают то, что оскорбление должно быть смыто кровью.
— Неужели вы боитесь, брат мой? — спросил барон.
Взгляд шевалье, когда он посмотрел на брата, выражал полную отрешенность.
— Я боюсь только одного: оказаться на месте того, кто убьет… — ответил он.
Эти слова он произнес с воодушевлением и решимостью, доказывавшими, насколько они искренни.
Затем, сделав усилие и положив руку на плечо капитана, шевалье сказал:
— Пойдем, мой бедный Дюмениль. Помоги мне отомстить за себя, потому что я не могу доверить эту миссию Богу, не прослыв трусом.
И, повернувшись к барону, он добавил:
— Барон, я клянусь честью, что завтра в это время один из нас, господин де Понфарси или я, будет мертв. Это все, чего вы требуете, защищая честь семьи?
— Нет, ведь я знаю вашу мягкотелость, брат мой. Я требую юридических полномочий представлять вас на официальном бракоразводном процессе, который будет начат против вашей недостойной супруги.
— И этот документ, эта доверенность, соответствующим образом подготовленная и составленная, конечно же, у вас при себе сейчас, брат мой?
— На ней не хватает лишь вашей подписи.
— Я так и думал… Перо, чернила, доверенность.
— Вот все, что вы требуете, мой дорогой Дьёдонне, — сказал барон, одной рукой подавая брату документ, а другой — перо и чернила.
Шевалье подписал без единой жалобы, без единого вздоха.
Но при этом его рука так дрожала, что подпись можно было разобрать с большим трудом.
— Тысяча чертей! — вскричал капитан, увлекая за собой своего друга и бросая на барона прощальный взгляд. — Скольких людей повесили, хотя они и заслуживали этого гораздо меньше, чем этот негодяй!
IX РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ
У двери на улицу между шевалье и его другом разыгралось почти настоящее сражение.
Шевалье хотел повернуть налево, капитан старался увести его направо.
Дьёдонне хотел только одного: вернуться к себе, бросить в лицо Матильде обвинение в измене и сказать ей последнее прости.
Капитан, напротив, в интересах своего друга и в своих собственных имел веские причины не допустить этого свидания.
Он пустил в ход все свое красноречие, чтобы заставить Дьёдонне отказаться от его намерения, и только с большим трудом ему удалось убедить шевалье де ла Гравери не показываться дома и пожить несколько дней в его скромной квартирке.
Устроив гостя в своей маленькой спальне, капитан снял свой мундир, переоделся в черное платье и собрался уходить.
Бедный шевалье был настолько погружен в свое горе, что догадался о намерениях своего друга только тогда, когда тот открывал дверь.
Подобно ребенку, он протянул к нему руки:
— Дюмениль, ты оставляешь меня одного?
— Мой бедный друг, разве ты уже забыл, что должен кое у кого потребовать отчет в том, как он распорядился, я уже не говорю твоей честью, но и своей честью тоже?
— О! Да! Признаюсь, я забыл об этом, Дюмениль! Я думал о Матильде.
И шевалье вновь разразился слезами.
— Плачьте, плачьте, мой друг, — сказал капитан. — Бог милостив: все, что он делает, он делает на совесть, поэтому он снабдил сердца добрых и слабых существ большими клапанами, через которые изливаются их страдание и боль, в противном случае они убили бы их… Плачьте! И если кто-то вам скажет: «Утрите слезы!» — то это буду не я.
— Хорошо, мой друг, идите! — сказал шевалье. — Идите! Я благодарен вам, что вы напомнили мне о моем долге.
— Я ухожу и отправляюсь туда.
— Но только одно пожелание.
— Какое же?
— Постарайтесь не откладывать это надолго; устройте, если возможно, так, чтобы все состоялось завтра утром.
— Будьте спокойны, мой друг. (Капитан обнял шевалье и прижал его к груди.) Я буду очень огорчен, если дело не закончится уже сегодня вечером.
Шевалье остался один.
И именно здесь я прерву свой рассказ, чтобы почтительно попросить прощения у читателей.
В самом начале я объявил, что эта книга совсем не похожа на другие романы.
И вот тому доказательство.
Герои всех романов хороши собой, прекрасно сложены, стройны, высоки ростом, храбры и сильны, умны и находчивы.
Они либо жгучие брюнеты, либо блондины с пышной шевелюрой и большими черными или голубыми глазами.
Они столь горды и обидчивы, что при малейшем оскорблении хватаются за эфес шпаги или за рукоять пистолета.
Наконец, они тверды в своей решимости: ненависть вызывает у них ответную ненависть; любовь же — ответную любовь.
Наш герой совершенно иной: он скорее неказист, чем хорош собой, скорее мал ростом, чем высок, скорее толстоват, чем строен, скорее труслив, чем храбр, скорее простодушен, чем умен.
Он не был ни брюнетом, ни блондином: его волосы имели желтоватый оттенок; глаза его были не черные или голубые, а зеленые.
Нанесенное ему оскорбление было велико, и, однако же, как он сам сказал, если он будет драться, то лишь потому, что таково требование общества.
Наконец, он крайне нерешителен и, вместо того чтобы ненавидеть, продолжает любить ту, что его обманула.
Уже давно нам казалось, что неприметным созданиям отказывают в праве любить и страдать. И нам казалось, что совсем не обязательно быть красивым, как Адонис, и смелым, как Роланд, чтобы получить право на высшее проявление любви и горя.
И поскольку мы искали в нашем воображении мечту, в которую можно было бы вдохнуть жизнь, случай помог нам встретить прямо в жизни такого человека.
Это бедный шевалье де ла Гравери.
Он явился живым примером того, как, не будучи никоим образом похожим — ни физически, ни духовно — на героя романа, можно испытать все человеческие страсти, заключенные в этих нескольких словах: «он любил, он был обманут».
Вот почему, оставшись один, Дьёдонне не стал уподобляться Антони или Вертеру, а просто и совершенно естественно предался своему отчаянию.
Он ходил по комнате вдоль и поперек, из угла в угол, называя Матильду отнюдь не вероломной, жестокой и неблагодарной, а самыми нежными и ласковыми словами, которыми он обычно ее называл; он обращался к ней с упреками, как будто она могла его слышать. Он готов был обвинить во всем самого себя и пытался понять, не подал ли он Матильде каких-либо поводов для огорчения, которые могли бы оправдать ее измену. Он вытирал слезы, чтобы через несколько мгновений осушить их снова.
Признаюсь, все наше сочувствие отдано несчастьям именно такого рода. Слабость человека, сохранившего полную беспомощность ребенка, разрывает сердце, ибо заведомо известно, что, не найдя утешения в себе самой, она не станет его искать и в других; для нее все зависит от Бога. И не то чтобы эта слабость черпала силы в вере, ведь она не говорит: «Ты дал мне мое счастье, ты его у меня и отнял, будь благословен, Бог мой». Нет, она говорит: «Что я сделал такого, что так страдаю? Боже! Боже! Сжалься надо мной!»
Знаете ли вы, какое желание овладело этим несчастным, так жестоко обманутым своей супругой?!
Желание вновь увидеть Матильду, только раз, еще один только раз.
Желание осыпать ее упреками, высказать всю боль и обиду, душившие его.
Желание…
Кто знает? А вдруг ей удастся оправдаться!
После тысячи сомнений, после тысячи колебаний он наконец решился и бросился к двери.
Но замок не поддался его усилиям, и шевалье понял, что капитан закрыл его на два оборота ключа.
Он подбежал к окну, проклиная своего друга.
То, что он мог проклинать кого-то другого, а не Матильду, принесло ему некоторое облегчение.
Вдруг ему пришло в голову, что если он станет кричать в окно, то, возможно, придет консьержка и сможет открыть дверь запасным ключом, ведь несомненно он должен у нее быть.
Он открыл окно и закричал.
Двор по-прежнему оставался пустынным.
Но чем больше препятствий вырастало на пути у шевалье, тем все сильнее и сильнее становилось его желание вновь увидеться с Матильдой.
— Да, да, да, — громко говорил он, — мне необходимо ее увидеть, и я ее увижу!..
Затем он вскричал:
— Матильда! Матильда! Матильда! Дорогая Матильда!
И, заламывая руки, он рухнул на ковер.
Вдруг он приподнялся и осмотрелся.
Его взгляд остановился на кровати: это было именно то, что он искал.
Он ринулся к кровати, подобно тому, как тигр бросается на свою добычу, сорвал простыни, разорвал их на полосы и стал связывать эти полосы между собой.
Этот человек, который в десятилетнем возрасте звал свою тетушку, чтобы она помогла ему спуститься с лестницы, у которого кружилась голова, когда он садился верхом на лошадь, — этот человек, без всякого спора с самим собою, решил спуститься из окна третьего этажа, используя разорванные простыни.
Закончив работу, он устремился прямо к окну.
По пути он проходил мимо двери. Шевалье остановился и еще раз попытался ее открыть, но это было бесполезно; он изо всех сил навалился на нее всем телом, но дверь была крепкой и прочной: она устояла.
— Вперед! — сказал шевалье.
И он привязал один конец своей веревки к перекладине окна.
Настала ночь, или, по крайней мере, уже спустились сумерки.
Господин де ла Гравери взглянул вниз и отпрянул назад; высота, на которой располагалось окно, вызвала у шевалье головокружение.
«У меня кружится голова, потому что я смотрю вниз. Если я не буду смотреть, то и голова больше не закружится», — решил он.
И он закрыл глаза, встал на окно, уцепился обеими руками за веревку и начал свой спуск.
На высоте второго этажа, то есть на полдороге, шевалье услышал треск у себя над головой; затем вдруг, ничем более не удерживаемый, он всей своей тяжестью упал с высоты пятнадцати футов.
Импровизированная лестница оборвалась; возможно, был плохо завязан узел или же старые простыни, уже износившиеся и разорванные на полосы, не выдержали веса человека.
Первым чувством шевалье была радость, что он находится на земле.
Он испытал сильное сотрясение во всем теле, но у него нигде ничего не болело.
Он попытался было встать, но тут же свалился снова.
Его левая нога отказывалась ему служить.
Она была сломана на три дюйма выше лодыжки.
Все же он попробовал сделать несколько шагов.
Но именно в это мгновение его пронзила нестерпимая боль, настолько нестерпимая, что он закричал, он, который, падая, даже не вскрикнул.
Потом у него все закружилось и поплыло перед глазами. Он добрался до стены, чтобы опереться о нее; но стена уходила от него, плывя, как и все остальное вокруг.
Он чувствовал, что теряет сознание.
Он еще раз произнес имя Матильды — это было последним проблеском его ума или, точнее, последним порывом его сердца, и сознание покинуло его.
Когда прозвучало это имя, ему показалось, что какая-то женщина ответила и направилась к нему и что это была Матильда.
Но разум его был подернут уже слишком густой дымкой и не мог с ясностью различать происходящее; шевалье протянул руки к милому образу, не зная, мечта это или реальность.
Это действительно была Матильда; совершенно не подозревая о событиях дня и видя, что Дьёдонне не возвращается, она дождалась наступления темноты и, набросив на шляпу густую вуаль, сначала побежала к г-ну де Понфарси.
Господина де Понфарси не было дома.
Тогда она побежала к г-ну Дюменилю.
Она пересекала двор, направляясь к черной лестнице, ведущей в скромную квартиру капитана, когда услышала крик, а затем увидела человека, который шатался как пьяный и в конце концов упал, выкрикивая ее имя.
И только тогда она узнала в этом человеке своего мужа.
Она метнулась к нему, обхватила его ладони своими руками и позвала:
— Дьёдонне! Дорогой Дьёдонне!
Звук этого голоса заставил Дьёдонне вздрогнуть в его небытии, он открыл глаза, и непередаваемое выражение восторга и счастья отразилось у него на лице.
Он хотел заговорить, но силы изменили ему, голос его не слушался, глаза вновь закрылись, и до Матильды донесся всего лишь протяжный и болезненный вздох.
В этот миг третье действующее лицо присоединилось к участникам этой сцены.
То был капитан Дюмениль.
Он увидел Дьёдонне, лежавшего без чувств, около него плачущую Матильду, разорванные на полосы простыни, свисавшие из окна, и все понял.
— О сударыня, — произнес он, — вам не хватает только стать причиной его смерти — его тоже.
— Как это его тоже? — спросила Матильда. — Что вы хотите сказать этим?
— Я хочу сказать, что тогда их будет двое.
И капитан бросил на брусчатку двора две шпаги; отскочив от нее, они зазвенели.
Затем он, как ребенка, поднял на руки Дьёдонне и отнес его к себе.
Матильда, рыдая, следовала за ними.
При том, что он был в полном беспамятстве, Дьёдонне все же имел смутное представление о происходящем.
Ему казалось, что он узнал комнату капитана; его положили на кровать, лишившуюся простынь; он слышал раздававшийся у него над ухом резкий и звучный голос Дюмениля и вторивший ему нежный, ласковый голосок Матильды.
Она обращалась к капитану: «Шарль!..»
У раненого началась горячка, и ему все время казалось, что он является свидетелем странного спектакля, где героями были его друг и его жена; судя по тому, что он слышал или, скорее, воображал, что слышит, его друг тоже обманывал его. Однако капитан проклинал ту, что толкнула его на этот шаг, который он теперь считал преступлением, и объявлял ей, что постарается искупить свою вину, посвятив себя отныне душой и телом своей жертве.
Матильда же стояла на коленях перед его кроватью; она поддерживала его, обнимала, целовала ему руки, просила пощады то у Дюмениля, то у него и, признавая свою вину, со своей стороны клялась искупить ее, живя в строгости и покаянии.
Затем глухой гул в ушах, возникающий, когда кровь подобно бурному потоку устремляется к сердцу и приливает к голове, поглотил голоса, и сознание полностью покинуло шевалье де ла Гравери.
Когда он пришел в себя, то почувствовал, что нога его уже взята в лубки. Он находился в комнате капитана и при свете лампы, горевшей на ночном столике, увидел, что его друг сидит в изножье кровати.
— А Матильда, — спросил он, обводя глазами всю комнату, — где она?
Этот вопрос заставил капитана подскочить на стуле.
— Матильда! Матильда! — невнятно пробормотал он. — Почему вы спрашиваете о Матильде?
— Куда же она ушла?.. Она ведь только что была здесь.
Если бы Дьёдонне в эту минуту посмотрел бы на честное, открытое лицо своего друга, он мог бы подумать, что тот сейчас, в свою очередь, упадет без чувств, так он был бледен.
— Друг мой, — сказал Дюмениль, — ты бредишь, никогда твоя жена не приходила сюда.
Дьёдонне посмотрел на Дюмениля блестевшими от горячки глазами.
— А я тебе говорю, что она была сейчас здесь и вся в слезах стояла на коленях, целуя мне руки.
Капитан сделал усилие, чтобы солгать.
— Ты сошел с ума! Госпожа де ла Гравери, без сомнения, находится сейчас у себя, ничего не подозревая о случившемся, и поэтому ей совершенно незачем было появляться у меня.
Шевалье издал тяжкий стон, и его голова упала на подушку.
— И все же, — сказал он, — я мог бы поклясться, что она была здесь всего несколько мгновений назад и, рыдая, просила прощения; что она… что она обращалось к тебе по имени.
Нечто подобное молнии пронзило мозг несчастного.
Он выпрямился, почти угрожая.
— Как вас зовут? — спросил он своего друга.
— Но ты же это хорошо знаешь, если только горячка не отняла у тебя память, — ответил Дюмениль.
— Нет, назовите ваше имя!
Капитан понял.
— Луи, — ответил он, — разве ты не помнишь?
— Да, это правда, — сказал Дьёдонне.
В самом деле, это было единственное имя, под которым он знал капитана, звавшегося Шарль Луи Дюмениль.
Потом ему пришло в голову, что, тревожась о судьбе мужа, его жена, по крайней мере, должна была бы прийти и справиться о нем.
— Но если ее здесь не было и нет, — горестно пробормотал он, — то где же она?
И прибавил так тихо, что Дюмениль едва мог расслышать:
— Конечно же, у господина де Понфарси.
Это предположение вновь пробудило его гнев.
— О! — произнес он. — Знаешь, Дюмениль, я должен его убить или пусть он убьет меня!
— Он не убьет тебя, а уж ты его тем более, — глухим голосом ответил капитан.
— Это почему же?
— Потому что он убит.
— Убит? Как же это?
— Отбойным ударом шпаги, нанесенным из четвертой позиции прямо в грудь.
— А кто его убил?
— Я.
— Вы, Дюмениль? И по какому праву?
— Я должен был уберечь тебя от верной смерти, мой бедный большой ребенок; твой брат, возможно, наденет траур по случаю того, что ты остался в живых, но тем хуже для него!
— И ты вызвал его, несчастный, сказав, что дерешься вместо меня, потому что Матильда мне изменила?
— Нет, успокойся; я дрался с господином де Понфарси, потому что он пил неразбавленный абсент, а я не выношу людей с такой ужасной привычкой.
Шевалье обеими руками обнял капитана за шею и, порывисто поцеловав, прошептал:
— Определенно, мне все привиделось.
Но тот, у кого это восклицание вызвало новые угрызения совести, осторожно высвободился из объятий шевалье, отошел от него и в полном молчании сел в углу комнаты.
«О Матильда! Матильда!» — прошептал про себя шевалье.
X ГЛАВА, В КОТОРОЙ ДОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ПУТЕШЕСТВИЯ ЗАКАЛЯЮТ МОЛОДЕЖЬ
Было решено, что шевалье останется у Дюмениля до тех пор, пока не поправится.
Признаться, капитан принял это решение, не посоветовавшись ни с кем, кроме самого себя.
Он положил раненого на свою постель, а сам устроился на канапе. Для человека, проделавшего почти все военные кампании времен Империи, это был не такой уж утомительный бивак.
Шевалье ни на минуту не сомкнул глаз: всю ночь он ворочался в постели, сдерживая рыдания, но отчаянно вздыхая.
На следующий день Дюмениль попробовал его отвлечь: он заговорил с ним об удовольствиях, об учении, о новых привязанностях; но шевалье де ла Гравери, отвечая ему, всякий раз неизменно возвращался к Матильде и к своему отчаянию.
Дюмениль здраво рассудил, что одно лишь время может исцелить Дьёдонне от тоски, а чтобы больной мог перенести эти страдания, ему необходимо отправиться странствовать, как только его состояние позволит это.
Полностью подчинив свою жизнь данному им обещанию, капитан, чей возраст с некоторого времени уже позволял ему выйти в отставку, предпринял необходимые шаги, чтобы оставить службу и уладить вопрос с пенсией.
Перелом ноги был довольно простым, и выздоровление раненого шло без осложнений, поэтому через полтора месяца, когда его друг вновь начал ходить, Дюмениль попросил шевалье де ла Гравери отправиться вместе с ним в Гавр, где, по его словам, у него было какое-то дело.
По приезде туда, поскольку Дьёдонне впервые видел море, Дюмениль настоял на том, чтобы они посетили пакетбот; шевалье безропотно последовал за ним; но, как только они поднялись на борт, Дюмениль объявил ему, что для них были заранее заказаны места на этом пакетботе и что завтра в шесть утра они отплывают в Америку.
Шевалье с изумлением выслушал его, но ни слова не возразил против этого плана.
В Париже в тот день, когда его друг, возможно, не без умысла оставил его одного, шевалье тайно наведался на Университетскую улицу, вне всякого сомнения, чтобы увидеться с г-жой де ла Гравери, а может быть, и простить ее.
Консьержка ответила ему, что на следующий день после того, как сам он не вернулся домой, г-жа де ла Гравери уехала и никому не известно, что с ней стало.
Все усилия шевалье де ла Гравери отыскать ее убежище привели лишь к одному: он утвердился в мысли, что она покинула Францию.
И лишь после того как бедный шевалье убедился, что не может проявить по отношению к своей жене снисходительность, доказательства которой он готов был ей предоставить, — только после этого он согласился последовать за своим другом в Гавр.
Впрочем, если Матильда покинула Францию, то, возможно, она покинула ее через Гавр, и, может быть, в Гавре благодаря счастливому случаю он что-нибудь узнает о ней.
Здесь надо признаться, что шевалье несколько утратил свою веру в судьбу и самым заурядным образом стал полагаться на случай, и прежде всего на счастливый случай.
Никаких препятствий к тому, чтобы покинуть Францию, не было, ведь Матильды больше не было во Франции.
Поэтому он устроился у себя в каюте, даже не выразив желания вновь сойти на берег.
На следующий день с чисто американской пунктуальностью пакетбот поднял якорь и вышел в море.
В течение всего плавания бедняга-шевалье страдал от морской болезни, и поэтому, вместо того чтобы думать о Матильде, он не думал больше ни о чем, так что капитан, подобно тому заключенному, которому до смерти наскучила его тюрьма и которому объявили о предстоящих ему пытках, готов был воскликнуть:
— Хорошо! Это хоть как-то развлечет на мгновение!
Но вот они прибыли в Нью-Йорк.
Суета большого торгового города, поездки по окрестностям, прогулки по Гудзону, посещение Ниагары сделали трехмесячное пребывание здесь вполне терпимым.
Но среди всего этого случались ужасные потрясения.
Время от времени шевалье встречал женщину, походившую на Матильду либо лицом, либо фигурой.
Тогда он отстранял руку своего друга, опрометью бросался вперед и семенил за дамой до тех пор, пока не сознавал свою ошибку, и, поняв это, он падал без сил прямо там, где стоял: или на скамейку, или на каменную тумбу, или даже прямо на землю, — и так оставался до той минуты, пока его друг не приходил за ним.
Вот почему капитан, решил его полностью избавить от этих испытаний, удалив от цивилизации.
Он поднялся с ним по реке Святого Лаврентия до Верхнего озера, по Миссисипи отплыл из Чикаго, спустился по реке до Сент-Луиса, поднялся по Миссури до форта Мандан и там, присоединившись к каравану, следовавшему вдоль русла реки Йеллоустон, пересек вместе с ним Сьерру де Лос Мембрес и достиг Санта-Круса, затем по Рио Колорадо спустился до Калифорнийского залива, пользуясь этой возможностью показать шевалье новые места, а главное, женщин, которые ни своим лицом, ни фигурой не могли бы напомнить шевалье г-жу де ла Гравери.
В ту пору Калифорния еще принадлежала Мексике и поэтому все еще была пустыней. Капитан и его друг остановились в бараке, стоявшем на том месте, где сегодня находится театр Сан-Франциско, — в бараке, в ту пору почти одиноко смотревшемся в воды Алого моря.
Шевалье проделал всю эту долгую дорогу то плывя на корабле, то сидя верхом на муле или лошади; его прежние страхи улетучились, и, не став первоклассным наездником, он все же научился более или менее умело справляться с различными верховыми животными, на которых ему приходилось садиться.
Помимо этого, его друг, воспользовавшись яростью, которая вызывала у г-на де ла Гравери неумолчная болтовня зеленых попугайчиков (целые стаи их встречаются от Санта-Круса до Калифорнийского залива), отвлекавших шевалье от его раздумий, дал ему в руки ружье, и мало-помалу под руководством Дюмениля шевалье научился обращаться с этим оружием.
Шевалье де ла Гравери не стал первоклассным стрелком, но, тем не менее, с тридцати шагов, без спешки целясь, он почти непременно попадал в зеленого попугайчика.
Стремясь разнообразить удовольствия, капитан время от времени заменял ружье на пистолет, а пулю — на дробь. Господин де ла Гравери начал с того, что, сделав первые сто выстрелов по первым ста попугайчикам, промахнулся все сто раз; потом он все же попал в одного из них, упустил пятьдесят и снова попал; затем он стал упускать не более двадцати пяти, двенадцати, шести; наконец, он начал попадать в одного попугая из четырех.
Его меткость в стрельбе из пистолета никогда не поднималась выше этого предела, но капитан, стрелявший в попугайчиков без промаха, посчитал, что его друг добился громадных успехов, и заявил, что чрезвычайно им доволен.
Затем, под тем предлогом, что г-н де ла Гравери склонен к полноте, он вынудил его заняться фехтованием. Ради этого упражнения, заставлявшего шевалье выйти из присущего ему обычного состояния апатии, капитану потребовалось употребить всю свою силу воли; но шевалье, как ребенок, привык повиноваться, и, будучи на третьем уровне в стрельбе из ружья, на четвертом в стрельбе из пистолета, он, по всей вероятности, был где-то на шестом или на седьмом в искусстве фехтования.
Все это не представляло ни для кого никакой опасности и не служило для нападения, но теперь при необходимости шевалье мог защитить себя, на что ранее он был совершенно неспособен.
Однако капитан вынашивал еще более дерзкий и отчаянный план: он хотел воспользоваться первым же судном, отплывающим на Таити, и предоставить своему другу возможность провести год в этом райской уголке Тихого океана, в этом цветнике Полинезии.
Случай не замедлил представиться.
Шевалье поднялся на борт, даже не поинтересовавшись, в какую точку земного шара он поплывет под этими парусами.
Двенадцать дней спустя они высадились на берег в Папеэте.
До сих пор капитан ни разу не замечал, чтобы его друг обращал хоть малейшее внимание на окружающий пейзаж, даже Ниагарский водопад всего лишь на мгновение смог привлечь его внимание, а единственным признаком его удивления было то, что он заткнул себе уши и сказал:
— Уйдем отсюда, а то я оглохну.
Он спускался по Миссисипи и видел, как мимо него проплывают трехэтажные гиганты, похожие на плавучий городской квартал, но даже не поднял глаз, чтобы посмотреть на их верх; он пересекал девственные леса, но, затерянный среди них, нимало не волновался, как можно будет выбраться оттуда; он блуждал в поисках пути в бескрайних прериях и ни разу вопросительно не посмотрел на горизонт, пытаясь угадать, придет ли им когда-нибудь конец.
Но, прибыв в Папеэте, он не мог удержаться, чтобы не сказать:
— В добрый час! Вот страна, которая производит на меня приятное впечатление… Как она называется, Дюмениль?
— У нее много имен, — ответил капитан. — Кирос, первый побывавший здесь, назвал ее Саиттария; Бугенвиль, как истинный француз восемнадцатого века, — Новой Киферой; Кук — островом Друзей; как видишь, у тебя широкий выбор.
Шевалье не стал расспрашивать дальше, для него и этого было уже слишком много.
Лоцман-индиец, поднявшийся на борт, провел судно между рифами, и оно бросило якорь в тихой, как озеро, бухте.
Множество канакских пирог приплыло за пассажирами; эти пироги, как и подобные им в Новой Зеландии, на Сандвичевых островах и на острове Пен, были выдолблены из целого ствола дерева.
Шевалье, спрыгнув в лодку, чуть ее не опрокинул, но это его не особенно взволновало.
— Подумать только, — сказал он, — еще немного, и я бы утонул.
— Как, разве ты не умеешь плавать? — спросил Дюмениль.
— Нет, — просто ответил шевалье, — но ведь ты меня научишь, не правда ли, Дюмениль?
Дюмениль уже столькому научил шевалье, и тот ничуть не сомневался, что капитан научит его и плавать, так же как научил фехтовать, ездить верхом, стрелять из ружья и пистолета.
— Нет, — сказал Дюмениль, — я не научу тебя плавать.
— О! — удивился Дьёдонне. — Почему же?
— Дело в том, что здесь в качестве учителей плавания выступают женщины.
Шевалье покраснел: он находил эту шутку несколько вольной.
— Лучше посмотри, — сказал Дюмениль.
Они подошли к борту, и, поскольку было пять часов вечера, капитан смог ему показать целую стайку женщин, резвившихся в воде.
Шевалье проследил глазами за движением рук капитана.
И тогда он увидел подлинный спектакль, невольно покоривший его.
Около дюжины женщин, обнаженных, как античные нереиды, плавали в этой голубой воде, такой прозрачной, что в тридцати — сорока футах под водой можно было рассмотреть ту изумительную подводную растительность, которая мало-помалу создала эти коралловые отмели и рифы, окружавшие остров.
Вообразите себе гигантские мадрепоры, имеющие форму громадных губок; каждое отверстие в этих губках было похоже на мрачную зияющую пропасть; было видно, как в них туда и обратно сновало бесчисленное множество рыб всех размеров, всех форм и всех расцветок: голубые, красные, желтые, золотистые!
И посреди этого великолепия, не обращая никакого внимания ни на пропасти, ни на скалы, ни на акул, время от времени стремительно проносившихся на горизонте, подобно стрелам из вороненой стали, плавали женщины-нимфы, не только не ведавшие, что такое стыд, но даже и не знавшие такого понятия: в языке местных жителей нет слова, обозначающего эту чисто христианскую добродетель. Распустив длинные волосы, единственное свое одеяние, женщины ныряли в этой воде, такой чистой и прозрачной, что она походила на сгустившийся воздух, кружились, переворачивались, сбивались в клубок, и чувствовалось, что море — это их вторая стихия и едва ли им требовалось всплывать на поверхность, чтобы перевести дыхание.
Бедный шевалье был близок к обмороку: у него все поплыло перед глазами как у пьяного.
Когда он ступил на землю, капитану пришлось его поддержать.
Он сел вместе с шевалье под цветущим панданом.
— Ну, — спросил Дюмениль, — что ты думаешь об этом уголке, мой дорогой Дьёдонне?
— Это рай, — ответил шевалье.
А потом со вздохом прошептал:
— О! Если бы Матильда была здесь с нами!
И с печальным выражением, так чуждым его округлому лицу, шевалье устремил взгляд в глубины бескрайнего горизонта.
Капитан оставил его под панданом предаваться мечтаниям, а сам вступил в переговоры с местными жителями: каким бы теплым ни был воздух, каким бы нежным ни было дуновение ветерка в бухте Папеэте, капитан не собирался ночевать под открытым небом.
Затем он вернулся к Дьёдонне.
Было шесть часов вечера — время, когда наступает ночь; солнце, похожее на раскаленный круг, быстро опускалось в море.
На Таити и ночь и день длятся ровно двенадцать часов, в любое время года солнце встает в шесть утра и заходит в шесть вечера, и каждый в любое из этих мгновений дня может поставить свои часы по этому грандиозному небесному механизму с такой же точностью, с какой в прошлом это делали парижане по часам Пале-Рояля.
Капитан кончиком пальца дотронулся до плеча Дьёдонне.
— Что такое? — спросил его шевалье.
— Ничего. Это я, — сказал капитан.
— Чего ты хочешь?
— Черт возьми! Я хочу спросить, что ты собираешься делать?
Шевалье посмотрел на капитана удивленными глазами.
— Что я собираюсь делать? — повторил он.
— Конечно.
— Боже мой! — вскричал почти в ужасе шевалье. — Разве это меня касается?
— Да, ведь речь идет о том, где мы будем жить. Ты собираешься остаться здесь на некоторое время?
— Так долго, как ты этого захочешь.
— Ты хочешь жить здесь по-европейски или по обычаям местных жителей?
— Мне все равно.
— Поселиться в гостинице или в хижине?
— Как ты хочешь.
— Ладно, пусть все будет так, как хочу я, но потом не жалуйся.
— Разве я когда-нибудь жаловался? — спросил Дьёдонне.
«Это правда, бедный агнец Божий!» — прошептал капитан про себя; затем, обращаясь к шевалье, он сказал:
— Хорошо, посиди здесь еще минут десять, полюбуйся закатом солнца, а я пойду позабочусь о нашем жилище.
Дьёдонне кивнул в знак согласия; он имел все такой же грустный и печальный вид, но у него вдруг появилось неведомое ему ранее ощущение физического блаженства.
Едва солнце скрылось в море, как сразу же почти с волшебной быстротой спустилась ночь.
Но что это была за ночь!
Это не был мрак, это было отсутствие света. Воздух был светел и прозрачен, как это бывает в самые прекрасные закатные часы в наших широтах; в море каждая рыба сверкала огненным лучом; в небе каждая звезда, казалось, распускалась подобно розе или пламенеющему васильку!
Капитан вернулся за Дьёдонне.
— О! — сказал тот. — Дай мне еще полюбоваться этой красотой.
— А! — радостно откликнулся капитан. — Наконец-то ты почувствовал это!
— Да, и мне кажется, что только с этого вечера я начинаю жить.
— И все же пойдем, ты сможешь наслаждаться всем этим из твоей комнаты.
— Из окна?
— Нет, через перегородку. Идем же!
Впервые Дьёдонне не сразу послушался капитана.
Они направились к дому.
В состоянии шевалье были заметны и другие перемены; побывавший в стольких домах после того, как он покинул комнату капитана, и не обращавший на них никакого внимания, Дьёдонне с интересом осмотрел свое будущее жилище.
Правда, оно было весьма примечательным.
На первый взгляд оно скорее напоминало клетку для птиц, нежели жилье человека.
Дом был почти квадратным, но из-за того, что две его стороны были закруглены, он казался вытянутым в одном направлении; его покрывали листья пандана, уложенные подобно черепице.
Его можно было принять за большую решетчатую загородку, похожую на те, что ставят вдоль стен наших садов, чтобы по ним поднимались вверх лианы дикого винограда и вьюнка.
Крыша опиралась на столбы.
Она состояла из балок, покрытых красно-черными циновками; в углу валялся матрас, набитый морскими водорослями, и большой белый кусок полотна.
Это были постель и белье.
В середине комнаты возвышался маленький стол, на котором стояли фрукты, молочные продукты и хлеб.
Все это освещалось зажженными фитилями, которые были опущены в сосуды из тыквы, заполненные кокосовым маслом и служившие лампами.
Через ажурные стены видны были небо, море и как бы парящий между этими двумя бесконечными стихиями столь же бесконечный хоровод золотистых звезд.
— Итак, — сказал Дюмениль, обращаясь к Дьёдонне, — ты понял, что ничто тебе не помешает видеть происходящее снаружи.
— Да, мой друг, — ответил шевалье, — но…
— Что но?
— Если мне ничто не помешает видеть происходящее снаружи, то ничто также не помешает человеку, находящемуся вне дома, наблюдать за мной.
— Ты собираешься заняться чем-то плохим? — спросил Дюмениль.
— Боже сохрани! — ответил шевалье.
— Но тогда чего же тебе бояться? — поинтересовался Дюмениль.
— Действительно, чего мне бояться? — повторил шевалье.
— Совершенно нечего.
— Здесь нет ни змей, ни ужей, ни крыс?
— Ни одного вредного животного на всем острове.
— Ах! — вздохнул шевалье. — Матильда! Матильда!
— Опять! — вырвалось у Дюмениля.
— Нет, друг мой, нет! — вскричал шевалье. — Но если бы она была здесь…
— Что тогда?
— Я никогда бы не вернулся во Францию.
Капитан посмотрел на своего друга и, в свою очередь, не смог сдержать вздоха.
Но как ни похожи друг на друга вздохи, вздох шевалье ничем не напоминал вздоха капитана.
Первый был рожден глубокой печалью; второй — угрызениями совести.
XI МААУНИ
Шевалье сел за стол, съел гуайяву, два или три банана и некий неведомый ему фрукт, красный, как клубника, и большой, как яблоко сорта ранет.
Затем вместо хлеба он обмакнул в чашку с кокосовым молоком клубни маниоки; затем на вопрос друга — а шевалье вступал в разговор только тогда, когда его спрашивали, — он объявил, что никогда в жизни еще так славно не ужинал.
После ужина капитану с трудом удалось его уговорить раздеться, чтобы лечь в постель. Эти решетчатые стены тревожили его стыдливость.
И только после того, как Дюмениль убедил его, что после десяти часов вечера все жители Папеэте уже лежат в постелях, шевалье решился снять одежду.
И все же, как ни уверял его капитан, что в этом полинезийском Эдеме женщины и мужчины спят обнаженными, испытывая высшее наслаждение, когда их кожу ласкает нежное бархатистое дуновение ночного ветерка, он наотрез отказался расстаться со своей рубашкой и кальсонами.
Уложив шевалье в постель, как он это обычно делал каждый вечер вот уже в течение трех лет, капитан удалился к себе — иначе говоря, во вторую из отведенных им в хижине комнатушек.
Хижину эту занимала таитянская семья; когда капитан снял у них жилье, они, согласно взаимной договоренности, незамедлительно освободили две комнаты.
Шевалье не знал этих подробностей; он никогда ничем не интересовался и ни о чем не спрашивал, и, поскольку перегородка, отделявшая шевалье от его хозяев, была плотно закрыта, ему и в голову не пришло спросить, что находится по другую ее сторону.
Единственное, что притягивало взгляд шевалье, если что-то все же притягивало его взгляд, была величественная картина природы; казалось, она была создана для того, чтобы служить фоном для глубокого чувства. И не забывайте (мы уже говорили об этом): прошло всего несколько часов, как бедняга Дьёдонне вспомнил о том, что у него есть глаза.
Он лег и, постепенно все дальше и дальше уходя от своих воспоминаний, любовался сквозь щели в хижине этим прекрасным небом и этим лазурным морем.
В нескольких шагах от хижины, невидимая в зарослях, пела птица; это был соловей Океании, птица любви, великолепный туи, который бодрствует, когда все спят, и поет, когда все кругом замолкает.
Шевалье, опершись на локоть и приблизив лицо к одному из отверстий в стене хижины, слушал и смотрел, и его обволакивала некая непередаваемая атмосфера грусти и одновременно блаженства; можно было подумать, что умиротворение этой ночи, чистота этого неба, гармония этого пения материализовались и что все это вместе породило некую очистительную атмосферу, предназначенную самим Провидением для того, чтобы дать отдых усталым членам и наполнить радостью страдающие сердца.
Шевалье показалось, что впервые за три года он стал дышать полной грудью.
Вдруг ему послышались легкие шаги ребенка, который шел, едва касаясь травы. И в прозрачной темноте ночи перед его взором возникли очертания прелестной фигурки юной девушки четырнадцати-пятнадцати лет; ее единственным одеянием служили длинные волосы, а все украшения ей заменяли два изумительных в своем великолепии цветка лотоса — белый и розовый, того лотоса, который плавает на поверхности ручьев и цветки которого юные таитянки избрали своим любимым украшением, вставляя их в виде гирлянд себе в мочки ушей.
Девушка лениво тянула за собой циновку.
В десяти шагах от хижины, под апельсиновым деревом, напротив зарослей, в которых пел туи, она расстелила эту циновку и легла на нее.
Шевалье не понимал, видит ли он это наяву или во сне, должен ли он закрыть глаза или может держать их по-прежнему открытыми.
Никогда из-под резца скульптора не выходило творение более прекрасное; однако казалось, что оно было выполнено не из бледного каррарского или паросского мрамора, а из флорентийской бронзы.
Несколько мгновений она забавлялась, слушая пение туи и время от времени движением плеча раскачивая апельсиновое дерево (она опиралась на него спиной), которое осыпало ее дождем своих белоснежных благоухающих цветов.
Затем, не имея никакого другого одеяния, кроме своих длинных волос, которые, впрочем, почти целиком окутывали ее фигуру как покрывалом, она плавно опустилась на землю и заснула, прикрыв рукой голову, подобно тому, как прячет голову под крыло птица.
Шевалье, чтобы заснуть, потребовалось гораздо больше времени, и ему это удалось лишь после того, как он повернулся спиной к перегородке и произнес имя Матильды, как щитом заслоняясь им от увиденного.
На следующее утро капитан, войдя в комнату своего друга, нашел его не только проснувшимся, но и уже вполне одетым, хотя едва было шесть часов. Шевалье пожаловался, что плохо спал этой ночью. Дюмениль предложил ему пойти прогуляться, чтобы поднять настроение, и шевалье охотно согласился с этим.
В ту минуту, когда они собирались уходить, в перегородке открылась дверь и в проеме появилась молодая девушка.
Она поинтересовалась у двух друзей, не нуждаются ли они в чем-нибудь.
Дьёдонне узнал в ней свою спящую красавицу минувшей ночи и покраснел до ушей.
На этот раз, однако, она была в своем дневном наряде.
Что представляло собой ее ночное одеяние, нам известно.
Дневной же наряд состоял из длинного белого платья, совершенно прямого, открытого спереди и ничем не стянутого на шее; поверх этого платья вокруг бедер был обмотан кусок фуляра с огромными розовыми и желтыми цветами на голубом фоне.
Руки, ступни и ноги до колен оставались обнаженными.
Весь красный, шевалье рассмотрел ее более пристально, чего он не осмелился сделать прошлой ночью.
Как мы уже сказали, это была девочка четырнадцати лет; однако на Таити четырнадцатилетняя девочка уже женщина. Она была невысокого роста, как это свойственно таитянкам, но при этом прекрасно сложена; ее кожа имела великолепный медный оттенок; у нее были, и об этом нам тоже уже известно, длинные волосы, шелковистые и черные, как вороново крыло; красивый разрез бархатистых глаз, опушенных длинными черными ресницами; широкие и раздувающиеся ноздри, как у индейцев, созданные для того, чтобы вдыхать опасность, наслаждение и любовь; выпирающие скулы, несколько плоский нос, округленный и чувственный рот, белые, как жемчуг, зубы; маленькие, изящные, красивой формы руки; гибкая, как тростинка, талия.
Капитан поблагодарил юную островитянку, представив ее своему другу как дочку их хозяйки, и заявил, что он вернется лишь в девять часов.
Девушка, похоже, прекрасно поняла все сказанное капитаном, а тот, закончив говорить, казалось, ожидал, что его друг поступит точно так же, как он; но Дьёдонне воздержался. Он посторонился, чтобы не задеть кусок фуляровой материи на бедрах девушки и прошел мимо, раскланявшись так, будто приветствовал парижанку на бульваре Капуцинок.
После этого он быстро увлек за собой своего друга.
Было очевидно, что молодая девушка внушает ему своего рода страх.
Но капитана все это ничуть не удивило: он знал, что шевалье совершенно теряется в присутствии женщин, хотя и не предполагал, что его друг будет обходиться с какой-то таитянкой как с настоящей женщиной.
И, указывая на молодую девушку, с грустью смотревшую, как они удаляются, он спросил у шевалье:
— Почему ты ничего не сказал Маауни? Это ее обидело.
— Ее зовут Маауни? — в свою очередь задал вопрос шевалье.
— Да; красивое имя, не правда ли?
Дьёдонне промолчал.
— Ты что-то имеешь против этой девушки? Тогда мы переедем в другую хижину, — сказал капитан.
— Нет, нет! — живо ответил Дьёдонне.
И они продолжили свой путь. Дюмениль, подобно Тарквинию, срубал макушки у слишком высоких трав, со свистом размахивая своей бамбуковой палкой.
Дьёдонне молча шел вслед за ним.
По правде говоря, это молчание было столь характерно для шевалье, что если капитан и заметил его, то оно ничуть его не обеспокоило.
Этой первой прогулки было достаточно, чтобы два друга признали, что по крайней мере в плане растительности уголок земли, где они бродили, был настоящим чудом природы.
Город имел одновременно скромный и чарующий вид; обладая честью носить титул столицы, он скорее выглядел как огромная деревня, нежели как город; каждая хижина стояла в саду, окруженная деревьями, под сенью которых она, казалось, пряталась; чуть дальше на окраине, где кончались постройки и улицы уступали место тропинкам, деревья самой причудливой формы, сплошь покрытые цветами или усыпанные плодами, смыкали свои кроны наподобие бесконечного зеленого свода; вдоль посыпанных мельчайшим песком аллей тянулись сводчатые галереи, образованные банановыми, апельсиновыми и лимонными деревьями, кокосовыми пальмами, гуайявами, папайей, панданом; среди них высилось железное дерево, своим красным стволом и ветками напоминавшее гигантскую спаржу, оставленную на семена.
Благоуханное струящееся дыхание ветерка, овевающее стволы деревьев; пернатые самых причудливых расцветок; птичье пение и женские голоса, раздающиеся под сводом леса, — это было подлинное волшебное царство, которое можно было бы назвать островом цветов и благовоний.
После часовой прогулки, обойдя вдоль и поперек нечто напоминающее английский сад, капитан остановился: до него доносился какой-то странный гомон, и природу его он никак не мог определить; Дюмениль покинул тропинку, прошел около пятидесяти шагов между деревьями, раздвинул листву, подобно тому, как поднимают занавес, и, восхищенный, неподвижно замер, онемев от восторга.
Дьёдонне проследил за ним взглядом (когда он был рядом с капитаном, то казалось, что вся его сила воли переходила к его другу: он повиновался ему, как тело повинуется душе, он следовал за ним, как тень следует за телом).
Капитан молча сделал Дьёдонне знак приблизиться.
Тот машинально подошел к капитану и рассеянно взглянул.
Но его рассеянность быстро улетучилась; зрелище, представшее перед его глазами, могло привлечь внимание даже самого Рассеянного — персонажа Детуша.
Деревья, сквозь которые капитан и шевалье смотрели на открывшуюся их взгляду картину, росли вдоль берега реки.
В реке кружком, словно в каком-нибудь салоне, сидели и лежали около тридцати совершенно обнаженных женщин.
Поскольку высота воды в реке едва достигала двух футов, то у тех, что сидели, лишь нижняя часть тела была скрыта водой, столь прозрачной, что она не могла служить даже легкой вуалью; а у тех, что лежали, из воды высовывались только головы.
Волосы у всех женщин были распущены; все они с наслаждением вдыхали свежий утренний воздух, сплетая из цветов венки, подвески к ушам и ожерелья.
Кувшинки, китайские розы и гардении широко использовались для этого туалета.
Эти восхитительные создания, как будто понимая, что сами они не что иное, как живые цветы, отдавали всю свою любовь цветам, своим неодушевленным сестрам; рожденные на ложе из цветов, они жили среди цветов, а после смерти их погребали под цветами.
Украшая венками голову, вешая ожерелья на шею, вдевая цветы себе в уши, женщины не умолкали ни на минуту: они беседовали друг с другом, что-то рассказывали, подобные стайке птиц, живущих в пресных водах, когда, опустившись на озеро, они принимаются щебетать наперебой.
— Мой друг, — сказал шевалье, указывая пальцем на одну из женщин, — вот она!
— Кто? — спросил капитан.
Шевалье покраснел; он узнал спящую красавицу минувшей ночи, прелестную хозяйку сегодняшнего утра, но забыл, что ни слова не сказал капитану о своем видении, и показал ему прекрасную Маауни.
У капитана не было таких весомых причин, как у шевалье, обратить на нее свое внимание, и он повторил вопрос:
— Кто?
— Никто, — сказал шевалье, отступая назад.
Можно было подумать, что движение шевалье послужило сигналом к окончанию этой водной процедуры.
В одно мгновение все тридцать купальщиц были на ногах.
Они выбрались на маленький островок, покрытый травой, где лежала их одежда, выждали какое-то время, пока вода, струясь, стекала по их прекрасным телам как по бронзовым статуям; затем струйки понемногу подсохли и капли стали реже: можно было бы перечесть по пальцам те жемчужины, что скатывались со лба на щеки и со щек на грудь; наконец каждая, подобно Венере — Астарте, выходящей из моря, подобрала и отжала волосы, надела платье, закрутила вокруг бедер па ре о и не торопясь направилась по дороге домой.
Капитан напомнил своему другу, что подошло время завтрака; он зажег сигару, по привычке предложив Дьёдонне разделить с ним это удовольствие. Дьёдонне отказался от этого предложения (канониссы, среди которых он воспитывался, питали к табаку непреодолимое отвращение), и они отправились домой.
Случайно или благодаря своему умению ориентироваться капитан избрал самую короткую дорогу, поэтому они нагнали на своем пути прекрасную Маауни, которая по своей беззаботности выбрала, напротив, самую длинную.
Заметив двух друзей, она остановилась на обочине дороги, изогнувшись в бедрах, в одной из тех поз, которые женщины принимают, пребывая в полном одиночестве, и которых художник никогда не сможет добиться от своей модели.
Затем, испытывая пристрастие к тому наслаждению, какое дарит сигара и какое с пренебрежением отвергал Дьёдонне, она сказала, обращаясь к капитану:
— Ма ava ava iti.
На таитянском языке это означало: «Мне сигару, маленькую».
Капитан не понял слов, но, поскольку девушка сделала вид, будто она вдыхает и выдыхает дым, он понял этот жест.
Дюмениль достал сигару из кармана и протянул ей.
— Nar, nаг, — произнесла она, отстраняя нетронутую сигару и указывая на ту, что дымилась во рту капитана.
Тот понял, что капризное дитя желает зажженную сигару.
Он отдал ее девушке.
Таитянка поспешно сделала две затяжки, почти тут же выдохнув дым обратно.
Затем она затянулась в третий раз, на этот раз так глубоко, как только смогла.
После этого она кокетливо попрощалась с офицером и ушла, откинув голову назад и пуская кольца дыма, набирая его в рот, а затем выпуская вверх в воздух.
Все это сопровождалось теми движениями бедер, секретом которых, как полагал до сих пор капитан, владеют одни лишь испанки.
Дюмениль исподтишка взглянул на своего друга: тот шел опустив глаза и совсем тихо шептал одно имя.
Это было имя Матильды.
Однако Дюмениль с некоторым удовлетворением заметил, что Дьёдонне теперь уже едва слышно шептал это имя, которое раньше так громко звучало в его устах.
Выпустив последнее кольцо дыма, девушка сняла парео с бедер, растянула его над головой на всю ширину рук и исчезла в роще лимонных деревьев.
Ее можно было принять за летящую бабочку.
Вернувшись в хижину, друзья нашли свой стол накрытым.
Так же как и накануне, им подали часть плода хлебного дерева, корень маниоки, испеченный в золе, разнообразные фрукты, молоко и масло.
Но внутри хижины никого не было, и можно было подумать, что стол накрыли феи.
Однако похоже было, что в это время ели не только гости, но и хозяева. Дьёдонне, сидевший так, что он мог видеть сквозь перегородки хижины, заметил молодую девушку; встав на цыпочки, она снимала небольшую корзинку, висевшую на нижних ветвях гардении; затем, сев и опершись спиной о ствол дерева, она принялась доставать из нее свой завтрак.
Он состоял из полудюжины фиг, четверти плода, похожего на дыню, куска рыбы, завернутой в лист банана и испеченной в золе, и части плода хлебного дерева.
Шевалье, забыв о своей еде, наблюдал за трапезой Маауни.
Дюмениль заметил рассеянность своего товарища; он повернул голову и увидел молодую девушку, которая завтракала, не обращая на них внимания.
— А! Ты разглядываешь нашу хозяйку, — сказал капитан.
Шевалье покраснел.
— Да, — сказал он.
— Если хочешь, я позову ее позавтракать с нами.
— О нет, нет! — откликнулся шевалье. — Я думал только о том, как хорошо и свежо под этими деревьями.
— Если хочешь, мы присоединимся к ней и позавтракаем там.
— Нет же, нет! — воскликнул шевалье. — Нам хорошо здесь; однако давай поменяемся местами: солнце бьет мне в глаза.
Капитан покачал головой: очевидно, он догадался, что за солнце слепило глаза шевалье.
Он без единого возражения пересел на его место.
После завтрака шевалье спросил:
— Что мы будем делать?
— То, что здесь всегда делают после еды, — отвечал капитан, — отдыхать.
— О! — промолвил шевалье. — В самом деле, я очень плохо спал этой ночью и чувствую себя совершенно разбитым.
— После отдыха ты придешь в себя.
— Я думаю.
И оба вышли из хижины в поисках подходящего места, ведь послеобеденный отдых на свежем воздухе гораздо приятнее, чем в хижине, как бы хорошо она ни проветривалась.
Однако шевалье не хотел, чтобы его беспокоили во время сна.
Капитан указал ему на сад их хижины как на самое надежное место.
Они вместе обошли сад, подыскивая удобный уголок.
Шевалье остановил свой выбор на мягком ковре лужайки, затененной ветками гардении, которые, ниспадая до самой земли, образовывали нечто вроде шатра.
Источник прохладной и прозрачной воды, бивший из-под корней гардении, слегка увлажнял эту лужайку, понравившуюся шевалье.
Дюмениль, в большей степени заботящийся о прозе жизни, чем его друг, предусмотрительно захватил с собой широкую циновку; он расстелил ее на траве, покрытой каплями влаги.
— Оставайся здесь, — сказал он, — раз тебе нравится; я же пойду поищу какое-нибудь другое местечко, где тень будет такой же густой, а трава более сухой.
Дьёдонне редко возражал, когда его друг принимал какое-нибудь решение; он расстелил циновку, на которой могли бы улечься четыре человека, проследил, чтобы под ней не было ни одного камешка, способного впиться ему в тело, и только после этого заметил ее размеры. Он обернулся с намерением сказать капитану, что, на его взгляд, здесь вполне достаточно места и для двоих.
Но капитан уже исчез.
Тогда шевалье решил один воспользоваться всей циновкой. Он снял свой редингот, свернул его и положил вместо подушки под голову. Некоторое время он созерцал бесплодные попытки солнечных лучей проникнуть сквозь ветки гардении, следил взором за маневрами двух птичек, казалось, высеченных из одного и того же куска сапфира, затем закрыл глаза, открыл их, вновь закрыл, вздохнул и уснул.
XII КАК ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛА ГРАВЕРИ НАУЧИЛСЯ ПЛАВАТЬ
Сон не такое уж надежное убежище против тех видений, что со вчерашнего дня непрестанно волновали шевалье.
Поэтому он спал очень неспокойно.
Сначала ему приснились прекрасные ныряльщицы, виденные им накануне; но только у них, как у сирен с мыса Цирцеи, были рыбьи хвосты; одна из них держала в руках лиру, другая — систру, у каждой был какой-нибудь инструмент, которым она аккомпанировала восхитительному пению, голосу, обещавшему любовь и несказанное наслаждение; но шевалье, воспитанный на мифологических традициях XVIII века и знавший, какую опасность сулит подобный концерт, отворачивал голову и, подобно Улиссу, затыкал себе уши. Затем он высадился на землю. Где? Этого он и сам не знал; вероятно, в Фивах или Мемфисе, так как по дороге, справа и слева, на мраморных пьедесталах он видел сидящих на задних лапах чудовищ с телом льва, но с головой и грудью женщины, символов богини мудрости Нейт, в античности названных сфинксами, но, вместо того чтобы быть высеченными из мрамора, как и их пьедесталы, эти сфинксы были живыми, хотя и прикованными к своему месту; их глаза открывались и закрывались, их грудь вздымалась и опускалась, и шевалье казалось, что они его буквально обволакивали ласковыми, любящими взглядами; наконец, один из них, с усилием подняв лапу, простер ее к шевалье, и тот, чтобы избежать прикосновения, отпрыгнул в противоположную сторону; но второй сфинкс в свою очередь поднял лапу, и так же поступили остальные.
И все же было очевидно, что египетские чудовища — их нежные взгляды и вздымающаяся грудь служили тому доказательством — не имели злого умысла против шевалье.
Даже наоборот.
Но шевалье, казалось, больше опасался доброжелательного отношения чудовищ, чем их ненависти.
Он раздумывал, куда убежать и как это сделать.
Это была нелегкая задача: пьедесталы пришли в движение, будто заведенные каким-то гигантским механизмом, и шевалье оказался в непроходимом кольце.
В этот миг ему показалось, что рядом с ним возникло облако, из которого исходило сияние: на таком обычно в театре возлежат зачарованные принцессы. Оно, казалось, только и ждало того мига, когда шевалье опустится на него, чтобы покинуть землю.
А глаза чудовищ становились все нежнее, их грудь волновалась все сильнее и сильнее, их когти уже почти разрывали ворот его одежды, и шевалье отбросил все сомнения: он лег на облако и вознесся вместе с ним.
Но теперь бедному Дьёдонне показалось, что облако оживает, что его хлопья — это не что иное, как газовое платье, а твердое основание, на которое он опирался, — это тело; и, так же как тело Ириды, посланницы богов, способное, как и она, пересекать пространство, это тело принадлежит красивой молодой девушке с округлыми формами, с живой трепещущей плотью и огненным дыханием.
Она спасла шевалье — но для себя одной; она уносила его прочь от опасности — но в свой грот; она опустила его на ложе из мельчайшего золотого песка — но рядом с собой, и, как будто ее дыхание было в силах зажечь в земной груди огонь, горевший в ее божественной груди, прекрасная посланница, казалось, обожгла его губы пламенным дыханием своего сердца.
Это ощущение было столь явственным, что шевалье вскрикнул и проснулся.
Оказалось, он грезил лишь наполовину.
Маауни спала рядом с ним, и именно дыхание молодой таитянки обжигало его.
Подобно шевалье, Маауни после завтрака принялась за поиски места, где она могла бы насладиться дневным отдыхом.
Она заметила шевалье, спящего в самом очаровательном уголке сада и лежащего на циновке, размеры которой в три раза превышали потребности одного человека; прелестное дитя природы, она не увидела ничего плохого в том, чтобы позаимствовать у него на час или два ненужный ему кусок циновки.
И на этом куске циновки она заснула без всякой задней мысли, как ребенок около своей матери.
Однако во время сна ее, вероятно, тоже преследовало какое-то видение; она откинула вытянутую руку, ее грудь бурно вздымалась, а ее огненное дыхание коснулось губ шевалье.
Она по-прежнему продолжала спать.
Шевалье деликатно отстранил руку молодой девушки, лежавшую на его плече, со всеми мыслимыми и немыслимыми предосторожностями отодвинулся, с трудом встал на ноги, но, почувствовав, что ноги повинуются ему, бросился бежать, не разбирая куда, оставив свой редингот, который он перед сном положил на землю, чтобы воспользоваться им как подушкой, и который в данную минуту служил подушкой Маауни.
Шевалье спасался бегством в сторону моря и остановился только тогда, когда оно возникло у него на пути как препятствие.
Было около часу дня, когда солнце в своем зените сжигало лучами небо, а рикошетом и землю.
Шевалье представил, какое пленительное наслаждение, какое восхитительное блаженство должны испытывать ныряльщики, способные, как рыбы или таитянские женщины, скользить под водою. И вот тогда он почти до боли пожалел, что не овладел этим искусством, составляющим неотъемлемую часть мужского воспитания.
Но, не умея плавать, он тем не менее мог насладиться той прохладой и свежестью, что дарила вода; в изгибах побережья он заметил естественные гроты, где море создало нечто вроде ванн.
Там его ждали те два наслаждения, которых он так жаждал: тень и освежающая прохлада.
Шевалье решил воспользоваться ими.
Он спустился на берег моря, а это было нелегко сделать, так как настала пора отлива, и, словно по мановению волшебной палочки, исполнявшей все его желания, нашел грот, высеченный, казалось, по образцу грота Калипсо.
Шевалье тщательно осмотрел все его закоулки, проверяя, не живет ли в нем кто-нибудь.
Грот был совершенно пустым.
Тогда он, решив, что его стыдливость не подвергается никакой опасности, одну за другой снял все детали своего костюма, сложил их в маленький грот, располагавшийся рядом с большим и представлявший его миниатюрную копию, и, нащупывая ногами дорогу, проник под свод утеса.
Даже в самом глубоком месте шевалье едва ли обнаружил три фута воды.
Эта теплая вода, сохраняющая, однако, свою свежесть благодаря тому, что она находилась в тени утеса, добавила ему самые дивные ощущения, какие он когда-либо испытывал.
Он спрашивал себя, как это человек может не уметь плавать.
Но тут же отвечал сам себе: чтобы научиться плавать, необходимо предстать перед другими людьми почти голым, а Дьёдонне дамами-канониссами было привито такое понятие стыдливости, что он, представляя себе в качестве своего учителя плавания даже Дюмениля, вздрагивал, хотя тот и был его лучшим другом.
К счастью, он открыл для себя этот грот; он никому о нем не скажет ни слова и будет проводить здесь часть своего времени; чувство блаженства, испытанное им в этом месте, было таково, что могло бы заменить ему любой другой отдых.
Очевидно, рассудок не требует никакого другого развлечения, когда чувство телесного блаженства так сильно, что человеку недостает всех его физических и умственных сил, чтобы полностью насладиться им.
Шевалье блаженствовал так час или два, совершенно забыв о времени.
Внезапно всплеск воды от упавшего в нее тяжелого тела вывел его из этого восторженного состояния.
Он смутно различил какую-то тень, промелькнувшую в воздухе, но не мог сказать, что это было такое.
Через мгновение он увидел, как на поверхности моря появилась голова смеющейся девушки.
Это была Маауни.
Она выкрикнула несколько слов, похожих на призыв к товаркам.
Зов не был напрасным.
Какое-то тело пересекло пространство, промелькнув со скоростью молнии, и погрузилось в воду с тем же шумом, который шевалье уже слышал.
Затем появилось третье, четвертое, десятое, двадцатое.
Это были все те же прекрасные бездельницы, которых шевалье видел утром купающимися в реке и которые, чтобы разнообразить свое удовольствие, принимали теперь морские ванны.
На поверхности одна задругой показались все головы, а затем эти дочери Амфитриты, как сказал бы древнегреческий поэт, предались своей любимой забаве — нырянию.
Дьёдонне видел их, но они не могли видеть его, спрятавшегося под сенью своего грота.
Прошел второй час, и мы должны признать, что он показался шевалье не длиннее первого.
Добавим также, что спектакль, разыгравшийся у него перед глазами, завладел всем его вниманием, и он не замечал, как прибывает вода, пока она не дошла ему до подмышек.
Все объяснялось просто: начинался прилив.
Дьёдонне не придал значения этому явлению и испытал беспокойство, лишь увидев, как на поверхности воды плавает его одежда.
Грот, где шевалье оставил ее, был расположен ниже того, где он находился; море проникло в него в первую очередь и унесло с собой вещи шевалье.
Заметив свою одежду, качающуюся на волнах, шевалье захотел было закричать, но это означало выдать свое присутствие женщинам, и на это он не осмелился.
Если на нем были хотя бы те вещи, что покачиваясь, удалялись сейчас, он без колебаний появился бы одетым перед женщинами; ведь они не были похожи на богинь, готовых наказать его, словно Актеона.
Но если бы он был одет, у него не было бы причин звать на помощь.
Шевалье ошибался в этом, так как его положение становилось серьезным.
Вода, доходившая ему до пояса, когда он только вошел в грот, и постепенно поднявшаяся до подмышек, теперь уже достигала его подбородка.
Правда, отступив на несколько шагов, он мог выиграть один фут.
Но шевалье уже начинал понимать свое положение.
Вода прибывала.
Осмотревшись вокруг себя, он мог определить, на какую высоту море заливало грот.
В самый пик прилива уровень воды был бы на четыре фута выше его головы.
Шевалье чуть не лишился чувств, ледяной пот заструился у него в волосах.
В эту минуту ныряльщицы подняли громкий крик: они заметили его одежду.
Поскольку они не знали, что все это означает, то всей стайкой поплыли к гроту.
Но вместо того чтобы позвать их на помощь, Дьёдонне, переполненный стыдом, отступил вглубь настолько, насколько это ему удалось.
Юные женщины с озадаченным видом взяли в руки его вещи: одна — жилет, вторая — брюки, третья — рубашку; они словно спрашивали себя, как это все могло попасть сюда.
Сомнений быть не могло: это была одежда европейца.
Шевалье испытывал горячее желание потребовать у них обратно свои вещи: но, заполучив их вновь в свои руки, что^ он будет с ними делать? Ведь они промокли насквозь.
Спасаясь, ему пришлось бы взять их с собой, а у него уже не было шансов спасти себя самого.
Вода безостановочно прибывала.
Шевалье понимал, что через десять минут она накроет его с головой.
Одна накатившаяся волна, более высокая, чем все остальные, покрыла его лицо пеной.
У шевалье безотчетно вырвался крик.
Этот крик был услышан ныряльщицами.
За первой волной последовала вторая.
Дьёдонне подумал о капитане и, словно тот мог его услышать, закричал:
— Ко мне, Дюмениль! На помощь! На помощь!
Ныряльщицы не поняли этих слов, но в голосе, каким они были произнесены, было столько отчаяния, что они догадались: тот, кто так кричал, подвергался смертельной опасности.
Крики несомненно доносились из грота.
Одна из них, нырнув и проплыв под водой, проникла туда.
Внезапно шевалье увидел, как в двух шагах от него из воды показалась голова.
Это была Маауни.
По искаженному лицу шевалье она поняла, в какую беду тот попал.
Маауни закричала, призывая на помощь, и все ее товарки поспешили к ней.
Положение шевалье точь-в-точь напоминало положение Виргинии на палубе «Сен-Жерана»: она была бы спасена, если бы захотела принять помощь обнаженного матроса, который вызвался отнести ее на берег, и погибла бы, если бы отказала ему.
Островитянки показывали жестами и пытались словами объяснить Дьёдонне, что ему следует всего лишь опереться о них — и они отнесут его на землю.
Две из них, тесно обнявшись и переплетясь, образовали нечто вроде плота, на который он мог бы лечь, держась при этом обеими руками, и правой, и левой, за плечи двух ныряльщиц.
И все же отдадим шевалье должное: какое-то мгновение он колебался, на одну секунду ему в голову пришла целомудренная мысль умереть подобно девственнице с Иль-де-Франса.
Но любовь к жизни одержала в нем верх. Он закрыл глаза, лег на этот живой плот, положил свои ладони на округлые плечи прекрасных нимф и дал себя унести.
Шептал ли он имя Матильды?
Мы не присутствовали при этом и ничего не слышали, поэтому не станем отвечать на этот вопрос.
Три или четыре месяца спустя после этого происшествия (о нем Дьёдонне благоразумно не стал ничего говорить капитану), охотясь со своим другом на морских птиц, он, неосторожно свесившись за борт, упал в море.
Капитан, вскрикнув от ужаса, проворно скинул свою куртку и жилет, чтобы броситься вслед за Дьёдонне.
Но в ту минуту, когда Дюмениль собирался подобным образом доказать свою преданность, он, к своему великому изумлению, вновь увидел шевалье: тот появился на поверхности моря благодаря мощному толчку ногой, произведенному им под водой, и, вынырнув на поверхность, поплыл брасом, хотя и не так мастерски, как истый пловец, но как вполне добросовестный новичок.
Дюмениль был так поражен увиденным, что не только не мог вымолвить ни слова, но даже не мог и пошевелиться.
— Ну что же ты, — сказал ему Дьёдонне, — подай мне руку и помоги подняться в лодку.
Дюмениль протянул ему руку, и шевалье взобрался в лодку.
— Но где же ты, черт возьми, научился плавать? — спросил у него Дюмениль.
Дьёдонне покраснел до ушей.
— А! Притворщик! — сказал капитан.
Затем, рассмеявшись, он добавил:
— Согласись, что здесь такие учителя плавания, которые стоят тех, какие были у Делиньи?
Дьёдонне промолчал; но ловкость, с которой он сумел избежать опасности, свидетельствовала, что капитан был прав.
XIII ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ, А БОГ РАСПОЛАГАЕТ
В этом земном раю шевалье и капитан провели три года; по истечении этих трех лет Дьёдонне почти что избавился от той глубокой меланхолии, которую он привез с собой из Франции.
Вся заслуга этого душевного «почти что» выздоровления принадлежала капитану, подобно тому, как заслуга физического выздоровления принадлежала врачу.
И тот и другой, правда, прибегали к средствам, предоставленным им матерью-природой; но если разобраться, то эти средства были всего лишь лекарствами; истинным же целителем является тот, кто их прописывает.
Итак, шевалье казался счастливым; если он еще и произносил имя Матильды, то только во сне. Когда же он просыпался, его воля брала над этим верх, и если это не было выздоровлением, то, по крайней мере, это была победа.
В течение этих трех лет ни разу не заходила речь о возвращении шевалье во Францию, а если порой он и вспоминал ее, то опять же ни разу не сожалея о ней.
Правда, все эти три года капитан постоянно подыскивал для своего друга развлечения, заботясь о том, чтобы они могли ему понравиться, стремился, чтобы он по-прежнему был окружен теми знаками внимания и той заботой, какие были привычны ему по воспитанию и семейной жизни. Всякий раз, заметив его нахмуренный лоб, капитан пытался разгладить морщинки на нем, возвращая к жизни остатки веселого нрава, свойственного Дьёдонне в юности. Словом, Дюмениль ни на минуту не расставался с той ролью, которую угрызения совести заставили его принять на себя.
Зная сердечные наклонности шевалье де ла Гравери, можно понять, насколько подобный друг, которому он был обязан спокойствием своего сердца, стал ему дорог, а главное, необходим.
Взрослое дитя всегда нуждается в матери или, по крайней мере, в няньке.
Так что Дьёдонне полностью утратил обыкновение самостоятельно принимать какие-либо решения, касалось ли это его физической или духовной жизни; он просто жил, любил и наслаждался.
А вот капитан был вынужден думать за двоих.
Однажды вечером, когда они вместе совершали прогулку — капитан, куря сигару, а шевалье, грызя кусочки сахара, — окруженные толпой прелестниц, просивших у одного лишние кусочки сахара, у другого остатки его недокуренной сигары, а сверх этого время от времени еще и глоток коньяка и дававших взамен благоухание, поцелуи и любовь, капитан внезапно почувствовал недомогание.
Дюмениль, обладавший геркулесовым здоровьем, не придал никакого значения своему болезненному состоянию и намеревался продолжить прогулку; но через мгновение ноги у него подкосились, лоб покрылся испариной и он ощутил такую слабость, что пришлось принести ему стул, чтобы он не упал; все это время Дьёдонне поддерживал капитана.
Не было никаких сомнений: неизвестная болезнь заявила о себе пугающим нарастанием симптомов.
Шевалье настоятельно стал требовать врача.
В эту пору, предшествующую английскому вторжению и французскому протекторату, на острове не было гарнизона, а следовательно, и врачей, кроме туземных шарлатанов, утверждавших, что с помощью определенных трав и определенных заклинаний приносят больному исцеление, и исцелявших, возможно (если и есть какое-либо предположение, которое допускает сомнение, то это именно оно), подобно ученым докторам.
Маауни, всегда готовая оказать шевалье любую услугу, которая была в ее силах, предложила сходить за одним из таких знахарей; но шевалье, научившийся бегло говорить на таитянском языке, заявил, что он желает видеть европейского доктора, и если это возможно, то французского, а поскольку в порту стоят корабли разных стран и среди них есть французский, прибывший накануне, то именно на этот корабль и надо обратиться за помощью.
Маауни, два или три раза повторив по-французски слово «врач», смогла его произнести довольно внятно, а затем с разбегу нырнула вниз головой с вершины уже знакомого нам грота и с быстротой дорады поплыла к кораблю, трехцветный флаг которого свидетельствовал о его французском происхождении.
Эта последняя строчка показывает, что, пока шевалье жил на Таити, произошла революция 1830 года; но это событие, которое совершенно очевидно многое бы перевернуло в его жизни, если бы он оставался во Франции, здесь за три тысячи пятьсот льё от Парижа прошло для него почти незаметно.
Приблизившись к «Дофину» — таково было название французского брига, — Маауни наполовину поднялась из воды, показав свой великолепный торс, и закричала изо всех сил, хотя и с необычайно мягким произношением:
— Виряча! Виряча!
Несмотря на незначительное искажение, с которым таитянка выговорила это слово, капитан отлично понял, о чем просила пловчиха; он подумал, что заболела королева Помаре, и приказал корабельному врачу «Дофина», молодому человеку двадцати шести-двадцати семи лет, совершавшему свое первое плавание, отправиться на берег.
Увидев, как спускают шлюпку, а в шлюпке разглядев врача, Маауни догадалась, что ее поняли, и, несмотря на настойчивые просьбы молодого врача, уговаривавшего ее вернуться на берег вместе с ним в лодке, она нырнула, появилась на поверхности в двадцати шагах, вновь нырнула, чтобы появиться еще дальше и, намного опередив лодку с четырьмя гребцами, достигла Папеэте.
Не теряя ни минуты, она побежала к хижине двух друзей, одной из тех, что стояли ближе всего к побережью, и закричала:
— Виряч! Виряч!
Затем она вернулась на берег, чтобы отвести доктора в хижину.
Лодка, можно сказать, шла по следу, оставляемому юной пловчихой, и причалила в том же месте, где та вышла из воды.
Доктор спрыгнул на землю, пошел вслед за своей провожатой и через несколько секунд был у порога хижины.
Шевалье бросился к нему и, извинившись за причиненное беспокойство, провел к постели капитана.
Доктор, увидев, что он имеет дело с французами, понял, почему посланница обратилась на «Дофин», отдав ему предпочтение перед другими судами.
Ни о чем не спрашивая, он подошел прямо к больному.
— Как?! — воскликнул он. — Это вы, капитан?
Капитан, уже измученный почти полным упадком сил, открыл глаза и, в свою очередь узнав врача, улыбнулся, протянул ему руку и с усилием проговорил:
— Да, как видите, это я.
— Конечно, вижу, — сказал доктор, — но не в этом дело. Мужайтесь! Что вы испытываете?
Шевалье ощущал жгучее желание узнать, выяснить, откуда доктор и капитан знают друг друга; но, видя, что капитан собирается рассказать о том, что ему приходилось испытывать в эту минуту, он отложил свои расспросы на будущее.
— То, что я испытываю, достаточно трудно передать словами, — отвечал капитан. — Внезапно я почувствовал сильное недомогание, которое сопровождалось крайней слабостью, и это вынудило меня вернуться домой и сразу же лечь в постель.
— А с той минуты, как вы находитесь в постели?
— У меня судороги, дрожь во всех членах и попеременно то озноб, то сухой жар.
— Стакан воды, — попросил доктор.
Затем, подавая его больному, он сказал:
— Попробуйте выпить.
Дюмениль проглотил несколько глотков.
— Все вызывает у меня отвращение, — произнес он, — впрочем, мне трудно глотать.
Доктор двумя пальцами надавил чуть пониже желудка.
У больного вырвался крик.
— У вас еще не было приступов тошноты? — спросил доктор.
— Пока нет, — ответил больной.
Доктор поискал глазами бумагу и перо. Но в хижине, разумеется, не было ни того ни другого.
Дюмениль попросил подать принадлежавший ему дорожный сундучок.
Сундучок принесли.
Ключ от него висел у Дюмениля на шее.
Капитан открыл этот сундучок с такими предосторожностями, словно в нем хранились вещи, которые никто не должен был видеть, достал оттуда бумагу, чернила и перо и передал их доктору; тот, написав несколько строчек, спросил, кто сможет отнести записку на шлюпку.
Это был приказ, адресованный его помощнику, взять в аптечке брига и немедленно доставить ему лауданум, эфир, мятную настойку и нашатырный спирт.
Поскольку Маауни не могла дать гребцам необходимых указаний, шевалье сам вызвался отнести записку на лодку.
Он дал луидор четверым матросам, чтобы они действовали проворнее, и те столкнули лодку, немедленно заскользившую по гладкой поверхности бухты, напоминая тех водных пауков на длинных лапах, что движутся, едва задевая поверхность озер.
Затем он вернулся в хижину.
Врача не было; шевалье осведомился, куда тот ушел, и капитан указал ему на реку.
Шевалье торопился переговорить с доктором наедине.
Он бросился ему вслед и нашел его стоящим по колено в воде и собирающим траву, которую называют речной горец.
— Ах, доктор! — обратился он к нему. — Я вас ищу.
Тот приветствовал шевалье и вновь вернулся к своему занятию с видом человека, сознающего, что от него ждут известий, и понимающего, что он не в силах сказать ничего обнадеживающего.
— Вы знаете капитана Дюмениля? — твердым тоном спросил шевалье.
— Вчера я встретился с ним впервые на борту «Дофина», — ответил доктор.
— На борту «Дофина»! Но что же он делал на борту «Дофина»?
— Он приходил справиться, нет ли у нас известий из Франции, и так упорно добивался встречи с одним из наших пассажиров, что, хотя мы его и предупредили о том, что у нас на корабле желтая лихорадка, ему удалось настоять на своем.
Услышав эти слова, шевалье испытал нечто вроде озарения.
— Желтая лихорадка! — вскричал шевалье. — Так, значит, у Дюмениля желтая лихорадка?
— Боюсь, что это так, — ответил молодой человек.
— Но ведь от желтой лихорадки, — пролепетал, весь дрожа, Дьёдонне, — ведь от нее умирают.
— Если бы вы были матерью, дочерью или сыном капитана, то я бы ответил вам: «Иногда!», но вы мужчина, вы всего лишь его друг, и я вам отвечаю: «Почти всегда!»
Шевалье вскрикнул.
— Но уверены ли вы, — спросил он, — что это желтая лихорадка?
— Я еще хочу надеяться, что это острый приступ гастрита, — отвечал доктор. — Первые симптомы у них одинаковы.
— А от острого гастрита вы бы его спасли?!
— По крайней мере, у меня было бы больше надежды.
— О Боже мой! Боже мой! — разрыдался шевалье.
Молодой врач смотрел на этого человека, который плакал, судорожно всхлипывая и заливаясь потоками слез, как женщина.
— Капитан ваш родственник? — спросил он.
— Он для меня больше чем родственник, — ответил Дьёдонне, — он мой друг.
— Сударь, — молодой человек, тронутый глубиной горя шевалье, протянул ему руку, — с той минуты как вы обратились ко мне, можете быть уверены, что ваш друг не будет оставлен заботой и вниманием. Во Франции французы друг для друга всего лишь соотечественники, за ее пределами — это братья.
— О Боже мой! Боже мой! Зачем он только поехал на этот корабль? Почему не послал меня? Если бы он меня отправил туда, то это я лежал бы сейчас больной, а не он; я умирал бы, а не Дюмениль.
Доктор едва ли не с восхищением смотрел на этого человека, который так просто предлагал свою жизнь Господу в обмен на жизнь того, кого он любил.
— Сударь, — сказал он ему, — повторяю вам, что я еще не окончательно потерял надежду. Это с такой же вероятностью, как и желтая лихорадка, может быть приступ острого гастрита, и если это острый гастрит, то кровопусканиями мы излечим его.
— Но кто этот пассажир, с которым он так хотел поговорить?
— Один из его друзей.
— У Дюмениля не было других друзей, кроме меня; так же как у меня нет другого друга, кроме него, — с грустью произнес шевалье.
— Однако они обнялись и расцеловались, как люди, которые счастливы встретиться вновь, — возразил доктор.
— А как зовут этого человека? — спросил шевалье.
— Барон де Шалье, — сказал доктор.
— Барон де Шалье, барон де Шалье… Я не знаю такого. Ах! Почему он не отправил меня переговорить с этим бароном де Шалье, будь он проклят?!
— Несомненно он собирался лично побеседовать с бароном, — намеренно отвечал доктор, — ибо, по всей видимости, не хотел, чтобы вы знали о предпринятом им шаге; поэтому я прошу вас ни слова ему не говорить о моей несдержанности, принимая во внимание, что в его состоянии малейшая неприятность может оказаться для него роковой.
— Ах, сударь, будьте спокойны, — ответил шевалье, сложив руки, — я не пророню ни слова.
Они вернулись в хижину; шевалье сжал пылающие руки своего друга, беспокоясь лишь о том, в каком состоянии тот пребывает.
— Ну, — спросил он, — как ты себя чувствуешь?
— Плохо. У меня ужасные боли под ложечкой.
— Я сделаю вам кровопускание, — сказал доктор.
Затем, обращаясь к ла Гравери, он произнес:
— Шевалье, распорядитесь отварить эту траву в литре воды.
Шевалье подчинился с безропотностью ребенка и усердием сиделки.
За это время доктор перетянул больному руку и приготовил ланцет.
Вены на руке вздулись.
— Шевалье, — сказал доктор, — пусть за отваром следят женщины, поручите это им, а сами держите тазик.
Шевалье повиновался.
Врач вскрыл вену; но организм капитана был уже настолько подорван болезнью, что кровь не пошла.
Он сделал надрез более глубоким.
На этот раз кровь пошла, но черная и уже испорченная.
Несколько капель брызнули в лицо шевалье.
Почувствовав, как теплая влага растекается у него по лицу, шевалье отшатнулся и лишился чувств.
Капитан, казалось, хотел воспользоваться этим обстоятельством.
— Сударь, — обратился он к молодому врачу, — я смертельно болен и чувствую это. Я вас прошу, скажите господину де Шалье, что я еще раз поручаю ребенка его заботам, о чем я вчера ему говорил, и что я его умоляю, если случай вдруг сведет его с шевалье де ла Гравери, ни слова не говорить ему о ребенке, если только не возникнут какие-либо очень важные основания для того, чтобы он узнал о Терезе; судить об этих основаниях я доверяю господину де Шалье… Вы меня хорошо расслышали и хорошо поняли?
— Да, капитан, — ответил молодой доктор, проникшийся важностью данного ему поручения. — И я сейчас постараюсь слово в слово повторить сказанное вами.
И действительно, он повторил наказ капитана, ничего в нем не изменив: ни его формы, ни малейшей подробности его содержания.
— Отлично! — сказал больной.
Затем, повернувшись к таитянке, он сказал ей:
— Маауни, побрызгай холодной водой в лицо бедного шевалье.
Маауни, которая, сидя на корточках перед огнем и следя за отваром, даже и не заметила, как шевалье упал в обморок, повиновалась распоряжению капитана с готовностью, выдававшей ее интерес к своему ученику по плаванию.
Шевалье пришел в себя как раз в ту минуту, когда доктор остановил больному кровь и затворил ему вену.
Кровопускание временно облегчило страдания капитана; но к двум часам ночи, несмотря на прием опиума и эфира, начались приступы рвоты.
Доктор бросил на шевалье взгляд, говорившей: «Вот то, чего я боялся».
Шевалье все понял и вышел, чтобы выплакаться от души.
Весь следующий день больному было попеременно то лучше, то хуже.
Однако к вечеру его состояние резко и бесповоротно ухудшилось.
Лицо его было багровым; он почти не мог глотать; выделявшиеся рвотные массы сначала были полны желчи, а потом стали черными и к ним примешивались какие-то темные сгустки, похожие на сажу, в которых легко можно было узнать частички испорченной крови. Врач снял повязку с надреза для кровопускания и увидел на этом месте рану с черным ободком.
И поскольку капитан был все еще в полном сознании, доктор отвел шевалье в сторону и предупредил, что его друг находится в безнадежном состоянии и потому нельзя терять время, если тот намеревается отдать какие-либо распоряжения относительно своего завещания.
Сам же молодой врач, по его словам, был вынужден вернуться на корабль всего лишь на несколько часов; на следующий день он снова собирался навестить капитана, а пока оставлял письменные указания по уходу за больным: шевалье должен был придерживаться их, а главное — ему предписывалось поддерживать и поднимать, насколько это возможно, настроение капитана.
Совет был совершенно бесполезным: болен был человек сильный духом, слабовольным же был тот, кто чувствовал себя здоровым.
С того момента как Дюмениль слег, шевалье ни на минуту не отходил от его изголовья, в свою очередь воздавая ему сторицей за все те заботы, которыми тот окружал его, когда у Дьёдонне была сломана нога; он ухаживал за ним с усердием и нежностью матери, не позволяя, чтобы чьи-то другие руки, кроме его собственных, подносили больному чашку с отваром.
Подобное поведение бедного Дьёдонне требовало от него большого мужества, ведь его тревога была столь велика, что десятки раз, чувствуя изнеможение, он был уже готов покинуть свой пост и бежать куда угодно, чтобы больше не видеть страданий своего друга.
Мы уже видели, что при простом соприкосновении с кровью капитана он упал без чувств.
А после того как врач, по существу говоря, признался бедному шевалье, что больше надеяться не на что, ему стало еще тяжелее выносить все это. Если больной начинал ворочаться в постели, Дьёдонне чувствовал, как у него по всему телу каплями выступает холодный пот; если же, напротив, Дюмениль затихал и забывался сном, Дьёдонне расценивал это состояние как один из самых тревожных симптомов и, тормоша больного, спрашивал его:
— Как ты себя чувствуешь? Ответь мне; ну же, ответь!
Если больной не отвечал ему, он ломал себе руки и разражался рыданиями.
В разгар одного из этих взрывов горя Дюмениль, который не спал, а размышлял, счел, что пришел час дать своему другу последние наставления.
Капитан был человек твердой воли и настоящий стоик; он без страха, по крайней мере за себя самого, смотрел на тот мрачный и печальный переход из одного мира в другой, что ему предстояло преодолеть, и в этот момент его волновало только одно: мысль о том одиночестве, в котором он оставляет своего друга.
— Послушай мой дорогой Дьёдонне, — обратился он к нему, — оставь все эти стенания, эти жалобы и эти слезы, недостойные мужчины, и позволь мне дать тебе несколько советов, как тебе устроить свое существование, когда меня не станет.
При первых же словах больного шевалье умолк как по волшебству. Дюмениль, не раскрывавший рта уже почти в течение двух часов, заговорил, и так спокойно, что можно было подумать, будто Бог сотворил чудо, выказав ему свою милость; но как только он произнес слова «когда меня не станет», Дьёдонне издал вопль отчаяния, рухнул на кровать умирающего, сжимая его в своих объятиях и проклиная несправедливость Провидения и жестокость судьбы.
Силы капитана, изнуренного болезнью, не позволяли ему бороться с буйными проявлениями горя у друга.
Он собрал весь остаток сил и слабым, умирающим голосом проронил:
— Дьёдонне, ты меня убиваешь!
Шевалье отскочил назад; затем, встав на колени, сложив молитвенно руки, он пополз на коленях к кровати, говоря при этом:
— Прости меня, Дюмениль, прости меня! Я не двинусь с места, не пророню ни слова, я благоговейно выслушаю тебя.
И только беззвучные слезы текли у него по щекам.
Дюмениль несколько мгновений смотрел на него с глубокой жалостью.
— Не плачь так, мой дорогой товарищ, мне потребуются все мои силы, чтобы преодолеть этот последний путь, как подобает мужчине и солдату… а твоя скорбь разрывает мне душу.
Затем с чисто военной твердостью он произнес:
— Мы должны расстаться в этом мире, Дьёдонне.
— Нет, нет, нет! — закричал Дьёдонне. — Ты не умрешь! Это невозможно!
— Однако именно к этому тебе следует быть готовым, милое мое взрослое дитя, — ответил больной.
— Я больше не увижусь с тобой! Я больше тебя не увижу! Нет, Бог не столь жесток! — воскликнул Дьёдонне.
— Если только я не увижу, что там, наверху, в порядке вещей переселение душ, — сказал, улыбаясь, капитан, — нам придется смириться с этим ужасным расставанием, мой бедный друг.
— Ах, Боже! Боже! — простонал Дьёдонне.
— Но должен признать, что это столь же невероятно, как и мое воскрешение.
— Переселение душ? — машинально повторил Дьёдонне.
— Если переселение душ существует, я буду на коленях умолять милосердного Бога вверить мне шкуру первой попавшейся собаки, и в этом облике, где бы я ни был, я разорву свою цепь, чтобы отыскать тебя.
Эта шутка, произнесенная на пороге вечности, не могла не пробудить мужества в сердце Дьёдонне, он поднял к Небу глаза и крепко обнял Дюмениля.
— Ну же, мужайся! — продолжал умирающий. — По правде говоря, из нас двоих именно ты выглядишь так, будто собираешься покинуть этот мир. И, пока у меня еще есть силы, позволь мне дать тебе один добрый совет: если можешь, оставайся здесь, хотя я и сомневаюсь, чтобы ты особо развлекался тут без меня.
— О нет! Нет! — вскричал шевалье. — Если случится такое несчастье и я тебя потеряю, я вернусь во Францию!
— Как хочешь, друг мой, в этом случае отвези туда мое тело; это отвлечет тебя в твоей скорби, и тебе будет казаться, что я еще не совсем покинул тебя; я родом из бедного провинциального городка, довольно унылого и довольно скучного, из Шартра; однако в Шартре похоронены мой отец, моя мать и моя сестра, которых я очень любил; у нас там есть фамильный склеп; там еще осталось пустое место, ты положишь туда мое тело и прикажешь замуровать дверь: я последний из нашей семьи. Завершив эту церемонию, удались от всех, веди жизнь старого холостяка; это значит — живи для себя, стань чревоугодником, люби желудком, но не отдавай больше никому свое сердце, даже кролику: его могут насадить тебе на вертел. Ах! Мой бедный Дьёдонне, тебе не по силам любить!
Дюмениль в изнеможении упал на подушку.
Через несколько минут он впал в забытье, сопровождавшееся бредом.
Но и в бреду только одна мысль, казалось, преследовала умирающего: мысль о переселении душ.
Он повторял: «Собака… хорошая собака… черная собака… Дьёдонне!»
И это доказывало, что последней мыслью его слабеющего рассудка было желание не расставаться со своим другом.
В это время вошел молодой врач; он вернулся ради очистки совести и потому, что обещал вернуться.
При первом же взгляде на капитана он понял, что все кончено.
Что касается Дьёдонне, то, услышав тревожное и сиплое дыхание, предсмертный хрип, предвестник последнего вздоха, он упал на колени, захлебываясь в рыданиях, в отчаянии кусая край простыни капитана и понемногу падая в оцепенение, из которого его вывели лишь следующие слова, произнесенные молодым доктором:
— Он умер!
Тогда он выпрямился, издал страшный крик; затем в неописуемом порыве горя бросился на тело капитана и обнял его так крепко и так тесно прижался к нему, что потребовалось применить силу, чтобы оторвать его.
XIV ВОЗВРАЩЕНИЕ ВО ФРАНЦИЮ
К счастью, умирая, капитан поручил Дьёдонне исполнить его последнюю волю.
Он хорошо знал своего друга, когда говорил ему, что хлопоты, связанные с возвращением его тела во Францию, отвлекут шевалье, исполненного скорбью.
Одиночество — вот чего больше всего страшатся слабые натуры; лишь только избранные осмеливаются предаваться размышлениям, страдая; большая же часть людей, напротив, спешат распалить свое горе, как будто предчувствуя, что вслед за изнеможением тут же придет и умиротворение.
«Дофин», совершавший кругосветное плавание, во время которого на стоянке в Маниле на борт и была занесена желтая лихорадка, продолжал идти к берегам Франции, намереваясь обогнуть мыс Горн; он отплывал на следующий день.
Именно это и надо было шевалье; оставшись один, он возненавидел этот земной рай, где был так счастлив со своим другом.
Он написал письмо капитану «Дофина» с просьбой взять на борт его самого и гроб с телом его друга.
Молодой врач взялся уладить это дело; не стоит и говорить, что ему все удалось сделать без малейших трудностей.
Вернувшись в хижину, он застал Дьёдонне дающим объяснения местным плотникам, как изготовить гроб по французскому образцу.
На острове росло железное дерево, самое подходящее из всех древесных пород для такого сорта изделий.
Дьёдонне снял с шеи капитана ключик от дорожного сундучка, а поскольку капитан во время своей агонии неоднократно обращал свой взгляд к этому предмету, как бы поручая его шевалье, он повесил ключик себе на шею, счастливый, что может прижать к своей груди эту реликвию, оставшуюся ему от друга.
Затем он распорядился завернуть тело капитана в кусок самой белой материи, какую только можно было отыскать, собственноручно устлал дно гроба листьями пандана и банановой пальмы, положил тело на эту мягкую подстилку, которую женщины острова усыпали цветами, вынув их из своих волос и ушей, в последний раз поцеловал своего друга в лоб и велел забить крышку гроба.
При каждом ударе молотка его сердце обливалось кровью; но как ни просили его уйти, он оставался рядом с гробом до тех пор, пока не был забит последний гвоздь.
Тем временем наступила ночь.
Шлюпка с «Дофина» должна была забрать и мертвого и живого лишь на следующее утро, а поскольку хозяева хижины из-за распространенного среди местных жителей суеверия воспротивились тому, чтобы мертвое тело оставалось ночью под крышей их дома, Дьёдонне пришлось положить гроб под то апельсиновое дерево, к которому приходила спать Маауни в его первую ночь пребывания на острове.
Затем он расстелил свой матрас, одним концом положив его на гроб.
И, не переставая плакать, он лег спать; голова его покоилась на гробе капитана.
На следующий день он собрал все веши, принадлежавшие Дюменилю: одежду, оружие, трости и многое другое.
Главное место среди этих предметов занимал дорожный сундучок.
Но Дьёдонне чувствовал, что у него пока не хватает сил открыть этот сундучок; вероятно, в нем хранилось какое-то завещание, какие-то выражающие предсмертную волю распоряжения, которые могли бы разбить сердце шевалье.
Он сказал себе, что будет правильным открыть его во Франции, в Шартре, вечером того дня, когда тело капитана будет предано земле.
Затем он раздал своим безутешным подругам, конечно же лучшую часть отдав Маауни, все те мелкие предметы, которыми, казалось, эти простодушные дети природы так страстно желали завладеть.
Час настал, и за шевалье пришла шлюпка; помимо четверых гребцов, в ней было четверо матросов, боцман и доктор.
Все жители Папеэте провожали гроб и шевалье до самого берега моря.
Они любили капитана, человека честного, хотя и сурового.
Они обожали шевалье, человека мягкого, с нежным сердцем, который всегда готов был дать что-нибудь, а когда не давал сам, то позволял брать.
Мужчины, дойдя до берега моря, простились со своим гостем.
Женщины же не пожелали расстаться с ним здесь: они бросились в море и, подобные сиренам, поплыли рядом со шлюпкой.
Некоторые, посчитав расстояние, которое предстояло преодолеть, несколько чрезмерным, прокричали шевалье свое прощальное приветствие и покинули его на полпути.
Но пять или шесть держались бодро, и, подплыв к кораблю, Дьёдонне, будь он магометанином, вполне еще мог бы иметь, согласно завету пророка, четырех законных жен.
В тот миг, когда шевалье поставил ногу на трап корабля, Маауни, вся в слезах, бросилась ему на шею, спрашивая, не хочет ли он увезти ее с собой во Францию.
Мысль о жертве, на которую ради него была готова пойти эта прекрасная дочь природы, глубоко тронула шевалье; он заколебался, не принять ли ему эту жертву, но вспомнил совет своего друга: «Не отдавай больше никому свое сердце, даже кролику: его могут насадить тебе на вертел».
Он не дал размягчить себе сердце, отвернулся, отстранил прекрасную Маауни и устремился на палубу корабля.
Таитянки еще некоторое время кружили как сирены вокруг брига; но их друг шевалье не показывался, и они стали удаляться, отплывая к острову.
Два или три раза Маауни останавливалась и поворачивала голову в сторону брига; но, не видя Дьёдонне, она уверилась, что окончательно покинута, нырнула, чтобы смыть свои слезы, и появилась на поверхности с улыбкой на устах и смеющимися глазами.
Мы упоминаем об этом, чтобы наши читатели, убаюканные романсами, в которых юные островитянки, покинутые европейцами, умирали от тоски, поджидая их на берегу моря и обратив свой взор в ту сторону, где корабль неблагодарного скрылся на горизонте, — так вот, мы упоминаем об этом, повторяю, чтобы наши читатели не предавались чрезмерному умилению по поводу таитянской Ариадны.
Дьёдонне не появился больше на палубе, потому что устраивал в своей каюте гроб с телом друга; он решил не расставаться с ним ни на мгновение в течение всего плавания.
В то время как он был занят этими хлопотами, в каюту вошел премилый черный спаниель, с любопытством следя своими большими умными, почти человеческими глазами за действиями шевалье.
Заметив его, шевалье рухнул на стул и заплакал.
Он вспоминал эту трогательную фразу, которую вчера утром, всего лишь сутки назад, произнес его друг: «Если переселение душ существует, я буду умолять милосердного Бога вверить мне шкуру собаки, и в этом облике, где бы я ни был, я разорву свою цепь, чтобы отыскать тебя».
Он обнял обеими руками голову собаки — так, будто это была голова человека.
Собака, без сомнения напуганная подобным проявлением чувств, тем более что шевалье, вероятно, при этом не проявил особой осторожности, убежала.
Со слезами на глазах шевалье спросил у матроса, помогавшего ему устанавливать гроб, кому принадлежит эта прелестная собака, столь любопытная и одновременно столь пугливая.
Матрос ответил, что это собака одного из пассажиров, и, вероятно, чтобы шевалье меньше придавал значения ее исчезновению, добавил, что она вчера вечером родила четырех великолепных щенков, но трех из них утопили в море, и, по всей видимости, именно страх, что и с четвертым тоже может что-нибудь случиться, помешал ей со всей пылкостью ответить на ласки шевалье.
— Впрочем, — заметил шевалье, покачав головой, — мне настойчиво советовали никому не отдавать свое сердце; собака хорошо сделала, что убежала, иначе я был бы вынужден ее прогнать.
Матрос расслышал эти слова шевалье, но поскольку он был человеком сдержанным и неболтливым, то, хотя и не понял их значение, не стал спрашивать объяснение.
Вечером подул попутный ветер и капитан решил выйти в море; подняли якорь и взяли курс на Вальпараисо, куда «Дофин» должен был доставить одного из своих пассажиров.
Шевалье не забыл, какие мучения доставила ему морская болезнь во время плавания из Гавра в Нью-Йорк и из Сан-Франциско на Таити; поэтому первое, что он сделал, когда почувствовал, как корпус корабля качается под его ногами, — лег на свою койку и вверил заботу о себе своему матросу.
Это было небесполезным шагом: три дня, в течение которых шевалье не отважился выйти на палубу, стояла превосходная погода, но после этого налетел шквал и море было неспокойным целых две недели.
Все это время шевалье пролежал в каюте, еду ему подавали в постель, и каждый день он видел, как вслед за матросом в каюте появлялся спаниель, прекрасно знавший, какую выгоду сулит ему этот маневр: шевалье едва притрагивался к проносимым ему кушаньям и они почти нетронутыми доставались собаке.
На восемнадцатый или девятнадцатый день, когда на море по-прежнему штормило и шевалье все еще оставался в своей постели, собака пришла как обычно, но на этот раз за ней следовал ее детеныш, начинавший бегать по палубе, то и дело спотыкаясь.
Щенок, миниатюрная копия своей матери, был очарователен.
Несмотря на свою решимость ни к кому и ни к чему не привязываться сердцем, шевалье был вынужден приласкать маленького Блека.
То было имя юного спаниеля.
Он угощал его мелко разбитым сахаром, и щенок тщательно слизывал с ладони человека все, вплоть до мельчайших пылинок сахарной пудры.
Раз десять в голову шевалье приходило спросить у матроса, не думает ли тот, что хозяин щенка собирается от него избавиться; но в эти минуты ему вспоминался совет Дюмениля: «Ни к кому не привязывайся!» — и тогда он отвергал эту мысль подарить кому бы то ни было, пусть даже собаке, частицу своего сердца, которое должно было все целиком принадлежать его другу.
При любых других обстоятельствах Дьёдонне утомило бы это долгое одиночество и он сделал бы над собой некоторое усилие, даже рискуя усугубить свое недомогание. Но не забывайте, в каюте он был не один. Рядом с ним находилась частица его самого, которую смерть так беспощадно вырвала у него, и, говоря себе, что его нежность будет неистощима, а слезы никогда не иссякнут, он испытывал нечто вроде чувства удовлетворенного самолюбия, свойственного некоторым натурам с мягким сердцем.
Прошло еще четыре или пять дней, а море все еще продолжало волноваться; наконец однажды утром без какого-либо перехода корабль вдруг застыл в неподвижности.
Дьёдонне позвал своего матроса и поинтересовался у него, в чем причина этого затишья.
Матрос ответил, что они встали на рейде Вальпараисо и если шевалье пожелает встать, то он увидит побережье Чили и вход в эту долину, столь прекрасную, что она была названа Вальпараисо, то есть «Райская долина».
Шевалье заявил, что он поднимется с постели; но, поскольку Блек и его мать находились в каюте, он прежде всего приступил к своей обычной раздаче: матери — хлеба и мяса, а щенку — сахара.
В самый разгар их пиршества пронзительный свист заставил вздрогнуть взрослую собаку: подняв голову, она замерла в нерешительности.
Второй свисток, сопровождаемый окликом имени Дианы, покончил со всеми ее колебаниями: несомненно призываемая своим хозяином, собака исчезла, а вместе с ней исчез и щенок.
Шевалье, почувствовав, что корабль стоит не качаясь, решил привести себя в порядок и подняться на палубу.
Это заняло у него приблизительно полчаса.
В ту минуту, когда его голова показалась в люке, от корабля отошла шлюпка, чтобы высадить на берег пассажира, которого должны были доставить в Вальпараисо.
Ослепленный великолепием зрелища, которое представило его взору это восхитительное побережье Чили, шевалье машинально подошел к борту корабля.
Его взгляд упал на лодку, отошедшую от корабля уже шагов на сто.
Шевалье вздохнул.
В лодке, положив морду на колено пассажира, покидавшего корабль, сидел красавец-спаниель.
Шевалье позвал своего матроса.
— Франсуа! — спросил он. — Блека и его мать увозят навсегда? Они уже не вернутся?
— Именно так, господин шевалье, — ответил матрос. — Эти два животных принадлежат господину де Шалье, и они последуют за ним.
Дьёдонне вспомнил это имя.
Так звали того друга, к которому на борт «Дофина» приезжал Дюмениль и встреча с которым стала причиной смерти капитана.
И хотя г-н де Шалье и был неповинен в ней, это не помешало Дьёдонне затаить против него зло и обиду.
— А! — сказал шевалье. — Я очень доволен, что он убирается прочь, этот господин де Шалье, которого так любил Дюмениль: мне было бы больно видеть его. Однако, — добавил он, — я сожалею о щенке.
Затем с жестом, выражающим грустное удовлетворение, он продолжал:
— Пусть будет так. Это счастье, что собака не осталась на борту, а то я стал к ней привязываться.
На следующий день корабль отплыл и через два месяца пришвартовался в Бресте.
Наконец, через неделю после высадки во Франции, шевалье со своим скорбным багажом въехал в Шартр.
XV ГЛАВА, В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ОТДАЕТ ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ КАПИТАНУ И ПОСЕЛЯЕТСЯ В ШАРТРЕ
Шевалье остановился в гостинице и немедленно навел справки.
У капитана Дюмениля когда-то была в Шартре семья; но, как он и говорил Дьёдонне, от этой семьи не осталось в живых ни одного человека.
Однако многие жители Шартра когда-то хорошо знали капитана и отдавали должное его мужеству и порядочности.
Шевалье разыскал могильщика и заставил того показать ему склеп семьи Дюмениль; капитан был прав: одно из его отделений было свободно.
Шевалье позаботился выправить с помощью доктора, капитана и его помощника с «Дофина» свидетельство о смерти, удостоверяющее кончину и личность Дюмениля.
Имея на руках такое свидетельство, он мог потребовать и получить это смертное мраморное ложе, на котором его друг будет спать вечным сном.
Он послал письменные уведомления все именитым жителям города и поместил в газетах объявления о том, что капитан Дюмениль умер и будет похоронен в следующий понедельник.
Между письменными уведомлениями, объявлениями в газетах и похоронами должна была пройти неделя.
Таким образом, если у Дюмениля и оставались какие-либо родственники, то они были бы предупреждены.
Если они проживали в окрестностях Шартра, то у них было время приехать и принять участие в погребальной процессии.
Если же они были где-то далеко, то они могли бы написать, дать о себе знать и заявить о правах на наследство капитана — наследство, состоявшее всего из нескольких сотен франков, поскольку у капитана не было других источников дохода, кроме тысячи четырехсот или тысячи пятисот франков пенсии.
Похороны состоялись через неделю, то есть по истечении указанного срока; никто из родственников на них не появился, зато там присутствовал весь город.
Шевалье возглавлял траурное шествие, и ни один сын не горевал бы сильнее о смерти отца, чем Дьёдонне горевал о смерти друга.
Его слезы, до конца не выплаканные, ждали только подходящего момента, чтобы вновь пролиться, и он испытал непередаваемое блаженство, почувствовав, как они заструились у него по щекам.
Когда гроб с телом установили в склеп, шевалье де ла Гравери пожелал сказать несколько слов этой толпе людей, которые — половина из любопытства, а половина из чувства симпатии — шли за гробом с телом капитана Дюмениля до самого кладбища; но рыдания душили его.
Это был лучший способ выразить свою признательность; с этого часа если шевалье и не слыл в городе за большого умника, то в нем ценили его чувствительное сердце.
Господина дела Гравери проводили до дверей его гостиницы.
И только войдя к себе в комнату, шевалье наконец действительно остался один.
Но он еще не наплакался вдоволь.
Он собрал различные предметы, принадлежавшие капитану, и среди них был и дорожный сундучок.
Эти святые реликвии вызвали новые слезы на его глазах.
Тогда он принял решение остаться в Шартре; он не испытывал особой любви ни к одному месту на свете, и такой унылый и тихий город, как Шартр, с его гигантским собором, постоянно вздымающим в небо две руки, будто моля Господа о милосердии, прекрасно подходил ему.
Он не хотел никого видеть из своих прежних друзей, никого, кто бы знал его жену и мог бы спросить его, что с ней сталось.
И однако — странное дело — он вернулся во Францию, влекомый смутной надеждой вновь встретиться с Матильдой.
На углу любой улицы, куда он поворачивал, ему казалось, что вот сейчас он окажется лицом к лицу с ней и она кинется ему на шею с криком: «Это ты!»
В тот же день он стал подыскивать себе дом и на улице Лис нашел тот, который мы уже описали.
Он ему показался подходящим во всех отношениях.
Господин де ла Гравери пригласил торговца мебелью, заказал ему обстановку по своему вкусу и отправил своему нотариусу письмо с просьбой прислать все деньги, какие у него, шевалье, могли быть, а также самую ценную мебель и столовое серебро, которые Дюмениль после катастрофы поместил в надежное место.
Нотариус во время семилетнего отсутствия г-на де ла Гравери высылал ему всего лишь половину от суммы его доходов, так что теперь тот мог иметь в своем распоряжении от тридцати до сорока тысяч франков.
Помимо этого, шевалье имел еще двадцать тысяч ливров ренты.
А с двадцатью тысячами ливров ренты в таком городе, как Шартр, можно считать себя сказочно богатым.
Через неделю дом был готов принять шевалье.
Его водворение в нем стало целым событием.
Мы уже описывали, и это вряд ли забыто читателем, с каким комфортом были обставлены гостиная, комната для хранения вин и различных солений и копченостей, а в особенности спальня.
Но в ту пору мы умышленно ни слова не сказали о туалетном столике шевалье.
Напомним о сундучке, унаследованном им от Дюмениля, и о том, с каким беспокойством тот в последние минуты своей жизни поручил его вниманию этот сундучок.
В первый вечер своего новоселья шевалье решился открыть его.
Собравшись с силами, сосредоточившись, он сел на свой прекрасный ковер из Смирны, поставил сундучок между ног и открыл его, предусмотрительно приготовив носовой платок.
И в самом деле, первые же увиденные им вещи вновь вызвали у него поток слез.
Это были повседневные предметы туалета, принадлежавшие капитану, — он всегда тщательным образом следил за своей особой.
Шевалье один за другим вынул их из ячеек и расставил вокруг себя.
Дойдя до последнего, он заметил, что сундучок имеет двойное дно.
Он стал искать его секрет и довольно легко обнаружил, так как мастер, из чьих рук вышел сундучок, не задавался целью делать из этого тайну.
В этом секретном отделении хранился аккуратно запечатанный и перевязанный пакет; на его обертке шевалье прочел следующее:
«Я прошу моего друга де ла Гравери во имя двух священных понятий — дружбы и чести — вручить этот пакет госпоже де ла Гравери, если он когда-либо увидится с ней; если же он не увидится с ней, сжечь его, НЕ ПЫТАЯСЬ УЗНАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ, в тот же день, когда ему станет известно о ее смерти.
Дюмениль».
Шевалье на минуту задумался; но потом ему пришло в голову, что Дюмениль виделся с Матильдой, пока он, Дьёдонне, лежал со сломанной ногой, и она, вероятно, дала ему какое-то поручение, которое он сумел или не сумел исполнить, а в этом пакете содержится его ответ.
И он аккуратно положил пакет обратно на дно сундучка, закрыл его, повесил ключ себе на шею, поставил сундучок в шкафчик, находившийся у изголовья его кровати, и разложил на туалетном столике все веши, которые служили когда-то капитану и которыми в память о нем он хотел пользоваться сам.
В течение нескольких дней воспоминания об этом запечатанном и перевязанном пакете приходили ему на ум; но у шевалье ни разу даже и мысли не возникало вскрыть его, чтобы посмотреть, что в нем заключено.
Будучи совершенно одиноким в чужом городе, Дьёдонне был избавлен от необходимости выслушивать избитые выражения сочувствия: вместо того чтобы утешить, они лишь ожесточили бы такое сердце, как у него.
Безразличие окружающих послужило лучшим лекарством для его горя. Предоставленное само себе, никем не поддерживаемое извне, это чувство притупилось тем быстрее, чем сильнее оно было.
Тогда шевалье впал в глубокую, но тихую печаль, и в таком расположении духа он поселился в своей новой обители.
Накануне в одном из офицеров гарнизона он узнал своего прежнего товарища-мушкетера; он заколебался, стоит ли ему возобновлять это знакомство, но перестал видеть в этом какое-либо неудобство для себя, вспомнив, что на следующий день гарнизону предстояло покинуть город.
Офицеру стоило больших трудов узнать его: они не виделись почти восемнадцать лет.
Дьёдонне стал расспрашивать о людях, которых он оставил когда-то молодыми, блистательными, полными жизни и здоровья.
Многие из них уже легли в могилы, кто молодыми, кто старыми; смерть не имеет привязанностей, однако порой она, похоже, умеет ненавидеть.
На шевалье произвел сильнейшее впечатление этот постоянно повторяющийся ответ, который сопровождал большинство его вопросов:
— Он скончался!
Шевалье был настолько поражен, что после этой беседы, наполненной именами умерших, подсчитывая тех, кто не явился на перекличку, подобно генералу, подсчитывающему павших на поле битвы, он еще крепче утвердился в своем решении, внушенном ему Дюменилем и в глубине сердца уже одобренном им самим: отрешиться отныне от этих недолговечных привязанностей, заставляющих столькими тревогами и волнениями платить за те немногочисленные радости, которыми они скупо одаряют, словно бросая милостыню. Он решил оградить себя от всего, что могло бы отныне нарушить покой его существования; а для начала, распрощавшись с офицером — с ним, вероятно, ему не суждено уже было больше увидеться, поскольку тот на следующий день уезжал в Лилль, — он дал сам себе слово никогда не наводить справки ни о судьбе своего старшего брата, что было не так уж трудно, ни даже, что было еще одной жертвой с его стороны, — о судьбе Матильды.
Обособившись подобным образом от всего и от всех, Дьёдонне был в состоянии делать только одно: предаться культу своей собственной персоны, поначалу методично, затем фанатично и, наконец, идолопоклоннически.
С обществом Шартра он установил только те отношения, которые были необходимы, чтобы не превратить его в объект назойливого любопытства, которое всякое проявление крайней чудаковатости вызывает в провинции, где для человека, проживавшего ранее в Париже, самой большой странностью было бы считать, что он сможет обойтись без какого-либо знакомства с провинциалами.
Шевалье особенно заботливо следил, чтобы его отношения из вежливых и доброжелательных не перерастали в дружеские. Если в небольшом кругу своих знакомых он позволял себе поддаться очарованию беседы, если вследствие каких-либо благоприятных обстоятельств он чувствовал некоторую симпатию к мужчине; если цепляющиеся атомы его рассудка или его сердца грозили соединиться с такими же атомами женщины, молодой ли, старой ли, красивой или безобразной, он рассматривал это расположение своего духа как предостережение свыше и бежал от мужчины или женщины, слишком милого и обходительного создания, как будто это создание, вместо того чтобы подарить ему нежную дружбу, могло заразить его чумой; он оставлял свое лучшее обхождение для глупцов и для злых людей: несмотря на малую населенность старого Шартра, их было предостаточно в этом городе, избранном для себя шевалье.
Шевалье де ла Гравери придерживался не менее строгих правил и в своей личной жизни.
Он изгнал из своего дома собак, кошек и птиц — в них он увидел повод для неприятностей.
У него была всего лишь одна служанка; он нанял ее, так как она превосходно готовила, но была при этом стара и сварлива, и шевалье всегда мог ее держать на почтительном расстоянии от своего сердца, безжалостно прогоняя ее прочь, но не тогда, когда старуха его раздражала, а, напротив, когда он начинал замечать, что ему весьма приятны ее услуги.
В этом отношении Небо, казалось, задалось целью осчастливить г-на де ла Гравери, дав ему Марианну, то есть ту служанку, что во второй главе этой истории, как мы видели, обрушила целый водопад на голову своего хозяина и на собаку, встреченную шевалье.
Марианна была уродлива, и она сознавала это, что в немалой степени сформировало у нее один из самых отвратительных характеров, с какими шевалье когда-либо приходилось встречаться.
Сердечные огорчения — а несмотря на недостатки своей внешности, Марианна обладала сердцем, — сердечные огорчения ожесточили ее характер, и под благовидным предлогом мести одному улану, изменившему ей, она третировала беднягу-шевалье, не подозревая об удовольствии, какое ему это доставляло, ибо он имел в ее лице такую служанку, к которой при всем желании невозможно было привязаться.
Но признаемся, что дерзость Марианны, ее злобный и сварливый нрав, ее безумные требования были не единственными качествами, свидетельствовавшими в ее пользу в глазах шевалье.
Марианна имела неоспоримое превосходство искусной поварихи над самым хваленым шеф-поваром Шартра, и мы мельком уже упоминали об этом в начале нашего повествования.
Чревоугодие стало любимым грехом г-на де ла Гравери. Сжав в комочек свое сердце, он позволил значительно расшириться своему желудку; меню ужина играло огромную роль в его жизни, и, хотя расстройство желудка порой доказывало ему, что, подобно всем земным наслаждениям, чревоугодие имеет свою обратную сторону, он с неослабным нетерпением каждый день ждал того часа, когда сядет за стол, и при этом кулинарное искусство Марианны ничуть не падало в его глазах.
Понемногу г-н де ла Гравери настолько привык к этому существованию улитки, что малейшие происшествия, случавшиеся в его жизни, превращались для него в целые события; жужжание комара вызывало у него лихорадку; а поскольку он, подобно всем людям, сверх меры поглощенным заботами о своей собственной персоне, дошел до того, что без конца щупал себе пульс и изучал свой душевный настрой, то время от времени его покой все еще нарушался; однако возмутителями спокойствия были ничтожные атомы, которые в его взволнованном воображении, как в микроскопе, увеличивались в десятки раз. В последнее время, застыв в оцепенении от этого полного отсутствия каких-либо эмоций, он так сильно боялся всего способного нарушить его спокойствие, что, подобно трусам, испытывал страх перед самим своим страхом.
Было бы, однако, неправильным утверждать, что сердце г-на дела Гравери определенно стало злым, что он позаимствовал немного жесткости у той раковины, в которой укрылся; но мы должны признать, что вследствие этой постоянной заботы шевалье о самом себе его врожденные достоинства, из-за их чрезмерности порой превращавшиеся в недостатки, значительно ослабли, и теперь уровень их был столь же низок, сколь прежде он был высок. Его доброта стала негативной, он не мог выносить мучений себе подобных; но его человечность проистекала скорее из нервного потрясения от самого вида страданий, разделить которые его могли призвать, нежели из чувства подлинного милосердия. Он охотно удвоил бы сумму раздаваемой милостыни, лишь бы это избавило его от вида нищих; жалость стала для него всего лишь неким ощущением, в котором сердце перестало принимать какое-либо участие, и чем больше он старел, тем больше его сердце иссыхало.
Пороки и добродетели похожи на любовниц: если в течение месяца, будучи разлученными с любимой женщиной, мы не стремимся вновь оказаться рядом с ней, то по прошествии этого месяца мы сможем прекрасно обойтись без нее всю остальную нашу жизнь.
Вот каким был шевалье де ла Гравери после восьми или девяти лет своего пребывания в Шартре, то есть в то время, когда началась эта история.
XVI ГЛАВА, В КОТОРОЙ АВТОР ВОЗОБНОВЛЯЕТ НИТЬ ПРЕРВАННОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ
Когда было предпринято это длительное отступление, а оно само является целой историей, мы оставили шевалье де ла Гравери промокшим до нитки из-за варварского вмешательства Марианны в его спор с новым знакомым.
Бормоча ругательства, шевалье поднялся в свою спальню; если бы ему на лестнице попалась служанка, то, можно не сомневаться, ее постигла бы суровая кара; но шевалье чувствовал, как сквозь его кожу проникает леденящий холод, пронизывая его до костей. И он счел, что было бы неразумно в приступе горячности поддаться чувству необузданной злобы, не приняв прежде необходимых мер против насморка и простуды.
Яркий и весело потрескивающий огонь, тот славный огонь, в очаге, который питают дровами (это можно встретить лишь в провинции), прогнал одновременно и дрожь, и плохое настроение шевалье; наслаждаясь приятным, почти сладострастным ощущением тепла, он забыл свой гнев; затем, повинуясь естественному переходу мыслей, он подумал о бедной собаке: с ней обошлись не лучше, чем с ним, но ей, чтобы высушить свою шелковистую одежду, пришлось, вероятно, довольствоваться бледными и немощными лучами осеннего солнца.
Эта мысль заставила шевалье де ла Гравери покинуть кресло, в котором он столь восхитительно нежился около огня, принимая эти теплые ванны как вознаграждение за ледяной душ; он подошел к окну, поднял занавески и увидел животное: дрожа, оно сидело на другой стороне улицы около тюремной стены, расположенной напротив дома шевалье.
Несчастная собака, насторожив уши, с видом глубокой печали разглядывала жилище, где ей был оказан такой негостеприимный прием.
В это же мгновение, то ли случайно, то ли движимая инстинктом, подняв голову, она заметила за оконным стеклом шевалье де ла Гравери. При виде его ее физиономия стала еще более красноречивой, и на ней появилось выражение горестной укоризны.
Первым порывом г-на дела Гравери, порывом, которого великий дипломат советовал остерегаться, так как он всегда бывает добрым, было признать перед самим собой неправоту, допущенную им по отношению к благородному животному; но давно усвоенная привычка подавлять свои симпатии взяла верх над этими остатками его прежнего темперамента.
— О нет! — вслух сказал он, как будто отвечая на свою собственную мысль. — Пусть она возвращается к своему хозяину, и Марианна тысячу раз была права, что не стала делать ни малейшего различия между собакой и мной. Если привечать у себя всех бродячих собак, то не хватит никакого княжеского состояния! К тому же у этой собаки масса недостатков: она любит поесть, а следовательно, должна быть воровкой; она разграбит и разорит весь дом, и потом… и потом… я не желаю иметь у себя в доме животных; я дал себе слово, а главное, я поклялся в этом Дюменилю.
После этого шевалье вернулся в свое кресло, где, предавшись сладкой дреме, постарался заглушить угрызения совести, о которых свидетельствовал его монолог.
Но вдруг в мозгу у шевалье стало твориться нечто странное.
По мере того как он погружался в дрему, предметы, окружавшие его, мало-помалу исчезали, уступая свое место другим: стены распахивались и превращались в деревянные решетки, напоминающие клетку; нежный, чистый и благоуханный воздух проникал через все эти щели, и через них же, если посмотреть вверх, было видно ясное небо, а если взглянуть на горизонт, то лазурное море.
Невольная греза, магнетическая сила перенесла шевалье дела Гравери в Папеэте.
Перед ним находилось ложе с матрасом; в изголовье и в изножье этой кровати горел желтоватый воск; завернутое в саван, на ней лежало тело человека; постепенно этот саван становился все прозрачнее и прозрачнее, и сквозь полотно шевалье де ла Гравери узнал пожелтевшее и осунувшееся лицо, остановившиеся глаза и приоткрытый рот капитана Дюмениля, и он услышал голос своего друга, отчетливо произносившего слова: «Если только я увижу, что там, наверху, в порядке вещей переселение душ, то буду умолять милосердного Бога вверить мне шкуру собаки, и в этом облике, где бы я ни был, я разорву свою цепь, чтобы отыскать тебя».
Затем погребальная пелена отделила шевалье от мертвого тела капитана и видение растаяло в тумане.
Шевалье издал вопль, словно он катился куда-то в пропасть, проснулся и, придя в себя, заметил, что сидит, вцепившись в подлокотники кресла.
— Проклятье!.. — вскричал он, вытирая лоб, покрытый густыми каплями холодного пота. — Какой жуткий кошмар! Бедняга Дюмениль!
Затем, после паузы, во время которой его глаза оставались неподвижно устремлены на то место, где появилось видение, он произнес:
— Это в самом деле был он.
И, как будто эта убежденность побуждала его принять трудное, но неизбежное решение, шевалье поднялся и быстро направился к окну.
Но на полдороге он остановился.
— Ах! Это ужасно глупо! — пробормотал он. — Мой бедный друг умер, и, к несчастью, его уже не воскресить; как добрый христианин, я могу надеяться лишь на то, что Господь смилостивился над ним и принял к себе его душу. Нет, это нелепо! Я слишком много ходил сегодня; душ Марианны вызвал у меня лихорадку, а от этой проклятой собаки у меня помутился разум. Нет, нет, не будем больше думать об этом.
Господин де ла Гравери отправился в библиотеку и, чтобы больше не думать об этом, то есть о капитане Дюмениле и черной собаке, взял первую попавшуюся под руку книгу, снова как можно удобнее устроился в своем кресле, поставил ноги на наличник камина, наудачу раскрыл взятый том, и взгляд его упал на следующие строчки:
«Ни одного письменного наставления не сохранилось до наших дней из той системы, которой учил Пифагор; но, судя по преданиям, дошедшим до нас, можно утверждать, что он верил в смерть одной лишь матери, физической оболочки, и ни в коем случае не того жизненного начала, которое дается человеку при рождении. Это жизненное начало, будучи бессмертным, не может быть ни растрачено, ни изменено к худшему человеком; однако оно переходит в другие материальные тела — существа той же самой природы, если боги полагают необходимым вознаградить жизнь, прожитую мужественно, самоотверженно и честно, и существа низшей природы, если человек во время своего пребывания на земле совершил какое-либо преступление или даже какую-либо ошибку, которую должен искупить. Поэтому он утверждал, что узнал под внешностью собаки одного из своих друзей, Клеомена с Тасоса, через восемь или десять лет после его смерти…»
Шевалье не стал читать дальше; он выронил книгу, давшую столь прямой ответ на его мысли, встал и робко посмотрел в окно.
Спаниель по-прежнему сидел на том же месте, все в той же позе, все так же устремив глаза на то самое окно, из-за занавесок которого шевалье в данную минуту сам разглядывал его; как только пес увидел в оконном переплете шевалье, его взгляд оживился, и он стал медленно помахивать хвостом.
Эта упорная настойчивость животного настолько была созвучна мыслям, смущавшим рассудок шевалье де ла Гравери, что он был вынужден призвать на помощь весь свой разум, чтобы не видеть сверхъестественного явления в своей встрече с черной собакой.
Стыдящийся своих суеверных поползновений, измученный странным влечением, которое он внезапно почувствовал к своему товарищу по прогулке, шевалье решил пойти на компромисс, что позволило бы ему не противиться поселившейся в его сердце привязанности бродячей собаке, но при этом, однако, не пускать к себе в дом случайного гостя.
Он торопливо спустился в кухню.
Марианны не было.
Шевалье облегченно вздохнул; он слышал, как чуть раньше хлопнула дверь, и действительно рассчитывал, что Марианна ушла.
От ее отсутствия он испытал сильнейшее чувство радости.
Ведь на самом деле, решившись на это благое дело, шевалье все же побаивался нравоучений его служанки о том грехе, который он собирался совершить, бросая хлеб Божий какой-то собаке, когда столько бедных лишены такой милости.
Но это вовсе не означало, заметьте себе, что, следуя этой заповеди, Марианна когда-нибудь делилась с обездоленными своим хлебом или даже хлебом своего хозяина.
Но шевалье принял решение, а он был, что называется, твердолоб: если бы Марианна осмелилась сделать ему замечание, он припомнил бы ей обрушенное ему на голову ведро воды, что он ей так и не простил, и величественным тоном (воздействие его он неоднократно имел возможность оценить)заявил бы ей: «Марианна, мы больше не может жить под одной крышей; даю вам расчет!»
Эта фраза, произнесенная с подобающим величием, всегда приводила к тому, что мадемуазель Марианна становилась как шелковая.
Но с некоторого времени Марианна стала сварливее, чем обычно, и шевалье предполагал, что переполнявшее ее раздражение по отношению к нему вызваны предложениями г-на Легардинуа, мэра Шартра, добивающегося того, чтобы она покинула шевалье и поступила на службу к нему в дом.
А поэтому было весьма вероятно, что, если в подобных обстоятельствах шевалье отважится на свое величественное «Даю вам расчет!», Марианна действительно возьмет расчет и уйдет от него.
Шевалье удалось победить свои сердечные симпатии и привязанности, но он был не в силах заглушить вопль своего желудка.
Марианна была пусть не самая любезная, но зато самая умелая кухарка, какая когда-либо у него была.
Вот что заставляло его так опасаться встречи с Марианной на кухне, и вот почему у него стало так легко на сердце, когда он обнаружил, что ее там нет.
Итак, шевалье воспользовался обстоятельствами и торопливо приблизился к буфету.
Буфет был закрыт на ключ.
Марианна была очень аккуратна.
Тогда он взял нож и, зацепив им замочную задвижку, попытался открыть буфет без ключа.
Но тут он подумал, что скажет Марианна, если она вернется именно в эту минуту и застанет его на месте преступления, уличив во взломе собственного буфета.
Собственного? А был ли он все еще его собственным? Разве Марианна когда-нибудь говорила: «Кухня господина шевалье»?
О нет! Марианна говорила: «Моя кухня».
Нож выпал из рук Дьёдонне, и он с безнадежным видом оглядел все вокруг себя.
Рядом с дверью, на высокой полке, вне досягаемости каких-либо хищных зверей, он заметил курицу; утром он съел всего лишь одно ее крылышко.
Итак, не считая крыла, птица оставалась нетронутой.
А это была отменная пулярка из Ле-Мана.
Очевидно, памятуя об ужине шевалье, Марианна рассчитывала наилучшим образом распорядиться этими остатками, выглядевшими самым аппетитным образом: белое мясо, пропитанное жиром, обжаренное до золотистой корочки, такое нежное, уютно покоящееся в собственном соку.
Воображение шевалье в несколько секунд нарисовало ему, как он вкушает эти сочные остатки пулярки, приготовленные в виде фрикасе под маринадом, под байонезом или майонезом (мнения ученых разделились в этом вопросе кулинарной технологии), и хотя все эти закуски были несколько грубоваты, как и все блюда повторного приготовления, шевалье обожал их до невозможности.
Поэтому его взгляд стал обшаривать все углы и все полки в надежде, не послала ли ему счастливая случайность какое-нибудь другое съестное, которое заняло бы место пулярки в его планах.
Но шевалье искал напрасно: он ничего не нашел.
Тогда он взял птицу за ножки, поднес ее к глазам и принялся изучать, испуская вздохи сожаления и вожделения, изо всех сил подавляя желание тут же впиться в нее зубами.
Он все еще занимался этим осмотром и, возможно, поддался бы искушению, как вдруг скрип уличной двери, поворачиваюшейся на заржавевших петлях, положил конец его колебаниям.
Шевалье вышел победителем из этого сражения, которое его сердце вело с его желудком. Он решительно спрятал пулярку под полу своего домашнего халата и взобрался по лестнице, ведущей из кухни, с ловкостью и проворством, которые он в свои сорок пять лет и не предполагал вновь обнаружить в своих ногах.
Выйдя из кухни, он чуть не столкнулся с Марианной.
Он проворно укрылся в кладовой и стоял там, едва переводя дух, до тех пор, пока Марианна не спустилась в кухню, расположенную в цокольном этаже, как теперь принято выражаться.
Тогда он на цыпочках, стараясь не дышать, вышел из кладовой, добрался до лестницы и, перешагивая сразу через две ступени, вернулся в свою комнату, закрыл дверь, затворил ее на задвижку и упал на стул.
Силы оставили его.
Шевалье хватило пяти минут, чтобы прийти в себя; он вновь поднялся на ноги, подошел к окну, решительным жестом открыл его, подозвал собаку, которая все так же сидела на одном и том же месте, словно обратясь в сфинкса, и величественным движением руки кинул ей курицу.
Собака схватила ее на лету и, вместо того чтобы убежать со своей добычей, как этого ожидал шевалье и на что он, вероятно, надеялся, зажала курицу между лапами и с видом, свидетельствующим об уверенности в своем праве, принялась на месте разрывать ее на части с силой, делавшей честь крепости ее челюстей.
— Браво, мой мальчик! — восторженно закричал шевалье. — Так ее, отлично! Рви, раздирай! Вот целое крыло исчезло в пасти; вот одна ножка, так, теперь другая, а вот и голова; что же, пришел черед тушки… Но ты же умираешь от голода, бедняга?
При этой мысли г-н де ла Гравери тяжело вздохнул, поскольку идея о переселении душ вновь возникла в его мозгу, а вместе с ней ему явился образ капитана.
И мысль, что тот, кто в облике человека был так добр к нему, может страдать от голода в другой телесной оболочке, какой бы она ни была, — особенно если это черная собака, возможно разорвавшая свою цепь, чтобы отыскать его, — вызвала у шевалье слезы на глазах.
И никто не взялся бы предсказать, куда могла бы завести шевалье эта мысль, если бы у него было время остановиться на ней.
Но яростные крики, послышавшиеся с нижнего этажа, грубо прервали ход его размышлений.
Шевалье, пребывая в соответствующем расположении духа и сознавая свою вину, без труда узнал голос Марианны.
Он быстро захлопнул окно, подбежал к двери и открыл задвижку.
Это и в самом деле была Марианна: обнаружив пропажу пулярки, она стонала и причитала так, словно весь дом был обращен в пепел.
Шевалье счел, что будет лучше предупредить опасность или даже вызвать огонь на себя.
Если Марианна случайно подошла бы к уличной двери и увидела собаку, грызущую остатки пулярки, ей все стало бы ясно.
Если же, напротив, шевалье отвлек бы ее внимание, пусть даже всего на пять минут, то по темпу, какой взял спаниель, было очевидно, что через пять минут исчез бы и самый последний кусочек птицы.
Осталась бы облизывающаяся от удовольствия собака, ожидающая новую курицу; но собаки не говорят, а если спаниель даже и заговорил бы, он выглядел слишком умным, чтобы поведать Марианне о своих гастрономических отношениях с шевалье де ла Гравери.
От двери своей комнаты, с верхней площадки лестницы, то есть занимая господствующее положение, он закричал хозяйским голосом:
— Ну, Марианна, что случилось и почему весь этот шум?
— Почему весь этот шум? И вы еще спрашиваете, сударь?
— Разумеется, я вас спрашиваю об этом.
Затем он добавил со все возрастающим достоинством:
— Черт возьми, я, кажется, имею полное право знать, что происходит в моем доме.
И он с какой-то совершенно особой интонацией произнес конец фразы, сделав акцент на притяжательном местоимении «мой» и существительном «дом».
Марианна почувствовала жало.
— В вашем доме! — сказала она. — В вашем доме! Ну, что же, знайте, что в нем происходят премилые веши.
— Так что же все-таки случилось? — дерзко спросил шевалье.
— В вашем доме воруют; вот что случилось в вашем до…ме, — с непередаваемым выражением произнесла Марианна.
Шевалье закашлялся и уже менее твердым голосом поинтересовался:
— И что же украли?
— Украли ваш ужин: только и всего. Не думаете же вы, что в четыре часа дня я еще раз пойду на рынок. Впрочем, там уже ничего и не было бы, на этом рынке. Да даже и будь там куры, они были бы непригодны сегодня к употреблению. Каждый знает, что курица будет съедобной, только если пролежит по меньшей мере два дня.
Шевалье очень хотелось ей сказать: «Пойдите к пирожнику на углу, там вы найдете слоеный пирог с мясом или грибами или что-то еще, что заменит вашу пулярку».
Но спаниель несомненно находился все еще у двери, а шевалье не хотел подвергать его расправе со стороны Марианны.
И он ограничился следующим ответом:
— Ба! Что такое? Приготовить незамысловатый ужин, разве на это надо много времени?!
Это суждение настолько не соответствовало характеру шевалье, что Марианна, привыкнувшая, напротив, к педантичным замечаниям своего хозяина, была им совершенно ошеломлена.
— А! — проворчала она. — Вот как ты заговорил; хорошо же, хорошо же, не станем тогда стесняться.
И Марианна вернулась к себе в кухню, дав слово, что припомнит это шевалье, ибо ее гордыня была уязвлена.
А шевалье, отдав в дар курицу, что лишило его ужина, и поссорившись с Марианной, счел себя свободным от каких-либо дальнейших шагов по отношению к спаниелю.
Не подходя больше к окну, он направился прямо к креслу и оставался в нем до той минуты, когда Марианна открыла дверь его комнаты и с насмешливым видом объявила:
— Сударь, ужин подан.
Эти слова раздавались ежедневно в пять часов вечера.
Шевалье спустился и сел за стол.
Марианна церемонно положила перед шевалье кусок отварной говядины, поставила тарелку со сладким горошком и салат из зеленой фасоли, предупредив, что эти три блюда составят сегодня весь его ужин.
Бедный шевалье с нескрываемым отвращением атаковал кусок совершенно сухого и жилистого мяса, заставившего его быстро перейти к фасоли; но, к счастью, совершенная им прогулка, полученный душ, а главное — непривычное волнение, пережитое им, вероятно раскрыли перед его аппетитом новые возможности, ибо если он и предпринял всего одну атаку на кусок говядины, то дважды возвращался к горошку и трижды к фасоли и закончил тем, что, встав из-за стола, поклялся совершенно сбитой с толку Марианне, что уже давно так хорошо не ужинал.
После ужина шевалье обычно отправлялся в свой клуб. Ни за что на свете шевалье не отказался бы от этой привычки. Что бы он стал делать, если бы отказался от своего виста по два лиарда за фишку?
Однако, опасаясь, как бы курица, вместо того чтобы внушить спаниелю мысль убраться восвояси, не породила бы у него желание остаться, и подозревая, что, выйдя из дома, он встретит его у двери, шевалье решил ловко провести его.
Это всего-навсего значило покинуть дом через сад, а не пройти по улице.
Сад выходил на пустынный переулок, где никогда ни одна бродячая или потерявшаяся собака даже не помыслила бы ждать хозяина.
В результате этого обходного маневра, избежав нежелательной встречи, шевалье кружным путем дошел до своего клуба, расположенного на площади Комедии.
Он пробыл там до десяти часов вечера.
«Этот чертов спаниель так упрям, — пробормотал про себя шевалье, — что способен до сих пор оставаться на своем посту; если он будет там, то у меня не достанет мужества оставить его на улице; вернемся же домой так же, как я пришел сюда».
И шевалье все тем же кружным путем попал в свой переулок и вошел в сад через заднюю калитку; он ускорил шаги, так как вдалеке сверкала молния и раздавались раскаты грома.
Когда он шел по саду, упали первые капли дождя, такие же большие, как шестифранковые экю.
На лестнице он встретил Марианну, которая, подумав, что, вероятно, она несколько далеко зашла в своем желании отомстить, обратилась к шевалье, пытаясь принять свой самый любезный вид:
— Вы, сударь, хорошо сделали, что вернулись.
— Почему же это? — спросил Дьёдонне.
— Почему? Потому что собирается гроза, да такая гроза, когда хороший хозяин и собаку не выставит за дверь.
— Гм! — произнес шевалье. — Гм-гм!
И, обойдя Марианну, он прошел к себе в комнату.
Он испытал огромное желание подойти к окну и посмотреть, по-прежнему ли пес сидит перед домом, но не осмелился.
Как все слабовольные люди, он предпочитал оставаться в сомнениях, чем решиться на что-нибудь.
Дождь с силою хлестал в ставни, и с каждым разом удары грома становились все ближе и ближе.
Шевалье быстро разделся, поспешно закончил свой вечерний туалет, улегся в постель, погасил свечи и натянул одеяло на уши.
Но гроза была такой сильной, что, несмотря на принятые им предосторожности, он продолжал слышать стук дождя в ставни и раскаты грома, грохочущие над его головой, так как гроза потихоньку продвигалась вперед и, казалось, в этот час вся ее сила сосредоточилась над домом шевалье.
Вдруг среди шума ливня и грохота грома ему послышался протяжный, скорбный, заунывный стон, похожий на вой собаки, — он доносился все явственнее и громче.
Шевалье почувствовал, как дрожь прошла по всем его членам.
Неужели спаниель, встреченный сегодня утром, был все еще здесь? Или это была другая собака, попавшая сюда случайно?
Завывания, услышанные им, имели так мало общего с радостным лаем, звучавшим сегодня утром, что шевалье вполне мог предположить: этот лай и этот вой не имели между собой ничего общего и не могли выйти из одной глотки.
Шевалье еще глубже вдавился в постель.
Гроза продолжала грохотать все страшнее и страшнее.
Ветер сотрясал дом так, будто хотел сорвать его с места.
Вторично послышался заунывный, печальный, протяжный вой.
На этот раз шевалье больше не мог устоять перед ним; казалось, этот вой против его воли вытаскивал шевалье из постели; тогда он поднялся, и, хотя занавески, окна и ставни были закрыты, вспышки молнии, следовавшие друг за другом без перерыва, освещали комнату.
Как будто движимый какой-то более могущественной силой, чем он сам, шевалье неуверенной походкой подошел к окну; приподняв занавеску, через отверстия в ставнях он увидел несчастного спаниеля, который сидел на прежнем месте под потоками ливня, способными размыть даже собаку, сделанную из гранита.
Глубокая жалость овладела шевалье.
Ему показалось, что в этом упорстве собаки, которую он видел впервые, было нечто сверхъестественное.
Машинальным движением он поднес руку к шпингалету на оконной раме, чтобы открыть его, но в ту же минуту такой удар грома, какого он до сих пор не слышал, грянул прямо у него над головой; мрак раскололся, огненная змея прочертила воздух; собака испустила громкий вопль ужаса и, завывая, убежала, в то время как шевалье, пораженный ударом электричества, — войдя через руку, касавшуюся железного шпингалета, оно прошло по всему его телу, — попятился и без сознания упал навзничь у изножья своей кровати.
XVII ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ
Когда шевалье пришел в себя, гроза закончилась, стояла густая тьма и полная тишина.
Он лежал некоторое время, не понимая, что с ним случилось; он ничего не помнил и не мог догадаться, как получилось, что осенней ночью, уже такой же холодной, как и зимняя ночь, он в одной рубашке лежит на полу около своей кровати.
Он чувствовал себя совершенно закоченевшим; в ушах у него раздавался шум, похожий на отдаленный гул водопада.
Он неуверенно встал на колено, ощупью нашел на расстоянии вытянутой руки свою кровать и, тяжело вздохнув, с беспримерным усилием вскарабкался на пирамиду из матрасов.
Там он нашел свои простыни еще теплыми (это доказывало, что его обморок был недолгим), а свое пуховое одеяло наполовину сползшим вниз.
Он скользнул между простынями, испытав при этом чувство неслыханного наслаждения, с головой натянул на себя пуховое одеяло, свернулся клубочком, чтобы быстрее согреться, и попытался заснуть.
Но, напротив, мало-помалу память стала возвращаться к нему, а по мере того как возвращалась память, сон бежал от него прочь.
Шевалье в малейших подробностях припомнил все, что произошло, начиная с пулярки из Ле-Мана и кончая раскатом грома.
Тогда он прислушался, не нарушат ли тишину ночи завывания собаки.
Все было тихо.
Впрочем, разве в тот миг, когда он почувствовал удар электричества, от которого у него до сих пор немела рука, он не видел, как собака убегала испуганная?
Значит, он избавился от этого животного, упорно преследовавшего его как призрак.
Но не было ли это животное странным образом связано с единственными воспоминаниями, дорогими ему, — со смертью его друга Дюмениля?
Все это было слишком сильным потрясением для шевалье, чья жизнь вот уже восемь или девять лет текла размеренно, похожая на гладкую поверхность озера, а со вчерашнего дня будто превратилась в бурный поток, увлекаемый против его воли к какому-то ужасному водопаду, подобному Рейнскому или Ниагарскому.
В эту минуту послышался удар часов.
Это могла быть половина какого-то часа или же час ночи.
Шевалье мог подняться, зажечь спичку и посмотреть.
Но, испытывая, словно испуганный ребенок, робость, шевалье не осмелился встать, так как ему казалось, что привычный порядок вещей полностью нарушился.
Он ждал.
Через полчаса часы пробили еще раз.
Значит, был час ночи.
Шевалье предстояло еще шесть часов ждать наступления дня.
Он вздрогнул и почувствовал, как от ужаса у него по всему телу выступил пот; было совершенно очевидно, что если ему не удастся заснуть, то до наступления дня он сойдет с ума.
Стиснув зубы и сжав кулаки, шевалье с яростью приказал себе: «Спать!»
К несчастью, известно, что в этом отношении человек не властен над собой; шевалье напрасно говорил себе: «Спать» — сон не шел к нему.
Но вместо сна начался бред измученного ума!
Шевалье впал в некое оцепенение, похожее чем-то на сон; ему стало казаться, что это он, а не Дюмениль лежал на кровати, завернутый в саван; но только произошла ошибка, летаргический сон приняли за смерть, и шевалье собирались похоронить заживо.
Затем пришел могильщик, взял его с кровати (сам он был не в состоянии ни говорить, ни кричать, ни стонать, ни шевелиться, ни сопротивляться), положил его в саване в гроб и, закрыв гроб крышкой, принялся его заколачивать; но один из гвоздей коснулся тела, и шевалье закричал и проснулся.
Когда он проснулся или полагал, что проснулся — ведь шевалье был во власти непрерывной галлюцинации, — ему показалось, что он вдруг перенесся в фантастический мир, населенный животными странных форм, с угрозой смотревшими на него; он хотел убежать, но на каждом шагу, как перед рыцарем в садах Армиды, перед ним возникали новые монстры, драконы, гиппогрифы, химеры, которые слились в единую свору, гнавшуюся за ним; несчастный шевалье спотыкался, падал и вновь поднимался, продолжая свой бег; но вскоре, настигнутый как загнанный олень, он приготовился к смерти, не имея сил бороться с ней, однако боль, которую причинил ему первый же укус, разбудила его, и он снова сказал себе: «Это все неправда, я лежу в своей постели, мне нечего бояться, это какое-то сновидение, кошмар».
И шевалье приподнялся и сел, обхватив голову руками; напрасно уверял он себя, что никогда не будет столь чувствительным, чтобы придавать хоть малейшее значение снам; эти потрясения, состояние подавленности, в которое он впал от бессонницы, начинали расшатывать его рассудок.
Но даже в такой позе он не мог избежать этого ужасного сонного оцепенения, с помощью которого невероятное входило в его жизнь и овладевало всеми его способностями.
Одна его рука безвольно упала вниз и вытянулась вдоль пирамиды из матрасов; но едва она повисла, как ему стало казаться, что ее ласкает нежный и горячий язык собаки; затем мало-помалу этот язык становился все холоднее и холоднее, пока не стал жестким и твердым, как сосулька.
Шевалье открыл глаза или подумал, что он открыл их; в эти минуты его воля настолько не подчинялась ему, что у него не было никакой возможности сказать: «Вот это происходит во сне, а вот это наяву», и он вздрогнул всем телом, увидев спаниеля, сидящего рядом с кроватью, — его черная шелковистая шерсть сверкала в ночной темноте, как будто светясь, и озаряла комнату вокруг животного, так что Дьёдонне мог заметить пристальный взгляд собаки, неподвижно обращенный на него; ее глаза были полны печали и нежной укоризны, они перестали быть глазами собаки и приобрели чисто человеческое выражение.
И это было именно то выражение, с каким Дюмениль, умирая, смотрел ему в глаза.
Шевалье не смог этого выдержать, он соскочил с кровати и, в темноте натыкаясь на мебель, добрался до камина, нашел там заранее приготовленные спички и зажег свечу.
Когда свеча разгорелась, шевалье, с зажмуренными глазами спрыгнувший с постели, наконец осмелился, дрожа при этом от страха, их открыть и оглядеться вокруг.
Комната была совершенно пустой.
Он вернулся к окну, вновь поднял занавеску: улица была так же пустынна, как и комната.
Шевалье упал в кресло, вытер пот, струившийся по лбу, и, чувствуя, что холод вновь овладевает им, поднялся и опять лег в постель, оставив на этот раз гореть свечу.
Несомненно, свет разогнал все призраки, так как шевалье больше не видел ни одного из них, хотя он и пребывал в таком лихорадочном состоянии, что слышал даже, как стучало у него в висках.
Едва занялся новый день, как он позвонил Марианне, чтобы та разожгла ему огонь.
Но Марианна, привыкшая входить в комнату шевалье не раньше половины девятого, не обратила ни малейшего внимания на столь необычный звонок, несомненно подумав, что это проделки какого-то домового, стремящегося помешать ее отдыху.
Шевалье поднялся, открыл дверь и позвал служанку.
Но Марианна осталась так же глуха к голосу хозяина, как и к призыву звонка.
Смирившись, шевалье надел брюки и домашний халат и лично занялся хлопотами по хозяйству.
Он разжег огонь и, удостоверившись, что собака действительно исчезла, снова принялся звонить.
Поскольку уже наступило время Марианны, она вошла, неся все необходимое, чтобы разжечь огонь.
Огонь уже пылал и шевалье грелся около него.
Марианна застыла как вкопанная на пороге двери.
— Мой завтрак! — произнес шевалье.
Марианна попятилась.
Никогда еще прежде шевалье не вставал раньше девяти часов и не садился за стол раньше десяти!
Была только половина девятого, а шевалье уже встал, развел огонь и приказывал подавать завтрак.
Помимо того, шевалье был мертвенно-бледен.
— Ах! Сударь, — сказала она, — но что же здесь произошло, Боже мой?
Шевалье охотно рассказал бы ей обо всем, если бы осмелился, но он не мог.
— Слава Богу! — произнес он, уклоняясь от ответа. — Здесь можно умереть, не дождавшись помощи; я звал, звонил, кричал, но увы! Я не получил никакого ответа, как если бы в доме не было ни души.
— Черт возьми, сударь, такая бедная женщина, как я, которая работает каждый день, выбиваясь из последних сил, не прочь поспать немного ночью.
— Нельзя сказать, чтобы вчера вы перетрудились сверх меры, — с некоторой язвительностью ответил шевалье, — но не будем больше об этом: я просил вас подать мне завтрак.
— Господи Иисусе, завтрак в этот час! Разве для него настало время?
— Да, настало, раз вчера я так плохо поужинал.
— Вам придется обождать, пока я вернусь с рынка; в доме нет ни крошки.
— Хорошо, отправляйтесь на рынок; но не смейте никуда больше заходить, только туда и обратно.
Марианна собиралась было отважиться на какое-то замечание.
— Проклятье! — сказал шевалье, резким движением ударив щипцами по огню, разожженному им самим, от чего в разные стороны посыпались мириады искр.
Всего дважды ей приходилось слышать из уст шевалье это невинное ругательство, и оно произвело на нее должное впечатление.
Она повернулась, закрыла дверь, спустилась по лестнице и засеменила по дороге на рынок.
Марианна покорилась, но покорилась, подобно конституционному монарху, который соглашается с реформой, навязанной ему парламентом, но соглашается с твердым намерением взять скорый реванш.
Вопреки своим привычкам, шевалье поел на скорую руку, не предаваясь своим обычным застольным размышлениям, — на них его наводило воспоминание о великолепном кофе, отведанном им в его путешествиях: с ним тот, что ему подавали в Шартре (хотя Шартр — это именно тот город Франции, где, как здесь утверждают, лучше, чем в любом другом месте, жарят кофе), мог сравниться так же, как чистый цикорий — с обычным кофе.
В хозяйстве старого холостяка все было настолько отлаженным и застывшим, что Марианна не могла поверить ни своим ушам, ни своим глазам.
Почтальон принес газету.
Марианна, движимая желанием помириться, поторопилась отнести ее хозяину.
Но тот, вместо того чтобы добросовестно прочесть ее начиная с заголовка и кончая подписью печатника, как он это делал ежедневно, рассеянным взглядом пробежался по странице, бросил газету на круглый столик и поднялся обратно в спальню.
— По правде говоря, — заметила Марианна, расставляя посуду, — я не узнаю хозяина; сегодня ему не сидится на месте. Он даже не заметил, что вареные яйца плохо чистились, котлеты подгорели, а его зеленая фасоль пожелтела при варке.
Затем, воздев обе руки к Небу, словно испытав внезапное озарение, она воскликнула:
— Неужели он влюбился?
Но после некоторого раздумья, сама рассмеявшись столь безрассудному предположению, продолжила:
— Ну нет, нет, это невозможно, однако какого дьявола он замышляет в своей комнате? Надо посмотреть.
И, подобно скромной благовоспитанной служанке, Марианна на цыпочках прошла через всю гостиную и приникла глазом к замочной скважине в двери, ведущей в спальню.
Она увидела своего хозяина: несмотря на резкий холод осеннего утра, он открыл окно и внимательно смотрел на улицу.
— Однако, глядя на него, можно подумать, что он ждет, когда кто-то пройдет по улице, — промолвила Марианна. — Господи Иисусе! Нам только это не хватало — женщины в доме; я уж скорее простила бы ему вчерашнюю собаку.
Но шевалье де ла Гравери, не обнаружив, вероятно, на улице то, что он искал, закрыл окно и, в то время как Марианна, еще больше заинтригованная и теряющаяся в догадках, вернулась в столовую, принялся взад-вперед шагать по комнате, скрестив на груди руки, нахмурив брови, и было заметно, что его снедает какое-то сильное беспокойство.
Затем он вдруг порывисто сбросил халат, как человек, принявший внезапное решение, и сунул руку в рукав своего сюртука.
Но, успев надеть лишь эту деталь своего туалета, он бросил взгляд на настенные часы.
Они показывали половину одиннадцатого.
Увидев это, он некоторое время ходил по комнате, волоча за собой сюртук, державшийся у него лишь на одном плече.
Если Марианна увидела бы его в эту минуту, она ни в коем случае не ограничилась бы предположением, что шевалье влюбился.
Она сказала бы: «Шевалье сошел с ума!»
Но было бы еще гораздо хуже, если бы она увидела, как шевалье вышел из своей комнаты в подобном состоянии — одна рука продета в сюртук, другая нет — и спустился в сад.
Только выйдя на воздух, он заметил свою рассеянность и надел второй рукав.
Что он собирался делать в саду?
Этого Марианна, разумеется, тоже не смогла бы понять, как и всего остального.
Шевалье искал, шел вперед, возвращался, останавливаясь, как правило, в углах; с помощью трости он вымерял квадраты, стороною то в один метр, то в два, в зависимости от пространства.
Потом он произнес про себя:
«Здесь — нет; а вот там было бы вполне возможно… Прямо сейчас я пошлю за каменщиком; впрочем, конура из кирпича или из камня была бы сыровата. Думаю, что лучше будет конура из дерева; я пошлю не за каменщиком, а за плотником».
Было очевидно, что тело шевалье было здесь, а ум его витал где-то далеко.
Но где был его ум?
Надеемся, что решение этой загадки, столь таинственной в глазах Марианны, для читателя совершенно ясно.
Он уже догадался, что шевалье принял решение.
Шевалье решил сделать из собаки своего сотрапезника и теперь искал место, где бы он мог ее поселить со всеми мыслимыми удобствами.
Ведь той самоотверженности, которую шевалье проявил, пожертвовав своей пуляркой и заглушив угрызения совести по поводу плохого обращения с Марианной, было уже недостаточно после этих злосчастных сновидений и роковых галлюцинаций, уличавших его в неблагодарности к животному, которое выказывало по отношению к нему всяческие знаки симпатии.
Не то чтобы с восходом солнца шевалье пребывал все в том же состоянии тревоги; нет, он не мог допустить реальность ночных видений, рассеявшихся под действием света: переселение душ как учение существовало только у Пифагора. Разум и религиозные чувства шевалье в равной степени отвергали это поверье.
И все же, несмотря на доводы своего разума, несмотря на свои духовные устремления, он сомневался, а сомнение смертельно для умов такого склада, какой был у шевалье.
Конечно, он мог бы поклясться, что нелепо полагать, будто некая сила, управляющая телом черной собаки, могла бы иметь хоть малейшее отношение к душе его бедного друга, ушедшего в мир иной; однако, несмотря на все настойчивые уговоры, с которыми шевалье обращался сам к себе, он чувствовал к этой собаке такой глубокий и такой трогательный интерес, что это приводило его в ужас, но подавить его он никак не мог решиться.
Он думал о бедном животном: двенадцать часов оно не могло нигде укрыться от осеннего ненастья, дрожало от пронизывающего северного ветра, захлебывалось в потоках воды, падающих с неба; ослепленное вспышками молнии, оглушенное раскатами грома и устрашенное, оно бегало во мраке, а с наступлением дня стало жертвой жестокости детей, было вынуждено искать себе завтрак на помойках — короче, испытывало все беды бродячей жизни, этой последней ступени падения для собак, бед, наименьшая из которых — быть убитой на месте, якобы будучи надлежащим образом уличенной в бешенстве.
В общем, г-н де ла Гравери, готовый еще третьего дня отдать всех собак в мире за цедру лимона, особенно если она должна была придать соответствующий вкус крему, г-н де ла Гравери, чувствующий, как его сердце разрывается, а глаза наполняются слезами, когда он думает о несчастьях бедного спаниеля, решился положить конец этим несчастьям, дав ему приют, и, как мы видели, он выбирал и вымерял то место, где должна была быть воздвигнута конура его будущего товарища.
Однако этому решению предшествовала жестокая борьба с самим собой, и шевалье оказал упорное сопротивление, прежде чем сдаться. Но даже и после этого время от времени он восставал и все еще продолжал сражаться.
Но чем больше он негодовал на свою слабость и пытался обуздать свое воображение, тем сильнее оно разыгрывалось и тем сильнее его слабость подрывала его волю.
В конце концов, хотя ему и удалось изгнать из своего рассудка устремления к сверхъестественному, которое связывали эту собаку с воспоминаниями о его друге Дюмениле, животное, тем не менее, от этого не стало занимать его меньше; он уже не думал о нем иначе, чем думают об одном из братьев наших меньших, но все же по-прежнему думал лишь о нем.
А дело в том, что эта собака отличалась от всех других собак: как бы мало он ее ни видел, каким бы коротким ни был срок его общения с ней, шевалье убедил себя, что спаниель должен обладать бесчисленным множеством замечательных и исключительных качеств, и, подумав как следует, он, казалось, припоминал, что сумел прочесть их на честной физиономии животного.
Итак, напрасно шевалье, убежденный эгоист, пытался укрыться за своими прошлыми решениями; напрасно он взывал к своим клятвам; напрасно он во весь голос говорил, что поклялся никому не открывать своего сердца на этом свете, будь это двуногое, четвероногое или крылатое существо; напрасно представлял он себе тысячу неудобств, которые, безусловно, повлечет за собой привязанность к этому животному, которая, как он чувствовал, зарождалась в нем.
Мы видели, к чему в итоге пришел шевалье.
Он не хотел, чтобы собака жила под одним из тех навесов, в одной из тех конюшен или под крышей одной из тех построек, что уже существовали.
Он решил выбрать ей место, самое лучшее разумеется, и построить для нее конуру, где бы она могла жить в полное свое удовольствие.
И, как бы извиняясь, г-н де ла Гравери сказал самому себе: «В конце концов это всего лишь собака».
И, покачав головой, добавил: «Я еще недостаточно стар и уже недостаточно молод, чтобы, отказавшись от общества мне подобных, отдать остаток своего чувства какому-то там животному».
Затем, протягивая руку к тому месту, где он решил построить конуру для своего спаниеля, он продолжал раздумывать: «А этот, после того как я сделаю для него все, что полагаю должным, может спокойно потеряться или умереть, я тогда даже и пальцем не пошевелю. Я от него отделаюсь и, если мне так уж стала нужна собака, что я, впрочем, отрицаю, — так вот, я от него отделаюсь и возьму на его место преемника. И разве, если хоть немного разобраться, я нарушаю свои клятвы, пытаясь противопоставить невинное развлечение своему однообразному существованию? Впрочем, выбрав себе в удел одиночество, я не помню, чтобы я обрекал бы себя к тому же и на рабскую зависимость, что в сто раз хуже каторги. Нет, проклятье! Тысячу раз нет!»
Отведя душу этим ругательством, выдававшим то крайнее раздражение, в котором он пребывал, шевалье де ла Гравери выпрямился, желая убедиться, позволит ли себе кто-нибудь утверждать обратное.
Никто не вымолвил ни слова.
Тогда шевалье счел, что вопрос решен окончательно и надлежащим образом.
Однако, чтобы приступить к выполнению своего плана, ему недоставало самого главного — собаки, которая, испугавшись удара молнии, с воем убежала.
Шевалье решил выйти на свою обычную прогулку.
Конечно же он не станет утруждать себя поисками спаниеля, но если тот попадется ему на пути, то это будет приятная встреча.
Таковы были благие намерения шевалье де ла Гравери в те минуты, когда большой колокол собора пробил полдень.
Несмотря на то что г-н де ла Гравери никогда не выходил из дома раньше часу, он решил, принимая во внимание серьезность положения, ускорить начало своей прогулки на целых шестьдесят минут.
Он поднялся к себе в комнату, взял свою шляпу — мы уже упоминали, что в руках у шевалье была трость, так как именно своей тростью он вымерял пространство, предназначенное для конуры спаниеля, — набил себе карман кусочками сахара, прибавил к ним плитку шоколада, на тот случай если сахар послужит недостаточной приманкой, и вышел из дому, но не с определенной целью отыскать собаку, а лишь в надежде на то, что благодаря случаю их пути пересекутся.
Шевалье прошел через площадь Эпар, поднялся на вал Сен-Мишель и сел на скамейку напротив здания казармы.
Само собой разумеется, Марианна следила за тем, как он уходил, с удивлением, с каждой минутой становившимся все сильнее и сильнее.
Ведь это впервые за те пять лет, что она служила у шевалье, он покидал дом раньше часа.
Поскольку время чистки лошадей еще не наступило, казарма была погружена в тишину, а двор был пуст, и лишь изредка какой-нибудь кавалерист, лишенный увольнения, пересекал его из конца в конец.
Впрочем, в том новом расположении духа, в котором пребывал наш шевалье, его волновало совсем другое.
Он смотрел вовсе не на двор или помещения казармы, а осматривал все вокруг себя, продолжая при этом вести мысленный спор с самим собой.
Однако время от времени, когда желание стать хозяином красивого и грациозного животного брало в нем верх над целым рядом неудобств, какие влечет за собой содержание собаки, он вставал, забирался на скамейку и осматривал все вокруг себя.
В итоге, поскольку обзор у него все равно оставался ограниченным, хотя шевалье и поднимался выше, он кончил тем, что уступил своим желаниям и стал вглядываться вдаль, за черту деревьев на прогулочной аллее.
Господин де ла Гравери провел четыре долгих часа на этой скамейке, но напрасно, ибо, как сестрица Анна, он так и не увидел никого, кто приближался бы к нему.
Чем больше проходило времени, тем сильнее опасался шевалье, что собака больше никогда не появится: вероятно, это некое стечение обстоятельств, а вовсе не ежедневная привычка, привело ее в это место: шевалье, каждый день приходивший сюда, никогда до этого не встречал здесь спаниеля.
После этого четырехчасового ожидания шевалье так твердо решил увести с собой спаниеля, если тот вновь появится, что предусмотрительно, на тот случай, если собака не захочет, как накануне, последовать за ним по доброй воле, приготовил и скрутил жгутом свой платок, чтобы обхватить им шею животного.
Это было бесполезно: шевалье услышал, как пробило пять часов, но так и не увидел спаниеля; он не увидел вообще ни одного животного, которое в утешение себе хоть на мгновение мог бы принять за свою долгожданную собаку.
Шевалье решил дать спаниелю еще полчаса сроку, рискуя тем, что может сказать и подумать Марианна, привыкшая видеть, как он возвращается каждый день точно в четыре часа.
Но и в половине шестого аллея была совершенно пустынной.
Шевалье, обманутый в своих надеждах, в первый раз вспомнил о своем обеде, который ожидал его с пяти часов и должен был бы совсем остыть, если он стоял на столе, или сгореть, если он стоял все это время на огне.
В ужасном настроении он зашагал домой.
Издалека, от самого начала улицы, он увидел Марианну, ждавшую его на пороге дома.
Марианна готовилась отыграться и сбить спесь со своего хозяина, как она обещала это сделать двум или трем своим соседкам.
Однако, когда она уже собиралась открыть рот, к ней обратился шевалье.
— Что вы здесь делаете? — сурово спросил он ее.
— Вы же отлично видите, сударь, — ответила изумленная Марианна, — я жду вас.
— Место кухарки не у порога уличной двери, — наставительно произнес шевалье, — а на кухне около плиты.
Затем, втянув ноздрями воздух, идущий из рабочего пространства печи, как выражаются химики и искусные кухарки, он добавил:
— Остерегайтесь подать мне подгоревший обед: ваш завтрак сегодня утром никуда не годился.
«О-о! — раздумывала Марианна, в плачевном настроении возвращаясь к себе на кухню. — Похоже, я ошиблась, и он заметил это. Решительно, он не влюблен… Но если он не влюблен, что же тогда с ним такое?»
XVIII ГЛАВА, В КОТОРОЙ МАРИАННЕ СТАНОВЯТСЯ ИЗВЕСТНЫМИ ЗАБОТЫ ШЕВАЛЬЕ
Вернувшись, шевалье торопливо поел, нашел все отвратительным, наговорил грубостей Марианне, никуда не выходил вечером и эту ночь провел почти так же плохо и неспокойно, как и предыдущую.
Рассвет следующего дня застал г-на де ла Гравери почти больным от тягот этой второй ночи; мучительные видения его воображения приняли такой характер, что возникшее у него накануне желание — несколько смутное и неопределенное — стать владельцем спаниеля переросло в твердую решимость найти собаку и во что бы то ни стало завладеть ею.
Как Вильгельм Нормандский, г-н де ла Гравери пожелал сжечь свои корабли; он послал за плотником и в присутствии Марианны, нимало не обращая внимания на ее воздетые к Небу руки и на ее восклицания, заказал великолепную конуру для своего будущего сотрапезника; затем он вышел из дома под предлогом покупки цепи и ошейника, но на самом деле чтобы отправиться навстречу случаю, который должен был вернуть ему в руки столь вожделенную собаку.
На этот раз он не ограничился простым ожиданием, как это было накануне; презрев всякие пересуды, г-н де ла Гравери принялся собирать интересующие его сведения, поместил объявления в двух газетах Шартра и расклеил афишки на всех углах.
Но все было бесполезно: собака возникла и исчезла подобно метеору, и никто не мог ничего о ней сообщить. За несколько дней г-н де ла Гравери стал худым, как палка, и желтым, как лимон; он перестал есть, а если и садился за стол, то ел машинально, выполняя привычные действия, принимая садовых овсянок за жаворонков и доходя до того, что путал блюдо из молок карпов с заливным из белого мяса. Он больше не мог заснуть, или, вернее, как только он засыпал, в углу комнаты ему чудились светящиеся глаза спаниеля, блестевшие, как карбункулы. Тогда он испытывал порыв радости: собака была найдена, и он звал ее; спаниель ползком приближался к нему, ни на секунду не отводя от него своих глаз, и, цепенея от их завораживающего блеска, шевалье, вздохнув, недвижно падал на кровать, свесив руки; собака принималась лизать ему руку своим ледяным языком, затем потихоньку забиралась на кровать и в конце концов усаживалась на грудь шевалье, свесив красный, как кровь, язык и устремив на него пылающие глаза; и этот кошмар, длившийся несколько секунд, доставлял несчастному целую вечность страданий.
Господин де ла Гравери просыпался измученным, разбитым и мокрым от пота — куда более мокрым, чем злосчастный Дюфавель, когда его вытащили из колодца.
Вы прекрасно понимаете, что эти перемены в физическом облике шевалье сказались и на его моральном состоянии.
То он ходил задумчивый и угрюмый, как факир, погруженный в созерцание своего пупа, то становился раздражительным и вспыльчивым, как больной гастритом, и Марианна всем заявляла, что история с собакой всего лишь предлог, что ее хозяина терзает какая-то сильная страсть и что служба у него стала невыносимой даже для нее, чья кротость известна каждому.
Чтобы найти применение конуре, построенной плотником, а также цепи и ошейнику, выбранным им самим, шевалье объявил, что собирается приобрести собаку.
Это заявление послужило сигналом для всех, у кого были собаки на продажу.
Шевалье приводили десятки четвероногих вдень, начиная с турецких собачек и кончая сенбернарами.
Но, само собой разумеется, шевалье не мог сделать выбор.
Нет, его сердце принадлежало спаниелю с длинной блестящей шерстью, белым жабо, огненно-рыжей мордочкой, спаниелю с добрыми и грустными глазами и лаем, в котором слышались почти человеческие нотки.
У шевалье находились различные причины, чтобы одного за другим отвергнуть всех животных, которых ему показывали.
Если это был мопс, то он желал заполучить также и его даму сердца, чтобы, как он говорил, продолжить род, а найти ее, естественно, было невозможно; если это был бульдог, то он слишком походил на шартрского жандарма и шевалье опасался попасть в скверную историю; одна собака была слишком злобной, другая слишком грязной; борзым — кобелям, сукам и щенкам — он не мог простить их глупых физиономий. Он утверждал, что легавые заискивают перед всеми подряд; и, перебрав всех свободных животных в округе, шевалье де ла Гравери, все более и более поражаясь сверхъестественным качествам черного спаниеля, изумлялся колоссальной разнице, отличающей одну собаку от другой.
Прошло десять дней с тех пор, как это бурное оживление сменило в доме на улице Лис размеренное спокойствие, царившее там столько долгих лет.
Было воскресенье; сияющее солнце согревало воздух; его лучи, беспрепятственно проникая сквозь крону деревьев, лишенных листвы, освещали валы под сенью старых стен, и все жители Шартра высыпали на аллеи, чтобы в последний раз насладиться этим приятным теплом.
Горожанки, шествуя под руку со своими мужьями, торжественно проводили еженедельный показ своих шелковых платьев; радостная болтовня, шумные взрывы смеха доносились из-под украшенных яркими лентами чепчиков гризеток; крестьянки из окрестных деревень — все с гладкими волосами, коротко остриженные, в красных или желтых косынках, скорее лихорадочно оживленные, нежели радостные, — шли в одном строю подобно гренадерам, порой задерживая движение; военные, вытянув ногу и выпрямив колено, правой рукой поглаживая усы, левой придерживая саблю, смешивались с этой разномастной толпой и силились придать своим улыбкам обольстительное выражение, в то время как старые буржуа, пренебрегавшие преходящими и пустыми забавами, довольствовались тем, что, как истинные эпикурейцы, наслаждались этим последним чудным деньком, который подарил им Господь.
Шевалье де ла Гравери занял свое место в толпе этих людей, искавших развлечений; его привели сюда как праздность, так и привычка; неизменно преследуемый своим видением, наполовину обезумевший от отчаяния и бессонницы, обескураженный неудачей своих поисков, он, хотя и не покорился судьбе, но все же потерял всякую надежду отыскать фантастического спаниеля.
Шевалье больше не был тем безумно счастливым и благодушным фланёром, которого мы встретили в первой главе этой истории; как и все, кого мучает тайная рана, он выглядел еще более грустным и мрачным из-за окружавшего его всеобщего веселья: это веселье казалось ему прямым оскорблением его собственных чувств; ему чудилось, что даже само солнце неудачно выбрало день, чтобы засиять вновь; толпа его раздражала, он направо и налево раздавал удары локтем, казалось говоря тем, кому они были адресованы: «Вернитесь домой, дорогие мои, вы мне мешаете».
Вдруг, в тот миг, когда наш шевалье, чувствуя, что его настроение все больше ухудшается, спрашивал себя, не будет ли с его стороны благоразумнее самому последовать тому совету, что он давал другим, и вернуться домой, он так вскрикнул, что стоявшие рядом с ним люди обернулись.
Шевалье был бледен, его глаза неподвижно застыли, руки вытянулись.
Только что в ста шагах от себя он увидел в толпе черную собаку, как две капли воды схожую с его спаниелем.
Шевалье хотел ускорить шаг, чтобы догнать животное, но в эту минуту давка была такой плотной, что выполнить это намерение было совсем не просто.
Прекрасные дамы бросали разгневанные взгляды на этого пожилого человека, разрушавшего гармонию их туалетов; гризетки не скупились на шуточки в его адрес, а некоторые офицеры, задетые им, останавливались и вызывающим тоном обращались к нему со словами:
— Ну же, милейший, вам следует быть повнимательнее!
Но все эти жалобы, насмешки и угрозы нисколько не волновали шевалье, продолжавшего прокладывать себе дорогу подобно кораблю, оставляющему за кормой пенистый и рокочущий след.
К несчастью, если шевалье все же продвигался вперед, то преследуемое им животное, скользя, словно уж, между ногами мужчин, задевая юбки дам и гризеток, тоже двигалось вперед; и в этой гонке с препятствиями преимущество могло бы оказаться не на стороне шевалье, если бы, бросившись в боковой проход в крепостном валу и пробежав около восьми шагов, он не оказался бы рядом с этим четвероногим.
Это на самом деле был спаниель, так сильно поразивший воображение шевалье де ла Гравери; это был он со своими длинными шелковистыми ушами, столь кокетливо обрамлявшими его мордочку; это был он, одетый в свою черную и блестящую шубу, с хвостом-трубой.
У шевалье исчезли последние сомнения, когда собака, словно притягиваемая какой-то магнетической силой, повернулась в сторону г-на де ла Гравери, узнала его и, подбежав к нему, самым красноречивым образом принялась расточать ему щедрые ласки.
Но в это время молодая девушка, на которую шевалье до тех пор не обращал ни малейшего внимания, обернулась и позвала всего лишь один раз: «Блек!»
Животное подскочило и, не слушая шевалье, в свою очередь закричавшего во весь голос: «Блек! Блек! Блек!» — большими прыжками вернулось к своей хозяйке.
Шевалье остановился, от ярости топая ногой. Ему показалось, что при всей его безобидности в его сердце проникает яд ненависти и ревности к этой девушке, так внезапно оборвавшей единственные мгновения, которые доставили ему удовлетворение за эти две недели.
Но в пылу разочарования он испытал острейшее чувство радости.
Теперь он точно знал, что его спаниель существует на самом деле, что это вовсе не какая-то фантастическая собака, как пудель Фауста.
К тому же он узнал ее кличку: собаку звали Блек.
Шевалье испытал то же ощущение, что и молодые влюбленные, когда они впервые слышат, как произносят имя их возлюбленной, и после того как он громко, но, как мы видели, безуспешно выкрикивал его, повторил еще несколько раз:
— Блек! Мой дорогой Блек! Мой маленький Блек!
Но это было еще не все: ясно, что если г-н де ла Гравери произвел почти полный осмотр всего собачьего рода с целью найти своего феникса, то он не должен был так просто упустить возможность стать его владельцем; он был полон решимости соблазнить юную хозяйку Блека, но, пустив в ход не свое личное обаяние, а предложив ей приличную сумму, которая могла возрасти до любых размеров.
Однако чувство стыда перед людьми развеяло эту непреклонную решимость: шевалье де ла Гравери — его характер нам известен — прежде всего боялся выглядеть смешным, поэтому он не мог решиться затеять этот торг у всех на виду; шевалье подумал, что самым разумным было бы последовать за девушкой до ее жилища и уже там, вдали от ушей и любопытных глаз, вступить в эти важнейшие переговоры.
К несчастью, бедняга-шевалье, за всю свою жизнь ни разу не выступавший в роли соблазнителя, совершенно не подозревал, что существуют маленькие уловки, позволяющие следовать за женщиной тайком от свидетелей.
Движимый желанием приблизиться к объекту своих вожделений, он не нашел ничего лучше, как подбежать к девушке на расстояние десяти шагов; затем, сохраняя эту дистанцию, он зашагал позади хозяйки Блека, в точности повторяя все ее движения, когда толпа заставляла ее замедлять шаг.
Даже не слишком утруждая свое воображение, легко понять, что, заметив, как шевалье последовательно приноравливает свой шаг к другой походке, и видя возраст преследуемой им девушки, все жители Шартра, вышедшие на окружную городскую аллею, заподозрили шевалье в непристойных намерениях, которых у него и в мыслях не было, и во всех группках послышались фразы, похожие на эти:
— Вы видели этого старого распутника де ла Гравери, преследующего юную девушку среди бела дня? Какое неслыханное неприличие!
— Ну-ну! Малышка недурна.
Но шевалье был в полном неведении на этот счет.
— Моя дорогая, — отвечала та женщина, что завела разговор, — я всегда была плохого мнения о человеке, все свое состояние тратящем на обжорство.
— Знаете ли, его будет довольно сложно принимать после подобного скандала… Но посмотрите, у него уже глаза вылезли на лоб. Отлично! Теперь он ласкает собаку, чтобы подобраться к хозяйке.
Не подозревая, какое возмущение было вызвано его поведением, шевалье продолжал следовать за собакой.
Что касается ее хозяйки, на которую, как мы уже говорили, шевалье не обратил ни малейшего внимания, то это была молодая девушка шестнадцати-семнадцати лет, стройная и хрупкая, но замечательно красивая: у нее была та матовая белизна лица, что у брюнеток порождает его крайняя бледность; черные глаза с придававшими им грустное выражение длинными ресницами; черные тонко изогнутые брови; великолепные, представляющие собой странный контраст с этой изумительной матовостью кожи белокуро-пепельные волосы, густые пряди которых выступали из-под маленькой соломенной шляпки.
Что касается ее туалета, то он был весьма прост: ее незатейливое платьице из мериносовой ткани, хотя и выглядело весьма опрятно, не имело того блеска, что отличает обычно выходные платья у женщин того класса, к которому она, казалось, принадлежала. Было заметно, что этот скромный наряд разделяет со своей хозяйкой и ее трудовые будни и отсюда можно было сделать вывод, что он составляет весь ее гардероб.
Молодая девушка в конце концов, так же как и все, хотя и позже всех, заметила настойчивость пожилого господина, следовавшего за ней не отставая; она ускорила шаг, надеясь подобным образом избавиться от него, но, дойдя до одного из заграждений, которые перекрывали лошадям и каретам въезд на аллеи, предназначенные для пешеходов, была вынуждена остановиться, чтобы пропустить тех, что шли впереди нее, и оказалась бок о бок с шевалье; он воспользовался этим обстоятельством, но не для того чтобы заговорить с ней, а чтобы возобновить свое знакомство со спаниелем.
Девушка вторично окликнула собаку; затем, полагая, как и все остальные, что собака служит всего лишь предлогом, выдуманным шевалье, чтобы приблизиться к ней, она достала из кармана небольшой поводок, зацепила его на ошейник животного и продолжила свой путь, даже не оглянувшись.
Но, как бы он ни был поглощен действиями и движениями собаки, г-н де ла Гравери не мог удержаться, чтобы не взглянуть без всякой задней мысли на ее хозяйку в то время, когда та совершала маленький маневр, о котором мы упомянули.
У него вырвался возглас изумления, и он неподвижно застыл на месте.
Эта девушка до странности напоминала собой г-жу де ла Гравери.
Во время этой остановки шевалье, вызванной его удивлением, девушка сделала около тридцати шагов.
Эта схожесть с Матильдой была для шевалье де ла Гравери дополнительной причиной последовать за владелицей спаниеля, и он с еще большей энергией засеменил вслед за ней.
Но испуг придавал девушке силы: она летела как на крыльях, несших ее со все возрастающей скоростью, поскольку она покинула прогулочную аллею и углубилась в тихую, уединенную улицу; и хотя шевалье бежал изо всех сил, с каждой минутой он отставал все больше и больше.
Если шевалье и не имел дело с Аталантой, то ему уж точно попалась ее сестра.
Так они добежали до того места в городе, которое называлось Малые луга; здесь было почти безлюдно; несмотря на все свои усилия, шевалье заметил, что с каждым шагом девушка увеличивает разделяющее их расстояние, и изменил тактику, закричав самым любезным тоном:
— Мадемуазель, мадемуазель, умоляю вас, остановитесь! Я уже совсем выдохся!
Но девушка не поддалась на просьбу того, кого она считала своим преследователем, и, вместо того чтобы остановиться, еще больше ускорила шаг.
Шевалье, подумав, что его не услышали, соединил ладони в рупор и уже набрал воздуха, чтобы голос его зазвучал басом вместо того тенора, которым было исполнено его первое обращение, однако насмешливые улыбки, подмеченные им на нескольких лицах, побудили его отказаться от задуманного.
Шевалье вновь тронулся в путь, однако на этот раз он уже не семенил, а бежал.
Но чем быстрее он бежал, тем еще быстрее бежала девушка и, соответственно, тем больше увеличивалось расстояние между ними; он мог ее видеть лишь время от времени, а затем и вовсе потерял бы из виду, если бы не два пятна, все время притягивавшие его взор: ленты из шотландки, украшавшие ее соломенную шляпку, и Блек, мелькавший вдали черным пятном.
Но когда он добежал до ворот Гийом, то и эти последние ориентиры исчезли из виду и г-н де ла Гравери больше ничего не мог обнаружить.
Шевалье остановился.
Свернула ли она в предместье? Вернулась ли в город? Господин де ла Гравери пребывал в нерешительности.
Поколебавшись несколько минут и направившись сначала в сторону предместья, г-н де ла Гравери все же изменил вскоре свое решение и, отдав предпочтение городу, вступил под мрачные своды старых ворот.
Но, миновав их, он вновь заколебался.
Перед ним открылись две улицы: одна шла направо, другая — налево, и бедный шевалье потерял еще массу времени, прикидывая, какой из них девушка могла отдать предпочтение; и поскольку сомнения в правильности сделанного им выбора охватывали шевалье с новой силой каждые десять минут, то уже настала глубокая ночь, а г-н де ла Гравери все еще бродил по мостовым доброго города Шартра, не найдя ни малейшего следа тех, кого он разыскивал.
Шевалье был так утомлен и пребывал в таком отчаянии, что не мог, даже под угрозой того, что подумает об этом Марианна, решиться на возвращение домой.
Поэтому он вошел в первое попавшееся кафе, сел за столик и потребовал бульон.
Бедняга-шевалье, нередко сам следивший за приготовлением тушеной говядины с овощами, когда ему казалось, что усердие Марианны остывает, должно быть, плохо был знаком с нравами и обычаями такого рода заведений, если заказал бульон в подобном месте. Едва он осторожно отведал несколько капель того, что ему подали, как тут же у него сорвалось с языка весьма выразительное: «Фу, гадость!» — и, положив ложку на стол, он принялся грызть булочку, которую подавали вместе с кошмарным варевом и которую, к счастью, ему не пришло в голову покрошить в него.
Занимаясь своей булочкой, шевалье осмелился оглядеться вокруг.
Он попал в кафе, где завсегдатаями были офицеры гарнизона: на одно пальто или редингот приходилось десять мундиров; головные уборы уставного образца, шлемы, сабли и шпаги, развешанные по стенам, придавали убранству зала довольно живописный вид; под каждым столом вытягивались красные форменные штаны, на каждом стуле сияли мундиры и кители, отделанные красным кантом; одни посетители постигали стратегию игры в домино, орудуя костяшками, другие предавались разнообразным возлияниям; те просто спали, а эти, потягивая кофе или абсент, делали вид, что о чем-то размышляют.
Со всех сторон доносились занимательные разговоры, скрашивающие досуг, который Марс оставляет своим питомцам.
В этом углу продвижение по службе — эта неисчерпаемая тема для честолюбцев в эполетах — давало обширное поле для жалоб каждого.
А в другом — серьезно рассуждали о том, какой фасон ташки лучше: в форме щита, сердца или квадрата, а также о превосходстве старого покроя сапог над новым.
Здесь выводили целую теорию о чистке обуви, в то время как чуть подальше отбивали хлеб у редакторов «Военного ежегодника», пытаясь в бесконечных спорах дать оценки и прокомментировать новые назначения своих товарищей по службе, с которыми они были знакомы.
Все эти милейшие разговоры велись в полный голос; ни одно слово не терялось для слуха публики; поэтому штатские, горящие желанием набраться знаний, легко могли воспользоваться этим.
Вывеска этого кафе с постоялым двором гласила: «Солнце светит всем».
И только лишь два младших лейтенанта тихо беседовали о чем-то вполголоса.
XIX ДВА МЛАДШИХ ЛЕЙТЕНАНТА
Эти двое оказались ближайшими соседями г-на де ла Гравери; несмотря на принятые ими предосторожности, он почти против воли оказался третьим участником их доверительной беседы.
Одному из этих офицеров могло быть около двадцати четырех — двадцати шести лет: волосы у него были огненно-рыжего цвета, но, несмотря на бьющую в глаза пронзительность этого оттенка, черты его лица не были лишены изящества и известной привлекательности.
Второй был тем, кого принято называть бравым воякой.
Он был пяти футов шести дюймов ростом, широкоплечий, с такой стройной талией, что завистники — а при таких достоинствах их всегда полно, — что завистники, повторяем, уверяли, будто это немыслимое изящество достигается благодаря искусственным приспособлениям, позаимствованным у прекрасного пола.
Эта стройная талия чудесным образом подчеркивала великолепную мускулатуру грудных мышц и непомерно развитые бедра, казавшиеся еще больше из-за широких панталон; можно было бы подумать, что под них подложен кринолин, если бы кринолин был уже изобретен в эту пору. Это физическое совершенство дополняло необычное лицо: на нем расцветали все оттенки розово-красного и все оттенки фиолетового, вплоть до синего включительно; последний был обязан своим происхождением темной бороде: как бы тщательно она ни была выбрита, а все же давала о себе знать густой синевой. На этом лице, примечательном, как видно, во многих отношениях, помимо всего прочего, красовались еще и усы, тщательно намазанные каким-то столь сильнодействующим составом, что издали могло показаться, будто они вырезаны из дерева; на одном конце его сильно вздернутого носа, как раз над усами, темнели раскрытые отверстия двух ноздрей, а другой конец носа, как перегородка, разделял два больших глаза навыкате; их выражение свидетельствовало о том, что вряд ли интеллект когда-либо мог спорить с физическим развитием их владельца.
Улыбка, блуждавшая на толстых губах младшего лейтенанта, не отличалась особой ироничностью; но он выглядел таким счастливым, таким довольным даром, доставшимся ему в удел от природы, что можно было бы отважиться и недвусмысленно дать понять этому бравому молодому человеку, что ему есть о чем сожалеть в этом мире.
— Следует признать, мой дорогой друг, что вы еще очень-очень молоды, — говорил этот блестящий офицер своему товарищу. — Как! Вот уже месяц гризетка принимает вас у себя в комнате, она мила, вы тоже не уродливы; ей восемнадцать лет, но и вы далеко не старикашка; она нравится вам, и вы нравитесь ей, и, тысяча чертей, вы все еще довольствуетесь самой невинной и платонической формой любви. Знаете ли вы, мой дорогой Грасьен, что вы тем самым способны нанести бесчестье всему офицерскому корпусу, начиная с полковника и кончая старшим трубачом, и что это, наконец, целый год еще может служить поводом для насмешек со стороны тех доблестных служак, которых его величество король Луи Филипп дал нам в сотоварищи.
— Ах, мой дорогой Лувиль, — отвечал тот, кого только что называли Грасьеном, — не все обладают вашей дерзостью, и я не тешу себя славой записного покорителя женских сердец; да и к тому же присутствия третьего достаточно, чтобы заморозить меня в ту минуту, когда я сильнее всего испытываю любовное влечение.
— Как это третьего? — воскликнул младший лейтенант, подпрыгнув на стуле и удостоверившись, что его усы по-прежнему сохранили твердость шила. — Разве вы не говорили мне, что она совсем одна, что она живет одиноко, что она имеет счастье принадлежать к той счастливой категории детей, которые появились на свет случайно и не имеют ни отца, ни матери, ни брата, ни дяди, ни кузена — в общем, ни одного облачка из тех, что омрачают этим бедным девушкам единственные приятные минуты их существования, без конца толкуя им о венчании и о супружеской жизни с каким-нибудь честным столяром или добропорядочным жестянщиком, в то время как офицер, и особенно младший лейтенант, может сделать их гордыми и счастливыми, как королев, не предпринимая и половины всех этих кривляний.
— Я сказал вам правду, Лувиль: она круглая сирота, — ответил Грасьен.
— Но кто же вас тогда останавливает? Кто вас удерживает? Неужели мадемуазель Франкотт, хозяйка той лавки, где она работает, повадилась приходить и слушать те нежности, что вы нашептываете на ушко вашей возлюбленной? Может, эта старая гусыня хочет узнать, так же ли сейчас крутят любовь, как в тысяча восемьсот восьмом году, или же, очерствев под старость сердцем, она сделалась блюстительницей нравственности? Если дело обстоит именно так, то тогда, Грасьен, смело садитесь напротив нее и напомните ей об одной вечеринке, во время которой гусары пятого полка вымазали ее в саже, наказав за то, что она совершила чудо умножения, но не хлебов и рыб, а своих любовников. Каково! Что скажете на это? Мне кажется, я вам дал в руки достаточно действенное средство, чтобы вы могли избавиться от этой вестницы несчастья.
Грасьен покачал головой.
— Это все не то, — сказал он.
— А что же тогда? — спросил Лувиль.
— Мадемуазель Франкотт предоставляет ей полную свободу, как и другим своим работницам.
И он вздохнул.
— Тогда, — продолжал Лувиль, — это, должно быть, хозяйка комнаты?
— Нет.
— А! Значит, подружка, ревнивая подружка? Ну, я угадал; ведь нет лучшего средства сберечь честь девушки. Что ж, готов пожертвовать собой.
— Что вы имеете в виду?
— Я возьму подружку на себя, будь она даже страшной, как смертный грех. Ну, как?! Разве это не преданность? Или я ничего не смыслю в этом.
— Вы далеки от истины, дорогой друг.
— Но, тысяча чертей, что же тогда?
— Вы будете смеяться, Лувиль. Знаете ли вы, из-за кого остаются невысказанными все мои слова и мольбы о любви? А ведь они желают только одного — вырваться на волю! Знаете ли вы, кто подавляет, а вернее, сдерживает все мои вольности, хотя я умираю от желания позволить их себе, кто замораживает мои самые страстные порывы, кто заставляет меня запинаться посреди начатой фразы, кто делает меня скромным и целомудренным, глупым и смешным, в то время как я хотел бы быть совсем другим? Угадайте! Держу пари на сто против одного!
— Даже если бы вы поставили тысячу против одного, мы и то не слишком бы продвинулись вперед. Ну же, Грасьен, выкладывайте; вы знаете, что я не силен в подобных ребусах.
— Мой дорогой Лувиль, тот, кто ограждает Терезу от всех моих намерений в отношении ее, тот, кто до сих пор защищал ее — а именно это служит причиной того, что она не является и никогда не будет моей любовницей, — это всего лишь этот чертов черный спаниель, который ни на минуту ее не покидает.
— Что такое? — подпрыгнул шевалье.
— Что вы сказали, сударь? — спросил Лувиль, глядя на шевалье. — Может быть, вам случайно наступили на ногу?
— Нет сударь, — сказал шевалье, вновь усаживаясь со своим обычным смирением.
Лувиль повернулся к Грасьену и прошептал:
— По правде говоря, эти буржуа несносны.
Затем он вновь вернулся к прерванному разговору.
— Я, вероятно, ослышался, не правда ли? — тихо спросил он.
— Нет.
Лувиль расхохотался, и смех его зазвучал тем более неудержимо и раскатисто, что какое-то время он полагал себя обязанным сдерживать его.
Стекла кафе задрожали от его раскатов.
Шевалье воспользовался моментом, когда молодой человек, откинувшись назад, буквально умирал от смеха, и повернулся спиной к двум офицерам, но выполняя этот маневр, он незаметно приблизился к ним.
— Ах! Это прелестно! — воскликнул Лувиль, когда взрыв его веселья несколько поутих. — Дракон Гесперид воскрес весьма кстати, Грасьен; клянусь честью, это восхитительно!
Грасьен кусал губы.
— Я слишком ожидал подобных взрывов смеха, — сказал он, — чтобы обижаться на них; однако все, что я вам рассказываю, совершенно достоверно; стоит мне только отважиться и начать какую-либо прочувственную фразу, как это дьявольское животное принимается ворчать, будто желая предупредить свою хозяйку; если я продолжаю, тут же раздается лай; если я настаиваю, собака переходит к завываниям и ее голос заглушает мой, ведь не могу же я голосом, способным перекричать целую свору, сказать Терезе: «Дорогая моя, я вас обожаю».
— В этом случае, мой дорогой, — промолвил Лувиль, — замените слова выразительной и живой пантомимой, подобно тому, как играют в провинциальных оперных театрах.
— Пантомима? А, конечно, это совсем другое дело; представьте себе, эта проклятая собака не выносит пантомим. Как только я позволяю себе какой-нибудь жест, она больше не ворчит, не лает и не воет, она показывает зубы; если я не прекращаю свое представление, она идет еще дальше и вонзает их мне в тело, а это мешает вести разговор о любви, не говоря уже о том, что во время этой нелепой борьбы, проистекающей из-за несходства наших мнений, я должен казаться безумно смешным той, которую обожаю.
— И что, никаким способом вы не могли завоевать расположения этого ужасного четвероногого?
— Никаким.
— Но, тысяча чертей! Когда мы учились в коллеже, пора, о которой я ничуть не сожалею, разве мы не читали у Мантуанского лебедя, как называл его наш преподаватель, что где-то была булочная, в которой готовили пироги для Цербера?
— Блек неподкупен, мой дорогой.
Шевалье вздрогнул, но ни Грасьен, ни Лувиль не заметили этого.
— Неподкупен? Только для тебя.
— Я ради него набиваю свои карманы лакомствами, он с признательностью их съедает, но всегда бывает готов обойтись со мной так же, как с моим угощением.
— И он не спит? Никогда не выходит?
— Это тянется уже дней пятнадцать — двадцать. За это время он пропадал где-то один вечер и одну ночь, и я надеялся, что он больше не вернется, но он вернулся.
— И с тех пор?
— Он не двинулся с места; должно быть, эта проклятая собака умеет читать мысли.
— Мне скорее кажется, — заметил Лувиль, — что ваша Тереза гораздо более хитрая штучка, чем вы думаете, и что она научила эту собаку тем уловкам, которые нарушают ваши планы.
— Как бы там ни было, но мое терпение иссякает, мой дорогой, и, клянусь, я уже почти готов отказаться от задуманного.
— И будете не правы.
— Черт возьми! Хотел бы я вас видеть на моем месте.
Шевалье весь превратился в слух.
— Если бы я был на вашем месте, мой дорогой Грасьен, — ответил Лувиль, — то вот уже в течение двух недель мадемуазель Тереза пришивала бы мне пуговицы к моим фланелевым жилетам и сегодня вечером я привел бы ее на ужин с господами младшими лейтенантами, чтобы проверить, сколько шампанского может влить в себя и при этом не скатиться под стол гризетка, привыкшая пить чистую воду.
Шевалье задрожал, сам не зная почему.
— Ах, мой дорогой Лувиль, сразу видно, что вы ее совсем не знаете! — со вздохом сказал Грасьен.
— Подумаешь, зато я знаю других, — ответил г-н Лувиль, любовно поглаживая свои усы. — Гризетка есть гризетка, черт возьми!
— А собака, о которой мы совсем забыли! — сказал Грасьен.
— Собака! — повторил Лувиль, пожав плечами. — Собака! Но для кого же тогда готовят все эти фрикадельки и котлеты с начинкой?
При этих словах шевалье подскочил на стуле.
— Ах, так! — сказал Лувиль так, чтобы Дьёдонне мог его услышать. — Этот буржуа ведет себя так, будто его укусил тарантул?!
И он искоса посмотрел в сторону шевалье, надеясь, что тот повернется и ему представится возможность завязать ссору.
Но шевалье вел себя осторожно: его очень заинтересовал разговор двух молодых людей и он хотел знать, что же последует дальше.
— Ах, честное слово, нет, — сказал Грасьен, — все эти приемы вызывают у меня отвращение; к тому же я охотник и предпочитаю скорее упустить эту девушку, чем причинить хоть малейшее зло этому великолепному животному.
«Славный молодой человек!» — прошептал про себя шевалье.
— Что ж, тогда надо на что-то решаться, мой дорогой Грасьен, — сказал Лувиль. — Оставьте Терезу, и тогда посмотрим, не окажусь ли я более удачливым, чем вы.
— А! Вы хотите, чтобы я уступил вам место? — произнес Грасьен, и лицо его омрачилось.
— Мне кажется, лучше уступить место другу, чем дать шанс занять его какому-нибудь постороннему.
— Я так не думаю, — ответил Грасьен. — И потом, Лувиль, я хочу пощадить ваше самолюбие и избавить вас от стыда поражения.
— Вот как! Неужели вы думаете, что Тереза первая недотрога, которая попадается на моем пути?
— Я знаю, что вы опасный покоритель женских сердец, Лувиль, — сказал Грасьен, но тут же добавил с улыбкой, не лишенной иронии, — но не думаю, будто у вас есть то, что надо, чтобы понравиться этой девушке.
— Что ж, именно это мы и проверим.
— Что значит именно это мы и проверим?
— Я клянусь вам, — вскричал Лувиль, лицо которого побагровело от гнева, — я клянусь вам, поскольку вы бросаете мне вызов, что я овладею этой девушкой, и, чтобы доказать вам, как безгранично я уверен в вашем неумении взяться за дело, я даю вам еще неделю и предоставляю полную свободу действий; только через неделю я начну свою атаку.
— И тем не менее, Лувиль, я просил бы вас ничего не предпринимать, согласны?
— Так теперь вы просите меня ничего не предпринимать, а только что вы позволили себе слегка подшутить надо мной и хотите, чтобы я это проглотил.
— А как же собака? — сказал Грасьен, пытаясь превратить все в шутку.
— Собака? — переспросил Лувиль. — Поскольку я хочу, чтобы в течение этой недели вы действовали в таких же благоприятных условиях, в каких и я рассчитываю вести мою атаку, мы избавимся от нее прямо сегодня вечером.
Шевалье, который для вида пил маленькими глотками подслащенную воду из стакана, чуть не поперхнулся, услышав слова Лувиля.
— Сегодня вечером? — повторил Грасьен, не зная, должен ли он принять предложение своего товарища или отказаться от него.
— Разве у вас не назначено сегодня на девять вечера свидание с Терезой у ворот Морар? — спросил Лувиль. — Вот и хорошо, идите на ваше свидание, и уверяю вас, что вы сможете в свое удовольствие ворковать с вашей горлинкой, не опасаясь того, что господин Блек обойдется с вами как с буржуа из Сен-Мало.
Господин де ла Гравери не стал слушать дальше; он быстро встал, посмотрел на свои часы и вышел из кафе с совершенно ошеломленным видом, возбудившим пересуды завсегдатаев.
Шевалье в самом деле был так потрясен, что, когда он отошел на десять шагов от кафе, его догнал официант, вежливо ему заметив, что он ушел не заплатив.
— О Боже! — закричал шевалье. — Проклятье! Вы правы, мой друг; возьмите, вот пять франков, заплатите за меня по счету, а остальное оставьте себе.
И шевалье пустился бежать так быстро, как позволяли его короткие ножки.
Шевалье было ясно, что собаке, которую он страстно желал заполучить, угрожала смертельная опасность.
XX ГЛАВА, В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛА ГРАВЕРИ ИСПЫТЫВАЕТ НЕИЗЪЯСНИМУЮ ТРЕВОГУ
То, что офицер, звавшийся Грасьеном, рассказал о сверхъестественной сообразительности животного, особенно поразило Дьёдонне.
По мере того как два офицера продолжали вести разговор о Блеке и Грасьен все больше и больше его расхваливал, предположения о переселении душ вновь пришли на ум шевалье, и на этот раз они были гораздо более убедительными, чем когда-либо.
Само собой разумеется, у него не было сомнений в том, что его спаниель — это собака Терезы, точно так же как он не сомневался в том, что Тереза, хозяйка Блека, и есть увиденная им молодая девушка.
Он, не колеблясь, решил спасти бедное животное от злого умысла, который родился в голове у Лувиля, готового исполнить его в тот же вечер.
Он пошел по дороге, ведущей к воротам Морар, с намерением предупредить девушку об опасности, угрожающей одновременно и ее добродетели и тому, кто стоял на страже этой добродетели.
Кроме того, больше беспокоясь о жизни Блека, чем о добродетели девушки, он рассчитывал предложить ей хорошую цену за собаку.
«А вдруг она откажется расстаться с Влеком! — шептал шевалье, поспешая изо всех сил. — Что ж, — продолжал он, — я удвою цену: я дам ей триста, четыреста, пятьсот франков, а за пятьсот франков, будь я проклят, гризетка отдаст не только собаку, но и еще кое-что. А в случае неудачи, — вновь решительно заговорил он, — я предупрежу ее, будь я проклят! Я не хочу подвергать себя опасности увидеть беднягу Дюмениля забившимся в угол у какой-нибудь каменной тумбы, отравленным в шкуре моего несчастного Блека».
Шевалье должен был быть вне себя, если дважды и за такой короткий промежуток времени отважился на ругательство, отпускаемое им только в особых случаях.
Но, дойдя до ворот Морар, шевалье нашел прогулочную аллею совершенно безлюдной.
Он вдоль и поперек обшарил ее всю, исследовал взглядом все углубления ворот, но не обнаружил ни прохожего, ни прохожей; на башне собора прозвонило девять часов, а в этот час весь Шартр ложится спать.
Шевалье начал опасаться, что он плохо расслышал, плохо понял; он испытывал, считая минуты, все чувства, которые терзают сердце влюбленного, когда он ждет любимую женщину и эта его любовь — первая!
Наконец, шевалье услышал в темноте шаги и, изо всех сил распахнув глаза, различил женский силуэт, неясный и расплывчатый, возникший в проеме ворот Морар.
Шевалье собирался броситься вперед, когда эта фигура, пройдя под уличным фонарем, соединилась с силуэтом того, кто, казалось, поджидал ее.
Было слишком поздно; Тереза с кем-то встретилась.
С кем же?
Вероятно, с Грасьеном.
Шевалье потерял всякое терпение.
Ему следовало прибегнуть к уловкам американских следопытов, к военным хитростям Натти Кожаного Чулка и Коста-индейца; но все это одновременно противоречило привычкам и претило нраву шевалье.
К несчастью, ни минуты нельзя было терять на размышления, если он хотел остаться незамеченным; поэтому шевалье проворно соскользнул на откос, который вел к реке, и лег там прямо на живот.
Влажная и холодная трава, служившая ему подстилкой, заставила шевалье задрожать: каждая ее былинка дышала ревматизмом.
Это был как раз тот миг, когда приходилось сокрушаться о кипении страстей.
Шевалье и сокрушался о нем от всего сердца, но остался, однако, на своем месте, хотя оно и было насквозь пропитано росой.
За это время молодые люди миновали мост и прошли в десяти шагах от него.
О! Это была та самая молодая девушка, которую Дьёдонне преследовал сегодня утром; это был тот самый рыжеволосый офицер, чьи откровения он нечаянно подслушал.
Блек шел за ними, не отставая ни на шаг, с серьезным видом, показывавшим, насколько честное животное сознавало всю важность своих теперешних обязанностей.
Офицер, судя по его жестам, что-то хотя и негромко, но тем не менее горячо говорил своей спутнице; девушка, казалось, с вниманием слушала его; она выглядела грустной и задумчивой.
Время от времени черный силуэт спаниеля вырисовывался на более светлом фоне платья его хозяйки: это собака поднималась, дотягиваясь до ее руки и добиваясь, чтобы девушка приласкала ее.
Вдруг шевалье услышал шаги какого-то человека, который взошел на мост и осмотрительно, со всеми предосторожностями продвигался вперед.
Он повернул голову в ту сторону, откуда слышался шум; но, вероятно, незнакомец шел, пригнувшись, по ту сторону парапета, и поэтому ничего нельзя было различить.
В это время прогуливавшаяся пара вернулась к тому месту, откуда шевалье вел наблюдение; тотчас же шум. донесшийся до ушей шевалье, внезапно стих.
Затем, когда молодые люди, повернув назад, прошли шагов пятьдесят в обратном направлении, г-н де ла Гравери отчетливо различил приглушенный звук чего-то мягкого, брошенного на мостовую. Ему показалось, что он различил какой-то предмет величиной с яйцо, покатившийся в нескольких шагах от него посреди аллеи; после этого ему стало ясно, что невидимка, впрочем столь явственно заявивший о своем присутствии, поспешно удалился.
Тереза и Грасьен находились в эту минуту в конце прогулочной аллеи.
Шевалье прикинул, что ему как раз хватит времени выполнить свой благородный план, ради которого он и явился сюда.
Он вскочил на ноги, затем с быстротой, на какую уже не считал себя способным, выскочил на дорогу и, рискуя тем самым нажить себе серьезные неприятности, принялся шарить руками в грязи, с тревогой разыскивая то, что, по его предположениям, было приманкой, приготовленной, чтобы соблазнить своим аппетитным видом бедного Блека.
Не все было так гладко в действиях шевалье; но после двух или трех ошибок — он немедленно догадался о них благодаря своему тонкому осязанию — ему попалось то, что он искал; он увидел, что это был кусок мяса, по всей вероятности посыпанный мышьяком.
Шевалье зашвырнул этот кусок мяса как можно дальше и с удовлетворением услышал, как тот упал в реку.
Но преступная мысль Лувиля натолкнула его, в свою очередь, на невинную мысль, вполне соответствующую его характеру.
Подобно Мальчику с пальчик, разбрасывавшему камешки, которые должны были потом привести его обратно к дому, он решил разбросать куски сахара, которые должны будут привести к нему Блека.
Но если бы уловка по-настоящему удалась, то в его сердце поселилось бы раскаяние.
Он раскаивался бы в том, что ему пришлось взять собаку, которая ему не принадлежала, и, взяв ее, он лишил бы защиты добродетель молодой девушки.
Но если он немедленно не завладеет Влеком, то Блек погибнет.
В его намерения входило не забирать, а купить собаку у девушки.
Вот только почему девушка не предстала перед ним одна?
Будь она одна, он бы предупредил ее.
В обществе Грасьена это было невозможно.
Следовательно, он стал жертвой обстоятельств, и похищение Блека, будучи вынужденным похищением, становилось простительным.
Впрочем, он рассчитывал, что если ему удастся завладеть Влеком, то он оставит его себе, щедро возместив эту потерю его хозяйке.
Шевалье обдумывал все это, лежа на животе на откосе и наблюдая, как двое влюбленных приближаются к нему.
Действие, на которое он рассчитывал, было достигнуто.
Найдя благодаря своему тонкому обонянию первый кусок сахара, Блек выказал живейшее удовлетворение.
Он слегка отстал от своей хозяйки.
Затем, вместо того чтобы последовать за ней дальше, он принялся отыскивать второй кусок сахара.
И так, двигаясь от одного куска к другому, он приблизился к тому месту, где его лежа поджидал шевалье, зажав в кулаке кусок сахара.
Протягивая спаниелю это лакомство, шевалье едва слышно свистнул, подзывая его.
Собака, узнав человека, на чье обращение она не могла пожаловаться — а Блек был слишком умен и слишком справедлив, чтобы отожествлять ведро воды, вылитой на него Марианной, с куском сахара, полученным им из рук шевалье, — Блек, повторяем, узнав человека, на чье обращение он не мог пожаловаться, подошел к нему без всякого недоверия и даже выказывая некоторое удовлетворение. Шевалье начал его вероломно ласкать; затем, злоупотребляя доверием Блека, он не спеша накинул на него свой платок в качестве ошейника и, завязав прочный узел, продолжал отвлекать его кусочками сахара до тех пор, пока девушка, слишком взволнованная, чтобы заметить исчезновение собаки, не повернула обратно и не прошла по мостовой мимо шевалье. Тогда, увлекая за собой Блека, он пробрался по склону до самого моста; около моста шевалье согнулся так же, как это сделал Лувиль, и пересек его незамеченным. Преодолев это препятствие, он углубился в улицы города, ведя за собой столь вожделенную добычу где силой, а где — по ее доброй воле.
Очутившись перед своим домом, г-н де ла Гравери тихо вставил ключ в замочную скважину и постарался бесшумно открыть дверь; но ржавые петли заскрипели, и как эхо раздалось ужасное «Кто там?», произнесенное Марианной.
В то же мгновение служанка возникла в коридоре: в одной руке она держала свечу, а другой пыталась прикрыть пламя, защищая его от ветра, с силой дувшего из-под двери.
— Кто там? — повторила Марианна.
— Что за черт! Это я, — ответил шевалье, пряча у себя за спиной свою добычу и изо всех сил пытаясь скрыть ее. — Что, я уже не могу вернуться домой без того, чтобы вы не устраивали за мной слежку?
— Слежку! — повторила Марианна. — Слежку! Знайте, господин шевалье, что только те люди, которые творят зло, опасаются глаз ближнего своего.
В эту минуту кухарка заметила, какой беспорядок царил в одежде шевалье.
— Ах, Боже мой! — воскликнула она, отступив на два шага назад, словно увидела привидение. — Ах, Боже мой!
— Ну, что такое? — сказал шевалье, пытаясь пройти.
— Но на вас нет шляпы!
— И что же, разве я не могу пройтись с непокрытой головой, если мне так нравится?
— Ваша одежда вся забрызгана грязью!
— Меня обрызгали.
— Обрызгали! Святая Дева, что за жизнь вы ведете, если позволяете себе возвращаться домой в подобном виде и в столь позднее время!
В этот миг Блек, ведший себя до сих пор достаточно спокойно, возбужденный резким и пронзительным голосом Марианны, — в ней он к тому же, быть может, признал своего старого недруга, — Блек, со своей стороны, залился громким лаем.
— А, пусть так, тем хуже! — промолвил шевалье.
— Праведное Небо! Собака! — завизжала Марианна. — И что за собака! Ужасное черное чудовище с двумя горящими, как уголья, глазами. Держите ее, сударь, держите! Разве вы не видите, что она сейчас меня разорвет!
— Послушайте, успокойтесь и дайте мне пройти.
Но в намерение Марианны не входило отступить просто так.
— Что станете нами? — возобновила она свои причитания, пытаясь придать голосу слезные нотки. — Боже мой, по вашему внешнему виду можно судить, во что превратится дом, если в нем будет подобный гость. К счастью, надеюсь, вы его посадите на цепь.
— На цепь? — возмущенно закричал г-н де ла Гравери. — Никогда!
— Вы оставите это животное на свободе? Вы подвергнете меня опасности быть искусанной в любое мгновение дня и ночи? Нет, сударь, нет, я этого не допущу.
И, вооружившись метлой, Марианна приняла позу гренадера старой гвардии, защищающего свой очаг.
— Вы позволите мне выгнать эту мерзкую собаку, не правда ли? — сказала она. — Или сию же минуту ноги моей не будет в вашем доме.
Терпение г-на де ла Гравери лопнуло, он так резко оттолкнул служанку, что та, не ожидая такого нападения, потеряла равновесие и упала, издавая пронзительные вопли.
Свет погас, но проход был свободен.
Шевалье переступил через тело Марианны, преодолел прихожую и с юношеским проворством взлетел по лестнице; затем, подтолкнув собаку в дверь своей комнаты, он вошел туда вслед за ней, закрыл дверь на два оборота ключа и опустил задвижки; все это было проделано с таким трепетным волнением, которое испытывает сгорающий от страсти любовник, когда его бесценная и обожаемая возлюбленная исполняет ту же роль, какую в эту минуту играл черный спаниель.
Шевалье взял со своих глубоких кресел три лучшие подушки, положил их рядом друг с другом и устроил из них постель для Блека, хотя тот был весь испачкан в грязи.
Блек не увидел в этом никаких затруднений, трижды повернулся вокруг себя и лег, свернувшись калачиком.
Шевалье смотрел на него влюбленными глазами до тех пор, пока тот не заснул; после чего он разделся, лег в постель и тоже заснул.
Вот уже три недели у шевалье не было такого крепкого сна.
XXI ГЛАВА, В КОТОРОЙ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВООРУЖЕННОЙ СИЛЫ ВОДВОРЯЕТ СПОКОЙСТВИЕ В ДОМЕ
Проснувшись на следующий день, шевалье почувствовал боль во всех конечностях; впервые за последние сутки он подумал об опрометчивых поступках, которые совершил, движимый своей страстью, и вздрогнул, представив, что эти безрассудства вполне могли бы вызвать плеврит, приступ подагры или ревматизм.
Тогда он пощупал свой пульс — этим занятием шевалье пренебрегал вот уже в течение месяца — и, найдя его спокойным, ровным, ритмичным и умеренной частоты, успокоился, вспомнив, что у каждого исступления есть свой бог.
Успокоившись насчет своего здоровья, он спрыгнул с кровати на пол и принялся играть со своей собакой, даже не заметив, что в камине не зажжен огонь.
В девять часов утра, как обычно, Марианна вошла в спальню своего хозяина, однако выражение ее лица было еще более злобным, чем обычно.
Но утро вечера мудренее.
Осмотрительная особа больше не заговаривала о своем уходе, хотя и клялась вчера, что не станет медлить.
Шевалье же был слишком счастлив, что ему наконец-то удалось завладеть тем предметом, которым он вот уже месяц желал обладать так страстно, что поступился принципами благородства.
Тем не менее одна мысль отравляла ему эту радость: это было наполовину опасение, наполовину угрызение совести.
Шевалье дрожал при мысли, что юная владелица Блека может узнать своего спаниеля и потребовать, чтобы его вернули ей обратно.
Он спрашивал себя, что станет с его репутацией честного человека, если в городе узнают, каким образом животное попало в его руки.
Затем шевалье вновь посетили те мысли, что преследовали его накануне.
Действительно ли он имел право завладеть Влеком, зная, что жизни собаки угрожает опасность со стороны младшего лейтенанта?
Шевалье сожалел о тех последствиях, какие могло бы иметь для несчастной молодой девушки похищение Блека, и напрасно он повторял себе, что всего лишь вырвал Блека из лап верной смерти. Ему никак не удавалось полностью успокоить свою совесть на этот счет.
Он попытался это сделать, положив в конверт банковский билет достоинством в пятьсот франков и отправив его на имя мадемуазель Терезы в магазин мадемуазель Франкотт.
К этому банковскому билету он присовокупил несколько строк, в которых предупреждал Терезу, не объясняя причин подобной щедрости, что такая же сумма ей будет отправлена и на следующий год.
С такими деньгами девушка была бы ограждена от опасностей, связанных с нищетой, с этим демоном-искусителем, которого г-н де ла Гравери считал самым грозным из всех демонов.
Таким образом, тысяча франков щедро компенсировала бы потерю спаниеля.
Оставалось принять необходимые меры, чтобы предотвратить побег собаки.
Шевалье решил, что никогда не позволит спаниелю ступить за порог дома.
Однако весь сад будет отведен для его забав.
Стены, окружавшие сад, были так высоки, что не стоило опасаться любопытства соседей.
Блек будет спать в комнате своего хозяина.
При необходимости оставить дом на час, два или три, шевалье будет запирать собаку в туалетной комнате, которая надежно закрывается на висячий замок с секретом, способный оградить бедное животное от злопамятства Марианны: шевалье все же несколько побаивался ее.
Одна лишь нескромная болтливость Марианны могла бы нарушить безмятежное счастье тех дней, которые шевалье де ла Гравери предвкушал провести в обществе Блека.
Однако в тот же самый вечер случай позаботился, чтобы неуживчивая кухарка попала в полную зависимость от шевалье.
Ни до, ни после обеда шевалье никуда не выходил.
Он позавтракал и отобедал в обществе своего друга.
Наконец, следуя намеченному плану, вечером он вышел с ним на прогулку в сад.
В то время как шевалье занимался шиповником (весной он сам привил его, но побег внушал ему опасения), Блек, несмотря на заботливое и сердечное отношение к нему, все же, казалось, о чем-то сожалевший, воспользовался тем, что калитка, ведущая в сад, была приоткрыта, и отправился на поиски пути к той, что была так дорога его сердцу.
Но, к несчастью для его планов бегства, прежде чем попасть на улицу, он должен был пересечь прихожую и миновать дверь кухни.
А из этой двери доносились поистине сладостные запахи жаркого.
Блек вошел на кухню, где на первый взгляд, казалось, никого не было.
Он решил найти источник этого притягательного аромата.
Внезапно во время своих поисков он замер на месте, сделав стойку, как собака, почуявшая дичь.
Он принялся лаять на огромный шкаф, как будто хотел обвинить его в том, что тот таит в себе вожделенный предмет его поисков.
Тем временем в кухне возникла Марианна; она прибежала, услышав лай Блека.
Она уже схватила свое обычное оружие, но г-н де ла Гравери, заметивший исчезновение Блека, появился следом за Марианной.
Поза шевалье, его властный вид заставили кухарку выронить метлу из рук.
Однако, не обращая ни малейшего внимания на происходящее вокруг него, настолько он был увлечен, спаниель продолжал яростно облаивать шкаф.
Господин де ла Гравери распахнул обе дверцы шкафа и, к своему великому изумлению, увидел кирасира, который, признав в шевалье хозяина дома, почтительно поднес руку к своей каске. Этот жест, как известно каждому, означает военное приветствие.
Марианна упала на стул, будто собираясь лишиться чувств.
Шевалье все понял.
Но вместо того чтобы предаться бездумному гневу, он тотчас же осознал всю выгоду, которую ему можно извлечь из этого события.
Господин де ла Гравери благодарно приласкал собаку и сделал Марианне знак следовать за собой.
Но он повел ее не дальше прихожей.
Там он остановился и суровым голосом произнес:
— Марианна, я вам плачу триста франков жалованья; вы обкрадываете меня на шестьсот…
Марианна попыталась перебить шевалье, но тот оборвал ее решительным жестом.
— Вы обкрадываете меня на шестьсот франков, — продолжал он, — на что я закрываю глаза, и это делает ваше место самым доходным в городе; кроме того, лишь я один в состоянии выносить ваш несносный характер. Вы заслуживаете быть с позором изгнанной, но я вас не прогоню.
Марианна хотела перебить своего хозяина, чтобы выразить ему свою благодарность.
— Подождите! Моя снисходительность выставляет свои условия.
Марианна кивнула в знак того, что готова принять самые унизительные условия, какие ее хозяину заблагорассудится назначить.
— Вот, — торжественно продолжал шевалье, — вот собака, которую я нашел; по причинам, о которых я вовсе не обязан вам сообщать, мне желательно, чтобы она оставалась в моем доме, и более того, я хочу, чтобы она была счастлива у меня; если же в результате вашей невоздержанной болтовни от меня потребуют вернуть этого спаниеля, если ваша ненависть к нему приведет к его болезни и, наконец, если, воспользовавшись вашей преднамеренной небрежностью, он убежит, — даю вам слово, что вы будете немедленно уволены. А теперь, Марианна, вы можете, если вам этого хочется, пойти к вашему кирасиру; я сам был солдатом, — сказал шевалье, расправляя плечи, — и не испытываю предубеждений к военным.
Марианна просто сгорала от стыда, что ее застали на месте преступления; в словах же хозяина звучала такая твердость и решимость, что она без единого возражения повернулась и пошла к себе на кухню.
Шевалье был в восторге от этого происшествия; оно вместе с другими его уловками, казалось, обеспечивало ему безмятежное обладание спаниелем.
И он не ошибся.
С этого дня для Дьёдонне и его четвероногого друга началась полная блаженства жизнь; спокойное существование не сделало шевалье ни безразличным, ни равнодушным к чарам и прелестям животного; напротив, с каждым днем он все больше привязывался к своей отвоеванной находке, стоившей ему столько трудов и усилий; каждый день он открывал в Блеке такие изумительные качества, что порой мысли о вечном переселении душ вновь приходили ему на ум; тогда ему становилось трудно удержаться и во взгляде его, адресованном Блеку, начинало сквозить умиление. Он говорил с ним о прошлом, главным образом останавливаясь на тех эпизодах, в которых принимал участие Дюмениль. Иногда, блуждая среди этих сладостных воспоминаний, как в заколдованном лесу, он забывался до такой степени, что кричал, как капитан кричит ветерану:
— Ты помнишь?
И если в эту минуту собака поднимала свою умную голову и смотрела на него своими выразительными глазами, то шевалье чувствовал, как постепенно последние оставшиеся сомнения, подобно сухим листьям, падающим с дерева, улетучиваются из его рассудка. И те несколько часов, в течение которых обычно длился этот приступ навязчивой идеи, ему невозможно было удержаться оттого, чтобы не относиться к Блеку с такой же почтительной признательностью, какую он когда-то выказывал своему другу.
Так продолжалось целых шесть месяцев.
Конечно, спаниель, если только он не был самой разборчивой и привередливой собакой на свете, должен был считать себя самым удачливым и счастливым из всех четвероногих; однако, и это случалось довольно часто, спаниель выглядел грустным, встревоженным и озабоченным, чем шевалье был весьма обеспокоен; спаниель созерцал стены и разглядывал двери с бросавшейся в глаза печалью, и, казалось, с помощью всех этих знаков хотел дать понять шевалье, что ни время, ни хорошее обхождение не заставят его забыть свою хозяйку, и эта упорная привязанность, выходившая за рамки той старой любви, которую Дюмениль должен был питать лишь к нему одному, всего ощутимее лишала шевалье этой утешительной надежды, что между Влеком и его другом существует некая взаимосвязь.
Однажды вечером — а дело было весной, и уже стемнело — г-н де ла Гравери брился, намереваясь нанести несколько визитов.
Накануне и весь этот день Блек казался беспокойнее, чем обычно.
Вдруг шевалье услышал пронзительные вопли, раздававшиеся на лестнице, и среди этих криков различил слова, произнесенные Марианной с отчаянием в голосе:
— Сударь! Сударь! На помощь! Помогите! Ваша собака убегает!
Господин де да Гравери отбросил бритву, вытер наполовину выбритое лицо, натянул на себя из одежды первое, что ему попалось под руку, и буквально через минуту уже был на нижнем этаже.
На пороге двери он увидел Марианну, с откровенным и неподдельным ужасом смотревшую вслед спаниелю, который быстро скрылся в конце улицы.
— Сударь, — с жалобным видом сказала служанка, — клянусь вам, что это не я оставила дверь открытой, это почтальон.
— Я предупредил вас, Марианна, — ответил шевалье вне себя от ярости. — Вы больше не служите у меня, собирайте ваши вещи и незамедлительно оставьте этот дом.
Затем, не дожидаясь ответа безутешной кухарки, не подумав, что его голова ничем не покрыта, а на ногах всего лишь домашние тапочки, шевалье бросился в погоню за животным.
XXII КУДА БЛЕК ПРИВЕЛ ШЕВАЛЬЕ
Поскольку шевалье примерно знал, какое направление ему следует избрать, он не потерял ни минуты на поиски пути.
Напротив, не раздумывая, он бросился вперед и шел так быстро, что, огибая собор, в ста шагах от себя, в направлении Осла, Играющего на Виоле, увидел Блека и окликнул его, но Блек, точно как собака Жана де Нивеля, понимая, что его преследуют, свернул на улицу Менял, и г-н де ла Гравери вновь заметил его лишь около предместья Ла-Грапп, где, как он знал, жила прежняя хозяйка спаниеля, хотя номер ее дома и не был ему известен.
Правда, в этом месте шевалье был так близко от собаки, что в какое-то мгновение у него появилась надежда схватить ее.
Либо спаниель вовсе не рассчитывал окончательно скрыться от взора шевалье, либо он не так хорошо, как жители города Шартра, был знаком с этим хитросплетением улиц и, казалось, запутался, но только г-н де ла Гравери вновь увидел Блека, задыхающегося, однако еще сохранившего достаточно сил, чтобы убежать от шевалье.
В самом деле, в то мгновение, когда г-н де ла Гравери протянул руку, желая схватить собаку за великолепный ошейник, сделанный по его заказу, Блек отпрыгнул в сторону и бросился в проход, ведущий к третьему дому слева в этом предместье.
Этот проход был узким, сырым, грязным и темным.
И тем не менее шевалье, не колеблясь, направился туда вслед за своим неблагодарным пансионером.
Он уже не задавал себе вопроса, что ему отвечать в том случае, если животное приведет его к девушке, у которой оно было им украдено.
Некоторое время пробираясь на ощупь в этой мрачной клоаке, шевалье в конце концов рукой наткнулся на веревку.
Веревка, натянутая здесь вместо перил, показывала, как идет лестница.
Шевалье де ла Гравери ногой поискал ступеньки и, обнаружив первую, ведомый слабым проблеском света, пробивавшимся над его головой через безобразное, покрытое пылью окно, в котором недостающие куски стекла были заменены листами промасленной бумаги, принялся взбираться по лестнице.
Так он достиг второго этажа.
Все двери там были закрыты.
Шевалье прислушался.
Из комнат не доносилось ни звука; было ясно, что собака остановилась не здесь.
Шевалье вновь поймал веревку и продолжил свое восхождение.
После второго этажа лестницы сужалась, но это не помешало шевалье добраться до третьего.
Здесь, как и на площадке второго этажа, он прислушался.
Третий этаж бы так же нем, как и второй.
Лестница в предместье Ла-Грапп, ведущая выше третьего этажа, подобно женщинам Вергилия, у которых тело заканчивалось рыбьим хвостом, заканчивалась приставной лесенкой.
Господин де ла Гравери стал опасаться, не воспользовался ли спаниель каким-либо не замеченным им выходом, чтобы выскользнуть из этого дома и проникнуть во двор.
Но в это мгновение он услышал раздавшийся у него над головой печальный и протяжный вой, которым, согласно весьма распространенному поверью, собаки возвещают о смерти своего хозяина.
От такого скорбного зова в этом мрачном доме, казавшемся безлюдным, кровь застыла у шевалье в жилах, волосы встали дыбом, и он почувствовал, как ледяной пот выступил у него на лбу.
Но почти сразу же ему пришло в голову, что Блек, добравшись до двери своей хозяйки и найдя ее запертой, послал ей через дверь этот отчаянный призыв.
По всей вероятности, если такое предположение было верно, его молодой хозяйки не было дома.
Тогда шевалье мог бы настигнуть Блека около двери и, зажатый в тесном коридоре, тот вынужден был бы сдаться.
Эта мысль вернула шевалье мужество.
Он уцепился за перекладины лестницы и предпринял попытку восхождения.
Это ему напомнило тот полный отчаяния день, когда ему пришлось не карабкаться вверх по лестнице, а спускаться вниз по веревке, сделанной им из простыней.
Но он не остановился на этом воспоминании, его память сделала еще один шаг вперед — шевалье вспомнил Матильду, и, каким бы черствым ни стало его сердце в этом отношении, у него вырвался вздох.
Но и вздыхая, он продолжал подниматься.
Когда он преодолел около двадцати ступенек, его тело наполовину высунулось из люка.
Этот люк вел в крохотную чердачную каморку, где царила непроглядная тьма.
На первый взгляд эта каморка казалась такой же пустой, как и весь остальной дом; однако не приходилось сомневаться, что это место служило конечной целью побега спаниеля.
И в самом деле, едва шевалье поставил ногу на пол комнаты, как животное подбежало к нему и стало ласкаться с такой нежностью, какую шевалье у него еще никогда не видел.
Но едва только шевалье протянул в его сторону руку, как будто выказывая свои намерения, Блек проворно отбежал и улегся в изножье какой-то кровати, смутно вырисовывавшейся в темноте.
Это убогое ложе стояло в углу, вдоль ската крыши, так что слабый луч света, проникавший в эту клетушку сквозь узкое оконце, не попадал на него.
Ни малейшего шевеления, ни малейшего движения не чувствовалось в этой чердачной лачуге.
— Есть здесь кто-нибудь? — спросил шевалье.
Никто не ответил; лишь Блек вторично подбежал к нему и потерся о его ноги.
В эту минуту шевалье заметил, что атмосфера этого чердака была перенасыщена едким и резким запахом; у него перехватило горло.
Его страхи вернулись к нему; ему захотелось как можно быстрее убежать отсюда, и он позвал Блека.
Блек завыл снова, еще более зловеще, чем в первый раз, и забился под кровать.
Шевалье не мог пойти на то, чтобы покинуть Блека.
Он стал искать, чем бы посветить.
Во время этих поисков его нога наткнулась на жаровню и опрокинула ее.
И почти тут же его пальцы нащупали фосфорную зажигалку.
В секунду он высек огонь и зажег лампу, замеченную им на стуле.
Затем он подошел к постели.
На ней он увидел лежавшую женщину.
Кожа на лице у этой женщины, или, вернее, молодой девушки, отсвечивала синевой: ее губы почернели, от обильно выступившего пота волосы на висках слиплись, а зубы были плотно сжаты.
Все тело, казалось, уже окоченело от смертного холода и больше не шевелилось.
О том, что душа еще не покинула тела умирающей, можно было догадаться лишь по дрожанию голубоватых век и слабому дыханию, которое вырывалось из сведенного судорогой рта и доказывало, что ее страдания еще не закончились.
В этом теле, наполовину уже похожем на труп, г-н де ла Гравери узнал девушку, которую он преследовал прошлой осенью в одно из воскресений, ту, у которой он затем похитил Блека.
Он заговорил с ней; но она была слишком слаба, чтобы ответить ему.
Однако девушка его услышала, так как веки ее приоткрылись и, обратив блуждающий взгляд на шевалье, она протянула ему руку.
Охваченный жалостью и испытывая некоторые угрызения совести, шевалье де ла Гравери взял ее за руку.
Она была ледяной.
— Боже мой! Боже мой! — размышлял он вслух, ибо такова была его привычка. — Не могу же я оставить умирать это несчастное создание, и, поскольку в погоне за Блеком я пересек весь город с непокрытой головой, точно в таком же виде я могу его вновь пересечь, отправившись за господином Робером.
Шевалье не был знаком с г-ном Робером, но он знал, что этот врач пользовался известностью среди жителей Шартра.
— Я обязан для нее это сделать, я обязан для нее это сделать, — повторял шевалье, глядя на девушку и вновь удивляясь, так же как и в первый раз, странному сходству между ней и Матильдой, когда Матильда была в том же возрасте.
Оставив умирающую под охраной Блека, г-н де ла Гравери спустился по лестнице быстрее, нежели поднялся по ней, хотя подниматься было легче, чем спускаться.
Врача не оказалось дома; шевалье оставил ему адрес девушки, указав все необходимые подробности, которые позволили бы г-ну Роберу найти ее каморку без дополнительных расспросов.
Затем сам он бегом вернулся в предместье Ла-Грапп.
В убогой комнатушке за время его отсутствия ничего не изменилось; только Блек, чтобы побороть этот ледяной холод, во власти которого находилась его хозяйка, запрыгнул на кровать и улегся на ноги больной.
Когда г-н де ла Гравери увидел, что спаниель изо всех сил старается согреть Терезу, у него родилась мысль сделать все возможное, чтобы помочь собаке довести до конца начатое ею дело.
Он поднял жаровню, подобрал все кусочки угля, разбросанные по плиточному полу, и попытался разжечь огонь.
Мы должны признать, что бедный шевалье проявлял при этом гораздо больше старания, чем умения.
Господин де ла Гравери и сам понимал, сколь он неловок, и решился вступить в это состязание, лишь повинуясь порыву своей доброй души и примеру Блека.
Но, исполняя то, что он считал своим долгом, шевалье не переставал ворчать.
Следуя своей привычке, он бормотал вполголоса:
— Эта чертова собака! И надо же ей было сбежать, что ей еще-то надо? Ее хорошо кормили, она спала на прекрасной волчьей шкуре, мягкой и приятной на ощупь; что за странная мысль пришла ей в голову: сожалеть о жизни в этой ужасной трущобе! Ах! Я был прав, проклиная и избегая всякого рода привязанностей. Если бы ты не сохранил это чувство к твоей бывшей хозяйке, глупое животное, — и, произнеся эти слова, он посмотрел на Блека с невыразимой нежностью, — мы бы пребывали в этот час, счастливые и спокойные, в нашем садике; ты бы играл в траве на лужайке, а я бы обрезал мои розы — они сильно в этом нуждаются… И этот проклятый уголь не желает гореть! Он никогда не загорится, проклятье! Если б только я мог хоть кого-нибудь найти в этом доме, я бы поручил его заботам эту девушку. Деньги спасли бы меня от этой каторги; я не торгуясь заплатил бы столько, сколько от меня потребовали бы. Ну, скажите, только откровенно, разве это не было бы то же самое?
— Нет, шевалье, — произнес голос позади Дьёдонне, — нет, это не было бы то же самое, и вы поймете это, если нам посчастливится спасти больную, к которой вы проявляете участие.
— А! Это вы, доктор! — сказал шевалье; он вздрогнул при первых словах, раздавшихся в каморке, но, обернувшись, увидел серьезное и доброе лицо доктора. — Знаете, вам я могу в этом признаться, дело в том, что я испытываю ужас при виде больных и панически боюсь болезней.
— Ваша заслуга и моральное удовлетворение, которое вы испытаете, от этого только возрастут, — возразил доктор. — И к тому же, поверьте мне, человек ко всему привыкает; стоит вам выходить с дюжину таких, как она, и вы уже не захотите заниматься ничем другим. Ну, так где же больная?
— Вот она, — отвечал шевалье, показывая на постель.
Доктор направился к девушке; но Блек, видя, как этот незнакомец приближается к его юной хозяйке, угрожающе залаял.
— Ну, что ты, Блек, что случилось, мой мальчик? — спросил шевалье. — Что это значит?
И, приласкав спаниеля, он заставил его замолчать.
Доктор взял лампу и поднес мерцающий и дрожащий светильник к лицу больной.
— О-о! — сказал он. — Я подозревал это, но не думал, что случай будет таким серьезным.
— Что же это? — спросил шевалье.
— Что это такое? Это холера-морбус, настоящая холера-морбус, азиатская холера во всем своем отвратительном проявлении!
— Проклятье! — вскричал шевалье.
И он побежал в сторону лестницы.
Но, прежде чем он успел добежать до люка, ноги у него подкосились, и он упал на скамеечку.
— Да что с вами, шевалье? — спросил доктор.
— Холера-морбус! — повторял тот, едва переводя дух и не имея сил подняться. — Холера-морбус! Но ведь холера-морбус — это заразная болезнь, доктор!
— Одни говорят, что она хроническая, другие признают ее заразной. У нас нет согласия по этому вопросу.
— Но ваше-то мнение каково? — спросил Дьёдонне.
— Мое мнение состоит в том, что она заразна, — ответил доктор. — Но сейчас это не должно нас заботить.
— Как! Нас это не должно заботить? Но поверьте, доктор, я не в силах думать ни о чем другом.
И действительно, шевалье был бледен как мертвец, крупные капли пота блестели у него на лбу; зубы стучали.
— Смотрите-ка, — сказал доктор, — вы, кто так храбро ведет себя, когда речь идет о желтой лихорадке, неужели вы боитесь холеры, шевалье?
— О желтой лихорадке! — запинаясь, пробормотал Дьёдонне. — Откуда вы знаете, что я храбро веду себя, когда речь идет о желтой лихорадке?
— Разве я не видел вас в деле? — ответил доктор.
— Когда это? — спросил шевалье растерянно.
— Когда вы ухаживали за вашим другом, бедным капитаном Дюменилем, в Папеэте; разве меня там не было?
— Там? Вас? Вы были там? — произнес совершенно ошеломленный шевалье.
— Я понимаю; вы не узнаете молодого доктора с «Дофина». Тогда мне было двадцать шесть, а теперь сорок один. Четырнадцать или пятнадцать лет сильно меняют человека; вот и вы, шевалье, заметно округлились.
— Как! Это вы, доктор? — произнес шевалье.
— Да, это я. Я оставил службу и обосновался в Шартре. Гора с горой не сходятся, шевалье, а человек с человеком всегда встретятся, и вот тому доказательство: мы с вами стоим у постели другой больной, которая чувствует себя не лучше, чем бедняга-капитан.
— Но ведь это холера, доктор, холера!
— Она двоюродная сестра желтой лихорадки, черного мора, черной рвоты; бойтесь ее не больше, чем вы боялись той, другой; все они из породы бешеных собак, которые кусают лишь тех, кто бежит от них. Смелее, черт возьми! В вашей петлице я вижу красную ленту — свидетельство того, что вы бывали подогнем; вспомните ваши славные дни старого вояки, и марш вперед, на холеру, так же, как вы ходили когда-то в атаку под огнем неприятеля.
— Но, — пробормотал старый солдат, — не кажется ли вам, что мы бесполезно подвергаем себя опасности, и верите ли вы, что у нас есть хоть какой-то шанс спасти эту несчастную девушку?
Шевалье, самолюбие которого было уязвлено, смирился, по-видимому, с необходимостью употребить слово «мы».
— Признаюсь, шансов почти нет, — отвечал доктор, — у больной уже появились признаки, предвещающие близкий конец: ногти синеют, глаза ввалились, конечности холодеют, и могу поспорить, что язык уже одеревенел. Ну и что же! Она ведь еще жива, и надо сражаться с курносой… Я привык, и вы это знаете, не отступать перед смертью; я, шевалье, из породы бульдогов: до тех пор пока у меня в зубах есть хоть какой-то клочок, я держу его мертвой хваткой; но мы уже потеряли много времени… Задело!
Не приходя еще в себя от ужаса, испытанного им при слове «холера», шевалье вначале был бессилен чем-либо помочь доктору. Но, к счастью, тот по нескольким словам, сказанным шевалье его домашнему слуге, догадался, что речь идет о приступе холеры, и захватил с собой из аптечки эфир и чемеричную воду: с помощью этих двух лекарств он стал сражаться с холерой.
Бедный Дьёдонне метался по комнате как безумный; но в конце концов спокойствие и уверенность, с которыми знаток своего дела обращался с больной, прислушивался к ее дыханию, ощупывал ее, успокоили его опасения, уменьшили его испуг.
Его привязанность к бедному спаниелю уже пробила брешь в том чувстве эгоизма, каким он заполнил свое сердце; а его задетая гордость и, главное, жалость, испытываемая им при виде страданий больной, в конце концов постепенно одержали над ним верх.
В свою очередь он приблизился к ложу умирающей и стал помогать доктору обкладывать ее теплыми кирпичами (тот выломал их из стены, чтобы нагреть).
Спаниель, несомненно, понял цель забот, которыми окружали ее хозяйку; он спрыгнул с кровати, чтобы освободить поле деятельности для этих двух человек и, подойдя к шевалье, стал лизать ему руки.
Этот знак признательности горячо растрогал шевалье; мысли о переселении душ вновь пришли ему на ум, и он с воодушевлением воскликнул:
— Будь спокоен, мой бедный Дюмениль, мы ее спасем!
Врач был слишком занят заботами о больной, чтобы придать значение странным словам Дьёдонне, обращенным к черной собаке; до него дошел лишь их общий смысл.
— Да, шевалье, — сказал он, — да, спасем! Вот уже и конечности становятся теплее; однако, если ей удастся выкарабкаться, этим она будет обязана именно вам.
— Неужели? — вскричал шевалье.
— Да, черт побери! Но вы не должны останавливаться на полдороге; прошу меня извинить, шевалье, но я собираюсь послать вас кое за чем.
— О! Располагайте мной, как вам будет угодно!
— Вы понимаете, что мое присутствие здесь необходимо.
— Проклятье! Полагаю, я это отлично понимаю.
Доктор достал из кармана маленький блокнот, вырвал из него листок и написал на нем карандашом несколько строк.
— Отправляйтесь к аптекарю, шевалье, и принесите мне это лекарство.
— Все что хотите, доктор, лишь бы я ее спас, — воскликнул шевалье, очертя голову вступая в борьбу и сжигая свои корабли.
Шевалье потребовалось не более десяти минут, чтобы сходить туда и обратно, и когда он вернулся на чердак, то нашел доктора улыбающимся, и это щедро оплатило все его труды.
— Так, значит, ей лучше? — спросил шевалье и подошел к кровати, чтобы взглянуть на больную, чье лицо в самом деле утратило свой мертвенный оттенок.
— Да, ей лучше, и я надеюсь, если Господь нам поможет, то через три месяца мадемуазель подарит нам младенца, похожего на вас, как две капли воды.
— На меня! На меня! Мадемуазель, ребенок?
— Ах, какой же вы молодец, шевалье; я все знаю о ваших похождениях в Папеэте: прекрасная Маауни мне все рассказала.
— Доктор, я вам клянусь…
— Говорите же, шевалье, не таите от меня секретов; рано или поздно вы все равно будете вынуждены мне все рассказать; разве моя профессия не заключается в том, чтобы облегчить человеку появление на свет, точно так же, как помочь ему покинуть его?
— Но позвольте, доктор, что же вас навело на эту мысль?..
— А вот что, черт возьми! — сказал доктор, протягивая шевалье золотое обручальное кольцо, которое он снял с пальца больной, остававшейся все такой же неподвижной и безучастной. — Во время вашего отсутствия, движимый любопытством, я решил открыть это кольцо и осмотреть его. И больше не отрицайте ваше отцовство, любезный сударь; ваш секрет в надежных руках; врач призван еще строже хранить тайну, чем исповедник.
Как пораженный громом, не веря своим ушам, шевалье взял это кольцо, ногтем большого пальца разъединил его вдоль окружности и на внутренней его поверхности прочел:
«Дьёдонне де ла Гравери — Матильда фон Флорсхайм».
Его волнение было так велико, что он пал на колени, рыдая и молясь одновременно.
XXIII ШЕВАЛЬЕ-СИДЕЛКА
Врач решил, что волнение шевалье вызвано радостью, которую тот испытал, узнав, что есть надежда спасти больную.
Он дал шевалье закончить сою молитву и вытереть глаза, а затем, решив, что следует использовать этот возвышенный порыв чувств к выгоде несчастной девушки, он спросил:
— А теперь, шевалье, что мы будем делать с этим ребенком? Ведь ей невозможно оставаться в этой зловонной дыре. Может, вы хотите, чтобы я отправил ее в больницу?
— В больницу! — с негодованием вскричал шевалье.
— Черт! Но ей там будет несравненно лучше, чем здесь. И хотя я не собираюсь читать вам нравоучений, но позвольте мне все же заметить, шевалье, что я нахожу весьма странным то, что вы оставили женщину, на палец которой надели это кольцо, в столь убогой лачуге, особенно в то время, когда в этом квартале свирепствует болезнь.
— Доктор, я прикажу ее перевезти ко мне.
— Слава Богу, это доброе дело! Правда, оно несколько запоздало; но, как гласит пословица, лучше поздно, чем никогда. Это вызовет небольшой переполох и крики негодования среди добропорядочных жителей Шартра; но что касается меня, то я предпочитаю, шевалье, опираясь на сложившееся у меня о вас мнение, чтобы вы совершили именно этот грех, а не другой; предпочитаю видеть, как вы пренебрегаете условностями, а не человеколюбием.
Шевалье, ничего не отвечая, склонил голову; в его душе боролись тысячи разных чувств.
Он думал о Матильде, чьим ребенком, должно быть, была эта несчастная девушка; мысленно он перенесся на двадцать пять лет назад, вновь переживал эти дни, такие мирные, такие радостные, сначала наполненные совместными играми с Матильдой, а затем взаимной любовью; за эти восемнадцать лет, он впервые, возможно, осмелился бросить взгляд в прошлое и испытал чувство стыда при мысли, что мог предпочесть мелочные наслаждения эгоизма этим радостям, таким сильным и таким неизгладимым, если более чем двадцать лет спустя они еще могли вновь согреть его душу.
Глядя на бедную больную, он испытывал раскаяние, его совесть подсказывала ему, что, какими бы ни были грехи ее матери, они ни в коей мере не уменьшали его обязательств по отношению к этому ребенку и что эти обязательства не были им выполнены.
Он не мог также не думать о тех пагубных последствиях, которые имело для девушки похищение ее ангела-храните-ля; возможно, отняв у нее Блека, он обрек ее, беззащитную, на проступок; он давал себе слово искупить свои ошибки, так как видел во всем случившемся длань Господню.
Видя, как глубоко шевалье погружен в размышления, доктор предположил, что, испугавшись последствий пребывания в его доме больной, он решил пойти на попятный.
— Что ж, в конце концов, — сказал он шевалье, — обдумайте это хорошенько; возможно, вам удастся найти за хорошую плату каких-нибудь добрых людей, которые согласятся преодолеть свой страх перед этой чертовой болезнью и приютят у себя бедняжку; вероятно, это будет самый лучший выход, который устроит всех.
В последний раз в душе Дьёдонне шла борьба между заботой о его собственном покое, остатками ужаса, все еще внушаемого ему возможностью заражения, с одной стороны, и добрыми побуждениями его сердца — с другой; к чести шевалье скажем, что эта борьба длилась не слишком долго.
Шевалье отрицательно покачал головой и выпрямился.
— Ко мне домой, доктор! Ко мне домой, и только ко мне, никуда более! — вскричал он с той энергией, которую слабые люди так умеют проявлять, когда им случается быть решительными.
Уже занимался день, когда носилки, которые были взяты в больнице и на которые уложили больную, отправились на улицу Лис.
Шевалье и Блек сопровождали эту печальную процессию; на всем пути своего следования — впрочем, таково было обыкновение — она вызывала любопытство крестьянок и молочниц, уже направлявшихся в город.
Подойдя к дому г-на де ла Гравери, они нашли дверь закрытой; хозяин, выскочивший из дому без шляпы и в тапочках и не подумавший захватить с собой ключ, звонил и стучал в дверь молоточком, но все было бесполезно: никто не отвечал.
Тогда он вспомнил, что накануне вечером прогнал Марианну, и предположил, что, желая в последний раз отомстить своему хозяину, проклятая служанка посчитала необходимым буквально выполнить полученный приказ убираться как можно быстрее.
Был один-единственный выход: привести слесаря; за ним пошли.
К счастью, он жил не очень далеко.
Но дверь была закрыта на два оборота ключа; работа с ней затянулась надолго, и за это время проснулся квартал.
Соседи прилипли к окнам, служанки высыпали из домов на улицу и расспрашивали друг друга, что произошло. Кто-то, пока шевалье ходил за слесарем, приоткрыл занавески носилок, чтобы узнать, что в них такое; а узнав, что находилось внутри, каждый задавался вопросом, кем могла быть эта девушка, которую шевалье окружал такой заботой и которую собирался поселить под крышей своего дома, куда до сих пор вход представительницам женского пола был полностью запрещен.
Как водится в таких случаях, сразу же родилось около десяти версий; все они были совершенно несхожи между собой, но, естественно, ни одна не служила к чести шевалье, репутации которого был нанесен серьезный урон.
По всему городу пошли сплетни.
Кутилы из кафе Жусс и Шартрского клуба открыто насмехались над шевалье.
Завсегдатаи «Мюре» шептались об этом вполголоса, крестясь и заявляя, что с шевалье решительно не следует поддерживать отношения.
Но самому шевалье все это было безразлично. Мысль, что, по всей вероятности, он нашел дочь единственной женщины, когда-либо любимой им, поглотила его целиком.
Мы придерживаемся того мнения, и, возможно, кто-то сочтет нас оптимистом или простофилей, а это приблизительно одно и то же, — так вот, повторяем, мы придерживаемся того мнения, что на свете есть мало сердец, в которых воспоминания о причиненном зле заглушают память о добре; во всяком случае, шевалье был не из их числа.
По мере того как память шевалье освобождалась от горьких и печальных воспоминаний о прошлом, Матильда вновь вставала перед его глазами такой, какой она была в самые лучшие дни их юности — прекрасной и чистой, любящей и преданной; он больше не думал о событиях, разлучивших их, о ее неблагодарности, о ее неверности; он вспоминал о незабудках, которые он срывал когда-то для своей маленькой подружки на берегах ручейка, текущего по парку, и голубенькие цветочки которых так очаровательно смотрелись в белокурых волосах девочки; его сердце обливалось горькими слезами при мысли, что за всю остальную жизнь он не испытал больше радостей, которые сравнились бы со счастьем, пережитым им в молодости; даже радость, подаренная ему прекрасной Маауни, была несравнима с ними; наслаждения от вкушаемой трапезы или радости садовода никогда не могли заставить так трепетать его душу, как это удалось простому воспоминанию о прошлом; и шевалье спрашивал себя, не являются ли самыми счастливыми на свете в конце концов именно те люди, что встречают старость, обладая самым большим багажом подобного рода воспоминаний.
Это не было еще сожалением, но уже было сопоставлением.
Однако надо было заняться бедной больной, и заботы об уходе за ней, о том, как следовало обеспечить их, вывели шевалье из состояния раздумий, которым он, впрочем, весьма охотно предавался.
Марианна поступила с ключом от своей комнаты так же, как с ключом от дома: она унесла его с собой, как будто дом принадлежал ей. Господин де ла Гравери был вынужден поместить больную в своей комнате и уложить в свою кровать.
Но здесь в нем вновь понемногу проснулись опасения за собственную жизнь: он спрашивал себя с некоторой тревогой, где же ему провести предстоящую ночь, а главное, где поместят его самого, если зараза завладеет и им тоже.
Поскольку в доме он был совершенно один, ему пришлось заняться заботами по хозяйству, приготовить целебный настой и подумать о приготовлении своего собственного завтрака — занятии, к которому он питал особую неприязнь.
Работая до кровавого пота и нещадно проклиная свою бывшую служанку, шевалье сумел отыскать посреди ужасающего хаоса, намеренно оставленного Марианной в кухонном хозяйстве, три яйца и приготовил из них свое первое блюдо, с беспокойством задавая себе вопрос, как он сможет переварить это блюдо, каким бы скромным оно ни было, ведь впервые за двадцать лет ему приходилось сесть за стол без чая — средства, как он считал, совершенно необходимого для активизации его вялого желудка.
Его беспокойство увеличивало то, что яйца, опущенные в кипящую воду, оставались там на двенадцать секунд дольше, чем было положено, и, вместо того чтобы съесть на завтрак три яйца всмятку, шевалье съел три яйца вкрутую.
К полудню объявилась Марианна; она пришла за своим жалованьем.
При виде ее у шевалье мелькнул луч надежды. Он подумал, что старая сумасбродка пришла его молить о прощении, и приготовился выслушать ее просьбу с самой любезной улыбкой.
Он решил принять все требования своей бывшей служанки и подписать, даже повысив ей жалованье, новый договор, с тем чтобы немедленно избавить себя от хозяйственных забот, казавшихся ему столь отвратительными.
Он не принял во внимание появления в доме своей гостьи.
Марианна, получая деньги, была преисполнена холодного и презрительного достоинства, и, когда бедняга-шевалье, забыв и о ее характере, и о чувстве приличия, что должно было бы заставить его промолчать, спросил у нее, стараясь придать своему тону патетическое звучание, как она могла решиться покинуть его в такую трудную для него минуту, бывшая служанка ответила ему с возмущением, что порядочная женщина в здравом рассудке не может оставаться в таком доме, как его, а если он нуждается в уходе, то пусть эта вертихвостка и заботится о нем.
После чего она величественно удалилась.
Оставшись один, г-н де ла Гравери впал в глубокое отчаяние.
Он прекрасно понимал, что все языки в городе упражняются сейчас на его счет; что он будет опозорен, его смешают с грязью, на него будут показывать пальцем; он видел, что его до сих пор спокойный мирок, подобный безмятежному озеру, ясному небу, незапятнанному зеркалу, рушится навсегда, и он уже начал подумывать, что, возможно, поступил весьма легкомысленно, приютив у себя молодую девушку.
Блек тщетно ходил от постели своей бывшей хозяйки к креслу, где сидел его новый хозяин, ставший им в последние полгода; он напрасно помахивал хвостом, клал свою красивую голову на колено к шевалье, лизал его свисавшую руку, проделывая все это в знак признательности и одобрения, — ничто не могло отвлечь шевалье де ла Гравери от размышлений, в которые он был погружен.
Мозг человека так же как и океан, имеет свои приливы и отливы.
Шевалье, ни много ни мало, думал о том, что следует разом избавиться и от девушки, и от ее спаниеля, поместив их обоих в дом призрения.
Несколько стыдясь этой дурной мысли, он приводил самому себе различные доводы, способные смягчить ее, к примеру такие: самые порядочные люди отправляются в эти заведения; он сам бы лег туда, если бы был болен; если там уход и менее сердечный, то все же он более умелый — привычка заменяет преданность.
Это был прилив скверных чувств, и он поднимался!
С того времени как шевалье стал владельцем Блека, он ни одного дня не прожил без волнений и забот. Вот уже полгода, как от его прежнего спокойного существования не осталось и следа. Какой только опасности он не подвергал себя, чтобы вернуть его! И эта страшная болезнь, разве она не пристанет к нему?! Особенно если, не найдя до вечера ни служанки, ни сиделки, он будет вынужден сам ухаживать за девушкой и всю ночь дышать ядовитыми испарениями от тела больной!
Прилив все поднимался и поднимался; подобно тому, как одна волна следует задругой, каждая новая мысль рождала следующую.
Разве не могло быть так, спрашивал себя шевалье, что только благодаря случаю обручальное кольцо Матильды оказалось на пальце у Терезы? Разве обязательно обладание этим кольцом означало, что больная была дочерью г-жи де ла Гравери? И потом, если все же в конце концов будет доказано, что больная связана с Матильдой кровными узами, неужели оскорбленному мужу следует подвергать себя смертельной опасности, чтобы спасти этот плод греха?
Как видите, прилив был очень высок.
Мысль, что больная вовсе не была дочерью г-жи де ла Гравери, столь властно завладела шевалье, что он решил расспросить обо всем Терезу; но девушка была так слаба, что Дьёдонне не мог добиться от нее ответа.
В эту минуту взгляд шевалье упал на туалетный столик, где в образцовом порядке выстроились все вещи, принадлежавшие когда-то капитану; затем, благодаря естественному ходу мыслей, ему вспомнился сундучок, в котором они когда-то лежали, и в особенности таинственный пакет, который шевалье должен был вручить г-же де ла Гравери, если она была еще жива, и сжечь, если она умерла.
Он подумал, что, по всей вероятности, в этом пакете находится решение загадки, занимавшей его в эту минуту, а поскольку, раз покатившись по наклонной плоскости дурных мыслей, не так-то легко остановиться, он принял решение, каковы бы ни были его последствия, вскрыть пакет и определить свое отношение к Терезе, если все же в этом пакете шла речь о ней.
Следуя своему решению избегать бесполезных эмоций, шевалье ни разу не открывал второго дна сундучка с того дня, как он поместил туда таинственный пакет.
С того дня он постоянно изо всех сил старался забыть и этот пакет, и то, что в нем могло быть, и указание своего друга.
Но из ряда вон выходящие события, перевернувшие его жизнь, породили у него в голове совсем иные мысли, и они заставили его преодолеть свойственную ему брезгливость.
Шевалье был убежден, что в послании, которое его друг Дюмениль адресовал г-же де ла Гравери, он мог бы отыскать какие-нибудь сведения, способные помочь ему разобраться в его трудном положении.
Никогда, правда, Дюмениль не произносил имени г-жи де ла Гравери, но были все основания предполагать, думал шевалье, что капитан кое-что знал о ее судьбе.
Изнемогая от сильного волнения, г-н де ла Гравери решительно подошел прямо к шкафу, куда после своего возвращения с Папеэте он положил сундучок.
Вполне естественно, сундучок по-прежнему оставался на том же самом месте.
Шевалье взял его, поставил на камин лампу, сел около огня, положил сундучок на колени, открыл первое отделение, затем второе — и перед его глазами предстал тот самый пакете его большими черными печатями.
Впервые шевалье обратил внимание на цвет воска, которым был запечатан пакет.
Он никак не мог решиться его открыть.
Но, продолжая следовать увлекавшему его вниз потоку мыслей, он разорвал обертку.
Несколько тысячефранковых билетов выскользнули из обрывков конверта и разлетелись по ковру.
В руках у шевалье осталось незапечатанное письмо.
«Если Ваша супруга, в то время, когда Вы вернетесь во Францию, будет еще жива, вручите ей нижеприлагаемый пакет и банковские билеты, лежащие здесь; но если, напротив, ее уже не будет в живых или если у Вас не останется никакой надежды узнать, что с ней случилось, то в этом случае, Дьёдонне, во имя чести, вспомните Ваше обещание, бросьте в огонь этот пакет и употребите деньги на богоугодные дела.
Ваш преданный друг Дюмениль».
Шевалье несколько минут по-всякому вертел в руках пакет; он был достаточно заинтригован и хотел знать, какого рода отношения могли существовать между его другом и его женой.
Один или два раза он подносил руку к обертке второго пакета, собираясь сделать с ним то же, что и с первым конвертом, но это заклинание капитана: «Дьёдонне, во имя чести, вспомните Ваше обещание и бросьте в огонь этот пакет» — вновь попалось ему на глаза, и, чтобы отвести от себя искушение, он отправил пакет прямо в огонь.
Пакет почернел сначала, потом съежился и развалился, и среди писем показалась прядь волос; по ее пепельно-русому оттенку шевалье де ла Гравери узнал, что она принадлежала Матильде.
Увидев это, шевалье перестал владеть собой, он не мог сдержать ни первые вырвавшиеся у него слова, ни сделанное им первое движение.
— Как, черт возьми! — вскричал он. — Дюмениль хранил волосы моей жены?
И протянув руку в самую середину пламени, он схватил завиток волос вместе с бумагой, в которую они были завернуты.
Он бросил все это на землю и придавил ногой, чтобы погасить горевшие волосы и бумагу.
Затем, с величайшей тщательностью собирая эти обрывки, наполовину уничтоженные огнем, шевалье заметил, что на бумаге, в которую были завернуты волосы, виднелись строчки, написанные рукой капитана.
Но огонь сделал свое дело.
От прикосновений его рук бумага рассыпалась и превращалась в пепел.
Однако остался маленький уголок, опаленный, но сгоревший не до конца.
На этом клочке ему удалось разобрать следующие слова:
«Я поручил господину Шалье………………….
……………………….Вашу дочь…….в..
………………………….его попечение….»
На шевалье словно снизошло озарение: он вспомнил, как молодой врач, превратившийся с тех пор в доктора Робера, говорил ему, рассказывая о визите капитана на борт «Дофина», о том роковом визите, во время которого Дюмениль подхватил желтую лихорадку, что тот приходил поговорить с г-ном Шалье о ребенке.
Значит, Дюмениль что-то знал о судьбе г-жи де ла Гравери даже после того, как они покинули Францию? Значит, он поддерживал с ней связь?
Но почему же в таком случае капитан никогда ни слова не говорил об этом своему другу?
Какую роль сыграл Дюмениль во всей этой катастрофе, перевернувшей жизнь шевалье?
Воображение бедного Дьёдонне принялось за дело, и он начинал придумывать самые разные истории. Роль, сыгранная его покойным товарищем в разлучении шевалье и его супруги, время от времени рождала некоторые запоздалые подозрения в столь доверчивом уме последнего. Только что увиденное подтвердило эти подозрения и придало им такое значение, которого они никогда не имели; и Дьёдонне не замедлил спросить себя, была ли дружба капитана Дюмениля всегда так бескорыстна, как в последние годы его жизни.
Шевалье был вынужден признаться сам себе, что недоброе подозрение терзает его сердце.
В эту минуту он взглянул на Блека.
Блек сидел в изножье кровати, но он смотрел не на больную; напротив, он, казалось, с глубоким вниманием рассматривал шевалье. Его взгляд одновременно выражал и грусть и опасение: шевалье показалось, что он прочитал угрызения совести в том, как животное время от времени опускало свои черные веки, а в его покорном и смиренном поведении — мольбу о прощении; в конце концов у него создалось впечатление, что бедное животное чувствует, в какое критическое положение они попали, и что оно спрашивает себя: «Бог мой, как бедняга Дьёдонне переживет это открытие?»
Выражение, написанное на физиономии Блека, разрядило обстановку.
Шевалье поднялся с кресла, подошел прямо к собаке, бросился перед ней на колени и, обняв ее руками и без конца целуя, обратился к ней, как будто бы у него перед глазами действительно был бедняга Дюмениль:
— Я прощаю тебя, друг! Я прощаю тебя! Я забуду все, за исключением тех семи лет счастья и дружбы, которыми я обязан твоей преданности, заботам, которыми ты меня окружал, и поддержке, которую ты мне оказывал в стольких печальных испытаниях. Ну же, не склоняй так голову, брат; что за черт! Мы все слабые создания и легко уступаем искушению: непобежденными остаются те, кто не встречался с опасностью; и в конце концов бедный простой смертный, каким ты был, не должен стыдиться своего падения там, где даже сами ангелы согрешили бы; если бы только ты мог ответить мне, если бы ты мог мне сказать, моя ли… твоя ли… наша ли… это дочь Матильды или нет?
Как будто и в самом деле поняв обращенные к ней слова, собака высвободилась из объятий шевалье, вскочила, от изножья кровати направилась к ее изголовью и там принялась лизать руку больной, свешивавшуюся поверх одеяла.
Это странное, случайное совпадение, так точно отвечавшее мыслям шевалье, показалось ему знаком самого Провидения.
— Итак, это правда! — вскричал он со страстным упоением, почти напоминавшим безумие. — Это действительно ты, мой Дюмениль! И Тереза — твоя дочь! Будь спокоен, друг, я буду любить это дитя так, как любил бы ее ты, будь ты жив; я буду ухаживать за ней так, как ты ухаживал за мной; я посвящу всю свою жизнь тому, чтобы сделать ее счастливой, и в твоем нынешнем смиренном положении, мой бедный Блек… нет, я хочу сказать, мой бедный Дюмениль… ты мне поможешь в этом всем чем можешь. Ты только что оказал мне последнюю услугу, показав, в чем заключается мой долг. Нет, нет, тысячу раз нет, я не могу допустить, чтобы это дитя расплачивалось за чужие ошибки и чтобы на ее голову пала тяжесть сомнения, которое может омрачить мое отцовство. Впрочем, — продолжал шевалье, все более и более возбуждаясь, — что это такое, отцовство? Слово, которое господствует над обстоятельствами, — любовь. Ты увидишь, Дюмениль, до какой степени может дойти та любовь, что я подарю этому ребенку!
И поскольку в эту минуту бедная больная едва слышным голосом попросила: «Пить!» — шевалье бросился к стакану с водой, нагревшейся у ночника, и, больше не заботясь о том, носит ли холера-морбус хронический или инфекционный характер, просунул одну руку под голову больной и приподнял ее, а другой рукой поднес стакан к ее губам. И пока она в каком-то смысле пила жизнь из рук шевалье, тот, обняв ее, говорил:
«Пей, Тереза! Пей, моя доченька!.. Пей, драгоценное дитя моего сердца!..»
XXIV ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЛУЧ СОЛНЦА ПОКАЗЫВАЕТСЯ СКВОЗЬ ТУЧИ
Шевалье де ла Гравери, несмотря на свое волнение, ни на мгновение не хотел отложить исполнение обещания, данного им душе своего друга относительно его дочери.
Он немедленно заменил Марианну другой служанкой, даже не справившись предварительно о ее кулинарных талантах. Он взял ее в дом по простой рекомендации, данной ей как прекрасной сиделке.
Несмотря на эту рекомендацию, которую новая служанка всеми силами старалась оправдать, г-н де ла Гравери вовсе не находил, что усердие, с каким она заботилась о девушке, соответствовало обстоятельствам; в итоге шевалье сам занялся этими трудными обязанностями и так погрузился в них, что восемь или девять дней спустя, когда Тереза стала выходить из того состояния оцепенения, в каком она пребывала после ужасного кризиса, он, осмелившись впервые отойти от постели больной, чтобы взглянуть на свой сад, с удивлением и горечью заметил, что забыл обрезать свои розы, и непомерно вытянувшиеся жировые побеги непременно должны были испортить цветение.
В течение первых дней, или, вернее, первых ночей, шевалье с трудом переносил усталость, напряжение ума, ночные бдения, столь необходимые ввиду тяжелого состояния несчастной больной; но очень скоро он целиком отдался своему труду и открыл в нем ранее неведомые ему радости.
Эта борьба со смертью со всеми ее перипетиями, волнениями, тревогами, неожиданными радостями, внезапным испугом полностью подчинила это сердце, до тех пор не знавшее столь сильных переживаний; это была дуэль, побудительная причина которой была гораздо сильнее, чем в обычном поединке: в обычном поединке сражаются, чтобы принести смерть; шевалье же сражался, чтобы дать жизнь, и для него это было не только вопросом чести, но и еще делом совести. Когда девушке становилось хуже, шевалье испытывал приступы глухой ярости по отношению к судьбе, и в это время он чувствовал, как растут его силы и его мужество; он выпрямлялся у изголовья больной, бросая вызов болезни и призывая ее объявиться, чтобы сдавить ее за горло и задушить; он спрашивал себя, как в его беззаботном детстве и праздной юности ему и в голову не пришло изучить эту науку — спасать людей, чтобы никому не быть обязанным, кроме как самому себе, себе одному, жизнью той, которую он называл своим ребенком.
Порой, когда он засыпал, сломленный усталостью и с отчаянием в сердце, с какой же тревогой приближался он утром к изголовью кровати и прислушивался к стесненному дыханию больной! Никогда он не испытывал такого полного удовлетворения, какое пришло к нему, когда он заметил, что пульс девушки, поначалу слабый и неровный, становится спокойнее и сильнее, что из ее глаз исчезает застывшая стеклянная пелена, делавшая тусклыми их блеск; что ее бледно-свинцовые губы приобретают свой розовый оттенок; и тогда с великой гордостью триумфатора и с самой неподдельной искренностью он задавал себе вопрос, как могут существовать люди, предпочитающие мелочные мимолетные наслаждения эгоизма пылким, несказанным радостям самоудовлетворенной души.
Он забывал, задавая себе этот вопрос, что в течение пятнадцати лет поклонялся эгоизму, превратив его в ту религию, которую он теперь предавал анафеме.
Все те долгие дни, что шевалье де ла Гравери провел у постели Терезы, не отвлекаясь от своих мыслей ни на что другое, кроме забот о больной, он часами размышлял о своем собственном положении и о положении девушки.
Леность его ума, его боязнь каких-либо неприятностей были так сильны, что в течение пятнадцати лет он ни разу не дал себе труда задуматься об этом.
Он хорошо помнил, что брат требовал доверенность, чтобы вести дело о разводе шевалье и его супруги; но это обстоятельство ни малейшим образом не могло ему объяснить, как Матильда решилась покинуть своего ребенка.
Со времени своих супружеских неудач шевалье, не в силах забыть, какую злую роль сыграл в них его старший брат, всегда испытывал сильнейшее отвращение при мысли о встрече с ним, и после своего возвращения во Францию он лишь изредка и при случае получал известия о нем и поэтому не решался обратиться к нему за разъяснениями о том, какова была судьба г-жи де ла Гравери после его отъезда.
Тереза выздоравливала очень медленно; после ужасного потрясения, которое холера вызывает в организме человека, его здоровье либо восстанавливается очень быстро (настолько, что происходит мгновенный возврат от болезни к здоровому состоянию, подобно тому, как ранее столь же внезапным был переход от здоровья к болезни), либо выздоровление затягивается, и тогда опасения за жизнь больного не исчезают ни на минуту.
Болезнь девушки оказалась именно такого рода.
Положение осложняла ее беременность, и Тереза все время была столь вялой и апатичной, что врач ежедневно советовал добряку-шевалье не причинять ей ни малейшего волнения ни при каких обстоятельствах, будучи уверен, что это волнение могло бы иметь для больной самые тяжелые последствия.
Однако Дьёдонне не терпелось расспросить Терезу: раз двадцать он начинал фразу, чтобы вызвать ее на откровенность, и каждый раз останавливался, что-то бормоча.
Наконец однажды молодая девушка с посторонней помощью смогла встать с постели; она сидела у окна в огромном кресле шевалье и с наслаждением (это свойственно всем больным) впитывала горячее и пронизывающее тепло солнечных лучей, падавших на нее, а легкий ветерок, пропитанный благоуханием роз в саду, ласково играл с несколькими прядями ее золотистых волос, выбившихся из-под маленького чепчика.
Время от времени она поворачивалась, чтобы взглянуть на г-на де ла Гравери, а тот, стоя позади нее и опершись двумя руками на спинку кресла, с любовью разглядывал ее; она же в ответ пожимала ему руку и целовала ее с восторженным чувством детской признательности; затем она вновь погружалась в глубокую и мечтательную задумчивость, ее взор блуждал по саду: в эту пору весь розарий был усеян тысячами цветов различных оттенков.
Шевалье склонился к девушке.
— О чем вы думаете, Тереза? — спросил он.
— Мой ответ покажется вам довольно глупым, господин шевалье, — отвечала девушка, — но я не думаю ни о чем, и, однако, мне доставляет удовольствие эта созерцательная мечтательность. Спросите меня, что я вижу, когда смотрю на небо, и я вам отвечу то же самое: я не вижу ничего, и тем не менее мой взор будет сосредоточен на самом величественном, самом прекрасном и самом непостижимом на свете; нет, я испытываю неописуемое блаженство, мне кажется, что я перенеслась в иной мир, по сравнению с тем, в котором жила до сих пор и в котором так много страдала. Там, куда я переношусь, все такое возвышенное, такое доброе и такое прекрасное!
— Дорогое дитя, — прошептал шевалье, вытирая слезу, блестевшую в уголке его глаза.
— Увы! — повернувшись к шевалье, с глубокой грустью продолжала Тереза, не видевшая этой слезы. — Зачем вы меня разбудили? Это счастье, как любые другие радости и наслаждения этого мира, всего лишь греза; но эта греза так сладка, а пробуждение так печально!
— Вас кто-то или что-то обидело, дитя мое? Находите ли вы недостаточным те заботы, какими окружают вас в этом доме? Говорите же! Вы должны были, однако, заметить, что желание видеть вас счастливой стало единственной моей целью в жизни.
— Значит, вы меня любите? — спросила девушка с очаровательным простодушием.
— Если бы вы не внушали мне искреннюю и глубокую привязанность, разве стал бы я для вас тем, кем я стал, или, вернее, тем, кем стараюсь стать, Тереза?
— Но как и за что вы меня любите?
Шевалье некоторое время помедлил с ответом.
— Вы напоминаете мне мою дочь, — промолвил он.
— Вашу дочь? — переспросила Тереза. — Вы ее потеряли, сударь? О! Мне вас жаль; я чувствую, что если Господь отнимет у меня дитя, которое он вложил в мое чрево, чтобы утешить меня в моих несчастьях, то ничего более не удержит меня в этом мире, ведь я смирилась с необходимостью остаться здесь, лишь мечтая о нежности и любви, и ею одарит меня в будущем это драгоценное крошечное существо.
Девушка впервые заговорила о своем положении, и она делала это с легкостью и непринужденностью, которые, не имея ничего общего с бесстыдством, все же показались г-ну де ла Гравери странными. Он счел нужным сменить тему разговора и подумал, что наступила благоприятная минута расспросить Терезу о ее прошлом.
— Так, значит, вы много страдали, бедняжка? — спросил он.
— О да! Я была очень несчастна, так несчастна, что часто спрашивала себя, неужели у бедных Бог тот же, что и у богатых. Я еще очень молода, не правда ли? Мне ведь даже не исполнилось еще и девятнадцати лет; но, увы, мне кажется, что нет такого несчастья, ниспосланного им на землю, какого бы я не познала.
— Но ваша семья?
— Моей семьей, по крайней мере той, что я знала, была бедная старая женщина, которая могла лишь страдать, как и я, и страдала вместе со мной. О! Она тоже исполнила свою задачу на этой земле.
— Это была… ваша мать? — с волнением спросил шевалье.
— Она звала меня своей дочерью; но теперь, когда я повзрослела и стала размышлять, я не думаю, что она могла быть моей матерью: она была слишком стара для этого; впрочем, когда я закрываю глаза и начинаю рыться в глубинах своей памяти, я вижу очень далеко, как будто во сне, мое первое детство — оно ничем не походит на второе, то есть на то, что было бы моим, если бы я была родной дочерью матушки Денье.
— А что вам говорят об этом детстве ваши воспоминания? — живо спросил шевалье. — О! Скажите, Тереза, скажите! Вы не способны представить, вы не можете понять, как я дорожу вашим рассказом. Ведь я сомневаюсь, дитя мое, что вы питаете ко мне достаточно доверия, чтобы поделиться всеми своими воспоминаниями о себе.
— Увы, сударь! У меня нет иного желания, как рассказать вам все; но я почти ничего в точности не помню; единственное, в чем я твердо уверена, что не всегда носила лохмотья, с которыми не расставалась всю свою юность. Особенно мне запомнилось, что, когда я проходила мимо Тюильри, моей бедной приемной матери всегда приходилось меня утешать. Я заливалась слезами, умоляя ее позволить мне пойти поиграть под каштанами в серсо или в скакалку, как в пору моего первого детства.
— И ни один образ из вашего первого детства не запечатлелся в вашей памяти?
— Ни один! Я не помню ни когда, ни как после благополучия и достатка очутилась в бедной лачуге матушки Денье; я прожила там десять горьких лет. Вот так, сударь! Тем не менее эта бедная женщина была добра ко мне; она любила меня настолько, насколько могут любить бедные; ведь что бы там ни говорили, а нищета сильно иссушает сердце, и, когда нет хлеба, когда день и ночь голод стучится в вашу дверь, когда, оглянувшись вокруг себя, видишь, что нет ни средств к существованию, ни надежд, когда Господь Бог так жесток к своим детям, — очень трудно быть снисходительным и добрым к другим! Вот почему в те моменты, когда наши дела шли из рук вон плохо и мы были вынуждены идти просить милостыню у дверей какого-нибудь трактира у заставы Вожирар, а мне не удавалось вызвать к себе жалость, матушка Денье порой задавала мне трепку; но это длилось недолго, ее гнев стихал при виде моих первых слез, и она просила у меня прощения и обнимала меня; тогда мы плакали вместе и на несколько мгновений забывали о наших бедах.
— А как же вы покинули вашу приемную мать, дорогое дитя?
— Увы, сударь, это не я покинула ее, это она ушла в тот мир, который лучше нашего. В последние дни ее болезни мне исполнилось пятнадцать лет; она так настойчиво призывала меня к стойкости, добродетели и смирению, что, проводив ее в последний путь, видя, как ее опускают в общую могилу, где она будет лежать вместе со своими товарищами по жизненным невзгодам, и обратившись к нашему милостивому Господу с горячей молитвой, я поднялась с колен, чувствуя, что стала сильнее и лучше, чем когда бы то ни было; несмотря на свой юный возраст, я уже предвидела опасности, поджидавшие меня в моем одиночестве; не находя в себе сил и не желая отмахнуться от них или бросить им вызов, я решилась бежать от них. Я обратилась к монахиням, и они отдали меня обучаться ремеслу; к несчастью, через короткое время я стала очень ловкой мастерицей.
— Что же в этом плохого, бедняжка моя дорогая?
Тереза закрыла лицо ладонями.
— Ну же, ну же, говорите! — произнес шевалье самым ободряющим тоном, на какой он был способен.
— Да, я должна рассказать все, — ответила девушка, — и вы такой добрый, такой сострадательный, вы простите бедной сироте ее грех от своего имени и от имени людей. Вы говорите, что хотите стать мне отцом, но тогда вам следует знать всю правду, это поможет вам ближе познакомиться с вашей приемной дочерью; а еще мне кажется, что, когда я вам расскажу все, когда вы узнаете, что может извинить мою ошибку, я буду свободнее чувствовать себя с вами.
— Говорите же, дитя мое, и рассчитывайте на мою снисходительность, она будет заодно с моей нежностью и избавит вас от всего тягостного и мучительного, что могло бы содержать ваше признание.
— О да, да! Будьте уверены, вы узнаете обо всем, — отвечала Тереза, протягивая шевалье руку, и тот отечески сжал ее в своих ладонях.
— В семнадцать лет, как я вам только что говорила, я стала самой искусной мастерицей в нашей мастерской и меня определили к хозяйке одного из самых известных магазинов белья на улице Сент-Оноре.
Однажды у госпожи Дюбуа — так звали мою хозяйку — появился молодой человек в сопровождении своего отца, чтобы заказать различные предметы для свадебного подарка: он собирался его преподнести своей невесте; я не смогу вам описать, как выглядел отец, мои глаза видели только молодого человека. На первый взгляд в его внешности не было ничего особо выдающегося. Почему же я не могла отвести от него взор? Этого я никогда не смогу объяснить, если только не считать все случившееся вмешательством самой судьбы; впрочем, мне показалось, что он чересчур долго смотрел на меня, и весь остаток дня и часть ночи, проведенную без сна, я не находила себе места от волнения.
На следующий день он вернулся, якобы желая дополнить отданные накануне указания, и мне показалось, что он смотрел на меня с гораздо большей настойчивостью, чем в первый раз. Но в этот второй день я вся дрожала и едва осмеливалась поднять на него глаза; в тот миг, когда его рука легла на ручку двери, ведущей в комнату, где была я, у меня похолодело сердце, хотя я его еще не видела, и ничто не могло мне подсказать, что это был он…
Затем, когда он вошел и я его увидела, напротив, что-то подобное пламени пробежало по моим жилам и заставило вздыматься мою грудь весь остаток дня; назавтра он вернулся опять, затем послезавтра; он был так нежен, так добр, так сердечен и ласков, что смутное и неопределенное чувство, с первого же дня связавшее меня с ним, не замедлило принять более определенный характер. Я поняла, что я его люблю, и моя привязанность к нему была такой сильной, что я ни на минуту не задумывалась о том, что через несколько дней он отдаст свое имя и свою руку другой, той, которой уже, возможно, принадлежало его сердце.
Но, однако, мне хотелось увидеть эту женщину. Когда хозяйка нашего заведения отсутствовала, вместо нее руководить мастерской оставалась я; однажды, когда она поехала за покупками, я бросила в коробку несколько отрезов, вышла и направилась в сторону особняка, где, как мне было известно, жила невеста того, кого я так безумно любила.
Я спросила мадемуазель Адель де Клермон.
Она носила это имя.
Мне пришлось долго ждать.
Каждый звонок колокольчика, доносившийся снаружи, отдавался у меня в сердце: мне все время казалось, что это пришел он.
Наконец меня провели к молодой девушке.
Ей было около двадцати четырех — двадцати пяти лет, она была высока ростом, с черными волосами, худощава; у нее был повелительный вид и злое выражение лица. Мое сердце забилось от радости. Анри — его звали Анри — не мог любить такую женщину.
Свое появление я объяснила необходимостью снять некоторые мерки; проделав эту работу, я вышла, испытывая глубокое волнение.
Я была уже на последних ступенях лестницы, когда моя рука, скользившая по перилам, встретила другую руку.
Подняв голову, я узнала Анри.
Его озабоченность, по всей видимости, равнялась моей; мы оба не заметили вовремя друг друга.
Он заговорил первым.
«Вы здесь, мадемуазель?» — вскричал он.
«О! Простите меня! Простите! — воскликнула я в свою очередь. — Но я хотела ее видеть».
Произнеся эти слова, я упала в его объятия. Он прижал меня к груди, его губы встретились с моими и в том безумии, что овладело мною, мне показалось, что эти объятия, скрепленные поцелуем, соединили нас неразрывной связью.
На следующий день мы гуляли вместе по Булонскому лесу; он сказал мне, что любит меня, я ему отвечала, что люблю его. Две недели эти прогулки повторялись каждый вечер. Это была самая счастливая пора в моей жизни; бедная сирота, которой никто не мог подсказать, хорошо или плохо она поступает, я открывала свое сердце настоящему и закрывала свои глаза перед будущим; целиком во власти своей любви к нему, я не спрашивала о его намерениях. Я жила одним днем, довольствуясь счастьем его видеть, упиваясь удовольствием его слышать и ни на минуту не задумываясь о том, что это счастье может когда-нибудь кончиться.
Но однажды он не пришел на свидание.
Я вернулась к себе, почти сходя с ума от беспокойства; там я нашла письмо от Анри.
В этом письме он прощался со мной.
Он мне писал, что в тот момент, когда он хотел порвать с невестой, силы изменили ему; что мысль о бесчестье, какое нанесет молодой девушке скандал, вызванный расторжением помолвки накануне свадьбы, возобладала над его любовью; что он не может решиться на бесчестный поступок и запятнать себя; что он будет несчастен всю свою жизнь от сознания, что я могла бы принадлежать ему. Он умолял меня забыть его, чтобы ему не терзаться при мысли, что он сделал несчастным не только себя, но и меня.
Увы! Этого сделать я не могла.
Я спросила, кто принес это письмо. Мне ответили, что это был молодой человек лет двадцати пяти, одетый в военную форму и так похожий на Анри, что сначала подумали, будто это он сам и есть.
Появление этого молодого офицера придавало странную таинственность этому событию.
Но что было подлинной реальностью, так это письмо, которое я держала в руке, которое я прочла и перечитала вновь и которое в самом деле было написано его рукой.
Это письмо было моим приговором, и мне было безразлично, кто его принес!
С той минуты как я прочла это роковое письмо, мир опустел для меня; мне чудилось, что я подобно тени прохожу по огромному кладбищу, сплошь усеянному могилами.
В каждой из этих могил покоилось какое-нибудь воспоминание о нем: я останавливалась и плакала у каждой из них.
Это было как во сне.
Когда эти видения прекратились и я пришла в себя, уже наступил день, и он принес мне новую боль; я спрашивала себя, почему солнце все еще освещает землю, если Анри меня больше не любит; как мужчины и женщины могут продолжать жить, петь, заниматься какими-то суетными делами, когда мое сердце так безутешно!
Я решила бежать, скрыться от этого шума, этой суеты, этой парижской жизни, разбившей мое сердце.
Я вышла из дома как безумная, не задумываясь, куда иду.
Я шла туда, где бывала с ним.
Машинально, инстинктивно, ничего не видя вокруг себя, не ощущая, как на меня натыкаются прохожие, я направилась в сторону Булонского леса, куда он приводил меня каждый вечер в течение двух недель.
Я бродила там очень долго, всякий раз останавливаясь во всех тех местах, где я стояла с ним; мне казалось, что ветерок, играя с листвой, заставляет ее повторять те слова любви, которым я внимала когда-то с таким счастьем и наслаждением; я внезапно вздрагивала, когда, казалось, слышала его голос, зовущий меня; я останавливалась, думая, что узнаю следы его шагов на песке; я узнавала его в каждом прохожем, пока тот был еще слишком далеко от меня, чтобы я могла различить черты его лица.
Так я ходила большую часть дня.
Я ничего не ела со вчерашнего дня, но даже не вспоминала о еде: лихорадочное возбуждение придавало мне силы.
Понемногу отчаяние взяло верх над этим своего рода миражом, который был, если можно так выразиться, всего лишь последним порывом надежды; я стала меньше думать о нем и больше о себе; мне представилось то одиночество, в котором он меня оставил, подобно тому, как затерянный в пустыне путешественник измеряет взглядом недостижимый горизонт. Не верилось, будто что-нибудь поможет мне выбраться из пропасти, утешить меня, вернуть надежду, жизнь и счастье; сломленная горем, усталостью, бессонницей, я упала на траву у подножия дерева в укромном месте и лишилась сознания.
Когда я пришла в себя, то была уже не одна; рядом со мной сидела черная собака и, казалось, с нежностью смотрела на меня.
Я несколько раз слышала, как вдалеке кто-то звал Блека; но собака помотала головой, как бы говоря: «Вы можете меня звать сколько угодно, но я не пойду».
Что касается меня, то у меня не было сил ни прогнать ее, ни задержать. Я отрешенно смотрела на нее, так как сознание еще не полностью вернулось ко мне; потом я испугалась и попыталась рукой отогнать ее от себя, но она так ласково принялась лизать мою руку, что мне стало понятно: она не желала причинять мне зла.
Я поднялась; она последовала за мной.
Память возвращалась ко мне, и я начала забывать о настоящем, чтобы вернуться в прошлое.
«Анри! Анри! Анри!»
Я повторяла это имя, и с каждым разом мое несчастье еще зримее и мучительнее представало передо мной.
Я спрашивала себя, могла ли я, сирота, не имеющая ни отца, ни матери, молодая девушка без всякой поддержки, возлюбленная без любимого, могла ли я продолжать жить дальше, если мне казалось, что моя жизнь заключалась в потребности любить и быть любимой.
Мое сердце ответило мне «нет».
Тогда я страстно принялась мечтать об этом другом мире, душою, разумом, сутью которого является всеобщая любовь.
В этом лучшем мире Господь, вложивший в мою душу несказанную любовь к нему, конечно же не откажет мне и соединит меня с н и м.
Тогда ко мне пришло решение уйти в это царство душ, чтобы быть первой, кого он встретит, войдя туда.
Я осмотрелась.
Я находилась где-то недалеко от Нёйи и в сумерках заметила черные силуэты громадных тополей, росших вдоль берегов Сены; река, то есть смерть, была всего в двух шагах; значит, Господь Бог меня услышал.
С ясным и твердым намерением, как будто это было уже давно мною задумано, я направилась в ту сторону.
Собака последовала за мной, но я даже не обратила на это внимание.
Я почти перестала различать окружающие меня предметы; не знаю, как и какими их видели мои глаза, но мое сердце воспринимало их всего лишь как какие-то видения.
Внезапно я остановилась: река была передо мной, ее темные воды несло быстрое течение.
Твердо решив расстаться с жизнью, я в тот же миг бросилась бы в воду, если бы вдруг мне не пришла мысль о Боге, ведь в скором времени я должна была предстать перед ним.
На берегу реки я упала на колени; моя грудь словно раскрылась, чтобы мое сердце и мои мысли могли устремиться прямо к Богу.
Я говорила ему, что если каждое человеческое существо должно нести свой крест, то уготовленный мне крест слишком тяжел для моих слабых плеч и, падая в изнеможении под его тяжестью, я не в состоянии нести его дальше; я молила его облегчить мне последний путь, ведущий от жизни к смерти, принять меня в свои объятия, а главное, сохранить в сердце моего Анри то семя любви, которое могло бы снова пышно расцвести на Небесах.
Когда я поднялась, то мною овладело такое спокойствие, как будто сам Господь благословил меня; затем, сделав шаг вперед и закрыв глаза, я бросилась в реку…
Меня внезапно подхватило, обволокло и как будто закутало во влажный саван…
Но среди мрачного гула воды, пенившейся около моих ушей, мне послышалось, как поверх моей головы в воду упало еще одно тело.
Почти тут же я почувствовала, как меня сильно схватили за платье и потащили. Меня охватил страх, хотя мое решение было твердым и неизменным, — о, то был страх перед смертью!
Я открыла в воде глаза: сине-зеленые глубины реки меня ужаснули.
Почувствовав, что меня кто-то схватил, я подумала, что это Смерть своей холодной рукой увлекает меня в бездну…
Собираясь закричать, я открыла рот; он тут же наполнился водой; вокруг меня вспыхивали и гасли голубоватые искры, и я потеряла сознание.
Затем, возможно спустя много времени, я услышала рядом с собой голоса людей; все еще целиком находясь во власти своей мысли о смерти, я вообразила, что умерла и нахожусь в ином, столь желанном для меня мире.
Наконец, приходя понемногу в себя, я сделала невероятное усилие и открыла глаза.
Я находилась в комнате с низким потолком в одном из тех кабачков, что стоят по берегам Сены.
Я лежала на матрасе, положенном на стол.
Мне казалось, что это продолжается сон.
Но перед камином, освещавшим комнату, я заметила лежавшую черную собаку, вылизывавшую языком свою мокрую шерсть.
Я поняла, что меня спасли.
Затем мне вспомнилось понемногу — одно за другим — все, что со мной случилось.
И совсем тихо я прошептала имя, оставшееся в моей памяти.
Это было имя собаки — Блек.
Услышал ли меня Блек? Узнал ли он меня? Однако дело обстояло так, что он поднялся и подошел ко мне.
Я ощутила прикосновение его горячего языка на своей ледяной руке.
То было мое первое ощущение, пришедшее из внешнего мира.
Я пошевелилась и вздохнула.
Все находившиеся в комнате столпились около меня.
Меня заставили выпить несколько глотков теплого вина и подложили под спину подушки, наваленные вокруг моего матраса.
Затем все разом заговорили, перебивая друг друга, и я узнала, что же произошло.
Встревоженные лаем собаки, а затем шумом от падения в воду двух тел, славные люди, обитавшие в этом доме, выбежали на берег; они увидели в воде черную собаку: она удерживала меня на поверхности реки, но, будучи не в силах вытащить на берег, плыла по течению.
Поскольку я была всего в нескольких шагах от берега, какой-то речник бросился в воду и вытащил меня на берег. Все остальное и так было понятно.
В это время появился представитель властей, комиссар полиции или мировой судья — не могу сказать, кто это был, — его предупредили о происшествии, и он прибыл засвидетельствовать случившееся.
Найдя меня живой, он сделал мне отеческое внушение и потребовал дать ему клятву, что я больше не буду покушаться на свою жизнь.
Мне нагрели постель, уложили меня спать, и лишь на следующий день я покинула дом этих добрых людей.
Прощаясь, я достала из кармана ту небольшую сумму денег, которая у меня была, чтобы заплатить — нет, не за оказанную мне помощь, но за те расходы, причиной которых я была.
При первом моем движении хозяин положил свою ладонь мне на руку, останавливая меня.
Я взяла его руку, пожала ее и поцеловала хозяйку.
Затем я села в фиакр, который наняли в Нёйи, заботливо усадила рядом с собой моего спасителя Блека и вернулась в Париж.
Но мои постоянные отлучки в течение двух недель и то, что я не вышла на работу накануне, вызвали недовольство госпожи Дюбуа, и она объявила мне, что я ей больше не нужна.
Я решила покинуть Париж: он стал мне невыносим.
Работая у госпожи Дюбуа, я поддерживала отношения с мадемуазель Франкотт из Шартра; она мне часто говорила, что если я решусь переехать в провинцию, то могу рассчитывать на ее помощь. Я села в дилижанс, идущий в Шартр, взяв с собой Блека, и приехала к мадемуазель Франкотт, которая мне тут же дала место в своем магазине…
— Но Анри, Анри, — вскричал шевалье, — вы не получали от него известий? Ведь он оставил вас в тот самый момент, когда вы готовились стать матерью? О! Негодяй!
— Анри?.. О! Нет, сударь, он слишком меня любил, чтобы не уважать меня; я осталась непорочной после стольких любовных излияний, а уверяю вас, я бы ни в чем ему не отказала, ведь я так его любила! Но он ни разу не позволил себе пойти дальше тех невинных ласк, которыми я с такой радостью одаривала его.
— Но как же тогда, — спросил крайне удивленный шевалье де ла Гравери, — как вы смогли его так быстро забыть, если в вашем сердце жила подобная любовь?
— Увы, сударь, — ответила Тереза, качая головой, — меня погубила именно эта бесконечная любовь к нему, и вам известна всего лишь половина моих страданий.
— Расскажите мне все до конца, расскажите, если вы все еще чувствуете в себе достаточно сил, чтобы продолжить эту печальную исповедь.
— Через несколько дней после моего приезда в Шартр, — продолжала Тереза, — я понесла в город картонку; я шла, низко опустив голову, и наткнулась на двух офицеров; шутки ради они взялись за руки и перегородили таким образом улицу; я подняла голову и, вскинув глаза на одного из военных, воскликнула: «Анри!»
Я прислонилась к стене, чтобы не упасть.
Видя, как я сильно побледнела и близка к обмороку, оба молодых человека принесли мне свои извинения, и тот, от которого я никак не могла оторвать свой взгляд, сказал, что он и не предполагал, как это невинная шутка может иметь такие последствия.
Но все больше и больше подпадая под власть этого видения, я повторяла и повторяла дрожащими губами: «Анри! Анри! Анри!»
«Мадемуазель, — улыбаясь, сказал мне, наконец, офицер, — я очень сожалею, что меня зовут не Анри, коль скоро это имя воскрешает в вас столько нежных воспоминаний; но Анри — это имя моего брата, а меня зовут Грасьен. Я буду счастлив, если мое имя тоже останется в вашей памяти».
«Если вы не Анри, тогда, ради Бога, дайте мне пройти, сударь».
Блек глухо рычал и угрожал броситься на офицеров.
«Мадемуазель, — сказал тот, кто назвал себя Грасьеном, — у нас никогда и не было намерения задерживать вас».
«Мы, — добавил спутник господина Грасьена, — всего лишь увидели идущую нам навстречу молодую девушку с низко опущенной головой; мы, Грасьен и я, сказали себе: „У такой красотки должны быть чудные глазки!“ Тогда мы встали на вашем пути, чтобы заставить вас поднять глаза; вы их подняли, и мы полностью удовлетворены, мадемуазель; они еще прекраснее, чем мы могли предположить».
Произнося это, молодой офицер с таким дерзким видом подкручивал свои усы, что я была испугана.
«Господа, — вскричала я, — господа!»
К нам подошло несколько человек, которых привлекли, несомненно, нотки страха, слышавшиеся в моем голосе.
«Что вы сделали этому ребенку?» — спросил пожилой усатый господин.
«Да ничего, совершенно ничего, — посмеиваясь, ответил друг господина Грасьена, — несколько комплиментов, вот и все».
«В мое время, господа, когда я имел честь носить мундир, мы делали молодым девушкам лишь такие комплименты, которые они могли выслушивать не бледнея и не зовя на помощь».
Затем, повернувшись ко мне, он сказал:
«Дайте мне вашу руку, дитя, и идемте».
Я была так взволнована, так ошеломлена всем, что случилось со мной, что подала пожилому господину руку и так быстро, как мне это позволяла слабость в ногах, стала удаляться от офицеров.
Через пятьдесят шагов старик спросил меня:
«Вы еще нуждаетесь в моих услугах, мадемуазель, и полагаете ли вы, что моя защита вам еще может понадобиться?»
«Нет, сударь, — ответила я, — благодарю вас от всего сердца».
А затем, как будто он был в курсе того, что происходило в моем сердце, я добавила:
«О! Он так похож на Анри!»
И вторично поблагодарив его, я удалилась.
Пожилой господин удивленно проводил меня глазами; конечно, я должна была показаться ему сумасшедшей!..
XXV СЮРПРИЗ
— Вернувшись в магазин мадемуазель Франкотт, — продолжала Тереза, — я под предлогом ужасной головной боли попросила разрешения на некоторое время укрыться в задних его комнатах.
Мне нужно было привести в порядок свои мысли.
Я была так бледна, что никто ни на минуту не усомнился в моем нездоровье. Мадемуазель Франкотт лично хотела за мной ухаживать; но я попросила ее дать мне стакан воды и оставить меня одну.
Она сделала то, что я просила.
Оставшись одна, я стала размышлять.
Я вспомнила о письме, принесенном в магазин госпожи Дюбуа в мое отсутствие молодым офицером, настолько похожим на господина Анри, что его сначала приняли за него.
Я вспомнила восклицание молодого офицера: «Это не меня, а моего брата зовут Анри».
К тому же я вспомнила, как Анри два или три раза говорил мне о своем брате-близнеце, походившем на него до такой степени, что в детстве родители, чтобы различить двоих детей, были вынуждены одевать их в одежду разного цвета.
Все прояснилось. Грасьен приезжал на свадьбу Анри, и Анри поручил Грасьену, своему лучшему другу, отнести в магазин письмо, едва не ставшее причиной моей смерти.
После свадебных торжеств Грасьен вновь вернулся в свой полк, стоявший в Шартре. Его-то я и встретила накануне, полагая, что встретила Анри; проще ничего и быть не могло.
Однако в том состоянии души и ума, в каком я находилась, для меня все представляло угрозу.
В это время я услышала, как хлопнула входная дверь, и через перегородку из двойного стекла, отделявшую меня от магазина, я увидела вошедшего молодого офицера и узнала в нем Грасьена.
Он зашел купить перчатки.
Без сомнения заинтригованный необычным приключением, он проследил за мной или же разузнал, где я работаю, и покупка печаток была всего лишь предлогом, чтобы узнать, кто я такая.
Вся дрожа, я оперлась о комод; его холодный мрамор остудил мои пылающие руки. Под различными предлогами офицер провел в магазине около четверти часа и ушел, оглядевшись вокруг себя с видом человека, обманутого в своих ожиданиях.
Это посещение магазина нисколько не удивило мадемуазель Франкотт. Нас было там четыре или пять девушек; самой старшей не исполнилось еще и двадцати лет, и эти господа из гарнизона под предлогом заказать себе новые рубашки или купить перчатки наносили частые визиты в магазин. Мадемуазель Франкотт извлекала из этого свою выгоду и давала нам два совета: быть приветливой и нежно улыбаться в магазине и строго вести себя во всех других местах.
Теперь, когда в голове у меня прояснилось, мне больше незачем было находиться в задних комнатах заведения; я вернулась в магазин и заняла свое обычное место за кассой.
Девушки разговаривали о только что вышедшем красивом офицере. Его впервые видели у мадемуазель Франкотт, и вы можете себе вообразить, что эти четыре языка в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет могли сказать о красивом двадцатипятилетием офицере.
Все очень жалели, что меня не было, когда он пришел.
Но конечно же офицер появится снова: он провел здесь четверть часа, и, оставаясь здесь четверть часа, он, вне всякого сомнения, имел определенное намерение.
Я слушала эти пересуды, закрыв глаза и не вымолвив ни слова; одна я могла бы пролить свет на это событие и разрешить спор, но не стала делать этого.
На следующий день мне надо было выйти в город. Вся дрожа, я ступила за порог магазина. Меня пугала встреча с господином Грасьеном, но в то же время я смертельно желала увидеть его, ведь только с ним можно было бы поговорить об Анри, а мое бедное сердце истосковалось по этой радости.
Впрочем, едва сделав сто шагов, я встретила молодого человека.
Я остановилась как вкопанная.
Он приблизился ко мне.
«Мадемуазель, — сказал он, — соблаговолите принять мои извинения за тот страх, что мы причинили вам, я и мой товарищ. Я не стал дожидаться сегодняшнего дня, чтобы извиниться перед вами, и, узнав, в каком магазине вы работаете, поспешил появиться там. Но вас не было видно; не зная вашего имени и опасаясь допустить какую-либо бестактность, я не осмелился спросить о вас. Поэтому я благодарен случаю, сделавшему так, что мне удалось встретить вас сегодня и, следовательно, позволившему мне высказать все то сожаление, какое я испытываю, видя ужасное впечатление, которое производит на вас мое присутствие».
«Сударь, вы ошибаетесь, — ответила я. — Истинная причина этого впечатления вам неизвестна; оно имеет своим источником не отвращение, а совсем иное чувство».
«Как?! Мадемуазель, — прервал меня Грасьен, — неужели я мог бы быть так счастлив?..»
Я, в свою очередь, перебила его.
«Сударь, — произнесла я, — нам необходимо объясниться. Я не стремлюсь к этому, но и не стану уклоняться. Вы ведь господин Грасьен д’Эльбен, не правда ли?»
«Откуда вам известна моя фамилия?»
«Брат господина Анри д’Эльбена?» — продолжала я.
«Без сомнения».
«Вы приезжали в Париж на свадьбу вашего брата с мадемуазель Адель де Клермон, не так ли?»
«Да».
«И он поручил вам отнести письмо одной девушке, которую он любил…»
«Которую он все еще любит и которую будет любить всегда», — возразил Грасьен.
«О! — вскричала я, взяв его за руки и разразившись рыданиями. — Вы говорите правду?»
«Бог мой! Неужели вы Тереза?»
«Увы, сударь…»
«Бедное дитя, хотевшее утопиться?»
«Откуда вы это знаете?»
«От него. Он узнал обо всем; он был у госпожи Дюбуа, но вы уже уехали, и никто не смог ему сказать, ни куда вы отправились, ни что с вами стало. О! Как он будет счастлив узнать, что вы живы и не проклинаете его!»
«Я слишком его люблю, чтобы когда-нибудь проклясть», — прошептала я.
«Вы мне позволите заверить его в этом?»
«Анри знает мое сердце и, надеюсь, не нуждается в подобном заверении».
«Все равно! Завтра он будет знать, что вы здесь и что я имею счастье видеть вас».
Я вздохнула, вытирая слезы.
«Но мне недостаточно просто увидеть вас, мне необходимо видеться с вами постоянно. Вы его любите?»
«Да, всей душой».
«Отлично, мы будем говорить о нем».
«Теперь мне больше непозволительно говорить о нем, так же как непозволительно любить его».
«Всегда позволительно любить брата и говорить о брате; мы будем говорить о нем как о брате».
«О! Не искушайте меня, — воскликнула я, — я и так уже слишком к этому предрасположена, Бог мой! Разрешите мне, нет, не забыть, это невозможно, но разрешите мне молчать».
«Единственное утешение, которое остается в непоправимом несчастье — это плакать и жаловаться. Излейте мне ваши жалобы, поплачьте у меня на груди; я вам расскажу, как сильно он вас любит, сколько он сражался, боролся, страдал, а главное, я вам расскажу, как он вас до сих пор любит…»
«О! Замолчите, замолчите!» — сказала я ему, зажимая руками уши, чтобы не слышать.
«Да, вы правы, не здесь, посреди этой улицы, мы должны воскрешать подобные воспоминания; я буду иметь честь нанести вам визит и надеюсь, вы не откажетесь меня принять».
Он попрощался со мной и удалился, прежде чем я смогла ему ответить.
Я вернулась к мадемуазель Франкотт, сильно обеспокоенная этой встречей и испуганная своим желанием вновь увидеть Грасьена, чтобы говорить с ним об Анри. Однако я сознавала необходимость бежать от этого непреодолимого искушения и попросила мадемуазель Франкотт, если это возможно, поселить меня у нее в доме, предложив вычитать из моего заработка за это жилье. К несчастью, весь дом был занят, и мадемуазель Франкотт не могла выполнить мою просьбу.
Я занимала на улице Гран-Сер маленькую комнатку на четвертом этаже, куда и приходила каждый вечер около девяти часов, то есть сразу же после закрытия магазина.
По воскресеньям после двенадцати я была свободна.
Ничего не знаю о том, как Грасьену удалось узнать мой адрес, но в тот же вечер, возвращаясь домой, я нашла его стоящим на улице у двери дома, в котором жила.
Рассказываю вам все, сударь; вы слушаете мою исповедь, поэтому вы должны знать не только мои поступки, но и мои чувства, даже мои мысли. Так вот, узнав Грасьена, я испытала скорее нечто вроде радости, чем чувство страха.
Да, это правда, я сделала движение, собираясь броситься к нему.
Он заметил это и конечно же сразу понял, какую власть может взять надо мной.
К тому же он произнес вначале несколько слов, которые отняли бы у меня всю мою решимость в том случае, если бы у меня были бы силы оттолкнуть его.
«Расставшись сегодня с вами, — сказал он мне, — я написал Анри; я ему сообщил, что видел вас, что вы его по-прежнему любите. Я получу его ответ послезавтра».
«О сударь, — ответила я ему, не имея сил устоять перед его словами, — что вы хотите от меня, пробуждая подобные воспоминания и воскрешая такую любовь? Вы меня погубите».
И, опершись об угол двери, я заплакала.
«Мадемуазель, — сказал он, — я не буду сегодня слишком настойчив; ваше нынешнее состояние обязывает меня проявить деликатность; но послезавтра, в воскресенье, как только магазин мадемуазель Франкотт закроется, я вновь буду иметь честь быть у вас».
«О сударь! — вскричала я. — Что скажут, увидев, как вы приходите ко мне? Это невозможно, невозможно!»
«Успокойтесь, мадемуазель, — сказал он. — Случай распорядился так, что наш командир эскадрона живет в том же доме, что и вы. Почти каждый день мои обязанности призывают меня к нему, а помимо их, нас связывает еще и дружба; он проживает на третьем этаже; вы на четвертом; выходя от него, я поднимусь к вам, никто об этом не узнает; увидят, как я ухожу; что ж, я посещаю господина Ленгарда по делам службы, никто не сможет ничего сказать по этому поводу».
И, все так же не дожидаясь моего ответа, Грасьен почтительно попрощался со мной и удалился.
Я провела бесконечную бессонную ночь, а мой завтрашний день превратился в сплошное ожидание.
Я ждала того часа, когда должна была увидеть Грасьена, с таким же нетерпением, с каким когда-то ждала той минуты, когда должна была увидеть Анри. По правде говоря, я по-прежнему ждала только Анри, лишь его одного.
В десять минут первого пополудни я была у себя. В половине первого в дверь тихо постучали.
«Вы получили ответ?» — спросила я Грасьена, открывая ему дверь.
«Возьмите, — он протянул мне распечатанное письмо, — прочтите его, и вы увидите, солгал ли я, сказав, что он вас все еще любит».
Я жадно схватила письмо и подбежала к окну не столько ради того, чтобы лучше видеть, сколько ради того, чтобы остаться в одиночестве.
Читая письмо, я слышала глухое ворчание Блека; два или три раза я прерывала чтение, чтобы заставить его замолчать; но впервые он меня не послушался.
Да, к моему несчастью, письмо было именно таким, как это обещал мне Грасьен. Анри любил меня по-прежнему, он любил только меня одну, он был несчастен и сожалел, что у него недостало сил отказаться от этой свадьбы, ставшей причиной его горя.
Прочитав и перечитав письмо Анри, я хотела отдать его Грасьену.
«О! — сказал он. — Оставьте его себе, мадемуазель; в действительности это письмо адресовано вовсе не мне, а вам. Что я буду с ним делать?»
И он со вздохом отстранил мою руку.
Я прижала письмо к губам и спрятала его у себя на груди.
Грасьен продолжал стоять.
Я знаком предложила ему сесть.
Он понял, что единственное средство продлить свой визит — говорить со мной об Анри.
Час пролетел как минута; на два часа был назначен смотр. Грасьен поднялся первым.
Я уже была готова спросить его: «Когда я вас увижу вновь?» — но, к счастью, удержалась.
Грасьен ушел, я закрыла дверь на задвижку, как будто опасаясь, что кто-нибудь может меня побеспокоить — это меня-то, которую никто не навещал, кроме одной девушки, служившей у мадемуазель Франкотт и время от времени заходившей ко мне.
Оставшись одна, я села на маленькое канапе около окна и вновь стала читать это письмо, а Блек, положив мне голову на колени, смотрел на меня своими большими человеческими глазами.
Вы ведь догадались — не правда ли? — что это чтение было моим единственным занятием в течение всего дня.
На следующий день я не видела Грасьена ни днем ни вечером.
Я слышала, как пробило десять часов, одиннадцать, полночь, но все еще не ложилась.
Я ждала.
Невозможно было представить, что весь этот вечер мне не с кем будет поговорить об Анри.
Я вновь набросилась на письмо, читала его, перечитывала и уснула, прижав его к груди.
Весь следующий день я также не видела Грасьена.
Возвращаясь домой, я надеялась встретить его у своей двери, но там его не было.
Поднявшись к себе, я зажгла свечу.
В сотый раз перечитывая письмо Анри, я услышала ворчание Блека; даже раньше чем до моего слуха долетел шум шагов, я поняла, что по лестнице поднимается Грасьен.
Мгновение спустя в дверь постучали.
Я крикнула «Войдите!» с таким волнением в голосе, что у Грасьена могло родиться неверное представление на этот счет.
«Ах! — обратилась я к нему, поддаваясь своему первому порыву. — Почему я не видела вас вчера?»
Я даже не закончила эту фразу. Но, к несчастью, ее и не нужно было заканчивать.
«Я не осмелился, — ответил Грасьен. — Вы мне высказали свои опасения по поводу моих частых визитов, и я их прекрасно понимаю, хотя эти опасения и преувеличены. Я хотел вам доказать, что могу быть преданным человеком, а не бестактным.
Я опустила глаза, так как осознавала, что надо пережить все то, что я пережила, и встать на мое место, чтобы правильно понять то чувство, которое заставляло меня действовать подобным образом; однако, опустив глаза, я сделала ему знак сесть рядом со мной.
Вечер промчался как одно мгновение; как и прошлый раз, Грасьен рассказывал мне только об Анри. Пробило полночь, а мне казалось, что Грасьен вошел всего несколько минут назад.
Я спустилась, чтобы самой открыть ему дверь. Он никогда так поздно не уходил от господина Ленгарда, и на следующий день вопрос, заданный слугам, мог бы все раскрыть.
Как это принято в провинции, где каждый жилец имеет свой ключ, у меня он тоже был, и я смогла вывести Грасьена из дома так, что его никто не видел и не слышал.
То, о чем я вам только что рассказала, продолжалось три месяца. Первый месяц, я должна отдать должное Грасьену, он говорил со мной только о своем брате. В ходе второго он позволил себе сказать несколько слов о самом себе.
После этих слов, я это хорошо знаю, мне следовало его остановить, а если бы он вернулся к этому опять, то закрыть перед ним свою дверь; но подумайте о том, что я была совсем одна, мне не к кому было обратиться ни за поддержкой, ни за советом. Вокруг себя я видела моих товарок; я ничем не превосходила их: ни своим положением, ни состоянием. Смутное воспоминание о моем первом детстве, радостном и блестящем, которое в пору моей юности еще сверкало подобно далекой зарнице, с каждым днем постепенно все больше и больше стиралось. Я знала, какие страдания приносит любовь, и мне было жаль Грасьена, потому что я нравилась ему. Находясь рядом с ним, я была уверена в самой себе; впрочем, Блек был моим неподкупным стражем. Я ни в коем случае не позволяла ему ни дома, ни на прогулке хоть на минуту покидать меня и очень быстро научила его небольшой уловке, которая спутала все планы Грасьена; но однажды собака покинула меня…
Шевалье де ла Гравери вздрогнул; он тут же догадался, какие последствия для несчастной девушки имело его похищение Блека. Его рука нашла ее руку, он поднес ее к своим губам и почтительно поцеловал.
— Продолжайте, — едва слышно промолвил он, поскольку девушка, удивленная и его поступком, и выражением его лица, молча смотрела на него.
— Так вот, однажды вечером моя собака покинула меня. Я была в отчаянии от того, что потеряла ее. Грасьен, казалось, разделял мое горе и повсюду расспрашивал о ней — по крайней мере он мне так говорил. Я тоже все время проводила в поисках Блека, так что даже вызвала недовольство мадемуазель Франкотт; однако я предпочитала разгневать ее, но найти моего бедного Блека. Мне чудилось, что я потеряла моего хранителя и, пока я его не найду, мне будет угрожать какая-то неизвестная, но неминуемая опасность.
Однажды вечером около шести часов, я получила письмо; на нем стояла подпись: „Госпожа Констан“, почерк был мне незнаком.
Содержание его было следующим:
„Мадемуазель Тереза!
Говорят, что Вы потеряли собаку, которой очень дорожили, и эта собака — черный спаниель с единственным белым пятном на шее. Вот уже скоро будет неделя, как мой муж нашел одну, чья внешность напоминает это описание. Желаете ли Вы сегодня вечером удостовериться, действительно ли это Ваша собака? В этом случае, как ни жаль нам было бы с ней расстаться, мы поспешим вернуть ее законной владелице.
Имею честь и т. д.
Констан.
Улица Сен-Мишель, 17, третий этаж“.
Я вскрикнула, никому ничего не объясняя, схватила свою шаль и шляпку и выбежала.
В одно мгновение я оказалась на улице Сен-Мишель, поднялась на третий этаж дома номер семнадцать и позвонила.
Дверь мне открыла старуха.
— Госпожа Констан? — спросила я.
— Вы мадемуазель Тереза?
— Да.
— Вы пришли за собакой?
— Да.
— Хорошо, пройдите в эту комнату, я пойду предупрежу госпожу.
Меня провели в какую-то комнату.
Я провела там не более пяти минут, как дверь открылась; услышав этот звук, я повернула голову.
У меня вырвался крик, всего лишь один:
— Анри!
И я бросилась в объятия того, кто только что открыл дверь…
На следующее утро я все еще была в его объятиях; только он обнимал меня безутешно плачущую и вне себя от отчаяния.
Грасьен, сознавая, что никогда ничего не добьется от меня и что моя любовь принадлежит его брату; Грасьен, которого я все время видела в военной форме, надел одежду своего брата, и как раз ту самую, что была на Анри в тот день, когда я видела его в последний раз, и предстал передо мной в этом наряде.
Когда я увидела его таким, силы покинули меня; во мне осталась только моя любовь, и я была вся в ее власти.
Оба близнеца так были похожи друг на друга, что меня обмануло их сходство. Лишь на следующее утро Грасьен мне во всем признался.
— О! Презренный! — вскричал шевалье.
— Он не сам задумал все это, а уступил советам одного своего друга, которого звали Лувиль.
— Я знаю его! — воскликнул шевалье. — Продолжайте, дитя мое, продолжайте.
XXVI ГЛАВА, В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛА ГРАВЕРИ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
Тереза продолжила свой рассказ.
Все дальнейшее в этой истории было так же просто, как и печально; в двух словах мы расскажем ее читателю.
Грасьена, неспособного по своей воле совершить столь преступный обман, толкнул на него Лувиль.
Полк получил приказ сменить место постоянного расположения.
Лувиль дал понять Грасьену, что если тот покинет Шартр, не став любовником Терезы, то в этом случае будет затронута его честь.
Два молодых человека подстроили ловушку, в которой бедное дитя оставило свою честь.
В течение суток Тереза была во власти своего рода безумия: события, случившиеся в Париже, переплелись с теми, что произошли в Шартре.
Когда она пришла в себя, пожилая женщина, открывшая ей дверь и проводившая ее в эту роковую комнату, была около ее кровати.
Старуха сказала Терезе, что та может остаться в этой квартире, снятой для нее на год вместе с мебелью, которая теперь вся принадлежит ей.
Помимо этого, она должна была передать Терезе письмо от Грасьена и некоторую сумму денег.
Тереза сначала ничего не поняла из того, что ей говорили; до ее ушей доносились лишь невнятные бессвязные звуки.
Понемногу ее рассудок прояснился, и она все поняла.
Накануне вечером полк покинул город; Грасьен отбыл вместе со своим полком. Она была покинута! И в обмен на ее украденную честь ей предлагали комнату, мебель и деньги!
Бедная девочка закричала от стыда и горя, бросилась к изножью кровати, поспешно оделась, оттолкнула старуху, письмо и деньги и устремилась прочь из этого дома.
Но, оказавшись на улице, она должна была решить, как быть дальше.
Она не знала этого.
Вернуться к мадемуазель Франкотт?
Невозможно! Что сказать? Как объяснить свое отсутствие и свое возвращение? Какое объяснение придумать своему горю?
Она обшарила свои карманы.
У нее было при себе тридцать или сорок франков — это было все ее состояние.
Она обратила свои мысли к смерти; но мужество, поддерживавшее ее во время первой попытки самоубийства, полностью покинуло ее во втором случае.
Она шла наугад, не разбирая дороги, держась за стены, и была так бледна, что многие прохожие обращались к ней с вопросом:
— Что с вами, дитя мое?
— Ничего! — односложно отвечала Тереза.
И она продолжала свой путь.
В ее ответе чувствовалась такая боль, что ей уступали дорогу с некоторым почтением. В подлинном горе заключено свое величие.
Так она шла, спотыкаясь, не видя ничего и не зная, куда несут ее ноги.
Она добралась до предместья Ла-Грапп.
Вскоре слезы, скопившиеся у нее в груди, настойчиво заявили о своем желании излиться наружу, и Тереза, понимая, что она сейчас разрыдается, стала искать место, где можно было бы свободно поплакать.
Под рукой у нее оказалась калитка, и она толкнула ее.
Калитка открылась в темный, узкий и сырой проход.
Тереза вошла в него.
Едва она это сделала, как ее страдание вырвалось наружу и слезы градом покатились по щекам.
Это случилось вовремя: ее сердце готово было разорваться.
Сколько времени она проплакала так в этом проходе? Этого она не могла сказать.
Почувствовав, что она слабеет, и оглядываясь, куда бы присесть, Тереза увидела какую-то лестницу и села на первую ступеньку.
Из состояния оцепенения она вышла, почувствовав, что кто-то прикоснулся к ее плечу.
То была старая женщина, живущая в этом доме; возвращаясь к себе, она заметила, как в полумраке вырисовывается нечто похожее на силуэт человека.
Тереза подняла голову; она даже и не подумала вытереть слезы, катившиеся по ее прелестному лицу.
Это горе, такое искреннее, что невозможно было в нем обмануться, растрогало пожилую женщину.
Она участливо спросила у девушки, чем та занимается, чего бы хотела, и может ли она со своей стороны оказать ей какую-либо услугу.
Ответ Терезы состоял из полуправды-полулжи.
Девушка сказала, что она белошвейка, что хозяйка прогнала ее и теперь она ищет жилье.
Все это было вполне правдоподобно, кроме одного — того, что столь маленькая беда послужила причиной такого большого горя.
— Вы хорошая мастерица? — спросила старая женщина.
Тереза, ничего не отвечая, показала ей воротничок, который она вышила своими руками и носила на шее.
Это был подлинный шедевр.
— Полно! — сказала женщина. — Если с помощью иголки вы способны делать подобные вещи, то не стоит волноваться: голодная смерть вам не грозит.
Тереза ничего не ответила.
— Вы ищите жилье? — спросила старуха.
На этот раз Тереза утвердительно кивнула.
— Ну, что ж, в доме как раз сдается одна комната; она полностью обставлена и плата за нее не слишком высока. Черт возьми! Комната не так уж и хороша, но за восемнадцать франков в месяц нельзя требовать дворец. Но одно условие: за первые две недели придется заплатить вперед девять франков.
Тереза вынула из кармана две монеты по пять франков.
— Заплатите, — сказала она.
— Но вы даже не знаете, подойдет ли она вам? — спросила старуха.
— Она мне подойдет, — ответила Тереза.
— Хорошо, тогда идите за мной.
Старуха поднималась первой; Тереза шла за ней. Старуха остановилась на третьем этаже, где жила хозяйка дома.
Сделка состоялась очень быстро; хозяйка задавала своим жильцам только один вопрос: "Вы можете заплатить вперед?" — ничто другое ее не волновало. И если они отвечали "Да", то были желанными гостями.
Через десять минут Тереза уже разместилась в каморке, где ее позднее нашел шевалье де ла Гравери.
В тот же день, отложив некоторую сумму на питание, так, чтобы ее хватило на неделю, Тереза попросила пожилую женщину на все оставшиеся деньги купить ей кисею, иголки и нитки для вышивания.
Что касается вышивок, она имела привычку сама делать для них рисунки.
Через день старуха вышла из дома с воротничком и манжетами, вышитыми Терезой, и вернулась с десятью франками.
Тереза дала ей из них два франка за труды.
Бедное дитя подсчитало, что могло прожить на двадцать пять су в день, при этом зарабатывая по три франка.
Так что она могла не волноваться на этот счет, как ей об этом и говорила старуха.
Так продолжалось месяц.
За это время Терезе удалось отложить пятьдесят франков.
Однако вот уже несколько дней старуха вела с ней странные речи: она постоянно пускалась в рассуждения о том, как легко молоденькие девушки могут стать богатыми, как глупо она поступает, портя свои глаза работой на чердаке; потом она стала жаловаться, что спрос упал и ей уже не удается продавать столько, сколько она продавала в самом начале, и доход от рукоделия сократился наполовину.
Все эти высказывания оставляли Терезу безразличной; даже если доход, приносимый работой, сократился наполовину, ей и этого хватило бы на жизнь.
Наконец однажды вечером старуха высказалась более ясно: она заговорила о молодом человеке, который видел Терезу, влюбился в нее, обещал снять для нее квартиру и делал намеки…
Тереза подняла побледневшее лицо и с непередаваемым выражением отвращения и решимости произнесла:
— Я поняла вас. Убирайтесь! И чтобы я вас больше не видела.
Старуха попыталась настаивать, потом стала оправдываться, извиняться, но Тереза, столь же гордая в своей каморке, как какая-нибудь королева у себя во дворце, вторично приказала ей покинуть комнату и на этот раз таким повелительным тоном, что та вышла, опустив голову и бормоча:
— Черт возьми! Кто бы мог подумать!
С этого дня Тереза лишилась своего посредника и была вынуждена сама обходить владелиц бельевых магазинов Шартра, предлагая им свою работу.
Те, узнав в ней старшую продавщицу из магазина мадемуазель Франкотт, стали делать ей разного рода предложения, чтобы она заняла у них такое же место, какое занимала ранее у известной модистки; но Тереза не хотела выставлять себя напоказ за прилавком.
К тому же она заметила, что беременна, и в ее состоянии ей следовало жить незаметно и в полном одиночестве.
Так она проводила свои дни до того времени, как в Шартр вошла холера. Бедняжка Тереза стала сестрой милосердия в своем бедном предместье.
И однажды утром, когда она поднялась, чтобы прийти на помощь своей больной соседке, ее собственные силы вдруг изменили ей.
Черный ангел, пролетая, задел ее своим крылом.
Мы видели, в каком состоянии ее нашел шевалье.
Такова была история Терезы.
Вот уже пять месяцев она не видела Грасьена и ничего о нем не слышала.
Что касается кольца, которое девушка носила на пальце, то она ничего не могла сказать о нем, кроме того, что оно было ей дано с наказом тщательно хранить его как талисман, который однажды поможет ей найти свою семью.
Господин де ла Гравери с благоговейным вниманием выслушал рассказ Терезы. Когда она заговорила о потере Блека, шевалье почувствовал, как краска бросилась ему в лицо; затем, когда он оценил, какие ужасные последствия имела для девушки эта пропажа (ведь, воспользовавшись отсутствием Блека и под предлогом того, что ей хотят вернуть ее собаку, Терезу заманили в ловушку, где она потеряла свою честь и, вероятнее всего, свое счастье), его охватило подлинное раскаяние и, пожимая и целуя руки девушки, он опустился на колени.
— Тереза! Тереза! — говорил он. — Добрый Бог милостив; он порой дарует нам испытания, дитя мое, но поверь мне, не случайно его сострадание послало меня на твоем пути, и я клянусь, что с сегодняшнего дня посвящу всю свою жизнь твоему счастью.
— Увы! — ответила Тереза, ничего не понимая в этом порыве шевалье. — Мое счастье! Вы забываете, сударь, что для меня больше нет счастья… Моим счастьем была бы жизнь с Анри, а я навечно разлучена с ним.
— Хорошо, хорошо! — с доверчивым выражением ликующего человека произнес шевалье, убежденный, что удача, благодаря которой он столь неожиданно нашел дочь Матильды, не может отвернуться от него на полдороге. — Хорошо! Мы уладим все это. Черт возьми! На свете есть не только господин Анри, есть также его брат, господин Грасьен.
— Это не будет счастье, — сказала Тереза, — это будет искупление; только и всего.
— Ну и что же, — заметил шевалье, — однако мне кажется, что это было бы уже кое-что.
Тереза покачала головой.
— Неужели вы думаете, что молодой человек, такой знатный и такой богатый, как он, когда-нибудь согласится жениться на такой бедной мастерице, как я? Я послужила ему лишь игрушкой, только и всего. Верите ли вы, что он когда-нибудь осмелился бы нанести дочери графа или маркиза, у которой есть отец или братья, способные за нее отомстить, такое оскорбление, которое он нанес, ни на минуту не задумавшись, бедной сироте?
Шевалье почувствовал, как стрела пронзила ему сердце; его глаза вспыхнули; впервые желание мести проснулось в нем.
Никогда по отношению к г-ну де Понфарси он не испытывал ничего подобного тому, что вдруг почувствовал по отношению к Грасьену.
Он с некоторой радостью вспомнил, что во время путешествия в Мексику научился довольно ловко стрелять, попадая два раза из трех в зеленых попугайчиков, тогда как Дюмениль, однако, бил без промаха.
Затем машинально он сделал тот знаменитый обманный выпад, что представлял собой секретный удар, которому его научил капитан (сам он перенял его у учителя фехтования в Неаполе).
Почему вдруг такое пришло ему на память? Почему, стиснув зубы, он вспомнил это? Шевалье не мог себе этого объяснить, но все же он думал об этом.
Тереза лежала молча и в полном изнеможении; она не заметила ни того, как лицо шевалье нахмурилось на мгновение, ни движения руки, когда он проделал в воздухе свой секретный удар.
Этот разговор совершенно истощил все ее силы, и после того как она произнесла свои последние слова, которые мы только что привели, ею вновь овладел приступ того сухого и глубокого кашля, что однажды так взволновал г-на де ла Гравери.
Шевалье решил, что он в другой раз попросит рассказать ему все оставшиеся подробности, если ей еще было что рассказать.
Он обратил внимание на то, что, говоря и об Анри и о Грасьене, Тереза ни разу не произнесла их фамилии, называя их только именами, данными им при крещении.
Но, чтобы найти Грасьена в тот час, когда у него возникнет необходимость объясниться с ним, шевалье не обязательно было знать его фамилию: ему было известно, в каком полку служил молодой человек, в военном министерстве легко было выяснить, в каком городе этот полк расквартирован теперь, а лицо Грасьена и лицо его собеседника Лувиля достаточно глубоко запечатлелись в его памяти, так что он несомненно узнал бы их с первого же взгляда.
Но шевалье считал, что прежде всего он сейчас должен убедиться в подлинности надежд, основанных им на тайне, которая окружала рождение Терезы; он нашел в этом неведомом ранее чувстве, внушаемом ему девушкой, столь целомудренное наслаждение, столь глубокое очарование и такую притягательную силу, что спешил узаконить эти радости, чтобы полностью насладиться тем счастьем, которое могло подарить ему это чувство.
Однако прежде всего здоровье Терезы должно было поправиться настолько, чтобы шевалье, покидая ее и отправляясь на свои поиски, не испытывал никакого беспокойства по поводу если не ее здоровья, то, по крайней мере, ее жизни.
XXVII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛА ГРАВЕРИ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВЗВОЛНОВАН ТЕМ СКАНДАЛОМ, КОТОРЫЙ ОН ВЫЗВАЛ В ДОБРОДЕТЕЛЬНОМ ГОРОДЕ ШАРТРЕ
И все же в таком городе, как Шартр, столь знаменательное событие, как водворение молодой девушки в жилище старого холостяка — лица достаточно значительного как по его происхождению, так и по его состоянию, — не могло пройти незамеченным. Каждый высказался поэтому поводу, и через неделю толки придали случившемуся поистине гигантские размеры и полностью исказили его смысл.
Шевалье де ла Гравери, чье поведение уже вызывало подозрение из-за тех чудаческих выходок, которые его заставил наделать Блек, за несколько дней вследствие обычных обывательских сплетен превратился в ужасного и безнравственного человека: соблазнив молодую девушку, он не удовольствовался этим и не постыдился вызвать публичный скандал своим незаконным с ней сожительством под одной крышей; с таким человеком ни один мало-мальски уважающий себя горожанин не мог ни водить почтенное знакомство, ни раскланиваться при встречах.
Как только состояние ее здоровья стало улучшаться, Тереза начала заботиться о том, что могло бы доставить удовольствие шевалье, которого она считала своим благодетелем и готова была полюбить как отца.
Поэтому она потребовала, чтобы он возобновил свои ежедневные прогулки, необходимые, как она полагала, для его здоровья. В свою очередь шевалье, радуясь этой нежной, такой приятной и желанной зависимости, аккуратно выполнял все пожелания девушки и, подобно хорошо отлаженному механизму, работа которого на мгновение была нарушена и который сразу, как только восстановилось его равновесие, возобновляет свой обычный ритм, стал, как и раньше, посвящать два часа между обедом и ужином прогулке по валам.
Но только отныне он совершал эту прогулку в компании Блека, и тот, разделяя все чувства своего хозяина, казалось, был если не самой счастливой, то, по крайней мере, одной из самых счастливых собак на всем свете.
Мы уже говорили, что шевалье остановился на самом важном и неотложном деле: он решил прежде всего проникнуть в тайну рождения Терезы.
Принять это решение было не таким уж легким делом для человека, чья жизнь до сих пор протекала в беззаботной и равнодушной дреме; вот почему, приняв решение по существу, он должен был еще придумать, каким образом оно будет выполнено.
И именно этим мыслям шевалье предавался во время своих прогулок.
Что же он мог сделать, что же он должен был делать, чтобы достигнуть поставленной цели?
Он пребывал в состоянии крайней озабоченности, и только лишь проделки и ласки Блека были способны отвлечь его от этих размышлений.
Поэтому шевалье не замечал, с какой грубой нарочитостью все, даже те, кто чаще других был когда-то его гостем, притворялись, когда он проходил рядом с ними, что не видят его, стремясь тем самым избежать необходимости приветствовать его.
Тем не менее однажды, будучи менее рассеянным, чем обычно, шевалье, церемонно раскланявшись с богатой пожилой вдовой, занимавшей почетное место среди прихожан обители Нотр-Дам, обратил внимание, что та всего лишь сухо кивнула в ответ на его приветствие, а ее лицо вытянулось в многозначительной презрительной гримасе; в этот день г-н де ла Гравери вернулся к себе сильно встревоженный.
Как все, чья жизнь проходит в замкнутом мирке, он был весьма озабочен тем, что об этом скажут, и при мысли, что может потерять уважение общества, он почувствовал, как у него кровь стынет в жилах.
У него недостало ни сил, ни умения владеть собой, чтобы скрыть свое беспокойство от Терезы, и та весьма хитро сумела с помощью разного рода вопросов раскрыть причину его расстройства.
Шевалье рассказал ей, не вдаваясь в подробности и какие-либо объяснения, о невежливом поведении вдовы.
— Вы видите, дорогой мой и добрый господин, — вскричала девушка, — что моя печальная участь отражается на всех, кто принимает во мне участие, но я больше не потерплю, чтобы вы и дальше были ее жертвой!
— Как так? — тревожно спросил шевалье.
— Да, — продолжала Тереза, — благодаря вашим заботам я выздоровела и могу вновь взяться за работу. Я покину ваш дом, но прошу разрешения время от времени навещать вас, чтобы отблагодарить за все, что вы сделали для меня, и доказать вам, что я никогда не забуду, что обязана вам жизнью.
Шевалье побледнел.
— Покинуть! — воскликнул он. — Оставить меня одного! Вы не подумали об этом, Тереза! Боже мой, как же я буду жить один?!
— Но разве до знакомства со мной, — спросила Тереза, — вы не жили один?
— Да, до встречи с вами, полагаю, я жил именно так, — ответил шевалье. — Но с тех пор как я вас узнал, я почувствовал к вам нежную привязанность и теперь не могу жить без вашего присутствия. О! — произнес шевалье, с печалью возвращаясь в прошлое. — Я тоже любил: сначала вашу…
Он замолчал.
Тереза смотрела на него с удивлением.
— … сначала женщину, — продолжил шевалье. — Я так ее любил, что думал, умру, когда она…
— … когда она умерла? — спросила Тереза.
— Да, — подхватил шевалье, — когда она умерла… Ведь измена, предательство, забвение — это та же смерть, дитя мое.
— О! Мне это хорошо известно, — воскликнула, заплакав, Тереза.
— Ну вот, — сказал шевалье, ударив себя кулаком по лбу. — Вот я и заставил ее плакать, и это теперь! Но, проклятье, неужели я такое грубое животное?
— Нет, нет, нет! Вы самый лучший из людей, и если уж вас заставляли страдать, вас, то никто тогда не имеет права требовать, чтобы его избавили от страданий, уготованных человеку!
— Да, — с грустью произнес шевалье. — Я перенес много страданий, бедное мое дитя! К счастью, у меня был друг… О! Я так его любил и все еще продолжаю любить, не правда ли, Блек?
Блек, который как раз в это время смотрел на шевалье, словно догадавшись, что речь идет о нем, подошел на зов своего хозяина; тот взял его двумя руками за голову и нежно поцеловал.
Тереза пыталась угадать, какая связь может быть между Блеком и другом шевалье, о котором шла речь, и спрашивала себя, каким образом Блек может быть призван в свидетели этой дружбы.
Но это была такая задача, какую ей не по силам было решить и какую сам шевалье вряд ли смог бы ей вразумительно разъяснить.
Господин де л а Гравери на некоторое время погрузился в созерцание Блека.
Затем, с удвоенной энергией принявшись расточать ласки животному и одаривать нежными взглядами Терезу, он неожиданно произнес:
— Нет, мой бедный Дюмениль, нет, будь спокоен! Я никогда не оставлю ее… Даже если весь Шартр решил бы отвернуться от меня, а все вдовы мира захотели бы состроить мне гримасу.
Тереза смотрела на шевалье с некоторым испугом.
Неужели этот человек, такой добрый, был подвержен безумию? Во всяком случае, безумие г-на де ла Гравери явно носило очень мягкий и добрый характер, и Тереза сказала самой себе, что она никогда не будет бояться шевалье.
Она заговорила первой.
— Но, однако, это необходимо сделать, господин шевалье.
Шевалье вышел из своей задумчивости.
— Что? Что необходимо сделать, дитя мое? — спросил он с великой нежностью.
— Я должна уйти от вас.
— Ах, да, правда, — промолвил г-н де ла Гравери, — вы мне говорили об этом. А я вам отвечал: "Тереза, мое возлюбленное дитя, неужели вы думаете, что я отныне смог бы жить без вас, совсем один? Но подумайте, дорогое дитя, о том одиночестве, в котором оставит меня ваш уход!"
— Я подумала обо всем этом, господин шевалье, и, как ужасная эгоистка, прежде всего думаю о том, как больно мне самой будет расстаться с вами; но эта разлука необходима. Когда меня здесь не будет, вы опять сблизитесь с друзьями, отвернувшимися от вас сейчас; когда мое присутствие перестанет тревожить вашу жизнь, вы вновь вернетесь к вашим мирным привычкам.
— Тревожить! Тревожить мою жизнь, неблагодарный ребенок! Но тогда выслушай одно признание: это с той поры, как…
Шевалье тяжело вздохнул, потом вновь заговорил:
— Я узнал счастье лишь с той минуты, как ты вошла в этот дом.
— Грустное счастье! — возразила ему Тереза, улыбаясь сквозь слезы. — Потрясения, постоянные волнения, мучения, бесконечные переживания; ведь и во время моей болезни, находясь в полном оцепенении и даже бреду, я все же видела, что вы заботитесь о моей жизни, как будто бы вы действительно были моим отцом!
— Вашим отцом! — вскричал шевалье. — Как будто бы я действительно был вашим отцом! А кто вам сказал, что я им не был?
— О сударь, — сказала, вздохнув, Тереза, — это ваша доброта ко мне толкает вас на этот великодушный обман; но он не сможет ввести меня в заблуждение. Если бы вы были моим отцом, если бы были связаны со мной узами какого-нибудь родства, разве вы, вы, такой богатый и счастливый, смогли бы позволить, чтобы мое детство прошло в лишениях и нищете? А в юности разве я осталась бы без поддержки, без советов, без любви того, кому обязана своим появлением на свет? Нет, сударь, нет… Увы! Я для вас всего лишь посторонняя; вы подобрали меня из сострадания, а ваше чувство милосердия к тем, кому приходится страдать, внушило вам мысль удочерить меня; но, несомненно… но, к несчастью… — прибавила она, покачивая головой, — я не ваша дочь.
Шевалье опустил глаза и склонил голову; все сказанное девушкой он воспринимал как упрек себе; в глубине души он проклинал свою беспечность, когда он доверил своему брату позаботиться о том, что касалось будущего г-жи де ла Гравери; он презирал себя за то, что из-за мелочного инстинкта самосохранения бежал от повседневных забот, наполняющих жизнь каждого человека; и наконец, он спрашивал себя, как он мог прожить столько долгих лет, не позаботившись узнать, что стало с той, которая была его женой, и с ребенком, который, несмотря ни на что, имел право носить его фамилию.
Этот разговор и особенно последовавшие за ним размышления сильно подтолкнули шевалье, чьи колебания объяснялись его ленью; он трепетал от страха, как бы Тереза, поддавшись нашептываниям своей утонченной щепетильности, не выполнила бы своего решения, и доброе сердце шевалье, не постаревшее вследствие долгого безмятежного существования г-на де ла Гравери, так пылко отозвалось на эту новую привязанность, что он представлял себе разлуку с девушкой с таким же ужасом, как будто речь шла о его близкой смерти.
В конце концов он решил, чего бы это ему ни стоило, совершить поездку в Париж.
Целью этого путешествия было найти старшего брата, чтобы узнать от него, что сталось с г-жой де ла Гравери и с ребенком, которым она была беременна, когда шевалье покинул ее.
Но оставить свой дом, свои милые привычки, свой сад, в эту пору такой свежий и благоухающий, — для этого надо было совершить усилие, на какое вот уже несколько месяцев шевалье был совершенно неспособен. Теперь, когда ему пришлось бы оставить здесь две привязанности, поселившиеся в его столь долго пустовавшем сердце, — Терезу и Блека, — наш добряк все же отважился на это, ибо в нем произошли огромные перемены, но, отважившись на это, он сам ощущал себя великим героем, и только надежда навсегда обеспечить себе казавшееся ему столь сладостным счастье заставила его принять такое суровое решение.
Итак, решение было принято, оставалось приступить к его исполнению.
Но именно здесь и начались трудности.
Каждый день шевалье говорил себе:
— Это будет завтра.
Приходило завтра, и шевалье, так и не заказавший себе место в мальпосте, говорил:
— Или мне вообще не достанется места, или я буду вынужден ехать, сидя спиной к дороге.
А ехать так в экипаже было непереносимо для шевалье.
Задержка была не в чемодане; он купил себе совершенно новый чемодан, размеры которого соответствовали правилам провоза багажа в мальпосте; он сложил туда и белье и одежду; с таким чемоданом он мог бы вернуться на Папеэте.
Но чемодан, полностью собранный, продолжал стоять в углу комнаты.
Оставалось всего лишь опустить крышку и повернуть ключ в замке. Но шевалье не делал ни того ни другого; шевалье в конце концов никуда не ехал.
Впрочем, это ему не мешало каждый день повторять, целуя Терезу и лаская Блека:
— Мои бедные друзья, вы знаете, что завтра я уеду.
XXVIII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПАРИЖ
В один из дней, когда Тереза чувствовала себя хуже, чем в предыдущие дни, шевалье, у которого на этот раз был благовидный предлог не вспоминать о своей поездке в Париж, провел весь день у ее постели, ухаживая за больной; она легла спать около семи часов вечера, взяв с шевалье обещание, что он при лунном свете отправится на прогулку, которую не смог совершить, когда сияло солнце.
Шевалье обещал.
И поскольку эта ежедневная прогулка действительно была необходима для его здоровья, а погода была просто великолепна и Блек, так же как и Тереза, просил его о том же, виляя хвостом и подбегая к двери, шевалье взял перчатки, трость и шляпу и вышел.
Не стоит и говорить, что ночью, как и днем, для шевалье де ла Гравери не существовало другого маршрута для прогулки, кроме окружного городского бульвара.
Поэтому он направился в сторону валов.
В половине десятого прогулка вокруг города привела его на улицу Белой Лошади.
Выходя с этой улицы на Соборную площадь, он заметил мальпост, у которого меняли лошадей.
— Ах! — сказал шевалье. — Если бы Терезе сегодня не стало хуже, то я бы смог, пользуясь случаем, заказать себе место до Парижа.
И он машинально подошел к мальпосту.
Почему он подошел к мальпосту?
О! Хороший вопрос!
Все провинциалы, в большей или меньшей степени фланёры: дилижанс, у которого перепрягают лошадей, или подъехавшая вновь карета обладают для их праздности такой притягательной силой, что сама почтовая станция или же прилегающие к ней кафе во многих городах служат местом встреч всех праздношатающихся бездельников; разглядывать незнакомые лица, строить догадки, распускать сплетни, шла ли при этом речь об облаках, о грохоте колес по мостовой, позвякивании бубенчиков, ругани кучеров, лае собак — все служило развлечением для пустых и набитых всякой чепухой голов; отъезд и прибытие, или, точнее, прибытие и отъезд пассажиров составляли целые непредвиденные главы в книге провинциального существования, и г-н де ла Гравери был слишком сильно привержен традиции, чтобы упустить удачу, которую ему посылал случай.
Так что он подошел к государственному экипажу в ту минуту, когда работник, служивший на конюшне, только что присоединил последнюю постромку, кучер собрал вожжи и щелкал кнутом, чтобы лошади были начеку и ждали сигнала к отправлению, который вот-вот должны были дать.
Кондуктор с портфелем под мышкой поспешно протиснулся между г-ном де ла Гравери и каретой, взобрался на свое место под навесом и крикнул кучеру:
— В дорогу!
Кучер хлестнул лошадей, карету тряхнуло, и от толчка плохо закрытая дверца распахнулась.
Блек уже некоторое время стоял напротив кареты, широко раздувая ноздри и вбирая в себя все запахи, доносившиеся изнутри, и делал, так сказать, стойку.
Этот интерес, который Блек, похоже, по какой-то неизвестной причине выказывал, обеспокоил шевалье.
Но его беспокойство переросло в удивление, когда на его глазах Блек через открывшуюся дверь запрыгнул внутрь кареты и стал всячески ласкаться к одному из пассажиров, закутанному в широкий утепленный плащ; силуэт этого человека вырисовывался в глубине мальпоста, где он устроился в самом удаленном от шевалье углу кареты, привалившись к стенке.
Отметим, следуя ходу событий, что удивление шевалье переросло в невероятное изумление, когда из-под плаща показалась рука, с силой потянула на себя дверцу и повернула ее ручку; эти действия сопровождались словами:
— А, так это ты, Блек?
Мальпост отъехал.
При стуке колес, щелканье бича, при виде удалявшегося мальпоста, увозившего его друга, шевалье де ла Гравери пришел в себя. Карета была уже в двадцати шагах от него.
— Но у меня забирают Блека! — закричал он. — У меня похищают моего Блека! Кондуктор! Кондуктор!
Грохот колес тяжелого экипажа по мостовой заглушил голос шевалье, и этот призыв не достиг ушей того, кому он был адресован.
В отчаянии, что он теряет свою собаку, испытывая уколы ревности из-за того, что Блек в его присутствии отдал такое явное предпочтение какому-то незнакомцу, заинтригованный тайной, которая скрывалась за этим неожиданным знакомством, и, предполагая, что эта тайна может заинтересовать Терезу, шевалье даже не подумал ни о своем возрасте, ни о первых признаках подагры, что порой причиняла ему боль в ногах, и храбро бросился в погоню за мальпостом.
Но мальпост со своими четырьмя лошадьми имел шестнадцать ног, и все шестнадцать были сильными, крепкими и здоровыми, в то время как одна из тех двух, что были в распоряжении шевалье, была несколько повреждена. И он никогда не смог бы не только догнать мальпост, но даже и приблизиться к нему, если бы не двухколесная тележка, въезжавшая в ворота Шатле как раз в то время, когда почтовая карета собиралась покинуть город, и задержавшая ее на несколько минут.
Шевалье де ла Гравери воспользовался этим препятствием, догнал мальпост, вспрыгнул на подножку и одной рукой уцепился за дверь, а другой за ремень.
Сказать хоть что-нибудь было выше его сил: преследуя карету, бедняга задохнулся до такой степени, что не в состоянии был вымолвить ни одного слова; однако, взобравшись на подножку, он успокоился; теперь, как бы быстро ни ехала карета, он будет следовать вместе с ней; впрочем, он знал, что через четверть льё отсюда, на выезде из предместья Лев, мальпосту придется преодолевать гору, а лошади сумеют взобраться по ее крутому склону лишь шагом или, в лучшем случае, мелкой рысью.
К тому времени, он, очевидно, уже переведет дух и сможет предъявить свои претензии.
Все случилось так, как и предвидел шевалье: проехав километр на подножке мальпоста, он пришел в себя, дыхание его восстановилось, а лошади, достигнув подножия горы, перешли сначала с галопа на мелкую рысь, а затем с мелкой рыси на шаг.
Вот уже в течение некоторого времени, между тем как шевалье заглядывал внутрь кареты, Блек выглядывал из нее наружу и, опираясь передними лапами на подоконник дверцы, наполовину высунув голову из кареты, вдыхал ночной воздух со спокойствием и безмятежностью путешественника, напротив фамилии которого в списке кондуктора значится: "Уплачено".
Господин дела Гравери в конце концов хотел лишь вернуть свою собаку и предпочитал сделать это без особых споров; он спрыгнул с подножки мальпоста, упал на проезжую дорогу и в надежде, что животное поступит так же, как он, позвал:
— Блек!
Блек в самом деле сделал попытку выскользнуть, но сильная рука удержала его за ошейник и, хотел он того или нет, втащила обратно в карету.
— Блек! — повторил шевалье, с силой и настойчивостью, оставлявшими Блеку лишь один выбор: или немедленно повиноваться, или полностью проигнорировать этот зов.
— Ах, вот как! — произнес голос внутри кареты. — Сейчас же перестаньте звать мою собаку, или вы хотите, чтобы она сломала себе позвоночник о мостовую?
— Как это вашу собаку? — вскричал ошеломленный шевалье.
— Конечно, мою собаку, — повторил голос.
— О! Вот это здорово! — воскликнул шевалье. — Блек принадлежит только мне, мне одному, слышите вы, сударь!
— Ну, что же, если он ваш, то это значит, что вы его украли у его хозяйки.
— У его хозяйки? — повторил шевалье, удивление которого достигло крайней степени; при этом он по-прежнему продолжал семенить рядом с каретой. — Не могли бы вы назвать мне имя этой хозяйки?
— Послушай, — сказал другой голос, — прими, наконец, какое-нибудь решение: или отдай этому старому дураку его собаку, или пошли его подальше; но — тысяча чертей! — давай спать! Ночь создана для сна, особенно когда путешествуешь в мальпосте.
— Хорошо, — ответил первый голос, — я оставляю Блека.
Этот новый вызов произвел на шевалье действие электрического удара.
Его нервы, уже раздраженные бегом, в который ему пришлось пуститься, сжались в комок, и, не думая о двойной опасности, которой он мог подвергнуться, затевая ссору на большой дороге и цепляясь за мальпост, с минуты на минуту способный сорваться в галоп, он схватил ключ и попытался открыть дверцу; видя, что это ему не удается, шевалье взобрался на подножку и оказался на уровне окошка, пропускавшего внутрь кареты свежий воздух.
— А! — закричал он. — Значит, я старый дурак! А, вы оставите себе Блека! Ну, это мы еще посмотрим!
— О! Это будет видно очень скоро, — произнес тот из двух пассажиров, кто, похоже, был сторонником крайних мер.
И, схватив шевалье за воротник, он грубо толкнул его назад.
Однако желание сохранить животное, которым он так сильно дорожил и в отношении которого питал такое странное суеверие, удвоило силы шевалье, и, как бы резок ни был толчок, он не только не заставил его разжать руки, но, казалось, даже ничуть не поколебал.
— Берегитесь, сударь! — произнес шевалье со своеобразным достоинством. — Среди благородных людей или среди военных…
— Что одно и то же, сударь, — парировал обидчик.
— Не всегда, — ответил шевалье. — Среди благородных людей или среди военных, кто замахивается, тот бьет!
— О, как вам угодно, — сказал молодой человек. — Если вас может удовлетворить только это, то признаю, что я на вас замахнулся… или ударил, как вам больше нравится.
Шевалье уже собирался достать из кармана карточку и ответить на вызов, он уже даже приступил к ее поискам, когда молодой человек, казалось призванный играть роль миротворца, воскликнул:
— Лувиль! Лувиль! Ведь это старик!
— Ну и что! Какая мне разница, кто меня будит, когда я сплю, тысяча чертей! Этот человек не будет для меня ни юношей, ни стариком, он будет моим врагом.
— Этот старик, господин офицер, — сказал шевалье, — такой же офицер, как и вы; и к тому же кавалер ордена Святого Людовика… Вот моя визитка.
Но карточку взял тот молодой человек, что, судя по голосу, не желал ссоры, и, отодвинув своего друга из одного угла в другой, сказал:
— Послушай, сядь на мое место, а я пересяду на твое.
Офицер-грубиян, ворча, послушался.
— Я прошу вас, сударь, простить моего товарища: обычно он ведет себя как хорошо воспитанный человек; но насладиться благими результатами полученного им воспитания можно лишь тогда, когда он бодрствует; в данную минуту, к несчастью, он во власти сна.
— И слава Богу! — сказал шевалье. — Его общество не слишком приятно. Но вы, сударь, вы со своей стороны заявили: "Я оставляю Блека".
— Да, я сказал именно это.
— Так вот, а я вам говорю: отдайте мне Блека; я требую Блека; Блек принадлежит мне.
— У вас столько же прав на Блека, как и у меня, ничуть не больше.
Произнося эти слова, путешественник слегка высунулся и оказался лицом к лицу с шевалье, и тот, уже испытавший сильнейшее удивление при упоминании о хозяйке Блека, испустил крик изумления, узнав молодого человека.
Это был Грасьен, виновник несчастья Терезы, совершивший в отношении ее страшное преступление; вторым же офицером был тот, кто толкнул его на этот шаг.
Потрясение, испытанное шевалье, было так велико, что некоторое время он не мог вымолвить ни слова.
Казалось, случившееся с ним было предопределено самой судьбой.
И первым его порывом было выразить свою благодарность Блеку. Схватив его обеими руками, подтащив морду собаки к своим губам, беспрестанно целуя его, шевалье закричал:
— О! На этот раз больше не может быть никаких сомнений, это ты, мой славный Дюмениль! Да! Безусловно, это ты! Ты помог мне найти моего ребенка, а теперь ты хочешь помочь мне вернуть ей честь и обеспечить ее будущее.
— Клянусь рогами дьявола! — вскричал второй офицер, посчитавший свое обычное ругательство недостаточным для столь необычных обстоятельств. — Этот человек сошел с ума, и я сейчас позову кондуктора, чтобы он сбросил его с подножки. Кондуктор! Кондуктор!
— Лувиль! Лувиль! — повторял его друг, заметно раздосадованный этой грубостью; она тем более его рассердила, что теперь со слов самого шевалье он знал, что они имеют дело с дворянином.
Но кондуктор услышал, что его звали.
Он обернулся назад из-под навеса и, увидев человека, уцепившегося за дверцу мальпоста, принял его за грабителя, приставившего пистолет к горлу пассажиров.
Не останавливая лошадей, он спустился вниз и резко толкнул шевалье.
— О-о! — произнес тот. — Не будьте так грубы, Пино!
Пино был одним из тех, кто поставлял съестные припасы для стола шевалье в то время, когда шевалье еще думал о своей кухне. Пино, пораженный, отступил назад.
— Ну, да, — продолжал шевалье, — мы, кажется, с вами старые знакомые, будь я проклят!
Пино уже стал узнавать шевалье, а услышав его любимое ругательство, он узнал его окончательно.
— Вы, господин шевалье, на дороге в этот час? — вскричал он.
— Безусловно, это я.
— Да, я вижу, что это вы!.. Но кто бы мог такое ожидать? Значит, вы больше не боитесь ни жары, ни сквозняков, ни сырости, ни ломоты в теле?
— Я не боюсь больше ничего, Пино, — сказал шевалье, который, будучи в состоянии нервного возбуждения, в самом деле мог бы подобно Дон Кихоту вызвать на бой ветряные мельницы.
— Но к кому у вас дело здесь, на проезжей дороге?
— К вам, Пино.
— Как? Ко мне?
— Да, да, да! К вам! Я прошу вас, Пино, остановите мальпост и позвольте мне десять минут поговорить с этим господином.
— Невозможно, господин шевалье.
— Ради меня, Пино…
— Даже ради Господа Бога я сказал бы нет!
— Как! Ради Господа Бога ты сказал бы нет?
— Конечно; разве я не должен прибыть точно по расписанию?.. А из-за этой остановки мой дилижанс опоздает. Но давайте сделаем лучше…
— Что ж, посмотрим…
— У меня в карете четыре места; из них заняты всего лишь два; залезайте внутрь, вы высадитесь в Ментеноне, а оттуда уж вас заберет обратно утренний мальпост.
— Как? Чтобы я встал в два часа ночи?! Нет, Пино, это против моих правил, друг мой. И все же в твоем предложении есть нечто весьма разумное; мне необходимо съездить в Париж; но изо дня в день я откладывал эту поездку. Ну, что же, я сейчас сяду в твою карету и доеду в ней до Парижа.
— Вам необходимо поехать в Париж? Вы доедете до Парижа? И вы не заказали себе в конторе заранее, как положено, за неделю, место, чтобы быть твердо уверенным, что это будет угол и что вам не придется ехать, сидя спиной к дороге? Клянусь, это правда, господин шевалье, вас невозможно узнать! Ну, что ж, садитесь, прошу вас, — продолжал Пино, нажимая на пружину и открывая дверцу, которую шевалье не смог открыть. — По правде говоря, если бы один из этих молодых людей был бы красивой девушкой, такой, как та, которую вы приютили у себя, я бы понял, что происходит; и только необходимость делать четыре льё в час, дабы начальство осталось довольно, удерживает меня от того, чтобы выведать у вас разгадку этого секрета.
Господин де ла Гравери забрался в мальпост и, едва переводя дух, упал на переднее сиденье, в то время как Блек, которому его похититель предоставил свободу, встал перед ним на задние лапы, опершись передними о его колени, и, хотел того шевалье или нет, принялся лизать ему подбородок.
XXIX О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В МАЛЬПОСТЕ И КАКОЙ ТАМ СОСТОЯЛСЯ РАЗГОВОР
Оба офицера без возражений позволили шевалье де ла Гравери расположиться в мальпосте.
Лувиль, завернувшись в плащ и основательно устроившись в своем углу, даже сделал вид, что спит или притворяется спящим.
Грасьен, напротив, с вниманием, к которому примешивалось любопытство и беспокойство, следил за всеми движениями шевалье.
Казалось, молодой человек догадался, что за этой мирной наружностью скрывается враг тем более опасный, что этого нельзя было сказать, судя по его внешности.
Поэтому, едва шевалье уселся, как Грасьен пожелал продолжить разговор.
Но шевалье остановил его движением руки.
— Обождите, сударь, — сказал он, — пока я отдышусь и приду в чувство. Признаюсь, мне непривычны подобные испытания и переживания; вскоре мы с вами поговорим, ведь, похоже, вы этого желаете, но, возможно, это будет гораздо более серьезный разговор, чем вы того ожидаете. Черт! Пино оказал мне важную услугу, остановив свой дилижанс; я чувствовал, что силы уже почти оставляют меня, и уже предвидел ту минуту, когда мне пришлось бы выпустить ручку и упасть на дорогу. А это в моем возрасте не прошло бы бесследно.
— В самом деле, сударь, вы уже недостаточно молоды, чтобы предаваться подобным упражнениям.
— Сам я могу сказать такое о себе, сударь, но вам я не позволю делать мне подобные замечания, слышите вы?
— Ей-Богу, если вы не безумец, — вскричал Грасьен в ответ на этот выпад, — то тогда, по меньшей мере, вы занятный оригинал!
— Он сумасшедший, — проворчал Лувиль из глубины своего плаща.
— Сударь, — сказал шевалье, отвечая на замечание Лувиля, — с вами я не имею никакого дела и нисколько не желаю его иметь; по крайней мере в данную минуту лишь к одному господину Грасьену я имею честь обращаться и лишь одному ему я такую честь оказываю.
— О-о! — произнес Грасьен. — Похоже, вы меня знаете, сударь?
— Прекрасно знаю, и уже довольно давно.
— Но все же не со времен коллежа, надеюсь? — смеясь, спросил молодой человек.
— Сударь, — ответил шевалье, — я желал бы, чтобы вы в коллеже ли или где-то в другом месте получили бы такое же воспитание, как и я; вы тогда многое бы выиграли и в плане учтивости, и в плане нравственности.
— Браво, шевалье! — заметил, смеясь, Лувиль. — Ну-ка, проберите как следует этого негодяя.
— Я это сделаю с тем большим удовольствием и чистосердечием, сударь, что у вашего друга, несмотря на плохое воспитание, сердце осталось добрым и справедливым, и это мне дает некоторую надежду на успех…
— В то время как у меня…
— Я не стал бы пытаться исправлять сердце в большей степени, чем фигуру; полагаю, что и там и там укоренилась дурная привычка и что я прибыл слишком поздно.
— Браво, шевалье! — в свою очередь, воскликнул Грасьен, в то время как Лувиль, прекрасно понявший намек шевалье, делал вид, что безуспешно пытается разгадать смысл сказанного. — Браво! Это шпилька по твоему адресу, положи ее себе в карман!
— Да, если там еще есть место, — вставил шевалье.
— Ах, так! — сказал Лувиль, покручивая ус. — Уж не сели ли вы, случайно, в мальпост только для того, чтобы позубоскалить?
— Нет, сударь; я сел в него, чтобы серьезно поговорить; вот почему я прошу вас оказать мне любезность и не вмешиваться в нашу беседу, так как, повторяю вам это, у меня есть дело к господину Грасьену, вашему другу, а не к вам.
— Ну что же, значит, мне в таком случае придется беседовать с Влеком? — заметил Лувиль, пытаясь быть остроумным.
— Если желаете, можете говорить с Влеком, — ответил шевалье, — но сомневаюсь, что Блек вам ответит, ведь ему достаточно припомнить ваши добрые намерения по отношению к нему.
— Вот так-так! — сказал Лувиль. — Просто великолепно, теперь я еще к тому же и злоумышлял против Блека! Почему бы вам прямо сейчас не отвести меня в суд присяжных?
— Потому что, к несчастью, сударь, — ответил шевалье, — отравление собаки не считается в суде присяжных преступлением. Хотя, на мой взгляд, есть некоторые собаки, заслуживающие гораздо большего сожаления, чем некоторые личности.
— По правде говоря, Грасьен, — сказал Лувиль, силясь рассмеяться, — я уже начинаю по меньшей мере обижаться на тебя за то, что именно благодаря тебе этот господин удостоил нас чести составить нам компанию; и если б только наше путешествие, вместо того чтобы окончиться через пять или шесть часов, длилось бы два или три дня, можно было бы полагать, что к его концу мы стали бы с шевалье самыми лучшими друзьями на свете.
— В этом-то, — отвечал шевалье со свойственным ему добродушием, наполовину учтивым, наполовину насмешливым, — в этом-то и заключается разница между вами и мной: с каждым днем нашей совместной поездки моя симпатия к вам становилась бы все меньше и меньше, и я от всего сердца, не таясь, поздравляю себя, что это путешествие не продлится дольше запланированного срока.
— Тысяча чертей! — воскликнул молодой офицер, резко выпрямившись в своем углу. — Скоро ли вы перестанете, сударь, докучать нам вашими колкостями?
— Вот вы уже и сердитесь, — сказал шевалье, — и только потому, что я всего лишь чуть умнее вас. Рассудите сами, сударь, я в два раза старше вас; в моем возрасте вы, вероятно, будете столь же разумным, как и я, а может, даже и еще умнее; однако надо подождать. Терпение, молодой человек! Терпение!
— Это именно та добродетель, сударь, которой, похоже, в самом деле вам поручено научить нас; и должно быть, мы уже чувствуем в себе достаточное предрасположение к тому, чтобы постигнуть эту науку, раз смогли вынести ваши бредни — ими вы нас потчуете вот уже в течение десяти минут.
— Если сударь уже отдышался, — сказал Грасьен, — и желает наконец приступить к серьезному вопросу, недавно отложенному им из-за волнения, которое было вызвано преследованием кареты, — волнения, и я счастлив это отметить, не причинившего ему никакого вреда и не имевшего никаких других последствий, кроме того, что сделало его излишне многоречивым и подняло его дух, — то я с удовольствием готов его выслушать.
— Черт возьми! Господа, я полагаю, вы не откажетесь проявить снисходительность по отношению к старику и простите несдержанность его речей. В моем возрасте язык — это единственное оружие: им не только не перестаешь владеть, но, напротив, все больше и больше совершенствуешь свое мастерство в обращении с ним; поэтому не стоит слишком уж меня упрекать за то, что я с охотой пользуюсь им.
— Ну что же, пусть будет так, но объяснитесь же, сударь, — сказал Лувиль. — Нам сейчас меняют лошадей, и предупреждаю, каким бы интересным ни было то, что вы нам собираетесь поведать, я вовсе не намерен, что касается лично меня, пожертвовать ради вашего рассказа чудесным добрым сном, которым наслаждаешься, когда тебя так сладко укачивает. Дилижанс — единственное устройство, напоминающее мне мое детство; перестук колес усыпляет меня так же, как когда-то усыпляла песня моей кормилицы. Что же, посмотрим, о чем пойдет речь.
— Об одном очень серьезном и одновременно весьма пустяковом, ничтожном деле, господа; об одном из тех приключений, что, как правило, для гарнизонного ловеласа имеют всегда приятную развязку, хотя очень часто они влекут за собой отчаяние, нищету или даже самоубийство. Речь идет об обольщении, — я выбрал самое мягкое слово, — в котором повинен господин Грасьен.
Грасьен вздрогнул; возможно, он собирался ответить, но Лувиль не дал ему этой возможности, опередив его.
— А вы что, взяли на себя обязанность исправлять ошибки моего друга? — сказал он. — Это прекрасная роль, и за нее вы непременно получите достойное вознаграждение, если жертва хоть мало-мальски обладает чувством признательности; со времен Дон Кихота эта роль несколько вышла из употребления, но вы вдохнете в нее новую жизнь, браво!
— Я уже имел честь объяснить вам, сударь, что я не имею и никоим образом не хотел бы иметь дела с вами. Я говорю с господином Грасьеном. Что за черт! Если он смог обойтись без вашего посредничества, когда совершал эту ошибку, то полагаю, что он не нуждается в вас и теперь, когда речь идет всего лишь о том, как ее исправить.
— А кто вам сказал, сударь, что в этой истории я не был его советчиком?
— Это никоим образом меня бы не удивило; но в этом случае мне еще больше жаль вашего друга.
— Почему же?
— Потому что он будет второй жертвой ваших дурных наклонностей.
— Сударь, покончим с этим! — сказал Грасьен. — Кто эта достойная особа, обольщенная мною, в чем вы меня обвиняете?
— Речь идет всего-навсего, сударь, о той молодой девушке, которую вы только что упомянули, о хозяйке Блека, о Терезе, наконец!
Грасьен несколько мгновений оставался безмолвным, затем пробормотал:
— Итак, что же вы собираетесь потребовать у меня от имени Терезы? Говорите же, сударь.
— Да жениться на ней, черт возьми! — вскричал Лувиль. — Этот господин, который производит на меня впечатление серьезного человека, не стал бы так себя утруждать ради меньшего! Так как же, Грасьен, ты готов повести к алтарю мадемуазель Терезу? Что же, напиши полковнику, попроси разрешения у своего отца и у министра, и давай спать! Ведь теперь, когда мы знаем, чего желает этот господин, это самое лучшее, что мы можем сделать.
— Вы, сударь, сами прекрасно сознаете, — продолжал Грасьен, которому вмешательство его друга вернуло некоторую уверенность, — что все это не может быть не чем иным, как шуткой. Конечно же, я готов выполнить по отношению к Терезе мой долг благородного человека, но…
— Но вы начали с того, что пренебрегли им, — заметил шевалье де ла Гравери.
— Как так?
— Вне всякого сомнения: разве первый долг того, кого вы называете благородным человеком, а я бы назвал порядочным человеком, не состоит в том. чтобы дать ребенку свое имя?
— Как? — вскричал Грасьен. — Тереза?..
— Увы, господин Грасьен, — продолжал шевалье, — это одно из наименее печальных последствий изящной развязки, о которой я вам только что говорил.
— Даже если бы такое и произошло, то что, по-вашему, он должен был бы сделать в этом случае? — вновь вмешался Лувиль. — Неужели, вы считаете уместным, чтобы за каждым полком следовал бы эскадрон кормящих матерей? Мы переехали на новые квартиры: что поделаешь! Действительно, это несчастье. Пусть красотка поищет себе утешителя среди уланов, пришедших вслед за нами; она достаточно мила, и ей не придется искать слишком долго.
— Вы разделяете те чувства, которые только что выразил ваш друг? — спросил шевалье у Грасьена.
— Не совсем, сударь. Лувиль из дружбы ко мне зашел слишком далеко. Не отрицаю, я виноват, очень сильно виноват перед Терезой, и я бы многое отдал, чтобы она никогда не встречалась на моем пути; я готов, повторяю вам это, сделать все от меня зависящее, чтобы облегчить ее положение; но вам придется удовольствоваться этим обещанием; вы светский человек, сударь, и вы прекрасно сознаете, насколько подобный союз был бы несовместимым с общественными обязанностями человека моего положения, чтобы и дальше настаивать на нем.
— Вот в этом вы ошибаетесь, господин Грасьен: я буду настаивать, и я еще достаточно хорошего мнения о вас, чтобы надеяться, что мои просьбы не будут напрасными.
— В таком случае позвольте мне вам ответить, сударь, что то, о чем вы просите, невозможно.
— Нет ничего невозможного, господин Грасьен, — продолжал настаивать шевалье, — когда человек стоит перед лицом долга. Я кое-что об этом знаю; я, который говорит вам об этом. Послушайте, несколько лет назад я не мог без содрогания выносить вид обнаженной шпаги; выстрел из ружья или пистолета заставлял меня вздрагивать; я в испуге бежал от всего, что грозило нарушить размеренный ход моей жизни. И вот я здесь, с вами, в такое время еду в этом скверном дилижансе, сидя спиной к дороге, что, сознаюсь, мне особенно неприятно, и все это вместо того, чтобы мирно спать в своей уютной постели; но я готов вынести еще больше, и все это потому, что меня позвал мой долг. Вы молоды, сударь, и вам по силам бестрепетно преодолеть множество других препятствий.
Грасьен собирался что-то ответить, но Лувиль не дал ему на это времени.
— Послушайте, дорогой мой, — обратился он к шевалье де ла Гравери, — но вы сошли с ума, если только не… Ну, да, слушайте, вот он, выход. Раз замужество мадемуазель Терезы кажется вам столь неотложным делом; раз, на ваш взгляд, необходимо, чтобы у ребенка было имя, почему бы вам самому не жениться на матери и не признать ребенка своим?
— Если бы существующие препятствия — я вправе вам не сообщать о них, — не запрещали бы мне подобные мысли, то после отказа господина Грасьена я только и думал бы об этом.
— Тысяча чертей! Вы человек старомодный! — заметил Л увил ь.
— Извините, сударь, — сказал Грасьен, — только что вы отметали все препятствия и вот теперь ссылаетесь на одно из них. Почему же вы имеете на это преимущественное право, почему эта монополия принадлежит только вам?
— Предположим, есть две причины: или я уже могу быть женат, или же очень близкая степень родства связывает меня с Терезой; ведь ни в том, ни в другом случае я не могу стать ее мужем?
— Согласен.
— В то время как вы холостяк и человек, никак не связанный, по крайней мере кровными узами, с этой молодой девушкой.
Грасьен замолчал.
— Ну что же, давайте хладнокровно обсудим, господин Грасьен, что вам помешало бы остаться порядочным человеком, но не в глазах ваших друзей, а в ваших собственных. Почему вы отказались жениться на молодой девушке, которую вы достаточно сильно любили, если решились совершить по отношению к ней поступок, весьма похожий на преступление, и, женившись, таким образом признать ребенка, отцом которого вы скоро станете? Уверен, что вы ничего не имеете против внешности той, которую я упорно продолжаю считать вашей будущей супругой.
— Да, это так, — ответил Грасьен.
— Подумаешь, смазливое личико! — заметил Лувиль.
— Что касается характера, то невозможно встретить женщину более нежную и ласковую, и я вам клянусь, что она будет так признательна за то, что вы сделаете для нее, что это чувство займет в ее душе место любви, которую она не способна испытывать к вам.
— Но это же гризетка!
— Мастерица, сударь, а это не всегда одно и то же; простая мастерица, да, это так; но я кое-что в этом понимаю и нахожу, что многие из нынешних великосветских дам не обладают таким врожденным благородством, какое я заметил у этой мастерицы. И, безусловно, после нескольких месяцев жизни в свете Тереза станет замечательной и весьма заметной дамой.
— Договорились! — воскликнул Лувиль. — У нее двадцать пять тысяч ливров ренты, помешенной в ее достоинства.
— Но моя семья, сударь, — сказал Грасьен, — моя семья, такая знатная и богатая, неужели вы допускаете, что она когда-нибудь согласится признать подобный брак, если я вдруг приму ваше предложение?
— А кто вам сказал, что семья Терезы менее знатна и богата, чем ваша?
— Позволь ему договорить, Грасьен, — вмешался Лувиль, — и на наших глазах Тереза превратится в эрцгерцогиню, занимавшуюся шитьем ради своего удовольствия.
— Я скажу больше, сударь, — продолжал шевалье, — кто вам сказал, что Тереза не наследница состояния, по меньшей мере равного вашему?
— Черт! — сказал Грасьен с озабоченным видом. — Если это так…
— Ну вот еще! — горячо вскричал Лувиль. — Мне кажется, зараза завладела и вами: вы становитесь безумным, Грасьен; еще более безумным, клянусь, чем этот простак, который говорит с вами! Но я, к счастью, здесь и не позволю вам запутаться еще больше. Ответьте же ему раз и навсегда твердым и решительным "нет", чтобы он дал нам спокойно выспаться и проваливал к дьяволу вместе со своей инфантой и их собакой!
И как бы в качестве заключительной части своей речи Лувиль пнул ногой Блека, к которому, как мы помним, он никогда не питал особого расположения.
Блек издал болезненное повизгивание.
Этот пинок рикошетом пришелся в самое сердце г-на де ла Гравери.
— Сударь, — сказал он Лувилю, — до сих пор ваша речь была речью глупца, но ваш поступок обличает в вас жесткого и невоспитанного человека. Кто бьет собаку, тот замахивается на хозяина!
— Я ударил вашего пса, потому что он мешал мне, вертясь у меня между ног. И послушайте, я сейчас в самом деле вызову кондуктора и прикажу ему исполнить предписания. Собаки не имеют права находиться в мальпосте.
— Дюмениль… я хотел сказать, мой пес, в сто раз больше имеет право находиться здесь, чем вы, сударь, а вы только что ударили моего бедного друга ногой; за это вам пришлось бы дорого заплатить, если бы у меня не было важного дела лично к господину Грасьену и если бы я не поклялся самому себе, что ничто не отвлечет меня от моей цели.
Затем он сказал, обращаясь на этот раз к Грасьену:
— Давайте положим этому конец, сударь; так как эта дискуссия — прошу вас верить мне, чтобы проникнуться большим расположением к моей особе, ведь я дворянин, — так вот, эта дискуссия нравится мне не больше, чем вам. Желаете ли вы вернуть этой молодой девушке ее честное имя, похищенное вами?
— На поставленный таким образом вопрос я, сударь, могу вам дать лишь один ответ: нет.
— Вы покушались на бедное, одинокое дитя, не имеющее ни поддержки, ни защиты! Вы прибегли к недостойной уловке, чтобы восторжествовать над ней! И все же я еще остаюсь достаточно хорошего мнения о вас, сударь; я не хочу верить, хотя вы на первый раз сказали "нет", что вы решились, как трус, оставить мать наедине с ее отчаянием и выбросить вашего ребенка на улицу на милость официального милосердия и людского сострадания.
— Сударь, — вскричал Грасьен, — вы только что здесь утверждали, что вы дворянин; я тоже дворянин и, будучи им, привык уважать старость; но никогда это уважение не дойдет до того, что я позволю себя оскорблять. В том, что вы сказали, есть одно неуместное слово; прошу вас взять его обратно!
И в самом деле, Грасьен произнес эти слова как истинный дворянин.
— Да, сударь, — сказал шевалье, понимавший, что зашел слишком далеко и что "трус" — это одно из тех слов, которое не в состоянии вынести военный, — да, я возьму обратно все, что вам будет угодно; но умоляю вас, сделайте, в свою очередь, то, о чем я вас прошу! Если бы вы знали, сколько она страдала, бедняжка Тереза! Если бы вы знали, как мало она создана для страданий! Она такая чуткая, добрая, нежная, славная! О! Вы никогда не раскаетесь в том, что совершите это доброе дело. Если вам нужно имя, то я найду ей имя, сударь, достойное и всеми уважаемое, — мое имя. Если вам необходимо состояние, чтобы наслаждаться жизнью, я отдам вам все, что у меня есть, и оставлю себе лишь крохотную пожизненную ренту — вы сами установите ее размеры, и я удовольствуюсь тем, что вы милостиво пожелаете мне оставить. Я буду жить, радуясь вашему счастью; вы мне позволите время от времени видеть ее, и нам этого будет достаточно… Не правда ли, Блек? Не правда ли, мой старый друг? Послушайте, господин Грасьен, вот здесь, на коленях, несчастный старик заклинает вас… и, умываясь слезами, обращает к вам свои мольбы!
Шевалье на самом деле сделал такое движение, собираясь упасть на колени; Грасьен остановил его.
— В самом деле, — сказал Лувиль, — этот господин предлагает тебе довольно привлекательную сделку, и на твоем месте, Грасьен, я подумал бы над этим предложением.
Шевалье почувствовал, куда нацелен намек, так коварно брошенный лейтенантом, и повернулся в его сторону.
— Сударь, — промолвил он, — разве недостаточно, что ваши советы содействовали несчастью Терезы; вы еще и противитесь тому порыву раскаяния, что может зародиться в сердце вашего друга? Чем провинилось перед вами невинное дитя, что вы ко всему еще стараетесь помешать господину Грасьену искупить ту ошибку, которая, говоря по справедливости, в большей степени лежит на вашей совести, чем на его?
Но, к несчастью, эффект уже был произведен.
— Возможно, в ваших словах, сударь, и есть доля истины, — начал Грасьен, — и я не буду скрывать от вас, что они меня тронули; но рассудок должен преобладать над всеми другими соображениями, и, как следует все обдумав, я не женюсь на мадемуазель Терезе.
— Это ваше окончательное решение?
— Да, это мое окончательное решение, сударь. Я не женюсь на девушке бедной и сомнительного происхождения, и я не пойду на сделку; ваша протеже подпадает либо под то, либо под другое определение, третьего ей не дано, и я одинаково отвергаю обе эти альтернативы.
Шевалье закрыл лицо руками.
Он задыхался от горя и не настолько владел собой, чтобы подавить его.
— Ваши страдания причиняют мне боль, сударь, — продолжал Грасьен, — но, поскольку они никак не могут повлиять на мое окончательное и бесповоротное решение, я полагаю, что будет лучше, если я уступлю вам место. Мы сейчас на станции, нам меняют лошадей; я пойду попрошу возницу взять меня к себе.
Действительно, почти в ту же минуту карета остановилась и молодой человек спустился; шевалье не произнес ни слова и не сделал ни одного движения, чтобы задержать его.
— А теперь, сударь, — сказал Лувиль, натягивая свой плащ на лицо, — я полагаю, что пришло время пожелать друг другу спокойной ночи; я, со своей стороны, обещаю вам это, постараюсь наверстать время, упущенное по вашей вине.
— И все же позвольте мне еще раз злоупотребить той снисходительностью, доказательства которой вы мне давали столько раз, сударь, — с иронией произнес шевалье, — я прошу вас сообщить мне адрес вашего друга.
— Зачем?
— Я хочу попытаться еще раз тронуть его сердце.
— Бесполезно! Он же сказал вам, что его решение бесповоротно.
— И все же я возобновлю свою попытку, сударь; отец никогда не устанет просить за свое дитя, а Тереза для меня почти как дочь.
— Но я же вам говорю, что это бесполезно.
— Хорошо, сударь, тогда я попрошу ваш адрес.
— Мой? Мне кажется, вам не на ком заставить меня жениться.
— Сударь, заметьте, я настаиваю на том, чтобы получить вашу визитную карточку.
— Тысяча чертей! Вы говорите мне это почти с вызывающим видом; уж не покойный ли вы господин Сен-Жорж, случаем?
— Нет, сударь, я всего лишь несчастный простак; я ненавижу ссоры и дуэли и не выношу крови, и если мне когда-нибудь придется пролить кровь моего ближнего, то могу вам поклясться, это будет против моей воли.
— Тогда спите спокойно, мой дорогой господин, и не мучьте меня лишний раз из-за какого-то кусочка бумаги, который вам совершенно не пригодится, принимая во внимание ваше мирное расположение духа.
После чего Лувиль откинул голову в угол кареты, и через некоторое время звучный храп молодого офицера слился со стуком колес по мощеной дороге.
Что касается г-на де ла Гравери, то он не мог заснуть и провел остаток ночи в размышлениях о том, что скажет своему брату, перед которым ему предстояло оказаться через несколько часов, а также в раздумьях, где и каким образом отыскать следы, проливающие свет на рождение Терезы. И он настолько был погружен в эти мысли, что, несмотря на весь тот ужас, который внушала ему езда спиной к дороге, он даже не помыслил занять место, пустовавшее после ухода Грасьена.
На следующий день в пять часов карета въехала во двор почтовой станции Парижа.
Там шевалье и его два спутника вновь оказались рядом друг с другом.
Шевалье де ла Гравери еще раз охотно попытался бы завести разговор о Терезе, прежде чем ее соблазнитель удалится; но Лувиль опередил его, взяв Грасьена под руку, и они оба вышли, сопровождаемые рассыльным, который нес их багаж.
— Экипаж! — потребовал шевалье.
Ему подали фиакр.
Рассыльный, заметив чемодан у ног шевалье, поставил его рядом с кучером и получил от г-на де ла Гравери, занятого своими мыслями, двадцать су за свои труды.
Шевалье заставил Блека первым вспрыгнуть в фиакр, а затем и сам сел рядом с ним, дрожа от холода; бедняга уехал без пальто, а утренняя свежесть весьма явственно давала себя знать.
— Куда вас отвезти, хозяин? — спросил кучер.
— На улицу Сен-Гийом, предместье Сен-Жермен, — ответил шевалье.
XXX КАК БАРОН ДЕ ЛА ГРАВЕРИ ПОНИМАЛ И СОБЛЮДАЛ ЗАВЕТЫ ЕВАНГЕЛИЯ
Хотя часы показывали всего лишь половину шестого утра, у шевалье де ла Гравери даже и мысли не мелькнуло о том, чтобы отложить визит, который он собирался нанести своему брату, на более позднее время.
Подобно всем людям, кому трудно дается какое-либо решение, шевалье, однажды выйдя из своего безмятежного спокойствия, больше не желал ни ждать, ни терять время.
Впрочем, вопросы, которые он собирался задать барону, представлялись ему очень важными, и он нисколько не сомневался в том, что все двери особняка де ла Гравери немедленно распахнутся перед ним.
Барон жил на улице Сен-Гийом, в одном из тех огромных дворцов, размеры которых обычно никак не гармонируют с убогой роскошью и привычками к скаредности их теперешних обитателей.
Фиакр шевалье остановился перед величественной аркой ворот из двух толстых дубовых створок, и по одной из них кучер несколько раз ударил тяжелым молотком.
Но из особняка не донеслось ни звука.
Кучер возобновил свои призывы, заботясь о том, чтобы его удары с каждым разом звучали все громче и громче, и наконец из помещения для привратника, которое было построено справа от ворот, донесся визгливый голос: следуя старым традициям, кто-то долго препирался, прежде чем решиться потянуть за веревку.
Шевалье воспользовался этим, чтобы проникнуть через приоткрывшиеся ворота во двор; он рассчитался с кучером, свистом подозвал Блека, тут же принявшегося исследовать местность, и обратился к человеку, чья голова в домашнем колпаке была причудливым образом освещена фантастическим пламенем огарка свечи, протянутого в форточку костлявой рукой для того, чтобы можно было увидеть черты раннего посетителя:
— Могу я видеть барона де ла Гравери?
— Как вы сказали? — переспросил этот человек, то ли привратник, то ли привратница.
Шевалье повторил свой вопрос.
— Ах, вот оно что! Но вы сошли с ума, любезный сударь! — последовал ответ. — Позвольте сначала поинтересоваться у вас, который час.
Шевалье наивно вытащил часы и напряг всю силу своих глаз, чтобы они могли хоть что-нибудь разобрать в таких сумерках.
— Шесть часов, любезный сударь… или любезная сударыня, — сказал шевалье. — Ваша свеча так плохо светит, что я не мог бы с полной уверенностью сказать, к какому полу вы принадлежите и с кем именно я имею честь разговаривать: с привратником или с привратницей моего брата.
— Как! Вы брат господина барона? — воскликнул тот, кому принадлежала голова, и эти слова сопровождал не менее удивленный жест. — Ну тогда входите же, входите в привратницкую, сударь, прошу вас, входите! Вы ведь, по правде говоря, дрожите на свежем воздухе, да и я носом чую, что подхвачу насморк.
— Скажите, не будет ли гораздо проще, если вы сразу же отведете меня к моему брату?
— К вашему брату? — вскричала странная личность, интонацией голоса и жестами продолжая выказывать все возрастающее удивление. — Но это невозможно, сударь, невозможно! Кучер встает только в семь часов; у камердинера господина барона свет не загорается раньше восьми; наконец, только часов в десять, может быть, сам он войдет к господину барону, и, прежде чем туалет вашего брата будет закончен, прежде чем наш хозяин будет выбрит, напудрен и одет, пройдет еще, по крайней мере, около часа! Вот так обстоят дела. Черт! Вам надо смириться с вашей участью и набраться терпения. Входите же, сударь, входите!
При этих словах, которые говоривший посчитал заключительными и которые таковыми и были на самом деле, голова его исчезла из форточки и та закрылась.
Но почти в тот же миг распахнулась дверь, предложив шевалье гостеприимство привратницкой, откуда на него пахнуло теплым и тошнотворным воздухом.
— Однако, — настаивал шевалье, не отваживаясь переступить порог строения, — мне надо обсудить с моим братом весьма неотложные вопросы, имеющие огромную важность.
— Поступить так, как желает этого сударь, значило бы для меня подвергнуть себя риску потерять это место. Господин барон очень строг во всем, что касается этикета. Ослушаться его приказа! О! Об этом и речи быть не может!
— Хорошо, договорились, славная женщина, — ведь, несомненно, вы женщина, — всю ответственность я беру на себя… И, послушайте, вот вам для начала луидор, чтобы возместить все те неприятности, какие ваша снисходительность может вам причинить.
Привратница протянула руку, чтобы завладеть золотым, как вдруг со стороны двора послышался грохот опрокинутых досок, к которому примешивался безудержный, захлебывающийся лай и предсмертные крики птицы.
Привратница одним прыжком выскочила из своего помещения во двор, закричав:
— О Боже! Что случилось с кохинхинками господина барона?
Шевалье же, не видя Блека рядом с собой, вздрогнул, по наитию догадавшись, что случилось.
Действительно, не успела привратница сделать и трех шагов по двору, как спаниель вернулся к хозяину, держа в пасти огромного петуха, голова которого, повисшая и болтавшаяся вправо-влево, подобно маятнику на часах, красноречиво свидетельствовала о том, что он уже перешел в мир иной.
Это на самом деле был, как правильно сказала привратница, петух кохинхинской породы, тогда только-только входившей в моду.
Шевалье взял петуха за лапы, длинные, как ходули, и с восхищенным любопытством стал его рассматривать, в то время как Блек влюбленными глазами смотрел на свою жертву и, казалось, был бесконечно восхищен сотворенным им шедевром.
Но привратница, похоже, вовсе не была расположена разделить восхищение одного и удовлетворение другого; она принялась издавать душераздирающие крики, перемежая их с мольбами и заклинаниями на античный лад.
От этих криков осветились все окна, и в каждом из них появились головы в причудливых уборах: одни были в Мадрасе, другие в домашнем колпаке, а третьи с индейской повязкой на лбу; но, впрочем, все они были примечательны тем, что несли на себе печать старого порядка.
Это были слуги господина барона.
Каждый из них издавал звуки самой различной тональности, и все эти голоса одновременно осведомлялись о том, что могло стать причиной суматохи и потревожить стольких достойных людей во время их отдыха.
В результате поднялся страшный крик, но вскоре он был перекрыт звоном ручного колокольчика.
В тот же миг из всех уст с согласованностью, которая сделала бы честь статистам какого-нибудь бульварного театра, вылетела следующая фраза:
— А вот и господин барон проснулся.
И весь этот ужасный шум стих как по волшебству; это позволило шевалье составить высокое мнение о той твердости, с какой барон управлял своим домом.
— Ну, госпожа Вийем, — сказал камердинер барона, срывая с себя хлопчатобумажный ночной колпак и обнажая свой лысый череп, гладкий и блестящий, как слоновая кость, — идемте, расскажите лично господину барону, что произошло, и объясните ему, каким образом посторонние лица могли оказаться в доме в этот час ночи.
— Я никогда на это не осмелюсь, — ответила бедная привратница.
— Хорошо, я пойду сам, — сказал шевалье.
— Кто вы такой? — спросил камердинер.
— Кто я? Я шевалье де ла Гравери и пришел повидаться со своим братом.
— Ах, господин шевалье, — вскричал камердинер. — Тысяча извинений, что позволил себе говорить с вами в столь неподобающем тоне! Позвольте, я накину на себя что-нибудь и тогда буду иметь честь проводить вас к вашему брату.
Через несколько минут старый слуга появился в дверях вестибюля, куда он после бесчисленных извинений впустил шевалье.
Он предложил ему следовать за собой и повел по широкой лестнице из тесаного камня с оградой из кованого железа, пересек анфиладу комнат, мебель в которых, прежде позолоченная, теперь из экономии была выкрашена в белый цвет, осторожно постучал в последнюю дверь, открыл ее и торжественно возвестил, будто докладывая о визите иностранного посла к министру:
— Господин шевалье де ла Гравери!
Барон де ла Гравери лежал на кровати, которая выглядела весьма скромно и полностью была лишена какого-либо полога. Как все дворяне, прошедшие суровую школу эмиграции, барон приобрел привычку презирать жизненные излишества, то есть то, что сегодня называют комфортом.
Комод, секретер красного дерева, ночной столик с раздвижными дверцами да еще кровать составляли всю обстановку его спальни.
На камине возвышалась медная лампа Карселя, по обе стороны которой стояли два серебряных подсвечника и два рожка французского фарфора; вокруг зеркала висели разнообразные медальоны с портретами короля Людовика XVIII, Карла X и монсеньера дофина.
Этим и ограничивалось все убранство комнаты, холодной и голой, совершенно не соответствующей истинному положению ее хозяина и великолепию окружавших его слуг.
В ту минуту, когда камердинер докладывал о шевалье, барон приподнялся, опершись на локоть, правой рукой поправил Мадрас, сползший ему на глаза, и без каких-либо иных проявлений дружеского участия воскликнул:
— Откуда вас, черт возьми, принесло, шевалье?
Затем после паузы, словно повинуясь чувству приличия, он добавил:
— Жасмин, подайте табурет моему брату.
Бедняга шевалье оледенел от подобного приема. Он не видел старшего брата вот уже пятнадцать лет, и, как бы тот ни поступал в свое время по отношению к нему, шевалье, несмотря ни на что, испытывал глубокое волнение, находясь рядом с человеком, чья жизнь зародилась в том же чреве, что и его; вся кровь прилила у него к сердцу, когда он понял, как мало значения барон де ла Гравери придавал жизни или смерти своего младшего брата.
Поэтому всю инициативу в этом разговоре он предоставил барону.
И барон воспользовался этим.
— Но черт побери! Как вы изменились, мой бедный шевалье! — произнес барон, оглядев своего брата с головы до ноге холодным любопытством, полностью лишенным участия.
— Я не могу вам ответить тем же комплиментом, брат мой, — сказал Дьёдонне, — так как нахожу, что вы сами, ваше лицо и ваш голос остались прежними, такими же, как в день моего отъезда.
Действительно, для барона де ла Гравери, неизменно сухого и костистого, с ранними морщинами на лице, годы, легшие ему на плечи, прошли бесследно. Живя без каких-либо забот, он, как и все крайне эгоистические натуры, не добавил к своим рано появившимся морщинам ни одной новой морщины, а к своим преждевременно поседевшим волосам — ни одного нового седого волоса.
— Но что вас привело, брат мой? — повторил барон. — Ибо я предполагаю, что понадобился все же очень веский повод, чтобы вы решились переступить мой порог в столь неурочный час. Откуда вы приехали? Мой нотариус, у которого я порой справляюсь о состоянии ваших дел и одновременно о вашем здоровье, сообщил мне, что вы проживаете, по-моему, в Шартреан-Бос или в Моан-Бри… я не очень хорошо помню… Нет, по-моему, все же в Шартре, не правда ли?
— Действительно, брат мой, я живу в Шартре.
— Ну, и что там делается? Много ли там здравомыслящих граждан? Многочисленны ли сторонники Филиппа Орлеанского? В Париже, мой бедный Дьёдонне, общество загнивает; "Французская газета" несет околесицу, Шатобриан и Фиц-Джеймс заделались либералами, а число людей благородного происхождения сокращается. Увы! Мы живем с вами в жалкую пору! Представьте себе, не далее как вчера "Ежедневная газета" опубликовала имена знатных вельмож, настоящих знатных вельмож, людей, отцы и деды которых ездили в каретах короля и которые не постыдились стать промышленниками! Герцоги, маркизы превратились в торговцев железом и углем… Черт знает что!
— Брат, — сказал шевалье, — если вас это интересует, то мы еще поговорим об общественных делах, но сейчас давайте остановимся на вопросах личного характера, приведших меня сюда.
— Хорошо, хорошо, — произнес несколько задетый барон. — Поговорим о чем вам будет угодно. Но что там шевелится рядом с вами в темноте?
— Это моя собака, брат, не обращайте на нее внимания.
— А с каких же пор, мой дорогой, визиты старшему брату наносят в сопровождении подобного эскорта? Собаку должно держать на псарне, а когда ею хотят воспользоваться или показать знатокам, если она чистой породы, то в этом случае следует приказать псарю привести ее, это его обязанность. Она испачкает мой ковер.
Ковер барона де ла Гравери — заметьте это — со всех сторон был уже вытерт до основы и, похоже, до этих пор весьма безразлично относился к разного рода пятнам.
— Ни о чем не беспокойтесь, брат, — смиренно ответил шевалье, сознававший, как для него важно не раздражать своего старшего брата, — не обращайте внимания на Блека: это очень чистоплотный пес, и если я его привел с собой, то лишь потому, что он редко расстается со мной. Эта собака, она… она мой друг!
— Странная у вас манера заводить дружбу с подобным существом!
Шевалье испытывал огромное желание ответить, что, судя по тому, как люди, связанные братскими узами, относятся друг к другу, вряд ли можно что-то проиграть, если ищешь взаимопонимания и любви у животных; но он устоял перед искушением и промолчал.
Но, к сожалению, между Блеком и бароном де ла Гравери еще не все было кончено.
— Но, шевалье, — произнес барон, — взгляните, что ваша чертова собака держит между лап.
Шевалье так резко повернулся в сторону Блека, что тот подумал, будто хозяин приглашает его подойти к себе, и, взяв в зубы петуха, о котором все забыли, когда раздался неистовый звонок барона, он вступил в круг света, очерченный вокруг кровати, держа в пасти несчастную птицу, задушенную им во дворе.
Таково было предназначение бедного Блека: душить и приносить добычу своему хозяину; выполнив свои обязанности, он полагал, что заслуживает похвалы.
При виде мертвого петуха барон, судорожно выпрямившись, сел в постели.
— Черт побери! — закричал он. — Хорошеньких дел натворило здесь ваше глупое животное: петуха-кохинхинца я выписал из Лондона; он обошелся мне ни много ни мало в двенадцать пистолей! Надо же вам было, шевалье, прийти сюда, и прийти в такой компании! Даже не знаю, почему я не зову своих людей и не приказываю им сию же минуту повесить это гнусное животное.
— Повесить Дюмениля! — завопил шевалье, совершенно выведенный из себя этой угрозой. — Хорошенько подумайте, брат, прежде чем отдать подобный приказ! Я сказал вам, что эта собака мой друг, и я буду ее защищать хоть ценою смерти!
Бедный шевалье, услышав угрозу своего брата, одним прыжком вскочил на ноги и, в свою очередь грозя ему в ответ, вовсю потрясал своим табуретом, как будто уже находился перед лицом врага.
Его воинственное поведение сильно удивило барона, всегда считавшего брата всего лишь мокрой курицей, как он сам говорил.
— Вот так-так! Но какая муха укусила вас, брат? — воскликнул барон. — Я раньше не замечал за вами подобных героических порывов. Выходит, что вы столь же опасный гость, как и ваша собака? Ну, давайте, — продолжал он, бросив взгляд на несчастного петуха, которого Блек положил на пол, как будто приготовясь поддержать в случае надобности своего хозяина, — давайте, рассказывайте мне побыстрее, о чем идет речь, и покончим с этим.
Шевалье поставил свой табурет, сделал Блеку знак вести себя спокойно и после минутного молчания, собравшись с силами, сказал:
— Брат, я желал бы получить известия о госпоже де ла Гравери.
Если бы за окнами раздался гром, то господин барон был бы поражен этим не больше, чем неожиданным вопросом, вылетевшим из уст шевалье.
— Известия о госпоже де ла Гравери? — вскричал он. — Но мне кажется, мой дорогой Дьёдонне, что если вы ждали до этого дня, чтобы узнать о ней, то теперь, по правде говоря, вы несколько поздновато беретесь за это.
— Да, брат, — смиренно ответил шевалье, — да, признаюсь, что с моей стороны было бы более уместным попытаться выяснить, что стало с Матильдой, сразу после моего возвращения во Францию, но что вы хотите! Другие заботы…
— Вне всякого сомнения — заботы о вашей персоне: судя потому, что мне рассказывали о вас, а также по вашей цветущей физиономии и жирку, свисающему со всех боков и заставляющему трещать по швам вашу одежду, легко догадаться, что если вам была безразлична судьба вашего брата и вашей жены, то уж заботами о своем желудке вы не пренебрегали.
— Довольно, брат, отбросим в сторону все упреки, сегодня, сию минуту, я желаю знать, что стало с Матильдой после моего отъезда в Америку.
— Бог мой, ну что я могу вам сказать? Я и видел-то ее всего один раз, когда потребовалось уладить дело, порученное мне вами, и должен признаться, что нашел ее гораздо более сговорчивой, чем ожидал. Это создание вовсе не было лишено здравого смысла; она тут же поняла, в какое исключительное положение ее поставил допущенный ею проступок, и с готовностью согласилась на то, что я в качестве главы семьи обязан был потребовать от нее.
— Но в конце концов, что это были за условия, которые вы посчитали себя обязанным поставить ей? — вскричал шевалье, с удовлетворением отмечавший, что его брат опережает те вопросы, какие он рассчитывал ему задать.
К несчастью, барон был более тонким дипломатом, чем шевалье; по напряженному выражению лица своего младшего брата он догадался, что за его вопросом что-то скрывается, и на всякий случай решил ни слова не говорить о том, что произошло когда-то между ним и его невесткой.
— Бог мой, — с простодушным видом произнес он, — в этот час я и вспомнить-то ничего не могу: насколько мне помнится, это было обещание более не носить вашего имени, а также согласие, что ваше состояние перейдет ко мне, если вы умрете бездетным.
— Но, — спросил шевалье, — как же Матильда, будучи беременной, могла решиться подписать этот документ, обрекавший ее ребенка на нищету!
— Сама та легкость, с какой она на это согласилась, могла бы вам доказать, если вы все еще в этом сомневаетесь, сколь справедливыми и обоснованными были выдвинутые против нее обвинения, ведь она даже не осмелилась отстаивать то, что должна была расценивать как наследственное имущество своего ребенка.
— А этот ребенок? Что с ним сталось? — спросил шевалье, решительно приступая к интересовавшему его вопросу.
— Этот ребенок? Спросите лучше, известно ли мне, что он вообще был? Неужели вы полагаете, что я могу позволить себе тратить время, следя за любовными похождениями этой распутницы? Она где-то родила, где — не знаю; два года спустя она скончалась. Здесь у меня в письменном столе лежит свидетельство о ее смерти. Возможно, все дело ограничилось выкидышем; так как у меня не вызывает сомнения, что если этот плод греха был бы жив, то тогда не преминули бы обратиться к моему всем известному милосердию с просьбой помочь этому несчастному малышу или малышке.
— Так вот, брат, вы ошибаетесь, — сказал шевалье, задетый той бесцеремонностью, с какой его брат отзывался о женщине, когда-то столь любимой им. — Роды были вполне благополучными; ребенок жив, это взрослая и красивая девушка — уверяю вас, живой портрет своей матери.
Инстинктивно догадываясь, что наносит своему брату самый болезненный удар из всех, какие он мог бы ему нанести, шевалье представил как вполне очевидное то, в чем он еще сомневался.
Несмотря на изворотливость ума и самоуверенность, барон не мог совладать с собой и побледнел.
— Это какая-нибудь молоденькая плутовка, которая рассчитывает злоупотребить вашей доверчивостью, брат! То, что вы мне здесь рассказываете, просто невозможно.
Тогда шевалье во всех подробностях поведал историю своего знакомства с Терезой.
Это было ошибкой!
Барон дал ему рассказать все до конца; затем, когда тот закончил, он пожал плечами.
— Я вижу, — сказал он, — что годы, если и изменили ваш внутренний мир и разнесли ваше тело, то они оставили совершенно прежним ваш разум, мой бедный Дьёдонне. Вы сошли с ума! У Матильды не осталось ребенка, я уверяю вас в этом.
Какие бы сомнения не испытывал на это счет сам шевалье, он не хотел отступать от своих слов.
— Извините, брат, — сказал он, — но, несмотря на все почтение, которое я питаю к вам как к старшему брату, позвольте мне думать, что ваше утверждение не восторжествует над моей…
Шевалье собирался сказать "над моей уверенностью", но его честная натура воспротивилась этой лжи, и он ограничился тем, что после минутного молчания произнес:
— … над моими предположениями… Я лично, напротив, думаю, что у Матильды остался ребенок, и я почти уверен, что этот ребенок — та девушка, о которой я вам только что говорил.
— Сударь, но я хоть полагаю, что у вас нет намерения ввести эту самозванку в нашу семью?
— Да, сударь, — ответил шевалье, возмущенный эгоизмом своего брата, — я намереваюсь дать свое имя моему ребенку, едва только смогу доказать обществу, как доказал уже самому себе, что Тереза моя дочь.
— Ваша дочь! Вероятно, вы шутите: она дочь лейтенанта Понфарси!
— Моя дочь или дочь моей жены, как вам это будет угодно, брат. Послушайте, в данном случае я вовсе не намерен ни идти на поводу у самолюбия, ни бояться стыда перед людьми; моя в ней кровь или нет — это не имеет значения! — Не правда ли, Блек?.. — Перед людьми, перед законом она будет моей дочерью. "Pater est quern nuptiae demonstrant"[4]. Из всей латыни я запомнил только эти слова, но уж их-то я выучил крепко… Ну а мне она придется по душе. Я сильно любил Матильду, и она подарила мне достаточно счастья, чтобы я вознаградил ее и, пусть даже дорогой ценой, купил этот живой портрет, оставленный ею после себя. Так как же, брат, соблаговолите вы сказать мне, что вам известно обо всем этом?
— Повторяю, сударь, — сказал барон, — я ничего не знаю, совершенно ничего. Но даже если бы мне и было что-то известно, я бы ни слова вам больше не сказал. Мне как старшему, как главе семьи надлежит охранять честь имени, которое я ношу, и я не желаю, чтобы оно было скомпрометировано вашими безумствами.
— В этой жизни имя — это еще не все, брат мой, и часто мы повинуемся предрассудкам и условностям общества, забывая о евангельских заветах и заповедях нашего Спасителя.
— Итак, — вскричал барон, который, вновь резко выпрямившись, сел в постели, скрестив руки и качая головой в такт каждому произносимому им слогу, — итак, вы ждете лишь доказательств, подтверждающих происхождение этой девочки, и тогда забудете, что ее мать обесчестила ваше имя и разбила вашу жизнь; что она принесла вам мучения и заставила вас бежать из страны? Ну, так слушайте, вот вам новое доказательство недостойного поведения этой женщины. До сих пор вы думали, что господин де Понфарси был единственным ее любовником; так вот, отнюдь! У нее их было двое. И кто же этот второй? Попробуйте угадайте! Это капитан Дюмениль, этот Орест, чьим Пиладом вы были!
— Я знал об этом, — просто сказал шевалье.
Барон в ужасе откинулся назад, вдавив подушку в изголовье кровати.
— Вы знали об этом? — вскричал он.
Шевалье утвердительно кивнул.
— Что ж, доказывайте свое отцовство; распутайте, если сможете, этот клубок супружеской измены; даруйте свое прощение, если только осмелитесь на это.
— Я прощу, потому что это больше, чем мое право, брат: это мой долг.
— Как вам угодно! Но я скажу вам вот что, сударь: следует быть беспощадным к тем, чьи преступления, дурно влияющие на нравственность общества, завели нас в ту пропасть, где мы находимся.
— Вы забываете, брат, хотя и считаете себя верующим человеком, вы забываете, что Христос сказал: "Кто из вас без греха, первый брось на нее камень". О ком здесь идет речь, спрашиваю я вас, если не о прелюбодейке, не о Матильде еврейского племени?
— А! Вы желаете толковать Евангелие в буквальном смысле? — вскричал барон.
— Впрочем, брат, — спокойно произнес шевалье, — дабы не впутывать Евангелие во всю эту историю, я скорее предпочел бы, чтобы мадемуазель Тереза — даже если предположить, что она всего лишь мадемуазель Тереза, — стала мадемуазель де ла Гравери, чем думать, что мадемуазель де ла Гравери могла бы остаться мадемуазель Терезой.
— Сделайте из нее монахиню; выделите ей приданое из ваших доходов, раз уж вы принимаете такое участие в судьбе этой безродной девицы.
— Для счастья Терезы необходимо, чтобы у нее было имя, и как раз имени, законно признанного всеми, я и добиваюсь для нее.
— Но, черт побери! Сударь, задумайтесь, что в тот день, когда она получит ваше имя, она получит также и ваше состояние.
— Я это знаю.
— И вы осмелитесь ограбить вашу семью, обездолить моих сыновей, ваших законных наследников, ради того, чтобы бросить ваше состояние к ногам ребенка, чьим отцом вы не являетесь, чьим отцом вы являться не можете?
— Какие тому доказательства?
— Да хотя бы то самое письмо, которое я хотел вручить вам в тот день, когда решился открыть глаза на недостойное поведение вашей супруги; письмо, которое Дюмениль осмелился разорвать, несмотря на все мои просьбы.
— Я не прочел ни строчки из этого письма; вы должны помнить это, брат.
— Да, но я-то, я читал его и могу вас заверить, что в этом письме Матильда поздравляла господина де Понфарси с будущим отцовством и приписывала ему всю заслугу этого события.
— Вы можете поклясться мне в этом вашей честью дворянина? — спросил шевалье, некоторое время пребывавший в задумчивости.
— Моей честью дворянина я клянусь вам в этом.
— Хорошо, я вам очень признателен, брат! — сказал шевалье, переводя дыхание.
— Но почему вы мне так признательны?
— Да потому, что вы вернули покой моей совести; ведь, раз я не могу признать несчастную Терезу своей дочерью, я волен принять другое решение, которое уже приходило мне в голову: я волен сделать ее моей женой и, брат мой, я вам также клянусь своей честью дворянина, что через несколько месяцев я подарю вам — слышите, я в свою очередь клянусь вам, — либо чудного крепыша-племянника, либо очаровательную крошку-племянницу.
От ярости барон подпрыгнул на постели.
— Убирайтесь отсюда, сударь! — сказал он. — Уходите немедленно и не вздумайте когда-нибудь здесь появляться! А если вы не откажетесь от выполнения этого чудовищного, постыдного намерения, в котором имели наглость признаться мне, клянусь честью, что употреблю все свое влияние, чтобы помешать вам.
Шевалье, чувствовавший себя все более и более независимым, не обратил на угрозы брата почти никакого внимания. Он взял свою шляпу, затем столь же непринужденно, как если бы дело происходило в какой-нибудь конюшне, позвал свистом Блека и, закрыв дверь, оставил барона наедине с его задушенным петухом-кохинхинцем и в таком отчаянии, какое трудно передать.
XXXI ГЛАВА, В КОТОРОЙ ОПИСЫВАЕТСЯ, КАК ПИРАТЫ С БУЛЬВАРА ИТАЛЬЯНЦЕВ РУБЯТ ШВАРТОВЫ И УВОДЯТ КАРАВАНЫ
Мысль, которой шевалье де ла Гравери поделился со своим старшим братом и которая вызвала у того столь сильное раздражение нервной системы, казалась нашему герою вполне осуществимой; поэтому, несмотря на неудачу шагов, предпринимаемых им вот уже по меньшей мере около двенадцати часов, шевалье выглядел весьма довольным, покидая особняк на улице Сен-Гийом.
— Один отказывается жениться на этом прелестном маленьком ангелочке, — говорил он, — другой старается помешать мне дать ей имя, принадлежащее ей по праву рождения. Ну, что же, я ловко проведу их обоих! Право, я был так неразумен, что покинул Шартр, отважился путешествовать в этом проклятом мальпосте, наградившем меня ломотой во всех суставах, от которой мне следовало бы, будь у меня чуть больше здравого смысла, как можно быстрее излечиться с помощью растираний; я был так простодушен, что чуть не умер от холода под дверью этого старого сумасшедшего себялюбца, а теперь вот в такой-то час обиваю мостовые Парижа без белья, без одежды, без крыши над головой, когда так легко мог бы одновременно дать и состояние бедной Терезе, и отца ее ребенку!.. И я сделаю это, клянусь Господом! Я сделаю это, а мой достопочтенный брат, рассчитывающий на мое наследство, останется с носом! Разумеется, если в глазах общества я буду носить звание ее супруга, то для нее я навсегда останусь только отцом…
На этом обращенная к самому себе речь шевалье была прервана: он услышал, что кто-то его зовет.
Он обернулся и увидел камердинера своего брата, бежавшего за ним с небольшим чемоданом на плече.
— Господин шевалье, господин шевалье! — кричал тот, приближаясь к нему. — Вы забыли ваш чемодан.
— Мой чемодан? — переспросил шевалье, остановившись. — Проклятье! У меня не было с собой никакого чемодана, насколько мне, по крайней мере, известно.
— Однако, господин шевалье, — догнав г-на де ла Гравери и едва переведя дыхание, возразил камердинер, — этот чемоданчик поставил в углу привратницкой именно тот кучер, что привез вас. Госпожа Вийем, привратница, в этом уверена.
Шевалье взял чемодан из рук камердинера, осмотрел его со всех сторон и наконец на верхней его части заметил разорванную пополам карточку, на которой прочел следующее имя и адрес:
"Господин Грасьен д’Элъбен, офицер кавалерии, улица Предместья Сент-Оноре, № 42".
— Черт! — вскричал шевалье. — Вот ошибка, о которой я не буду сожалеть, и теперь у меня есть уверенность, что я смогу найти моего знакомого, когда пожелаю.
Дьёдонне поблагодарил камердинера, присоединил к словам благодарности луидор, сделал знак рассыльному, поставил ему чемодан на плечо и пустился в путь в поисках гостиницы, где бы он мог отдохнуть от дороги и волнений.
Шевалье нашел такую гостиницу на улице Риволи.
Заняв комнату на втором этаже, чтобы не утруждать себя, поднимаясь слишком высоко, и велев развести в камине жаркий огонь, он подставил теплу свою поясницу и плечи, так что едва не поджарил их; устроив Блека на подушках (без всякого стеснения он снял их с канапе, обитого утрехтским бархатом и украшавшего отведенную ему комнату), шевалье лег в постель, но, против всяких ожиданий и несмотря на усталость, никак не мог уснуть.
В то время, когда его мозг был разгорячен спором с братом, он полагал, и мы слышали, как он говорил это сам себе, что его женитьба на Терезе была бы самым простым, самым обычным и самым естественным делом на свете; но, с тех пор как случай открыл ему имя соблазнителя девушки, он стал размышлять более хладнокровно; каждый новый ход мыслей приводил его к возражениям, возмущавшим его деликатность и порядочность, и самым серьезным из них было вот это: действительно ли он получил неопровержимые доказательства того, что Тереза не была его дочерью, и, в том случае если бы его отцовство вдруг подтвердилось, разве этот брак, какими бы сдержанными ни были их отношения с молодой женщиной, не был бы глубоко безнравственным и порочным?
И еще, кто бы мог поручиться, что у барона нет какого-либо свидетельства об этом рождении, свидетельства, которое его старший брат скрывал бы от шевалье до тех пор, пока ему это выгодно, но которое он предал бы гласности ради мести в тот день, когда оно могло бы вызвать скандал по поводу кровосмесительного союза.
При мысли об этих двух помехах, угрожающе маячивших в глубине его сознания, а быть может, даже и совести, к шевалье быстро вернулись все его тревоги и все его колебания. Он решил не отбрасывать окончательно этот план, который казался ему славным дамокловым мечом, подвешенным над головою старшего брата, но в то же время, несмотря на свою привычку к лени и тягу к покою, он пришел к мысли сделать все необходимое и испробовать все средства, чтобы любовь бедной Терезы имела другой исход.
Будучи страшно взволнован, Дьёдонне так вертелся в кровати, что в конце концов, опасаясь таким образом заработать себе новую ломоту во всех суставах, решил встать.
Он оделся, кое-как скрыл под своим жилетом, застегнув его до самого верха, сомнительную чистоту рубашки и вышел в надежде, что на свежем воздухе у него, возможно, родятся новые идеи, недостававшие ему, пока он сидел, закрывшись в гостиничном номере.
Мы говорили, что г-н де ла Гравери по сути своей был фланёром, и, несмотря на серьезные заботы, свалившиеся ему на плечи, он обнаружил на улицах Парижа, по которым не ходил вот уже семнадцать или восемнадцать лет, слишком много предлогов для фланирования, чтобы его мысли тут же не переключились на другой лад.
Прежде всего, это были омнибусы, изобретение совершенно новое для г-на де ла Гравери, и он разглядывал их с любопытством.
Затем шли разного рода магазины с товарами на любой вкус, кафе — их роскошь с некоторого времени достигла таких размеров, что это вызвало изумление у бедного Дьёдонне, и они на каждом шагу заставляли его в восхищении замирать на тротуаре.
Блек среди всей этой суматохи и толкотни казался не менее растерянным, чем г-н де ла Гравери; он бегал взад-вперед с испуганным видом, толкаемый одними, останавливаемый другими; каждые пять минут он терял своего хозяина и тогда в поисках его обшаривал всю улицу, бегая с поднятой кверху головой и держа нос по ветру, глядя по сторонам, заходя во все открытые двери, обнюхивая каждого прохожего, исчезая и вновь появляясь и опять исчезая так часто и незаметно, что шевалье стал испытывать живейшее беспокойство.
"Тысяча проклятий! — раздумывал он. — Если и дальше так будет продолжаться, то я не премину потерять свою собаку. А это очень просто, ведь в тот день, когда душа человека переселяется, она перенимает привычки того тела, в которое господь ее помещает. И я вас спрашиваю, кто узнал бы степенного капитана гренадеров Дюмениля в этой собаке, которая носится как сумасшедшая, вместо того чтобы благоразумно держаться рядом со мной".
Эти рассуждения навели шевалье на хитроумную мысль купить поводок; он закрепил его замок-карабин на кольце ошейника спаниеля и, увлекая животное вслед за собой, продолжил свои странствия по улицам Парижа, где, как новоявленный Христофор Колумб, он, казалось, шел от открытия к открытию.
Блек, избавившись от всяких хлопот, похоже, был в восторге от нового способа путешествовать и следовал за своим хозяином, не выказывая ни малейшего сопротивления.
Однако уже приближался вечер, и г-ну дела Гравери, не принявшему еще никакого решения, пришло в голову, что пора подумать о своем желудке.
Его первой мыслью было отправиться с этой целью либо к "Вери", либо к "Провансальским братьям", либо в "Канкальский утес" — у него сохранились прекрасные гастрономические воспоминания, но тут он заметил ресторан, отделанный таким количеством позолоты и резьбы, что ему подумалось, будто и кухня этого заведения должна соответствовать внешнему блеску помещения; он вошел туда и заказал себе и Блеку ужин; свой он нашел отвратительным, но Блек, менее привередливый, чем его хозяин, съел все, даже не поморщившись.
Шевалье заплатил по счету и вышел.
За время его отсутствия счет стал называться по-новому: подсчет.
Господин де ла Гравери слегка поморщился, проверяя этот так называемый подсчет; он съел, или, точнее, ему принесли, ужин ценою в 39 франков 60 сантимов, а в его кулинарном представлении тот не стоил, за исключением вина, и малого экю.
Мы должны с присущей нам откровенностью признаться, что во время ужина г-н де ла Гравери для начала посчитал уместным сделать официанту ряд замечаний по поводу манеры закрывать дверь его кабинета, однако при этом так и не сумел добиться, чтобы тот закрывал ее более мягко; затем он дал некоторые комментарии к каждому из блюд, которые ему подавал все тот же официант и поручил ему объяснить шеф-повару, что, готовя томатный соус, необходимо брать одну треть лука и две трети помидоров, что фрикандо должно быть обжарено со всех сторон; что раки должны быть сварены в бордо, ведь оно не скисает на огне подобно шабли, и подаваться горячими в собственном соусе, вместо того чтобы быть поданными холодными и сухими на подстилке из петрушки, — так вот, мы должны признаться, повторяем, что, излагая свои гастрономические воззрения к большой выгоде тех, кто придет после него подкрепиться в этом ресторане, г-н де ла Гравери опустошил бутылку первоклассного шамбертена и полбутылку шато-лаффита, вернувшегося из Индии.
Подобное излишество было не в его привычках.
Поэтому он покинул ресторан весьма разгоряченным и возобновил свою прогулку по бульвару, держа поводок: один конец его он для большей верности намотал на кулак, на другом конце был Блек.
Шевалье был сильно не в духе. Он кое-как перенес неудобства бессонной ночи и то, что к ним добавилось: разговор с братом, заставивший его испытать самые разнообразные эмоции, и плохую постель, в которой он пытался отдохнуть и которая еще больше увеличила его усталость, вместо того чтобы снять ее; тем не менее он быстро забыл неудобную постель, а сквозняки, дующие в комнате, не произвели на него почти никакого впечатления, но вот только что поданный ужин привел его в полнейшее отчаяние, и он спрашивал себя, не было ли с его стороны более разумным как можно быстрее вернуться в славный город Шартр, где, как бы ни были велики его огорчения, у него, по крайней мере, была возможность пристойно пообедать и было столь милое его сердцу общество Терезы.
Поскольку барон и Грасьен отказались сделать то, о чем он приехал их просить, то ради чего ему было долее оставаться в Париже?
Шевалье шел сквозь толпу, заполняющую между семью и восемью часами бульвар Итальянцев, рассуждая сам с собой и сопровождая свои размышления жестикуляцией, из-за чего на его голову обрушилось не одно проклятие со стороны людей, задетых им по рассеянности; на эти проклятия достойный шевалье даже не соизволял отвечать.
Толпа все прибывала и прибывала, и в конце концов г-н дела Гравери охватил один из тех приступов ярости, которые часто случаются с провинциалами, когда они вынуждены пробираться в сплошном потоке праздношатающихся парижан, и, убегая от всей этой сутолоки, он принял решение вернуться в Шартр, а для начала попытался вернуться в свою гостиницу, представлявшуюся ему неотъемлемым этапом его путешествия.
— Да, — ворчал он сквозь зубы, — я навсегда покидаю тебя, проклятый и прогнивший город! Я укроюсь в своем доме, около моей бедной Терезы — она станет моей приемной дочерью, раз я не могу сделать ее ни своей женой, ни своей настоящей дочерью. И клянусь, пусть даже судебный процесс съест половину моего состояния, я оставлю ей достаточное наследство, чтобы она смогла жить в достатке, когда меня не станет. Будь спокоен, Дюмениль! Идем!
До сих пор шевалье жестикулировал левой рукой; правая, державшая поводок Блека, оставалась в кармане его брюк; но на этот раз, увлеченный пылом своего ораторского искусства, он поднял вверх именно правую руку, как будто призывая Небо в свидетели своей клятвы, которую он одновременно давал самому себе и своему другу.
К своему великому удивлению, шевалье при этом заметил, что на конце кожаного ремешка, болтавшегося у него на кулаке, ничего нет.
Шевалье обернулся.
Блека не было ни рядом, ни позади!
Тогда он подошел к газовому фонарю и внимательно рассмотрел ремешок. Тот был очень аккуратно обрезан каким-то острым инструментом.
У него украли его собаку.
Первым порывом шевалье было броситься бежать и звать Блека.
Но куда бежать? В какой стороне звать?
И потом, как перекричать оглушающий шум карет и глухой рокот толпы?
Господин дела Гравери принялся расспрашивать прохожих.
Одни отвечали на его вопросы, заданные взволнованным и прерывающимся голосом, пожатием плеч; другие говорили, что им ничего неизвестно. Человек в блузе уверил его, что видел какого-то типа, ведущего собаку при помощи платка, просунутого через ошейник; эта личность вела собаку в сторону улицы Вивьен. Животное сопротивлялось, и этому типу лишь с большим трудом удавалось заставить его следовать за собой.
Этот пес как две капли воды был похож на портрет спаниеля, нарисованный шевалье.
— Скорее на улицу Вивьен! — произнес шевалье, направляясь в указанную сторону.
— О! Он сильно опередил вас, и я сомневаюсь, что вы настигнете его, мой храбрый господин; если ваше животное, а в этом я не сомневаюсь, было украдено одним из тех молодцов, чья коммерция состоит в том, чтобы красть их и продавать, то оно уже в надежном месте.
— Но где его отыскать? Как его найти?
— Для начала надо обратиться с заявлением к комиссару.
— Хорошо; а потом?
— Объявить о пропаже, пообещать вознаграждение.
— Сколько бы это ни стоило, лишь бы только мне вернули мою собаку.
— Послушайте, — обратился к шевалье человек в блузе, растроганный его скорбью, — не стоит так отчаиваться; вы найдете вашего пса, и если не этого, так другого. Я вам обещаю одно: если награда будет приличной, то завтра утром, еще до вашего завтрака, две собаки, похожие на вашу, уже будут стоять у вашей двери.
— Но мне нужна моя собака, только моя собака, и никакая другая! — вскричал шевалье. — Вы не знаете, мой милый, как я дорожу своей собакой… А если я потеряю его во второй раз, моего бедного Дюмениля, то думаю, что не переживу этого!
— Дюмениль! Вашу собаку зовут Дюмениль? Послушайте, какое странное имя для собаки! Я бы сказал, скорее человеческое имя. Ну же, успокойтесь: Париж велик, но мне известны в нем все хитрости. Вы доверяете мне?
— Да, мой друг, да! — воскликнул шевалье.
— Отлично, я сам займусь вашей собачкой. Сегодня пятница; итак, обещаю, что в воскресенье до полудня я верну вам вашего господина Дюмениля и вновь посажу его на поводок. Но только если вы опять станете прогуливаться с ним по Парижу, то купите ему цепь: это тяжелее, но зато надежнее.
— Если вы сделаете это, если благодаря вам я найду Блека…
— Что такое или кто такой Блек?
— Но это же моя собака!
— Послушайте, следовало бы договориться, как же все-таки зовут вашу собаку — Дюмениль или Блек?
— Это Блек, друг мой, это Блек; однако для меня, но только для меня одного, он то Дюмениль, то Блек.
— Хорошо! Я понимаю, у него есть имя и есть фамилия.
— Так вот, — продолжал шевалье, желая сделать свое предложение более привлекательным, — если вы его вернете мне, я дам вам все, что вы пожелаете. Пятьсот франков вас устроят?
— Э! Я не такой, как те флибустьеры, что увели вашего пса, дорогой мой. Вы заплатите мне за труд и за потраченное время, ведь, пока я буду бегать за вашим спаниелем и загружать работой свои ноги, мои руки останутся праздными, а именно ими я зарабатываю на жизнь. Плату за мое время — вот все, что я хочу: я беру с вас обещание в обмен на то, что обещаю сделать для вас. Мне самому больно видеть, как вы страдаете из-за потерянной собаки: это доказывает, что у вас доброе сердце, а я люблю людей с добрым сердцем. Итак, больше не будем говорить о вознаграждении: мы сочтемся, когда животное будет найдено.
— Но вам, друг мой, придется нанимать экипажи, платить расклейщику афиш, печатнику, продавцу бумаги; позвольте, я вам дам хотя бы аванс.
— Расклейщик! Печатник! Продавец бумаги! Ну, конечно же! Я вам только что наговорил все это, поскольку мы еще не были знакомы, но все это рассчитано на дураков, и мы обойдемся без этого.
— Но однако же, друг мой…
— Положитесь на Пьера Марго, мой славный старичок, положитесь на него! Это он вам говорит лично. Пусть все будет тихо, не надо никого настораживать, будем немы, как усач под камнем, и я вам повторяю, что в воскресенье, именно в воскресенье, не позднее, вы получите вашего спаниеля!
— О! Боже мой, — вздохнул шевалье, — до воскресенья еще так далеко! Хоть бы его там кормили в эти дни!
— Ах, черт! Я не обещаю вам, что там, где он находится, кухня столь же обильная, как у вас в гостинице; но собака есть собака, и в конце концов у стольких людей на обед бывает всего лишь корочка хлеба, что не следует слишком печалиться о судьбе четвероногого, которого кормят картофелем.
— Когда же мы увидимся, мой храбрец?
— Завтра. Сегодня ночью я обойду все кабачки, где собираются пираты с бульваров; возможно, благодаря этому средству я смогу узнать новости о вашем животном еще до воскресенья. Вы, сударь, на мой взгляд, выглядите усталым; пойдите прилягте и, пожалуйста, не волнуйтесь. Где вы остановились?
— В гостинице "Лондон", на улице Риволи.
— Улица Риволи, знакомое место, хотя бывать там приходится не часто. Если позволите, я вас провожу. Судя по вашему виду, вы собираетесь плутать в поисках дороги, словно бекас в тумане. Ну, идите сюда.
Шевалье, послушный как ребенок, последовал за Пьером Марго и по дороге раз десять повторил ему свои указания насчет Блека.
Когда они подошли к двери гостиницы, шевалье удалось уговорить его принять монету в двадцать франков: она должна была облегчить поиски. На прощание г-н де ла Гравери назначил ему свидание на следующий день и, удрученный, вернулся к себе в комнату.
Он сел на подушки, на которых прошлой ночью спал Блек, и, хотя в камине не было огня, просидел так более получаса, погруженный в свои размышления.
Размышления эти были мрачного толка, и чем больше шевалье погружался в них, тем скорбнее они становились.
С того времени как в сердце Дьёдонне вновь поселилось чувство привязанности, он переживал одно огорчение за другим, одно разочарование сменяло другое; он не осмеливался припомнить все те сомнительные авантюры, причиной которых был Блек, а когда он думал о юной хозяйке бедного пса, его страдания становились в итоге еще больше! И — странное дело! — ему нравились эти тревоги; ему были приятны эти печали; эти страдания, что он переносил ради двух любимых им существ, были ему так дороги, что, немилосердно проклиная их, он все же ни разу не пожалел о том времени, когда, свободный от всяких забот и каких-либо опасений, жил, полностью посвятив себя пищеварению или же изучению науки поста.
Наконец он лег, со вздохом оглядел эту комнату, показавшуюся ему в десять раз более пустой и более унылой, чем накануне, и закрыл глаза. Ему пригрезилось, что он видит, как видел несколько часов назад, черный силуэт спаниеля, вырисовывающийся на фоне отсвета пламени в очаге.
Увы! Это был сон! В комнате больше не было ни огня в очаге, ни спаниеля.
Сознание шевалье уже до такой степени утратило всякую ясность, а тело так устало от потрясений, пережитых за последние сутки, что в конце концов он заснул глубоким сном.
Было около десяти часов утра, когда стук подкованных башмаков разбудил его.
Он открыл глаза и увидел, что в изножье его кровати стоит человек, накануне вечером обещавший помочь ему разыскать Блека.
К несчастью, Пьер Марто принес ему всего лишь надежду, и надежду, пока лишенную основания.
Он обследовал, но безрезультатно, весь квартал Сен-Марсо, где, как правило, проживали те, кто занимался торговлей собаками, доставшимися им по случаю.
Он ничего не смог узнать.
Тем не менее он был далек от отчаяния и, не желая давать никаких объяснений, по-прежнему обещал шевалье, что завтра, в воскресенье, он вернет ему его спаниеля.
Шевалье отпустил его.
Затем, вздохнув, он подумал, чем же ему заняться сегодня.
Ведь он не мог и помыслить вернуться в Шартр, не отыскав своей собаки.
Шевалье написал Терезе (она, должно быть, сильно беспокоилась о нем), чтобы она завтра утром, в воскресенье, села в дилижанс или в мальпост и приехала к нему в отель "Лондон" на улице Риволи; затем он написал своему нотариусу, чтобы тот прислал ему денег.
В конце концов, чувствуя себя не в состоянии провести целый день в стенах своей комнаты, он оделся и решил выйти на улицу, чтобы убить время, фланируя по городу, как накануне.
В ту минуту, когда он брал свою шляпу, лежавшую на столе, он заметил в углу чемоданчик — тот, что по недосмотру захватил с собой, покидая почтовую станцию.
"Смотрите-ка, — сказал себе шевалье, — вот я и нашел, чем мне заняться сегодня: я верну этот чемоданчик его хозяину, и, кто знает?.. Если рядом с ним не будет его друга Лувиля, мне удастся, возможно, заставить его осознать недостойность его поведения".
Придя к такому решению, г-н де ла Гравери подозвал фиакр, сел в него, захватив с собой чемодан, и приказал кучеру:
— Улица Предместья Сент-Оноре, номер сорок два.
XXXII КАКАЯ РАЗНИЦА СУЩЕСТВУЕТ МЕЖДУ ГОЛОВОЙ С БАКЕНБАРДАМИ И ГОЛОВОЙ С УСАМИ
Особняк д’Эльбенов поражал свои великолепием; он был построен совсем недавно модным архитектором и внутри был в изобилии украшен статуями и скульптурами, которые, возможно, и не были самого лучшего вкуса, но давали самое верное представление о богатстве его хозяина.
Две колонны коринфского ордера возвышались по обе стороны дубовых ворот, сплошь покрытых арабесками и каннелюрами; ворота открывались в застекленную крытую галерею, вымощенную деревом, чтобы заглушить шум подъезжающих карет.
В другом конце галереи находился двор с конюшнями и каретным сараем, еще дальше — сад, выходивший на Елисейские поля.
При входе в галерею, справа, располагалось помещение привратника, а слева, закрытый витражом из цветного стекла, — вестибюль с помпезной лестницей, ведущей в апартаменты: ее ступени покрывал пушистый ковер.
Шевалье де ла Гравери вышел из фиакра и, остановившись перед привратницкой, спросил:
— Я могу видеть господина д’Эльбена?
— Сударь желает говорить с отцом или сыном?
— С сыном, друг мой.
Привратник трижды позвонил в колокольчик. По лестнице спустился ливрейный лакей и, открыв стеклянную дверь, вышел в галерею.
— К господину барону, — пояснил привратник.
Лакей показал г-ну де ла Гравери дорогу и ввел его в изысканные покои на антресольном этаже, распахнув перед ним дверь гостиной.
Там он попросил шевалье подождать несколько минут, пока он предупредит своего хозяина.
Шевалье, будучи человеком, умеющим с пользой употребить время, стал отогревать ноги, весьма замерзшие во время поездки в фиакре; расположившись около огня, вытянув ноги и положив их на подставку у камина, он осмотрелся вокруг.
Господина де ла Гравери, получившего воспитание в светском обществе, не могла поразить роскошная обстановка комнаты, в которой он находился, хотя утонченность этой роскоши, тяготеющая главный образом к тому, чтобы создать максимальный комфорт, была совсем внове для человека той эпохи; но вот что его поразило, что приковало его взгляд, что показалось ему странным — это выбор книг, загромождавших стол, который стоял неподалеку от него; книг, как показалось ему, мало соответствовавших характеру Грасьена, чью беззаботность и легкомыслие он сумел оценить пусть во время краткого, но серьезного разговора.
Все эти книги были либо по политической экономии, либо по высшей философии, либо по общественным наукам.
Они не были здесь простым украшением.
Все они были разрезаны; несколько из них были истрепаны, оттого что ими пользовались ежедневно; наконец, на полях некоторых из них г-н де ла Гравери заметил и прочитал пометки, показавшиеся ему слишком глубокомысленными, чтобы они могли выйти из головы молодого офицера-кавалериста и быть написаны его рукой.
"Этот чертов слуга, должно быть, ошибся, — ворчал про себя г-н де ла Гравери, — и, вместо того чтобы проводить в комнату сына, провел меня в покои отца. Следует ли воспользоваться случаем и обрисовать ему, как обстоит дело? Это опасно, ведь в конце концов я могу ничего не сделать для Терезы. У Терезы нет имени, и если мой брат будет упорствовать, то мне будет затруднительно выделить состояние несчастной девушке; поэтому, рассказав все отцу, я, возможно, приумножу трудности, с которыми уже столкнулся".
Шевалье продолжал предаваться размышлениям, когда портьера приподнялась и в комнату вошел молодой человек; он направился к шевалье, но тот не слышал его шагов: их шум заглушал толстый пушистый ковер.
— Вы желали говорить со мной, сударь? — спросил вошедший молодой человек.
Господин де ла Гравери торопливо поднялся с кресла, в котором он сидел развалясь, причем сделал он это скорее от неожиданности, чем из любезности.
В самом деле, перед его глазами стоял Грасьен д’Эльбен собственной персоной; это было его лицо, его фигура, его осанка, его внешность, звук его голоса; и все же в лице вошедшего было нечто, чего шевалье — это он помнил твердо — не видел на лице офицера в прошлый раз и что его туг же поразило.
Этим нечто была пара черных бакенбард, полностью обрамлявших лицо молодого человека, в то время как вся остальная часть его лица была чисто выбрита.
Конечно, усы и короткая остроконечная бородка могли исчезнуть со вчерашнего дня, но вот бакенбарды за ночь отрасти не могли.
— Однако я имею честь говорить с господином Грасьеном д’Эльбеном? — спросил шевалье, растерянный из-за этого неожиданного появления.
Шевалье, как известно, легко поддавался беспокойству.
Молодой человек улыбнулся; слово "однако" все ему объяснило.
— Нет, сударь, — ответил он, — меня зовут Анри д’Эльбен; мой брат, Грасьен отсутствует: он отправился обедать со своими товарищами по гарнизону. Но если я могу ему что-нибудь передать от вашего имени, то можете мною располагать, сударь.
— Анри! Ах! Вы Анри д’Эльбен! — вскричал шевалье, охваченный весьма заметным волнением, ведь перед его глазами стоял тот человек, кого Тереза так любила, тот единственный, кого она когда-либо любила, и он теперь понимал, как легко молодая девушка могла стать жертвой этого невероятного сходства.
— Да, сударь, — ответил молодой человек, улыбаясь, — Грасьен, без сомнения, говорил вам обо мне, но, несмотря на все, что он вам рассказывал, вы удивлены нашим сходством. Мы очень похожи друг на друга: мы близнецы.
— Я понимаю, — сказал шевалье. — Извините мне мое волнение… Это сходство, о котором я совсем забыл, хотя мне о нем говорили, пробудило во мне воспоминание об одном приключении, оставившем настолько сильный след в моей жизни, что, как только я начинаю думать о нем, меня тут же охватывает сильнейшее возбуждение.
— В самом деле, сударь, вы весь дрожите. Прошу вас, сядьте и не вставайте больше.
Анри взял еще одно кресло и поставил его по другую сторону камина.
— Через несколько минут вы расскажете мне, — продолжал он, — что привело вас сюда.
— Для этого нет нужды ждать несколько минут. Послушайте, сударь, раз я не застал вашего брата, — решительно произнес шевалье, почувствовав, что ему придает смелости выражение участливого внимания и доброты на лице молодого человека, — то хотел бы рассказать вам мою историю. Я несчастный одинокий старик, у которого нет ни родных, ни друзей, а у вас вид гораздо более серьезный и вдумчивый, чем это обычно бывает у людей вашего возраста.
— Я страдал, сударь, — перебил его Анри с таким выражением на лице, будто он силился улыбнуться. — На свою беду я приобрел сердечный опыт, который быстро старит своих избранников, хотя и идет им впрок.
— Так вот, сударь, — продолжал шевалье, — как бы вы ни были молоды, вы, вероятно, могли бы дать мне один совет. Ведь в моем возрасте ум становится ленивым, а воля не торопится принять какое-либо решение и сделать выбор; впрочем, мне следует искренне признаться в том, что я всегда отличался крайней нерешительностью.
— Говорите же, сударь, — ответил молодой человек, — и хотя я не думаю, что мое мнение окажется вам хоть в чем-то полезным, поверьте, что моя симпатия целиком принадлежит вам, и это будет не моя вина, если вы не сможете ею воспользоваться.
Какое-то мгновение шевалье собирался с мыслями, а затем, глядя прямо в глаза своему собеседнику, продолжил:
— Что бы вы подумали, сударь, о человеке, который, злоупотребив сходством, столь же удивительным, как то, что существует между вами и вашим уважаемым братом, переодевшись и воспользовавшись темнотой или другим обстоятельством, обманул бы несчастную девушку и, выдавая себя за того, кого она любит, воспользовался бы ее заблуждением, чтобы обесчестить ее, а затем оставил бы одну предаваться своему отчаянию?
— По-моему, сударь, этот человек, если такой может существовать на свете, был бы достоин сурового порицания со стороны всех честных людей.
— А если бы эта молодая девушка в результате такого преступления стала матерью?
— Сударь, к несчастью, это одно из тех преступлений, что не подпадают под действие ни одного закона; но даю вам мое честное слово дворянина, что я в тысячу раз скорее предпочел бы пожать руку бандиту, с кинжалом за поясом и пистолетом в руке врывающемуся в дом, где он грабит, рискуя своей свободой, убивает, подвергая опасности свою жизнь, чем знаться с человеком без сердца, без совести, без чести, совершившим поступок, похожий на тот, о каком вы говорите.
— Так вот, сударь, — сказал шевалье, — это и есть моя история; а соблазненная девушка, такая нежная, такая ласковая и такая добрая, что, увидев ее, невозможно не полюбить, это моя дочь, сударь.
— Ваша дочь?
— Во всяком случае, моя приемная дочь.
— И он не понес от вашей руки заслуженного наказания? Вы не убили человека, принесшего бесчестие в ваш дом?
— Я уже сказал вам, сударь, я почти что старик, мне уже за пятьдесят, я слаб; моя немощная рука с трудом способна удержать тяжесть шпаги или пистолета…
— Господь дал бы вам силу, сударь, ведь Господь был бы за вас! — вскричал Анри с заразительной пылкостью. — Господь — это отец, мстящий за поруганную честь своего сына; он дарует мужество воробью, защищающему своих птенцов от хищной птицы; неужели он может отказать в нем человеку, исполняющему самую сокровенную, самую святую обязанность из всех тех, что предназначена человеку?
— Но ведь все законы, и Божьи и человеческие, запрещают дуэль.
— Дуэль, сударь, — а это действительно несчастье, но это такое несчастье, с которым необходимо смириться, — дуэль останется правосудием Божьим до тех пор, пока общество не будет строиться согласно другим законам, пока человеческое правосудие не станет искать в сердце каждого зло, дабы искоренить его, и добро, дабы его вознаградить; наконец, дуэль будет нужна до тех пор, пока общество не перестанет считать допустимым, а порой и забавным, что человек покушается на добродетель девушки и на честь супруги.
— Итак, сударь, если виновный упорно отказывается предоставить девушке то искупление, которое велит ему долг, вы советуете мне драться с ним?
— Говоря по совести, сударь, я советую вам это, — ответил Анри.
— Тогда, сударь, я должен вам признаться, — произнес г-н де ла Гравери, — что хотя у меня, как я вам только что сказал, мирный нрав, хотя я провел лучшую часть жизни, заботясь лишь о своем собственном благополучии, — я думаю так же, как и вы, и несомненно решился бы на это, если бы меня не удерживало одно опасение.
— Что за опасение?
— Я единственная опора бедной девочки; что бы вы ни говорили, а Небо не всегда бывает на стороне правого; судьба может изменить мне. Что станет с бедной девушкой, если она лишится меня?
— Если дело обернется подобным образом, сударь, я постараюсь заменить вас около нее, — просто ответил Анри.
— Вы мне это обещаете, сударь?
— Я вам клянусь.
— Послушайте, сударь, — сказал шевалье с воодушевлением, далеко выходившим за рамки его обычного поведения, — в вашем взгляде столько искренности, столько благородства и столько достоинства, что мне хочется вам верить, и я решусь… Да, в свою очередь клянусь вам, виновный будет наказан. Но я вынужден воспользоваться вашей любезностью и просить вас оказать мне еще одну услугу.
— Какую, сударь? Говорите.
— Я ни с кем не знаком в Париже и не знаю, к кому мог бы еще обратиться, если вы мне откажете в моей просьбе. Я прошу вас стать моим секундантом.
— Охотно, сударь.
— Вы мне должны поклясться, что, кем бы ни был мой противник и какое бы оружие ни было избрано для поединка, вы не покинете меня в ниспосланной мне Провидением миссии, которую я намереваюсь исполнить. Ведь я, сударь, — и вы должны были это заметить, — крайне неопытен в такого рода делах, и, поскольку вы были так добры, что помогли мне своими советами увидеть это дело в его истинном свете, я смею надеяться, что вы не подведете меня в решительную минуту.
— Сударь, в этом вопросе вы можете положиться на мое слово так же смело, как и во всех остальных. Но простите, мне необходимо выяснить у вас одну довольно важную подробность. Вы ведь, по-видимому, друг моего брата, но я не имею чести вас знать. Не будете ли вы так любезны сообщить мне ваше имя и оставить ваш адрес?
— Меня зовут господин де ла Гравери; как вы видите, я кавалер ордена Святого Людовика; я постоянно проживаю в Шартре, но в настоящее время остановился в гостинице "Лондон" на улице Риволи.
— Этого достаточно, сударь; как только я вам понадоблюсь, дайте знать, и я буду полностью в вашем распоряжении.
— Я благодарю вас и прошу хранить все это в секрете.
— Обещаю вам. Но, кстати, сударь, вы мне еще ни слова не сказали о том, что вас привело к моему брату. Не желаете ли вы, чтобы я ему что-нибудь передал?
— В этом нет ничего важного, сударь. Я приходил всего лишь для того, чтобы отдать ему этот чемодан, который он забыл вчера в почтовой карете, а мой кучер случайно захватил с собой.
Шевалье поднялся.
— Я благодарю вас от лица Грасьена, — сказал молодой человек. — Прощайте, сударь, и верьте, что мои лучшие пожелания будут сопровождать вас в той миссии, что вы собираетесь исполнить.
Анри настоял на том, чтобы проводить шевалье до ворот, и, посадив его в фиакр, в последний раз пожал ему руку.
Сердце г-на де да Гравери билось изо всех сил, он испытывал сильное и глубокое волнение и чувствовал, как время от времени дрожь пробегает по всему телу, в глазах все темнеет, а волосы на голове встают дыбом.
Но согласитесь, что сама мысль о первой дуэли в пятьдесят лет может произвести немалое впечатление.
— Ах! Если бы Дюмениль был здесь! — вздохнув, тихо произнес шевалье. — Он шел драться так, как я иду обедать, и владел шпагой и пистолетом так же, как я владею вилкой. Но, к несчастью, его больше нет, а Блек не в состоянии был бы померяться силами с Грасьеном: со времен собаки Монтаржи такого больше никто не видывал; впрочем, и сам Блек бродит неизвестно где.
— Куда поедет господин? — спросил кучер.
— Ах, да, куда я еду… Это правда… Я не знаю.
— Как! Господин не знает, куда ему надо?
— Нет… Попросите привратника подойти ко мне.
Привратник, предупрежденный кучером, почтительно приблизился. Он видел, как г-н Анри провожал гостя до фиакра.
— Друг мой, — спросил шевалье, — не знаете ли вы, где я могу найти в этот час господина Грасьена д’Эльбена?
— Вы найдете его, сударь, в Голландском кабачке; когда он в отпуске, то все свое время проводит только там.
— Тогда, кучер, вперед, в Голландский кабачок, — закричал шевалье таким тоном, который вызвал бы одобрение у покойного Дюмениля. — И поживее! Получишь на чай.
XXXIII ГЛАВА, ИЗ КОТОРОЙ ЯВСТВУЕТ, ЧТО И У ШТАТСКИХ ПОРОЙ ПРОСЫПАЮТСЯ ВОИНСТВЕННЫЕ НАКЛОННОСТИ
Голландский кабачок в ту пору был главным местом встреч военных, находившихся в отпуске.
Все, кто носил эполеты, начиная с младшего лейтенанта и кончая полковником, встречались под позолоченной лепниной вакхического заведения.
Все свидания военных проходили в этих стенах, подобно тому, как свидания актеров проходили в саду Пале-Рояля.
Офицер, покидая свой лагерь и отправляясь в Алжир, говорил своим товарищам, которых он оставлял во Франции:
— В мой следующий отпуск через два года мы с вами увидимся в Голландском кабачке.
И если только пули кабилов или дизентерия не решали все иначе, редко кто пропускал условленное свидание.
Тем не менее, несмотря на свое сугубо военное предназначение, Голландский кабачок имел совершенно штатский вид.
За исключением форменной одежды учащихся Политехнической школы или воспитанников Сен-Сирского военного училища, которые посещали кабачок, отдавая дань традиции, там не видно было ни киверов, ни красных панталон, ни мундиров.
Военный, хотя он и выказывает безмерное презрение к штафиркам, весьма любит цивильную одежду, вероятно по той единственной причине, что она воплощает для него неразделенную страсть.
В самом деле, какой-нибудь офицер, заслуживающий всяческих лестных эпитетов благодаря своей изысканности и элегантности, когда он одет в доломан или китель, выглядит просто заурядным, а часто и совершенно заурядным человеком, когда на нем классический редингот, а голову его вместо гусарской меховой шапки или блестящей каски украшает ничем не примечательный шапокляк.
Помните, что представляли собой в прошлом турки и во что они превратились с тех пор, как, следуя законам прогресса, Махмуд облачил их в голубой редингот и красные брюки.
К тому же — и это является смягчающим обстоятельством — офицер, которому редко выпадает случай воспользоваться своим штатским платьем, хранит его с той благоговейной заботой, с какой военный человек относится к своему скарбу; в результате оно служит ему гораздо дольше, чем обычно служат пальто и редингот; вот почему, когда он его, наконец, извлекает на свет Божий и надевает на себя, то выглядит, точно вышедший на прогулку щеголь со старой гравюры мод.
И если в Голландском кабачке нечасто попадался на глаза мундир, то зато за каждым столом здесь можно было увидеть множество сюртуков и рединготов совершенно оригинального покроя, немало немыслимых шейных бантов и немало шаровар наподобие казацких, к тому времени уже благоразумно отвергнутых модой. Короче, любому легко было догадаться, что это заведение целиком заполнено офицерами, более или менее удачно переодетыми в штатских.
Густые клубы табачного дыма висели в воздухе, к тому же насыщенном парами, которые исходили от множества кружек с пуншем — обычного напитка завсегдатаев.
Пятеро или шестеро посетителей, в которых по шпорам, сохранившимся у них на сапогах, можно было признать офицеров-кавалеристов, сидели в углу справа, вблизи сада.
Они отобедали в кафе, и, судя по тому, как оживилась их беседа, отобедали весьма обильно.
Как всегда, разговор этих господ вертелся вокруг излюбленной и неиссякаемой темы их бесед: достоинства различных гарнизонов и их сравнение друг с другом.
— Ах, господа, — говорил наш старый знакомый лейтенант Лувиль, находившийся среди участников этой пирушки, — да здравствует Тур в Турене, известный прежде всего как сад Франции, ибо так его называют эти идиоты-поэты, но в конечном счете весьма неплохой городок: великолепный чернослив, сносный театр, очаровательные гризетки. Тур — перл среди гарнизонов!
— Черт возьми, мой дорогой, — отвечал ему толстяк с румяным лицом и коротко подстриженными седыми усами, — я стоя л в Туре, я пробыл там два года и уверяю вас, что Тур ничем не лучше других гарнизонов.
— Вот как! Но почему вы так говорите, капитан?
— Потому что утверждаю: по прошествии первых двух месяцев начинаешь скучать в любом из них, где бы ты ни был.
— А я все же предпочитаю Нор, — вступил в разговор третий собеседник. — Там мы имеем великолепный контрабандный табак для курения, и, черт возьми, вовсе недорого.
— А Понтиви, господа! — вскричал четвертый. — Превосходное содержание — сорок пять франков в месяц.
— А каково твое мнение, Грасьен?
— Мое мнение, — отвечал Грасьен, — вот оно: чем больше я езжу, тем больше убеждаюсь, что среди всех гарнизонов, где мы стояли, нет ни одного, который оказался бы сносным. И это невероятно укрепляет мою решимость сдержать данное самому себе обещание подать в отставку, чтобы больше никогда не покидать единственный в своем роде прелестный и дивный гарнизонный город — я говорю о Париже.
— Да, — сказал Лувиль, — подобное предпочтение в самом деле понятно, когда имеешь такого отца, как твой, у кого не один миллион в кармане. И все же я сомневаюсь, что, несмотря на все свои миллионы, на все удовольствия, которые дарит нам Париж, ты забыл счастливые часы, проведенные на военной службе.
— Где и какие? — спросил Грасьен.
— Неблагодарный! Повсюду и всегда! Да, вот, послушай, зачем же далеко ходить, разве в этом ужасном городе Шартре, Автрике карнутов, ты не пережил с этой малюткой Терезой самое чудесное, самое дивное из приключений, подлинное похождение Ловеласа, проказник?
— Послушай, Лувиль, — сказал заметно расстроенный Грасьен, — не будем говорить об этом… Уверяю тебя, что это воспоминание, напротив, мне весьма неприятно.
— Почему? Из-за этого старого безумца, который под тем предлогом, что ты воспользовался первым сердечным опытом молодой девушки, хотел заставить тебя, барона Грасьена д’Эльбена, жениться на гризетке без единого су в кармане? О! Этот простак был весьма забавен! Но и я тоже славно посмеялся над ним, особенно после того как ты покинул нас и пересел к кучеру. — Но, тысяча чертей! — воскликнул Лувиль, подпрыгнув на стуле. — Это он… это он собственной персоной входит сюда… А! Вот мы сейчас повеселимся! Взгляните, господа, восхитительная осанка! Посмотрите, с каким воинственным видом наш ветреник Людовика Пятнадцатого размахивает своим зонтиком… — Эй! Сударь!
— Без глупостей, Лувиль, — сказал толстяк. — Не забывайте о том, что этот почтенный господин вдвойне имеет право на ваше уважение: во-первых, из-за того, что он вдвое старше вас, а во-вторых, благодаря красной ленте, которую он носит в своей петлице.
— Подумаешь, крест Святого Людовика!
— Это всегда цена крови, Лувиль, и не пристало нам, солдатам, насмехаться над тем, кто его носит.
— Оставьте меня в покое, капитан! Это какой-нибудь эмигрант, какой-нибудь беглец, служивший в полку Королевских кроатов и заработавший себе крест, отираясь в передних. Черт возьми, я считаю, что так славно посмеяться над ним, и не собираюсь упускать столь драгоценную возможность.
Затем, обращаясь к шевалье де ла Гравери, который, узнав офицеров, направлялся к их столику, Лувиль, поднявшись со стула, чтобы сделать шаг навстречу ему, продолжил:
— Несказанно рад, сударь, увидеть вас вновь. Надеюсь, что позавчерашняя ночь не повредила вашему здоровью и не омрачила вашего веселого настроения?
— Нет, сударь, — сказал шевалье с улыбкою на устах, — как видите… Если не считать некоторой ломоты в теле, я чувствую себя великолепно.
— А! Тем лучше! Тогда вы не откажетесь присоединиться к нам и поднять бокал за здоровье очаровательной Терезы, о которой мы как раз вспоминали в ту самую минуту, когда вы вошли.
— Ну, конечно, сударь, — ответил шевалье, по-прежнему невозмутимо улыбаясь. — Вы мне оказываете слишком большую честь, и я не в силах вам отказать.
— Позвольте предложить вам стакан этого пунша! Он превосходен и прекрасно прогоняет черные мысли из головы и тяжесть из желудка.
— Весьма вам благодарен за вашу любезность, сударь, но, как человек тихий и невоинственный, я в высшей степени опасаюсь крепких напитков.
— Быть может, они пробуждают в вас свирепость?
— Именно так.
— Смотри же, Грасьен, будь полюбезнее с господином шевалье; ведь, принимая во внимание вашу ленту, сударь, я смело могу присвоить вам этот титул.
— Действительно, господин Лувиль, он принадлежит мне дважды: я шевалье по дворянскому происхождению и шевалье… по случаю.
— Ну что же, шевалье, должен вам сказать, что ваш друг Грасьен вот уже два дня как заделался задумчивым мечтателем. Я лично предполагаю, если вы хотите знать мое мнение, что он обдумывает то предложение о женитьбе, которое вы ему сделали.
— Господин Грасьен поступил как нельзя лучше, задумавшись о нем, — ответил шевалье с совершеннейшим добродушием.
— Да, — подхватил Лувиль, — но ничто сильнее не отягощает рассудок храброго малого, чем подобные мысли. Итак, что вы предпочитаете, шевалье? Стакан лимонада, бутылочку оршада или смородиновки? А быть может, баварской?
— Да, именно так, сударь, баварской.
— Человек! — закричал Лувиль. — Баварской господину… очень горячей и очень сладкой.
Затем он вновь обратился к шевалье:
— А теперь, сударь, если только подобный вопрос не покажется вам бестактным, окажите нам честь и сообщите, что привело вас в этот притон, который зовется Голландским кабачком. Я полагаю, что вы не являетесь завсегдатаем подобных мест.
— Вы как всегда правы, сударь, и я поистине восхищаюсь верностью вашего ума.
— Мне приятно, что вы отдаете мне должное.
— Я пришел с единственной надеждой встретить господина Грасьена, ибо не застал его дома.
— О! Вы взяли на себя труд заехать ко мне? — удивленно спросил Грасьен.
— Да, господин барон, и это от вашего привратника я узнал, что, в отличие от меня, вы охотно проводите свое время в Голландском кабачке.
— Вы в самом деле, — прервал его Лувиль, — пришли, чтобы увидеться с Грасьеном? Это доказывает, что вы не отказались от вашего замысла. Ну что ж, тем лучше! Лично мне нравятся упрямые люди, и, право же, я приму вашу сторону, такую глубокую симпатию вы мне внушаете. Что ж, в нашем нынешнем положении речь может идти только о брачном контракте, и ни о чем другом. Ладно, давайте обсудим его условия. Грасьен, вам первому слово, друг мой. Что вы даете? Сколько земельных угодий? Сколько в государственной ренте? Сколько облигациями железных дорог? Сколько ценными бумагами Тара?
— Лувиль, — ответил Грасьен, — я очень серьезно прошу вас прекратить эту шутку, она и так уже слишком затянулась. Я сообщил этому господину мое решение; дальнейшая настойчивость выглядит неуместно и бестактно, и это меня удивляет в таком пожилом и светском человеке, как шевалье; с другой стороны, если бы я стал насмехаться, как это делаете вы, над уделом девушки, который после всего случившегося мне следует оплакивать, то это свидетельствовало бы о недостатке деликатности и сердечности с моей стороны. Подумайте о том, что я вам сейчас сказал, сударь; задумайтесь об этом и вы, Лувиль, и надеюсь, вы оба согласитесь со мной.
— Отнюдь, — возразил шевалье де ла Гравери. — Я лично, напротив, нахожу, что господин Лувиль говорит вполне разумные и уместные вещи, и, вместо того чтобы рассердиться на него, бесконечно признателен ему за это.
— Вот видишь, Грасьен! Так говори же и оставь свой трагический вид, ведь господин, выступающий поборником мадемуазель Терезы, первым призывает тебя к этому… Ты молчишь?.. Послушайте, господин шевалье, если сначала заговорите вы, возможно, это его распалит. Итак, начинайте, мой дорогой; перечислите нам все богатства вашей подопечной, не скупитесь, ибо, предупреждаю вас, наш друг Грасьен, обыкновенный младший лейтенант, каким вы его знаете, богат, очень богат. Но, прошу прощения, вот официант несет вашу баварскую. Пейте же, сударь, выпейте сначала, это сделает ваши предложения еще более заманчивыми.
Шевалье с улыбкой слушал этот поток слов. Он медленно помешал ложечкой напиток, поданный ему, поднес его ко рту, не спеша проглотил, поставил стакан на стол, тщательно вытер губы батистовым платком и, повернувшись к Грасьену, сказал:
— Сударь, я размышлял над тем предложением, которое полагал себя обязанным сделать вам третьего дня, и пришел к мысли, что с моей стороны было нелепым назначать цену столь справедливому, благородному и совершенно естественному поступку, который я предложил суду вашей совести.
— Нет ничего проще, черт возьми! — прервал его Лувиль.
— Дать приданое Терезе — но заметьте, что я в состоянии это сделать, — продолжил шевалье, — значило бы нанести оскорбление вашей деликатности, и я не буду удивлен, если сделанное мною предложение оказалось бы единственной причиной отказа, которым вы ответили на мои шаги. Сегодня, сударь, я, напротив, пришел вам сказать: Тереза не имеет имени, у Терезы нет никакого состояния, но вы ее обесчестили… Вы ее обесчестили, но отнюдь не поддавшись порыву взаимного влечения, а призвав себе на помощь самую гнусную, самую подлую уловку! Вы обязаны без колебаний повиноваться властному зову долга.
— Браво! Вот неотразимый довод. Что ж, теперь твой черед, Грасьен, защищайся; но, предупреждаю, твои дела не слишком хороши. Представь себе, что ты находишься перед судом присяжных, а я его председатель.
— Мой ответ будет краток, дорогой друг, — произнес Грасьен с немалым достоинством. — Я скажу господину шевалье…
Молодой человек слегка поклонился.
— … я ему скажу, что его оскорбления найдут мою решимость столь же непоколебимой, как и его посулы. Будет ли мадемуазель Тереза богата или бедна, для меня это не имеет никакого значения, и еще я добавлю, что господину шевалье крайне повезло, что у него седая голова; ведь если бы не это, то я посчитал бы себя обязанным совсем иначе ответить на некоторую часть его речи.
— Боже мой, не стесняйтесь, любезный сударь, — спокойно сказал шевалье. — Пусть вас не волнует, стала ли моя голова уже совсем седой или только наполовину, ибо я готов встать под дуло вашего пистолета или острие вашей шпаги.
— Ах, так! Ты чувствуешь, Грасьен, этот милейший господин, похоже, начинает вести себя вызывающе?
— Это вас удивляет, любезный господин Лувиль? — произнес шевалье с невозмутимым видом. — Не предполагаете ли вы, случайно, что храбрость есть не что иное, как безрассудство?
— Ну что же, это уже другое дело, — сказал Грасьен.
Шевалье, по-прежнему с улыбкой на устах, повернулся в его сторону.
— Значит, — продолжал молодой человек, — только что вы произнесли все эти слова с заранее обдуманным намерением меня оскорбить?
— Меня не волнует, сударь, могут мои слова вас оскорбить или нет, — сказал шевалье, — я выбрал их, потому что они прекрасно характеризуют ваше поведение, вот и все.
— Одним словом, сударь, вы пришли сюда, в Голландский кабачок, сегодня, в субботу, с намерением сказать мне в присутствии моих товарищей: "Женитесь на мадемуазель Терезе или вы будете иметь дело со мной!"
— Именно так, господин барон.
Затем, постучав ложечкой о стакан, он сказал:
— Официант, еще баварской.
— Ну нет! — вскричал Грасьен.
— Что нет?
— Драться с вами на дуэли было бы слишком нелепо.
— Ах, вы так полагаете?
— Да.
— Вы считаете, что будет нелепо убить человека, который, в общем-то, вполне способен ударом шпаги проткнуть вашу грудь или же всадить вам пулю в голову; и вы не находите, как считаю я, трусливым и постыдным поступком прибегнуть к отвратительной уловке, чтобы похитить нечто большее, чем жизнь — единственное, чем я рискую, дерясь с вами, — чтобы похитить честь у беззащитной девушки? Воистину, вы весьма непоследовательны, господин Грасьен… Спасибо, любезный.
Эти последние слова относились к официанту, поставившему перед шевалье еще один графин с баварской.
— Хорошо, — сказал Грасьен после минутного размышления, взбешенный, вероятно, гораздо сильнее невозмутимостью шевалье, чем оскорблениями в свой адрес, — хорошо, если вы непременно на этом настаиваете…
— Вы женитесь на Терезе?
— Нет, сударь, я вас убью.
— А вот это, сударь, — сказал шевалье, не выказав ни малейшего волнения и недрогнувшей рукой наливая баварскую из графина в стакан, — это мы еще посмотрим. Подождем до завтра, молодой человек, завтра все решится. Не предсказывайте будущее: тот, кто предсказывает будущее, рискует ошибиться. Итак, решено, мы будем драться.
— Да, безусловно, мы будем драться, — ответил Грасьен, стиснув от гнева зубы, — если только вы не возьмете ваши слова обратно.
Грасьен предоставил шевалье эту последнюю возможность к отступлению, ибо он скрепя сердце решился на эту дуэль, нелепый и омерзительный характер которой был ему вполне ясен.
— Взять обратно? — произнес шевалье, поднося стакан ко рту и медленно потягивая вторую порцию баварской. — О! Вы совсем меня не знаете, любезный господин Грасьен! Я долго, очень долго не могу решиться, но, как только решение принято, я следую примеру Вильгельма Завоевателя и сжигаю свои корабли.
Произнеся эту фразу, шевалье выплеснул в лицо Грасьену остатки баварской из своего стакана.
Молодой офицер, рванувшись вперед, собирался броситься на старика, но его друзья, и первым Лувиль, вцепились в него и удержали.
— Ваши секунданты? Кто ваши секунданты, сударь? — рычал Грасьен.
— Завтра утром они встретятся с вашими и обо всем договорятся, сударь.
— Где же?
— Если не возражаете, то в Тюильри, на террасе Фейянов, напротив гостиницы "Лондон", где я остановился… скажем, с двенадцати до часу?
— Ваше оружие?
— Ах, сударь, для военного вы плохо знакомы с основными правилами дуэли. Каким будет мое оружие, это решать не вам и не мне: это дело наших секундантов. Оскорбление нанесено вам, сообщите свои условия вашим секундантам.
— Отлично! А вас, господа, вас я беру в свидетели! — вскричал Грасьен. — Если с этим стариком случится какое-либо несчастье, то виноват в нем будет он сам; это то, чего он хотел, то, чего добивался. Пусть его кровь, если она прольется, падет на его голову.
И молодой офицер в сопровождении своих друзей вышел из кабачка.
Господин де ла Гравери, оставшись один, допил последние капли баварской, оставшиеся на дне стакана.
Затем, взяв свой зонтик в углу окна, куда он поставил его, войдя в кабачок, шевалье сказал вполголоса:
— Боже мой, как мне досадно, что этот дурак Блек дал себя увести… Если бы Дюмениль мог меня видеть, он был бы доволен мной!
XXXIV ГЛАВА, В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ОДНОВРЕМЕННО ВСТРЕЧАЕТ ТО, ЧТО ОН ИСКАЛ, И ТО, ЧЕГО ОН НЕ ИСКАЛ
Шевалье де ла Гравери вышел из Голландского кабачка совсем другим человеком, нежели вошел в него.
Его шляпа, обычно сидевшая прямо относительно оси его лица и слегка надвинутая на глаза, вдруг заняла наклонное положение, что придало ему лихой и даже несколько вызывающий вид.
Одна из его рук, опущенная в карман брюк, играла там самым развязным образом с несколькими луидорами, позвякивание которых было хорошо слышно, в то время как другая угрожающе размахивала зонтиком и выписывала наконечником мирного орудия самые замысловатые фигуры фехтования.
Обычно шагавший с низко опущенной головой и сходивший с тротуара на мостовую, уступая дорогу ребенку, он в эту минуту шел, высоко подняв глаза, расправив плечи, подтянувшись с видом человека, доблестно завоевавшего свое место под солнцем, невозмутимо выжидая, пока прохожие уступят ему дорогу, что те непременно и делали: одни из уважения к его возрасту, другие из почтения к красной ленте в его петлице, остальные же потому, что вызывающий вид шевалье действительно понуждал их к этому.
На одно мгновение он почувствовал искушение зайти в табачную лавку и купить там сигару, предмет, к которому он всегда питал неукротимое отвращение: ему казалось, что сигара была бы необходимым дополнением к его новой манере поведения, и он, любуясь собой, охотно представлял, как будет пускать в небо подобно новоявленному Каку огромные клубы дыма и, таким образом, станет чуть больше походить на своего друга Дюмениля, в эту минуту служившего ему примером.
Но, к счастью, он вспомнил, что однажды вечером в Папеэте, взяв сигару из губ Маауни и вдохнув несколько глотков душистого аромата, которым юная таитянка любила окружать себя как облаком, он почувствовал ужасные приступы тошноты и такое недомогание, что ему потребовалось около трех дней, чтобы прийти в себя.
Он подумал, что подобный спектакль, разыгранный перед его противниками, мог бы скомпрометировать только что завоеванную им репутацию, и рассудительно пресек это поползновение.
Шевалье удовольствовался тем, что сознание личного достоинства, проснувшееся в нем, придало величественное выражение его лицу, и скромно вернулся в свою гостиницу.
А теперь, будучи правдивым историком, я должен признать, что, несмотря на уверенность и самонадеянность, с какими шевалье вызвал на дуэль Грасьена д’Эльбена, несмотря на то удовлетворение, какое шевалье сам получил от своего смелого поведения, г-н де ла Гравери очень плохо спал в эту ночь. Но причиной его бессонницы был вовсе не страх смерти или боли… Нет, его волновали два совершенно других вопроса: первый — судьба, уготованная Терезе в том случае, если с ним случится несчастье; второй — опасение, что его поведение изменится, как только он окажется на месте поединка, и он не будет в полной мере соответствовать сделанному им оповещению о своих достоинствах.
Что касается Терезы, то он несколько успокаивался, думая об обещании, данном ему Анри, обещании, которое станет для молодого человека еще более нерушимым, когда он увидит ту, о которой дал слово заботиться; к тому же г-н де ла Гравери надеялся, что бы там ни говорил по этому поводу его брат, обеспечить будущее девушки завещанием, собственноручно составленным им по всем правилам.
Оставалась дуэль.
Несколько часов одиночества и раздумий остудили кровь шевалье, и, хотя его решение по-прежнему оставалось неизменным, ему потребовалось призвать на помощь весь свой рассудок, чтобы успокоиться.
К несчастью, задача была очень трудной, и чем больше шевалье старался доказать самому себе, что у него есть все основания оставаться спокойным, тем больше самых черных мыслей рождалось в его мозгу.
Все, что несколько часов назад представлялось ему не заслуживающим никакого сожаления, в этот миг казалось таким сладостным, таким прекрасным и соблазнительным, что он никак не мог решиться расстаться со всем этим.
Все радости, все удовольствия, все наслаждения жизни вставали в его памяти и, взявшись за руки, кружились в прелестном и манящем танце; казалось, они с грустью говорили шевалье: "Прощай, шевалье!.. Ты скоро лишишься нас, ты, который с легкостью мог бы нас удержать, если бы не изображал из себя молодого человека, задиру, завзятого дуэлянта, поборника справедливости, Дон Кихота, наконец!"
Шевалье нашел это танцевальное напоминание чрезвычайно неприятным.
И в то же самое время, причем все сразу, мрачные видения будущего беспорядочно роились в далях его воображения, как будто для того, чтобы соответствовать тому, что ему виделось на переднем плане.
Он чувствовал, как холод смерти леденит его кожу и проникает в тело.
Ему казалось, что из потустороннего мира прилетели духи, дабы завладеть его телом; он чувствовал на своем лице дуновение воздуха от взмахов огромных крыльев нетопырей.
Малейший шум, раздававшийся по соседству, напоминал ему стук молотка, сколачивающего доски гроба, который предназначался для него.
Бодрствуя, он представлял себе наяву, что его предают земле, и ему слышалось, как глина и камни тяжело падают на крышку его гроба.
Он чувствовал, как тысячи могильных гадов заползают в складки его савана, и в предчувствии их леденящего и липкого прикосновения по его коже пробегала дрожь.
Ночь, прародительница всех мрачных видений и потусторонних сил, показалась ему бесконечно длинной, и, едва только занялся рассвет, он поспешно, вопреки своим привычкам, вскочил с постели.
"Решительно, — раздумывал шевалье (его сотрясала дрожь, вызванная наполовину холодом, а наполовину тем состоянием духа, в котором он пребывал), — решительно, я не создан для того, чтобы стать героем! Что ж, тем больше я буду уважать себя за свое достойное поведение; но как странно, вчера я совершенно не чувствовал ни малейшего страха — а ведь, наоборот, именно вчера я и должен был бы испытывать колебания, — тогда как сейчас меня охватывает дрожь. Не могу же я, однако, ежеминутно вызывать кого-нибудь на дуэль, дабы поддерживать свое мужество на должном уровне!"
И шевалье, чтобы прогнать эти гнетущие мысли и не позволять безделью вновь повергать его в мучительные терзания, решил написать Анри д’Эльбену, не называя имени своего противника, что, по всей видимости, дуэль будет назначена на восемь часов утра завтрашнего дня, и поэтому он просит Анри зайти за ним завтра в семь, чтобы вместе отправиться на место поединка.
Он ни в коем случае не хотел допустить свидания Анри с офицерами: они могли бы ему все рассказать; за время, оставшееся до завтрашнего дня, или, точнее, до часа, назначенного для встречи секундантов, шевалье надеялся найти второе доверенное лицо — человека, который договорился бы об условиях поединка с секундантами Грасьена.
Закончив писать и запечатав письмо, г-н де ла Гравери вышел из дома, чтобы лично отнести его на почту. В столь значительных обстоятельствах шевалье предпочитал полагаться на самого себя.
Выходя из ворот гостиницы на улицу, он нос к носу столкнулся с человеком, пообещавшим ему найти Блека.
— О! Вы уже на ногах, сударь! — обратился к нему Пьер Манто. — Что ж, можно сказать, собаке повезло больше, чем многим людям. Ведь, к примеру, потеряйся я, никто, слава Богу, не лишится сна! Но, впрочем, час скоро уже наступит.
— Какой час? — спросил шевалье, голова которого еще не вполне прояснилась.
— Час, когда я, надеюсь, смогу вернуть вам ваше животное.
— Вы его видели? О, отведите меня к нему, славный мой. Если бы мой дорогой Дюмениль был рядом со мной, мне кажется, я бы больше никого не боялся.
— Терпение! Наберитесь терпения! Мы сейчас с вами не торопясь отправимся туда, где он находится, и вы увидите, что я вам не солгал.
— Но куда же вы идете?.. Или, точнее, куда мы идем?
— На собачий рынок, черт возьми! Не думаете ли вы, что мошенник, укравший вашего пса, увел его, чтобы сделать из него святые мощи? Идемте же!
— Но все же? — спросил шевалье.
— Вот как обстоят дела: о собаке не заявляли; никто не видел ни объявления о пропаже, ни обещания дать за нее большое или малое вознаграждение — значит, можно не волноваться; так что, уверяю вас, в это время ваш песик, подобно нам, двигается в сторону заставы Фонтенбло.
Действительно, именно у заставы Фонтенбло каждую неделю по воскресеньям, вторникам и пятницам проходит конная ярмарка, и торговля собаками служит, так сказать, ее прямым продолжением и дополнением.
Два художника — Альфонс Жиру, покинувший нас в расцвете сил, и Роза Бонёр, женщина с нежным именем и мощным талантом, — создали из этого спектакля две картины, по-разному воспроизводящие его живописный характер.
Но в назидание тем, кто все названия понимает буквально, мимоходом заметим, что вовсе не на конную ярмарку следует идти тому, кто решил приобрести тех великолепных животных, что демонстрируют свое изящество и утонченность на улицах Парижа и посыпанных песком аллеях Булонского леса.
Конная ярмарка носит чисто утилитарный характер: здесь никоим образом не ценится ни красота, ни изящество форм, ни благородство пород; сюда приходят, чтобы приобрести живую машину для работы и к тому же по самой дешевой цене.
Достаточно сказать, что, за исключением нескольких першеронов и нескольких булонских тяжеловозов, на этой ярмарке можно встретить лишь изнуренных, одряхлевших животных, надорвавшихся на мостовых Парижа, этого лошадиного ада; там можно увидеть только жалких, измученных одров с разбитыми ногами; барышники настойчиво, упорно стремятся выжать из них все силы, которыми Господь наградил их мускулы, всю мощь, которую он вложил в их ноги, прежде чем посредством Монфоконской живодерни отправить их в небытие.
Но особенно на конной ярмарке следует обходить тех животных, что выглядят здоровыми и крепкими.
Можно с полной уверенностью сказать, что либо у них строптивый норов, либо они подвержены головокружению.
Несмотря на плачевный вид каждой отдельно взятой особи, выставленной на этой ярмарке, в целом она представляет собой довольно оживленное зрелище; здесь лошадь ценой в тридцать франков заставляют идти рысью или галопом, бить землю копытом и приплясывать от нетерпения, и все это сопровождая ударами хлыста и стуком копыт, совершенно так же, как это делают у Кремьё или Дрейка с полукровками ценою в тысячу экю: те же хитрости, те же фразы, те же клятвы, что и у наших самых модных торговцев, но здесь, на ярмарке у заставы Фонтенбло, бесконечно больше красок, чем там, на Елисейских полях.
Как мы уже упоминали только что, торговля собаками является всего лишь приложением к торговле лошадьми.
Торговля собаками была бы весьма ничтожным и убыточным занятием, ведись она честным образом; а поскольку подразумевается, что каждый должен жить своим ремеслом, то продавцы собак устроились так, чтобы сделать свое занятие как можно более прибыльным.
Вместо того чтобы выращивать собак (а это, из расчета как минимум шести франков в месяц, составит в конце года общую сумму в семьдесят два франка — стоимость собаки без учета вырученной прибыли), они сочли, что гораздо выгоднее подбирать в общественных местах уже взрослых собак и выставлять их на продажу.
Затем, поскольку бродячие собаки стали попадаться гораздо реже, торговцы стали помогать животным вступить на путь бродячей жизни, поступая с ними так же, как это было на наших с вами глазах со спаниелем г-на де ла Гравери.
Собачий рынок, подвигнувший нас на эту ученую диссертацию, располагался в боковых аллеях Госпитального бульвара, примыкающего к заставе Фонтенбло, или к Итальянской заставе.
Некоторые из этих забавных четвероногих привязаны к кольям.
Щенки сидят в клетках.
Взрослые собаки прогуливаются со своими хозяевами или, точнее, теми, кто оказался ими благодаря столь непредвиденным случайностям, что, принимая во внимание разнообразие обстоятельств, мы даже не будем приниматься за эту тему.
Здесь можно найти собаку любого роста и любой величины, любой масти, любой породы и любого облика.
Есть пиренейские собаки рыжеватой масти и притворно-ласкового вида; остерегайтесь их, даже если их кличка будет Мутон, как у той, что однажды изгрызла мне руку.
Есть бульдоги с приплюснутыми носами, с горящим взглядом и с кабаньими клыками.
Есть терьеры, сторожевые псы, легавые, бракки и пойнтеры более или менее чистых кровей.
Здесь представлены также овчарки и кингчарлзы.
Все породы гончих, от таксы до борзых, выставлены на этом рынке.
Здесь встречаются также полусобаки-полуволки, белые и черные, напоминающие кондуктора дилижанса, закутанного в свои меховые одежды; турецкие собаки, словно сбросившие свои шубы и постоянно дрожащие от холода; гаванские собаки, которых лишь с большим трудом можно обнаружить под длинными шелковистыми прядями шерсти.
И даже сами мопсы — эта знаменитая, если не сказать прославленная, порода собак, которая считалась вымершей, словно мамонты, и потому Анри Моннье гордился тем, что спас память о ней от полного забвения, — сами мопсы изредка посылают сюда своих представителей.
За ними шумной толпой следуют шавки, толпою столь многочисленной, столь пестрой, поражающей многообразием причудливых форм, что, увидев ее, Бюффон несомненно разорвал бы в клочки свой перечень собачьих видов и родословную, которую он составил для каждой породы и которую ныне невозможно расшифровать.
Вот уже около двух часов шевалье де ла Гравери и его сотоварищ прочесывали во всех направлениях Госпитальный бульвар, его аллеи и боковые дорожки, но все еще не напали на след того, кого пришли сюда искать.
Уже более десяти раз честный Пьер Марто, желавший заработать свои деньги, говорил бедному шевалье, показывая на какую-нибудь собаку, которая внешне походила на Блека:
— Посмотрите, сударь, вот там, не ваш ли это Дюмениль?
И уже более десяти раз шевалье отвечал, тяжело вздыхая:
— Увы! Нет, это не он.
Как вдруг наш герой издал радостный вопль.
На углу улицы Иври, напротив которой он стоял, шевалье заметил человека, державшего на поводке двух собак, и одной из них был Блек.
Человек беседовал с каким-то господином, который, казалось, с живейшим интересом рассматривал спаниеля.
— Вот он! Он там! — закричал г-н де ла Гравери. — Смотрите, он меня узнал, он повернул голову в мою сторону. — Блек! Блек! Ах, мой бедный Дюмениль, как я рад вновь увидеть тебя в моем нынешнем положении!
Господин де ла Гравери намеревался пересечь мостовую, но в этот миг барышники пустили рысью не одну, а сразу десяток лошадей: невозможно было миновать бульвар, не подвергая себя риску быть раздавленным, и честный Пьер Марте (у него не было таких причин для волнения, как у шевалье), к счастью сохранив все свое хладнокровие, весьма кстати удержал его от опрометчивого поступка.
Но за это время господин, достав кошелек из кармана, заплатил торговцу и, получив из его рук поводок с привязанным к нему Влеком, собрался уходить.
Шевалье де ла Гравери, удерживаемый, как мы видели, на месте Пьером Марте, наблюдал все это, крича:
— Остановитесь! Остановитесь! Это собака моя!
Но звук его голоса терялся среди рева барышников, щелканья бичей и цоканья подков по камням.
Наконец дорога освободилась. Пьер Марте отпустил полу сюртука шевалье, немедленно устремившегося вслед за покупателем.
— Сударь! Сударь! — кричал шевалье, семеня позади него. — Собака, которую вы только что купили, принадлежит мне!
Господин, вначале не обращавший ни малейшего внимания на крики шевалье, в конце концов понял, что эти призывы обращены к нему, и, хотя, казалось, ему не терпелось увести Блека, он все же обернулся.
— Что такое? Будьте добры, повторите, что вы сказали?
— Я говорю, сударь, — задыхаясь, повторил шевалье, — что вы уводите с собой мою собаку.
— Вы ошибаетесь, сударь, — ответил покупатель, — животное у меня на поводке принадлежит мне по двум причинам, но и одной из них хватит, чтобы признать его моей законной собственностью: я ее вырастил, я никогда ее не продавал и, однако, только что ее вновь приобрел.
— Прошу простить меня за то, что я вмешиваюсь, — сказал Пьер Марте учтиво, но в то же время твердо, — однако я должен сказать, что животное принадлежит этому господину; я свидетель того, что эту собаку украли у него в пятницу, и доказательством этому служит то, что вот уже два дня, как я ее разыскиваю.
— Смотрите, сударь, смотрите, он меня узнал! — закричал шевалье, обхватив голову Блека руками и целуя его в лоб.
— К несчастью, сударь, — холодно, но решительно ответил покупатель, — это доказывает только одно: эта собака какое-то время принадлежала вам после того, как ее украли у меня; сомневаюсь, что вы могли бы клятвенно утверждать, будто эта собака живет у вас более двух лет, а ведь в настоящее время ей уже точно стукнуло восемь лет.
— Сударь, — сказал шевалье, который, вспомнив рассказ Терезы, почувствовал некоторое смятение ума, — сударь, назначьте вашу цену, и я заплачу любую сумму, названную вами.
— Никакая цена не сможет вести меня в искушение, сударь; слава Богу, я достаточно богат, чтобы не быть вынужденным продавать своих собак; кроме того, для меня этот пес бесценен: у меня с ним связаны слишком дорогие и любезные моему сердцу воспоминания; уверяю вас, что с тех пор как двенадцать или пятнадцать месяцев назад я потерял его в Булонском лесу, редкий день я не вспоминал о нем. Я его отыскал, и я его оставлю у себя.
— Оставите Блека, сударь? Но это невозможно, — закричал шевалье, страшно разгорячившись. — Сударь, это моя собака. Если потребуется, я не пощажу себя ради того, чтобы она вернулась ко мне.
— Сударь, — ответил покупатель, нахмурив брови, — хотя я и испытываю некоторую жалость к тому, что полагаю своим долгом рассматривать у вас как приступ безумия, вынужден вам сказать, что вы мне надоели!
— О! Надоел я вам или нет, сударь, — подхватил шевалье, к которому постепенно возвращалось его вчерашнее воинственное настроение, — но завтра я дерусь на дуэли, и раз уж на то пошло, то клянусь, не остановлюсь даже перед вторым поединком. Я требую мою собаку.
Произнося это, шевалье решительно повысил голос.
— О! Давайте не будем кричать, сударь, — очень спокойно сказал незнакомец. — Посмотрите, вокруг нас уже собираются люди, а человеку в вашем возрасте не подобает выставлять себя так на всеобщее обозрение. Вот моя визитка; через час я буду у себя. Надеюсь, вы сумеете вернуть себе хоть немного хладнокровия; я буду вас ждать, чтобы уладить дело так, как вы сочтете это уместным.
— Отлично, сударь, через час!
Незнакомец холодно попрощался с шевалье и удалился, уводя с собой Блека, который в этом споре о хозяине, вне всякого сомнения, не признавал права первой очередности и следовал за незнакомцем, буквально заставляя тащить себя на поводке; при этом он бросал на шевалье де ла Гравери взгляды, разрывавшие тому сердце.
Наконец, когда шевалье потерял из виду Блека и того, кто его уводил, он взглянул на визитку, которую держал в руке, и прочел на ней следующее имя и адрес:
"Ж. Б. Шалье, негоциант, улица Трех Братьев, № 22".
"Где, черт возьми, я встречал эту фамилию? — спросил себя шевалье, направляясь к стоянке наемных экипажей. — В моей бедной голове так перемешалось все случившееся, что я серьезно опасаюсь потерять когда-нибудь память от всего этого. Все равно, хотя это собачье утро и доставило мне немало огорчений, но ни одно из них не сравнилось бы с тем горем, которое причинила бы мне ее утрата… Ах, все это довольно зловещее предзнаменование для завтрашнего дня".
Как раз в это время показался пустой экипаж; шевалье сделал знак кучеру, и тот остановился.
Пьер Марто учтиво открыл дверцу.
— А! Друг мой, — сказал шевалье, — верно, я и забыл о тебе. Человек действительно неблагодарное животное!
И, вытащив из кармана три или четыре луидора, он хотел дать их этому достойному человеку.
Но тот покачал головой.
— Этого недостаточно? — спросил шевалье. — Приходи в гостиницу, друг мой, я дам тебе еще.
— О! Сударь, я не это имел в виду.
— Но что же тогда?
— Я хотел сказать, что могу вам еще пригодиться, хотя бы для того, чтобы подтвердить перед кем следует, что собака действительно принадлежит вам и что вы держали ее на поводке, когда ее у вас украли на бульваре Итальянцев.
— Что ж, хорошо, идем! Честный человек всегда пригодится, и если ты мне не потребуешься для этого, то послужишь для другого. Но куда ты садишься?
— Рядом с кучером, черт возьми!
— Хорошо, садись рядом с кучером, мой друг.
Затем шевалье, словно стараясь распалить себя, обратился к самому себе:
"Да, да, да, пусть мне придется драться с этим Шалье на пистолетах в упор, с завязанными глазами, но я все равно верну себе Блека!.. И ты ведь не покинешь меня, не так ли, мой бедный Дюмениль, в обстоятельствах, когда я ради тебя буду рисковать своей жизнью?.."
Пьер Марто закрыл дверцу и сел рядом с кучером.
— Куда поедем, хозяин? — спросил тот.
— На улицу Трех Братьев, номер двадцать два, — ответил шевалье.
Фиакр тронулся с места.
XXXV ГЛАВА, В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ НЕ ТОЛЬКО ВОЗВРАЩАЕТ СВОЮ СОБАКУ, НО И ВСТРЕЧАЕТ ДРУГА
Шевалье прибыл на улицу Трех Братьев, охваченный самыми мрачными мыслями.
Господин Шалье только что вернулся, всего несколько минут назад.
Шевалье спросил у привратника о Блеке; тот никогда ничего о нем не слышал; однако г-н Шалье вернулся с собакой, которой раньше у него не было, — спаниелем великолепного черного цвета. Это было все, что хотел знать шевалье.
Господин Шалье занимал третий этаж очень красивого дома.
Господин де ла Гравери торопливо поднимался по лестнице в надежде вновь увидеть Блека. Он подыскивал в уме слова, которые могли бы тронуть сердце прежнего хозяина его собаки (это сердце, впрочем, казалось ему, судя по увиденному им, не таким уж мягким и податливым).
И, поднимаясь по лестнице, он спрашивал себя, не будет ли более разумным поведать этому Ж.Б. Шалье свои предположения относительно того, что в прошлом Блек вел человеческое существование, носил шпагу на боку и эполеты на плечах.
Так и не составив себе определенного плана, он позвонил в дверь третьего этажа, в десятый раз повторяя фразу, которая звучала как вопрос, обращенный им к самому себе:
"Но где, черт возьми, я встречал эту фамилию Шалье?"
Господин Шалье действительно только что вернулся; но поскольку было уже десять часов, а Шалье, будучи негоциантом, поддерживал в доме строжайший распорядок, то, не медля ни минуты, он сел за стол, так как завтрак ему неизменно подавали в десять часов.
Но, садясь за стол, г-н Шалье нарочно предупредил, что если его будет спрашивать человек лет пятидесяти, маленький, невысокого роста, толстенький и с красной лентой в петлице, то этого человека следует проводить в гостиную.
Это описание настолько точно соответствовало внешности шевалье, что слуга, открыв ему дверь, воскликнул:
— А! Это тот человек, кого ждет хозяин.
— Надеюсь, — рискнул ответить шевалье.
— Я должен впустить вас, сударь, и пойти немедленно предупредить моего хозяина, который сейчас завтракает, о вашем приходе.
Шевалье еще не завтракал и, скажем больше, он был настолько занят и взволнован, что едва ли даже вспоминал о еде, которой прежде придавал известное значение.
Поэтому, насквозь пропитанный гастрономической моралью Бершу, проповедовавшего, что ничто не должно беспокоить достойного человека в то время, когда он принимает пищу, г-н де ла Гравери с безотчетной любезностью ответил:
— Хорошо, хорошо; не беспокойте господина Шалье; я подожду в гостиной.
Слуга провел шевалье в указанную комнату и пошел предупредить своего хозяина о приходе ожидаемого им гостя, слово в слово передав тому сказанное шевалье; Блек, лежавший у ног своего нового хозяина, казалось, очень внимательно и с умным видом выслушал эти слова.
Тем временем шевалье, войдя в гостиную, подошел прямо к камину, в котором горел жаркий огонь, и, повернувшись к нему спиной, стал отогревать свои икры, в одиннадцатый раз спрашивая себя:
"Но где, черт возьми, я встречал эту фамилию Шалье?"
Но тут внимание шевалье привлекла большая картина, написанная маслом, похоже вызвавшая у него в памяти более отчетливое воспоминание, чем то, что было связано с новым хозяином Блека.
— Смотрите-ка! — вскричал шевалье. — Бухта Папеэте!
И он подбежал к картине.
Эта картина послужила для него подлинным откровением.
Наконец-то Дьёдонне вспомнил, где он встречал фамилию Шалье, так сильно заинтриговавшую его.
Едва только это совершенно ясное воспоминание пронзило его память, как сзади него послышался скрип открывающейся двери.
Он обернулся и увидел г-на Шалье.
И тогда он не только вспомнил имя, но и узнал лицо.
Бросив шляпу на ковер, шевалье подбежал к г-ну Шалье и, взяв его за обе руки, сказал:
— О сударь, сударь, вы бывали на Таити, не правда ли?
— Нуда, — ответил г-н Шалье, бесконечно удивленный столь резкой переменой настроения у человека, в котором он уже видел своего противника.
— Вы были там в тысяча восемьсот тридцать первом году на борту корвета "Дофин"?
— Да.
— А на борту судна была желтая лихорадка?
— Да.
— Восьмого августа человек лет пятидесяти, высокий, смуглый, сухопарый, с черными усами и проседью в волосах велел доставить себя из Папеэте на борт "Дофина" и подхватил там лихорадку.
— Капитан Дюмениль, черт меня побери!
— Да, именно капитан Дюмениль! О! Я не ошибся, вы знали Дюмениля?
— Конечно! Он был мой лучший друг.
— Нет, сударь, нет: могу похвастаться, я был его лучшим другом. А! Есть Провидение на свете, черт побери! Да, оно все же есть, — со слезами в голосе закричал шевалье, первый раз в жизни произнеся ругательство.
— Я всегда в это верил, — улыбаясь, ответил г-н Шалье.
— Обнимите меня, сударь! Обнимемся же! — воскликнул шевалье, бросаясь на шею человеку, которого десять минут назад был готов задушить.
— Хорошо, — произнес Шалье невозмутимым тоном, резко контрастировавшим с восторженностью г-на де ла Гравери, — считайте, что Провидение существует, и в честь этого Провидения можете обнять меня один раз и даже два, если вы так уж этого желаете; а затем, будьте любезны объясниться, поскольку, глядя на происходящее, я испытываю желание позвать моих приказчиков и с их помощью отправить вас в Шарантон.
— Сударь, — сказал шевалье, — вы вправе так поступить; ведь я сошел с ума, да, буквально сошел с ума, но это от радости, сударь! Впрочем, одно слово объяснит вам все.
— Тогда произнесите это слово.
— Я шевалье дела Гравери.
— Шевалье де ла Гравери! — в свою очередь вскричал г-н Шалье, впервые потеряв свой ледяной вид, казалось, отражавший обычное состояние его души.
— Да, да, да.
— Тот самый пассажир, кто поднялся к нам на борт "Дофина" на следующий день после смерти бедняги Дюмениля?
— Именно, именно, тот самый, кто проделал вместе с вами весь путь до Вальпараисо, где вы покинули борт корвета; меня тогда так сильно мучила морская болезнь, что на палубу я поднимался всего лишь раз или два.
— В самом деле, я высадился на берег в Вальпараисо, забрав с собой Блека и мать Блека, которого вы знали щенком. О! Вы теперь видите, что я вам не лгал.
— Да, но, пожалуйста, давайте сейчас оставим Блека в покое и займемся другим делом.
— Всем, чем вам будет угодно, сударь.
— Мое имя, шевалье де ла Гравери, не напоминает ли оно вам некоторые обстоятельства?..
— Вы правы, сударь.
— Помните ли вы пакет, который Дюмениль доставил вам на борт в тот день, когда он стал жертвой этой роковой болезни, что свела его в могилу, и имя особы, которой этот пакет был адресован?
— Госпожа де ла Гравери…
— Матильда!
— Увы, шевалье, — ответил г-н Шалье, — в этом отношении я не смог выполнить миссию, за которую взялся, полагая, что сразу же, не задерживаясь, вернусь во Францию.
— А!
— Вы видели, как я высадился в Вальпараисо?
— Да.
— Прежде всего, я провел там гораздо больше времени, нежели предполагал; затем, вместо того чтобы вернуться по суше или же обогнуть мыс Горн, я сел на корабль, который, выполняя кругосветное плавание, шел через Капстад. В результате чего, когда я попал во Францию, госпожа де ла Гравери уже умерла.
— Но вы разузнали что-нибудь о ее смерти и об оставленном ею ребенке, сударь?
— Очень мало… Но я вам расскажу все то немногое, что мне известно.
— О! Умоляю вас, — произнес шевалье, молитвенно сложив руки.
— Ваш брат, вы это, вероятно, знаете, потребовал, чтобы она не признавала ребенка, которого должна была родить; она родила девочку…
— Так, сударь, да, все так!
— Этой девочке при крещении дали имя Тереза.
— Тереза! Вы в этом уверены?
— Совершенно уверен.
— Продолжайте, сударь! Продолжайте! Я вас слушаю.
В самом деле, шевалье, казалось, жадно ловил каждое слово рассказчика.
— Ребенка поручили заботам некой женщины, которую звали…
Господин Шалье запнулся, припоминая имя.
— Матушка Денье, — с живостью произнес шевалье.
— Да, так, сударь; но, предприняв поиски этой женщины, я не смог найти ни малейших ее следов.
— Зато я, сударь, я ее нашел!
— Кого?
— Терезу!
— Терезу?
— Да, и благодаря вам я смогу, надеюсь, вскоре назвать ее своей дочерью.
— Вашей дочерью?
— Без сомнения.
— Однако мне казалось…
Господин Шалье внезапно замолчал: область, в которую он вторгался, показалась ему весьма опасной.
Шевалье понял его мысль.
— Да, вас это удивляет, — сказал он с грустной улыбкой, — но когда смерть легла поверх обиды, то достоин сожаления тот, кто продолжает держать ее в своей памяти! К тому же, признаюсь вам, я провел долгих семь лет моей жизни, не любя никого, кроме самого себя, и, состарившись, я стал ветреным, начал изменять самому себе ради собаки, и от собаки я хочу перейти к своему ребенку. Послушайте, сударь, напрягите память! Нет ли у вас каких-нибудь свидетельств, основываясь на которых мы можем доказать происхождение этой девушки?
— Несомненно, если вы можете доказать, что это именно ее отдали на воспитание матушке Денье; у меня есть акт, — тот самый, что бедняга Дюмениль привез мне на борт, поручая моим заботам и мать и дитя, — у меня есть акт, переданный ему госпожой де ла Гравери; акт, составленный по указаниям врача, ходившего за ней и засвидетельствовавшего, что ребенок женского пола, крещенный под именем Терезы Дельфины Маргариты, является ее дочерью.
— А следовательно, и моей дочерью! — радостно вскричал де ла Гравери. — Pater is est quern nuptiae demonstrant!
И никогда еще эта аксиома супружеского права, приводившая в ярость стольких мужей, не провозглашалась с более счастливым лицом и более довольным сердцем.
После того как шевалье дал волю своей радости и своему удовлетворению, он счел, что пришло время познакомить г-на Шалье с различными участниками драмы, развязку которой Дьёдонне так трудно было найти.
Он закончил свой рассказ тем, что произошло вчера между ним и Грасьеном д’Эльбеном в Голландском кабачке.
Господин Шалье, узнав о предстоящей на следующий день дуэли, сделал все возможное, чтобы отговорить шевалье от поединка.
Но вид Блека и раздражение, испытанное им утром, вернули шевалье его воинственное настроение и подняли его дух.
— Нет, дорогой мой сударь, — сказал он, — нет, нет, нет! Мое решение непоколебимо! Я решил драться еще тогда, когда у меня были всего лишь предположения по поводу рождения Терезы; теперь же, когда я твердо уверен, что она дочь Матильды, я готов тысячу раз пожертвовать своей жизнью ради нее! И, послушайте, это во мне все еще говорит эгоизм — ибо я всегда был эгоистом и останусь им до конца, — послушайте, — продолжал шевалье, показывая на Блека, который, отворив дверь, вошел в гостиную и с задумчиво-печальным видом положил свою голову на колени шевалье, — я открыл такое наслаждение в тех страданиях, которые перенес ради них, что уверен: в смерти, принятой за любимое существо, таится такой источник благодати и утешения, какого никто и не подозревает и с каким я вовсе не прочь был бы поближе познакомиться.
— Ну что же, — ответил г-н Шалье, — раз ваше решение твердо, то, мой дорогой господин де ла Гравери, окажите мне честь, выбрав меня вашим секундантом.
— Ах, сударь, я как раз хотел просить вас об этом! — вскричал обрадованный шевалье.
— Итак, это решено?
— Да, решено, и мы не можем терять ни минуты.
— Почему же?
— Секунданты моего противника должны с двенадцати до часу прогуливаться по террасе Фейянов, поджидая там моих секундантов, чтобы обговорить условия поединка.
Шевалье вынул свои часы.
— Сейчас десять часов тридцать пять минут, — добавил он.
— Хорошо! Вы сами видите, что у нас еще есть время.
— Это правда! Но я еще не завтракал.
— Я предложил бы вам позавтракать со мной, но необходимо, чтобы я вам нашел второго секунданта.
— Зачем?
— Чтобы обсудить условия поединка.
— Это ни к чему! У меня уже есть второй секундант; однако я желаю, и тому существуют весьма серьезные причины, чтобы он встретился с моим противником и его секундантами только на месте дуэли; поэтому я прошу вас, чтобы вы один уладили все условия поединка.
— Какие у вас будут пожелания?
— Никаких.
— Но если ваш противник предоставит вам выбор оружия?..
— Не соглашайтесь на это! Оскорбление было нанесено ему, и я не желаю никаких уступок.
— Но все же вы отдаете предпочтение какому-либо виду оружия?
— Предпочтение, сударь? О нет, слава Богу, я питаю отвращение к любому из них.
— Но в конце концов вы умеете стрелять из пистолета и владеете шпагой?
— Да. Мой бедный Дюмениль, несмотря на мое отвращение к этим орудиям убийства, научил меня ими пользоваться.
— И вы достаточно хорошо ими владеете?
— Сударь, вам хорошо знакомы эти маленькие зеленые попугайчики с оранжевой головкой, которые по своим размерам чуть больше обычного воробья и встречаются на всех островах Океании?
— Отлично знакомы.
— Так вот, я регулярно убивал двух из трех этих попугайчиков, сидящих на вершине дерева.
— Вы не достигли уровня вашего учителя Дюмениля, убивавшего трех из трех; но, тем не менее, это вовсе неплохо. Ну, а как обстоят дела со шпагой?
— О! Я умею лишь парировать удары, но делаю это очень ловко.
— Этого недостаточно.
— И потом я знаю один удар…
— А-а!
— Один-единственный.
— Если это некий выпад, которым Дюмениль поражал меня десять раз, то этого достаточно.
— Да, это тот самый удар, сударь.
— Тогда я больше не опасаюсь за вас, сударь.
— Я тоже, но только при одном условии…
— Каком же?
— Позвольте Влеку сопровождать нас завтра на место поединка, дорогой Шалье. Я очень суеверен и убежден, что его присутствие принесет мне завтра удачу.
— Блек последует за вами, и не только завтра; отныне он будет с вами всегда, шевалье, и я счастлив, что могу вам подарить животное, к которому вы столь сильно привязаны.
— Спасибо, сударь, спасибо! — воскликнул шевалье, и глаза его были полны слез. — О! Вы не знаете, как дорог мне ваш подарок! Видите ли, Блек — это не животное, это… Но нет, вы мне не поверите, — добавил шевалье, поочередно переводя взгляд то на Блека, то на своего нового друга.
Затем, протягивая руки к Блеку, он позвал:
— Блек! Мой славный Блек!
Блек бросился в объятия шевалье, издавая нежное радостное повизгивание, а шевалье совсем тихо говорил:
— Теперь будь спокоен, мой бедный Дюмениль! Ничто нас больше не сможет разлучить!.. Разве только, — добавил он с печалью в голосе, — пистолетная пуля или удар шпаги…
Но, как будто поняв смысл этих слов, Блек вырвался из рук шевалье и принялся так весело прыгать и так радостно лаять, что г-н де ла Гравери, веривший, по его собственным словам, в приметы, расценил его поведение, как доброе предзнаменование, и, протянув руку г-ну Шалье, с необычайной удалью вскричал:
— Проклятье! Дорогой друг, по-моему, вы что-то говорили о завтраке, который вас ждет и который вы предложили мне разделить с вами?
— Да, конечно.
— Отлично, тогда вперед, за стол! И да здравствует радость!
Господин Шалье с удивлением посмотрел на шевалье; но он уже начинал привыкать к чудачествам своего нового знакомого и тоном, который самым странным образом контрастировал с его словами, повторил:
— Итак, за стол и да здравствует радость!
И он провел своего гостя в обеденную залу, где был накрыт такой завтрак, какого г-н де ла Гравери не ел с того дня, как рассчитал Марианну.
Выйдя из дома № 22, г-н де ла Гравери нашел свой фиакр стоящим у двери.
Честный Пьер Марто находился рядом с фиакром и заканчивал свой завтрак, менее роскошный, но, вероятно, столь же удавшийся, как и завтрак шевалье; колбасник, торговавший напротив, и продавец вин, торговавший на углу, постарались на совесть.
— А-а! — произнес добряк, увидев, как шевалье опирается на руку г-на Шалье, а Блек следует за ними, или, точнее, за г-ном де ла Гравери. — Похоже, вы поладили с хозяином пса и все закончилось самым лучшим образом?
— Да, мой друг, — сказал шевалье, — а поскольку для вас, так же как и для меня, все тоже должно закончиться самым лучшим образом, вы и дальше будете сопровождать меня до самой гостиницы, где мы с вами, если вы этого пожелаете, уладим наши счета.
— Э! Не стоит так торопиться, сударь; я охотно открою вам кредит.
— Ну а если меня завтра убьют?
— Но ведь вы же не деретесь!
— Я не дерусь с этим господином, — сказал, расправив плечи, шевалье, — но зато я дерусь с другим.
— Это надо же! — сказал Пьер Марто. — Нет, клянусь честью, с первого взгляда я никогда бы не подумал, что вы такой задиристый; но, к счастью, у вас впереди ночь, а утро вечера мудренее.
Шевалье поднялся в фиакр, где его уже ждал г-н Шалье. Блек, вероятно опасаясь новых неприятностей, прыгнул в коляску лишь после того, как в нее сел г-н де ла Гравери. Пьер Марто закрыл дверцу за обоими пассажирами и за собакой, после чего вновь занял свое место рядом с кучером.
В ту минуту, когда фиакр остановился на улице Риволи, около дверей гостиницы "Лондон", два офицера, подошедшие с разных сторон, встретились на террасе Фейянов.
— Вот те, что нам нужны! — сказал шевалье. — Не заставляйте себя ждать, мой дорогой Шалье, и будьте твердым.
Господин Шалье сделал знак, что шевалье останется им доволен, и пересек проезжую часть улицы Риволи; шевалье в это время предложил Пьеру Марто следовать за ним.
Пьер Марто повиновался.
Войдя в комнату, г-н де ла Гравери прежде всего вновь устроил Блека на тех же самых подушках и, лишь после того как тот с удобством на них расположился, сказал:
— А! Теперь настала наша с вами очередь, мой славный храбрец!
И, взяв в ящике секретера, закрытом на ключ, небольшой бумажник красного сафьяна, вытертая кожа которого указывала на его долгую службу своему владельцу, шевалье вытащил из него небольшой кусочек прозрачной бумаги и дал его Пьеру Марто.
Тот с некоторыми колебаниями развернул его и, хотя он, должно быть, весьма мало был знаком с Банком Франции, ему стало ясно, что данный клочок бумаги вышел из этого достойного заведения.
— О-о! Подписано Тара! С этой подписью легче всего берут к оплате и требуют меньше комиссионных. Сколько я должен вам вернуть, сударь?
— Ничего, — ответил шевалье. — Я вам обещал пятьсот франков, если найду мою собаку; я ее нашел и держу свое слово.
— Это все мне, мне? Не делайте глупостей, хозяин: волнение — дурной советчик.
— Этот билет ваш, оставьте его себе, мой друг, — сказал шевалье.
Пьер Марто почесал за ухом.
— Вы мне даете его от всего сердца?
— Да, от всего сердца, от всей души!
— Но, вручая мне этот билет, не согласитесь ли вы еще и пожать мне руку?
— Почему бы нет? Дай две, мой друг! Две, и с большим удовольствием!
И он протянул обе руки Пьеру Марто.
Тот сжал нежные руки шевалье, на несколько секунд задержал их в своих мозолистых ладонях и выпустил лишь для того, чтобы смахнуть слезу, скользнувшую по его щеке из уголка глаза.
— Что ж, — сказал он, — вы можете похвалиться тем, что кюре церкви святой Елизаветы выдаст завтра нечто потрясающее по этому поводу и к тому же в вашу честь.
— Потрясающее? Что потрясающее, мой друг? — спросил шевалье.
— Потрясающую обедню! И я вам хочу заявить одно: если завтра с вами на дуэли случится несчастье, то, значит, на Небесах нет милосердного Бога.
И Пьер Марте вышел, вытирая вторую слезу.
Шевалье сделал то же, что и Пьер Марте, но он вытер обе свои слезы сразу.
Затем он подошел к окну, открыл его, собираясь немного подышать свежим воздухом.
Там он увидел г-на Шалье, совещавшегося с двумя секундантами Грасьена д’Эльбена.
XXXVI ГЛАВА, КОТОРАЯ ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ ТЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ, КОМУ НРАВИТСЯ НАБЛЮДАТЬ, КАК ПОЛИШИНЕЛЬ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПОБЕЖДАЕТ ДЬЯВОЛА
Эту ночь шевалье де ла Гравери проспал сном праведника.
Правда, рядом с ним находился его друг Дюмениль в обличье Блека.
В семь часов утра, благодаря заботам парикмахера (за ним было послано на улицу Кастильоне), шевалье был не только одет, но еще и выбрит и причесан с такой тщательностью, с которой он давно не относился к своему туалету, и прохаживался по своей комнате спокойный и почти улыбающийся.
Блек также, казалось, был весел и рад.
По правде говоря, шевалье совершенно не думал о предстоящей дуэли и велел себя выбрить и постричь вовсе не из учтивости по отношению к г-ну Грасьену д’Эльбену, как это можно было предположить.
Нет, шевалье думал о Терезе; о Терезе, которая вернулась к нему и которую в двух оставленных им письмах (адресованных одно г-ну Шалье, а другое — Анри), благодаря акту, переданному г-жой де ла Гравери, он в самом деле признавал своей дочерью и, следовательно, своей прямой и единственной законной наследницей.
Это ради Терезы он приказал привести себя в порядок.
Он думал о том, как счастлива Тереза будет узнать, что она его дочь, ведь он твердо решил ничем не омрачать эту радость и ни слова не говорить дочери об ошибках ее матери.
Он даже решил, что возьмет, если потребуется, вину на себя за то, что бедная сирота столь долго оставалась всеми покинута.
В четверть восьмого в дверь постучали.
Это был Анри д’Эльбен.
Господин де ла Гравери бросил быстрый взгляд на молодого человека и по безмятежному выражению его лица легко догадался, что тот совершенно не подозревает, кто противник шевалье.
— Вы видите, сударь, — сказал Анри с учтивостью, по которой за льё в нем можно было узнать дворянина, — насколько я точен и верен данному мною слову.
Нечто вроде раскаяния укололо шевалье в сердце.
Было ли порядочно с его стороны подобным образом делать Анри своим секундантом в дуэли с Грасьеном и заставлять брата требовать отмщения брату?
Поэтому лицо его слегка помрачнело, когда он отвечал молодому человеку:
— Послушайте, господин Анри, как бы я ни был вам признателен за вашу пунктуальность и за доказательство участия, которое вы проявили ко мне, признаюсь вам, что предпочел бы, чтобы вы не пришли на эту встречу.
— Почему же, сударь? — удивленно спросил барон.
— То, что должно произойти, касается вас гораздо ближе, чем вы это предполагали, и даже ближе, чем вы можете это предположить.
— Что вы имеете в виду?
Шевалье положил руку на плечо молодого человека и с необыкновенным чувством достоинства сказал ему:
— Сударь, несмотря на большую разницу в возрасте между нами, ваш твердый характер, лишенный глупых предрассудков, возвышенность ваших чувств внушили мне глубокое уважение к вам и, позвольте мне это сказать, самую искреннюю дружбу. Однако вовсе не это уважение и не эта дружба послужили причиной того, что на днях я доверил вам мою тайну.
— Но что же в таком случае вами двигало, сударь?
— Послушайте, будет лучше, если вы об этом не узнаете; будет лучше, пока для этого еще есть время, вам сейчас уйти и не сопровождать меня туда, куда я отправляюсь. Я освобождаю вас от вашей клятвы и прошу взять назад ваше обещание: чем больше я об этом размышляю, тем больше считаю не только разумным, но и честным и человечным поступить именно так. Бедное дитя, которое вы любили и которое все еще любит вас, могло бы рассердиться на меня за то, что я заставил вас принять участие в этом наказании.
— Что означают ваши намеки и недоговоренности, господин шевалье? — спросил Анри. — Я умоляю вас, ответьте, о ком вы говорите? Вы сказали, бедное дитя, которое я любил и которое все еще меня любит? Но я в своей жизни любил лишь одну женщину, и эта женщина, это…
Анри заколебался; шевалье докончил за него.
— … это Тереза, не правда ли? — сказал он.
— Откуда вам известно имя Терезы? Откуда вы знаете, что я любил Терезу? — поспешно спросил барон.
— Тереза — моя дочь, сударь, моя единственная дочь, мое обожаемое дитя, а ее соблазнитель, человек, воспользовавшийся своим сходством с братом, чтобы совершить преступление, это… ваш брат.
— Грасьен?
— Он самый.
— Так, значит, вы деретесь с моим братом?
Шевалье промолчал; но само его молчание было красноречивее всяких слов.
— О несчастный! — вскричал Анри, пряча лицо между ладонями.
Затем, спустя мгновение, он спросил:
— Но как же, как же он согласился драться с отцом соблазненной им девушки?
— Он не знает, что я отец Терезы; впрочем, я ему нанес такое оскорбление, что оно ему не оставило выбора: драться или нет.
— О Боже мой, Боже мой! — повторял Анри.
— Ну же, мужайтесь, мой друг! — сказал шевалье. — По правде говоря, мне кажется весьма странным, что мне так скоро пришлось давать подобный совет другим… мужайтесь! Возвращайтесь к себе; но только есть одно ваше обещание, на которое я по-прежнему хотел бы положиться.
Анри сделал знак, что шевалье может рассчитывать на него.
— Если я погибну, что вполне возможно, — продолжал шевалье с нежной и грустной улыбкой, — если я погибну, я завещаю вам мое дитя, мою дочь, мою Терезу… вашу Терезу, Анри! Заботьтесь о ней, утешайте, защищайте ее! Господин Шалье, вот его адрес, предоставит вам документы, которые заставят признать ее права на мое состояние.
— Нет, сударь, нет! — вскричал Анри, выпрямившись и подавляя свое волнение. — Совесть есть совесть, и с ней не заключают сделок. Позорный поступок, совершенный кем бы то ни было, продолжает оставаться таковым, даже если его совершил мой брат. Я не покину вас. Если бы вашим противником был не Грасьен, то я пожелал бы занять ваше место; меня он оскорбил гораздо больше, чем вас. Но какие бы узы ни связывали меня с ним, своим присутствием я дам ему понять, какое отвращение я испытываю к его мерзкому поступку. И если вы должны стать его возмездием, то я буду олицетворять его раскаяние. Идемте же, сударь, идемте!
— Это решение, мой юный друг, продиктовано мужественным и великодушным сердцем. Я не нахожу других слов, чтобы выразить то уважение, которое внушают мне ваши высокие чувства; но повторяю вам, я нанес такое сильное оскорбление вашему брату, что всякая надежда на возможность примирения на месте поединка была бы призрачной, подумайте об этом.
— Ах! Если бы я был свободен, сударь, — вскричал Анри, — Тереза была бы счастлива, честь ее была бы восстановлена… хотя… О! Это воистину ужасно! Брат! Но, сударь, хотя мы и близнецы, наши характеры настолько различны, насколько схожи наши черты: он живет в шуме балов и пирушек; я же веду жизнь, полную одиночества. После его возвращения в Париж я виделся с ним всего дважды… Однако я удалился от темы нашей беседы. Я в некотором роде прошу у вас прощения за преступление, совершенное другим. И когда вы ее снова увидите, шевалье, — а я надеюсь, каким бы противоестественно жестоким вам ни казалось подобное пожелание, что вы увидитесь с ней вновь, — скажите ей, что тот, кто так ее любил и кто все еще продолжает ее любить, не пожелал покинуть ее отца в этот решающий миг, чего бы это ни стоило его сердцу!
Шевалье протянул руку молодому человеку, а затем, бросив взгляд на часы, сказал:
— Час близится, мой дорогой Анри. Это моя первая дуэль, и я пока не получил права заставлять других ждать. Идемте же. Ко мне, Блек!
— Вы берете с собой вашу собаку?
— Конечно… Я не хотел бы расставаться в такую минуту с моим самым старым и лучшим другом. Ах, если бы бедняга Дюмениль был жив!
Анри с удивлением посмотрел на шевалье.
— Не обращайте внимания, — заметил тот. — Я знаю, что говорю.
Спускаясь по лестнице, шевалье и Анри д’Эльбен встретили г-на Шалье: он приехал в своей коляске, великолепном закрытом экипаже, запряженном двумя прекрасными лошадьми.
Все трое сели в карету.
— В Шату! — приказал г-н Шалье кучеру.
Шевалье представил друг другу своих секундантов.
— Сударь, о чем вы условились с секундантами нашего противника? — спросил Анри у негоцианта.
— Дело улажено по всем правилам, — ответил Шалье. — Эти господа не пожелали извлечь ни малейшей выгоды из того, что являются оскорбленной стороной. Все решит случай. Противники встанут на расстоянии тридцати шагов друг от друга, у каждого в руке будет заряженный пистолет; они имеют право открывать огонь, сделав пять шагов каждый, что сократит дистанцию между ними до двадцати шагов, и производить сколько угодно выстрелов.
— Вы стреляете из пистолета? — с едва заметной дрожью в голосе спросил Анри у шевалье.
— Да, немного, благодаря Дюменилю, — ответил шевалье, нежно поглаживая шелковистые уши собаки.
— Отлично! — сказал г-н Шалье, не подозревая о родственных отношениях Анри и Грасьена. — В Америке шевалье убивал двух попугаев из трех; а человек ведь в четыре раза больше попугая: видите, это дает нам некоторый шанс.
Шевалье заметил помрачневшее лицо Анри и взял его за руку.
— Мой бедный друг, — обратился он к Анри, — если бы за моей спиной не было Терезы, нуждающейся в утешении и любви, я бы вам сказал: "Не беспокойтесь о судьбе моего противника!"
— Исполняйте ваш долг, шевалье, — отвечал Анри. — Моя жизнь и так уже стала мне в тягость, ведь я пытался найти забвение в науках, чтобы только выдержать эту ношу; и, что бы ни случилось, отныне жизнь будет для меня еще более невыносимой, но я буду молить Бога сократить мои муки.
Несмотря на всю свою деликатность, г-н Шалье уже было отважился задать Анри вопрос; однако шевалье сделал ему знак замолчать.
Кучер, следуя указанию своего хозяина, остановился напротив острова Буживаль.
Вторая карета, стоявшая на берегу, свидетельствовала о том, что противник шевалье опередил его и прибыл на место встречи раньше.
Действительно, когда шевалье и два его секунданта спустились в лодку, которая должна была переправить их на остров, среди деревьев они заметили черные силуэты трех офицеров.
Все трое были в штатском.
Лодка причалила.
Господин Шалье, высадившись первым, направился к Лувилю, который курил сигару, сидя на столе из камня (он до сих пор сохранился на оконечности острова).
— Сударь, мы заставили вас ждать, примите наши извинения, — сказал он, вынимая свои часы, — но мы не опоздали, вы это видите сами. Встреча была назначена на девять часов, а сейчас без пяти девять.
И точно, колокола церкви в Шату, на пять минут опережавшие часы г-на Шалье, принялись вызванивать девять часов.
— Не извиняйтесь, сударь, — сказал Лувиль, — напротив, вы точны, как солнечные часы; впрочем, ожидая вас, мы не теряли даром времени: мы отыскали поляну, будто нарочно созданную, чтобы перерезать на ней друг другу горло. Ровная линия тополей, окружающих ее, возможно, послужит дополнительным ориентиром для оружия этих господ, что увеличит вероятность смертельного исхода этой встречи; но, поскольку, в конце концов, они пришли сюда не для того, чтобы бросать друг в друга косточки от вишни, и поскольку это лучшее из того, что мы видели, надеюсь, вы одобрите наш выбор.
Господин Шалье поклонился в знак согласия, но, когда он наклонился, все увидели Анри, стоявшего за его спиной и протягивавшего руку шевалье.
Грасьен заметил своего брата и побледнел как мертвец; но он не сказал ему ни слова.
Небольшая группа в полном молчании отправилась на поляну, о которой говорил Лувиль.
— Ах, мой бедный друг, — говорил шевалье, обращаясь к Анри д’Эльбену, — мне поистине больно видеть вас здесь.
— Не думайте больше об этом, — ответил Анри, — думайте о себе. Давайте поговорим о вас.
— О! Вот это совершенно ни к чему! — заметил шевалье. — Черт возьми! Вы мне собираетесь оказать чрезвычайно плохую услугу, сами того не подозревая. Напротив не будем говорить обо мне и как можно меньше будем думать об этом. Послушайте, вам, дорогой друг, я могу признаться, что я вовсе не храбрец или, точнее, мне удается сохранять бравый вид лишь постольку, поскольку я думаю не о предстоящем мне сейчас деле, а совсем о другом, и только что, когда взгляд мой упал на эти футляры из зеленой саржи, где хранятся пистолеты, один из которых через десять минут уложит меня, возможно, на траву, по мне прошла какая-то зловещая дрожь… Ах, дорогой мой Анри, у меня в Шартре такая прелестная комната, пропитанная насквозь благоуханным ароматом роз, которые цветут под моим окном, что я потихоньку говорю себе: как бы я сейчас хотел быть там, вместо того чтобы быть здесь. Но еще раз повторяю, черт возьми, не будем думать об этом; только не забудьте о моих наказах относительно Терезы.
— Будьте спокойны.
— Вы мне это обещаете?
— Разве должен я вам обещать то, что послужит бальзамом для моего сердца?
— А, — слегка побледнел шевалье, — похоже, мы пришли. Мне кажется, что место действительно выбрано превосходно. Решительно, лейтенант Лувиль в этом разбирается лучше, чем в том, как травить собак, не правда ли, Блек?
Секунданты остановились; из футляров в зеленой сарже были вынуты пистолеты, заставившие вздрогнуть шевалье де ла Гравери; г-н Шалье и один из секундантов Грасьена стали их заряжать.
В это время Грасьен сделал знак г-ну де ла Гравери подойти к группе секундантов; затем, избегая смотреть на своего брата, он сказал:
— Господа, я был жестоко оскорблен господином де ла Гравери; честь мундира, который я ношу, требует удовлетворения; однако между нами слишком большая разница в возрасте, и, если только он согласен объявить, что сожалеет о том, что поддался приступу гнева, я удовлетворюсь его извинениями, хотя уже довольно поздно делать подобные заявления.
— Я принесу вам эти извинения, сударь, я стану на коленях просить у вас прощения, — отвечал шевалье, — я паду лбом в грязь и буду просить вас со слезами на глазах простить меня, если вы в свою очередь захотите признать вину, допущенную вами по отношению к Терезе де ла Гравери, моей дочери, и искупить ее, женившись на ней.
— Ну вот еще! — произнес лейтенант Лувиль.
— Тише, сударь! — сказал Анри д’Эльбен, поспешно схватив молодого человека за руку. — Тише! До сих пор ваше вмешательство имело весьма роковые последствия для этих двух людей, чтобы вы продолжали так вести себя и здесь, где оно не только опасно, но еще и неуместно.
Потом он обратился к Грасьену:
— Отвечайте, брат мой. На предложение, сделанное вам, отвечать должны вы сами, а не посторонние.
— Мне нечего ответить, — сказал Грасьен.
— Подумайте!
— Я молчу именно потому, что думаю об этом. Если я здесь, на поле поединка, приму условия шевалье, скажут, что я испугался.
С этими словами он вежливо, но сухо поклонился, и шевалье вместе с Анри отошли в сторону.
Шалье и Лувиль отмерили тридцать шагов, причем Шалье старался, чтобы они были как можно длиннее; сломанной веткой обозначили границы, до которых могли дойти противники, сближаясь друг с другом; затем приготовились вручить им оружие.
— Господа, — сказал Анри, — клянетесь ли вы вашей честью, что пистолеты незнакомы противнику господина де ла Гравери?
— Клянемся честью, — ответили оба офицера.
Один из них добавил:
— Я лично взял их напрокат у Лепажа.
— Это двуствольные пистолеты? — спросил Анри.
— Нет, сударь.
— Благодарю. Этого достаточно, — сказал Анри.
Пистолеты были вручены противникам.
Те разошлись по своим местам.
Блек последовал за шевалье и прижался к нему; шевалье мог чувствовать его тепло: он поблагодарил его признательным взглядом.
— Сударь, — обратился к нему Лувиль, — отошлите вашу собаку.
— Моя собака меня не покинет, сударь, — ответил шевалье.
— А если ее убьют?
— То она не впервые будет рисковать жизнью из-за своей чрезмерной преданности; вам ведь это хорошо известно, господин Лувиль.
И, обращаясь к г-ну Шалье, который давал ему последние наставления, он совсем тихо сказал ему:
— Ах! Вы не знаете, какое странное действие на меня оказывает необходимость выстрелить в человека: мне кажется, что я никогда не смогу на это решиться.
Действительно, в лице у шевалье не было ни кровинки, пистолет дрожал у него в руке, а его мертвенно-бледные губы судорожно подрагивали; время от времени он вскидывал голову и поводил плечами, как бы пытаясь избавиться от волнения, охватывавшего его против воли.
— Сударь, — сказал второй секундант Грасьена, подойдя к шевалье и пожав ему руку, — вы настоящий храбрец и гораздо больше достойны этого определения, чем кто-либо другой, окажись он на вашем месте.
Секунданты уже удалились, когда Грасьен, вот уже в течение нескольких минут, казалось, охваченный сильным волнением, сделал знак своему брату, что хочет с ним говорить.
Анри подбежал к молодому офицеру.
Тот отвел его в сторону и сказал ему на ухо несколько слов.
Анри казался глубоко взволнованным тем, что ему говорил брат.
И когда тот закончил говорить, он обнял его, прижал к сердцу и несколько раз поцеловал.
Затем, оставив брата, он сел на землю слева от шевалье, повернувшись спиной к обоим противникам и обхватив голову обеими руками.
Лувиль спросил, готовы ли противники.
— Да, — ответили те одновременно.
— Внимание! — сказал Лувиль и стал считать: — Раз… Два… Три…
Следуя совету г-на Шалье, шевалье де ла Гравери при счете "три" быстро устремился вперед.
И в тот миг, когда шевалье пошел ему навстречу, Грасьен выстрелил.
Пуля, выпущенная молодым человеком, пробила лишь воротник сюртука шевалье де ла Гравери, даже не оцарапав ему кожи.
Анри живо обернулся; он увидел обоих противников, стоящими на ногах, дуло пистолета Грасьена дымилось.
Анри вздохнул и отвел глаза.
Шевалье, совершенно ошеломленный и оглушенный, продолжал неподвижно стоять на месте.
— Стреляйте же, сударь! Чего вы ждете?! Стреляйте! — закричали секунданты.
По всей видимости, не отдавая себе никакого отчета в том, к чему это может привести, шевалье поднял руку с пистолетом, плетью висевшую вдоль его бедра, вытянул ее и, не целясь, выстрелил.
— Господи, твоя воля! — воскликнул он.
Грасьен повернулся вокруг себя и упал лицом на землю.
Анри обернулся и увидел брата распростертым на траве.
Он вскрикнул, а затем тихо промолвил:
— Это действительно суд Божий!
Все подбежали к Грасьену.
Анри приподнял раненого и удерживал его у себя на руках.
Шевалье, буквально раздавленный случившимся, рыдал и просил у Бога прощения за совершенное им убийство.
Рана была из числа самых серьезных.
Пуля пробила грудь справа, чуть ниже шестого ребра и, должно быть, застряла в легком.
Кровь едва сочилась: видимо, произошло большое внутреннее кровоизлияние.
Раненый задыхался.
Господин Шалье вытащил из кармана ланцет и пустил Грасьену кровь; за время своих длительных путешествий он освоил эту операцию, так необходимую во множестве случаев.
Раненый почувствовал облегчение, и дыхание его стало свободнее.
Тем не менее на губах у него показалась кровавая пена.
На скорую руку соорудив носилки, раненого перенесли в лодку.
В это время Анри, мертвенно-бледный, но сдерживающий свое волнение, приблизился к шевалье.
— Сударь, — сказал он, — перед началом поединка, от которого мой брат, повинуясь предрассудку, не пожелал отказаться, о чем я горько сожалею, он поручил мне, каким бы ни был исход этой дуэли, просить вас дать разрешение на его брак с мадемуазель Терезой де ла Гравери, вашей дочерью.
Услышав эти слова, шевалье бросился в объятия молодого человека и, изнемогая от волнения, лишился чувств.
Когда он пришел в себя, Анри, секунданты раненого и сам раненый были уже далеко; шевалье остался в обществе г-на Шалье, похлопывающего его по ладоням, и Блека, лизавшего ему лицо.
XXXVII ГЛАВА, КОТОРАЯ БЛАГОРАЗУМНО ВОЗДЕРЖИТСЯ ОТ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАКОНЧИТЬСЯ ИНАЧЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПОСЛЕДНИЕ ГЛАВЫ РОМАНА
Когда г-н де ла Гравери вернулся в гостиницу "Лондон", ему сообщили, что Тереза уже приехала и ждет шевалье в его комнате.
Волнение шевалье было так велико, что ему недостало мужества рассказать девушке о событиях, столь круто изменивших ее жизнь.
Он сообщил г-ну Шалье все, что тому необходимо было ей сказать, и втолкнул его в комнату, а сам остался ждать за дверью.
Тереза была сильно удивлена, увидев, как в комнату вместо г-на де ла Гравери вошел неизвестный ей человек, но г-н Шалье поторопился ее успокоить; к тому же, Блек, учуявший свою юную хозяйку, последовал за негоциантом и теперь всячески ласкался к Терезе.
Но лишь только девушка узнала об опасности, которой ради нее подвергался г-н де ла Гравери, она в страшном волнении вскричала:
— О мой отец! Мой милый добрый отец! Где же вы?
Шевалье не мог устоять перед этим призывом.
Открыв дверь, он бросился в объятия своей дочери и, покрывая ее лоб поцелуями, прижал Терезу к своей груди.
— Черт возьми! — воскликнул он, освободившись из ее объятий. — Вот она плата за все то, что я сделал для тебя, дитя мое. О! Что за счастье увидеться и обняться вновь, после того, как мы были буквально на волосок от того, чтобы навсегда потерять друг друга! Нет, черт побери! Ничто на свете не может сравниться с этим счастьем.
Затем шевалье внезапно остановился, словно испугавшись самого себя, и добавил:
— Бог мой! Похоже, мне уже пора стать самим собой; вот уже два дня я ругаюсь, точно какой-нибудь безбожник; со мной никогда такого не было, даже, когда я был страшно сердит на Марианну. Проклятье! Добрая канонисса меня и не узнала бы сейчас!
— Дорогой отец, — сказал Тереза, снова обнимая и целуя шевалье, — дорогой отец, никогда, даже в моих самых честолюбивых мечтах, я не осмеливалась бы желать того, что происходит сейчас со мной.
Затем мысли ее приняли несколько иной оборот.
— Увы! — промолвила она. — Значит, моя бедная матушка умерла! О! Мы часто будем вспоминать о ней, не правда ли?
Господин Шалье бросил на шевалье взгляд, исполненный беспокойства и сострадания.
Но того, казалось, ничуть не взволновала просьба, высказанная девушкой.
— О! Конечно же, мы будем ее вспоминать, — ответил он. — Она была так добра, так красива, ты вылитый ее портрет, дитя мое. А если бы ты знала, каким счастливым она меня сделала во времена моей молодости! Сколько прелестных воспоминаний она мне подарила о том времени, которое так далеко ушло от нас, но навсегда запечатлелось в моем сердце.
— Значит, она тоже была несчастна?
— Увы, да, моя дорогая малютка. Но что поделаешь! — добавил со вздохом шевалье. — Я был молод и не всегда поступал разумно.
— О! Это невозможно, отец! — вскричала Тереза. — Я могу поклясться, что если моя мать была несчастна, то вашей вины в этом не было.
— Знаете ли вы, что у вас золотое сердце? — прошептал г-н Шалье на ухо шевалье де ла Гравери.
— Вот еще! — подхватил тот. — Мое сердце, мое сердце… Я сердит на него! Если бы оно не было таким ленивым и таким трусливым, то вот уже восемь лет я бы ласкал у себя на коленях это драгоценное крошечное создание. Как должно быть это хорошо, друг мой, когда тебя обнимает и целует девятилетняя девочка, вся белокурая и розовая! — Вот это счастье, которого лишил меня мой эгоизм.
В эту минуту вошел служащий гостиницы и сообщил г-ну де ла Гравери, что на лестнице его ждет молодой человек, тот самый, кто уже приходил сегодня утром.
Шевалье быстро вышел.
Действительно, это был Анри.
— Тереза здесь, — сказал ему г-н де ла Гравери. — Вы хотите ее увидеть?
— Нет, сударь, — отвечал Анри. — Это было бы неприлично как для нее, так и для меня. Я даже не буду присутствовать на церемонии бракосочетания. Мой отец, которому я рассказал обо всем случившемся и который дал свое согласие на это слишком запоздалое искупление вины, мой отец будет представлять нашу семью подле моего несчастного брата.
Но Тереза услышала чей-то голос, и, благодаря сверхъестественному чутью, порождаемому глубокой и сильной страстью, она узнала голос Анри.
И прежде чем г-н Шалье смог бы воспротивиться ее намерению, прежде чем он даже смог бы о нем догадаться, она распахнула дверь и, бросившись в объятия молодого человека, произнесла:
— О! Анри, Анри, ты ведь знаешь, что я уступила лишь тебе.
— Я знаю все, моя бедная Тереза, — промолвил Анри.
— Ах! Почему ты меня покинул! — чуть слышно сказала девушка.
— Увы! Я жестоко поплатился за мою слабость, — ответил Анри. — Но встретим, как подобает, наше несчастье, Тереза. Скоро вы станете моей сестрой. Останемся же достойны — и вы, и я, тех новых уз, что вскоре соединят нас. Позвольте мне откланяться и удалиться.
— Не покидайте меня в такую минуту, Анри, я вас умоляю! Останьтесь рядом со мной до тех пор, пока новые клятвы не разлучат нас вторично.
Анри, тоже безумно страдавший от того, что должен расстаться с Терезой, не нашел в себе сил устоять перед ее мольбой и безропотно согласился проводить ее к своему брату.
Каким бы болезненным ни был для него этот путь, Грасьен настоял, чтобы его перевезли в Париж.
Его положили в особняке в предместье Сент-Оноре.
Шевалье, Тереза, Анри и г-н Шалье застали его отца, г-на д’Эльбена, и двух офицеров, что были секундантами, у кровати раненого.
Вызвали хирурга, и он стал оказывать ему помощь.
Грасьен лежал на диване; поддерживаемый подушками, он занимал почти вертикальное положение, чтобы помешать крови скапливаться в легких.
Он был бледен, однако в его глазах было выражение спокойствия и безмятежности, прежде полностью отсутствовавшее в его взгляде.
Увидев вошедшую Терезу, тоже сильно побледневшую и изменившуюся под влиянием беременности, поддерживаемую с одной стороны Анри, а с другой — шевалье, Грасьен медленно вынул свои руки из-под одеяла, испачканного кровью, и сложил их, как будто прося прощения у девушки.
Его дыхание было таким прерывистым и стесненным, что каждое слово давалось ему с большим трудом.
Вместо него взял слово граф д’Эльбен:
— Мой сын страшно виноват по отношению к вам, мадемуазель; и он понес вполне справедливое возмездие, но как оно жестоко! Соблаговолите простить его и облегчите своим состраданием последние минуты моего несчастного сына.
Тереза бросилась на колени перед кроватью Грасьена, взяла в свои ладони уже холодеющие руки умирающего и, рыдая, прижала их к своим губам.
Почувствовав это пожатие, Грасьен собрался с силами и попытался с благодарностью улыбнуться своей печальной невесте.
В это время в комнату вошел служащий, ведающий актами гражданского состояния, а вслед за ним вошли священники, за которыми перед этим посылали слуг.
Первый приступил к официальному бракосочетанию двух супругов.
Затем священник и его помощники, надев свои священнические одежды, начали религиозную церемонию венчания.
В этой комнате разыгрывалось поистине величественное действо.
Повсюду были признаки смерти: белье в пятнах крови, разбросанное по ковру, аптечка и хирургические инструменты на предметах мебели; люди с бледными и удрученными лицами, сидящие по углам или стоящие вокруг кровати; среди всего этого звуки рыданий Терезы, прерывающие монотонное бормотание священника, который читал молитву, и заглушающее все происходящее пронзительное свистящее дыхание раненого; наконец, лица двух супругов: одним из них была эта бедная девушка, едва оправившаяся после ужасной болезни, которую ей удалось побороть; изнемогая от пережитого волнения, она, казалось, продолжала жить лишь для того, чтобы сохранить жизнь ребенку в своем чреве; другой, обручаясь с молодой женщиной, одновременно обручался и со смертью, и брачным ложем ему должен был служить гроб, — все это, освещенное дрожащим светом нескольких восковых свечей, составляло необычайно волнующую картину.
На вопрос священника, согласен ли Грасьен взять в жены Терезу, тот ответил "да" так ясно и так отчетливо, что его расслышали и в другом конце комнаты; затем, подперев руками голову, он, казалось, с тревогой стал ждать ответа Терезы на тот же самый вопрос.
В ту минуту, когда совершающий богослужение произнес слова, скрепляющие перед Богом супружеский союз, Грасьен откинул голову на подушку, его рука нежно пожала руку Терезы, которую священник вложил в его ладонь; затем, отыскав глазами г-на де ла Гравери, стоящего на коленях в изножье кровати и страстно возносившего Господу свои молитвы, он чуть слышно произнес слабеющим голосом:
— Вы удовлетворены, сударь?
Но усилие, предпринятое им, чтобы ответить "да" и чтобы обратиться с этим вопросом к шевалье, истощили силы раненого. Конвульсивная дрожь сотрясла его тело; остатки румянца на его щеках и блеска в глазах окончательно исчезли.
— Сударыня, — сказал священник, — если вы хотите принять последний вздох вашего мужа, то это время наступило.
Молодая женщина припала к телу Грасьена, но, прежде чем ее губы коснулись губ раненого, его душа простилась с телом.
Грасьен издал последний вздох.
Блек, забытый всеми, протяжно и заунывно завыл, и от этого воя у присутствующих дрожь пробежала по жилам.
* * *
Шевалье де ла Гравери долго не приходил в себя от страшного потрясения, вызванного этим несчастьем и предшествовавшими ему событиями.
Лишь другие заботы, другие волнения помогали ему отвлечься от того, что произошло.
Госпожа баронесса д’Эльбен стала матерью, и для столь впечатлительного сердца, каким было сердце шевалье, рождение нового существа — а это был мальчик — не было заурядным переживанием.
Он одновременно занимался и выбором кормилицы и заботами о здоровье роженицы и ее ребенка; и ему как будто не хватало этих хлопот, его воображение, по всей видимости, стремившееся наверстать то время, что оно провело в оцепенении, открывало перед ним сразу младенчество, детство, отрочество и период возмужания ребенка. Шевалье размышлял о тех средствах, что он употребит, чтобы уберечь от возможных опасностей в жизни это бедное крошечное существо, у которого еще не прорезались зубки.
Однажды, когда Тереза уже поправлялась, шевалье настоял, чтобы она его сопровождала в его традиционной прогулке, прерванной столькими событиями.
Баронесса д’Эльбен ни в чем не могла отказать такому нежному и такому заботливому отцу и с радостью на это согласилась.
Шевалье отвел ее на скамейку на валу Ла-Куртий; здесь в прежние времена он ежедневно подолгу сидел, любуясь пейзажем.
Он сел первым, усадил справа от себя Терезу, слева кормилицу; затем, поместив у себя между коленями Блека, он сказал:
— Подумать только, господин Шалье полностью отрицает, что под этой черной шкурой скрывается Дюмениль… И однако же это именно он все устроил!
— Нет, отец, — ответила, улыбаясь, молодая женщина, — причиной всему те кусочки сахара, что вы клали в ваш карман.
Шевалье несколько минут пребывал в молчании, устремив свой взор на два величественных шпиля собора: на каждом из них, скрываясь в облаках, возвышался крест из бронзы и из золота.
— Конечно, — воскликнул он, показывая на Небо, — гораздо легче думать, что все случившееся произошло по воле того, кто находится там на Небесах… Но в любом случае ты нам помог, мой бедный Блек!
И, целуя спаниеля в нос, он тихо добавил:
— Мой дорогой Дюмениль!
В это время добропорядочные жители Шартра, праздно гуляющие на валах, наблюдали за шевалье и обменивались впечатлениями:
— Посмотрите-ка на господина де ла Гравери, он прямо весь сияет!
— Охотно верю! Не в состоянии больше ублажать свой желудок — трюфели больше не поступают, омаров также не найти, — он как раз вовремя предался новому греху, чтобы заменить им старый…
— Как вы осмеливаетесь говорить подобное! Ведь утверждают, эта молодая женщина — его дочь.
— Его дочь! И вы этому верите? О! Вы слишком доверчивы, моя дорогая! Вы даже не подозреваете, какие они повесы, эти старые волокиты прежнего порядка!
Александр Дюма Маркиза д’Эскоман
I ГЛАВА, ПОХОЖАЯ НА ВСЕ ПЕРВЫЕ ГЛАВЫ
Мы просим у наших читателей позволения сопроводить их в Шатодён.
Я уже слышу несколько голосов парижан, робко спрашивающих: "А что такое Шатодён?"
Шатодён, сударыни, — по нежности голоса я догадываюсь, что вопрос этот задают мне в особенности представительницы женского пола, — Шатодён, сударыни, это древняя столица графства Дюнуа в Босе; и, чтобы опередить всяческие расспросы, сразу же скажу вам, что Бос, включающий области Шартрен, Дюнуа и Вандомуа, — край весьма невзрачный, но только, поймем друг друга правильно, невзрачен он для поэтов, художников и прочих мечтателей, презирающих вложение капитала в землю, тогда как, напротив, для тех, кто всем видам Швейцарии, Тироля и Пиренеев предпочитает зрелище плодородных почв, богатых урожаев, тучных полей люцерны, всего того, что образует однообразие горизонта, составленного из желтых и зеленых квадратов, — для таких людей, охотно с этим согласимся, Бос — прекраснейшая из всех земель.
Но вот что подходит всем, так это несколько островков зелени, которые встречаешь, путешествуя по волнам этого пшеничного моря, и которые среди общей монотонности пейзажа кажутся путнику несравненно более свежими и очаровательными оазисами, чем они есть на самом деле.
Именно так и происходит с теми, кто, идя из Шартра, замечает над вершинами тополей, растущих по берегам реки Луар, гребень горы, на которой возведен город Шатодён и высится древний, восхитительный замок Монморанси.
Пропасть, скалы, деревья, свежесть — и все посреди Боса! Возникает искушение считать, что все это театральный задник, декорация к средневековой драме.
Вот почему этот оазис, простирающийся на несколько льё, сплошь усеян замками и загородными домами; вот почему тех, кто обитает в них, связывают весьма налаженные и оживленные личные отношения.
Особенно оживленными они были в начале царствования Луи Филиппа, в ту эпоху, когда мы имели честь быть допущенными в некоторые круги шатодёнского общества и могли там познакомиться с событиями, о которых и собираемся сейчас рассказать.
То было время, когда поколение, ныне упрятанное в супружеские узилища, еще было полно блеска юности. Мы намереваемся говорить о том поколении, что на несколько лет младше нас и примерно в 1832 году вступало в свет через двери, стремительно распахнутые перед ним революцией.
Это. было поколение необычное, болезненное, пылкое, беспокойное и легко возбудимое, рожденное, подобно солдатам Кадма, из вырванных зубов дракона, зачатое между двумя сражениями в редкие минуты шаткого мира; воспитанное под бой барабанов, оно в том возрасте, когда дети прыгают через скакалку и играют в мяч, встало однажды с ружьем в руках, и не в солдатских мундирах, а в школьных куртках, чтобы защищать Париж.
А отцы этого поколения погибли, защищая Францию.
Это поколение едва знало своих отцов; бедные сироты славы видели, как те верхом на лошадях с окровавленной грудью приезжали иногда по утрам, подобно дону Родриго, явившемуся на свидание с Хименой, и, не сходя с седла на землю, обнимали жен, поднимали детей на высоту своей груди, обвешанной крестами, а затем, передав сыновей на руки матерей, спешно отбывали.
Наконец человек, чей гений стал душою всех этих отцов, был унесен ураганом, подобно Ромулу, оставив после себя атмосферу, пропитанную порохом и мечущую молнии. Молодое же поколение спотыкалось об обломки Империи; рожденное для войны, оно было осуждено на мир и ночами грезило о песках Египта и снегах России; когда же оно пробуждалось, то вместо этого бога войны, этого исполина бурь — Адамастора, Антея, Гериона, — промелькнувшего, как молния, на бледном коне Смерти, с удивлением видело тяжелую золоченую карету, которую тянула шестерка украшенных султаном лошадей, и старого короля-подагрика, сменившего прежние мантии, с которых соскоблили пчел, на новые, усеянные геральдическими лилиями.
Два мира встретились лицом к лицу: мир прошлого, восходивший ко времени Людовика Святого, и мир настоящего и грядущего, начавшийся с эпохи Наполеона.
А между ними смутным, но гордым и грозным призраком стояла богиня, избравшая на три года в качестве трона эшафот и в страшных муках родившая на свет свободу!
То была прекрасная и благородная эпоха, время лихорадочное и бурное, но вместе с тем честное, достойное, верное своим убеждениям. Наше общество не было еще объято лихорадкой биржевой игры, и не настал еще тот час, когда пэр Франции мог, не опасаясь скандала, пожать руку закулисному биржевому маклеру. И в результате все эти бедные молодые люди, чьи страсти не разряжались биржевыми спекуляциями, объятые неясным чувством беспокойства, сломя голову бросались либо в суетные занятия, либо в неистовые забавы. Все свои жизненные силы, мужество и чувства они растрачивали на безумные оргии, разорительные пари, безрассудные игры, скачки, псовые охоты и на содержание любовниц.
В ту эпоху провинциальные прожигатели жизни ничуть не уступали парижанам, о чем и ныне еще свидетельствует немало разоренных состояний. Поистине преуспел в этом отношении город Шатодён, в стенах и окрестностях которого насчитывалось тогда до двадцати ничем не занятых сынков из богатых семей; они, естественно, способствовали тому, чтобы поддерживать в шатодёнском обществе упомянутый нами дух веселости, живости и задора.
Самым заметным, если не самым замечательным из всех этих светских львов (такое выражение тогда только начинало входить в употребление), считался в ту пору маркиз д’Эскоман.
Он был женат, но брак дал ему лишь средство продолжать жить, как говорят, на широкую ногу, и, нужно воздать ему должное, делал он это four in hand[5].
Как истинный француз, маркиз д’Эскоман женился по расчету и сорил деньгами жены с такой же легкостью, как и своими собственными, а вернее сказать — отцовскими.
Маркизу д’Эскоману было тридцать лет.
Июльская революция застала его в звании младшего лейтенанта гвардейских драгунов. Офицером он был если уж и не таким хорошим, то весьма обходительным, и имя его гораздо чаще значилось в бальных блокнотиках дам в записи на кадриль, вальс и польку, чем в списках лиц, представленных военным министерством к повышению в чине.
Тем не менее его имя, происхождение и связи обещали ему при старшей ветви Бурбонов достойную карьеру, но Июльская революция все перевернула.
Господин маркиз д’Эскоман счел, что он слишком хорошего происхождения, чтобы служить королю-граждан и ну, который носил бумажные перчатки, ходил пешком с зонтом под мышкой и по зову парижской черни появлялся на своем балконе, трижды раскланивался и пел "Марсельезу".
Господин д’Эскоман вышел в отставку и вернулся в свои имения.
Там он добропорядочно зевал от скуки до начала охотничьего сезона, открывшегося спустя месяц после вступления на престол нового короля; 5 сентября, взяв ружье и собаку, он отправился на охоту и пробыл там целых три месяца; однако, когда стали исчезать куропатки и начавшаяся гололедица сделала невозможной псовую охоту, маркиз, погрузившись в общество старых светских дам, кавалеров ордена Святого Людовика, явившихся из прошлого столетия, и раскованных учеников коллежа, безмерно заскучал.
Он огляделся вокруг себя в поисках того, что бы ему можно было предпринять — то ли доброе, то ли злое, ибо у него было не больше склонности к Ариману, чем к Ормузду, — чтобы развлечься теми забавами, какие, как у пастуха Титира, превращали его в бога.
Провинциальное безлюдье показалось ему препятствием, которое он должен был преодолеть прежде всего. Это значило, как говорят испанцы, взять быка за рога. Он попытался заполнить это безлюдье.
Начнем с того, что у маркиза д’Эскомана была хорошенькая любовница, чьи права нисколько не были ущемлены его женитьбой. Она стала одним из первых украшений создававшегося маркизом кружка; не будучи уже куртизанкой, она не превратилась еще в лоретку и представляла собой сочетание той и другой.
Звали ее Маргарита Жели.
Мы упомянули, что у маркиза была жена.
Расскажем теперь, что это была за жена и при каких обстоятельствах г-н д’Эскоман женился.
Затем, с вашего позволения, мы возвратимся к прерванному нами вступлению.
Господин д’Эскоман, основательно расстроив свое родовое имение еще будучи на службе у его величества Карла X, окончательно разорил его после Июльской революции за те два года, что прошли перед тем, как мы с ним встречаемся.
К. концу первого года все его имения находились уже под залогом, а к концу второго года начал сокращаться кредит, столь широко предоставляемый в провинции богатым землевладельцам.
Однажды нотариус г-на д’Эскомана, доказывая своему клиенту невозможность нового займа, заявил ему, что есть лишь два способа не рухнуть в пропасть, куда тот вступил уже одной ногой, — либо утихомириться, либо жениться.
Господину д’Эскоману даже в голову не приходило пойти на уступку, которую Людовик XV сделал своему врачу, другими словами — остепениться. Выполнимой ему показалась лишь вторая часть предложения законника, и, пожав плечами, он со вздохом произнес:
— Ну что ж, пусть будет по-вашему! Жените меня!
Нотариус придерживался того мнения, что нужно ковать железо, пока оно горячо, и тут же предложил своему клиенту выгодную партию с сорока пятью тысячами ливров ренты. Это показалось маркизу столь заманчивым, что после такого вступления нотариуса он незамедлительно остановил его и заявил о своей готовности принять миллион, не взглянув даже на руки той, которая этот миллион ему приносит.
Господин д’Эскоман поистине родился в рубашке: у той женщины, что принесла ему миллион, руки были хорошенькие, белые, тонкие и аристократичные. Принадлежали они последнему цветку, распустившемуся на древе превосходного семейства из Блезуа. Невесте было восемнадцать лет; она была прелестна и получила безукоризненное воспитание; более того, она была сиротой, что удваивало ценность ее миллиона в глазах жениха, ибо он, таким образом, видел себя защищенным от нудного надзора сварливых и ревнивых родителей супруги.
Спустя несколько дней после сделанного нотариусом г-на д’Эскомана предложения молодые люди были представлены друг другу, и через два месяца ухаживаний — они дорого обошлись главным образом легкомысленным привычкам маркиза д’Эскомана — он обвенчался с мадемуазель де Нантёй в церкви святого Петра в Шатодёне.
В подобного рода браках по расчету, называемых подходящими — крайне неудачно, по нашему мнению, ибо последнее, чем интересуются в таких случаях, это подходят ли будущие супруги друг другу, — почти всегда присутствует взаимное безразличие, если только не обоюдная неприязнь.
Но не таким был этот только что заключенный союз. В ответ на глубокое равнодушие г-на д’Эскомана к своей супруге Эмма — так нарекли мадемуазель де Нантёй при крещении — принесла ему искреннюю любовь, готовую на всяческие жертвы и полную самоотверженность.
Молоденьким светским барышням свойственно испытывать симпатии и вынашивать надежды, но, что бы там ни говорили, они редко идут дальше этого; еще реже строгость полученного ими воспитания дает время развиться в их сердце страсти. Несомненно, что за те несколько лет, которые отделяют детство от замужества, девушки переживают много неудержимых порывов, испытывают много затаенных желаний, но положение, уготованное для них обществом, столь четко и столь резко обозначено, что немногие из них позволяют себе проявлять каким-либо образом свои тайные чувства, и почти все они не желают слушать биение собственных сердец. Совсем мало среди них таких, что не пребывают в сомнениях, когда от них требуется решимость, чтобы забыть свой долг; они много мечтают, но мало действуют и скорее полагают, что любят, чем любят на самом деле. Так они переходят от одной мечты к другой, и их душа, всегда исполненная желаний, но всегда мечущаяся, продолжает свой воздушный полет, напоминая при этом те белые шелковистые паутинки, которые ветерок нежно носит ранней осенью по небесной лазури и которым всегда недостает основательности, чтобы закрепиться на земле.
Воспитанная в монастыре, Эмма имела представление о будущем муже лишь по своим грезам пансионерки. И когда ее опекун, после того как ему нанес визит нотариус, представил ей жениха, девушке он показался воплощением ее самых заветных надежд, и, усмотрев в этом прямое вмешательство Провидения в ее судьбу, она возблагодарила Бога с той горячностью нежных душ, что мало-помалу заставляет ведомые ими тела видеть Создателя в создании и смешивать в одном и том же культе предмет любви и почитаемого ими Бога.
Небывалые, незнакомые, необычные ощущения, испытанные Эммой при виде ее будущего мужа, ощущения тем более сладостные, что они прежде были ей совершенно неизвестны, способствовали, словно магнетический ток, этому переходу от склонности к любви.
Чувства оказывают особенное влияние на любовь именно тогда, когда тот, на кого они направлены, менее всего догадывается об их существовании и их действии.
И уже по тому, как Эмма произносила, говоря о своем женихе, "мой прекрасный Рауль", можно было понять, несмотря на чистоту, искренность, невинность ее чувств, что, помимо воли целомудренной девушки, есть нечто чувственное в расцвете такой непорочности. Ощущалось, что в этой любви, которая вскоре должна была быть освящена браком, участвовали не только сердце, не только душа; здесь усматривалась еще и рука демона плоти, бросившего свою тень на зарю великой любви, и угадывалось то, что здравомыслящие люди называли "ослеплением мадемуазель де Нантёй", так что она не избежала и предостережений относительно ее будущей судьбы.
Мы умолчим об анонимных письмах и советах, в которых она могла заподозрить искренность; и тех и других в подобных случаях бывает тем больше, чем меньше городок. Мы скажем лишь одно: желание стать маркизой д’Эскоман было у бедной девушки столь настоятельно, что она не поддалась не только анонимным письмам и сердечным советам, но и еще настоятельным, поистине материнским уговорам женщины, имевшей на нее самое большое влияние, — старой гувернантки, своими заботами и своей самоотверженностью мало-помалу заменившей девушке преждевременно умершую мать.
Звали эту гувернантку Сюзанна Мотте.
Сюзанна Мотте, служившая горничной у мадемуазель де Ренваль — так звали мать Эммы — еще задолго до того как та сочеталась браком с г-ном де Нантёем, через неделю после свадьбы своей госпожи вышла замуж за камердинера г-на де Нантёя. Родив, тем не менее, ребенка на полгода раньше своей молодой хозяйки, Сюзанна добилась у нее как милость позволения кормить маленькую Эмму. Впрочем, у г-жи де Нантёй не было никаких причин отказать славной женщине в этой просьбе. Позднее замужество — Сюзанне было двадцать восемь лет — сделало ее лишь крепче здоровьем. А поскольку семье она служила уже десять лет, в ее верности не могло быть никаких сомнений.
Ребенок Сюзанны был отнят от груди, и его место заняла малютка Эмма.
Сюзанна разделяла свои материнские заботы между двумя малышками.
Однако дочка кормилицы, слабенькая, болезненная, вскоре умерла от приступа крупа, и с тех пор на одну маленькую Эмму обратилась вся любовь, которую до этого Сюзанна распространяла на обоих грудных детей.
Бедной матери казалось, что душа умершей дочери перенеслась в тело пережившей ее девочки, и если только мать, потерявшая свое дитя, может найти утешение, то, кормя, лаская и убаюкивая маленькую Эмму, Сюзанна Мотте находила его.
Эта любовь переросла у Сюзанны в своего рода страсть; ее деревенская и даже несколько грубоватая натура смягчалась в хлопотах и заботах, каких не оказывала девочке родная мать. При малейшем происшествии с ребенком в доме слышались крики, при малейшем его недомогании — слезы; но, когда случались такие происшествия и такие недомогания, прежде всего в доме раздавались не крики и слезы девочки, а крики и слезы Сюзанны Мотте.
Часто, желая выразить наивысшую преданность одного человека другому, говорят: "Он отдаст за него свою жизнь". Эти слова по отношению к маленькой Эмме были для Сюзанны Мотте больше, чем избитой фразой, — это была правда.
Зашедшая так далеко страстная любовь кормилицы встревожила г-жу де Нантёй, ведь материнская ревность ничуть не менее эгоистична, чем любая другая ревность; испугавшись, что детское сердечко обманется ласками и по ошибке склонится на чужую сторону, она решила удалить Сюзанну Мотте от девочки.
На этот раз не было ни криков, ни плача — было немое отчаяние, но столь мрачное, зловещее и глубокое, что г-жа де Нантёй поняла: она не имеет права убивать бедную женщину, единственным преступлением которой была слишком сильная любовь к чужому ребенку.
И Сюзанна Мотте была оставлена при маленькой Эмме, но поскольку удивительным инстинктом она угадала причину своего удаления от девочки, поскольку она в свою очередь почувствовала ревность, увидев, как ребенок ласкается к матери, то кормилица решила по мере возможного утаивать перед г-жой де Нантёй, перед прислугой и даже перед посторонними свою страстную привязанность к малышке. Так, мало-помалу, постоянно пересиливая себя и без конца повторяя себе, что у нее отнимут ее дорогую Эмму, если она будет слишком любить девочку, Сюзанна сумела спрятать в глубине сердца эту любовь, составлявшую всю ее жизнь.
Но только, как говорила она себе сама, не сомневаясь, что сказанное ею — правда, дьявол на этом ничего не потерял: едва лишь Сюзанна оставалась наедине с ребенком, раздавались крики и слезы, однако это уже были крики и слезы радости; как страстно прижимала она девочку к сердцу, как страстно осыпала ее щечки поцелуями!
Девочка тоже питала к своей няне Сюзанне Мотте глубокую нежность; во всем мире для нее существовали только два человека: ее мать и Сюзанна; она делила между ними свою любовь, оказывая матери едва заметное естественное предпочтение.
Однако, подрастая, она все более и более сближалась с матерью. Как только Эмму отняли от груди, ее перевели спать в большой кабинет, примыкавший к спальне г-жи де Нантёй. Это стало жестоким испытанием для бедной Сюзанны: ей казалось, что у нее отняли половину счастья, что из ее жизни убрали ночи! Часто в темноте, когда г-жа де Нантёй уже спала, кормилица, сдерживая дыхание, на цыпочках, вся дрожа, словно готовясь к преступлению, пробиралась, как тень, к колыбели, чтобы поцеловать малышку. Однако раз или два шаги Сюзанны Мотте, как ни осторожно она ступала, будили мать, и тогда кормилица оправдывалась, говоря, что ей послышался плач ребенка и она прибежала на его крики.
То было время жестоких войн. После того как г-н де Нантёй, полковник кирасиров, участвовал в победах Империи, он участвовал и в ее поражениях, предшествовавших падению Наполеона. Он был ранен на Москве-реке, ранен при Лейпциге, ранен при Монмирае и убит при Ватерлоо.
Однажды графиня де Нантёй получила из военного министерства запечатанное черной печатью письмо, извещавшее ее о гибели мужа.
Маленькой Эмме было тогда два года.
Теряя близких, мы еще более начинаем дорожить теми, кто остается в живых. Любовь г-жи де Нантёй к Эмме усилилась, что болью отозвалось в сердце Сюзанны Мотте. С трех до шести лет ребенок почти не разлучался с матерью, и, не став ребенку чужой, Сюзанна чувствовала, разумеется, что каждый день девочка понемногу отвыкает от нее.
Уже раз двадцать кормилица, сердце которой разрывалось на части из-за того, что ребенок отдалялся от нее, хотела просить у г-жи де Нантёй разрешения вернуться к себе домой, но у нее никогда не хватало на это мужества. Как только Сюзанна собиралась заговорить об уходе, силы покидали ее. Она уговаривала себя: "Подожду еще один день!" Срок истекал, но на следующий день решимости у нее было не больше, чем накануне.
Как-то вечером г-жа де Нантёй вернулась из лесу, жалуясь на нестерпимую боль в боку. Она выехала на прогулку в открытом экипаже, замерзла и, опасаясь за маленькую Эмму, сняла с себя шубу и укрыла ею ребенка. Боль эта не настолько ее встревожила, чтобы она послала за врачом. А через сутки у нее обнаружилось воспаление легких, и болезнь развивалась так быстро, что через три дня г-жа де Нантёй испустила последний вздох, поручив своего ребенка Сюзанне Мотте, которой перед своей кончиной она выразила признательность за ее любовь и преданность.
Мрачные бездны таятся в человеческом сердце. Сюзанна Мотте была искренне привязана к г-же де Нантёй, но, тем не менее, едва она закрыла умершей глаза, ей почудилось, будто какой-то голос прошептал из самой глубины ее души: "Только теперь Эмма по-настоящему твоя, и никого отныне нет, чтобы любить ее и препятствовать твоей любви".
Этот голос ее напугал, она закрыла покойной глаза, но уже прижимала к своему сердцу девочку.
Опекуном сироты был назначен дядя г-жи де Нантёй по материнской линии, придерживавшийся роялистских убеждений и редко видевший свою племянницу, муж которой служил узурпатору. Он решил отдать Эмму в один из лучших парижских пансионов и, помня рекомендации покойной г-жи де Нантёй, позволил Сюзанне Мотте сопровождать ее ненаглядную питомицу.
Этого только и могла желать добрая женщина.
По прошествии шести лет, когда воспитание Эммы завершилось, ее состояние, благодаря честному и умелому руководству опекуна, почти удвоилось. И вот однажды утром он сказал своему нотариусу:
— Так вот, любезный господин Прива, как вам известно, у меня есть воспитанница на выданье; я не придаю значения богатству, но хотел бы выдать ее замуж за дворянина старого закала и правильно мыслящего.
Когда через три дня после этого г-н д’Эскоман пришел к г-ну Прива для переговоров о новом займе, нотариус посоветовал своему клиенту жениться на мадемуазель де Нантёй, о чем мы уже рассказывали.
Как только Сюзанна Мотте услышала о предполагаемом замужестве Эммы, она более чем с материнским вниманием и рвением бросилась наводить справки о женихе. Сведения эти кормилица собирала вовсе не в гостиных — там, где люди были заинтересованы скрыть или, по меньшей мере, приукрасить истину, которую она собиралась выяснить, а в лакейских, в этом грозном судилище, где редко кто из господ удостаивается похвальной грамоты от тех, кого судьба поставила им в услужение.
То, что Сюзанна узнала от лакеев о нравах и привычках маркиза д’Эскомана, повергло ее в ужас; ей казалось, что ее дорогое дитя обречено в жертву одному из чудовищ, описываемых в волшебных сказках; она просила, умоляла, заклинала свою дорогую Эмму не обрекать себя добровольно на заведомое несчастье. Но проделки маркиза были таковы, что не было никакой возможности рассказать девушке о тех из них, которые могли бы наиболее сильно повлиять на ее ум или скорее на ее сердце; Сюзанна не могла, а скорее не осмеливалась ничего уточнять; Эмма же смеялась как сумасшедшая над страхами старой подруги и, показывая ей на красивое лицо жениха, спрашивала ее, похож ли он на Синюю Бороду.
Итак, Эмма вышла замуж.
А неделю спустя после того как она произнесла это столь сладостное и страшное "да", не вняв мольбам своей гувернантки, хмурое лицо и покрасневшие от слез глаза которой беспрестанно выражали ее несогласие с восторгом новобрачной, Эмма уже печалилась.
Это замужество не оправдывало ни одной из надежд, которые воображение рисовало ее сердцу.
Она надеялась жить жизнью своего возлюбленного мужа и в то же время своей собственной жизнью, надеялась стать частью его души и его существа, но, к своему великому удивлению, оставалась одна, всегда одна.
Сдержанность, холодность и равнодушие по отношению к ней, которые Рауль не мог скрывать, она приписывала светским приличиям и относила их за счет его благовоспитанности; но, к ее большому удивлению, эта сдержанность и эта холодность сохранялись постоянно; как путник, обманутый на мгновение видением миража, вместо благотворного источника, у которого он надеялся смочить губы, видит вокруг себя лишь пустыню и раскаленные пески, так и Эмма испытывала — не перед маркизом д’Эскоманом, но перед жизнью, уготавливающей людям подобные разочарования, — страх, перед которым опасения Сюзанны казались лишь детским испугом.
В жизнь маркиза д’Эскомана женитьба, напротив, не внесла никаких перемен.
Разве только на конюшне у него прибавились две лошади, а в доме появился еще один повар; кроме того, поскольку Маргарита Жели, любовница маркиза, сочла своим долгом казаться глубоко опечаленной его браком, Рауль, будучи истинным дворянином, изъял одну из трех кашемировых шалей, положенных им в свадебную корзину своей невесты, и преподнес ее Маргарите, на чьих плечах эта шаль вызывала восхищение и зависть всех жительниц Шатодёна.
Кругу своих друзей и Маргарите он уделял ровно столько же времени, сколько и до женитьбы на Эмме; лошади и собаки по-прежнему составляли все ту же часть его привязанностей, а карточная игра — его доходов.
Но вместе с тем в Шатодёне маркиз чувствовал настоящее одиночество, и он попытался чем-то заполнить его, как мы уже отмечали перед тем как перейти к отступлению, которое только что закончилось.
С кавалерами ордена Святого Людовика у него не могло быть никаких общих дел: все их время и все их способности были поглощены бесконечными толкованиями статей из "Французской газеты" и "Ежедневной газеты".
Учащиеся коллежа выглядели в этом смысле лучше, и некоторые из них уже обнаружили наиболее счастливые свои дарования. Господин д’Эскоман решил не дать им пропасть и определился к молодежи наставником.
Но вовсе не к риторике и философии направлял маркиз занятия юнцов, а к тому, что составляет одновременно и доблести дворянина, и пороки Арлекина: к картам, вину и женщинам.
Спустя полгода г-н д’Эскоман с полным правом мог гордиться своими учениками: они совершенно перевернули жизнь города Шатодёна. Элегантные экипажи разъезжали по местам гуляний; ночные серенады охотничьих рожков заглушали звон колоколов, отзвуки которых одни прежде нарушали тишину, и всю ночь не давали спать мирным жителям старого городка; эти фанфары сменялись веселым пением беспутных компаний, стоившим многим горожанам бессонных ночей; множество ситцевых платьев сменилось на шелковые и бархатные, и многие матери оплакивали своих дочерей, сбившихся с пути истинного; наконец, местные ханжи, крестясь, подсчитывали огромные суммы, проигранные молодыми вертопрахами в клубе, к л обе или к л оубе (шатодёнское общество никак не могло договориться о произношении этого слова, столь нового для него, как и нравы тех, кто принес его в городок).
II ЛУИ ДЕ ФОНТАНЬЁ
Мы начинаем наш рассказ, которому предшествующие страницы служат прологом, с того времени, когда истекли два года супружества маркиза д’Эскомана и Эммы де Нантёй и все, что можно было ожидать от этого брака, сбылось.
Всякая незарубцованная рана распространяется вширь и застаревает; таков уж закон физической и нравственной природы человека: ни пороки, ни страдания не остаются неизменными; за эти два года страдания Эммы стали глубже, пороки же г-на д’Эскомана усилились.
Скажем более, эти пороки перешли ту грань, за которой они утратили аромат изящества и молодости, позволявший их сносить, и уже сам свет, всегда столь равнодушный к супружеским печалям, в конце концов возмутился поведением этого человека, сбросившего с себя маску приличий и давшего волю своим страстям.
Эмма перешла от печали к унынию, от уныния — к отчаянию; наконец, от отчаяния она пришла к грустной и тихой покорности судьбе.
Уже давно было сказано, но, поскольку великие истины в особенности нуждаются в повторении, необходимо повторить: несчастье возвышает и укрепляет души, достаточно сильные, для того чтобы не быть им сломленными. С юности Эмме довелось пить из чаши страданий; еще ребенком она увидела свою мать облаченной в траур, а в девичестве надела его сама; одиночество, в котором она выросла — ведь понятно, что любовь Сюзанны Мотте служила ей лишь физической опорой, — одиночество, в котором она выросла, расположило ее сердце к твердости. Горькое испытание, выпавшее на ее долю, придало этому сердцу сильную закалку. И потому, как только прошли первые вспышки разочарования, она внешне успокоилась и с достоинством переносила свое несчастье. Эмма сумела скрыть слезы за улыбкой равнодушия; она презрением убила в себе любовь, сочтя ее для себя недостойной, и, когда эта любовь умерла в ней, она не стала искать в жизни никаких утешений, а наоборот, настолько прикрылась личиной беззаботности и остроумной пренебрежительности ко всем окружавшим ее знакам внимания, что, казалось, ничто уже не должно было взволновать тело этой женщины, которому приписывалась холодность мрамора, чьей белизной оно уже обладало.
Но рядом с Эммой находился человек, который не мог подражать ей в ее покорности судьбе.
Это была Сюзанна Мотте.
Недооценить добродетель, пренебречь красотой Эммы — уже это было для кормилицы непростительным преступлением. Но заставить истекать слезами ее голубые и, по словам Сюзанны, самые восхитительные на свете глаза, причинять горе молодой женщине, которую она до сих пор еще иногда качала на своих коленях как ребенка, — это означало получить в ней непримиримого врага.
Ненависть ее дошла до исступления в тот день, когда она встретила на карнавале Маргариту Жели, бесстыдно прогуливающуюся под руку с маркизом д’Эскоманом, и маркиз ответил взрывом смеха на презрительный взгляд, которым кормилица пыталась испепелить своего хозяина.
Эмма выезжала в свет, лишь подчиняясь мужу, не заинтересованному в том, чтобы выставлять напоказ заброшенность, в которой он ее оставил; делала она это без всякого удовольствия и желания. Одиночество и отрешенность более, чем шум, соответствовали ее мыслям, ставшим тягостными и мрачными; но Сюзанна отнюдь не одобряла такую сдержанность, и, не имея возможности убить г-на д’Эскомана, она лелеяла несколько наивную мечту смертельно досадить ему.
Вот почему, если молодая маркиза вдруг решалась выехать куда-нибудь на вечер с мужем, Сюзанна с материнской заботой одевала свою госпожу, украшала ее с благоговением брамина к своему идолу и, любуясь той, которую она видела столь красивой, одновременно преисполнялась нежностью к ней и ненавистью к своему недругу.
Иногда ей случалось сопровождать свою госпожу на балы в дома друзей. Там она проскальзывала среди прислуги того дома, где проходило празднество, и через приоткрытую дверь не спускала глаз с молодой женщины, ловя все ее движения и взгляды, невольно улыбаясь тем, на кого с улыбкой смотрела маркиза, гордилась ее успехом и была особенно счастлива, когда толпа поклонников теснилась вокруг Эммы; и тогда под влиянием ненависти к маркизу д’Эскоману Сюзанна не раз испытывала искушение подбодрить этих людей жестом и голосом.
Впрочем, маркиз был столь равнодушен ко всему происходившему в его доме, что он даже не обращал ни малейшего внимания на вражду к нему гувернантки, которую та и не пыталась скрыть.
Так обстояли дела до начала 1835 года, когда произошло событие, вызвавшее настоящую бурю среди шатодёнской аристократии.
Супрефект округа позволил себе роскошь взять личного секретаря, и принадлежал этот секретарь к одной из самых именитых нормандских фамилий.
Тот прибыл, чтобы вступить в эту должность, с рекомендательным письмом к своему родственнику, давно уже обосновавшемуся в Босе; в этом письме мать молодого человека, надеясь на благосклонность кузена, просила его исполнить родственный долг, присмотрев за ее сыном и введя его в общество.
Таким образом Луи де Фонтаньё — то было имя нового секретаря — незаметно оказался введен в гостиные, куда до сих пор ни один государственный служащий не мог подобрать заклинания "Сезам, откройся!".
Сначала никто не обратил на это ни малейшего внимания, но простое замечание, сорвавшееся с уст какого-то недоброжелателя, подняло бурю негодования в обществе, и каждый старался выглядеть не менее принципиальным, чем его сосед.
И многие поэтому назвали случившееся отвратительным.
Действительно, в этом дворянском кругу считалось крайне дурным тоном принимать какого-то Фонтаньё, поступившего на службу к июльскому правительству. С досадой и грустью там смотрели на человека, который не только кое-чего стоил, но еще и кое-чего значил, а стал слугой при чиновнике короля Луи Филиппа.
Всякий, проявивший благорасположение к человеку, повинному в подобном забвении своего имени и своей чести, считался настоящим его приспешником.
Те, что были возбуждены более всего, предлагали изгнать этого чужака.
Вспышки такого негодования не могли остаться без отклика. Разговоры эти дошли до г-на де Мороя, того самого кузена, кто ввел Луи де Фонтаньё в благородное шатодёнское общество; он горячо встал на защиту своего молодого родственника и, стараясь найти ему оправдание, напоминал недовольным, что г-н де Фонтаньё-отец пожертвовал ради дела, из-за которого они проявляли такую чувствительность, гораздо больше, нежели они сами: будучи полковником королевской гвардии в 1830 году, этот достойный офицер отдал за него жизнь! Место, каким обнадеживали его сына после прохождения им испытательного срока, должно было стать единственным источником его благосостояния, необходимого для оказания помощи нуждавшимся: вдове и племяннице старого солдата-роялиста, то есть матери и кузине юного Луи де Фонтаньё.
Однако людям, проявлявшим подобное рвение, оно стоило слишком немного, чтобы они довольствовались столь разумными доводами, и если г-н де Морой, обладавший крупным состоянием и умевший находить ему достойное применение, видел, что его поступок и его слова одобрили некоторые избранные умы, то значительная часть шатодёнской аристократии продолжала все так же сопротивляться вхождению молодого секретаря в их среду.
Одним из наиболее яростных противников Луи де Фонтаньё стал маркиз д’Эскоман.
Поспешим заметить, что приверженность к своей касте была для маркиза не причиной, а просто поводом для такой враждебности.
Нельзя отрицать, что некоторые крепко закаленные характеры способны сохранить даже в своем распутстве, которое при этом является своего рода предохранительным клапаном, выпускающим избыток их молодого пыла, твердость и непоколебимость своих убеждений.
Но исключение отнюдь не является правилом.
У людей заурядных злоупотребление чувственными удовольствиями оказывает на политические убеждения то же действие, что и на все душевные качества, — оно завладевает ими.
Общественные потрясения, революции, свершившиеся и надвигающиеся, значили гораздо меньше для г-на д’Эскомана, чем один взор Маргариты Жели.
И именно невольное движение больших черных глаз этой девицы послужило причиной ненависти г-на д’Эскомана к Луи де Фонтаньё, на которого она обратила, возможно неумышленно, вызывающий взгляд.
Однако, по правде говоря, за этим первым невольным взглядом последовали, как показалось г-ну д’Эскоману, уже вполне умышленные взгляды, и с каждым разом они становились все более нежными.
Вот поэтому-то маркиз и метал громы и молнии и заявлял, будто избранное шатодёнское общество настолько обесчещено, что ему из-за какого-то пустяка предстоит решиться на отшельническую жизнь.
Луи де Фонтаньё последним заметил то, что происходило вокруг него.
Попытаемся теперь представить его нашему читателю, как мы уже это сделали с другими нашими персонажами.
Это был молодой человек двадцати четырех лет, которого природа, казалось, необычайно щедро наградила; однако придирчивый наблюдатель отметил бы, что перед ним лишь блистательный набросок, а не готовое творение.
Он был высокого роста и хорошо сложен; черты лица его были правильными и даже волевыми; наружность его не была лишена некоторого благородства, но молодому человеку не хватало изящества. Держался он скованно и неловко, как военный в штатском костюме.
Связано это было с тем, что, будучи сыном офицера, как большинство молодых людей того времени, он готовился стать военным. И он в самом деле стал бы им, если бы его отец был жив. Воспитанник Сен-Сирской школы, он, вместо того чтобы выйти из нее младшим лейтенантом, из-за опасений матери оставил военную карьеру и стал секретарем супрефектуры.
Так что до двадцати одного года он носил военный мундир.
Мы описали физический облик Луи де Фонтаньё, перейдем теперь к нравственному.
Способность к наукам у него была необычайной; однако ему недоставало инициативы и упорства, так что эта его одаренность доставляла ему неудобства: он брался за все, но терял интерес, лишь только предмет становился серьезным и требовал от него малейших усилий.
Что касается остального, то он был чрезвычайно добр, чрезвычайно кроток, чрезвычайно честен и чрезвычайно предан, однако чрезмерность этих качеств привела к тому, что природа ослабила их и сделала непереносимыми как для него самого, так и для его близких; и потому эти добродетели превратились у него в своего рода нервное бессилие, прорывавшееся в виде судорожных вздрагиваний и бурных всплесков и в итоге делавшее его характер — за исключением минут перевозбуждения — куда более женским, нежели мужским.
Доброжелательный ко всем, Луи де Фонтаньё веровал во всеобщую доброжелательность и готов был назвать всех людей своими друзьями. В полную противоположность тому коронованному чудовищу, которое желало, чтобы весь народ имел лишь одну голову, дабы отсечь ее одним ударом, наш молодой герой готов был выразить то же желание, но только для того, чтобы расцеловать ее в обе щеки. Постоянно пребывая в таком расположении духа, он был готов все видеть в розовом цвете и в течение первой недели своей службы в супрефектуре написал матери два длинных письма, где со всей юношеской восторженностью пространно поведал ей о приеме, оказанном ему в шатодёнском обществе. Он утверждал, что все, и мужчины и женщины, спешили сделать его пребывание в городе приятным, и Бог знает какие исступленные похвалы он расточал уму одних и красоте других, желая выразить им свой долг признательности.
Послушать его, так все в городе его обожали.
Так что он был сильно удивлен, когда однажды утром супрефект, отведя его в сторону, раскрыл ему настоящее положение вещей и дал ему понять, что, не заметив по своему юношескому простодушию некоторых бестактностей, молодой человек вызвал тем самым оскорбительные слухи, касающиеся его мужества, и потребовал от имени семьи де Фонтаньё, чьим другом он был, и даже от имени правительства, которое он представлял, чтобы новый секретарь с честью вышел из того положения, в какое он себя поставил по отношению к противникам власти.
Если бы молния упала к ногам Луи де Фонтаньё, она не оказала бы на его нервы более сильное воздействие, чем это известие.
Не тратя время на то, чтобы посоветоваться со своим кузеном де Мороем, не слушая ничего более, он сразу же бросился в клуб с твердым намерением вызвать на дуэль первого встречного.
Был час дня, и залы клуба были почти пусты.
Однако там уже оказались маркиз д’Эскоман и двое его праздных знакомцев.
Один из этих приятелей маркиза был Жорж де Гискар, двадцатилетний ветреник, другой — шевалье де Монгла, шестидесятилетний повеса. Все трое стояли на балконе особняка, облокотившись на перила, в ожидании лошадей для прогулки.
Двое первых лениво вдыхали дым сигар; третий же, вышедший из той эпохи, когда сигары еще не были изобретены, так никогда и не смог побороть в этом отношении свою мятежную натуру и стать в том, что касается табака, вровень со своими молодыми друзьями.
Проходя мимо этих господ — или, скорее, под ними, — Луи де Фонтаньё услышал какие-то смешки, направленные, как ему показалось, в его адрес. Эти смешки оказали на него такое же действие, какое производят уколы копья на быка, выходящего из загона на корриду, — другими словами, они еще больше распалили гнев, разъедавший сердце молодого человека.
Он устремился в особняк и стремительно поднялся по лестнице.
Несколько дней назад он был представлен к вступлению в клуб, и имя его, как и имена его поручителей, было написано на небольшой доске, которая служила этой цели и должна была висеть вплоть до дня выборов.
Луи де Фонтаньё направился прямо к этой доске, сорвал ее со стены и растоптал ногами.
В эту минуту г-н д’Эскоман в подробностях описывал Жоржу де Гискару достоинства недавно купленной им кобылы, которую грум, стоявший под окном, держал под уздцы. Поглощенные разглядыванием животного, они не заметили, как мимо прошел Фонтаньё, и, даже не зная о его присутствии, не видели, что он сделал, и не слышали треска раздавленной доски.
Лишь только шевалье де Монгла, не имевший кобылы, которой можно было восхищаться, и не получавший особого удовольствия оттого, чтобы восхищаться чужими кобылами, повернулся на этот звук.
Мы уже сказали, что г-ну де Монгла было шестьдесят лет; он был единственным из старых холостяков Шатодёна, кого Раулю д’Эскоману удалось оторвать от политики и мечтаний и вовлечь в свои затеи.
Правда, г-н де Монгла возмещал отсутствие всех прочих старых холостяков и делал это столь удачно, что стал лучшим помощником маркиза в просветительской деятельности, которую тот предпринял.
То был человек небольшого роста; тучность, этот первый погребальный покров старости, отнюдь не вредила его подвижности. По какому-то редкому дару природы икры его сохранили силу и округлость, стопы — упругость и изогнутость, а руки — тонкость и белизну. Под угрями, которыми годы и излишества украсили его лицо, еще угадывались черты очаровательного юного пажа, заставлявшего когда-то герцогинь не только предаваться мечтам, но и проводить бессонные ночи.
В молодости шевалье был, что называется, прекрасным танцором и, перевалив на вторую половину жизни, не сумел внести поправки в свои танцевальные манеры, ставшие в наших тесных современных гостиных не просто несостоятельными, но смешными. А он, глядя на современные танцы, никак не мог понять, почему две пары особей разного пола встают друг против друга, расхаживают маленькими шажками, прижав локти к телу, взад и вперед, направо и налево, меняются местами, возвращаются в исходное положение, причем делают это все с такой же веселостью и с такой же живостью, как если бы они следовали за катафалком. Ученик Вестриса I, сохранивший своеобразное почитание бога танца, г-н де Монгла имел в своем репертуаре и флик-фляки, и жете-баттю, и па-де-зефир, и антраша. Бал становился для него событием; он мечтал о нем за неделю до этого и готовился к нему как к своего рода хореографическому представлению, заблаговременно репетируя в своей комнате. Рассказывали даже, будто, когда шевалье де Монгла направлялся на бал куда-нибудь в окрестности Шатодёна, он, выехав за город, выходил из экипажа, поднимался на запятки, на место отсутствующего у него лакея, и изощрялся там в самых немыслимых па, выделывал батманы, подобно любителю фехтования, который упражняется, наступая на стену.
Молодость свою он провел весьма беспутно, но шестидесятилетний возраст, казалось, не ослабил огня его страстей и крепости его тела.
Когда речь заходила о травле оленя, г-н де Монгла уже в сапогах со шпорами являлся первым, и нужно отметить, что никто из молодых людей, предававшихся этому занятию, не умел, как он, поднять лошадь, чтобы преодолеть препятствие. Десятичасовая охота была для него игрой и совсем не мешала проводить время в попойке всю последующую ночь. Его слава старого титана оргий во всем своем блеске проявлялась особенно во время застолий; никто из шатодёнских прожигателей жизни не мог вспомнить, чтобы на лице шевалье были следы опьянения, хотя он никогда и никому не отказывал выпить в чью-либо честь, и точно так же никто не мог вспомнить, чтобы на его радостной физиономии была заметна какая-нибудь озабоченность. И, чтобы завершить его портрет, упомянем, что, судя по разговорам, седины не помешали шевалье ловко выпутаться из нескольких приключений, будь то похождения с женщинами или столкновения с мужчинами.
Однако поскольку лишь в романе можно встретить героя, совершенного в добре или зле, а у нас не роман, но правдивая история, то мы обязаны признать, что у шевалье де Монгла было много уязвимых мест.
Прежде всего у него была смешная привычка: он слишком часто вспоминал о прошлом, о том прошлом, которое казалось ему еще прекраснее, когда он видел перед своими глазами ограниченную жизнь молодых людей, называвших себя последователями великих повес былых времен; он слишком много говорил о той роли, какую ему будто бы пришлось играть в те героические времена, ставшие теперь чуть ли не легендарными.
В конце концов шатодёнское общество пресытилось его историями о дуэлях, то ли правдивыми, то ли вымышленными, но неизменно заканчивавшимися одной и той же фразой: "Эфес моей шпаги послужил ему пластырем".
Поэтому в глаза его величали шевалье де Монгла, а за спиной называли не иначе как "рыцарь Пластыря".
Потребность в шумной и бурной жизни, пробудившаяся в нем с тех пор как г-н д’Эскоман подал ему пример, и особенно страсть к игре завели его слишком далеко.
Господин де Монгла был беден.
Такую бедность, столь величественную и благородную у старого дворянина, который гордо ее сносит, пороки г-на де Монгла — надо называть вещи своими именами — сделали невыносимой для него и понемногу привели его на путь сделок с совестью.
Он занимал то, что не мог вернуть, и в возврате нескольких занятых им луидоров был не более аккуратен, чем в выплате своих карточных долгов; все это постепенно роняло его в глазах молодых людей, хотя сами они ничуть не превосходили его в отношении нравственности.
Настоящие друзья г-на де Монгла искренне сокрушались о нем, но столько было задора в его манерах, столько добродушия в его проступках, которые старика заставляли совершать его старые привычки и горячая кровь, что если кто-либо и смеялся над его бесшабашностью, то никто все же не думал возмущаться его поведением.
Итак, шевалье де Монгла был единственным, кто обратил внимание на поступок Луи де Фонтаньё.
По бледному и взволнованному виду секретаря он без труда догадался, что происходило с молодым человеком.
С некоторого времени слушатели шевалье стали менее благосклонны к нему; любивший, как и все старики, поговорить, он стал замечать, что рассказы о его юношеских подвигах встречает насмешливая улыбка на некоторых лицах. Эта улыбка раздражала его. Он тут же мысленно рассудил, что дуэль была бы великолепным случаем, чтобы заставить замолчать любителей глупых шуток и навсегда заполучить услужливых и внимательных слушателей. К тому же драться на дуэли в его возрасте представлялось ему чем-то занятным и оригинальным. Он незаметно покинул балкон и направился прямо к молодому человеку.
Переваливаясь с боку на бок с дерзким видом, присущим исключительно дворянам прошлого столетия, он подошел к нему и заявил:
— Черт возьми, сударь, вы заставляете меня чрезвычайно сожалеть о том, что минуту тому назад мы отпустили своих лакеев!
Луи де Фонтаньё почувствовал себя ужаленным одновременно и пчелой и скорпионом.
— Почему же, сударь? — вызывающе спросил он.
— Да потому что их присутствие необходимо, чтобы просить одного безумного пойти либо домой, либо в супрефектуру, чтобы унять свой гнев.
— Напрасно вы сожалеете об этом, сударь, — отвечал молодой человек, в гневе потерявший чувство приличия, — поскольку вы сами можете исполнить их обязанности как нельзя лучше.
— О-о! — воскликнул шевалье де Монгла, вздрогнув, словно он получил пощечину. — Да будет ли вам известно, сударь, что своими словами вы грубо оскорбили меня?
— Принимайте мои слова как вам угодно, сударь. Лучше, чем кто-либо другой, вы можете оценить их.
— В таком случае, сударь, — сказал шевалье и тут же, забыв о серьезности положения, предался своей излюбленной привычке, — мне следует вам рассказать, как однажды некий англичанин, капитан Джэрвис, наговорил мне оскорблений гораздо меньше, чем вы сейчас, но все же я дрался с ним. И вот во время нашего поединка, отражая удар в первой позиции, я подаюсь назад корпусом и, когда он наступает в четвертой позиции, готовясь нанести мне удар, изо всех сил делаю выпад, причем так удачно, молодой человек, что…
— … что эфес вашей шпаги послужил ему пластырем. Это все мне давно уже известно, господин шевалье, и, хотя прошла всего лишь неделя со дня моего приезда в этот город, я в состоянии вместо вас поведать развязку всех ваших сочинительств.
— Сочинительств?! — воскликнул шевалье де Монгла. — Сочинительств?! Да одно это словечко, сударь, заставит меня уложить хоть сто тысяч человек!
И в самом деле, при этом новом свидетельстве недоверия к его рассказам, явно становящегося эпидемией, шевалье от притворного гнева перешел в настоящую ярость.
— Весьма надеюсь, — продолжал он, — что вы не откажете мне в удовлетворении.
— Я всецело к вашим услугам, сударь, но прежде всего мне хотелось бы получить удовлетворение от наглецов, которые пытались унизить меня, тех, кто доброжелательными поступками прикрывал свое вероломство.
Во время этого разговора к ним подошел маркиз д’Эскоман.
— Позвольте осведомиться, чем вы недовольны, сударь? — спросил он холодно у Луи де Фонтаньё.
Услышав его голос, молодой человек повернулся к маркизу.
— А тем, сударь, — отвечал он, — что кое-кто осмеливается утверждать, будто меня следует изгнать из гостиных здешнего общества, хотя мое имя и связи моей семьи обеспечивают мне право занимать там не последнее место. Я обвиняю в низости тех, кто строил эти гнусные козни у меня за спиной, не осмеливаясь оскорбить меня открыто.
— Никто и не оспаривает древности вашего рода, сударь, — отвечал маркиз с насмешливой улыбкой. — Каждый знает, что имя Фонтаньё было до вас одним из самых почитаемых в Нормандии. Но, как бы ни было знатно ваше происхождение, оно не дает вам права врываться в круг тех людей, которые почитают верность наипервейшей добродетелью дворянства.
Несмотря на свою неопытность и состояние сильного раздражения, в каком он пребывал, Луи де Фонтаньё почувствовал, что заводить спор об обоснованности своего поведения означает вставать на трудный путь; он понял, что разговоры о деньгах, от которых зависело существование семьи, будут иметь жалкий вид перед лицом рыцарских чувств маркиза д’Эскомана, горделиво и простодушно изображающего Лескюра или Боншана.
Но гнев его был так силен, что, успешно обойдя один подводный камень, он все-таки наткнулся на другой.
— О! — вскричал он. — Если бы мне были известны те, кто так низко злословил обо мне, я бы сумел доказать им, что шпага, доставшаяся мне в наследство от отца и еще хранящая следы крови врагов короля, попала в руки, которые сумеют с честью воспользоваться ею.
— Берегитесь, сударь! — насмешливым тоном произнес маркиз. — Если бы ваше начальство слышало вас сейчас, то ему, вероятно, не очень понравилось бы ваше выражение "враги короля". Но это к нашим делам не относится. Итак, подытожим. Вы желаете знать, кто счел, что секретарю господина супрефекта не место в наших гостиных?
— О! Назовите их! — воскликнул Луи де Фонтаньё, составивший себе неверное представление о том, что скрывается за холодным и равнодушным поведением маркиза. — Назовите их, сударь, и вы заслужите тем самым полное право на мою признательность и мою дружбу.
— И то и другое столь ценно для меня, что я не могу отказать вам в вашей просьбе.
Луи де Фонтаньё сделал движение, свидетельствовавшее о его томительном нетерпении.
— Итак, это я, сударь! — закончил маркиз д’Эскоман с самым невозмутимым видом, между тем как пристальный и твердый взгляд выдавал в нем человека, который не только не отступит перед дуэлью, но и готов сам бросить вызов.
В ответ Луи де Фонтаньё так простодушно выразил свое удивление, что, глядя на него, Жорж де Гискар не смог удержаться от смеха; за ним расхохотался от всей души и шевалье де Монгла.
Такое единодушное подтверждение неловкости, с которой он повел свое объяснение, немного вернуло молодому человеку самообладание.
— Ваше оружие, час и место поединка? — кратко спросил он у маркиза д’Эскомана.
— Потише, потише, сударь! Мне кажется, вы чуточку торопитесь; но тут приходится обвинять лишь вашу неопытность в такого рода делах: все это уладят наши секунданты.
Затем, отступив на шаг, чтобы не загораживать Жоржа де Гискара и шевалье, маркиз добавил:
— Вот мои секунданты.
Жорж де Гискар поклонился; однако шевалье де Монгла приблизился с видом просителя и произнес:
— Простите, простите, любезнейший маркиз, но у меня к этому господину тоже есть дельце, и, поскольку оно затеяно на целых десять минут раньше вашего, я отстаиваю свое право…
— Довольно, Монгла, довольно, — небрежно отвечал маркиз, — я надеюсь, что мне предстоит с господином де Фонтаньё серьезное дело, и ваши шутки в данную минуту неуместны. Вам достаточно пока, до дальнейших распоряжений, поражать ваших врагов словесным образом.
Это новое отрицание правдивости его рассказов окончательно вывело шевалье де Монгла из себя.
— Ах, так, маркиз? — воскликнул он. — Ну что ж, черт побери! Я смогу доказать вам, что моя шпага, пронзившая уже несколько человек, от этого не притупилась. И я настойчиво требую, чтобы вы предоставили мне право первенства.
— Поверь мне, д’Эскоман, — сказал г-н де Гискар, — если ты предложишь обменять его так называемое первенство на двадцать пять луидоров, то увидишь, как настойчивость Монгла растопится подобно воску, — нам это хорошо известно.
— Я не буду утруждать себя этим; я хочу только напомнить шевалье, что он одолжил у меня столько же денег, сколько и проиграл мне, а сумма эта довольно-таки кругленькая и обеспечивается она лишь его собственной персоной. И при таком положении вещей с его стороны будет несколько неосторожно рисковать моим залогом.
Хотя оба собеседника г-на де Монгла преподносили ему свои доводы шутливым тоном, суть их от этого не становилась менее оскорбительной для него; то, что разговор происходил в присутствии постороннего, усиливало обиду.
Луи де Фонтаньё, со своей стороны, тоже задрожал, но от радости: его противники подставили ему фланг под удар, и он с гордостью ощущал свою неспособность сказать врагу то, что сейчас наговорили д’Эскоман и Жорж де Гискар другу.
— Сударь, — произнес он, приблизившись к шевалье де Монгла, — позвольте мне предоставить в ваше распоряжение мой кошелек; к сожалению, он довольно тощий, но, возможно, доставит вам несколько приятных дней.
Шевалье поспешно взял протянутый ему бумажник и поблагодарил молодого человека лишь только взглядом, поскольку по своим старым дворянским понятиям находил этот поступок вполне естественным.
Он раскрыл бумажник: там оказался один банковский билет в тысячу франков, другой — в пятьсот и несколько луидоров.
Он достал билет в тысячу франков и четыре луидора и отдал их г-ну де Гискару.
Затем он сказал ему, опуская бумажник в свой карман:
— Сначала мы вдвоем сведем наши счеты, любезнейший сударь.
— Разумеется! Вы доставите мне тем самым огромное удовольствие, шевалье, и не буду скрывать от вас, что если вы впредь добавите к вашим привычкам рвение, которое было сегодня проявлено вами в уплате долга, то вы только выиграете от этого.
— Я был вам должен тысячу восемьдесят франков; вы их получили, не правда ли?
— Да, конечно, — отвечал Жорж де Гискар.
— Итак, я не должен вам больше ничего, кроме хорошего удара шпаги, и завтра вы получите его.
— Вы так думаете?
— Я это утверждаю; отныне, чтобы угодить вам, я буду по-деловому точен.
— Тысячу восемьдесят франков я получил; но, что касается удара шпаги, шевалье, постараюсь дать вам сдачи.
Затем маркиз д’Эскоман и г-н де Гискар раскланялись и удалились.
Оставшись наедине с Луи де Фонтаньё, г-н де Монгла подошел к нему и протянул руку:
— Ну, молодой человек, теперь, когда мы остались одни, не будет ли вам угодно принести мне свои извинения?
— Извинения? — с негодованием воскликнул молодой человек. — Извинения? Никогда!
— Черт возьми! — покачал головой шевалье де Монгла. — Ведь правду говорят, что нет больше совершенных людей. Вы только что проявили себя как истинный французский рыцарь, встали на уровень дворянского благородства ваших предков, и вот вы сами же портите ваш прекрасный поступок, желая вынудить старого бедолагу, который, приняв от вас деньги, не может теперь обнажить против вас своей шпаги или первым заговорить о сожалениях и прочих пошлостях этого рода, хотя в ваших устах эти слова были бы безупречно достойными, а в моих — совершенно неуместными… Увы! Революция погубила и этого тоже!
— Вы не поняли меня, сударь, — сказал Луи де Фонтаньё. — Я вызвался быть вашим кредитором только потому, что не желаю, чтобы несчастный денежный вопрос, поднятый господином д’Эскоманом, стал препятствием к нашему поединку.
— Если же я принял ваше предложение, сударь, — отвечал ему шевалье, — то потому, что отказываюсь считать вас своим врагом. В былые времена, несмотря на оказанную вами услугу, мы бы могли сохранить наши взаимные позиции. Черт возьми! Да разве дворянин, готовящийся сразиться с приятелем, стал бы когда-нибудь вспоминать о своем кошельке! Но времена изменились, и сегодня, если бы я убил вас на дуэли, непременно стали бы говорить, что я таким образом рассчитывал не отдавать вам долг. Не отрицайте вашего первого душевного побуждения, молодой человек; нет ничего постыдного в том, чтобы склониться перед сединами; а ведь я уже сед, черт побери! И мне уже приходилось самому удостоверяться в этом!
Луи де Фонтаньё оставался в нерешительности, не зная, что и подумать о поведении г-на де Монгла. В обществе смешные стороны людей узнаются так же быстро, как и их имена. До сих пор шевалье де Монгла представлялся вновь прибывшему в Шатодён этаким храбрившимся стариком из бывших, осмеянным за бахвальство и чуть ли не презираемым за пороки. Увидев же жалкое положение этого бедного старика, Луи де Фонтаньё проникся сочувствием к нему и ощутил гнев против тех, кто издевался над его бедой и его пристрастиями. Откровенная и уверенная речь, открытое лицо г-на де Монгла обратили это сочувствие в приязнь. Он взял руку, протянутую ему шевалье, и от всего сердца выразил сожаление, что не оказал должного уважения летам своего собеседника.
— Хорошо! Хорошо! — произнес шевалье. — Я понимаю, мне не следует быть слишком взыскательным. Завтра, может быть, наши отношения улучшатся, а еще через несколько дней… Бог мой! Кто знает, возможно, мы станем друзьями. И в ожидании того, что ваше уважение и моя признательность дадут мне на то право, располагайте мною, молодой человек, если я только смогу быть вам чем-то полезен. Да, конечно! Мне не забыть, что я первым стал зачинщиком нашей ссоры, и теперь я хотел бы исправить свою вину какой-нибудь услугой.
— Благодарю, тысячу раз благодарю вас, господин шевалье, и, чтобы доказать вам, как я ценю вашу доброжелательность, воспользуюсь вашими услугами. Я прошу вас объяснить мне, почему господин д’Эскоман столь враждебно настроен ко мне, ведь причину его враждебности нельзя разумным образом приписать вопросам политики.
Шевалье улыбнулся.
— Знаете ли вы его любовницу? — спросил он.
— Нет, не знаю.
— Маргариту Жели?
— Не слышал даже этого имени.
— Тем хуже, молодой человек, тем хуже!
— Почему же?
— Да потому, что если уж всегда полезно знать любовниц наших друзей, то тем более важно знать любовниц тех, кто желает нам зла.
— И как же это может послужить в нашем случае?
— Минуточку! Господин маркиз д’Эскоман не отказал бы себе в удовольствии всадить в вашу грудь свою шпагу, ведь вы, сами того не ведая, задели его самолюбие, поскольку красотка Маргарита Жели, его любовница, вот уже целую неделю не перестает расхваливать ему вашу внешность, которую, похоже, она находит весьма привлекательной.
Луи де Фонтаньё, ошеломленный подобной новостью, задумался; утренние события, представились ему совсем в ином свете.
Помолчав немного, он сказал:
— Прошу еще одну услугу, господин шевалье. Она что, в самом деле красавица, эта Маргарита Жели?
— Фи! — произнес г-н де Монгла. — Красавица! Впрочем, это дело вкуса. Но красавица она или уродина, я лично отвечаю за одно…
— За что же?
— Да за то, что, будь я на вашем месте и в вашем возрасте, мне потребовалось бы не более суток, чтобы довести господина маркиза д’Эскомана до бешенства, и отнюдь не выдумками глупышки… Ну вот, — прибавил он, как бы обращаясь к самому себе, — старик опять берется за свое! А ведь я только недавно поклялся сам себе отречься от Сатаны, от его искушений и его делишек.
И, повернувшись на каблуках, с изяществом, в котором за целое льё ощущались светские манеры XVIII века, шевалье де Монгла вышел прямой походкой, ступая носками туфель врозь и пощелкивая пальцами рук.
III НАКАНУНЕ ДУЭЛИ
Луи де Фонтаньё возвратился в супрефектуру.
Поскольку шел он не торопясь, то оказалось, что новость о столь важном событии, как его дуэль, дошла туда раньше, чем он сам, вследствие того чуда распространения слухов, что зачастую бытует в маленьких городках.
Господин де Морой был уже предупрежден и поджидал кузена.
Он уже вызвался вместе с одним из своих друзей встретиться с секундантами г-на д’Эскомана и договориться с ними об условиях поединка.
Избавившись от этих хлопот, Луи де Фонтаньё целиком погрузился в свои тревоги.
А они были немалые.
Не то чтобы Провидение обделило нашего молодого человека мужеством, но, как бы мы ни были храбры, накануне первой дуэли вполне простительно чувствовать себя несколько взволнованным и думать про себя: "Сегодня я еще ступаю по земле, а завтра, вероятно, уже буду лежать в ней".
С такими мыслями Луи де Фонтаньё вышел из города и, не зная, где развеять свою грусть, без цели зашагал прямо по дороге.
Когда идешь прямо по дороге, всегда куда-нибудь выходишь. Луи де Фонтаньё вышел на берег реки Луар.
Там он продолжил свою прогулку, следуя по другую сторону придорожного рва, вдоль полоски тополей, отделявшей дорогу от реки, и размышляя о том, что обычно приходит на ум в подобном положении: о прошлом, о тех, кого он любил, в особенности о своей матери, которая несомненно далека от мысли, что ее сына в этот час подстерегает опасность; порой же он не думал больше ни о чем — так было, когда в борьбе со зловещим трепетом, пробегавшим по всему его телу, душа молодого человека замирала и оставляла его, так сказать, лишенным способности мыслить, на грани между жизнью и смертью.
Вокруг было пустынно. Правда, выбранный им путь скорее напоминал проезжую дорогу, чем прогулочную аллею. Место это было не только удаленное, но и уединенное; уже начали спускаться сумерки, пейзаж стал еще более грустным, и грусть эта ложилась на сердце молодого человека. Внезапно он услышал цокот лошадиных подков по мощеной дороге и, торопясь отвлечься от своих печальных размышлений, выглянул из-за тополей, чтобы разглядеть всадника.
Тотчас же он узнал и человека и лошадь: это была та самая знаменитая кобыла, которую г-н д’Эскоман с такой охотой показывал Жоржу де Гискару за несколько часов до этого, а всадником был сам маркиз.
При виде своего противника молодой человек глубоко вздохнул. У него не было серьезных оснований так ненавидеть маркиза, чтобы гнев его мог побороть в нем все другие чувства. Он хотел было продолжить свой путь, но вдруг заметил, что маркиз придержал лошадь и повел ее шагом.
В то самое время, когда маркиз исчез за поворотом, послышались голоса и, как показалось Луи де Фонтаньё, один из них по звучанию был женский.
Если бы молодой человек пошел далее, он обязательно оказался бы в двух шагах от всадника, чего ему совсем не хотелось. С другой стороны, поворачивать назад в такую минуту значило бы оскорбить собственную гордость. Он избрал третье: спустился по склону реки и пошел вдоль берега.
Поскольку шаги Луи де Фонтаньё по траве не заглушали завязавшейся на дороге беседы, он совершенно уверился в том, что услышанный им голос был женский, и в его сердце прокрался демон любопытства.
Молодой человек поднялся по склону так, чтобы ему стала видна дорога, и между сероватыми стволами деревьев разглядел двух женщин; одна из них, уже пожилая, держалась несколько в стороне, а другая, положив руку на шею лошади и поигрывая ее шелковистой гривой, дружески беседовала с г-ном д’Эскоманом.
Эта женщина была очень красива.
И потому Луи де Фонтаньё ни на миг не усомнился в том, что это та самая Маргарита Жели, которая, по словам г-на де Монгла, проявила к молодому человеку расположение, столь польстившее его самолюбию.
Он еще более убедился в своих догадках, когда увидел, как маркиз, нагнувшись с седла, взял руку молодой женщины и, поцеловав не только эту руку, но и лоб, вместо слов прощания сказал ей фамильярное "до вечера".
Поведение и слова маркиза привели Луи в ярость. Ненависть к г-ну д’Эскоману, которую он до этого не ощущал в себе, впервые ворвалась в его сердце вместе с ревностью.
Однако, и в этом нельзя было ошибиться, вовсе не вольности, какие позволял себе маркиз в обхождении с Маргаритой Жели, были причиной ревности нашего молодого героя; она вызывалась преимуществом, каким обладал перед ним его противник, имевший возможность среди мрачных тревог, которые Луи де Фонтаньё в нем предполагал, ибо сам такое испытывал, находить утешение в любви.
Собственное одиночество показалось ему чудовищной несправедливостью судьбы и заставило его вспомнить о принципах, кратко изложенных ему шевалье де Монгла.
Луи де Фонтаньё был таким же новичком во взаимоотношениях с женщинами, как и в том, что касалось дуэли; то и другое он прекрасно знал теоретически, но практики у него не было никакой. В его распоряжении было лишь непомерное желание, но оно вполне могло восполнить его неопытность. Ожидание близкого поединка так сильно возбудило чувства молодого человека, что он отважился попытать счастья в другом. Молодая женщина, возвращаясь в город, обязательно должна была пройти мимо него. Он стал поджидать ее на перекрестке, не зная сам, что собирается делать, но преисполнившись пыла и решимости отрезать себе путь к отступлению, если того потребуют обстоятельства.
Пока все эти мысли теснились у него в голове, спустились сумерки, а темнота придавала ему смелости.
Однако, когда женщина, которую он принимал за Маргариту Жели, оказалась всего в нескольких шагах от него и он услышал шелест ее шелкового платья, подол которого задевал дорогу, решительность вдруг начала покидать его, кровь в жилах замерла и дыхание ослабло. Но тут, представив себе, что завтра, когда перед ним будет оголенный клинок шпаги или дуло пистолета, он окажется совсем в ином положении, молодой человек, более не рассуждая, стремительно выскочил из своего укрытия на дорогу, как будто ему предстояло взять приступом вражеский редут.
Много различных чувств тревожило душу Луи де Фонтаньё, и это не могло не сказаться на выражении его лица. Лицо это, вероятно, не очень-то внушало доверие после всех испытанных молодым человеком волнений, ибо, увидев его, молодая женщина в ужасе вскрикнула. Сопровождавшая ее пожилая женщина, должно быть более привычная к опасностям, бросилась между своей спутницей и Луи де Фонтаньё, решительно направив на него конец зонтика, который она держала в руке.
Впрочем, молодой человек не сделал более ни одного движения, чтобы продолжить свое наступление. Хотя шевалье де Монгла наградил Маргариту нелестными эпитетами, наш герой был поистине поражен красотой молодой женщины, а также благородством и изяществом, которые он в ней заметил и которые, как ему показалось, никак не соответствовали ее более чем рискованному общественному положению. Он почувствовал, что ему будет гораздо легче вызывающе вести себя с маркизом д’Эскоманом, чем с обладательницей этих огромных голубых глаз, смотревших на него с таким ужасом, и этих прелестных губ, побледневших и дрожавших от страха. Он растерял всю свою уверенность и готовился уже к отступлению, тем более позорному, что наступление его было победоносным, но пожилая дама не дала ему на это время.
В быстро сгущающейся темноте она совсем не заметила растерянности Луи де Фонтаньё, поскольку была занята тем, что взглядом искала по сторонам, нельзя ли где-нибудь найти помощь и поддержку; но по всем правилам обороны она по-прежнему держала наизготове свое оружие.
— Послушайте, любезнейший, — сказала она, принимая Луи де Фонтаньё за обыкновенного вора, — мы бы могли с вами договориться. Не причиняйте нам зла, и госпожа отдаст вам свой кошелек. Выходя из дому, я положила туда целый луидор. Это все, что у нас есть при себе, и это так же верно, как то, что Сюзанна Мотте — честная женщина. Согласитесь, что никто не берет с собой, отправляясь на прогулку, сотни и тысячи франков. Да и, в конце концов, мальчик мой, луидор — это немало, и если, во что мне очень хотелось бы верить, только нужда толкнула вас на такое скверное дело, то на луидор вы сможете прожить несколько дней.
Продолжая говорить и не дожидаясь ответа на свое предложение, но в то же время не оставляя своей оборонительной позиции, храбрая гувернантка подошла к своей госпоже и рукой, не занятой зонтиком, достала из ее кармана кошелек из зеленого и белого шелка, сквозь петли которого блестела золотая монета, и бросила его к ногам Луи де Фонтаньё.
Заблуждение Сюзанны Мотте окончательно смутило молодого человека; придя в замешательство от того, что его приняли за простого вора, он вдруг набрался такой дерзости, на какую навряд ли осмелился бы в других обстоятельствах.
— Вы ошибаетесь в моих намерениях, сударыня, — сказал он, подбирая кошелек, — в качестве выкупа я требую от вас совсем не денег.
— Помилуйте! — воскликнула Сюзанна. — Но что же вам тогда нужно?
— И ничего и много, и милостыню и сокровище: всего лишь один-единственный поцелуй уст вашей спутницы, — отвечал молодой человек, пытаясь придать своему тону непринужденность и любезность.
До этой минуты маркиза д’Эскоман — которую Луи де Фонтаньё при виде фамильярного обращения с ней Рауля принял за Маргариту Жели, — до этой минуты, повторяем, маркиза д’Эскоман играла в этой сцене совершенно пассивную роль, хотя она не ошиблась так, как ее спутница, в намерениях человека, внезапно перегородившего им дорогу; тем не менее она оцепенела от страха, оказавшись в уединенном месте, ночью, в четверти льё от города, во власти незнакомца. Однако замеченное ею волнение в голосе, которое не мог скрыть молодой человек, немного придало ей смелости. В итоге чувство оскорбленного достоинства, задетого его последними словами, вернуло ей силы. Она отстранила Сюзанну и приблизилась к Луи де Фонтаньё; он же, обманутый ее движением, протянул ей кошелек и простер руки, намереваясь получить от Маргариты Жели желаемую дань.
— Простите, сударь, — отталкивая его кончиком пальца, холодно сказала маркиза. — Однако, если вы мне доверяете, давайте оставим все так, как распорядилась Сюзанна. Тот, кто лишит меня какой-либо безделицы, не оставит следов в моей памяти, между тем как я испытывала бы искренние сожаления, вспоминая, как, казалось бы, хорошо воспитанный человек однажды осмелился проявить по отношению ко мне непочтительность.
— Как ни велико мое желание понравиться вам, моя милая, — заговорил Луи, стараясь поддерживать разговор в прежнем тоне, — я не могу смириться с тем, что останусь в ваших глазах разбойником с большой дороги.
— Вы ошибаетесь, сударь; роль разбойника не более гнусна, чем та, что вы разыгрываете сейчас, нападая на двух беззащитных женщин, и в моих глазах, по крайней мере, куда менее нелепа.
Луи де Фонтаньё в оцепенении слушал женщину, которую он принял за Маргариту Жели; ему казалось невероятным, что шатодёнская гризетка могла изъясняться с таким пренебрежительным и гордым достоинством, с непринужденностью знатной дамы. Он начал уже побаиваться, что допустил какую-то оплошность. Последовала минута молчания, выдававшая его растерянность и замешательство.
Сюзанна Мотте первая нарушила молчание.
— Бог ты мой! — воскликнула она, отчаянно размахивая зонтиком над головой, как будто, не довольствуясь обвинениями по адресу Неба, она еще и угрожала ему. — Подумать только, а ведь этим оскорблением мы снова обязаны господину маркизу! Он повстречал нас одних, его это удивило, но он предпочел проводить в конюшню свою кобылу, а не домой — свою…
— Сюзанна, — строго прервала маркиза свою гувернантку, — Сюзанна! Вы до крайности забываетесь!
Однако фраза, оброненная личным врагом г-на д’Эскомана и прерванная на том слове, которое могло бы все прояснить, напротив, развеяла все сомнения Луи де Фонтаньё и далее повела его догадки по прежнему пути.
Сюзанна хотела сказать: "свою жену".
Наш герой понял: "свою любовницу".
В самом деле, маркиз настолько ни во что не ставил свои супружеские обязанности, а маркиза жила столь удаленно от светского общества, что Луи де Фонтаньё, зная о существовании его любовницы, почти не подозревал о существовании его жены. Будь наш герой чуть поопытнее, он бы догадался, что такой человек, как маркиз д’Эскоман, не позволит себе по отношению к своей любовнице поступки из числа тех, на какие так горько жаловалась Сюзанна и какие он обычно приберегал для своей жены. Но Луи де Фонтаньё только вступал в жизнь, он вовсе не был тонким наблюдателем, и ему более чем прежде казалось, что женщина, участь которой так трогательно оплакивала старая гувернантка, это Маргарита Жели.
Он достал из тонкого сетчатого кошелька золотую монету, одной рукой подал ее даме, а другой прижал кошелек к сердцу.
— Нет уж, сударь, — возразила маркиза, покачав головой, — я не приму одного без другого.
У Луи де Фонтаньё вырвался жест досады.
— Такое несогласие может завести вас далеко, — сказал он. — И поскольку ночь сгущается все больше и больше, вы позволите, надеюсь, проводить вас до городских ворот, а по дороге мы все обсудим.
— Простите, сударь, — отвечала маркиза, — но теперь, мне кажется, когда мы ограблены, нам уже нечего больше опасаться неприятных встреч. Так что оставьте у себя и кошелек, и его содержимое, а нам позвольте продолжить свой путь.
— По правде говоря, — возразил Фонтаньё, уязвленный таким неожиданным равнодушием, — меня ведь обнадежили, будто вы окажете мне лучший прием.
— Позволено ли будеть осведомиться, сударь, кто же потрудился отвечать за мои чувства?
— Тот, — отвечал Луи де Фонтаньё, — кому прекрасно известно положение, в которое вас поставил господин д’Эскоман.
— Вы знакомы с господином д’Эскоманом и знаете о положении, в которое он меня поставил? — воскликнула удивленная Эмма.
— Вот еще мерзость! — сказала Сюзанна. — "Положение, в которое он вас поставил" — ну, с этим все ясно, ведь в Шатодёне всем известно, как он с вами обращается. А кто знает, не сам ли господин маркиз подстроил вам эту ловушку?
— Мое имя Луи де Фонтаньё, — отвечал молодой человек, сам удивленный изумлением, которое проявила мнимая Маргарита Жели. — И нет ничего странного в том, что я знаком с человеком одного со мной круга.
— Сударь, — произнесла Эмма, — до сих пор я рассматривала ваше поведение как следствие легкомыслия, но после всего, что я услышала от вас, оно принимает характер дурного намерения. Но ведь вы еще молоды, вы дворянин, и зло не могло совсем заглушить в вас понятие чести. Позвольте мне говорить с вами как с дворянином, коль скоро мне известно, кто вы такой. Умоляю вас, сударь, не продолжайте далее этой тягостной сцены, ведь вы совсем не знаете, уверяю вас, с кем говорите, и вы не можете понять, насколько ваши последние слова взволновали и опечалили мое сердце, перенесшее уже достаточно страданий.
Голос г-жи д’Эскоман был взволнованным и дрожащим, он прерывался от усилий подавить рыдания, вырывавшиеся из ее груди. При виде таких страданий Луи де Фонтаньё тут же отрекся от своих завоевательных помыслов и испытал такое острое сожаление, что оно напоминало чуть ли не угрызения совести.
— Простите меня, — проговорил он, — я глубоко оскорбил вас, поскольку был введен в заблуждение относительно вашего нрава и репутации, которую вы себе составили; я тем более виноват перед вами, что могу предъявить вам лишь одно жалкое оправдание: поверьте, я также удручен печалями и страданиями.
— Как, сударь, у вас печали и страдания? — с насмешкой произнесла маркиза.
— Что же здесь для вас удивительного? — спросил Луи де Фонтаньё.
— Мне это кажется удивительным, сударь, поскольку я не верю страданиям тех людей, у кого впереди еще есть надежда, а вы, мне кажется, слишком молоды, чтобы утратить ее.
— Стало быть, вы не верите тому, что я вам сказал?
— Ну что вам за дело, сударь, верю я или нет? Я познакомилась с вами лишь вследствие вашего неуместного поступка — я использую для него самое терпимое выражение, какое только могу подобрать, — и мне совершенно безразлично то, что происходит в вашем сердце; я требую одного: освободите нам дорогу.
— Смилуйтесь, — промолвил Луи, — не покидайте меня вот так! Это усугубит мои страдания. Я нахожусь в таком положении, когда моя душа нуждается в прощении; выслушайте меня, и, быть может, моя откровенность заслужит милости, о которой я умоляю. Я вам сейчас расскажу все в двух словах, хотя и рискую показаться в ваших глазах смешным. Но я предпочитаю быть для вас смешным, чем ненавистным; вы видите, хочу ли я оправдаться перед вами. Завтра я дерусь на дуэли; возможно, вам об этом уже известно, ибо не настолько уж это незначительное происшествие, чтобы оно не получило отклика в таком маленьком городке.
— Я не слышала об этом, сударь, — тоном, в котором сквозила ирония, отвечала маркиза, — но полагаю, что не эта дуэль вызывает в вас страдания и печали, о которых вы сейчас говорили.
Луи де Фонтаньё, покраснев, прикусил губу.
— Вы правы, сударыня, я совсем не боюсь смерти; но, стоя на краю могилы, вероятно уже вырытой для меня, я чувствую себя одиноким, затерянным среди людского равнодушия, как посреди пустыни, и рядом нет ни одного дружеского сердца, которому бы я мог излить свои мысли, возможно последние; в мой смертный час любимый голос не будет звучать в моих ушах; я не услышу сладостных слов привязанности, симпатии, любви, которые делают смерть менее ужасной. Вот что ужасает меня, вот в чем причина моих страхов, вот что толкнуло меня на злой поступок, который я совершил.
— Вам следовало бы раньше признаться мне, сударь, что вы сумасшедший.
— Да, возможно, минуту назад я и в самом деле был вне себя, но во всяком случае сейчас я уже в своем уме. Уверяют, что сумасшедшие никогда не плачут, а я чувствую на глазах слезы. Ах! Если бы только моя матушка была рядом со мной! Моя бедная матушка наверняка сейчас спокойна и улыбается, а ее сын, которого она, возможно, уже больше не увидит, готов отдать десять лет, которые отпустит ему жизнь, за один только ее поцелуй!
В словах Луи де Фонтаньё было столько глубокой скорби, что она не могла не проникнуть в душу молодой женщины. Как и все несчастные создания, Эмма легко смягчалась.
— Бедный юноша! — прошептала она. — Господь не допустит, чтобы разбилось сердце вашей матери. Просите же его послать вам утешения, в которых вы нуждаетесь.
— О, наконец-то вы поняли, что я не настолько виноват, как вам показалось! — воскликнул Луи де Фонтаньё, становясь на колени перед молодой дамой. — Умоляю вас простить меня и взять обратно кошелек с золотой монетой. Увы! Я хотел бы сохранить у себя и то и другое как талисман, как воспоминание о вашем прелестном образе, которое бы заменило в моем сердце преследующие меня мрачные мысли.
Госпожа д’Эскоман взяла кошелек и, словно погруженная в глубокое раздумье, стала теребить его пальцами.
В эту минуту на дороге послышался шум приближающегося экипажа. Звук этот отвлек молодую женщину от ее мыслей. Она прошла мимо Луи де Фонтаньё, поклонившись ему на прощание почти по-дружески.
— Не падайте духом, сударь, — произнесла она. — Не мне предлагать вам то, что вы просите, но если вы полагаете, что молитвы, даже если они исходят от постороннего человека, не помешают вам, я буду молиться за вас.
И Эмма стремительно и в то же время с достоинством знатной дамы — в чем нельзя было усомниться — удалилась. Луи де Фонтаньё не сделал ни одного движения, чтобы удержать ее.
Он остался стоять на коленях, провожая взглядом обеих женщин, пока они не растаяли во мраке ночи. Затем он начал подниматься и, опираясь при этом о землю рукой, нащупал кошелек, который, несомненно, выскользнул у г-жи д’Эскоман из пальцев, когда она поспешно уходила.
Первым порывом молодого человека было поднести его к губам и поцеловать, вторым — бежать за его прелестной хозяйкой и честно возвратить ей свою находку; однако он подчинился третьему порыву, полностью перечеркнувшему предыдущий.
Этот третий порыв шел из глубины сердца Луи де Фонтаньё, совершенно опьяненного последними словами молодой женщины и всем ее очаровательным обликом; сердце подсказывало ему благоговейно хранить предмет, принадлежавший существу, которому, находясь в восторженном состоянии и не понимая, откуда к нему пришло такое воодушевление, он поклялся посвятить всю свою жизнь.
Не без некоторой борьбы уступал он этому искушению. Луидор вернулся на прежнее место, в сетчатый кошелек, и возвратить потерянное стало тем самым еще более обязательным.
Битва в его сознании была в самом разгаре, когда эти его размышления были прерваны чьим-то легким прикосновением к плечу.
Он обернулся и увидел вернувшуюся пожилую женщину.
Он хотел было протянуть ей кошелек, но она не дала ему время заговорить.
— Сударь, — приглушенным голосом, не слишком соответствовавшим той торжественности, какую она хотела ему придать, произнесла Сюзанна Мотте, — я знаю, что вы собираетесь драться, и знаю, с кем вы должны драться. Так вот, не щадите его, молодой человек, не щадите его! И если Господь избрал вас орудием своей мести, а вернее, справедливого возмездия, надейтесь, молодой человек; ибо тогда я буду за вас — за того, кто вернет моей бедной девочке свободу и счастье, отобранные у нее этим человеком!
И, не дожидаясь ответа Луи де Фонтаньё, Сюзанна Мотте снова скрылась в темноте.
Сколь ни загадочными показались нашему герою слова пожилой женщины, они остановили его сомнения. Он пришел к выводу, что кошелек был обронен не совсем случайно, и еще тверже, чем прежде, пообещал себе разобраться в странных отношениях между маркизом д’Эскоманом и его любовницей.
В итоге он положил кошелек с луидором в карман жилета, с пылким восторгом нашептывая имя Маргариты Жели.
IV ДУЭЛЬ
Луи де Фонтаньё вернулся к себе в неописуемо возбужденном состоянии.
Все, что он слышал от шевалье де Монгла о безумной страсти маркиза д’Эскомана к Маргарите Жели, стало ему понятно; оправдание очаровательной маркизы заключалось в ней самой.
Затем постепенно за сияющим миражом, оставленным в его сознании небесным видением, стало вырисовываться действительное положение дел.
На следующий день ему предстояло драться на дуэли с маркизом д’Эскоманом, опытным в такого рода делах и всегда выходившим из них с честью.
Для Луи де Фонтаньё, напротив, это была первая дуэль в его жизни.
Возможно, мои слова покажутся весьма парадоксальными, но я утверждаю, что храбрость столь же дело привычки, сколь и темперамента.
К опасности привыкаешь так же, как и ко всему другому. Когда несколько раз подвергаешься одной и той же опасности и выходишь из нее целым и невредимым, она в глазах того, кто ей подвергается, становится уже не такой страшной, и на пятый или шестой раз он идет навстречу ей с сердцем и лицом куда более спокойными, чем в первый раз.
Так что, хотя Луи де Фонтаньё с его необычайно возбудимым характером и удавалось ненадолго отвлечься от предстоящего ему на следующий день серьезного дела, время от времени неожиданное и почти болезненное биение сердца напоминало ему печальные слова Священного писания: "Ибо прах ты и в прах возвратишься".
Особенно сильно его сердце забилось так в десять часов вечера, когда он услышал звонок в дверь и лакей доложил ему о приходе г-на де Мороя и г-на д’Апремона.
Напомним, что г-н де Морой был родственник Луи де Фонтаньё — тем самым, кто покровительствовал его вхождению в шатодёнское общество; теперь, согласившись стать его секундантом, он пришел к нему отчитаться о встрече с секундантами г-на д’Эскомана.
Господин д’Апремон был друг г-на де Мороя, и он оказывал ему содействие на этой встрече.
Условия дуэли были согласованы очень легко и быстро; никакого спора о выборе оружия не было: обе стороны предложили драться на шпагах.
Дуэль должна была состояться в семь часов утра в лесу Ландри — маленькой рощице, расположенной в четверти льё от Шатодёна.
Сообщая Луи де Фонтаньё об итогах своей миссии, г-н де Морой пристально смотрел на него, пытаясь предугадать, до какого момента этого рассказа можно будет рассчитывать на крепость нервов у молодого человека.
Луи де Фонтаньё со спокойным лицом выслушал все подробности.
— Итак, — спросил его г-н де Морой, — вы владеете оружием, которым вам предстоит завтра драться?
— Владею — это громко сказано, — отвечал Луи, — поскольку завтра мне предстоит впервые воспользоваться им серьезно; однако рапирой я всегда действовал довольно ловко.
— В самом деле, — заметил г-н д’Апремон, — я вижу тут у вас на стене развешаны рапиры и маски.
— Не затруднит ли вас, любезный кузен, — опять обратился к молодому человеку г-н де Морой, — показать нам образчик вашего умения?
— Совсем нет, — ответил Луи де Фонтаньё. — Но позвольте, я зажгу несколько свечей, пусть у нас здесь будет светло.
Молодой человек зажег все имеющиеся в квартире свечи и лампы, и в комнате, где он принимал своих секундантов, стало светло как днем.
Господин де Морой и Луи надели маски, взяли рапиры и приступили к бою.
Как мы уже упоминали, Луи де Фонтаньё был воспитанником Сен-Сира, где он и прошел курс фехтования. Учителем юноши был некий Барон, хорошо известный еще и поныне всем, кто получал образование в этой военной школе, основанной г-жой де Ментенон вначале как пансион для девиц.
Высокого роста, хорошо сложенный, ловкий, Луи де Фонтаньё как следует воспользовался его уроками и по мастерству стал, как это принято называть в фехтовальных залах, первым среди вторых.
Он нанес г-ну де Морою три укола, а тот ему только один.
— Весьма доволен вами, мой любезный кузен, — сказал г-н де Морой. — Однако я никогда не фехтовал с господином д’Эскоманом и не могу вам ничего сказать о его мастерстве. Но перед вами стоит господин д’Апремон, а он, как я полагаю, владеет оружием примерно так же, как маркиз. Вы позволите передать ему рапиру?
— Господин д’Апремон окажет мне тем самым большую честь, — отвечал Луи де Фонтаньё с той естественной вежливостью, какая становится почти церемониальной в фехтовальном зале, где существует свой, если можно так выразиться, кодекс учтивости.
Господин д’Апремон в свою очередь поклонился молодому человеку и, взяв из рук г-на де Мороя рапиру и маску, принял боевую стойку.
На этот раз поединок шел почти на равных. Для провинции мастерство г-на д’Апремона было вполне первоклассным, и он даже слыл опытным фехтовальщиком. В течение четверти часа Луи нанес ему четыре укола и пропустил три.
— Вы можете уверенно драться с господином д’Эскоманом, сударь, — заявил г-н д’Апремон, отдавая юноше честь и снимая маску.
Луи поблагодарил обоих своих секундантов, и они удалились, предупредив, что зайдут за ним в половину седьмого утра и что ему надо быть готовым к этому времени.
Луи де Фонтаньё остался один; в руках он держал две рапиры и маску (вторая маска оставалась на его лице).
Повесив рапиры и маски на место, он сел за стол, где находились чернила, бумага и перья.
Не размышляя и не отдавая себе отчета в том, что он делает, Луи протянул руку к перу и принялся писать послание матери.
В это письмо, которое должно было быть отправлено лишь в случае смерти молодого человека, излилось все его сердце, выплеснулись все переполнявшие его нежные чувства.
Когда он писал последние строки, из глаз его потекли слезы.
И не следует заблуждаться: то не были ни страх, ни слабость — то было проявление высочайшего нервного исступления.
Когда письмо было уже сложено и запечатано, Луи де Фонтаньё показалось, что он не успел еще многого сказать матери.
Сорвав печать, он исписал еще две страницы.
Затем он лег и заснул, думая о Маргарите Жели.
Ночь прошла довольно спокойно; ему снилось, что покой его охраняют две женщины: они стояли по обе стороны его постели, и он видел, как у них стали мало-помалу отрастать длинные белые крылья, так что обе женщины в конце концов превратились в ангелов.
Около пяти часов он проснулся. Начинало светать. Через несколько минут после того как он открыл глаза, пробили часы. Ему оставалось еще полчаса грезить о двух ангелах, всю ночь простоявших на страже у его изголовья.
В шесть часов г-н де Морой и г-н д’Апремон постучались в дверь; секунданты нашли его уже одетым и готовым следовать за ними.
Они принесли с собой превосходно подготовленные дуэльные шпаги с ажурными эфесами; эти шпаги были незнакомы как маркизу д’Эскоману, так и Луи де Фонтаньё.
Поскольку было еще рано, они поговорили с четверть часа о каких-то пустяках и лишь затем вышли из дома.
У подъезда их ожидал экипаж г-на де Мороя; молодой хирург, предупрежденный заранее, должен был сам приехать на место дуэли.
Через пять минут Луи де Фонтаньё был на месте.
Спустя еще несколько минут приехали г-н д’Эскоман, Жорж де Гискар и шевалье де Монгла.
Противники приветствовали друг друга легкими, но учтивыми кивками. Четверо секундантов сошлись на переговоры; молодой врач при этом держался в стороне.
Совещание секундантов было непродолжительным, поскольку все условия дуэли были обговорены заранее.
Оставалось только выбрать шпаги среди тех, что были принесены секундантами Луи де Фонтаньё.
Бросили золотую монету, и право выбора оружия досталось маркизу.
Из вежливости он указал на шпаги своего противника, даже не осмотрев их.
Дуэлянты сняли верхнее платье, и секунданты подали им оружие.
Шевалье де Монгла и г-н де Морой заняли места рядом с противниками: каждый из них держал в руке трость, напоминая древних боевых судьей с их жезлами.
— Начинайте! — дали они команду.
Шпаги скрестились.
Маркиз д’Эскоман казался спокойным, и даже более чем спокойным — беззаботным. Легкая насмешливая улыбка кривила его тонкие губы, и, если бы он не хмурил слегка брови, можно было бы подумать, что он находится в фехтовальном зале на обычном состязании.
У Луи де Фонтаньё вид был скорее решительный и волевой, чем спокойный. Ноги его, казалось, были пригвождены к земле. Чувствовалось, что он считал своим долгом чести не отступать ни на шаг; сквозь его чуть приоткрытые губы с маленькими черными усами над ними можно было видеть двойной ряд ровных и белых как жемчуг зубов; его пристальный взгляд выражал одновременно любовь к жизни и непоколебимую решительность; чувствовалось, что человек, который смотрит так — с молодым задором и надеждой, — не хочет умирать и всей своей волей готов держаться за жизнь.
Господин д’Эскоман, отличный фехтовальщик, вначале думал, что он легко разделается с противником, но после первых же выпадов по твердой и вместе с тем гибкой стойке Луи де Фонтаньё, по силе его ответных ударов, по ловкости, с которой он провел контр ответные удары, маркиз распознал в нем если не мастера, то, по крайней мере, искусного ученика.
Тогда он решил действовать осторожнее, изучить тактику своего противника: тот, по-видимому, решил не наносить ударов, а только защищаться.
Через несколько секунд г-н д’Эскоман сделал решительный выпад из четвертой позиции и нанес страшный удар снизу, который, казалось, неминуемо должен был пронзить врага насквозь, но острие его шпаги наткнулось под платьем Луи де Фонтаньё на что-то металлическое и соскользнуло в сторону, лишь слегка задев грудь.
Почувствовав холод оружия на своем теле, Луи де Фонтаньё машинально отразил удар противника, притом с такой силой, что шпага вылетела из рук г-на д’Эскомана и упала на землю; в ту же минуту весь перед рубашки Луи де Фонтаньё окрасился кровью.
Прежде чем маркиз успел нагнуться за упавшей шпагой, Луи проворно и ловко наступил ногой на клинок.
Каким бы храбрым и беззаботным ни был маркиз, однако за те несколько секунд, пока происходил этот внезапный поворот событий, он почувствовал, как холод смерти пробежал по его жилам; должно быть, он подумал, что противник, придя в ярость от раны, по всей видимости серьезной, как можно было судить по большим пятнам крови, обагрившим его рубашку, отплатит ему таким же ударом.
Но, вместо ответного удара, Луи де Фонтаньё поднял шпагу маркиза и подал ее рукояткой вперед противнику, перед этим учтиво отдав ему честь клинком.
Маркиз д’Эскоман снова принял боевую стойку, и их шпаги скрестились опять.
Бой готов был разгореться с новой силой, но тут шевалье де Монгла бросился между дуэлянтами и сильным ударом трости разъединил их клинки.
— Клянусь смертью, господа, — воскликнул он, — что вы не станете продолжать поединок. Как бы ни были вы несговорчивы, честь ваша уже удовлетворена. Послушайте, маркиз, забудьте что господин де Фонтаньё совершил тяжелую ошибку, когда пожелал, за неимением состояния, завоевать себе положение, но не слишком при этом оглядывался на государственные символы, и пожмите от всего сердца эту руку, ведь от нее целое мгновение полностью зависела ваша жизнь.
Остальные секунданты присоединились к г-ну де Монгла и заявили, что они не возражают против завершения поединка.
Господин д’Эскоман с необычайной любезностью уступил их настояниям:
— От всего сердца я делаю то, что вы просите, Монгла; я признаю свою серьезную вину перед господином де Фонтаньё, и он отомстил за нее столь благородно, что мне лишь остается добиваться чести быть его другом.
Луи де Фонтаньё поклонился и пожал руку, протянутую ему г-ном д’Эскоманом.
— Поверьте мне, сударь, — продолжал тот, — хотя я и любитель поединков, однако очень рад, что мой удар снизу из четвертой позиции не имел большего успеха: это жертва, которую мое самолюбие приносит угрызениям моей совести, поскольку я намеревался наилучшим образом осуществить этот удар, которому меня научил учитель фехтования в моем полку, а он был настоящий дуэлянт, из самых опытных. Однако — и если я добиваюсь у вас этого признания, то делаю такое скорее для сохранения репутации моего учителя, чем для удовлетворения собственного мелкого тщеславия, — однако признайтесь, что успеху вашего ответного удара чудесным образом помог не столько перемах, который вы противопоставили моему выпаду, сколько какой-то посторонний предмет под вашей одеждой, на который наткнулась моя шпага, не так ли?
Луи де Фонтаньё, еще находившийся под впечатлением испытанных им ощущений, усмотрел в словах маркиза нечто более, чем простой и малозначительный вопрос. Он решил, что г-н д’Эскоман заподозрил его в нечестности, и потому поспешно разорвал на себе рубашку, чтобы показать свою обнаженную грудь.
На этой груди виднелась кровавая рана, нанесенная шпагой маркиза.
Господин д’Эскоман составил себе верное представление о намерении, с каким это было сделано: он угадал мысль своего противника.
— Ах, сударь, — обратился маркиз к молодому человеку, — неужели вы можете предположить, что после вашего рыцарского поступка мне в голову может закрасться подобное подозрение? Да я просто имел в виду, что острие моей шпаги могло наткнуться на ваши часы или на какую-нибудь безделушку вроде талисмана или амулета, какие часто носят при себе молодые люди, и даже я, хотя уже и не молод, по-ребячески ношу.
— Да, на этот раз д’Эскоман прав, — сказал шевалье де Монгла, — и позволительно искать объяснение такому странному случаю. Послушайте, что я вам расскажу: я лично видел — это было в тысяча восемьсот четырнадцатом году, — как о топаз, вправленный в мой брелок, сломалась шпага офицера драгунов узурпатора, и, не случись этого, она пропорола бы мне живот. Обломок остался в оправе брелока, и, клянусь честью, поскольку моему противнику не пришло в голову запастись такими же латами, я ответил прямым ударом…
Краска, покрывшая щеки г-на де Монгла, завершила фразу: он вспомнил, хотя и несколько поздно, что ему также предстояла дуэль и что рассказ о его подвигах был сейчас весьма неуместен.
— Я полагаю, вы правы, господин маркиз, — сказал Луи де Фонтаньё, который, в то время как шевалье де Монгла предавался воспоминаниям о своих подвигах, ощупывал карман жилета.
— Убедитесь в этом сами, прошу вас.
Молодой человек обшарил свои карманы, и маленький кошелек, который принадлежал даме, остановленной им накануне, — кошелек, о котором он совершенно забыл, по крайней мере на время, — выскользнул из его пальцев, влажных от крови, и упал на траву.
Господин де Монгла подобрал его, вынул луидор из тонкой ткани, забрызганной в нескольких местах кровью, и внимательно осмотрел его.
— Тот же случай, что и с моим топазом! — торжествующе воскликнул он. — Посмотрите-ка, маркиз: золото, несмотря на его твердость, в одном месте повреждено. Тут вполне уместно повторить слова человека, тем более заслуживающего право считаться остроумным, что остроумие сегодня уже не в моде: "Молодой человек, вы удачно поместили деньги!"
И шевалье передал кошелек и монету г-ну д’Эскоману.
Наблюдая, как маркиз рассматривает их с не меньшим интересом, чем это делал шевалье де Монгла, Луи де Фонтаньё то краснел, то бледнел. Он боялся, как бы г-н д’Эскоман не узнал предмет, принадлежавший, по его мнению, любовнице маркиза.
Желая поэтому предупредить опасность, он произнес:
— Случай тем более удивителен, что этот кошелек мне не принадлежит.
— В самом деле?
— Черт возьми! — воскликнул шевалье. — Такое часто бывает; конечно, эта вещица была связана не для рыцаря; это какой-то подарок на память о платонической любви.
— Вы ошибаетесь, сударь, — сказал Луи, — эго даже и не подарок: я нашел этот кошелек вчера на проезжей дороге.
— В таком случае, — заметил шевалье, — нужно отыскать его владельца или владелицу и на коленях умолять его или ее уступить вам этот талисман, который отныне вы должны носить на шее, словно это "Agnus Dei"[6].
— Черт побери! Вы правы, Монгла, — произнес г-н д’Эскоман, продолжая вертеть в руках кошелек, — я провожу господина де Фонтаньё к его владелице и, если понадобится, присоединю к его мольбам свои.
— Вы, маркиз?
— Да, я.
Затем, обернувшись к Луи, маркиз спросил:
— Не на берегах ли реки Луар нашли вы эту принесшую вам счастье безделушку, сударь?
— Да, кажется, там, — пробормотал Луи.
— Вы увидите, — заговорил шевалье, не в силах сдержать свое желание позлить маркиза, — вы увидите, что это прекрасная Маргарита, развеивая свою грусть, всем нам известную, прогуливалась под сенью дерев, столь милой для чувствительных душ, и потеряла свой кошелек со всем его содержимым. Осторожно, маркиз! Вам что-то сегодня не везет, и вы несколько опрометчиво забываете заповедь Писания: "Тот, кто ищет опасности, от нее и погибает".
— Господин де Монгла, — с улыбкой отвечал маркиз, — я в самом деле знаком с хозяйкой этого кошелька; однако, если уж я оказал честь протянуть кому-нибудь руку и назвать своим другом, то, вопреки Писанию и вашим неблагоприятным предсказаниям, все, чем я владею, — к его услугам.
— О! Только то, что находится не дальше порога известной мне комнаты, — промолвил шевалье.
— Вы ошибаетесь, сударь, — возразил маркиз, которого шевалье прижал к стене, — и, чтобы доказать это, я приглашаю вас вместе с господином Луи де Фонтаньё отужинать сегодня вечером у Маргариты Жели.
При этих словах г-н д’Эскоман снова подан своему противнику руку.
Разговор принял столь затруднительный для Луи де Фонтаньё оборот, что, желая сохранить самообладание, он подошел к молодому хирургу, приведенному господами де Мороем и д’Апремоном, и показал ему свою рану.
Ученик Эскулапа объявил, что это безобидная царапина, и наложил на рану легкую повязку.
Господам де Гискару и де Монгла также предстояло сегодня драться, и они, предполагая, что кто-нибудь из первых дуэлянтов может погибнуть или будет серьезно ранен, пригласили на роль секундантов двух своих приятелей, и те, уже предупрежденные об исходе первой дуэли, приближались к месту поединка.
Господин д’Эскоман неоднократно и настоятельно убеждал шевалье примириться с г-ном де Гискаром, да и тот прекрасно сознавал, что этот поединок поставит его в смешное положение, и не желал ничего лучшего, как полюбовно договориться со старым дворянином. Но все усилия г-на д’Эскомана оказались напрасны из-за упрямства шевалье, и маркиз уехал, увозя с собой Луи де Фонтаньё, которого он вынудил занять место в своей карете.
Когда экипаж, въезжая в город, миновал окраину предместья, Луи де Фонтаньё заметил за полуразвалившейся стеной какого-то сада женщину, лицо и фигура которой привлекли его внимание; он быстро высунул голову из окна и узнал пожилую даму, накануне вечером советовавшую ему не щадить маркиза.
Казалось, она поджидала этот экипаж, потому что при его приближении поспешно нагнулась вперед, вглядываясь внутрь кареты, и, когда она увидела Луи де Фонтаньё сидящим рядом с маркизом, ее лицо выразило гнев и презрение.
Затем женщина скрылась за стеной.
Господин д’Эскоман, заслоненный Луи де Фонтаньё, не заметил Сюзанны Мотте, и молодой человек решил скрыть от маркиза свое изумление, вызванное странным поведением этой женщины.
Луи де Фонтаньё полагал, что г-н д’Эскоман отвезет его домой; поэтому он очень удивился, когда экипаж остановился перед высокой стеной одного из самых старинных особняков города. Услышав скрип отворяющихся массивных ворот, он обратился к г-ну д’Эскоману:
— Куда же вы меня привезли, господин маркиз?
— Туда, где я могу выполнить данное вам обещание.
— О каком обещании вы говорите?
— Неблагодарный, неужели вы уже забыли о маленьком кошельке?
— Конечно, нет.
— Разве я не должен вас представить той особе, которой он принадлежит?
— Как! Разве мадемуазель Жели живет в этом доме?
— Ах! Боже мой! Да кто говорит вам о мадемуазель Жели? Вы что, сговорились с шевалье? Мы приехали, выходите.
И маркиз, подавая пример Луи де Фонтаньё, проворно выпрыгнул из экипажа.
V БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ, КОТОРЫМИ ВЫМОЩЕН АД
Ввергнутый в неизвестность и терзаемый беспокойством об исходе этого приключения, Луи де Фонтаньё без всяких возражений последовал за маркизом.
В эту минуту они находились перед одним из тех старинных и мрачных домов XVI века, и кирпич и тесаный камень которых приобрели одинаковый красновато-бурый оттенок; перед ними возвышалось широкое крыльцо полукруглой формы, к какой питали пристрастие архитекторы той эпохи.
— Дома ли госпожа маркиза? — спросил г-н д’Эскоман у лакея, открывшего им дверцы кареты.
Эти слова, словно вспышка молнии, пронеслись в сознании Луи де Фонтаньё, и ему стало ясно, какую непростительную ошибку он совершил накануне вечером. Теперь он думал лишь о том, чтобы избежать свидания, в котором, по его мнению, при любом раскладе обстоятельств ему предстояло сыграть весьма нелепую роль.
— Ах, господин маркиз, во имя Неба, — обратился он к г-ну д’Эскоману, — позвольте мне удалиться.
— Удалиться? Отчего же?
— Не могу же я предстать перед светской дамой в таком виде — в запятнанной кровью рубашке и забрызганной грязью обуви.
— Даже если эта светская дама обязана вам жизнью своего мужа?
— Но, наконец, эта дама…
Луи де Фонтаньё замолк.
— Да, эта дама, чей кошелек вы нашли, маркиза д’Эскоман; что же здесь необычного и почему вы так удивленно на меня смотрите?
— Да потому…
— Возможно, вы не знали, что я женат?
— Совершенно не знал.
— Это потому, что я живу почти так, словно и не женат, и вам советую вести себя так же в том случае, если вы когда-нибудь дойдете до такой крайности, как женитьба.
Затем, не давая своему собеседнику опомниться, г-н д’Эскоман подтолкнул его к крыльцу.
— Спросите у госпожи Сюзанны, может ли ее хозяйка принять нас, — обратился он к камердинеру.
— Госпожи Сюзанны с утра нет дома, — ответил камердинер.
В эту минуту застекленная дверь, выходившая на крыльцо, открылась и на пороге появилась г-жа д’Эскоман. Глаза ее были красны от слез, и она была так взволнована, что не заметила присутствия Луи де Фонтаньё.
Увидев своего мужа веселым и улыбающимся, она подняла руки к Небу и, в сильнейшем волнении прислонившись к косяку двери, чтобы не упасть, смогла произнести одно лишь слово:
— Живой!
Маркиз поспешил подойти к ней, чтобы поддержать ее.
— Умоляю вас, давайте без мелодрам, мы не одни, — сказал он ей тихо тем насмешливым тоном, который всегда глубоко ранил молодую женщину; затем, повысив голос, он произнес: — Живой! Да, черт возьми! Очень даже живой, и это благодаря господину де Фонтаньё, которого я решил немедленно представить вам, будучи уверен, что ничто не доставит вам большее удовольствие, чем возможность увидеться с человеком, не пожелавшим вынести вам приговор — преждевременно надеть чепец вдовы, хотя этот убор прекрасно бы подошел к вашим белокурым волосам, и, если бы здесь была Сюзанна, она бы определенно согласилась со мной.
— Ах, сударь, разве можно шутить в подобную минуту! — сказала Эмма, ответив лишь легким наклоном головы на низкий поклон г-на де Фонтаньё.
— Черт возьми! — воскликнул маркиз. — Наоборот, сейчас как раз самое время быть веселым, и более чем когда-либо. Однако, если вам угодно сохранять серьезность, пусть будет так, поскольку господин Луи де Фонтаньё как раз желает обратиться к вам с чрезвычайно серьезной просьбой.
— Ко мне? — прошептала удивленная маркиза.
— Да, именно к вам.
— Я слушаю, — промолвила маркиза.
— Так вот, речь идет о кошельке, утерянном вами весьма кстати, ибо для нас обоих он сыграл замечательную службу. Господин Луи де Фонтаньё объяснит вам все сам, а я оставляю вас за беседой, в которой присутствие мужа будет лишь помехой. Ну же, мой юный друг, подайте вашу руку маркизе.
И, довольный тем, что может избавиться таким образом от излияний восторга, вызванного у жены его возвращением, маркиз, напевая, стал подниматься по лестнице, ведущей в его комнаты.
Оставшись наедине с г-жой д’Эскоман, Луи де Фонтаньё подождал, когда она сделает ему знак следовать за ней, и в глубоком волнении прошел в гостиную.
Маркиза села и указала ему на кресло напротив.
— Сударь, — сказала она, не давая ему заговорить первым, — не стану злоупотреблять выгодами того положения, в какое вы меня поставили; я слишком признательна вам за то, что вы сохранили жизнь господину д’Эскоману; если мы случайно встретимся в обществе, обещаю вам не вспоминать вашей ошибки… Я отношу ее на счет вашей молодости и легкомыслия; однако хочу поставить одно условие: обещайте и вы никогда не вспоминать вчерашней жуткой сцены, о которой, я уверена, вы сожалеете.
Слова ее, полные доброжелательности, попали в пустоту. Встреча со знатной дамой, в то время как он рассчитывал увидеть лишь Маргариту Жели, показалась Луи де Фонтаньё одним из тех счастливых случаев, какие Провидение приберегает лишь для самых любимых своих избранников. Наконец-то смутные грезы вчерашнего дня приняли очертания. Его воображение, как Пигмалион, создало женщину! Его прихоть обратилась в любовь! Несколько слов, оброненных гувернанткой и до сих пор казавшихся ему непонятными, теперь становились ясными, а то пренебрежение, которое продемонстрировал маркиз по отношению к своей жене в его присутствии, наполнило сердце молодого человека честолюбивыми надеждами. Он отнюдь не собирался приносить покаяние при виде великодушия Эммы; лицо его выдавало то, к чему устремились в эти минуты его сокровенные помыслы; совершенно не думая приносить извинения, он искал в уме способ отнести на счет предумышленности то, что нельзя было приписать случайности.
— Увы, сударыня, — отвечал он, — самому Провидению не угодно, чтобы я повиновался вам.
— Провидению? — удивленно переспросила Эмма. — Ради Бога, сударь, объясните мне, при чем тут Провидение?
— Разве господин д’Эскоман не предупредил вас, сударыня, что я хочу обратиться к вам за одним одолжением?
— Да, это так, сударь; но я не поняла, уверяю вас, какое одолжение вы можете от меня ждать.
— Сударыня, прошу, позвольте мне оставить у себя ваш маленький кошелек, обладателем которого я стал вчера благодаря заблуждению вашей гувернантки, минуту разделявшемуся и вами. Голос свыше подсказал мне вчера просить вас об этой милости. Сегодня ваш кошелек, лежавший на моей груди, предохранил меня от удара шпаги, который, не будь его, был бы смертельным. Посудите сами, сударыня, в моей ли власти забыть нашу вчерашнюю встречу, когда все во мне кричит, что я начал жить только с того часа…
Маркиза прервала его.
— Простите, сударь, простите, — сказала она, — я не могу позволить вам дальше развивать любовную тему; признайтесь, что мне не должно казаться таким уж лестным играть в вашей любви роль, предназначавшуюся вовсе не мне, да и быть, в конце концов, не на первых ролях в вашей запутанной интриге.
— Сударыня!
— Ах! Не осмелитесь же вы, — продолжала маркиза, — утверждать, будто я могла бы отнести к себе тот первый порыв чувств, которые вы выражаете с таким пылом? Ведь вчера я прекрасно поняла, что вы обращались совсем не к супруге господина д’Эскомана; позвольте же мне отдать кесарю кесарево.
Голос маркизы заметно изменился, когда она намекнула на любовницу своего мужа. Луи де Фонтаньё заметил, что глаза молодой женщины увлажнились, и увидел слезы, дрожащие на длинной бахроме ее ресниц.
По выражению взгляда молодого человека маркиза поняла, что, как бы она ни старалась, эти слезы не остались незамеченными.
— Простите меня, сударь, — продолжала она, пытаясь улыбнуться. — Простите, что я так плохо владею собой; но несчастье не боится людского суждения, а право на слезы — такая малость, что никто еще не думал оспаривать его.
Эта фраза, которую г-жа д’Эскоман произнесла, силясь улыбнуться, произвела на Луи де Фонтаньё глубокое впечатление. В продолжение нескольких мгновений он молчал, сопоставляя свои мелкие и пошлые переживания с подлинно великим смирением этой женщины в ее трагическом положении, и ему стало стыдно. Появившееся у него горделивое самодовольство постепенно исчезло, отступив перед почтительным сочувствием, охватившим его душу; любовь же осталась и сделалась еще более властной, поскольку она сделалась более искренней, поскольку она сменила свой источник, поскольку теперь она проистекала из той глубокой симпатии, какую вызывает тот, кто страдает, у юности, то есть у великодушия.
Эта душевная перемена происходила медленно и в то же время явно: она отражалась на лице молодого человека. Он то краснел, то бледнел. Наконец, у него тоже появились и покатились по щекам слезы; он соскользнул с кресла, на котором сидел, и упал на колени перед маркизой.
— Простите меня, сударыня, — произнес он с чувством такой глубокой и нежной почтительности, что в ней нисколько нельзя было усомниться.
— Полноте! Я вижу вашу искренность, — отвечала Эмма, сердечно пожимая ему руку, — я определенно предвижу, что мы сможем стать друзьями, если вы, конечно, согласитесь стать благоразумным.
— Если, призывая меня к благоразумию, вы думаете, что я не буду вас обожать, сударыня, то вы ошибаетесь… Этого не будет никогда! Никогда!
— И почему же я ошибаюсь?
— Да потому что вы за одну минуту захватили такую власть над моей жизнью, что она полностью поглощена вами.
— Довольно, сударь! — воскликнула Эмма. — Разве можно любить без надежды?
— Не мне, сударыня, а вам отвечать на этот вопрос.
Эмма побледнела.
— О! — произнесла она голосом, в котором слышался чуть ли не ужас. — Вот почему вам не следует любить меня или, по крайней мере, любить не так, как бы вы хотели. Вчера вы жаловались, что те, кто близок вашему сердцу, вдали от вас; что ж, я согласна стать вам сестрой, подругой, матерью, но вы должны заглушить в себе всякое чувство ко мне, ибо оно может принести вам лишь боль. Если бы вы знали, сколько страданий доставляет неразделенная любовь! Если бы вы знали, как она гложет сердце, превращает жизнь в такое мучение, что заставляет с нетерпением ждать смертных мук!.. О! Я хочу уберечь вас от этого нестерпимого страдания! И если для вас мне надо сделать то, что я не осмелилась сделать для себя самой, — оголить раны моей души, перебрать в памяти все то, что я претерпела, все то, что я сносила каждый мучительный час в течение этих трех лет… я ошибаюсь, в течение трех столетий! — я это сделаю, во всяком случае, постараюсь сделать. Но не надо любви, не надо любви! Выслушайте меня…
— Нет, только не это, сударыня! — воскликнул Луи де Фонтаньё, живо поднимаясь с колен. — Я предпочитаю ничего не слышать. Что вы можете сказать мне? Что вы любите, что вы обожаете господина д’Эскомана? Мне теперь слишком хорошо известно, сударыня, что вы его любите, и бесполезно это повторять еще раз. Моя любовь, я согласен с вами, сударыня, это безумие; но это безумие, какие бы оно мне ни уготовило печали, возможно, принесет мне иллюзии и надежды — сладкие иллюзии, чарующие надежды, так быстро приносящие разочарование. О! Умоляю вас, сжальтесь, оставьте нетронутыми эти скромные утешения; хватает уже голоса моего сердца, которое запрещает мне надеяться; не надо больше ни пылких слов о вашей любви к господину д’Эскоману, ни строгого голоса вашей совести, если эта любовь все же не существует. Только что я плакал вместе с вами, сударыня; прошу вас, во имя нашего братства слез, не забывайте об этом.
— Я буду помнить об этом, сударь, и при этом вы не найдете у меня жалости к вашей страсти, которую я судила бы строже, не будь я уверена, что она еще не пустила чересчур глубокие корни. Я благодарю вас за те слова, в которых вы выразили свое понимание того, что даже если бы я не любила мужа, то голоса моей совести было бы достаточно, чтобы предостеречь меня от такого шага, который в обществе называют ошибкой, я же сама называю его преступлением. Вы не ошибаетесь: даже если бы я не имела могущественного союзника в моей любви к господину д’Эскоману, я слишком хорошо понимаю, какое обязательство имею перед его именем, чтобы когда-нибудь забыть об этом. Но это совсем не так, и я защищена от страха сделать неправильный шаг безмерной любовью, которую я испытываю к своему мужу.
— Ах, сударыня, смилуйтесь, не вынуждайте меня защищаться.
— Да и чего же мне опасаться, сударь? Неужели того, что вы можете напомнить мне об ошибках господина д’Эскомана и его забвении всяких приличий по отношению ко мне? Но это будет не только невеликодушно, но и недальновидно с вашей стороны; предупреждаю: удар не достигнет цели. Вы думаете, мне неизвестно, чем занимается мой муж? О, вы заблуждаетесь! Однако я никого не прошу просвещать меня в этом, и все окружающие единодушно скрывают от меня его ошибки; тем не менее у любви есть инстинкт, и он больше, чем равнодушие маркиза ко мне, раскрывает все. Но я не слушаю голоса своего инстинкта; все, что он мне говорит, я опровергаю; ведь, в конце концов, виновен ли господин д’Эскоман в обидах, которые он мне причиняет? Разве не повинны в них полученное им воспитание, привычный ему образ жизни, друзья, с которыми он встречается? Ведь все мужья грешат в той или иной степени; его же грехи были больше во сто крат, поскольку я все еще любила его. Меня убивало то, что я не могла его проклясть. А потом я пришла к убеждению, что моя преданность долгу — долгу, который легко исполнять благодаря моей любви, — принесет свои плоды, и Господь не допустит, чтобы я ушла к его престолу, не будучи утешена тем, кто один лишь может утешить меня на этом свете. Он пошлет, как сделал это для слепого Товита, одного из своих ангелов к слепцу, которого он дал мне в мужья, и вернет его любящим и нежным к той, которая думает только о нем… О Боже мой! Боже мой! Ты ведь поддержишь меня в тот день, не так ли? Ибо в тот день я сойду с ума от счастья! Вы скажете: все это мечта; да, быть может, но я грежу об этом все ночи напролет; и моя мечта сбудется, а вот ваша — безрассудна, более чем безрассудна: она преступна. Мою мечту посылает мне Провидение, чтобы утолить мое бедное сердце, иссушенное слезами; ваша же порождена безумием и помутит разум нам обоим. Нет, нет, поверьте, не может быть, чтобы женщина умерла, не услышав от мужа тех слов любви и нежности, какие он обязан говорить только ей одной. Послушайте, сударь, придите в себя; не добавляйте к моей скорби еще большую: не заставляйте меня делить с посторонним мои страдания. Но, — добавила маркиза, пытаясь улыбнуться, — я в самом деле безрассудна, принимая ваши слова всерьез. Дуэль, совершенно невероятная история с талисманом, боязнь ударов шпаги — все это вскружило мою бедную голову, и не пройдет и ночи, как от всей этой любви, которой вы пытаетесь меня напугать, у вас останется, надеюсь, лишь воспоминание о доброжелательном участии, которое я к вам проявила.
В то время как маркиза д’Эскоман говорила, помимо своей воли отдавшись приступу отчаяния, Луи де Фонтаньё слушал ее, спрятав лицо в ладони.
Когда она закончила, он поднял голову и сказал:
— Вы позволите мне, сударыня, представить вам доказательства того, что все будет не так?
— Я слушаю вас.
— Простите, если я еще раз докучаю вам, напоминая о своем чувстве, которое вы не одобряете и отвергаете; но, поверьте мне, любовь моя к вам так серьезна и так искренна, что я желаю — клянусь вам в этом перед Богом, — чтобы осуществилась ваша мечта о возвращении блудного мужа; и в доказательство тому, если бы претворение этой мечты в жизнь зависело от меня, я бы, с разбитым сердцем, угасшей душой, снова сказал: "Пусть он вернется к ней, и пусть она будет счастлива!"
— О! Благодарю, благодарю вас, сударь, — воскликнула Эмма, с нескрываемой признательностью сжимая руку молодого человека. — Боже мой! Неужели после всего, что было, это чудо невозможно? Господин д’Эскоман умен, у него доброе сердце… Если бы кто-нибудь ему указал пропасть, к которой он подходит, если бы кто-нибудь поведал ему о моей любви и моем отчаянии! Уверена, он тотчас отказался бы от своих заблуждений… Но нет, я ошибаюсь, люди предпочитают раздавать лишь ту милостыню, что легко им досталась, а та, что я прошу дать мне из сострадания, будет слишком дорого стоить их эгоизму… Тем не менее, как бы я благословляла имя того, кто вернул бы мне счастье! Будьте же этим человеком, сударь; именно с этой целью Господь понудил нас встретиться и внезапно вызвал в нас взаимную приязнь, суть которой вы неправильно поняли. Вы ведь молоды, и вы почти подружились с господином д’Эскоманом; он будет слушать вас охотнее, чем других: советы стариков слишком напоминают нравоучения; к тому же этим утром вы подарили ему жизнь, и он не сможет оскорбиться вашими словами. Сделайте это, умоляю вас, сударь, сделайте это!
— А если я попытаюсь сделать то, что вы меня просите, и потерплю неудачу, на что я смогу рассчитывать, сударыня?
— Боже мой! Остерегитесь, вы предлагаете уже не услугу, а торг. О! Вы не думаете, что говорите.
— Вы опять правы, вы всегда правы, сударыня, простите меня! Слепой, если не происходит чуда, не прозревает вдруг; он ходит впотьмах и спотыкается. Да, вы правы, я чувствую, что сделать это невозможно, но я обещаю попытаться. Мне придется забыть то, что могло вдохновлять меня в миг опьянения, и думать только о том, чтобы завоевать право называться вашим другом. Если необходимо, чтобы жертва моя была абсолютной, она будет такой; отныне я не напомню вам ни жестом, ни взглядом о том, чего это мне стоит. Прощайте, сударыня, и если ваше желание будет невыполнимо, не обвиняйте в этом ни мою волю, ни мое усердие.
— Ах, сударь! — воскликнула Эмма. — Как бы я хотела иметь два сердца, чтобы разделить их между мужем и вами!
При этих словах г-жа д’Эскоман, невольно поддавшись порыву признательности, вскинула руки на шею Луи де Фонтаньё. Длинные локоны ее волос касались лица молодого человека. В течение нескольких мгновений ее взволнованная грудь соприкасалась с его грудью, и биения их столь простых, чистых и в то же время столь страстных сердец слились.
Но маркиза тотчас опомнилась и устыдилась подобного порыва признательности к человеку, с которым она еще накануне не была знакома; она раскланялась с ним с неловкостью, выдававшей ее смятение, а затем удалилась в свою комнату.
Еще мгновение Луи де Фонтаньё неподвижно стоял, безотрывно глядя на дверь, закрывшуюся за ней. Затем он громко, почти болезненно вздохнул; эмоции душили его; многочисленные и противоречивые чувства заставляли цепенеть его душу; ему казалось, что он находится во власти сновидения. Он сделал несколько шагов к двери вестибюля, намереваясь в свою очередь выйти, но ему не хватало ни дыхания, ни сил, ни воли, и он упал в кресло, стоявшее у дверного проема.
Он не слышал, как за его спиной приоткрылась дверь и из-за нее показалась голова Сюзанны Мотте; гувернантка старательно оглядела гостиную, чтобы удостовериться в том, что молодой человек был там один.
VI ГЛАВА, В КОТОРОЙ МЫ БЛИЖЕ ЗНАКОМИМСЯ С СЮЗАННОЙ МОТТЕ
Голос Сюзанны Мотте вывел Луи де Фонтаньё из оцепенения, в которое он впал. Одного голоса для этого, возможно, и не хватило бы, но гувернантка не только обратилась к молодому человеку со словами, но и коснулась его плеча.
— Не угодно ли, сударь, чтобы я вас проводила? — спросила она насмешливым тоном.
Луи де Фонтаньё приподнял голову и узнал в своей собеседнице пожилую женщину, которую он встретил накануне и заметил час назад за стеной сада.
Тотчас же она полностью завладела его вниманием, как будто бы он понял, что эта совершенно незнакомая ему пожилая женщина в будущем должна будет иметь сильное влияние на его судьбу.
Мы уже описали нравственный портрет Сюзанны Мотте, забыв о физическом; исправим же это упущение.
Сюзанна Мотте была пятидесятилетняя маленькая толстая женщина с довольно заурядной внешностью. Оплывшие жиром щеки слегка приглушали лукавство в чертах ее лица, отнюдь не лишенного характера. Толстые, мясистые губы, вздернутые в уголках и окаймленные пушком, а также выступающий подбородок свидетельствовали о ее сильной воле. Низкий лоб с волосами, спадающими почти до бровей — таких же седых и жестких, как эти волосы, придавал бы ее широкому лицу причудливое выражение, если бы не живость бледно-голубых глаз, взгляд которых, казалось, стремился глубоко проникнуть в сердце того, на кого они смотрели.
Пока Луи де Фонтаньё рассматривал ее, Сюзанна бесцеремонно уселась на один из стульев гостиной; вид ее говорил о том, что она только что прошла большое расстояние: на лбу ее блестели крупные капли пота. Она вытерла их большим клетчатым носовым платком, а затем, тяжело дыша, как усталая лошадь, которую ведут к водопою, слово в слово повторила свой вопрос, обращенный к молодому человеку:
— Не угодно ли, сударь, чтобы я вас проводила?
— Нет, — отвечал Луи, — но вместо этого я хочу попросить вас об одной услуге.
— Какой?
— Объясните мне сказанные вами вчера вечером слова: они остались для меня загадкой.
— Я их уже не помню.
— Однако я помню их достаточно хорошо, чтобы передать их слово в слово на суд господину маркизу д’Эскоману. Вероятно, в устах домашней прислуги они покажутся ему весьма странными.
Глаза Сюзанны сверкнули как две молнии.
— Я не служу господину д’Эскоману, — отвечала она, не пытаясь даже скрыть своего презрения, — я кормилица и гувернантка госпожи маркизы, и он не имеет никакого права разлучить меня с ней.
— Значит, вы ее очень любите? — спросил Луи де Фонтаньё, для которого разговор об Эмме уже был счастьем.
— О ком вы говорите? О моей дочери?
— Я говорю о госпоже маркизе.
— Почему же, или, вернее сказать, как же мне не любить ее, когда я ее вырастила? Вот вы уже полюбили ее, хотя увидели вчера лишь в первый раз.
— Вы, кажется, подслушали мой разговор с маркизой!
Сюзанна Мотте рассмеялась.
Луи пристально посмотрел на нее и спросил:
— Что же смешного вы нашли в моих словах?
— Когда вы узнаете, что не проходит и ночи, чтобы я не вставала поглядеть, как она спит, часами прислушиваясь к ее дыханию, следя за выражением ее лица, готовая разбудить ее, если жизненные печали будут преследовать ее во время сна, — то не удивит ли вас мое желание узнать, о чем говорил с ней человек, на мгновение ставший хозяином ее судьбы?
— Послушайте, неужели вы всерьез сожалеете о счастливой развязке моего поединка с мужем вашей госпожи? — спросил Луи де Фонтаньё, понижая голос.
— А почему бы нет? — промолвила Сюзанна Мотте, пристально глядя на Луи де Фонтаньё.
Он не смог подавить в себе удивления.
Сюзанна Мотте продолжала, стиснув зубы и сверкая взглядом:
— Проникнетесь ли вы жалостью и станете ли оплакивать убийцу, искупающего на эшафоте смерть одного из своих ближних?
— Но господин д’Эскоман…
— Как! — с горячностью воскликнула Сюзанна. — Вы неумолимы к несчастному, кровью добывающему хлеб своим детям, а мне запрещаете ненавидеть того, кто, отняв у меня мое дитя, украв его у меня, убивает его на моих глазах, терзает его самыми страшными пытками, казнит его самой страшной мукой — отчаянием? Да вы действительно сумасшедший, молодой человек!
— Тише! Вас могут услышать!
— Ну, услышат меня, и что? Да я сама выскажу господину маркизу то же самое в глаза. Я скажу ему, что сегодня утром я поставила в церкви свечку Пресвятой Деве и просила ее услышать, наконец, мою каждодневную молитву. Ах, вы не знаете, что такое мать, коль скоро вас пугает ненависть. А ведь я ее мать; не я ли вскормила ее своим молоком в ущерб моему бедному ребенку? Каждая ее слезинка — слышите ли вы? — каждая слезинка, скатывающаяся из ее глаз, падает на мое сердце и ранит его; и давно уже в этом сердце не должно быть места для новой раны. Сколько же слез она выплакала!.. Поверите ли вы мне, что у нее, двадцатидвухлетней, светловолосой, уже появляются седые волосы? Тут преступление, сударь, страшное преступление! Ах, я прекрасно все понимала и не желала этого брака. Господь свидетель, как я не желала этого брака. Видеть, как маркиз распродает ее земли, проматывает ее состояние, — все это было бы еще ничего, если бы она хоть раз услышала от него одно из тех слов любви, какие вы только что сказали ей! А она-то это любит; никто не знает и никогда не узнает, что происходит в ее сердце. Совсем крошкой, целуя меня, она завела привычку крепко прижиматься губами к моим щекам, и это меня пугало. Она, мое дорогое дитя, не умеет ничего чувствовать наполовину. Когда, бывало, я бранила ее, ей было мало поплакать или надуться, как делают другие малышки; нет, она бросалась к моим ногам, говоря: "Сюзанна, моя добрая Сюзанна, скажи мне, что ты меня еще любишь!" И тогда уже я думала: "Господи, что будет, если тот, кто заменит меня, не сможет отвечать на ее любовь лаской так, как это делаю я?" А случилось именно то, чего я опасалась. Я не ошиблась. Один только Бог ведает, как она страдает. Она гибнет, она обречена! Нет, нет, нет, она не сможет так жить!
Эти последние слова Сюзанна произнесла сдавленным голосом, покачав головой. Казалось, что зловещее предсказание с трудом вырвалось из ее горла. В заключение она разразилась рыданиями. Затем, взяв с рабочего столика какое-то вышиванье, которого касались руки ее хозяйки, она стала осыпать его поцелуями и обливать слезами.
Страстность, с которой пожилая женщина выражала свои чувства, глубоко взволновала и удивила Луи де Фонтаньё; он не мог себе представить, что в ней таится такая необычайная привязанность к г-же д’Эскоман и был совершенно ошеломлен услышанным. Он невольно сравнивал ее любовь со своей страстью к маркизе: несомненно, она уступала чувствам старой кормилицы. Несмотря на бессвязность слов Сюзанны, несколько простоватой в своем прямодушии, эта женщина казалось ему великой и благородной; он смотрел на нее с ревнивым любопытством, завидуя ее пламенным взглядам, столь хорошо свидетельствующим о пылкости ее любви.
И все же он принялся защищать маркиза, не слишком хорошо сознавая, что говорил:
— А не преувеличиваете ли вы последствия поведения господина д’Эскомана? Мне кажется, оно не должно повлечь той роковой развязки, какую вы предсказываете. К тому же, почему надо терять надежду, что он может обратиться на путь добра?
Сюзанна пожала плечами и бросила на молодого человека презрительный взгляд, доказывавший ему, что она ни слова не упустила из его разговора с г-жой д’Эскоман.
— Послушайте, — произнесла она наконец, — я ведь хорошо знаю свою госпожу, не так ли? И в любой миг, лишь взглянув на нее, могу сказать, что происходит у нее в душе. А уж самого маркиза, сударь, я знаю еще лучше. Вернуться к жене! Да разве моя Эмма распутница? Разве она способна лгать, изменять, чтобы понравиться мужу?
— Я повторяю вам то, что сказал госпоже маркизе: если мне не удастся вернуть ей мужа, это не будет моей виной, но я предприму такую попытку.
— Будет вам, молодой человек, неужто вы думаете, что надо мной можно так же насмехаться, как и над моей бедной овечкой? Что за комедия! Кто знает, а не сам ли маркиз подсказал вам эту мысль? Разве он не способен на все самое низкое и подлое? Его бы прекрасно устроило, если бы мы дали ему повод обвинить нас… Да, — продолжала Сюзанна, как будто размышления утвердили ее в этой мысли, — да, это он вас подослал, я уверена в этом; но будьте спокойны, Эмма будет предупреждена; вы еще не успеете переступить порога нашего дома, как я ей скажу все, что об этом думаю.
— О! Вы не сделаете этого, сударыня, умоляю вас! — воскликнул Луи де Фонтаньё.
— И когда вы опять покажетесь в нашем доме, — невозмутимо продолжала Сюзанна, — она примет вас с полным презрением, которого вы и заслуживаете.
— Но я люблю ее, я люблю ее, я люблю ее! — отчаянно повторял Луи де Фонтаньё.
— Полноте! Да если бы вы любили ее, — возразила Сюзанна, — вы бы только и думали о том, как вырвать ее из рук этого палача! Нет, нет! Она все узнает: и то, что не может рассчитывать на вас, и то, что вы предатель.
— Во имя вашей любви к ней, не делайте этого, не лишайте ее единственного в мире друга.
Произнося эти слова, Луи де Фонтаньё молитвенно сложил руки.
— О нет, — продолжала старая женщина, — так же верно, как то, что один Бог на свете, я клянусь вам…
Сюзанна не договорила: внезапно отворилась дверь и на пороге появился маркиз д’Эскоман.
Заметив торжественный жест, которым старая гувернантка пыталась придать большую решительность своим словам, и взволнованное лицо Луи де Фонтаньё, маркиз расхохотался.
— Черт возьми! — воскликнул он. — Я полагаю, что поступил нескромно, и удаляюсь.
— Что вы хотите этим сказать, маркиз? — пробормотал Луи де Фонтаньё.
— Я хочу сказать, дорогой мой, что вы, должно быть, подошли к одному из тех моментов, когда, не имея в своем распоряжении облака, как у отважного Юпитера, вы не были бы раздосадованы, если бы сдержанность друга заместила вам его.
— И в самом деле, маркиз, — произнес Луи де Фонтаньё, стараясь говорить непринужденно, — у меня большое желание вернуть вас на место дуэли.
— Господин маркиз, — сказала Сюзанна, держась прямо и твердо, насколько позволяла ее тучность, и не пытаясь скрыть гнева, заставлявшего сверкать ее взгляд, — господин маркиз, кажется, зло насмехается над нами. Это меня нисколько не удивляет, ведь господин маркиз всегда так великодушен по отношению к женщинам!
— Никакое мое великодушие не будет чрезмерным по отношению к вам, госпожа Сюзанна, и я могу лишь выразить вам признательность за благожелательное внимание, которое вы проявляете ко мне при всяком удобном случае.
Затем, обратившись к Луи де Фонтаньё, маркиз продолжал:
— Бьюсь об заклад, дорогой мой, что до моего прихода гувернантка моей жены расхваливала вам меня.
Луи де Фонтаньё отважился было услужливо солгать, но Сюзанна не дала ему на то время.
— Господину маркизу следовало бы знать, — произнесла она, — что я не имею привычки браться за невыполнимые задачи…
Нисколько не оскорбляясь подобной дерзостью, маркиз громко расхохотался.
— Браво! — воскликнул он. — Вот за это я и люблю тебя, моя толстая гуронка, моя свирепая алгонкинка! В самом деле, только ты и развлекаешь меня в этом печальном доме.
— О! Можете не утруждать себя, господин маркиз, говоря мне дерзости. Слава Богу, я и без того вас ненавижу.
— Как раз это меня и приводит в восторг, это и придает вам большую цену в моих глазах, моя целомудренная Сюзанна; но вы ненавидите не одного меня, вы ненавидите также и моих друзей… Как там вы их называете на вашем поэтическом и колоритном языке?
— Шалопаями! — резко ответила гувернантка.
— Ах, вот как! Шалопаи! Итак, мой дорогой Фонтаньё, если вы хоть минуту рассчитывали на дружбу госпожи Сюзанны, вы не взяли в расчет меня; для нее вы теперь превратились в чудовище, так как стали одним из моих друзей.
— Неужели это действительно так, маркиз? — спросил Луи де Фонтаньё.
— Так, значит, я угадала, так, значит, не ошибалась, что маркиз ваш друг! Прекрасно! Поскольку вам, несомненно, есть что сообщить маркизу, а я могу помешать вашему разговору, я удаляюсь.
И Сюзанна величественно проследовала в комнату маркизы.
Луи де Фонтаньё хотел было ее задержать, так как он не сомневался, что она поторопится сообщить г-же д’Эскоман свое не слишком выгодное о нем мнение, порожденное ее чрезмерной недоверчивостью.
Маркиз проводил Сюзанну взглядом и сказал, пожимая плечами:
— Я считаю эту бедную старуху немножко помешанной. К своей госпоже она привязана как собака и скалится на всех, кто к той приближается. Вот почему я потешаюсь над ее чудаковатостью, и, пожалуй, это лучшее, что мне остается делать.
— В самом деле, мне показалось, что она глубоко предана госпоже маркизе, — заметил Луи де Фонтаньё, постепенно приходя в себя и надеясь, что Сюзанна, привычки которой ему теперь стали известны, подслушивает их, а он был не прочь несколько реабилитировать себя в ее глазах.
— Да, без сомнения… А, кстати, позволила ли госпожа д’Эскоман сохранить вам ту чудодейственную золотую монету?
Тут Луи де Фонтаньё впервые вспомнил, что он совершенно забыл про предмет, послуживший поводом для его визита к г-же д’Эскоман.
Рука его машинально потянулась к карману, и он достал оттуда зеленый шелковый кошелек.
— О! Несомненно, раз он при вас, — заметил муж Эммы. — Примите же, мой дорогой Фонтаньё, мои самые искренние поздравления с вашим успехом. Как вы нашли маркизу?
— Не буду скрывать от вас, сударь, — произнес молодой человек, — она произвела на меня глубокое впечатление; невозможно соединить в себе столько очарования и в то же время оставаться такой милой и трогательной.
— Черт возьми, сколько огня, дорогой мой! Можно подумать, будто вы уже влюбились. Ну, полноте, не надо краснеть; заранее предупреждаю, что я один из удобнейших мужей; да, маркиза мила, и притом обладает одним драгоценным для меня качеством — она не препятствует ни одной из моих склонностей.
Луи де Фонтаньё решил, что теперь наступила подходящая минута, чтобы приступить к действиям, которые он замыслил.
— Да, — начал он, — однако не думаете же вы, что она от этого не страдает и что ее покорность проистекает из благополучия или же равнодушия?
— Да перестаньте же! — воскликнул маркиз д’Эскоман. — Злая волшебница Карабосса и вас коснулась своей палочкой. Признайтесь: Сюзанна уже успела сдвинуть вам мозги набекрень? Э, нет, мой дорогой! К тому же я предоставил жене полную свободу действий, а, видите ли, свобода для женщины — лучший властелин!
— Простите, маркиз, — возразил Луи де Фонтаньё, — но мне кажется, что ее сердце предпочло бы неволю, если бы ваша любовь позлатила ей оковы.
— Оставим сентиментальные фразы кондитерам и поэтам, мой дорогой друг, — отвечал г-н д’Эскоман, переходя от напускной веселости к серьезному тону, совершенно ему несвойственному. — Жена моя, наверно, плакала перед вами; слезы ей к лицу — женщины столь же легко плачут, как и улыбаются, когда улыбка их красит, — и она склонила вас заступиться за нее. Я бы мог обидеться на непристойность, с какой она посвящает посторонних в тайны нашей семейной жизни — ведь вы не первый ее защитник, которого она мне посылает, дорогой мой Фонтаньё, — но я прощаю ей это ребячество, как, впрочем, прощаю и остальные ребячества, которые она совершила за три года нашего супружества. Я не буду пытаться оправдаться; возможно, на вашем месте я думал бы так же, как вы; однако позднее, оказавшись на моем месте, вы будете действовать так же, как и я, и только тогда вы сможете оценить, как отталкивающе звучат все эти слова об обязанностях идолге для независимого человека… Кстати, вы ведь знакомы с Маргаритой Жели?
— Нет, маркиз, я не удостоен этой чести.
— В самом деле? Ну что ж, тем хуже для вас! Если бы вы ее увидели, вы бы лучше поняли мое философское равнодушие к очарованию госпожи д’Эскоман, которой следовало бы удовлетвориться хорошей и мирной дружбой, предоставляемой ей супружеством, — дружбой, в которой, уж поверьте, я никогда ей не отказывал. Ну, довольно, пусть больше между нами не встают вопросы о таких серьезных предметах; разве это не наводит на вас такую же скуку, как и на меня?
Дурное расположение духа, сквозившее в последних словах г-на д’Эскомана, и сухость его тона совершенно расстроили Луи де Фонтаньё; он понял, что взятое им на себя дело было совсем не легким, как показалось ему вначале, и, раскланявшись с маркизом, удалился обдумывать сложившееся положение.
VII ТРАКТИР "ЗОЛОТОЕ СОЛНЦЕ"
В Шатодёне, как и во всех провинциальных городах, был свой знаменитый трактир.
Содержателя знаменитого шатодёнского трактира звали г-н Бертран, а его заведение имело вывеску "У Золотого солнца".
В Париже, в силу общеизвестной истины "Sol lucet omnibus[7]", которая как нельзя лучше подходит к такой вывеске, залы трактира обычно бывают наполнены смешанной публикой; именно здесь проходит граница между двумя совсем недавно выделившимися кругами общества; их представители здесь встречаются и пьют, сталкиваются и едят без малейшего неудобства — и все это по той простой причине, что два эти мира договорились не знаться друг с другом.
В провинции же совсем другое дело: здесь совершенно не допускается существования нейтральной территории, используемой обоими лагерями. В самом деле, между людьми, оказавшимися во вражде — уже не общей, а личной, должна существовать глубокая демаркационная линия.
Господин Бертран не признавал этой истины.
Разгульная шатодёнская компания представала перед ним поглощающей трюфели и заливающейся шампанским, в сверкании разбитых бокалов, прожорливой без меры и расточительной без жалости.
Она искушала его.
Сравнив меню этих чревоугодников с теми обедами, что заказывали ему люди смирные и благоразумные, причем всегда торговавшиеся из-за счетов, г-н Бертран проникся глубоким презрением к волованам, которыми он на вынос торговал в городе и в которых, на взгляд покупателей, плативших ему по тридцать су за штуку, всегда было недостаточно петушиных гребешков; не отказываясь окончательно от этих клиентов, он соблазнился блестящей перспективой, которую открывали ему посетители из другого лагеря.
Как и сир де Фрамбуази, г-н Бертран женился, но в своем выборе он оказался счастливее, чем этот благородный крестоносец.
Госпожа Бертран была женщина набожная и исправно посещала богослужения; сам же г-н Бертран был добропорядочным гражданином, придерживался строгих нравов, четко соблюдал свои торговые обязательства и, наконец, был исполненным рвения солдатом национальной гвардии.
Решив, что все эти качества достаточно застрахуют его от недоброжелательства, он бросился на путь, полный ловушек и разочарований, разжигая огонь в своих плитах в угоду более чем легкомысленному обществу, предводителем которого стал маркиз д’Эскоман, домогавшийся этого положения.
В итоге обе столь непримиримые партии шатодёнского общества — аристократия и государственные чины — удалились из "Золотого солнца", добровольно придя к согласию, пример которого был дан ими лишь в этих обстоятельствах.
Господин Бертран потерял не только заказы на свадебные пиршества горожан, официальные обеды законных властей и столованье у него городских старых холостяков: наступил такой день, когда порядочной женщине стало неприлично входить в заведение г-на Бертрана, чтобы купить обычный торт.
Кухарки крестились, проходя мимо двух туй, украшавших витрину этого трактира.
Дело было в том, что хозяин "Золотого солнца" поселил у себя девиц легкого поведения!
Вот каким образом, начав с самых лучших замыслов, г-н Бертран дошел до этого (как известно, ад вымощен благими намерениями).
Будучи, по сути, человеком нравственным, хотя те, кто судил о нем поверхностно, оспаривали это, г-н Бертран с отчаянием осознавал причины, из-за которых образовывалась пустота вокруг его заведения, хотя на пустоту залов трактира ему жаловаться не приходилось. Обманчивая выгода, которую он получал от своих молодых клиентов, не утешала трактирщика, чья репутация падала. Он попробовал было бороться со всеобщим порицанием, и не только пытаясь оправдать своих клиентов и клиенток в глазах общественного мнения, не только истолковывая их наиболее отчаянные выходки как легкие шалости, но и даже пытаясь читать своим посетителям нравоучения.
В самом деле, каждодневные появления в дверях трактира г-на Бертрана уходящих дамочек, которых накануне вечером его клиенты приводили к нему ужинать, не раз уже вызывали своего рода бунт среди жителей квартала. Приверженец приличий, г-н Бертран вознамерился устранить это неудобство: на третьем этаже своего дома он меблировал несколько комнат, чтобы предоставить своим запоздалым гостям возможность достойно уходить с наступлением ночи.
Лекарство оказалось хуже самой болезни.
В заведении г-на Бертрана всегда царил такой приятный запах жаркого, что некоторые из посещавших трактир молодых дам, едва испытав этот аромат, уже не могли отказаться от него и, откладывая свой уход оттуда от вечера к вечеру, в конце концов избрали дом трактирщика своим обиталищем, во всяком случае временным, тем самым учредив меблированную гостиницу с не слишком достойной репутацией.
Вот что значит быть чересчур ревностным поборником добрых нравов!
После того как мы уделили столько внимания "Золотому солнцу", читатель, верно, уже догадался, что в дверь именно этого трактира постучался Луи де Фонтаньё около девяти часов вечера того самого дня, когда произошли разнообразные события, о которых только что шла речь.
С тех пор как наш герой покинул особняк г-на д’Эскомана, ему довелось пережить множество различных впечатлений.
Бедный юноша грешил избытком воображения, часто поглощавшего и его время, и его жизненные силы; его энергия тратилась на пустые мечтания. Он витал в бесконечных фантазиях. Никогда курильщики опиума или любители гашиша не строили воздушных замков с большей легкостью, чем это делал он, основываясь на своей вере в самую слабую надежду. В итоге, когда он таким образом уже со всех сторон успевал насладиться утехами, которые приносила ему та или иная его идея, ему не хватало сил и воли воплотить ее в жизнь.
За несколько часов молодой человек уже в который раз начинал распутывать, в соответствии со своей фантазией, приключение, героем которого он стал. Он рисовал себе, как, наперекор враждебности Сюзанны Мотте, он устанавливает согласие в семье маркиза и заставляет супругов переживать запоздалый медовый месяц, а когда к этому примешивалась фантастика, видел свое собственное лицо, заместившее звезду с серебристым ликом; с облачной высоты он наблюдал за счастливым исходом своих трудов и находил удовольствие в том, что обрамлял эту картину множеством разукрашенных арабесок.
Однако мы не будем утверждать, будто Луи де Фонтаньё стоял достаточно высоко над некоторыми пошлыми предубеждениями, чтобы такой исход дела оставил его сердце свободным от всякого рода горьких и обидных чувств; в конце концов его воображение усложнило сценарий эпилога, и понемногу он стал подталкивать Провидение к тому, чтобы приберечь для него роль, не самую неприятную из тех трех ролей, что там были.
Тем не менее, поскольку он не мог полностью избавиться от сомнений по поводу такого неопасного варианта первоначального сюжета, обманчивый мираж, который обычно был в состоянии остудить возбуждение его мозга или души, на этот раз лишь усилил его.
Видя равнодушное отношение маркиза к Эмме, Луи де Фонтаньё не мог удержаться и не думать о том, сколь малый вред принесет он этой женщине, заставив ее полюбить его и подобрав, чтобы оживить у своего сердца, этот очаровательный букет, оставленный увядать в углу. Добавим, что с такой возбудимостью человеческой души (а в нас ведь есть две души — душа человеческая и душа небесная) его страсть должна была стать сильнее из-за препятствий, которые, как он видел, ему предстояло преодолеть.
В самом деле, он опасался того, что Сюзанна Мотте могла сказать Эмме. Сколь ни нелепы были предположения о его сговоре с маркизом, Луи де Фонтаньё, который расстался с Эммой, имея столь чистые и столь жертвенные намерения по отношению к ней, не мог вынести мысли, что он увидит, как эти намерения будут опорочены в глазах маркизы. Он опасался того, что маркиза, на которую с ее самого раннего детства оказывала влияние Сюзанна, разделит мнения этой женщины. И потому молодому человеку казалось невозможным и думать о том, чтобы предстать перед Эммой до того, как он предпримет серьезную попытку исполнить данное ей обещание.
Конечно, начало его действий было неудачным, и несколько минут разговора с г-ном д’Эскоманом убедили его в том, что маркиза не так-то легко поколебать в его мнении относительно супружеского порабощения.
У Луи де Фонтаньё, совершенно неопытного в подобного рода делах, хватило простодушия признаться себе в своей неопытности. И он вспомнил о шевалье де Монгла, который, как ему казалось, мог дать ему дельный совет, и в этих затруднительных обстоятельствах решил обратиться к нему, не открываясь перед ним полностью.
С этой целью он и пришел в "Золотое солнце" минут на двадцать раньше назначенного часа, надеясь застать там г-на де Монгла, который, на правах радушного хозяина, должен был, естественно, прийти первым, чтобы заказать ужин.
Служанка родом из Перша, свежая и упитанная, выполнявшая одновременно и роль полового, и роль помощницы на кухне, провела молодого человека в кабинет, смежный с обеденным залом.
В этом кабинете Луи де Фонтаньё и увидел того, кого он искал.
Шевалье восседал в широком кресле. Перед стариком стояли початая бутылка мадеры, два бокала, чернильница и лежал лист бумаги.
Рядом с ним, весьма близко, находилась г-жа Бертран, которую галантный шевалье де Монгла заставил сесть на стул.
У другого конца стола стоял в почтительном выжидании г-н Бертран; он был в своем боевом одеянии: белая куртка, фартук и кухонный нож за поясом.
Собрание разрабатывало меню ужина, который в тот вечер маркиз давал для золотой шатодёнской молодежи и для подготовки которого г-ну де Монгла были предоставлены самые широкие полномочия.
Дискуссия шла весьма оживленно.
Шатодёнский Бери, застигнутый врасплох, мог предложить шевалье лишь самые простые блюда, возмущавшие изысканные вкусы достойного дворянина; в связи с торжественностью случая ему не хотелось кормить своих сотрапезников лишь рагу из садовых овсянок и подливкой из славок.
Напрасно г-н Бертран расхваливал свои самые отменные соусы, чтобы предоставить в ином виде пулярок, ножку косули и луарскую форель, хранившиеся в его кладовой: г-н де Монгла в своем презрении проявил себя безжалостным.
Господин Бертран пребывал в удрученном состоянии.
Проникнутая жалостью к мужу, г-жа Бертран пыталась вмешиваться в обсуждение.
Хотя эта славная женщина была уже не первой молодости и цвет лица имела слегка багровый, она давно уже знала, что один ее взгляд или одна улыбка могут возыметь большую власть над шевалье, чем все красноречие трактирщика.
В знак согласия с ее волей г-н де Монгла обнимал г-жу Бертран за талию, и условленное блюдо заносилось в меню.
Затем, чтобы заглушить свои сожаления и простить себе проявленную слабость, он потягивал из бокала мадеру.
И по мере того как листок с меню ужина заполнялся, бутылка опорожнялась.
Не стоит и говорить, что в г-не де Монгла была слишком сильна галантность прошлого столетия, чтобы, поднося стакан к своим губам, он не приглашал и г-жу Бертран последовать его примеру, и та принимала эти предложения со всякого рода стыдливыми ужимками.
Что же касается г-на Бертрана, то ему ничего не оставалось, как теребить свой колпак.
Заметив Луи де Фонтаньё, он поспешно подошел поближе к своей супруге.
Нравственность г-на Бертрана допускала такую фамильярность шевалье только при закрытых дверях.
Господин де Монгла, придерживавшийся не столь строгих нравов, легонько обнял одной рукой за талию г-жу Бертран, которая сделала вид, будто защищается от шевалье, при этом обворожительно улыбнувшись, а другой рукой оттолкнул трактирщика, упершись ему в живот.
— Какая муха вас укусила? — вскричал он. — Вы что, любезнейший, с ума сошли? Где вы такому учились, что имеете притязание присутствовать при моем разговоре с господином де Фонтаньё? Разве вы не замечаете по его виду, что он намеревается сообщить мне нечто чрезвычайно важное?
— О господин шевалье, — смиренно отвечал Бертран, да хранит меня Господь от такой дерзости! Пойдем, Луиза, — продолжал он, обращаясь к жене, — предоставим господ их делам.
— Нет! Ваша жена останется: красивая женщина всегда на своем месте в обществе двух дворян. К тому же, осталось решить, что вы подадите нам на закуску и на десерт. А закусками и десертами всегда распоряжаются женщины.
Однако, поскольку г-н Бертран явно не хотел уходить и еще ближе подошел к жене, всем своим видом показывая, что он никоим образом не согласен уступить желаниям шевалье, тот крикнул:
— Отправляйтесь к своим плитам, поваришка! Какого черта! Вы всегда подслушиваете, о чем я говорю с госпожой Бертран; предупреждаю вас: это мне не по вкусу.
Затем, ничуть не боясь вызвать еще более жгучую ревность г-на Бертрана, шевалье наклонился к уху его жены и прошептал ей несколько слов, заставивших ее покраснеть до корней волос.
Господин Бертран исчез.
— Итак, что за ветер принес вас первым? — обратился шевалье ко вновь прибывшему.
— Меня привело желание поздравить вас с удачным исходом вашей дуэли с господином де Гискаром, — отвечал Луи де Фонтаньё. — В городе я узнал, что вы вышли из поединка целым и невредимым, и отправился к вам домой, чтобы удостовериться в этом; там мне сказали, где вас можно найти, и я не побоялся прийти и отвлечь вас от важных занятий, чтобы просить вас принять мои самые искренние поздравления.
— Черт возьми! Какое внимание! — откликнулся г-н де Монгла, нахмурив брови, ибо ему вдруг пришла на ум дурная мысль, что Луи де Фонтаньё более волновался судьбой одолженных ему пятидесяти луидоров, чем им самим.
— Но Луи не понял этого и заметил лишь улыбку на лице шевалье. Присутствие г-жи Бертран несколько нарушало его замысел. Поэтому он поспешно спросил, словно подкрепляя свои первые шаги:
— Ну, а как господин де Гискар? Надеюсь, вы сообщите мне, что он так же весел и улыбчив, как и вы?
— Сожалею, что не могу дать вам такого утешения, мой друг; но в данную минуту, если господин де Гискар и весел, то это потому, что веселость у него стойкая; во всяком случае, он не смеется и не будет больше смеяться, надеюсь, каждый раз, когда при нем станут говорить об эфесе шпаги, который послужил пластырем.
— Неужели вы убили его, шевалье?
— Нет, не совсем; он отделается тем, что недели две пролежит в постели и месяц посидит дома, а от моего удара у него останется только бледность, которая сделает его еще более привлекательным в глазах женщин. Но вернемся к нашему разговору. Если бы я был молод и так же красив, как наша очаровательная хозяйка, — продолжал шевалье, лаская кончиками пальцев затылок г-жи Бертран, — я бы мог допустить, что это участие, проявляемое вами ко мне, втолкнуло вас в этот кабинет за двадцать минут до назначенного часа; но я имею все основания не строить подобных иллюзий и усматриваю в вашем раннем приходе другую причину.
— Клянусь вам, шевалье…
— Не клянитесь, — сказал Монгла, поднося руку к карману своего жилета, откуда послышалось позвякивание луидоров в его пальцах.
— Что вы хотите этим сказать?
— Не правда ли, вы удивлены, что я еще не вернул вам те пятьдесят луидоров, которые вы столь любезно одолжили мне вчера утром?
— Господин де Монгла, — воскликнул Луи де Фонтаньё, очевидно уязвленный подобным подозрением, — вы обещали считать меня своим другом и, по правде говоря, уже забыли об этом!
— Почему так?
— Ваше предположение в высшей степени обидно, я бы сказал, оно оскорбительно, и потому я даже не соизволю опровергать его.
— Полноте! Вы славный молодой человек; мне нравятся ваши манеры, от них веет старыми добрыми временами, и, не будь рядом женщины, имеющей право на знаки внимания с моей стороны, я бы вас расцеловал! Но все же заберите вашу тысячу франков!
— И это после того, что вы мне сказали, шевалье? Нет уж!
— Это вторая услуга, какую вы должны мне оказать, молодой человек, иначе у нас может случиться ссора.
— Я не нуждаюсь в этих деньгах, шевалье.
— Вы что, желаете прослыть миллионером?.. Возьмите же эти деньги, которые ваши мать и сестра с трудом сэкономили за два или три года; держите же их и, советую вам, не позволяйте мне впредь занимать у вас.
— Почему же?
— Да потому что я искренне полюбил вас, и, если вы приучите меня быть вашим должником, все закончится весьма прискорбно для дружбы, которую я к вам питаю.
— О шевалье! Я всегда буду счастлив…
— Возможно; но, став вашим должником, я дойду до того, что, вполне естественно, буду говорить о вас дурно; так позвольте же мне пользоваться кошельком маркиза; по крайней мере, все, что я смогу сказать о нем, будет только злословием.
Затем, заметив, что г-жа Бертран с неослабным интересом смотрит на Луи де Фонтаньё, он обратился к ней:
— Какого черта, моя дорогая, вы так уставились на этого господина? Посмотрите хоть немножко в мою сторону, сделайте одолжение; или вам угодно заставить меня иметь дело с мадемуазель Маргаритой?
— О шевалье, — с упреком промолвил Луи де Фонтаньё.
— Как? Какая Маргарита? Мадемуазель Маргарита Жели? — переспросила г-жа Бертран с присущим женщинам любопытством.
— Конечно же, Маргарита Жели! Как будто в Шатодёне есть две Маргариты! Да, та самая мадемуазель Маргарита, которая пожирает этого молодого человека глазами, так же как это делаете сейчас вы, сударыня; та самая мадемуазель Маргарита, которая без ума от него, — вас это удовлетворяет?
— Да что вы такое говорите, шевалье? — воскликнул Луи де Фонтаньё, невольно покраснев.
— Что я говорю? Правду, как всегда, черт возьми! Однако правильно будет предостеречь вас.
— О чем?
— А о том, что мадемуазель Маргарита совсем без ума от вас и способна сегодня же вечером, прямо за ужином, где-нибудь между десертом и сыром, броситься вам на шею…
— О! Ваше предостережение чересчур льстит мне, шевалье, но я нисколько не верю в опасность, на которую вы обращаете мое внимание. Впрочем, если ваши предположения оправдаются, то, заверяю вас, я так холодно отнесусь ко всем шагам мадемуазель Маргариты, если они будут, что у ее возбуждения достанет сил, чтобы успокоиться.
— Та-та-та-та! Когда вы углядите под складками ее шелкового платья кругленькие ножки, обтянутые розовыми чулочками, а затем, перенеся свой взгляд кверху, увидите не менее круглую шейку, затерянную в волнах английских кружев; когда вы представите то, что находится на пути между двумя этими крайними точками, я не поручусь более за вас, как не ручаюсь за себя.
Луи де Фонтаньё хранил молчание. Он задумался не о перечисленных прелестях мадемуазель Маргариты — молодой человек совсем не прислушивался к болтовне старика, — а о данных ему заверениях маркиза, будто эта красивая девица имеет какие-то фантазии на его счет.
У него мелькнула мысль воспользоваться благосклонным к нему интересом любовницы г-на д’Эскомана, чтобы убедить его в недостойности этой молодой женщины.
Этот прекрасный план устранил всю нерешительность нашего героя.
— Ну что ж! — произнес он после минуты молчания, которой г-н де Монгла воспользовался для того, чтобы надоедать г-же Бертран. — Вы только что просили меня быть откровенным, шевалье. Так вот, признаюсь, я действительно пришел именно затем, чтобы спросить вашего совета.
— Совет? Это серьезное дело, мой юный друг. Черт возьми, совет! Совета обычно спрашивают лишь для того, чтобы ему не следовать, а если ему следуют, то обвиняют того, кто его дает. Чтобы дать совет, нужно поразмыслить, а поскольку я потерял способность соединить две разумные мысли, находясь рядом с вполне заслуживающим одобрения вином и такой прелестной женщиной, как госпожа Бертран, мы попросим у нашей хозяйки позволения пойти порассуждать на свежем воздухе.
При этих словах шевалье де Монгла снял с вешалки свою шляпу и попытался поцеловать хозяйку "Золотого солнца". Та противилась ровно столько, чтобы удвоить цену подобной милости, и старый дворянин, взяв под руку Луи де Фонтаньё, увел его из трактира.
VIII СОВЕТЫ ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОНГЛА
Поддерживая друг друга под руку, шевалье де Монгла и Луи де Фонтаньё сделали несколько шагов.
Затем, видя, что молодой человек хранит молчание и, казалось, не решается начать разговор, шевалье остановился и, пристально глядя ему в лицо, промолвил:
— Итак?
— Итак? — повторил Луи де Фонтаньё.
— Вы желаете получить совет? Так в чем же дело?
Луи подумал, что ему следует действовать дипломатически.
— А вот в чем, — сказал он. — Должно быть, вы помните, как сегодня утром, после счастливого завершения нашего поединка, маркиз пригласил меня отужинать…
— … добавив при этом: "Шевалье де Монгла, позаботьтесь о меню!"
— Да, именно так.
— Ну что ж, когда вы пришли в трактир, вы как раз и застали меня, и можете это засвидетельствовать, за исполнением моих обязанностей.
— Как раз здесь между нами различие: я вот сомневаюсь, особенно после того, что услышал от вас, приступать ли мне к своим обязанностям.
— Вы подразумеваете ваши обязанности сотрапезника или любовника?
— Не вы ли меня убеждали, будто одно не может обойтись без другого?
— Этого я и опасаюсь.
— Но у меня есть еще время, поймите меня, шевалье… Под каким-либо предлогом я могу извиниться и не присутствовать на этом ужине.
Шевалье пристально посмотрел на Луи де Фонтаньё и спросил:
— Искренне ли то, что вы мне тут говорите?
— Вне всякого сомнения, — пробормотал молодой человек.
— Ну что ж, поступайте таким образом: тем самым вы проявите не только геройство, но и благоразумие.
— Как? И подобный совет даете мне вы, шевалье?
— А разве вы не у меня просили совет?
— Да, но я полагал…
— А! Так вы полагали, что я могу посоветовать вам что-то другое?
— Мне казалось, после сказанного вами вчера в клубе, что…
— Как же велик господин Талейран, говоривший, что следует остерегаться первого впечатления!
— Так оно было хорошее?
— Нет, случайно на этот раз оно было плохое, и я замечаю, молодой человек, что вы слишком рано воспользовались моими дурными советами, которые я дал вам в минуту гнева, ведь я тогда подумал про вас, что вы достаточно красивый малый, чтобы сказать, как Цезарь: "Пришел, увидел, победил".
— Признаюсь вам, шевалье, что я совсем не понимаю ваших слов.
— Мне такое известно. Бывают такие минуты, когда я сам не понимаю себя; например, в те довольно редкие, к счастью, промежутки времени, когда мой рассудок берет верх над моим сумасбродством.
— Извольте объяснить.
— Я буду кристально ясен; слушайте меня внимательно, я буду вас поучать… Мое дорогое дитя! Город Шатодён, который знает все, которому известно, что происходит в сердцах его обитателей, равно как и то, что содержится в их кошельках, — город Шатодён вчера единодушно утверждал, будто господину Луи де Фонтаньё не вскружила еще голову ни одна юбка — ни шелковая, ни ситцевая. И я разделял мнение города Шатодёна. Однако, когда вы сами признали, что носите в правом кармане своего жилета безделушку из зеленого и белого шелка, что таким чудесным образом сохранила вам жизнь, я подметил, какие одновременно смущенные и томные взгляды вы бросали на этот предмет, и нашел, что они слишком выразительные, чтобы исходить от человека равнодушного. И тут мне показалось, что под игрой здесь кроется любовь, причем, учитывая мое предисловие, продукт этот должен быть совсем свежим.
— И к какому же выводу вы пришли?
— Я огляделся вокруг и не нашел никого более проворного в делах снабжения, чем Маргарита. А уж когда вы открыто выразили ваше желание встретиться с купчихой, то мне стало очевидным, что такой товар вам подходит.
— Вы предвидите какие-либо затруднения в осуществлении моего желания? — спросил Луи де Фонтаньё; убежденный в исключительности своего плана, он совсем не был раздосадован тем, что оставляет г-на де Монгла в заблуждении.
— Огромные! — отвечал тот.
— Так она сирена, чародейка, волшебница, эта самая Маргарита Жели?
— Да! Именно сирена! Formosa supemem Ибо, хотя я никогда и не видел ее ниже пояса, у меня есть все основания считать, что там у нее рыбий хвост; но что меня тревожит больше всего в отношении вас, мой юный друг, так это вовсе не сама девица, а те, кого ваша связь с нею сделает вашими постоянными спутниками; и, к моему огорчению, что при любых условиях это будет способствовать тому, что юноша, к которому я искренне расположен, собьется с пути.
— Вы очень добры, шевалье, но и меня смущает одно обстоятельство.
— Какое же?
— Ведь те, о ком вы говорите, это и ваши друзья.
— Действительно, прекрасная рекомендация!
— Какие же неприятности я могу испытывать от связи с ними?
— Тысячу в одной!
— И какую же?
— Вам придется свою бедность поставить рядом с их богатством.
— Как бы я ни был беден, — заявил Луи де Фонтаньё, покраснев, — в этих господах я могу видеть всего лишь равных себе, с кем мое положение велит мне поддерживать дружеские отношения.
— Да, я понял теперь: вам нужны истины голые, как рабыни турецкого султана. Что ж, рассчитывайте на меня: я совлеку с них одежды и оставлю их перед зеркалом. Звание дворянина, в которое, как я прекрасно вижу, вы верите, это золотая монета, изготавливаемая из медных кружков; ценности у нее не больше, чем у талисмана; но, поскольку дворянин повержен на землю вместе с донжонами своих предков, не следует полагать, что нивелировщики выровнили почву, как они утверждают; их косы зазубрились о замковые камни сводов, об изваяние золотого тельца, и, пав ниц у его ног, они стали трудиться на него, они стали во сто крат преувеличивать его значимость; равенство столь же несбыточно в наше время, как и во времена наших отцов; нет больше знати и простолюдинов, но остаются богатые и бедные, и я полагаю, что поборники равенства скорее проиграли, чем выиграли… Родовая аристократия была, по сути, неплохой чертовкой; сколько раз я мог видеть, как ученость, талант и даже злонравие служили к ее выгоде! Числа — это отвлеченные понятия, рядом с которыми даже сам рассудок имеет жалкий вид: богатство и есть число; и если у вас нет звонкой монеты, которую вы можете противопоставить тем деньгам, что оно вам демонстрирует, вам придется платить разного рода подлостями, низостями и унижениями. Вас такое прельщает, мой юный друг? Говорите; у меня в памяти найдется много того, что вызовет у вас отвращение, ибо уже давно у меня более нет другой монеты. Напрасно вы будете вдыхать жизнь в ваше почившее дворянство: вам не оживить его, оно мертво, и мертво бесповоротно! Вы перешли из первого сословия в последнее; так примите же мужественно свою участь, как принимали участь оставаться простолюдинами те, кому не на что было купить дворянское звание; не рядитесь же в пороки, которые будут так же смешны на вашем челе, как таз брадобрея на голове Дон Кихота; раз вы бедны, раз вам нужно содержать мать, выдать замуж сестру, завоевать себе положение в обществе, подумайте обо всем этом и смиритесь, что вам следует быть трудолюбивым, бережливым и добродетельным; это неприятно, я понимаю; но с тех пор как стоит свет, эти три качества были уделом обираемого люда, к которому вы отныне принадлежите.
— Позвольте, шевалье, — сказал Луи де Фонтаньё, удивленно глядя на г-на де Монгла, — я вас больше не узнаю; у меня такое впечатление, словно я вижу перед собой одного из семи греческих мудрецов.
— Мое дорогое дитя, — произнес шевалье, кладя руку на плечо Луи, — когда передо мною нет ни юбки, ни бутылки, ни зеленого сукна, я поражаюсь здравомыслию, которое Бог вложил в мою голову; но уж поверьте мне, об этом здравомыслии я не уведомляю весь свет.
— Тем более я в долгу перед вами. Чем же я заслужил такое исключительное право?
— Вы мне понравились.
— В самом деле? — промолвил Луи де Фонтаньё, не в силах удержаться от смеха.
— Что же здесь удивительного? Любовницу выбирают по внешнему виду, так отчего же и друга не выбрать по тому же признаку? К тому же я еще и признателен вам, черт возьми! Вы стали для меня deus ex machina.
— Опять!.. Будет, господин де Монгла!..
— Вы не верите в мою признательность? Тем хуже! Чтобы пробить себе дорогу, нужно трудиться; чтобы трудиться, нужно любить жизнь; чтобы любить жизнь, необходимы иллюзии, только они не должны быть ни слишком длинными, ни слишком короткими — это как юбки у танцовщиц… Итак, мой юный друг, я преподнес вам урок; ступайте прочь; на вашем рабочем столе ждут разборки занятные короткие послания мэров, ждут изучения превосходные отчеты сельских стражников. Отчизна призывает вас! Идите же, спасайте Францию, а мне позвольте губить мою душу и все остальное!..
— Сожалею, что я так плохо соответствую вашей заботливости, шевалье, но я решительно настроен воспользоваться приглашением маркиза и занять свое место за его обеденным столом. Но, чтобы успокоить вашу совестливость, даю вам слово, что вовсе не так уж подвергаюсь опасности, как вы полагаете.
— Гм! — произнес г-н де Монгла. — В ваших словах чувствуется тайна; это словно полуоткрытая дверь подвала. Но тем не менее Боже меня сохрани выведывать ваш секрет!
— Мой секрет вы уже угадали, — сказал, смеясь, Луи де Фонтаньё. — Я безумно влюблен в Маргариту!
— Мой добрый друг, когда безумно влюблены в женщину, об этом не говорят, и тем более не говорят смеясь.
— Что поделаешь! Такая уж у меня привычка!
— Прекрасно! И вы не нуждаетесь в моих советах?
— Решительно нет, шевалье.
— Что ж, тем лучше!.. Вот мы и вернулись к дверям господина Бертрана, и я оставляю здесь свой добродетельный совет на милость непогоды; мудрость моя мерцает, как две сальные свечи, освещающие витрину нашего хозяина, и рассеивается, как туман на утреннем солнце! Мысли мои, напротив, принимают розоватый оттенок шампанского, горло мое пересыхает, а несколько оставшихся луидоров бренчат в кармане моего жилета в ожидании минуты, когда они пойдут в ход. Кто тут говорил о бедности и богатстве? Неравны на этом свете лишь вместимости наших желудков и сила наших страстей. Да, но с этой стороны, слава Богу, нам не на что жаловаться, не так ли, господин де Фонтаньё? Истинный Боже! Не проводить же ночь среди бумажного хлама, когда нас ждут добрые вина, красивые женщины и азартная игра!.. Черт побери! Мой юный друг, подобно господину де Конде при Рокруа, я бросаю свой жезл во вражеские ряды, и — вперед!
Хотя Луи де Фонтаньё и был готов к такой внезапной перемене самим г-ном де Монгла, он все же задавал себе вопрос, не повредился ли слегка в уме его спутник.
— Ну что ж, пусть будет так! — продолжал шевалье. — Влюблены вы или нет в Маргариту — заметьте, мне это совершенно все равно, — она станет вашей любовницей! Не пить мне никогда ничего кроме воды, не испытывать мне никогда женскую ласку, если рано или поздно я не закрою за вами дверь в ее спальню! И к тому же я уже целые сутки горю желанием увидеть, как этот мнимый повеса д’Эскоман воспримет подобную новость.
Несколько испуганный торжественностью этих клятв, Луи де Фонтаньё последовал за г-ном де Монгла по винтовой лестнице, которая вела на третий этаж дома; старый дворянин преодолел эту лестницу с такой энергией и бодростью, что от этого не отрекся бы герой, свое сходство с которым он только что столь удачно установил.
IX ГЛАВА, В КОТОРОЙ ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОНГЛА ПРЕПОДНОСИТ СВОЕМУ МОЛОДОМУ ДРУГУ УРОК ЛОВЛИ РЫБЫ НА УДОЧКУ
Господин Бертран охотно бы добавил к золотому солнцу, украшавшему вывеску его заведения, девиз великого короля: "Nec pluribus impar".
Он искреннейшим образом восхищался тем, что сам называл залой этих господ, и без ложной скромности заявлял, что даже в апартаментах супрефектуры невозможно было отыскать в Шатодёне более богатой и с большим вкусом подобранной меблировки, чем та, которой обставила эту залу г-жа Бертран.
Состояла эта хвалёная меблировка из двух козеток, шести кресел и двенадцати стульев красного дерева, слегка потускневшего от использования (все это было обтянуто малиновым сукном с черным рисунком), а также большого стола, тоже красного дерева; стол был покрыт скатертью, достаточно щедро пропитанной жиром, чтобы можно было судить об оказанных на нем гастрономических услугах.
Окна были задрапированы ситцевыми занавесями с рисунком красного и черного цветов, украшенными желтой каймой, которая сама была отделана того же цвета кистями в виде бубенчиков; эта кайма и бахрома были и на подхватах занавесей. На стенах висели две растушеванные скверные батальные литографии в рамках из папье-маше: "Мазепа" и "Избиение мамлюков". На камине стояли часы из позолоченной бронзы, изображавшие Психею за туалетом: платье обтягивало богиню, как панталоны — гусара, а ее короткий стан охватывали крылья бабочки; рядом с ней простодушный скульптор поместил некий предмет, вид которого служил темой ежедневных насмешек тех, для кого была предназначена эта зала. Таковы были чудеса, которыми так гордился г-н Бертран.
Луи де Фонтаньё обнаружил здесь кое-кого из тех, с кем он уже встречался в шатодёнских гостиных, но Маргариты Жели пока не было видно.
Господин де Монгла сообщил ему, что любовница г-на д’Эскомана была одной из обитательниц дома, которых г-н Бертран невольно вынужден был терпеть, и жила она на том же этаже; в ту самую минуту, когда шевалье заканчивал свои объяснения, в дверях гостиной появился маркиз: он вел за руку молодую женщину, и Луи де Фонтаньё принялся с живейшим любопытством рассматривать ее.
Маргарите Жели было двадцать пять лет, она была красива, но красота ее была сугубо телесной и совершенно отличалась от пленительной утонченности, свойственной облику г-жи д’Эскоман. Черты лица ее были безупречно правильны и резко очерчены; ее черные, с широким разрезом глаза, всегда влажные, были лишены своеобразия из-за присущего им выражение сладострастия; они источали истому даже в самые обычные минуты жизни той, кому они принадлежали. Маргарита воспользовалась соседством своей комнаты с гостиной и предстала перед посетителями в домашнем платье, которое она предпочитала праздничным нарядам, поскольку в нем она выглядела еще красивее. На ней был халат из бледно-голубого шелка с алой подкладкой; его весьма глубокий вырез не позволял утаить ничего из великолепия ее груди и плеч, белых и гладких, как мрамор. В содействующих этому складках ее пеньюара вырисовывалось широкое и сильное тело, которое ни в чем нельзя было упрекнуть, за исключением того, что его запястьям и лодыжкам недоставало тонкости; кроме того, чересчур запоздавшая праздность бывшей гризетки не смогла снять загар с ее рук, и фаланги ее пальцев хранили узлы и морщины, оставленные на них работой.
Едва она показалась на пороге гостиной, как раздались крики восхищения среди собравшихся там молодых людей, у многих из которых были свои причины польстить г-ну д’Эскоману, восторгаясь его любовницей.
Луи де Фонтаньё сохранял сдержанность.
Каждый мужчина за свою жизнь боготворит и превозносит поочередно разные типы женской красоты; страсть и даже мимолетное увлечение, по сути, столь избирательны, что, пока для них длится царствование одного из этих типов, оно не оставляет места даже заурядному, даже вызванному воспоминанием о прошлом восхищению чем-нибудь еще.
Образ маркизы д’Эскоман заполнял сердце и мысли Луи де Фонтаньё; он оказался предвзятым судьей красоты Маргариты, тем более что победа над ней казалась ему легкой, и, со слов шевалье де Монгла, прекрасную шатодёнскую куртизанку не приходилось долго уговаривать.
Ему казалось невозможным, что он не сумеет убедить маркиза в его ошибке и это пошлое создание послужит препятствием к тому, чтобы вернуть его, смиренного и кающегося, к ногам восхитительнейшей из женщин.
Он чувствовал себя исполненным рвения приняться за дело, начать которое еще несколько мгновений до этого ему было довольно страшно.
Луи де Фонтаньё не был единственным, кто наблюдал за молодой парой; г-н де Монгла также не терял ее из поля зрения. Когда г-н д’Эскоман и его спутница заметили среди гостей Луи де Фонтаньё, маркиз приветствовал его улыбкой, глаза же прекрасной шатодёнки сделались еще более томными, а щеки ее заалели, и шевалье стал радостно потирать руки.
Маркиз д’Эскоман представил Луи де Фонтаньё Маргарите. В манерах маркиза ничего не оставалось от напускной веселости и беззаботности, с какими он утром обращался к жене; он был серьезен и со своей любовницей держал себя чуть ли не уважительно; по тому, как он заботился сгладить двусмысленность ее положения и возвысить ее в глазах своих друзей, было видно, несмотря на выказываемый им скепсис, что молодой дворянин полностью находится под влиянием этого прекрасного образчика мещанской чувственности.
— Итак, какого вы мнения? — спросил маркиз, проводив Маргариту к креслу и вернувшись к Луи де Фонтаньё.
— О чем вы спрашиваете?
— О Маргарите, черт побери!
— Если уж следует быть искренним, я признаюсь, не имея намерений проводить тут сравнение, которое будет совершенно неуместным, что мое утреннее знакомство с госпожой маркизой вредит вечернему знакомству с этой барышней.
— Странный же у вас вкус! — заметил г-н д’Эскоман с таким безразличием, как будто говорили о посторонней женщине, а не о его собственной жене, однако на лице его промелькнули подозрительность и недоверие.
Слова маркиза раскаленным железом коснулись сердца молодого человека, и он почувствовал к Маргарите жгучую ненависть; могли он простить ей, что ее пытаются противопоставить его солнцу?
Маркиз д’Эскоман, толи успокоенный этим пренебрежительным отзывом Луи де Фонтаньё, то ли не желая выставлять себя в смешном виде из-за своей ревности, потребовал, чтобы молодой секретарь на правах героя дня занял за обеденным столом место рядом с Маргаритой.
Утверждают, будто испытываемые нами чувства имеют особый характер, когда они находят свое словесное выражение, характер, который легко распознать; что бы там ни говорили, если дело касается любви, ничто так не бывает похоже на правду, как ложь; и женщины скорее поддаются лжи, нежели правде, ведь ложь, из боязни показаться невыразительной, без стеснения пользуется преувеличениями, которые нравятся им более всего.
В своем рвении достойно исполнить принятую им на себя роль, Луи де Фонтаньё одолевал красавицу-соседку самой многозначительной услужливостью и самыми восторженными комплиментами.
К его великому удивлению, Маргарита оставалась холодной и сдержанной, отвечая ему ничего не значащими словами, так что молодому человеку с большим трудом удавалось поддерживать с ней разговор на том же уровне, на каком он начал его.
Зато г-н д’Эскоман сурово нахмурил брови, видимо желая тем самым показать, что поведение его нового друга ему малоприятно.
По окончании ужина, когда г-н Бертран с прислугой заменяли скатерть на зеленое сукно, шевалье де Монгла подошел к Луи де Фонтаньё, пребывавшему в совершенной растерянности от полного достоинства и сдержанности поклона, каким удостоила его молодая шатодёнка, когда он проводил ее от стола.
— Ну, так как идут ваши дела? — спросил старый дворянин у секретаря.
— Плохо, — с улыбкой отвечал Луи де Фонтаньё. — Я считаю, что вы оклеветали мадемуазель Маргариту.
— Полно! Давайте-ка продолжайте… но только не так, как начали. Мужчины весьма тщеславны, иначе говоря, они весьма глупы! Конечно же, я обобщаю, и вы не имеете права оскорбляться моим мнением. Чтобы выручить сотню су, сбывая какой-то хлам, они проявляют чудеса дипломатии, как если бы продавали целый народ или возводили на престол короля, но лишь только дело коснется их тщеславия, они не хотят понять, что мало сказать: "Я этого очень хочу!", чтобы их поймали на слове.
— Вы хотите сказать…
— … что вы проявляете чересчур много услужливости, — продолжал шевалье. — Кстати, вы не увлекаетесь ловлей рыбы на удочку?
— Нет, но к чему такой вопрос?
— А к тому, что умение удить могло бы помочь в вашем положении. Вот вы видите, как плавают чудесные рыбки, вы уже предвкушаете, как будете лакомиться ими, приготовленными под винным соусом, вы бросаете им под нос приманку, водите ею от их головы до основания хвоста, а они — никакого внимания. Тут вы притворяетесь, будто хотите выдернуть удочку, и они набрасываются на наживку с такой жадностью, что крючок вонзается им до самого горла. То же самое и женщины, любезный мой друг.
— Я воспользуюсь вашими советами, шевалье, но, признаюсь, надежды мои значительно уменьшились за последний час.
— Но вы ведь не сделали по отношению к Маргарите то, что делали сегодня утром, стоя напротив этого милого д’Эскомана? В глаза! Всегда нужно смотреть в глаза и другу и противнику. А женские глаза слишком поздно постигают умение лгать.
— Ваши слова придают мне чуточку храбрости, а мне она сейчас так нужна, ибо я уже почти отказался от этой победы, хотя вы не можете себе представить, какую цену я ей придаю.
— Вероятно, вы дали обет какой-нибудь святой?
— Возможно.
— Ну что ж, признаюсь вам, всему здесь происходящему я придаю такое же значение, как и вы, хотя, вероятно, руководствуюсь иными мотивами.
— Благодарю вас, шевалье, и если я со своей стороны могу чем-то услужить вам…
— Вы вполне можете это сделать… Вы когда-нибудь играли в карты?
— Никогда.
— Тем лучше! Вот оставшиеся у меня двадцать пять луидоров; естественно, они принадлежат вам, поскольку это вы мне их одолжили; тем не менее я отдам вам пока только двенадцать с половиной, а остальные предоставлю вам во временное пользование; я верю в счастье, которое улыбается начинающим; это старое суеверие игрока, и я буду чрезвычайно вам признателен, если вы меня за это простите; играйте, и мы поделим выигрыш на двоих.
И шевалье де Монгла вместе с Луи де Фонтаньё сели рядом за карточный стол.
Маргарита стала возле своего любовника и не без позерства проявляла по отношению к нему те нежности, какие хорошо воспитанные женщины приберегают для супружеской спальни, в то время как для других женщин подобные нежности служат прилюдным утверждением счастья, которым они гордятся.
И только тут, когда Маргарита стала запечатлевать поцелуи на щеках своего любовника, Луи де Фонтаньё впервые заметил, что она в самом деле смотрит в его сторону, и ему показалось, что в ее полузакрытых глазах, влажных от неги и истомы, мелькнула огненная вспышка, направленная совсем не туда, куда тянулись губы молодой женщины.
Вследствие удивительной игры случая надежды г-на де Монгла на дебют его молодого друга осуществились; постоянное, непрерывное везение благоприятствовало первым шагам Луи де Фонтаньё. Ему удавались самые рискованные ходы, и наиболее безумные пароли оборачивались в его пользу; перед ним росли груды золота, серебра и банковских билетов всех игроков, но, несмотря на лихорадку, охватившую его при прикосновении к картам, несмотря на пары прохладительных алкогольных напитков, которые г-н Бертран лично разносил своим гостям, несмотря на подстрекательства его товарища, наэлектризованного таким необычайным везением, молодой человек принимал выпавшую ему удачу с искренним неудовольствием. Он понимал, что еще один подобный выигрыш может толкнуть его на путь, к которому он испытывал отвращение.
Хотя г-н д’Эскоман был прекрасным игроком, огромный проигрыш, большая часть которого легла на него, вывел его из свойственного ему хладнокровия.
— Двести пятьдесят луидоров на слово, — сказал он, проиграв все деньги, какие у него были при себе.
— Сколько вам будет угодно, мой дорогой маркиз, — отвечал Луи де Фонтаньё, бросив на сукно две фигуры, из которых последняя уже столь часто выпадала перед этим, что можно было предположить, будто она уже исчерпала себя в талии.
— Объявлять слишком поздно! — воскликнул шевалье, находивший, что его юный друг плохо защищает интересы их союза. — Ей-Богу, вы рискуете, господин де Фонтаньё!
— На самом деле я стыжусь удачи, преследующей меня сегодня, — возразил молодой человек.
Он раскрыл третью карту: она была подобна второй и он опять выиграл, не сумев при этом скрыть своей досады.
— Браво, мой дорогой друг! — радостно воскликнул шевалье де Монгла. — А теперь рассердитесь на удачу, покажите ей, как мало вы цените ее милости; она ведь женщина, и лишь с еще большей настойчивостью станет преследовать вас.
Маргарита с некоторым удивлением заметила, что Луи де Фонтаньё резко изменил свое поведение по отношению к ней; не усмотрев в этом никакой тактической уловки, она заподозрила, что молодой человек упал духом, и попыталась испробовать косвенные приемы, чтобы оживить это столь быстро угасшее пламя. В ней было слишком много женского, чтобы чары золота не оказали на нее воздействия; мало-помалу она стала окидывать одним и тем же страстным взглядом и богатства, скопившиеся на столе, и их счастливого обладателя. Услышав слова г-на де Монгла, Маргарита покраснела, опустила свои длинные ресницы и, казалось, сосредоточила все свое внимание на карте, в которую она втыкала булавку.
— Сто пятьдесят луидоров! Ставка сто пятьдесят луидоров! Кто ставит сто пятьдесят луидоров? — кричал г-н де Монгла, подражая визгливому голосу крупье.
— Я ставлю, — откликнулся г-н д’Эскоман, лицо которого, то бледное, то багровое, а также непомерно раскрытые глаза и прерывистое дыхание свидетельствовали о его глубоком волнении.
Поклоном головы Луи де Фонтаньё выразил свое согласие.
То, что он испытывал в это мгновение, напоминало головокружение; он хотел проиграть, но чувствовал, что душа его, не повинуясь ему, ускользает и уступает всесилию страсти; он не мог совладать с мучительной тревогой, сжимающей сердца всех игроков; он забыл Маргариту, и образ Эммы, который он пытался воскресить в своей памяти, представлялся ему неясным и окутанным завесой тумана.
Воцарилось торжественное молчание; слышен был лишь шелест карт, скользящих одна по другой.
Удача и на этот раз отвернулась от г-на д’Эскомана.
На него было страшно и жалко смотреть.
Взяв Маргариту за руку, он сказал ей:
— Пойдемте.
Молодая женщина не тронулась с места, продолжая вертеть между пальцами карту, на которой она наколола булавкой какие-то знаки.
— Да нет же, я желаю остаться и испытать, не будет ли везение господина де Фонтаньё более учтиво со мной, чем с вами.
— На кону тысяча луидоров! — напыщенно прокричал г-н де Монгла.
— А почему бы не все сокровища Перу, Монгла? Я куда скромнее и домогаюсь лишь браслета, давно уже обещанного мне д’Эскоманом. Надеюсь, господин де Фонтаньё согласится принять ставку в двадцать пять луидоров — стоимость моего браслета.
— У вас нет больше денег, — нетерпеливо произнес г-н д’Эскоман.
— Как, впрочем, и у вас сегодня… но завтра… И в ожидании завтрашнего дня, я уверена, господин д’Эскоман не откажет моему талисману.
При этих словах она бросила перед Луи де Фонтаньё согнутую вчетверо карту.
— Рыбка клюнула, — тихо сказал г-н де Монгла своему соседу, — готовьтесь ее подсечь.
Отчаянная надежда, остающаяся у игроков, когда они проигрывают последний экю, уязвила маркиза в самое сердце; рассудок подсказывал ему удалиться, а страсть заставляла его искать предлог, чтобы остаться, но в подобном случае страсть всегда берет верх. Он объявил, что ставит еще тысячу луидоров.
Счастье и на этот раз не изменило двум союзникам.
— Увы, прощай, мой красивый браслет! — со вздохом произнесла Маргарита, отходя от стола.
Господин де Монгла подтолкнул Луи де Фонтаньё коленом.
— Нет, — сказал молодой человек Маргарите, — вы ведь не захотите, чтобы к угрызениям совести, которые оставляет во мне сегодняшний вечер, добавилось еще одно, и, если господину д’Эскоману будет угодно мне это позволить, завтра же я надену браслет на вашу руку.
— Как жаль, что вы не миллионер! — сказал г-н де Монгла достаточно громко, чтобы его слова могла слышать Маргарита. — При тех склонностях, какие я в вас отмечаю, хорошо быть вашей любовницей или вашим другом!
Господин д’Эскоман сделал вид, что он не понял этих слов. Он поцеловал Маргариту в знак вечернего прощания и одновременно приказания удалиться; затем, словно впав в оцепенение, он принялся с каким-то машинальным неистовством тасовать карты; наконец, встав из-за стола, он объявил, что отправляется за деньгами и тотчас же вернется.
Последний проигрыш д’Эскомана, как и его уход, вызвали волнение среди собравшихся, и все воспользовались этой минутой, чтобы перевести дух.
Господин де Монгла собрал кучу золота и банкнот, лежавших на столе перед Луи де Фонтаньё, и унес их в будуар, примыкавший к гостиной; разложив их там на круглом столике, он добросовестно разделил выигрыш на две части.
— Какая чудесная вещь игра! — воскликнул он, пересыпая золотые монеты между пальцами и судорожно комкая банкноты. — Смотрите, же, Фонтаньё: это отнюдь не дурацкий металл и не ничтожные бумажки; в них заключен целый мир счастья и наслаждений; и он весь здесь, в ваших руках: тут и молодость и любовь, тут и удовольствия и дружба… Ах, как прекрасно жить в этом мире!
Но вдруг он заметил, что его молодой друг не обращает особого внимания на небольшое богатство, доставшееся ему по разделу, а стоит, облокотясь, у окна, и мечтательно смотрит на звездное небо.
— Вы не слушаете меня, — продолжал шевалье. — Только не говорите мне, будто хотите спать, иначе я лишу вас звания своего друга; сон — это предрассудок.
— Когда выигрывают, — с улыбкой ответил Луи де Фонтаньё.
— Своими рассуждениями вы сами себе выносите приговор: вы никогда не станете игроком, — сказал г-н де Монгла с подлинным состраданием в голосе. — Но, увлекшись восторгами, я совсем позабыл, что вы влюблены; это, без сомнения, служит вам оправданием, плохим, конечно, но все-таки оправданием… Кстати, — добавил он, указывая на стену, — она здесь!
— О ком вы говорите?
— О Маргарите, черт побери! Вас отделяет от нее простенькая перегородка, а вот и денежки, которые приблизят вас к ней, — добавил он, показывая на кучу банкнот, — если только добрая часть пути уже не пройдена. Не желаете ли, чтобы я постучал в стену и замолвил о вас словечко?
— Не смейте и думать об этом! Разве д’Эскоман сейчас не у нее?
— Да разве вы не слышали, что он отправился домой наполнить свой кошелек? Маргарита порой опустошает его, но законная супруга прекрасного Рауля всегда его пополняет.
При этих словах туман поплыл перед глазами молодого человека: уже не презрение, а отвращение испытывал он к золоту, выигранному им у маркиза.
— Э-э! — воскликнул г-н де Монгла, не переставая и взглядом и осязанием наслаждаться своим золотом. — Среди моих банкнот очутилось то, что не должно входить в мой выигрыш.
— Что же это?
— Талисман Маргариты, черт побери!
— Разорвите его. Не предполагаете же вы, будто я хочу принять двадцать пять луидоров в обмен на браслет, который я ей предложил?
— Конечно, нет, но все, что исходит от того, кого любишь, имеет ценность; так что сохраните это… Позвольте, мне кажется, что на этой бумажке, брошенной вам с таким равнодушием, что-то написано.
Господин де Монгла развернул карту; в самом деле, проколы булавкой не были разбросаны на ней случайным образом: они образовывали хорошо различимые буквы, складывавшиеся в одно слово: "Любите".
— Черт возьми! — воскликнул г-н де Монгла. — Рыбка более прожорлива, чем я предполагал. Теперь, когда вы ее поймаете, мой друг, останется только положить ее на блюдо.
X О ХРУПКОСТИ ДОБРОДЕТЕЛИ, КОГДА В ДЕЛО ВМЕШИВАЕТСЯ ДЬЯВОЛ
Господин де Монгла подошел поближе к Луи де Фонтаньё, все еще стоявшему у окна.
— Ну что ж, — отвечал тот на реплику шевалье, — как бы ни была чудесна эта рыбная ловля, я, тем не менее, не отведаю рыбки.
— Может быть, вы рассчитываете, что я буду лакомиться ею? В таком случае вы ошибаетесь: тут остается лишь мое желание, но, чтобы там ни говорили мудрецы, его одного недостаточно.
Затем, заметив, что Луи де Фонтаньё бережно держит в руках карту с посланием Маргариты, он продолжал:
— Вот как! Господин гордец, скажите мне тогда, почему вы храните как реликвию этот автограф, если он так мало значит для вас?
— Это первый вексель, выданный под здравомыслие господина д’Эскомана; еще один или два подобных ему, и, не сомневаюсь, он уплатит по ним.
— Ну, если вы заговорили загадками, я ухожу не прощаясь с вами.
Луи де Фонтаньё был в восторге от своего успеха; то, что случилось, превзошло его мечтания, и он вошел во вкус происходящего; задача его облегчалась до такой степени, что ему стало стыдно столь легко завоевывать любовь, которой он приписывал такую высокую цену. От ощущения счастья — а возможно, и от винных паров — он начал откровенничать.
— Вы слишком благосклонны ко мне, шевалье, чтобы я мог делать для вас тайну из моих намерений, — начал он. — Я тем менее расположен к этому, что мои намерения вполне сочетаются с вашими благоразумными советами, которые вы пытались внушить мне сегодня вечером.
— Черт возьми! Мой мальчик, не будем здесь говорить о благоразумии; сейчас не та минута, чтобы проявлять неблагодарность к безумию, принесшему нам сегодня вечером такой успех.
Луи де Фонтаньё не дал смутить себя этой шуткой и продолжал:
— Если вам и показалось, будто я грежу о мадемуазель Маргарите, то это просто потому, что я хочу доказать несчастному д’Эскоману, что он попался на удочку этой девицы, недостойной его, и что ради нее он безрассудно пожертвовал самой целомудренной и самой очаровательной женщиной.
Господин де Монгла вздрогнул, ударил себя по лбу и простер руки к Небу, как человек, запутавшийся в своих предположениях и увидевший, что действительность вышла за пределы возможного. Он собирался уже было ответить, но в это время их несколько раз окликнули; они отошли от окна и вернулись в гостиную. Однако лицо старого шевалье выражало такое глубокое изумление, что каждый из присутствующих обращался к нему с вопросом, не случилось ли с ним чего-нибудь.
— Не пугайтесь, господа, — отвечал он. — Господин де Фонтаньё оказал мне честь сообщить свои взгляды на стрельбу дуплетом, чем сильно озадачил меня: с некоторого времени я стал весьма впечатлительным.
В большинстве романов игроки, не выпуская из рук карты, никогда не упускают случай щегольнуть остроумием; на самом деле у игрока на это нет времени: игра это всепоглощающий недуг, вроде морской болезни.
Молчаливые и мрачные, сотрапезники г-на де Монгла сосредоточили все свое внимание на атаках и ответных ударах: у них это была уже не просто страсть, а исступление. Глядя на них, можно было сказать, что происходит один из тех яростных поединков, столь обыкновенных в XVI и в XVII столетиях, когда одна шайка дворян нападала на другую. Только теперь позвякивание монет пришло на смену бряцанью шпаг, игорные термины — на смену насмешкам, озлобляющим противника, а некоторые междометия, срывавшиеся с досады из уст проигравших, — на смену хрипам умирающих.
Один лишь г-н де Монгла выделялся в этом обществе: он был спокоен, высокомерен, хладнокровен, и все же он проигрывал.
Странное и тем не менее часто встречающееся противоречие: человек, которого в первой половине вечера видели по-детски радовавшимся выигрышу, теперь проявлял необыкновенное безразличие к своему невезению. Он отодвигал от себя проигранные деньги с равнодушием генерала, закаленного в огне баталий, и созерцал свое поражение с философией стоика.
Более того, проигрыш не занимал его настолько, чтобы он мог забыть выслушанное несколько минут назад откровение Луи де Фонтаньё, и, встречаясь с молодым человеком взглядом, старый дворянин незаметно подмигивал ему, тем самым откровенно выражая личное мнение по поводу сентиментального донкихотства своего юного друга.
Менее чем за полчаса он проиграл все свое золото и все свои банкноты, еще несколько минут назад казавшиеся ему целым состоянием.
Он встал из-за стола и взял шляпу.
Последовал общий возглас изумления.
— Это невозможно, Монгла! — воскликнул маркиз д’Эскоман. — Неужели вы намереваетесь уйти первым?
— Я ухожу с чистыми руками, мой дорогой маркиз, — отвечал шевалье, ударяя по карманам своего жилета.
— Ба! Вы же прекрасно знаете, мы послужим вам опорой во всем, что вам угодно, — сказал маркиз, к которому вернулось доброе расположение духа, потому что он успел частично отыграться.
— Я бы поверил вашим словам, маркиз, если бы вы ранее не осмелились откровенно сказать мне противное.
— Монгла, удар шпаги этого бедняги Гискара совсем не унял вашего дурного настроения; вы затаили на меня злобу из-за моей досадной позавчерашней шутки; но меня такое не устраивает: я в присутствии всех приношу вам мои решительные и искренние извинения! Да хранит меня Господь от ссоры с человеком, который позволил мне отыграть назад тысячу луидоров! Если вы решили вести себя по-обывательски, то мы не позволим вам уйти, по крайней мере не произнеся тост за ваше здоровье, — пусть он дополнит мои уже принесенные вам извинения. Выпьем, господа, за достойного образчика старшего поколения, за этого доблестного представителя прежних прожигателей жизни, за господина шевалье де Монгла!
Тост был встречен восторженно.
— Вы и в самом деле слишком добры ко мне, — отвечал шевалье. — Я дряхлею и скоро умру, но меня утешает то, что традиции старого доброго времени не утеряны, что после меня остаетесь вы, чтобы служить примером будущим поколениям и бороться против дурного вкуса нашей эпохи, которая превращает игру в дело, вино — в дурман, а доступных женщин — в предмет любви!.. Выпьем за того, кто восстановит все это, за д’Эскомана!
Маркиз не уловил оттенка иронии, сквозившей в словах шевалье; казалось, он был совершенно горд лестным суждением о нем, высказанным таким знатоком традиций.
Луи де Фонтаньё хотел было непременно проводить г-на де Монгла; он горел нетерпением услышать его мнение, которое тот пока выражал лишь жестами; старый дворянин, прочитав это желание в глазах молодого человека, приблизился к нему и, склонившись над его плечом, шепнул:
— Прощаюсь с вами до завтра. Но обещайте мне ничего не предпринимать до того времени, как вы со мной увидитесь.
— Но когда же я снова увижусь с вами?
— Разве я не сказал вам только что? Завтра.
Когда за г-ном де Монгла закрылась дверь, маркиз д’Эскоман сделал знак игроку, державшему банк, подождать несколько минут перед продолжением партии.
— Господа, неужели вы поверили предлогу, под которым он бросил игру? — воскликнул он. — Да просто у него есть более приятное занятие. Послушайте, я подозреваю, что это любовное свидание, и не иначе как с хозяйкой дома, с обворожительной госпожой Бертран! Давайте-ка прислушаемся: бьюсь об заклад, что мы не услышим звука закрывающейся входной двери.
Воцарилось молчание, и, действительно, прошел значительный промежуток времени, но ни один звук не донесся до третьего этажа, где находились гости.
Догадка маркиза стала выглядеть совершенно правдоподобной.
Гости принялись понемногу высказывать самые невероятные предположения: одни предлагали застигнуть г-на де Монгла врасплох, другие — предупредить г-на Бертрана, но по своей решимости они напоминали мышей из басни: приключение г-на де Гискара слегка придавало старому дворянину облик Родилара.
Мало-помалу игра взяла верх над любопытством, и вновь послышался ритмичный шелест карт, падавших на сукно.
— Тсс! — произнес вдруг один из самых молодых гостей. — Д’Эскоман прав, я только что слышал на лестнице скрип башмаков и шорох платья.
Тут же пять или шесть молодых людей непроизвольно вскочили со своих мест и устремились на лестничную площадку, но было уже поздно: входная дверь повернулась на петлях и тихонько закрылась.
Тьма на улице была такая беспросветная, а члены городского управления соблюдали такую строгую экономию на уличном освещении, что те из гостей, кто выглядывал из окон, смогли заметить лишь тень, погрузившуюся в темноту, но при этом нельзя было различить, мужская это тень или женская и кому она принадлежала — двум человекам или одному.
Поскольку сделать что-нибудь более злокозненное было невозможно, на отсутствующего шевалье посыпались язвительные насмешки; затем из-за постоянных перерывов в игре, усталости удалось сделать свое дело, и гости заговорили о том, что пора расходиться.
Перед тем как покинуть дом Бертрана, г-н д’Эскоман осторожно постучал в дверь Маргариты, находившуюся на том же этаже, что и гостиная, где проходил ужин.
Ключ находился в замке, но изнутри комнаты никто не ответил.
"Она уже спит", — подумал г-н д’Эскоман, догоняя своих друзей.
Луи де Фонтаньё проводил маркиза до его особняка; г-н д’Эскоман ушел к себе, и молодой человек остался на улице один.
Как ни мало он был привычен к бессонным ночам, впечатления прошедшего дня и завершившегося вечера разожгли его чувства и взбудоражили его воображение; лихорадочное состояние, придавшее ему физические силы, десятикратно умножило остроту его чувств; он ходил взад и вперед под огромными мрачными стенами, за которыми жила маркиза, и под властью испытываемого им возбуждения его страсть и его мысли начали понемногу претерпевать изменения.
При виде света, мелькавшего последовательно во всех комнатах дома, — несомненно, это г-н д’Эскоман освещал себе дорогу в спальню, — Луи де Фонтаньё впервые ощутил мучительную ревность.
Где же остановится этот свет?
Неужели тот, кто нес его, имел право проникнуть и в заветный альков, который в данную минуту обладал в глазах молодого человека святостью скинии?
И тогда его воображение безжалостно нарисовало ему без всяких завес и покровов картину, заставившую его дрожать от ярости и бледнеть от зависти.
Любовь г-на д’Эскомана к Маргарите была единственным заслоном, защищавшим его кумир от осквернения, но не он ли сам собирался разрушить этот заслон?
С той минуты, когда эгоистическая мысль запала в его душу, его неистовая страсть открылась, освободившись от всего наносного, от дымки идеала, в которой ему до этого нравилось видеть ее парящей.
Кровь ударила ему в голову и вызвала у него полуобморочное состояние; она билась в его артериях с такой силой, что он задыхался.
Он намеревался бежать от этого соседства, вызвавшего такое страшное смятение в его мыслях, и уже бросил последний взгляд на этот дом, как вдруг услышал женский голос, говоривший ему:
— Мне необходимо с вами поговорить, сударь.
В волнении, в котором он находился в этот миг, не имея ни секунды на размышления, Луи де Фонтаньё мог принять эту женщину только за маркизу; он был уже близок к обмороку и судорожно оперся на руку, опустившуюся на его грудь.
Женщина сделала резкое движение, отступая, при этом с ее головы упал капюшон накидки, и молодой человек узнал в ней не жену г-на д’Эскомана, а его любовницу.
— Маргарита? Здесь? В такой час? — воскликнул он.
— Без сомнения, — отвечала та. — Я считала важным увидеть вас сегодня же вечером. Принять вас у себя у меня нет никакой возможности, где вы живете — не знаю, и я решилась идти следом за вами.
— Не могу ли я, мадемуазель, узнать, чем я обязан такой чести? — произнес Луи де Фонтаньё как можно более спокойным голосом.
— Это мне, сударь, — отвечала Маргарита, — хотелось бы спросить, чем я могла заслужить вашу ненависть?
— Мою ненависть, мадемуазель? — переспросил Луи де Фонтаньё, смущенный неожиданностью вопроса.
— Я хочу дать вам пример откровенности: когда вы беседовали с господином де Монгла, я стояла у соседнего окна и все слышала: вы желаете разлучить меня с господином д’Эскоманом.
— Нет, мадемуазель, я желаю сделать то, что сделал бы всякий честный человек на моем месте: я хочу вернуть господина д’Эскомана его жене.
— Какова бы ни была намеченная вами цель, сударь, подло красть любовь женщины, чтобы потом ее продавать.
— Продавать?
— Да, сударь, продавать!.. Вы не убедите меня, вы не убедите общество в том, что единственное основание для участия, проявляемого вами к особе, которая не имеет к вам ни малейшего отношения и с которой еще вчера, возможно, вы не были знакомы, не есть сделка, по крайней мере подразумеваемая… Поклянитесь мне, что ваша привязанность к маркизе никогда не покидала рамок чистой дружбы, той, какую может испытывать человек вашего возраста к женщине ее возраста, и, жертва я или нет вашей прихоти или вашей страсти, я помогу осуществлению ваших желаний, я сама расстанусь с господином д’Эскоманом.
Луи де Фонтаньё хранил молчание; сердце его, которое все еще трепетало под впечатлением сладострастных мыслей, взволновавших его, не смогло солгать.
— Ах, Боже мой! Боже мой! — воскликнула Маргарита, заламывая руки. — С сердцем, пораженным прелюбодеянием, мужчины клеймят и порицают прелюбодеяние!
И она разрыдалась.
Слезы больше тронули Луи де Фонтаньё, чем это сделали бы ее упреки. Плачущая женщина преображается. Он стал менее резок, взял молодую шатодёнку за влажные и горячие руки и заговорил с ней мягче:
— Ну же, мадемуазель, успокойтесь… Вы подозреваете, что в моем сострадании к госпоже д’Эскоман есть причина, заставляющая меня быть совершенно далеким от искренности. Признаюсь, я был тронут, увидев, что эта женщина, молодая, богатая, благородная и красивая, эта женщина, которую Бог щедро осыпал своими дарами, проводит свою жизнь в слезах и забвении. Вы были тем препятствием, которое отделяло ее от мужа; я еще не был с вами знаком; я попытался уничтожить это препятствие — вот и все, ни более ни менее, клянусь вам. Несомненно, я ошибся в выборе средств; несомненно, мне следовало бы найти вас и открыть вам то, что произошло, то, что вы не знали, как я уверен, и перед лицом несправедливых страданий маркизы вы, конечно же, разделили бы мою жалость к ней.
Маргарита, стоявшая до этого перед молодым человеком, села на одну из каменных тумб особняка и закрыла руками лицо; после минутного молчания она заговорила глухим, прерывающимся голосом:
— Пусть все ваше сострадание будет обращено на нее, это вполне справедливо: она богата и благородна; вы сказали, что ее страдания незаслуженные; и все же, не думаете ли вы, что, раз я бедная простолюдинка, моя история менее жалостная, чем ее? Не думаете ли вы, что, раз мы плоть для утех, как вы говорите, у нас в душе нет ни единой фибры, способной кровоточить и сжиматься? Мне пришла в голову фантазия рассказать вам историю своей жизни. Но стоит ли это делать? Разве это не история любой девочки моего сословия, известная с тех пор как стоит свет? Итак, вам пятнадцать лет, у вас честное сердце; такой же честный мастеровой — ваш жених; но вот уже пятнадцать лет нищета, эта страшная сводница, подтачивает мало-помалу те святые верования, что заключены в сердце вашей матери. Сердце матери очень крепкое, очень сильное, и все же, как ржавчина разъедает сталь, нищета добивается своего. Бедная мать!.. Понимаете ли вы, что, несмотря на все доводы моего рассудка, мое сердце ее оправдывает? Тяготы ее прошлого вселяли в нее страх за меня; она говорила себе: "Моя бедная Маргарита! Она невинна и весела; она любит цветы и песни, любит проводить дни вдали от своей мастерской, гоняясь за бабочками вдоль изгороди из боярышника; бремя нужды, которое я сама так мужественно несла, будет слишком тяжело для нее; она изнеможет, но я не хочу, чтобы она умирала, ведь это моя дочь!" И в ту минуту, когда она говорила себе это, появляется мужчина; он молод и куда более привлекателен, чем бедный мастеровой; он пригоршнями сыплет золото, говорит о любви, о вечном счастье; он сулит богатство… Разве вы сами никогда не хотели совершить путешествие в волшебную страну? Радости богачей и есть для нас волшебные сказки. Мать поверила, что она доверяет свою дочь одному из этих великодушных и блистательных духов; она молчала, отводила глаза, и этим все было сказано… Мать это добрый ангел для бедной девочки; что может сделать ребенок, если добрый ангел покидает его? Вот, сударь, как по большей части становятся теми женщинами, которых вы называете падшими. Так полагаете ли вы, что они тоже не имеют права проклинать и судьбу, и весь белый свет? Чтобы вы поверили, что из их глаз льются слезы, а их сердца кровоточат, разве нужно вам рассказывать, что происходит в их душах, когда они обнаруживают ложь, которой позолотили их падение, и презрение, скрыть которое никогда не удается даже самой любви? Нужно ли вам перечислять их сетования, их угрызения совести, их страхи, когда им говорят, как это вы сделали сегодня: "По какому праву у вас на груди атлас, на плечах бархат, а в волосах цветы?" Из всего, что у вас взяли, вам вернут лишь нищету, в которой вы родились; уступите же место женщине благородной, женщине богатой, которая одна только и имеет право на любовь, на счастье, напрасно обещанные вам! Слава той, что победит, не имея нужды бороться, не имея случая сражаться!
Маргарита говорила все это с сильнейшей убежденностью, которая представлялась Луи де Фонтаньё чуть ли не красноречием и, как и проливаемые ею слезы, возвышала ее в глазах молодого человека.
— В ваших словах есть доля правды, дитя мое, — отвечал он. — Вы выдвигаете против общества, против человеческих пороков утверждение, которое, с тех пор как образовалось это общество, тщетно поддерживали несколько благородных умов и из которого всегда следует лишь один вывод, столь же удручающий, как и само это утверждение, а именно признание того, что человечество навеки осуждено на страдания. Вы плачете под дверьми этого особняка, а в нескольких шагах от вас, за шелковыми кружевными занавесками плачет другая женщина. Но, поверьте мне, та, что внутри (Луи де Фонтаньё простер руку к безмолвным и мрачным огромным окнам), сколь ни упрекает она вас, осушила бы ваши слезы, если бы это было в ее силах. Вы показали мне, что вы, как и она, лишь жертва изъянов нашего общественного устройства; теперь вам остается доказать, что у вас есть право на сочувствие и уважение (Луи де Фонтаньё подчеркнул это слово), сравнявшись с ней благородством чувств. Сознание совершенного вами доброго поступка смягчит страдания, принесенные вашей жертвой, а любовь маркиза…
— Я не люблю больше господина д’Эскомана, — прервала его Маргарита.
Она отчетливо произнесла эти слова взволнованным голосом, и глаза ее, устремленные на молодого человека, блеснули в темноте.
Даже если бы своей интонацией девушка не могла выразить того, что она подразумевала, после всех событий сегодняшнего вечера слова ее заключали в себе немалый смысл.
Невольное признание женщины в любви вызывает у мужчины, которому оно обращено, либо крайнее отвращение, либо непреодолимое желание.
Когда чаша полна, то лишняя капля, будь то капля нектара или капля воды, заставляет жидкость переливаться через край.
— Но, — отвечал Луи де Фонтаньё, запинаясь, как будто бы слова срывались с его губ какой-то всемогущественной силой против желания его сердца, — кого же вы тогда любите, Маргарита?
— Ах, Боже мой, что же нужно сделать, чтобы он понял? — воскликнула молодая женщина, в порыве страсти склонившись на плечо молодого человека, а он вне себя, опьяненный, заключил ее в свои объятия, и при этом его губы коснулись ее губ.
В тот же самый миг над молодыми людьми с шумом растворилось окно.
Маргарита вскрикнула и убежала.
Луи де Фонтаньё быстрыми шагами поспешил за ней.
Несколько минут спустя из особняка вышел г-н д’Эскоман.
Он ничего не услышал из этого разговора, но узнал голос своей любовницы по вырвавшемуся у нее крику и сразу поспешил в трактир г-на Бертрана, чтобы рассеять свои сомнения.
Не обнаружив Маргариту в ее комнате, маркиз вернулся к себе, снова лег спать, но не сомкнул глаз всю ночь; это доказывало, что шевалье де Монгла не ошибся, когда он утверждал, что красавец-маркиз не избавился еще от обывательских предрассудков.
XI ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКОЙ
Писатели нашего времени весьма искусно препарировали человеческое сердце; они перечислили все клеточки мозга, откуда должны исходить каждая из мыслей и каждое из побуждений персонажей, которых они заставляют действовать.
Однако в своем замечательном анализе они, возможно, недостаточно учли смешения разнообразных чувств, ареной которого чрезвычайно часто служит наше сердце и которое составляет очевидное противоречие между нравственными убеждениями и действительными поступками.
Вероятно, то, что мы сейчас выскажем, покажется чудовищным парадоксом, но из всех мужчин больше всего от измены женщины страдает эгоист.
Полное самоотречение является измышлением; стало быть, эгоист испытывает по отношению к самому себе такую нежность, какую человеческая душа никогда не может уделить другому существу; поэтому сердце эгоиста, уязвленного в идолопоклонстве самому себе, должно быть ранено более жестоко, чем сердце того, кто отдает свою любовь многим.
Великодушие способно смягчить страдание; сколько бы влюбленные мужчины, плача, искренне ни говорили: "Пусть она будет счастлива!" — они способны на все, кроме как перестать любить. Но ничто не облагораживает, ничто не утешает эгоиста; он способен лишь на проклятия, и тем самым льет расплавленный свинец на свои раны.
Самолюбие составляет суть эгоизма; самолюбию отводится первая роль в любовных связях эгоиста; все остальные чувства играют там лишь немые роли; и если главному актеру случится быть освистанным, то провал переживается им тяжело.
Так что вовсе не потому, что он любил Маргариту Жели, г-н д’Эскоман не спал всю ночь, когда у него появились сомнения в верности его любовницы: он не спал потому, что он содержал ее, — новое выражение, ранее применявшееся только к лошадям и собакам, а теперь вошедшее в употребление и по отношению к женщинам.
Честолюбец содержит женщину, потому что она обладает влиянием, которым можно пользоваться; тщеславный — потому что она славится своей элегантностью и прослыть ее любовником означает то же самое, что иметь стаю гончих или упряжку из четырех лошадей, а также придает важность; простак — потому что до него ее содержали несколько сотен весьма известных особ; скупой содержит свою любовницу, потому что она ему стоит недорого; но большинство мужчин, напротив, содержат их, потому что уже слишком много на них потратили. В карточной игре есть выражение, прекрасно характеризующее подобное положение. Об игроке, который, пытаясь вернуть проигранные им значительные суммы, чаще всего прибегает к знаменитой комбинации, называемой мартингал и состоящей в том, что делается ставка равная всем проигранным деньгам плюс один франк, — о таком игроке говорят: "Он догоняет свои деньги". Мартингал в большой чести в сомнительных любовных делах. Сумма удваивается здесь до того, как предаются ее хладнокровному рассмотрению; итог удесятеряется до того, как его покорно заносят в статьи "Доходы" и "Расходы"; существуют десятки самых веских доводов, чтобы доказать самому себе, что такой расчет относится к числу лучших. Мы избавим нашего читателя от их перечисления.
И если мы распространялись о расчетах в области чувств, то лишь потому, что г-н д’Эскоман был из числа тех людей, кто проводил такое в жизнь. У него были две причины рассматривать происходящее подобным образом: Маргарита стоила ему одновременно и много времени и много денег.
Она была его творением, его созданием; как мы слышали от молодой маркизы, рассказывавшей это Луи де Фонтаньё, Маргарита была простолюдинкой, ум которой был столь же неразвит, сколь незатейливы были ее прически, и простота которой производила на людей тонких впечатление грубости. Господин д’Эскоман сформировал, обтесал, вылепил ее по своему вкусу; он внушил ей одну за другой все светские традиции изысканности и обходительности; он обучил ее одновременно правилам игры в ландскнехт и манере есть суп, научил произносить вольные шуточки и надлежащим образом располагать подвязку на чулке; одно лишь искусство надевать перчатки стоило ему почти целого месяца уроков. Маркиз с его изобретательным умом находил особое удовольствие, обучая ее подобным пустякам, и необычайно привязался к своей ученице. И тогда, счастливый тем, что он видит, как она делает успехи с той удивительной легкостью, с какой женщины усваивают повадки и манеру говорить тех, с кем они встречаются, маркиз стал наряжать свою куклу со всей непринужденностью, на которую он только был способен; он истратил на ее прически, платья, драгоценности и кружева целый капитал, на доходы с которого можно было существовать честному семейству.
Но были и другие корыстные причины, делавшие Маргариту дорогой для маркиза д’Эскомана.
Помимо того, что она развлекала его праздность, льстила его самолюбию и являла собой крупный капитал, не по летам истрепанный дворянин охотно приспособился к пылкой чувственности этой красавицы-плебейки.
Наконец, была и последняя причина, господствовавшая над всеми остальными.
Что скажут в обществе, что скажут в клубе, что скажет Монгла, когда станет известно, что красавец маркиз д’Эскоман, блеск и слава области Дюнуа, претендовавший возродить в ней столичный дух, обманут, одурачен, осмеян той, что еще вчера была бедной гризеткой?
Размышляя о том, что им, вероятно, утрачено, маркиз тяжело вздыхал; когда же он задумался о том, что его ожидало, то испытал подлинный приступ гнева. После того как этот первый порыв ярости прошел, из глаз маркиза потекли горькие слезы, и такое доказывает, что источник этой росы печали не всегда находится в сердце человека.
Он побледнел, губы его судорожно сжались, лицо исказилось и приняло такое же выражение, как и накануне вечером под впечатлением проигрыша в игре.
Мысленно он искал в своем окружении того, кто мог похитить у него Маргариту или ради кого Маргарита могла изменить ему; он перебрал всех своих знакомых, всех своих друзей, и менее всего его подозрение пало на Луи де Фонтаньё; в итоге он остановился на мысли, что это пошлое мимолетное увлечение Маргариты каким-нибудь актером или гарнизонным унтер-офицером.
Мысль эта весьма помогла отогнать от него воспоминания об этой девице; если все это так, то стоила ли она сожалений? В конце концов, она почти неспособна вести беседу! Красивая статуя, и только! К тому же связь с ней отжила свое, так что можно воспользоваться удобным случаем и, меняя лошадей в своей конюшне, сменить и любовницу; это непременно должно заслужить восхищение членов клуба, если только удастся их убедить, что все произошло по его желанию. Но как он ни старался преувеличить недостатки своей любовницы, внутренний голос, наоборот, умножал ее достоинства. И чтобы не слышать его, маркиз попытался впасть в то умышленное дремотное состояние, в котором человек принимается решать гамлетовский вопрос "Быть или не быть" и пребывает как бы между небом и землей, а мысли его находятся в таком смятении, что он перестает ощущать себя. И тогда он услышал похоронный звон, начавшийся с однообразного колокольного гула; постепенно этот неясный звук стал более определенным, превратился в голос, слог за слогом произносивший и повторявший имя Маргариты со всей выразительностью, какую любовное упоение могло внушить маркизу, рисовавшему себе в это время многочисленные, но отчетливые сцены прошлого, когда это имя произносилось.
Этот кошмар выводил его из себя; просыпаясь, он обвинял Маргариту в неблагодарности, упрекал ее в благодеяниях, какими он ее осыпал, и в числе этих благодеяний не преминул поставить на одно из первых мест совращение, жертвой которого стала эта молодая женщина; затем в голове у него промелькнули мысли о мщении.
Эти мысли напомнили ему о роли, какую он играл в обществе; он подумал, что такая месть сделает еще более смешным его положение; он понял, что честь обязывает его казаться совершенно равнодушным к потере мадемуазель Маргариты и заставлять всех предполагать, как ему это уже приходило в голову, что это он сам спровоцировал разрыв с надоевшей ему любовницей.
Эти размышления несколько вернули ему утраченную силу духа: из страха показаться смешным, он сумел скрыть свою печаль и обуздать свой гнев.
Ему было важно первым распространить эту новость; он оделся и вышел из дому.
Большинство его друзей в этот час должны были еще спать, но среди приглашенных на вчерашний ужин было два драгунских лейтенанта, в ту пору откомандированных в Шатодён, и они вполне могли находиться на дежурстве в казарме, чтобы развеять ночную усталость.
Господин д’Эскоман неспешным шагом двинулся в сторону казармы, заметил этих офицеров и подошел к ним. Завязался разговор, и, переходя от одной темы к другой, причем тем более удачно, что выглядело это совершенно ненамеренно, маркиз объявил им, что он дал отставку своей любовнице; г-н д’Эскоман добавил, что, если у них есть виды на нее, он будет чрезвычайно рад оказать им содействие.
Затем последовали весьма кичливые и достаточно вольные похвалы достоинств Маргариты.
Господин д’Эскоман знал, что он обеспечил этих господ темой для разговора за завтраком; что разговор этот состоится в кофейне, вестись будет громким голосом и получит столько слушателей, что, вероятно, итогом его станет своего рода сигнал "Седлай!", предназначенный разбудить спящих, ради мнения которых он все это устроил.
Он вернулся к себе, сбросив с себя маску, ибо у него больше не было в ней надобности, и был с Эммой более раздражительным, чем когда-либо прежде. Очевидно было, что он считает свою жену сопричастной к проступкам соперницы, которую он же сам ей и дал.
В свой обычный час г-н д’Эскоман отправился в клуб; собрание здесь было многочисленное, но не такое разобщенное, как всегда. Все присутствующие стояли вокруг игорного стола, за которым двое молодых людей играли в карты.
Когда г-н д’Эскоман вошел, в зале послышался довольный шепот.
Маркиз собрал все свои силы, предчувствуя, что ему предстоит решительная борьба; он ощущал это тем более, что первым, кого он заметил, войдя, был шевалье де Монгла: глаза его хитро блестели, а на губах играла плохо скрываемая радостная улыбка.
— Вы пришли как нельзя кстати, мой дорогой д’Эскоман; теперь нет необходимости заканчивать эту нелепую партию, в которую втянул нас этот бес де Монгла, — обратился к нему один из двух игроков, чье лицо выражало после прихода маркиза некоторое беспокойство.
— С каких это пор мое присутствие может помешать вашим удовольствиям или приостановить их? Если вам нужен партнер, я к вашим услугам.
— Я же вам говорил, что д’Эскоман найдет мою идею великолепной! — воскликнул г-н де Монгла.
— Подождите, дайте ему возможность узнать ее сначала, а потом уж аплодируйте себе изо всех сил, Монгла, — сказал игрок, начавший разговор. — Представьте себе, мой дорогой маркиз, по городу разнесся слух, будто вы порвали с мадемуазель Маргаритой, но мы не хотим этому верить.
— Благодарю вас за такое мнение обо мне, — с продуманной иронией в голосе отвечал г-н д’Эскоман. — А почему бы мне и не бросить Маргариту? Разве это не вполне простой, вполне естественный и логичный конец в подобного рода связях? Наша связь длилась три года и, тьфу, уже почти превратилась в брак! А поскольку я испытываю отвращение ко всему, что касается семейной жизни, в особенности к слезам, крикам и зубовному скрежету, то я и поторопился с разрывом.
— Она плакала, бедняжка? — с притворным состраданием в голосе спросил г-н де Монгла.
— Браво! — продолжал тот же игрок, и физиономия его весьма заметно расцвела. — Значит, мы смело можем продолжать нашу партию. Передайте же мне карты, дорогой мой.
— Но какая связь между моими делами с Маргаритой и вашей партией?
— Огромная! Узнав, что красавица свободна, мы оба возымели желание встать в ряды ее поклонников. Ваше наследство, дорогой маркиз, не из числа тех, что принимают условно, и потому Монгла нам посоветовал, вместо того чтобы перерезать друг другу горло, к чему мы, честно говоря, и не очень-то расположены, разыграть Маргариту на семь фишек в империаль.
Воодушевление от борьбы, будь то моральной или физической, удваивает силы того, кто в нее вступает, но тут г-н д’Эскоман не смог удержаться и побледнел.
— Разве вы не находите, что я прав и что мысль моя превосходная? — спросил шевалье.
— Я нахожу, — отвечал г-н д’Эскоман слегка взволнованным голосом, — я нахожу, что ваша мысль, весьма спорного вкуса, отдает временами Регентства. Прежде чем тасовать ваши карты, вам бы следовало заручиться согласием самой Маргариты. Кто знает, возможно, она уже назначила кого-то исправлять должность, которую вы домогаетесь? Уверяю вас, что я нахожу такое предположение весьма правдоподобным: сильные крепости не любят оставаться без гарнизона.
Господин де Монгла покорно согласился с мнением г-на д’Эскомана. При этом он намекнул, что никто лучше, чем маркиз, вследствие отеческой заботы, которую он должен был сохранить по отношению к своей прежней любовнице, не способен выведать ее чувства и изложить ей это щекотливое предложение.
Старый дворянин говорил достаточно хитро, чтобы маркизу было трудно отказаться от поступка, представленного ему как решительное и окончательное доказательство его совершенного безразличия к Маргарите.
Не без явного умысла г-н де Монгла с такой настойчивостью добивался того, чтобы устроить в самом скором времени встречу двух любовников: он, как в открытой книге, читал в сердце г-на д’Эскомана. Ни искаженное лицо маркиза, ни игра его желваков ни разу не укрылись от внимания наблюдательного старика; он предчувствовал, что потеря любовницы вызовет страшную пустоту в душе, а особенно в привычном укладе жизни этого любителя удовольствий; он рассчитывал на его малодушие, чтобы заполнить эту пустоту в ущерб репутации законченного повесы, которой г-н д’Эскоман придавал такое значение.
Злоба, затаенная шевалье против маркиза, была бы удовлетворена, если бы ему, в свою очередь, удалось унизить его, показать всем, что эта будто бы бронзовая статуя стоит на глиняных ногах.
И если г-на д’Эскомана было так легко убедить, то виной тому были тайные чувства маркиза, заставившие его страстно желать то, что предлагал ему шевалье.
Во что бы то ни стало увидеть снова Маргариту — вот что с утра сильнее всего занимало его; он убеждал самого себя, что хочет оказаться рядом с ней якобы лишь для того, чтобы излить на нее свое презрение, чтобы увидеть ее у своих ног униженной, кающейся, молящей у него о прощении.
Однако на самом деле, как все рабы, оковы которых были разорваны не по их воле, он был вполне расположен к тому, чтобы увидеть спаянными вновь звенья своей цепи.
XII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ВСЕ ОШИБАЮТСЯ В СВОИХ РАСЧЕТАХ
Луи де Фонтаньё жил в небольшой квартире, располагавшейся в нижнем этаже супрефектуры; она имела отдельную входную дверь, так что молодой человек мог входить и выходить, когда ему было угодно.
Около шести часов утра эта дверь тихо приоткрылась со всеми предосторожностями, к которым прибегает человек, когда он хочет выйти незамеченным; наружу высунулась женская головка; выждав минуту, когда постовой, прохаживавшийся вдоль дома, повернется спиной, женщина устремилась на улицу и скрылась в утренних сумерках.
Походка ее была легкой и быстрой; она жадно вдыхала полной грудью свежий утренний воздух, лицо ее выражало радость и оживление.
Вероятно, то, что она сейчас свободно, подчиняясь своему первому побуждению, принесла себя в дар, освежило ее душу, еще не полностью очерствевшую от дыхания разврата.
Несомненно, что ее увлечение Луи де Фонтаньё было всего лишь одной из необузданных прихотей, особенно свойственных женщинам, не научившимся подчинять свои желания законам стыдливости, а страсти — правилам долга; однако эта прихоть увлекла ее гораздо дальше, чем можно было предсказать.
Луи де Фонтаньё был первый по-настоящему молодой человек, с которым познакомилась Маргарита. Сердце и чувства г-на д’Эскомана и его друзей напоминали старика "в румянах и парике. Избыток жизненных сил, свежесть чувств, искренность в проявлении благодарности, свойственные двадцатилетнему человеку, стали для нее откровением. Ей открылось, что преждевременно состарившийся господин, сумасбродный и самодовольный, на которого прежде уходило все ее время, давал ей лишь смехотворную подделку под любовь. Ее охватил восторг, когда пестрые лохмотья, которыми была прикрыта эта подделка, мало-помалу спали, а ей открылся сияющий и прекрасный кумир, олицетворяющий волю.
Внезапно, когда перед ней распахнулись доселе неведомые ей горизонты, ее прихоть обратилась в страсть.
Она была опьянена счастьем; сердцу ее стало тесно в груди; несмотря на пронизывающий холод, она откинула вуаль, чтобы утренний ветерок освежил ей лицо, и пошла быстрым шагом. Ей показалось, что она не сможет дышать в тесной комнате заведения Бертрана; она вышла из города и направилась по тропинке, которая вела в сторону равнины; оказавшись среди поля, она села на противоположной стороне придорожного кювета и, как во времена своей юности, принялась гадать на маргаритках, спрашивая, любит ли пламенно ее тот, о ком она думала.
В любви куртизанок всегда есть что-то пасторальное или мистическое, если только к этой любви не примешиваются денежный расчет или тщеславие.
Был тот час, когда сельская местность пробуждается; в небе пели жаворонки; в бороздах кудахтали куропатки; по мере того как солнце освобождалось от завесы тумана, лежавшего на равнине, издали доносился звук колокольчиков, извещавший, что стада отправлялись на пастбища. Дорога оживлялась: крестьяне везли зерно и овощи на городской рынок, пастухи и пахари выходили на работы, а босские молочницы в своих длинных черно-белых полосатых накидках несли на головах жестяные кувшины с молоком.
Все останавливались и с удивлением рассматривали эту женщину, одетую в бархат и шелк, сидевшую на голой земле и в столь ранний час.
Маргариту утомило их любопытство, и она отправилась домой.
В дверях "Золотого солнца" ее встретил хозяин.
Как сторонник добронравия, г-н Бертран был весьма недоволен поведением своей постоялицы. Одним из первых он узнал, что г-н д’Эскоман порвал с Маргаритой, и поднялся в комнату девушки, чтобы спросить ее, есть ли правда в подобных слухах; не застав ее дома, он заключил, что ночные шалости и были причиной встревожившего его разрыва маркиза с любовницей, и проникся глубоким негодованием по отношению к ней.
Господин Бертран рассказал Маргарите, какая о ней идет молва, и объявил, что, поскольку она не имеет больше чести принадлежать господину маркизу д’Эскоману, ей следует подыскать себе пристанище за пределами гостиницы "Золотое солнце".
Маргарита чрезвычайно дерзко рассмеялась г-ну Бертрану в лицо; она и не думала, что могло быть иначе, чем он ей сказал. В своем недавнем раздумье она уже задавала себе вопрос: сможет ли она лгать окружающим? Но едва в ее сердце отзывалось имя Луи де Фонтаньё, она чувствовала, как щеки ее воспламенялись, ноздри расширялись, как у львицы, заслышавшей рычание своего льва, и она понимала, что всякое притворство, всякое соглашательство для нее будут невозможны.
В конце концов, что для нее значили благодеяния г-на д’Эскомана и уважение г-на Бертрана? Более того, новость о том, что уже разнесся слух о ее новой любви, вселила в нее чувство некоторого удовлетворения; она настолько гордилась своим счастьем, что полагала себя достойной зависти.
Маргарита поднялась к себе в комнату, распевая как славка, запертая в клетке, в тот момент, когда прутья ее золотит солнце; однако она позаботилась открыть окно и, складывая платья или заворачивая украшения, время от времени высовывалась наружу и с мучительным беспокойством поглядывала на улицу.
Всего лишь несколько часов назад она рассталась с Луи де Фонтаньё, а разлука уже казалась ей слишком долгой. В лихорадочном волнении она ходила взад и вперед по комнате и все чаще и чаще останавливалась у окна, оправдывая при этом нетерпеливость своих желаний благовидными предлогами. Разве не должен был тот, кому она отныне принадлежала, быть здесь, чтобы решить, где ей теперь следует искать пристанище?
Она отнесла промедление своего нового любовника на счет его скромности; сев за стол, она написала ему письмо; в ту минуту, когда она сложила и запечатала его, в дверь кто-то постучал.
— Это он! — воскликнула молодая женщина.
В один прыжок она пересекла комнату, открыла замок и оказалась лицом к лицу с маркизом д’Эскоманом.
Дворянин был бледен и настолько взволнован, что вынужден был сесть, прежде чем начать разговор.
В лице Маргариты не сквозило ни малейшего замешательства, оно выражало только чувство раздражения, вызванное у нее этим визитом. С той поразительной уверенностью, какую придает страсть тому, кто ее испытывает, она спросила маркиза, что ему угодно.
Как мы говорили, г-н д’Эскоман ожидал совершенно иного приема. Вместо слез и раскаяния, на которые он в своем великодушии рассчитывал, маркиз встретил рассеянную беспечность и ироничную сдержанность; мужественное самообладание молодой женщины само собой поставило ее на высоту той роли, какую г-н д’Эскоман намеревался разыграть сам.
Сердце прожигателя жизни, словно электрическим разрядом оживленное этим вторым ударом, ожесточилось; маркиза охватил гнев, и в нем он нашел грозившие оставить его силы, так что ему удалось разыграть спокойствие, излагая Маргарите ходатайство, посредником по которому он стал.
Как ни легки были нравы и ни вольны были речи в среде, в которой молодая женщина провела последние три года, сколь ни далеки были от строгости нравственные устои, сотни раз за это время излагавшиеся в ее присутствии, она не скрыла своего отвращения и к посольству, и к посланнику, не сумев удержаться и заклеймив их насмешками.
Затем, когда г-н д’Эскоман, проявляя к бывшей любовнице поистине отеческую заботливость, пожелал открыть ей глаза на последствия, которым она подвергнется, если вступит в связь с бедняком, каковым по предположению маркиза был ее любовник, Маргарита в ответ с гордостью произнесла имя Луи де Фонтаньё.
Это откровение поразило маркиза словно удар грома; все подмости его утреннего бахвальства рухнули, и ему открылась эта интрига, нити которой, как он видел, держала рука г-на де Монгла; он предчувствовал, что тот не позволит, чтобы общество дало себя обмануть и поверило, будто это он, д’Эскоман, стал инициатором своего разрыва с Маргаритой; он видел, кроме того, что рассеялись все его тайные надежды на примирение с ней. Признавая, что Маргарита в самом деле имеет над ним власть и в то же самое время предполагая, что любовник ее никому не известен и малозначителен, он внутренне хвалил себя за то, что ему можно будет сказать: "Да мне это совершенно безразлично!" или: "Она так плакала, что я согласился отложить наш разрыв", как это всегда полагается тому, кто играет роль сильного мужчины; но после огласки, которую получила его дуэль, ни одна из этих уловок не была осуществима.
Впрочем, в любовных историях, которые мы пытаемся описать, есть странные отклонения от нормы: если измена отвратительна сама по себе, то еще более отвратителен может быть выбор того, с кем тебе изменяют: у ревности есть свои антипатии и свои снисхождения.
Никакой другой соперник, никакой другой преемник не был бы столь неприятен г-ну д’Эскоману, как тот, кто еще прежде задел его самолюбие, а затем сыграл такую прекрасную роль в их поединке накануне.
Схватив шляпу, г-н д’Эскоман выбежал на улицу, не простившись с Маргаритой.
Вернувшись в особняк, он застал там ожидавшую его Эмму.
Сюзанна, подстерегавшая каждую новость, прямо или косвенно касавшуюся ее госпожи, далеко не последней узнала то, о чем говорил весь Шатодён; она поторопилась сообщить эту новость Эмме.
— Слава Всевышнему! — воскликнула молодая женщина. — Наконец-то мой муж вернется ко мне!
И она бросилась на колени, обратив к Небу горячие изъявления благодарности.
Сюзанна, хотя она и была ревностной католичкой, не присоединилась к этому славословию; в своем неверии в обращение грешников вообще, а г-на д’Эскомана в частности, она доходила до ожесточения; она продолжала сидеть и смотрела на свою госпожу с выражением материнского сострадания.
— Подождите, пусть он вернется в семейное лоно, и лишь потом велите заклать жирного тельца, — заметила она Эмме, — иначе мы весьма рискуем остаться с ненужной нам провизией.
Но г-жа д’Эскоман не хотела слушать подобных обескураживающих советов; как все те, кто страдает, она думала, что причина ее страданий — одна, и, нуждаясь в утешительной надежде, видела эту причину скорее в постороннем влиянии на своего мужа, нежели в нем самом; но вот причина устранена, и невозможно было бы полагать, чтобы не исчезли и ее последствия. И потому ее счастье напоминало настоящее опьянение; она плакала и смеялась одновременно, сжимала в объятиях Сюзанну и, на мгновение приостанавливая порывы своей радости, начинала строить воздушные замки, возводимые на том, что отныне должно было составлять ее супружескую жизнь.
Только когда ослабли ее первые восторги, г-жа д’Эскоман вспомнила о том, кто, по всей вероятности, и принудил ее мужа принять это добродетельное решение. И тогда она упрекнула Сюзанну за ее недавние подозрения по поводу искренности Луи де Фонтаньё, которыми старая служанка в самом деле поделилась накануне со своей госпожой.
Сюзанна, не задумываясь, признала свою вину, но при этом высказала опасение, что эта услуга обошлась не так уж дорого бедному молодому человеку; достойная гувернантка испытывала такую ненависть к Маргарите Жели, что даже считала ее способной на убийство ради мести.
В эту самую минуту маркиза услышала, что раздался звонок в дверь; разумеется, это пришел ее муж! Маркиза оставила Сюзанну, продолжавшую излагать свои суждения о повадках и чувствах развратных женщин, и побежала навстречу г-ну д’Эскоману. Когда он поднимался по первым ступенькам крыльца, она бросилась ему на шею и расцеловала его, как целуют того, кто возвращается после долгой разлуки.
Размышления, которым предавался г-н д’Эскоман по дороге, довели его ярость до предела. Этот нежный порыв Эммы, противоречивший тому, что происходило в его душе, лишь усилил его раздражение, извратившее в его глазах смысл этого поступка: он увидел в нем немой упрек или выражение оскорбительного сострадания; высвободившись из объятий Эммы, он грубо оттолкнул ее и прошел мимо, не сказав ей ни слова.
Маркиза потеряла равновесие, упала навзничь и разбила лоб о каменные плиты крыльца.
Прежде чем Сюзанна, издали видевшая эту сцену, подбежала к Эмме, бедняжка уже поднялась сама. Затем, несмотря на мольбы кормилицы, не позволившей ей это делать, она пошла за г-ном д’Эскоманом в его комнату и закрыла дверь изнутри на задвижку, чтобы остаться с ним наедине.
Не сказав жене ни слова покаяния при виде того, как по ее лицу сбегали две тонкие струйки крови, маркиз рухнул в кресло, скрестил ноги, опустил голову на ладонь, опершись локтем на наличник камина, и замер в позе, говорившей о его печальных раздумьях.
Перед своей женой он не считал нужным оставаться в маске, тяжким грузом лежавшей на его лице с самого утра; он отбросил ее и совершенно согнулся под бременем своего безумного и нелепого отчаяния.
— Вы страдаете, друг мой? — обратилась к нему маркиза, вытирая платком кровь, струящуюся из раны на лбу.
— Я? — отвечал маркиз тоном, противоречившим его словам. — Бог мой, да отчего же мне страдать?
— Не скрывайте от меня ничего, друг мой, — промолвила маркиза д’Эскоман. — Каковы бы ни были ваши печали и сколь ни далека я оттого, чтобы понять их причины, мой долг — утешить эти печали, заставить вас забыть их, если только мне это удастся. Возможно, другие захотят своей доли от ваших удовольствий, я же не хочу ничего иного, как разделить вашу боль… Я не дорожу другими своими супружескими правами, но это я отстаиваю и не уступлю никому. Доверьтесь же мне, умоляю вас! Говорите со мной так, как если бы вы говорили с другом или с сестрой. Если бы вы знали, как снисходительно сердце любящей женщины!
Господин д’Эскоман попытался освободить свои ладони, которые Эмма взяла в свои руки. Он хотел таким образом скрыть слезы, которые текли из его глаз, казалось утративших способность плакать; сердце его, похоже, растаяло от звуков этого дружеского голоса.
Видя эти слезы, г-жа д’Эскоман уверила себя, что она совершенно определенно отвоевала своего мужа; в страстном порыве она во второй раз обняла его, и на этот раз он позволил ей это сделать.
— Плачь, плачь, — повторяла она, — слезы приносят облегчение. В течение столь долгого времени я не знала другого утешения!.. Для тебя это будет иначе; без сомнения, жертва, которую ты приносишь своему долгу, тяжела, но я рядом и постараюсь сделать ее для тебя менее тягостной и менее суровой… Боже мой! — продолжала она, увидев, что слезы маркиза усилились при этом упоминании о его прелюбодейной любви. — Боже мой! Может быть, я и не права в своем горячем желании, чтобы ты вернулся ко мне… Я тебя люблю так, что готова отказаться от своего счастья, если только оно может принести тебе огорчение. Но нет, мы будем счастливы вместе. Ты не в состоянии знать, сколько в моем сердце заключено нежности и любви, поскольку, наверное, тебя это никогда не заботило; но теперь ты узнаешь это… И к тому же, разве не красива и я тоже? Знаете ли вы, сударь, что мне только двадцать три года! О! Я хочу, чтобы ты ни о чем не жалел, я хочу, чтобы ты полюбил меня так, как никого еще не любил… Говорят, эти женщины знают секреты, как очаровывать вас, мужчин; мне неведомы эти секреты, да и неудивительно, ведь когда ты женился на мне, я была несмышленым и простодушным ребенком… Мой Бог! Нам следует говорить обо всем этом, раз такое приносит счастье. Но ты научишь меня этим секретам, ты должен их знать, и ты увидишь, как все легко, когда этого жаждет сердце!
Господин д’Эскоман не прерывал ее, слезы его сменились состоянием какой-то вялой задумчивости, он милостиво предоставил жене осыпать его ласками, которыми она сопровождала каждое из своих слов; когда она умолкла, он поцеловал ее и сказал, что ему более всего сейчас необходимы покой и уединение.
Эмма поспешила исполнить его желание. Когда она выходила из его комнаты, лицо ее, покрытое пятнами крови, радостно сияло. Сюзанна Мотте поджидала ее под дверью, сидя на ступеньках лестницы. Эмма со свойственной ей восторженностью произнесла:
— Ты ошибалась, Сюзанна. Он действительно вернулся ко мне, этот блудный сын!
Но едва г-жа д’Эскоман успела переступить за порог комнаты мужа, как этот блудный сын поспешил запереть за ней на задвижку дверь; лицо его оживилось, он бросился к секретеру и принялся стремительно писать следующее послание:
"Я не могу жить без тебя! Я все прощаю! Через два часа мы едем в Париж, и там, клянусь честью дворянина, там я создам тебе положение, которому все будут завидовать.
Ночью Жермен придет за тобой; карета будет ждать на дороге в Шартр".
Он поставил внизу свои инициалы, а на конверте написал:
"Мадемуазель Маргарите Жели".
Пока Эмма сидела на его коленях, он не переставал думать о Маргарите; все страстные речи, в которых бедная женщина высказывала ему свою нежную привязанность, лишь еще больше возбудили в нем сожаления и разожгли его желания.
Любовь отождествлялась у него с Маргаритой, и ему казалось невозможным, что это чувство придет к нему откуда-нибудь еще.
Как у всех людей, лишенных воли из-за недостатков своего воспитания и отсутствия трудностей в жизни, его душа напрягалась тем больше, чем большее сопротивление он встречал; его избалованное ребяческое упрямство требовало, чтобы его гордыня получила удовлетворение.
Маркиз позвонил своему камердинеру и приказал ему отнести записку мадемуазель Маргарите.
Через полчаса Жермен вернулся.
Он застал прекрасную шатодёнку в раздражении, просто не поддающемся описанию. С распущенными волосами, с пылающими непривычным для нее пламенем глазами, она, как разъяренная тигрица в клетке, металась по своей комнате. Чтобы успокоить взбудораженные нервы, она била стекло и фарфор, принадлежавшие хозяину, и столь же безжалостно рвала собственные платья и кружева.
При ней находился г-н де Монгла, безуспешно пытавшийся успокоить ее.
Очевидно, на письмо, посланное ею утром, она получила от г-на де Фонтаньё совершенно неожиданный для нее ответ.
Она с нетерпением взяла записку маркиза, поданную ей Жерменом, прочитала ее, скомкала и бросила в камин.
— Скажите вашему господину, — вскричала она, — что он мне наскучил! Если я захочу путешествовать, то сделаю это без него.
Маркиз, и до этого бледный, узнав о решительном отказе Маргариты, сделался мертвенно-пепельным; он приказал закладывать лошадей, велел камердинеру собрать чемодан, снести его в карету и трогать.
На первой станции он сменил своих лошадей на почтовых и крикнул вознице: "На дорогу в Париж!"
Попрощаться с женой маркиз забыл.
XIII СТРАДАНИЯ СЧАСТЛИВОГО ЛЮБОВНИКА
Если Маргарита была далека от того, чтобы испытывать отвращение, которое обычно наступает после обладания, то совсем по-иному себя чувствовал Луи де Фонтаньё.
Молодая женщина, уходя, не стала нарушать сон своего нового любовника; когда он проснулся, было уже позднее утро; солнце проникало сквозь решетчатые ставни, прочерчивая широкие пурпурные полосы на занавесях и делая бледным свет оставленной на камине зажженной свечи.
Луи де Фонтаньё приподнялся в кровати и, воскрешая в памяти события прошедшей ночи, подумал, что он стал жертвой наваждения; но беспорядок, царивший вокруг, свидетельствовал о том, что это был вовсе не сон; воздух в комнате был наполнен острым запахом амбры, которой Маргарита душила свою одежду. Подобный испарениям, исходящим от земли после грозы, запах этот напомнил Луи де Фонтаньё обо всех стадиях ночной бури, обо всех ее перипетиях.
Лихорадочное возбуждение, охватившее его накануне, затихло; дымка, на какое-то время затуманившая душу молодого человека, рассеялась, и мысли его, освободившись от всех пагубных флюидов, уже спокойные и чистые, вновь обратились к Эмме.
И тогда он стал упрекать себя, у него появились угрызения совести, затем появилось сожаление, еще более горькое, чем угрызения совести, поскольку основание для него было более материальное, поскольку, по мере того как от него зримо отдалялась цель, к которой он стремился, Луи де Фонтаньё, в силу вполне естественного эффекта, представлял ее себе все более близкой.
Сначала он возлагал на самого себя вину за собственные несчастья и обвинял в них свое малодушие; но затем, задумавшись о роли, которую сыграла Маргарита в случившемся, он пришел к мысли, что любовница г-на д’Эскомана действовала с исполненной коварства предумышленностью и рассчитывала на смятение его чувств.
Несомненно, она предполагала, что Луи де Фонтаньё имеет большое влияние на г-на д’Эскомана, и хотела принудить молодого человека оставаться в стороне от происходящего, воспользовавшись благородством его чувств.
Молодой человек провел весь день в странном волнении; в его голове одно за другим прокручивались самые невероятные предположения. Он думал о том, чтобы встретиться с маркизом д’Эскоманом, по отношению к которому в своих собственных глазах оказался в положении, отвратительном для его юношеской порядочности; он хотел признаться ему, ничего не скрывая, во всем, что произошло, — начиная от встречи с г-жой д’Эскоман и кончая ночью, проведенной подле Маргариты; несомненно, это привело бы к разрыву маркиза с любовницей, чего так желала Эмма. Правда, после такого скандала ему пришлось бы отказаться как от самых дорогих, так и от самых скромных своих надежд. Он не смог бы появляться в доме д’Эскоманов даже как обычный друг; но в роли Курция было нечто, прельщавшее его воображение.
Но и такой план действий не обходился без противоречий. Луи де Фонтаньё спрашивал себя: нельзя ли предположить, что г-н д’Эскоман сочтет Эмму ответственной за удар, нанесенный его самолюбию; не ухудшит ли это ситуацию, которую он хотел улучшить; не навредит ли это интересам, которым он намеревался принести себя в жертву. И тогда он решил было довериться во всем маркизе; но при одной мысли о подробностях, какие ему придется излагать в своих признаниях, его охватила нервная дрожь, парализовавшая его волю, и он почувствовал, как кровь стынет в его жилах.
До четырех часов вечера он пребывал в этой полной тревог нерешительности.
В четыре часа он получил письмо Маргариты — обжигающее, пылкое до безумия.
Луи де Фонтаньё в испуге отступил; он предпочитал пассивные роли и, строя свои весьма благородные, но также и весьма авантюрные замыслы, думал, что, вполне вероятно, какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешает осуществлению его желаний и не даст ему возможность показать свое доблестное бескорыстие, чего ему так хотелось; он не спешил принимать решение, желая дать время свершившимся событиям явить свои следствия.
Однако эти следствия делали его положение еще более неприятным, чем он мог предположить.
Вместо прихоти, вместо расчета он встретил со стороны Маргариты страсть, чреватую бурей.
Маргарита Жели приказывала Луи де Фонтаньё немедленно предстать перед судом ее любви; никогда еще повестка о явке в суд не составлялась в более ясных выражениях. Однако молодой человек ни в коем случае не стал ей подчиняться. Лишь на расстоянии от нее он мог быть уверен в своей твердости.
Луи де Фонтаньё сел к письменному столу и, пытаясь ответить на послание впечатлительной Маргариты, исписал листов двадцать бумаги, а затем разорвал их один за другим.
В итоге ему удалось составить двусмысленное письмо, полное заверений, разбухшее от напыщенных слов и содержащее в качестве противовеса множество "но" — гладких фраз, чрезмерно торжественных по стилю, игравших роль вьющихся растений, какие пускают по скверной стене, чтобы скрыть ее. Весь смысл послания заключался в заверении в вечной дружбе, которым оно заканчивалось. Как будто бы от него ждали именно этого!
Как раз это письмо и привело Маргариту в то состояние, в каком застал ее посланец г-на д’Эскомана.
Заочная казнь, устроенная Маргаритой своему прежнему любовнику, успокоила ее не более, чем Варфоломеевская ночь, которую она учинила фарфору, платьям и шалям, не имея ничего лучшего под рукой.
Господин де Монгла спас остатки посуды г-на Бертрана и гардероба Маргариты, пообещав ей доставить к ней Луи де Фонтаньё — живого или мертвого.
Молодой секретарь чрезвычайно обрадовался, увидев старого друга, в котором он надеялся обрести ценного помощника. Он начал было излагать ему события минувшей ночи, но шевалье прервал его в самом начале, подав взбунтовавшемуся любовнику мадемуазель Маргариты письмо, вызвавшее такую сильную бурю в ее душе.
— Мой любезный друг, — начал он, — вот написанное вами собственноручно письмо. Отныне не забывайте первой из заповедей любовного устава: пользуйтесь сколько угодно словом, которое Бог даровал людям, но умеренно употребляйте письменность, которую неизбежно должны были придумать прокуроры, ибо они так любят вкусно поесть.
— Как это письмо оказалось в ваших руках?
— Путем дипломатической комбинации, сделавшей бы честь господину Талейрану. Меня отправили к вам посланником; мне нужны были верительные грамоты, я попросил их и с великим трудом получил; теперь сожгите его и не грешите так больше; берите вашу шляпу и трость и следуйте за мной.
— А куда, шевалье?
— К повелительнице, которую я представляю, к Маргарите, черт возьми!
— Но, шевалье, разве вы не читали моего письма?
— Я чересчур скромен, чтобы позволить себе подобное. Мне его прочитали, и, поскольку мне его прочитали, я говорю вам: идемте!
— Неужели вы не поняли, что я не люблю эту девушку?
— Напротив. Если бы вы любили ее, я бы говорил с вами по-иному, но вы же не любите ее. Итак, в дорогу! Нас ждут!
— Шевалье, я чересчур вежлив, чтобы прямо сказать, что вы сошли с ума, но даю вам полное право предполагать, что я так думаю. Послушайте, ведь вчера вы пытались внушить мне отвращение к Маргарите, а сегодня превратились в нечто большее, чем в ее защитника.
— Да, большее! И все же это касается нас с вами! Отлично вижу, что мне следует объяснить мою манеру обращения с вами; итак, объяснимся. Д’Эскоман оскорбил меня, и вы были тому свидетелем. Отомстить ударом шпаги — такое стало банальным, к тому же это недостаточное мщение; удар шпаги никогда не приносит вреда тому, кого не убивают. Необходимо было запустить в подводную часть этого корабля что-нибудь такое, что отправило бы его прямо под парусами ко дну. Вы попались мне на глаза, я избрал вас пушечным ядром и метнул вас в Маргариту. Что поделаешь, мой дорогой друг! Я не мог действовать сам: мне не удается убедить женщин, что я еще очень хорошо сохранился! Вплоть до любезной госпожи Бертран, все они предпочтут мне какого-нибудь младшего лейтенанта. Однако привязанность, которую я к вам испытывал, усилилась из-за угрызений совести: я подумал, что вы принимаете все это всерьез и, как это делают сегодня у нас на глазах все наши ограниченные молодые люди, начнете молиться на девку, словно на Богоматерь, а такое отбило бы мне охоту к моей мести… Мне было неприятно посылать вас к вампирше, но вы уж должны воздать мне справедливость, я надавал вам целую кучу хороших советов, однако вы не захотели ими воспользоваться, и не без причины; когда эта причина бросилась мне в глаза, она изменила разом и мои намерения, и мое поведение. Ах, вы не любите Маргариту? Счастливейший из смертных! Позвольте же ей любить вас. Это столь же прекрасная роль, как и та, которой вы будете обязаны своему равнодушию! Бросайтесь в огонь, не опасаясь попортить шкуру! Но это своего рода философский камень, которым вы тут пренебрегаете, дражайший мой друг!
— Давайте поговорим серьезно, шевалье, — отвечал Луи де Фонтаньё. — Минутное заблуждение сделало меня любовником мадемуазель Маргариты, но я не усматриваю в этом причины, чтобы сохранить навсегда угрызения совести, которые я при этом испытываю. Избавьте меня от ваших настояний, ведь вы и сами сочли их бесполезными, когда я сказал вам, что люблю другую.
— Да, и вы еще расскажете мне, что Генрих Четвертый любил прекрасную Габриель! Это для меня станет почти такой же новостью, как и ваши признания. По одному вашему слову, оброненному между одиннадцатью часами и полночью, я обо всем догадался. Вы влюблены в госпожу д’Эскоман; это добродетельная маркиза явила на свет знаменитый кошелек из зеленого шелка; мне стала понятна вся ваша немудреная история. Я слишком плохо разбираюсь в книгах, чтобы не уметь достаточно хорошо читать по человеческим лицам. Вы просите меня стать серьезным — пусть будет по-вашему. Я утверждаю, что одинаково нелепо составлять мнение как о характере женщины, так и о цвете хамелеона. Женщина — это всего лишь отражение, и ничего более. Однако допустим, что прекрасная маркиза добродетельна настолько, насколько Бог позволяет это таким дамам, но разве роль робкого воздыхателя столь уж приятна? Если же добродетель госпожи д’Эскоман есть всего лишь чистое лицемерие, то, чистосердечно клянусь, это еще хуже! Вы не настолько богаты, чтобы позволить себе содержать девицу, и хотите покуситься на великосветскую даму? Несчастный безумец! Дороже всего обходится то, что ничего не стоит. Вам нужны ваши время и свобода? Дама отнимет у вас одно, а муж ее удовлетворится другим. Я уже вижу отсюда, как вы подносите даме платок и букет и, не зевая, слушаете враки ее мужа, зажатый между губками супружеских тисков, где вы будете раздавлены, опилены, скручены, прокованы вплоть до полного расплющивания. Вы странствуете в мире пустых мечтаний, дорогой мой мальчик; остановите дилижанс, расплатитесь с кондуктором, спуститесь на землю и обратитесь к доступным любовным связям, ведь только в них от мужчины хотят еще чего-то, помимо его имени, ведь только они позволяют сохранить независимость в чувствах, в поведении, в привычках и в поступках, что и должно характеризовать царя творения. Полюбить кокетку, Господи Боже, это же пожелать себе участь бешеной собаки!
Была еще третья возможность, которую г-н де Монгла обошел молчанием: случай, если бы г-жа д’Эскоман разделила любовь Луи де Фонтаньё; молодому человеку страшно хотелось заявить об этом, но он из скромности не осмелился этого сделать.
Шевалье еще долго распространялся о преимуществах, которые может получить молодой человек от подобной связи, говоря, что она занимает так мало места в его жизни и избавиться от нее можно когда угодно и столь же легко, как от вышедшей из моды одежды. Но эти доводы не особенно тронули Луи де Фонтаньё, и многословие старого дворянина явно опорочило дело, защитником которого он выступил; он утомил своего слушателя.
Господин де Монгла это заметил и пустился в ряд рассуждений, которые должны были оказать на Луи де Фонтаньё более сильное воздействие. Он рассказал ему, что разрыв Маргариты с ее прежним любовником был окончательным, что слух об этом событии обошел уже весь город и, весьма вероятно, маркизе д’Эскоман эта новость стала известна одной из первых; он заговорил об обязанностях, возникших у молодого человека по отношению к брошенной женщине после отъезда г-на д’Эскомана.
Однако Луи де Фонтаньё не уступал.
Чтобы одержать победу над этими сомнениями молодого человека, г-н де Монгла употребил доводы, которые он держал про запас: он стал восхвалять то, что сам считал безумием. Он обрисовал неистовую страсть маркиза к своей любовнице; рассказал о том, чему он сам был свидетелем; хвалил благородную преданность своего молодого друга Эмме, при этом намекнув, что эта преданность может оказаться напрасной, если Маргарита передумает и решится поехать в Париж, чтобы отыскать там своего прежнего любовника.
Более ничего уже и не требовалось; придерживаясь того же мнения, что и шевалье, Луи де Фонтаньё был растроган, увлечен, убежден; со своей стороны, г-н де Монгла перешел от красноречия к умилению и кончил тем, что овладел положением.
Он привел Луи де Фонтаньё к Маргарите, которая была слишком счастлива приходу молодого человека, чтобы тратить время на упреки; шевалье оставил их для объяснений, а сам отправился в клуб, чтобы рассказать его членам, что скрывалось под шкурой льва, в которой до сих пор так ловко прятался их предводитель.
XIV О ТОМ, КАК МОЖНО, КАЗАЛОСЬ БЫ, СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА И, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ДРУГ ДРУГА НЕ ПОНИМАТЬ
Луи де Фонтаньё был совершенно прав, решив воспользоваться чужим опытом и держаться на значительном расстоянии от коварной соблазнительницы; в нем решительно не было силы блаженного Робера д’Арбрисселя; он испытал все отвращение Иосифа во время свидания, на которое его насильно привел г-н де Монгла. Поскольку у него не было плаща, чтобы оставить его в руках супруги Потифара, последствия визита совсем не напоминали те, что некогда проистекли от страсти египтянки к сыну Иакова.
Повторная встреча весьма часто служит подтверждением такого рода связей; она подобна одобрению, которое Церковь и общество дает более основательным союзам. Торговец охотно позволяет щупать ткани, которые он вам показывает, и даже расположен к тому, чтобы предложить вам какой-нибудь образчик; однако, если вы будете дважды отрезать лоскуты от сукна, то можно поспорить на сто против одного, что он включит их вам в счет.
Все домашние Бертрана, от самого главы заведения до скромного поваренка, от трактирщицы до последней служанки, выстроились рядами в проходе, когда Луи де Фонтаньё шел к Маргарите.
Стены у дома были тонкие, и тревоги бывшей любовницы г-на д’Эскомана не могли остаться незамеченными.
С самого утра весь персонал дома, пренебрегая своими обязанностями, занимался только тем, что рассуждал, не окажется ли шатодёнская красавица в положении Буриданова осла (они, правда, говорили: "между двух мешков с помолом"). Все пребывали в состоянии растревоженного любопытства и, как и Маргарита, с нетерпением ждали развязки.
Целый кортеж провожал молодого человека, в сопровождении старого шевалье явившегося к Маргарите; но еще более предупредительными все выглядели, когда он оттуда вышел.
Виноваты ли в этом снова были стены дома? Или дело было просто в том, что Маргарита, для которой минута, проведенная вдали от ее нового любовника, казалась уже чуть ли не веком, не могла позволить ему спуститься по лестнице, не крикнув ему вслед, склонившись над перилами: "До вечера!"?
История умалчивает об этом; мы знаем только, что, выходя от Маргариты, счастливый молодой человек увидел картину, которая могла бы послужить моделью для одной из тех старинных литографий, что изображают с десяток лиц, выражающих с различными оттенками одно и то же чувство. Все улыбались, однако, если улыбка г-на Бертрана выражала презрение, то улыбка повара — зависть. Как бы ни старалась г-жа Бертран сделать свою улыбку пренебрежительной, на лице ее не отразилось ничего, кроме досады, тогда как служанки хохотали, выражая таким образом свое наивное восхищение происходящим, а поварята откровенно зубоскалили.
Лица всех этих мужчин и всех этих женщин уведомляли Луи де Фонтаньё, что пересудами о свершившемся факте он уже прикован цепью к Маргарите; идти на попятную становилось для него затруднительно.
Впрочем, первые несколько дней он об этом и не помышлял.
То, что называется рассудительностью, благоразумием, приходит со зрелым возрастом. Люди напоминают деревья: надо дать им состариться или нанести им увечья, чтобы получить от них вкусные плоды; плоды же их молодости или их полной мощи терпкие и жесткие.
И, по правде говоря, Луи де Фонтаньё был счастлив некоторое время, счастлив помимо собственной воли, счастлив упоительным блаженством; но было ли это чувство самым подлинным из всех тех, что окрашивают мир цветом, какой нас привлекает? Это блаженство было сильнее его любви.
Забыв обо всем, он должен был забыть и Эмму.
Не привнося в это никакого умысла, Маргарита так широко пользовалась во благо себе жизненной силой и молодостью своего любовника, что в его существовании не оставалось места ни для чего, кроме наслаждения и необходимого для восстановления сил оцепенения, которое за ним следует.
Даже лучшее на этом свете имеет свои отрицательные стороны; злоупотребление влечет за собой пресыщение, а пресыщение — остановку в любовной горячке, остановку, позволяющую обратиться к размышлениям.
Размышление неизбежно для всех искусственно разжигаемых страстей, питаемых постоянно воскрешаемым желанием; в безнравственности желания и заключается философский камень любовных связей.
К несчастью Маргариты, она не смогла обнаружить этот философский камень.
Неудача ее усугублялась еще и тем, что Луи де Фонтаньё не только размышлял, но и сравнивал.
Действительно, он был рожден мечтателем и должен был им умереть.
Встречаются два типа мечтателей: мечтатели неискренние, то есть поэты, и мечтатели пристрастные — существа, обычно обреченные либо на осмеяние, либо на несчастье.
Луи де Фонтаньё принадлежал ко второй из этих категорий. Вначале он мало-помалу дал увлечь себя в страну несбыточных мечтаний, а потом привык проводить в ней свою жизнь. Мы уже видели, насколько такое расположение духа парализовывало его волю; в сложившихся же обстоятельствах оно и не могло привести к иным последствиям.
Едва только Маргарита давала малейшую передышку своим чувствам, мысли его прояснялись и он возвращался к своим дорогим мечтам и нежным видениям, их населяющим… Хотя, чтобы заполнить эти мечты, достаточно было лишь одного видения — образа женщины, которую он так неистово полюбил и которая, похищенная у его любви, должна была оставаться для него идеалом, то есть тем, чему он отдавал предпочтение перед всем на свете, — достаточно было образа Эммы. К тому же Эмма из его мечтаний была вовсе не та Эмма, что он видел так недолго: эта была еще прекраснее и соблазнительнее, чем та! И подле нее он отдавался чистым и возвышенным наслаждениям, которых душа его жаждала тем сильнее, чем обыденнее и грубее были пресыщавшие его страсти. Конечно же, ему следовало спуститься с небес на землю, перейти от нектара к крепкому вину, покинуть сильфа, чтобы вновь обрести бедную Маргариту. Но ему приходилось сравнивать, а сравнение, естественно, шло ей во вред. Да и какая женщина может бороться с призраком, созданным воображением ее любовника!
В самом начале их связи Луи де Фонтаньё совершал подобного рода душевные измены своей новой любовнице лишь изредка и с большими перерывами; он сам избегал таких мыслей, поскольку полагал, что они способны напрасно тревожить его покой. Вступив в эту неприятную связь, он полагал себя навсегда разлученным с г-жой д’Эскоман; но мало-помалу, по только что упомянутым нами причинам, приступы уныния у него становились все чаще, и в конце концов эта мечтательность приняла хронический характер.
И тогда его желания становились все неистовее; препятствия, отдалявшие его от Эммы, не казались ему столь уж непреодолимыми; Маргарита, самое главное из этих препятствий, казалась ему постылой; он сожалел о том дне, когда встретил ее на своем пути, и проклинал свою собственную слабость.
Так что среди золота и шелка, из которых, по словам г-на де Монгла, рука доступной страсти должна была ткать их дни, появились и суровые нити.
Луи де Фонтаньё становился все более угрюмым и мрачным, избегал знакомых и даже самого старика-шевалье; он искал уединения, в котором только и можно было приблизиться к женщине, снова занимавшей все его думы, и мысленно разговаривать с ней. Почти все вечера он проводил на берегу реки Луар, где целыми часами следил за водой, бегущей по камням и разбивающейся водопадами об их неровности, и прислушивался к вызванному ветром однообразному шелесту листвы осин. Но во время этих размышлений видел ли он то, на что смотрел, слышал ли то, к чему прислушивался? Позволительно выразить сомнение в этом, ибо уже столько раз добрые горожане прерывали свою прогулку, наблюдая за этим странным занятием — если только мечтания можно считать занятием — секретаря господина супрефекта, но молодой человек не удостаивал любопытствующих даже взглядом.
Шатодёнская хроника утверждала, будто он слегка помешался. Возможно, эта самая хроника и была бы более снисходительна в своих суждениях, если бы моральный недуг, который поразил Луи де Фонтаньё, не давал очевидных доказательств того, что он может стать заразным.
С тех пор как Маргарита Жели перешла от маркиза д’Эскомана к Луи де Фонтаньё, ее невозможно было узнать.
Маргарита была несколько близорукой в умственном отношении; бесконечные душевные тонкости были для нее то же, что мельчайшие живые существа для человека, пьющего воду: они были для нее слишком незаметны, чтобы она о них задумывалась; ее плебейская натура осталась нетронутой; у нее не было времени расходовать себя на исследование подобных мелочей и ребяческое распределение их по разрядам.
Любовь не была для нее той утонченностью чувств, которой праздность деликатных людей дала это имя; для нее любовь определялась по открытым и бурным проявлениям, составляющим ее сущность; более она ничего и нигде не искала.
Здоровая, сияющая красота Маргариты, казалось, расцвела, с тех пор как девушка стала принадлежать Луи де Фонтаньё; мы сказали бы, что она проявляла себя глубоко признательной ему за это, если только такая признательность не была расчетом, но в то время никакой расчет еще не входил в любовь Маргариты. Она любила с такой нежностью, чувственной быть может, но сильной и бескорыстной, какую мы находим в природе и какая по сути своей представляет страсть.
Со своей стороны, Луи де Фонтаньё был слишком деликатен, чтобы причинять напрасные огорчения Маргарите; он скрывал от нее, как только мог, истинное состояние своей души, приписывая посторонним причинам угнетенное состояние своего духа.
Поэтому Маргарита чрезвычайно легко обманывалась в том, какое место она занимает в жизни молодого человека, и, несмотря на охлаждение время от времени их любовных отношений, она долгое время считала себя любимейшей и счастливейшей из всех женщин.
И это счастье, которое она не испытала в своей предшествующей любовной связи, произвело в ее характере перемены, изумившие весь город.
Прежде Маргарита была в высшей степени ленива и беспечна; ничто не могло вывести ее из присущего ей величественного равнодушия; казалось, она боялась утомить себя даже улыбкой; теперь же она стала подвижной и шумной и даже, оставаясь одна, предавалась порывам радости, выражавшимся в криках и громком топанье, на которые ее соседи уже не раз жаловались. Когда Маргарита поджидала Луи де Фонтаньё, облокотясь на подоконник, она скрашивала скуку ожидания пением, напоминая в эту минуту птицу на краю своего гнезда; увидев, как он появляется из-за поворота улицы, она впадала в исступленный восторг, проявления которого, лишенные всякого стыда перед людьми, заставляли оборачиваться прохожих.
Наконец — и это был признак, более всего тревоживший ее друзей, — становясь столь радостной, она становилась при этом нелюдимой. Все мужчины, за исключением ее любовника, стали ей скучны, и она дала им это понять; а поскольку они не решались в это поверить, то она без всякого стеснения закрыла перед ними свою дверь; и вот Маргарита — душа и свет всех застолий, жемчужина всех кружков небольшого сообщества шатодёнских кутил, приобрела, к их общему возмущению, манеры поведения, присущие кармелиткам.
Каждый высказывался по поводу этого перевоплощения; как правило, его приписывали ревности Луи де Фонтаньё, и, хотя Маргарита сменила комнату в доме г-на Бертрана на прелестную квартирку на улице Кармелитов, хотя молодой человек щедро выдавал своей любовнице деньги из своей части выигрыша, полученного им в компании с г-ном де Монгла, многие позволяли себе сетовать на участь несчастной жертвы.
Сама же несчастная жертва хохотала как безумная, когда до нее доходили слухи о таких сетованиях; но недалеко уже было то время, когда ей суждено было находить их не такими уж безосновательными.
XV ЗАМЫСЕЛ СЮЗАННЫ МОТТЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Через два месяца после только что рассказанных нами событий город Шатодён вновь обрел тот кладбищенский облик, каким он отличался в старые добрые времена.
Благородные семейства воспользовались отсутствием предводителя шатодёнского клуба, чтобы пробить брешь в этом последнем оплоте, обвиняемом в стремлении развратить молодежь.
Многие родители попробовали вернуть в отчий дом своих заблудших овечек — кто нежными упреками, а кто и приманкой богатого обзаведения; другие, более ловкие, проникли в крепость, намереваясь усилить слой мирных и умеренных людей, до этого пребывавших там в меньшинстве.
Большая зеленая зала клуба, со времен его создания ставшая предметом споров между курильщиками и теми, кого насмешливо называли париками, бесповоротно осталась за этими последними, установившими в ней строгую благопристойность, играя в вист по два су за фишку.
Тем самым был нанесен страшный удар по неугомонной части шатодёнского клуба; бедные молодые люди, лишенные права собираться вместе, понемногу утратили завоеванные ими напускные привычки, мало-помалу стали возвращаться к домашним очагам, безропотно танцевать на общественных балах, превращаться в знатоков сельского хозяйства и обедать за отеческим столом, чем они столь долго пренебрегали.
Несмотря на все свое желание, г-ну де Монгла не удалось остановить этот разгром; ему не хватало денег, которые позволяли г-ну д’Эскоману служить примером и поддерживать общее воодушевление. Не было больше ни безумных ночей, ни веселых застолий, ни диких забав; конюшни опустели, экипажи пришли в негодность, горожане стали разгуливать прямо по мостовым, ничто не отвлекало более благочестивых верующих от их молитв, и мостовые снова заросли травой, а физиономия старого шевалье, развлечения которого свелись к тем, какие он получал подле г-жи Бертран, вытянулась невероятным образом.
Шевалье стал находить, что у г-на д’Эскомана были свои хорошие стороны и что он, Монгла, проявил чрезмерную суровость, мстя любовнику Маргариты.
И вдруг пронесся слух, что маркиз вернулся.
Но новость эта произвела в городе не слишком сильное впечатление.
В области человеческих отношений всякая звезда, ставшая невидимой, это угасшая звезда. Господин д’Эскоман наскучил и своим друзьям, и своим недругам; он утратил свое безоговорочное влияние на друзей, опасавшихся его придирок и сносивших его насмешки; он утратил блеск необычайной эксцентричности, заставлявший недругов проявлять снисходительность к его порокам и выходкам, которые осуждала их благопристойность.
Поговаривали, что вернуться в Шатодён его заставили денежные затруднения, что г-жа д’Эскоман соизволила, наконец, заметить беспорядочные траты, характерные для управления ее имуществом; что переписки оказалось недостаточно, чтобы преодолеть сопротивление, оказываемое ею все возраставшему числу долгов, и прочее.
И в этих слухах было много правды.
Госпожа д’Эскоман принадлежала к тому типу женщин, которым чувство долга придает силы, напоминающие отвагу. Если бы она со всей искренностью прислушалась к своему сердцу, то поняла бы, что вот уже год муж более не занимает там того места, какое ему было отведено ее обманчивыми представлениями юной новобрачной; но как только у нее неожиданно появлялась какая-либо мысль, открывавшая ей истинное состояние ее души, она тут же решительно отвергала ее; она принуждала к молчанию тайный голос, желавший предупредить ее, и полагала, что у нее достанет сил укротить свое взбунтовавшееся сердце. Эта внутренняя борьба испепеляла ее жизнь даже больше, чем те огорчения, какие доставлял ей г-н д’Эскоман; но никто на свете не мог заставить ее признаться в этом. Когда ей показалось, что Господь внял ее молитвам, обращенным к нему, и открыл ее супругу путь к покаянию, она подумала, что Провидение возымело жалость одновременно к супруге и супругу, что оно пожелало вернуть мужа к исполнению его долга и навсегда избавить женщину от смутных опасений, которые только что были описаны нами и уже сами по себе казались ей преступными.
Она одержала победу над своей неприязнью; дурное обращение маркиза, свидетелями чему мы были, ее не обескуражило; добродетельная восторженность Эммы заставила зазвенеть в ее сердце струну, которая на самом деле уже была порвана, однако отвечала ее желанию вновь завоевать виновного звуками, полными нежности и любви.
Но г-н д’Эскоман покинул Шатодён, не сказав ей в утешение даже обыкновенного прости; он дал знать о себе лишь тогда, когда ему понадобилась подпись г-жи д’Эскоман для получения денег.
На этот раз у Эммы не было больше сил отрицать очевидное; она сомневалась в Боге, она сомневалась в себе самой.
Сюзанна Мотте ловко воспользовалась этим расположением духа своей молодой госпожи. До того времени гувернантку вдохновляла на все ее действия исступленная нежность, которую она испытывала к Эмме; грубое поведение г-на д’Эскомана ввергло ее в безумие от ненависти и ярости. И раз уж маркиза перестала принуждать старую гувернантку к молчанию, когда та пускалась в обвинения, Сюзанна с радостью в сердце дала себе волю. Она напрямик, без всяких намеков, рассказала все, что ей было известно из прошлого маркиза, и с удивительным тактом, какой дается только глубокому чувству, ловко сумела подметить смешную сторону всех его похождений, чтобы использовать это против него. Бог знает, сколько выгоды она извлекла из истории с Маргаритой Жели и из жалкой роли, какую играл великий покоритель сердец во время развязки этих событий!
Сюзанна не хотела, чтобы недостойный супруг Эммы оставлял о себе сожаления. Времена сожалений уже миновали. Невозможно более любить того, кого презираешь, — это избитая истина, справедливая, как и все избитые истины.
Приложив раскаленное железо туда, где, по ее предположению, была рана, Сюзанна намеревалась еще и заживить ее. Она строила немало воздушных замков, чтобы поселить там свою дорогую девочку. Да и стоило после всего этого так сокрушаться? Разве не говорила одна остроумная женщина, что замуж надо выходить для того, чтобы становиться вдовой, и разве не в этом, или почти в этом приятном положении оказалась теперь Эмма? Ведь у нее была молодость, было громкое имя и все еще блистательное, несмотря на посягательства ее достойного осуждения мужа, состояние; госпожа маркиза д’Эскоман, хотя у нее оставались только суетные светские утешения, могла еще считать себя довольной жизнью.
Ожидая этих посягательств и желая избавить от них молодую женщину, гувернантка сама возложила на себя обязанность распоряжаться и управлять всем ее имуществом; это под ее влиянием Эмма написала мужу решительный отказ поставить подпись под заемным письмом, на чем он настаивал.
Однако блестящие миражи, которыми Сюзанна прельщала свою госпожу, не вывели Эмму из уныния, ставшего, по-видимому, ее обычным состоянием. И тогда кормилица, полагая, что ее дело нуждается в завершении, вознамерилась уже в сотый раз приняться за тему г-на д’Эскомана, но Эмма при первых же словах Сюзанны остановила ее и, показывая на свое сердце, с улыбкой дала ей понять, что труд этот будет напрасен и отныне маркиз ничего для нее не значит. Успокоенная ее улыбкой, Сюзанна поздравила себя с победой, которую она приписывала своим усилиям; и все же у нее оставалась тревога по поводу грустного настроения Эммы: как гувернантка ни старалась, ей все же не удалось разгадать его причины.
Тем временем в Шатодёне вновь объявился г-н д’Эскоман.
Он приехал вечером и на другой день перед завтраком послал спросить у маркизы, не может ли она его принять.
Сюзанне очень хотелось присутствовать на этой встрече; она опасалась, что неоднократно данные ею Эмме наставления о том, как той следует держаться с мужем, окажутся напрасными, если у молодой женщины пробудится ее прежняя слабость к нему. Эмма, опасавшаяся, что ее может поставить в неловкое положение несдержанность чувств кормилицы, в конце концов заявила Сюзанне, что высказанное ею желание неисполнимо.
Господин д’Эскоман был не из тех людей, кто просто так отказывается от начатого дела; в высокомерных выражениях, с видом глубоко оскорбленного человека он заговорил об отказе, полученном им в ответ на его просьбу.
Эмма отвечала ему холодно и с помощью основательных доводов пояснила, до какого расстройства было доведено их состояние за предшествующие годы; ее поведение определялось вовсе не эгоистическими соображениями, ибо она никогда не боялась жить в скромном достатке; однако у г-на д’Эскомана были разорительные замашки, и следовало договариваться так, чтобы всякий раз иметь возможность удовлетворять их. В заключение Эмма заявила мужу, что она готова пожертвовать ему небольшие сбережения, предназначенные на дела благотворительности, и вручить ему все наличные деньги, какие у нее были в руках, но отныне не собирается трогать свой капитал.
Господин д’Эскоман был поражен спокойствием той, что еще совсем недавно бледнела и дрожала, глядя на него, а теперь разговаривала с ним о спорных делах с уверенностью опытного прокурора. Наконец, его ошеломило хладнокровие, с каким она выложила перед ним деньги, о которых шла речь.
Маркиз хотел было оттолкнуть их, но, видимо, он находился в том положении крайней нужды, что не раз заставляла сынков из знатных семейств идти на сделку со своей совестью, ибо он не уступил этому благородному побуждению.
В клубе, куда г-н д’Эскоман направился после этого супружеского свидания, он обнаружил, что утратил там свое влияние не в меньшей степени, чем у себя дома.
Ему предстояло снова завоевывать все, что он потерял.
Господин д’Эскоман не был лишен сообразительности; он подумал, что, коренным образом изменив свои привычки, сможет одновременно задобрить дракона Гесперид, охранявшего сокровища, и привлечь к себе общее внимание.
В тот же самый день, после обеда, он попросил у г-жи д’Эскоман позволения провести с нею часть вечера, что случалось за все время их супружества, возможно, пару раз.
Маркиз был с Эммой вежлив и предупредителен; он старался, хотя и без всякой пользы, ради Сюзанны, которая, не считая себя обязанной отступать от своих каждодневных привычек, с вязанием в руке, с повадками сторожевого пса, торжественно восседала на скамеечке у ног своей молодой госпожи.
Около десяти часов вечера Эмма, казавшаяся смущенной, обеспокоенной и задумчивой, в то время как муж рассыпался перед ней в комплиментах, попросила у него разрешения удалиться к себе; она вошла в свою комнату и, как только Сюзанна закрыла за ними дверь, упала в объятия кормилицы и залилась слезами.
Напрасны были старания Сюзанны узнать причину этой волновавшей ее печали: г-жа д’Эскоман хранила молчание.
Что же касается маркиза, то он отправился в клуб, чтобы провести там остаток вечера.
Появление его в зеленой зале — территории прежде спорной, а ныне захваченной и узаконенной мирными договорами — вызвало там некоторое смятение. Ее счастливые обладатели опасались, что у блистательного маркиза хватит влияния и отваги, чтобы заявить на нее свои права.
Но все оказалось далеко не так; войдя в залу, г-н д’Эскоман смирился с необходимостью пройти под кавдинским ярмом; смиренно бросив свою сигару в камин, он уселся за один из игорных столов, где как раз поджидали четвертого игрока для виста, и вежливо, чуть ли не почтительно спросил у партнера стоимость фишки.
Партнер его, давно уже отслуживший свой срок советник префектуры, отвечал, запинаясь и моргая глазами из-под больших круглых очков, водруженных на его носу, что обычная их ставка в игре — десять сантимов, но, если господину маркизу угодно…
Господин д’Эскоман прервал его с серьезным и одновременно учтивым видом:
— Моя ставка будет такой же, как и у всех; мне следует придерживаться ваших правил.
В то же время, в подтверждение своих слов, он достал из кармана горсть мелких монет и положил их перед собой.
Все присутствующие облегченно вздохнули — у них отлегло от сердца. Впервые такое количество медных монет ослепило игроков.
Наш прожигатель жизни проявил столько упорства, отстаивая несколько монет в пятьдесят сантимов, и столько ловкости, скрывая свою зевоту, что все игроки и зрители разошлись в восхищении от него.
Узнав о возвращении г-на д’Эскомана, Луи де Фонтаньё отступил от своей привычки проводить время дома и в одиночестве, которую он приобрел, сойдясь с Маргаритой, и отправился в клуб.
Господин де Монгла нарисовал ему такую душераздирающую картину отчаяния, сквозившего в письме, которое маркиз написал in extremis[8] Маргарите, что молодой человек задавался вопросом, уж не связано ли это внезапное возвращение с намерением маркиза снова вызвать его на дуэль; молодой человек не хотел выглядеть так, будто он избегает г-на д’Эскомана. Он, казалось, пребывал в таком расположении духа, что скорее желал поединка, чем уклонялся от него, ибо не раз в течение вечера создавалось впечатление, что он глазами ищет повода для ссоры с г-ном д’Эскоманом, который об этом явно и не помышлял; напротив, выходя из залы, где шла игра, он вполне естественно подошел к своему бывшему сопернику, взял его руку, которую тот не собирался ему протягивать, и, горячо пожав ее, дружески заговорил с ним; когда же все присутствующие удалились и слышать их разговор мог только г-н де Монгла, маркиз с полнейшим простодушием и доброжелательностью спросил, как поживает Маргарита.
И если Луи де Фонтаньё по-прежнему холодно принял слова г-на д’Эскомана, то шевалье де Монгла, наоборот, пришел от них в восторг.
"Браво! — говорил он себе. — Маркиз превосходно отыгрался; он, правда, немного побледнел, произнося имя красотки; но что совершенно в этом мире?!"
И старый дворянин радостно потирал руки. Он вообще не верил в исправление людей, а уж тем более в исправление человека, у которого и голова и сердце пусты. Он догадывался, что за этой смиренностью маркиза кроется какая-то военная хитрость, и, что бы из нее ни проистекло, она обещала ему хорошую жизнь на склоне его дней.
На следующий же день г-н д’Эскоман преуспел в половине поставленной им задачи: весь город говорил о том, каким чудесным образом сказался на его личности короткий отъезд из города; это служило темой бесед в великосветском обществе и в домах попроще, в особняках и в лавках, и, поскольку каждый хотел высказать собственное суждение по этому поводу, бедная Эмма, помимо того, что ее поздравляли друзья, терпела еще и поздравления посторонних.
Мы говорим "терпела", ибо, какие усилия г-жа д’Эскоман ни прилагала, чтобы чувствовать себя счастливой, а не казаться ею, она не находила свое сердце столь снисходительным, каким оно было прежде: оно оставалось печальным; и так как молодая женщина не владела искусством изображать чувства, которые она не испытывала, то во время всех этих поздравлений на ее лице лежал отпечаток того, что было у нее на сердце.
Вот почему, уходя от маркизы, каждый готов был поставить сто против одного, что в возвращении г-на д’Эскомана к жене не было ничего искреннего.
Маркиз, казалось, не считал своим долгом оправдываться перед этими оскорбительными подозрениями. Это была правда, что его пылкая любовь к Маргарите не угасла; ни ее тяжкие проступки, ни парижские развлечения не изгладили из его памяти образ неблагодарной шатодёнки; но, несмотря на его безотчетные сожаления о том, что ему больше не принадлежало, маркиз, как и все распутники, не мог смотреть на любую красивую женщину, будь то даже его собственная жена, без того, чтобы у него не возникало желания обладать ею; он попался в свою же собственную ловушку, всерьез взяв на себя роль, которую вначале хотел только разыграть.
Но самое странное было то, что вначале раздраженный холодностью, которую проявила по отношению к нему его жена, он не заметил изменений, произошедших в ее чувствах.
Он лишь проявил больше усердия в своих заботах, больше настойчивости в своих мольбах, больше пыла в изъявлении своих чувств.
Эмма обычно слушала его с рассеянным видом; иногда она устремляла на мужа взгляд, полный тоски и грусти; казалось, она спрашивала себя: "Неужели это тот самый Рауль, которого я так любила? Но отчего же его дыхание не вводит меня более в трепет?" От таких мыслей она тяжело вздыхала, а порой и плакала.
Господин д’Эскоман считал, что ее слезы вызваны лишь воспоминаниями о его ошибках; он бросался на колени перед женой и клятвенно заверял ее, что прошлое покоится в могиле и никогда не воскреснет. Слова его звучали искренне, но они только усиливали рыдания г-жи д’Эскоман.
Если кто и следил с жадным беспокойством за стадиями этого примирения, то это была Сюзанна Мотте.
Она слишком страстно любила вскормленное ею дитя, чтобы не найти в своей душе благородства и простить маркиза, если бы только понадобилось принести в жертву ее злопамятность; но ничто не ускользало от ее проницательности: ни замешательство, ни настороженность, ни тревоги молодой женщины; и она все более и более убеждалась в том, что Эмма не лгала ей и что она действительно не любила больше маркиза и поэтому отныне все его уверения и вздохи были напрасны.
Сюзанна начала горько сожалеть о том, что ее усилия способствовали такому результату; она каялась, била себя в грудь, предлагала свою жизнь как искупительное жертвоприношение, если Богу будет угодно принять его, — лишь бы только вернуть счастье своему ребенку.
Но события шли своим чередом, а с ними у Сюзанны возникали догадки.
Маркиз д’Эскоман никогда не принадлежал к тем людям, которые долго вздыхают под дверью, как бы она хорошо ни была забаррикадирована; по одному этому можно судить о том, что должно было произойти, когда он владел ключом от этой двери как законный собственник. Однажды, на следующий день после того как маркиз провел целый вечер наедине с Эммой, Сюзанна заметила у нее следы слез и нервное подрагивание и общее искажение черт лица, что заставило гувернантку задуматься. И наконец вечером, после отъезда г-на д’Эскомана, у Эммы случился нервный припадок; погруженная в отчаяние из-за болезни своего дорогого ребенка, Сюзанна искала причину этой болезни. Несомненно, у Эммы была тайна и она скрывала ее от своей кормилицы; это предположение стало для Сюзанны одной из самых мучительных горестей за всю ее жизнь. Однако она была не такой женщиной, чтобы проявлять хотя бы малейшее терпение в страданиях подобного рода; ее право на откровенность со стороны хозяйки казалось ей священным; кормилица полагала, что ей вполне дозволено совершать насилие над этой откровенностью, если, по какому-то непонятному для нее ребячеству, эта откровенность не была настолько безоговорочной, как бы ей этого хотелось.
Сюзанна принялась тщательно перебирать в уме все события в жизни г-жи д’Эскоман; она вспомнила лица всех посетителей дома за последние полгода; память кормилицы проделала невероятную работу, напомнив ей не только все поступки Эммы, но и все мысли, которые Сюзанне удалось прочитать в нежном взоре молодой женщины; кормилица тщетно перебирала их одну за другой, но так и не нашла нить, которая могла бы указать путь в этом лабиринте, прояснить тайную печаль, по всей видимости изнурявшую ее госпожу.
Прошлая жизнь Эммы протекала спокойно и гладко под безоблачным небом; на его горизонте не было облаков, и ничто в ней не предвещало бури.
Сюзанна сменила тактику, но не отказалась от своей навязчивой идеи; вместо того чтобы продолжать свои поиски в прошлом, она подвергла дознанию настоящее.
Но и настоящее тоже, казалось, противостояло догадкам гувернантки.
Госпожа д’Эскоман вела размеренную и правильную жизнь, из дома выезжала мало. По утрам она ходила в церковь; во второй половине дня, перед ужином, совершала короткую прогулку в экипаже; Сюзанна сама всегда сопровождала хозяйку в церковь, а вечером при Эмме всегда были кучер и выездной лакей, слишком хорошо знавшие, какое влияние имеет старая кормилица в доме, чтобы не пытаться угодить ей во всем, в особенности уведомляя ее обо всех значительных событиях, ставших им известными.
Это доводило ее до отчаяния. Изнемогая, Сюзанна опустилась до приемов пошлого любопытства: она подслушивала под дверьми, вскрывала письма на имя своей госпожи; никогда еще оплачиваемая каким-нибудь ревнивцем дуэнья не проявляла столько изворотливости и рвения в своей слежке. Но тайна Эммы оставалась непроницаемой, а сама она с каждым днем становилась все более печальной; физические проявления ее недуга, тревожившие кормилицу, приняли еще более серьезный характер.
Сюзанна кончила тем, что отреклась от своих подозрений и стала приписывать все происходящее с Эммой той внутренней болезни, что сопровождает заболевания желудка или груди и в просторечии называется истощением; она преодолела свою неприязнь к г-нуд’Эскоману, решив поговорить с ним и просить его вызвать к Эмме врача.
В тот же день, когда Сюзанна приняла это решение, она, провожая Эмму на прогулку и помогая ей подняться в карету, услышала, как кучер спрашивал у выездного лакея, складывающего подножку кареты, куда нужно отвезти маркизу.
— Что за вопрос! — отвечал тот. — Туда, куда маркиза ездит каждый день.
Сюзанна не стала ждать вечера, чтобы выведать, какое место ее хозяйка предпочитала для прогулки; гувернантка обладала нюхом ищейки: как ни остыл след на дороге, она его разгадала. Она завязала свой чепчик, накинула на плечи ситцевую шаль, взяла в руку знаменитый зонтик, которым она на наших глазах столь удачно фехтовала, и храбро бросилась догонять пару английских лошадей, увозивших ее хозяйку.
Выходя из особняка, она заметила, что карета повернула налево: без всякого сомнения, маркиза направилась в сторону парижской дороги. Сюзанна ускорила шаг и, чтобы сократить себе путь, пошла переулками, расспрашивая прохожих, которые встречались ей в предместье. Но, разумеется, никто из них не видел экипажа г-на д’Эскомана. Сюзанна понеслась по следу; она распутывала его, возвращалась обратно и так, переходя от метки к метке, от расспроса к расспросу, в конце концов узнала, что видели карету, спускавшуюся к берегу реки Луар.
В ту минуту, когда гувернантка добралась до окраины предместья, она заметила в облаке пыли карету Эммы и, открыв зонтик, укрылась за ним, как солдат за фашиной.
Окончив прогулку, г-жа д’Эскоман возвращалась домой; Сюзанна в этот день так ничего и не узнала, но заподозрила, что за всем этим что-то кроется.
Когда она остановилась, чтобы перевести дыхание и утереть пот, приклеивавший к ее вискам большие пряди ее седеющих волос, мимо нее прошел Луи де Фонтаньё.
Гувернантка не обратила на молодого человека ни малейшего внимания; он не появлялся в особняке д’Эскомана с того самого дня, как маркиз представил его жене, а всем известная его связь с Маргаритой сделала его безопасным в глазах Сюзанны.
На следующий день, задолго до того как г-жа д’Эскоман приказала подавать экипаж для прогулки, Сюзанна уже заняла свой наблюдательный пункт позади пригорка справа от дороги, откуда она свободно могла обозревать ее всю.
Но вот появился экипаж; он четыре раза рысью проехал прогулочную аллею взад и вперед, однако при этом ни разу не останавливался, а к его дверцам никто не приближался.
Сюзанна сочла, что и на этот раз ее слежка была напрасной, как вдруг она опять столкнулась с Луи де Фонтаньё. Как ищейка навострив уши и принюхиваясь, она тут же с большим вниманием, чем это было накануне, принялась рассматривать этого любителя берегов реки Луар.
К своему большому удивлению, кормилица заметила на лице молодого человека следы глубокой тоски и признаки печали; как и на лице Эммы, на его лице лежала печать страдания; он был бледен и, казалось, поглощен какой-то одной мыслью.
Гувернантка поторопилась вернуться домой; кучер уже распрягал лошадей.
Она вошла в покои своей госпожи и застала ее еще более удрученной и грустной, чем прежде.
Сюзанна выступала за сильнодействующие средства.
— Отгадайте, сударыня, — неожиданно сказала она, — кого я только что спровадила.
— Кто бы это ни был, ты правильно сделала, моя добрая Сюзанна. Я так утомлена, что не желаю никого видеть.
— Да, но, когда я скажу вам имя посетителя, вы расцелуете меня в знак благодарности.
— Ну, говори же! У меня нет никакой охоты к шарадам.
— Понимаете ли, — скрестив руки, продолжала гувернантка, стараясь при помощи негодующего тона прикрыть свою ложь, — понимаете ли вы всю дерзость этого господинчика?
Бледные щеки Эммы покрылись красными пятнами; прежде чем Сюзанна закончила свою речь, она догадалась, о ком та говорила.
— Тот самый, что однажды оскорбил нас, — продолжала кормилица, — тот самый развратник, что срамится с бесстыднейшей из бесстыдниц, просил позволения видеться с вами! Как бы не так!
Гувернантка не стала распространяться дальше, хотя не в ее привычках было останавливаться так быстро.
Румянец на щеках Эммы внезапно исчез; она стала белой, как ее батистовый платок на шее, и живо прервала Сюзанну, попросив ее принести стакан воды.
Спускаясь в буфетную, кормилица была взволнована не меньше своей госпожи.
— Боже мой! Боже мой! — бормотала она. — Что же с нами будет?
XVI ТАЙНА МАРКИЗЫ
Итак, Сюзанна в самом деле разгадала тайну своей госпожи.
Эмма испытывала к Луи де Фонтаньё чувство, с которым она решительно боролась, однако с каждым ее поражением оно все больше захватывало ее сердце, поскольку силы, требуемые для этой борьбы, у нее истощались.
С первой встречи с этим молодым человеком г-жа д’Эскоман живо заинтересовалась им. В нем отсутствовала та пошлость и то надутое самодовольство, какие она замечала в тех, с кем ей приходилось встречаться до этого; восторг, с каким она внимала его обещаниям отдать всего себя ее счастью, окончательно завоевали Луи де Фонтаньё особое место в мыслях Эммы; на следующий же день после его заверений в готовности приложить все усилия, чтобы вернуть ей мужа, она смогла удостовериться, что он сдержал свое слово; она ожидала его визита, уверяя себя, что желает лишь отблагодарить молодого человека за это неопровержимое доказательство его преданности и побеседовать с ним о неблагодарном Рауле; но, быть может, она уже подчинялась смутному внушению любви; быть может, зачаток чувства, брошенный в сердце г-жи д’Эскоман без ее ведома, уже давал первые ростки.
Но Луи де Фонтаньё не пришел к маркизе.
Он не пришел к ней, испытывая непреодолимое замешательство от того, что ему надо было предстать перед знатной дамой, с которой он осмелился говорить о любви, так легко изменив ей потом с обыкновенной гризеткой.
Но подобная застенчивость пошла ему на пользу более, чем самое ловкое проворство.
Сдержанность, которую он проявил, не придя требовать награду за оказанную им услугу, была отнесена за счет его чрезмерной чуткости; в глазах Эммы он стал истинным героем любви.
Госпожа д’Эскоман еще так мало знала свет, что и в замужестве не изжила дух монастырского пансиона; а всем известно, как такого рода герои прокладывают дорогу в умы пансионерок. Она думала о Луи де Фонтаньё днем и ночью, и дружба, которую она обещала Луи де Фонтаньё, дружба чистая и простая, которую она каждый день ожидала открыто разделить с ним, немало помогли ей преодолеть без особых последствий упадок духа, испытываемый ею в первые дни после отъезда мужа. В это самое время Сюзанна принялась, согласно своей тактике, лечить хозяйку чрезмерностью боли: она воспроизвела ей признания, которые, вероятно, г-н д’Эскоман никому никогда не делал. Вполне естественно, что тема Маргарита — Фонтаньё занимала немаловажное место в эпизодических рассказах кормилицы.
Эмма поняла тогда, что лелеемое ею чувство несколько перешло границы дружбы, которые она ему установила; слушая, как Сюзанна, с целью как можно больше унизить г-на д’Эскомана в глазах его жены, описывает в свойственной ей живописной и образной манере страсть, соединившую Маргариту и Луи де Фонтаньё, молодая женщина чувствовала, как сердце ее сжималось, а глаза наполнялись слезами; это приводило ее в ужас.
Она противопоставила боли самое недейственное из всех лекарств; она говорила себе, что, в конце концов, г-н де Фонтаньё был волен выбрать ту любовницу, какая показалась ему привлекательной, что дружбу не должны сильно заботить такие мимолетные любовные связи; не убеждая себя, она старалась забыться.
И только по возвращении г-на д’Эскомана, когда сначала корысть, а затем прихоть привели мужа к ее ногам, Эмма поняла, что мысль, которой она вначале не придавала никакого значения, обратилась для нее в чувство, пустившее корни во всех уголках ее сердца.
Между ней и мужем отныне стал призрак, неумолимо преследующий ее; он сводил на нет все ее попытки избавиться от него, он не поддавался всем ее мольбам, он находил способ проникнуть сквозь ее веки в зрачки, когда она закрывала глаза, чтобы больше его не видеть. Этот образ шел за ней повсюду, он сопровождал ее, когда она гуляла вместе с мужем, он подслушивал их разговоры, он располагался в ее спальне, он становился на пороге алькова и со строгостью часового, беспрекословно выполняющего приказ, не позволял ее мужу перешагнуть этот порог.
Сколько раз, когда г-н д’Эскоман пытался поцеловать ее, он видел, что она с ужасом вздрагивает: Эмме казалось, что она ощущает, как к ее губам прикасаются пылающие губы призрака, которого ее растревоженное сознание наделяло плотью и жизнью.
И призрак этот не был немым: он обладал речью, внятной только сердцу Эммы, но внятной явственно; голосом, заставлявшим тело молодой женщины трепетать, как лист от порыва ветерка; словами, раздиравшими душу болью и упреками, если порой она пыталась избавиться от этого наваждения.
Под влиянием того, что происходило в воображении Эммы, это наваждение в течение недолгого времени стало достаточно сильным, чтобы властвовать над ее разумом, чтобы у нее не было мужества отказаться от того, в чем она испытывала потребность, даже когда это выходило за пределы ее мечтаний. Вот почему уже много раз, несмотря на упреки своей совести, Эмма возвращалась в то место, где она впервые встретила Луи де Фонтаньё и куда его приводили почти те же самые чувства, что были и у нее.
Из всех земных страстей Сюзанна понимала лишь две: любовь кормилицы к вскормленному ею ребенку, любовь, которой она прощала всякую крайность, и ту, которую жена могла испытывать к своему мужу, — эту она ограничивала самыми тесными рамками; ей казалось невозможным, чтобы скромная молодая девушка, с опущенными глазами, нежным голосом и стыдливой речью, как ей хотелось представлять себе Эмму, могла дойти до подобной безудержности чувств; она рассматривала такое как некую чудовищность, образчики которой могли представить лишь негодяи типа г-на д’Эскомана и г-на де Фонтаньё.
Так что Сюзанна была не только удивлена, но и испугана, когда глубокое душевное переживание, испытываемое Эммой, подействовало на ее здоровье; когда она увидела, что ее воспитанница, чахнувшая некоторое время, тяжело заболела.
Врач г-жи д’Эскоман искусно диагностировал причины ее недуга. Внутренние органы были задеты лишь косвенно, и болезнь проявлялась в виде нервной лихорадки и вспышек мозгового расстройства. Он заподозрил глубокое душевное потрясение и, разумеется, приписал его огорчениям, какие г-н д’Эскоман доставлял своей супруге.
Сюзанна, с которой ученый человек поделился своими впечатлениями, согласилась с ним; но в душе она начала чувствовать, что ее взгляды на супружескую любовь хозяйки ослабли и пошатнулись.
Сюзанна не допускала и мысли, чтобы кто-то другой, кроме нее, ухаживал за больной Эммой; целые ночи напролет она просиживала у нее в ногах, наполовину прикрытая складками широких занавесей, драпировавших постель, и при мерцающем свете ночника следила за всеми движениями, которые стесненное дыхание Эммы передавало ее груди; она погружалась в созерцание лица молодой женщины, все еще прелестного в своей бледности, и время от времени отбрасывала кружева подушки, чтобы лучше видеть его.
В одну из ночей, когда приступы лихорадки, окрасившей щеки больной румянцем, поддерживали ее в постоянном возбуждении, хотя она и дремала, Сюзанне показалось, что губы маркизы невыразимо нежно прошептали мужское имя.
Спустя несколько дней доктор, которого Сюзанна ежедневно с тревогой расспрашивала о состоянии своей госпожи, ничего не ответил ей и лишь многозначительно покачал головой.
Ни один катаклизм, потрясающий миры, не произвел бы большего действия на Сюзанну, чем этот немой приговор; она испустила ужасный крик, крик львицы, у которой охотники отнимают львят, и бросилась в спальню Эммы.
Не думая о том, что своими проявлениями горя она может испугать хозяйку и значительно усугубить ее болезнь, кормилица устремилась к постели Эммы, приподняла больную, прижала к своей груди и стала осыпать ее лицо поцелуями и слезами. Сюзанне уже виделся призрак смерти; она готова была броситься между ним и его жертвой, упорно защищая ее и не позволяя отнять ее у себя, пусть даже разорванную на куски.
Затем послышались бессвязные слова, передававшие накал ее исступления, безумие ее отчаяния; они прерывались рыданиями и криками ярости, которые удар, нанесенный в материнское нутро, заставил исторгнуть эту дикую и примитивную натуру; она казалась страшной, а через мгновение становилась нежной; она то угрожала, то умоляла. Она принималась укачивать Эмму, как делала когда-то давно, перед тем как положить ее спящей в колыбельку. В первый раз она произнесла в ее присутствии имя Луи де Фонтаньё, не упрекнув молодую женщину за эту страсть, которую угрожавшая ей опасность делала простительной в глазах кормилицы. Более того, она принялась оправдывать Эмму и в неистовстве своей безутешности не только одобряла ее страсть, но еще и обещала ей, что эта страсть будет вознаграждена взаимностью, — как если бы кормилица занимала ребенка игрушкой, чтобы успокоить его крики.
— Умереть! — говорила она ей. — Тебе умереть раньше меня?! Да разве такое возможно? Да разве Господь Бог допустит такое? Да разве он не посылает зиму раньше весны? Господь Бог — это вам не врачи! Один он волен в том, чтобы мы жили или умирали. Врачи! — продолжала она с презрительной улыбкой. — Да разве мы нуждаемся в них? Разве я не подле тебя? Разве я обращалась к ним, когда ты болела прежде! Кто ухаживал за тобой, когда у тебя была ангина? Я! Ха-ха-ха! Врачи! Если бы они знали, как я смеюсь над тем, что они говорят!.. Ты поправишься… Да, она очень скоро поправится, моя дорогая Эмма… Я так этого хочу! Прежде всего не надо терзать свое сердце столькими огорчениями… Огорчения у тебя! Да отчего же, великий Боже? Да кто это вздумал запрещать тебе его любить, этого господина де Фонтаньё, если ты его любишь? Твой муж? Не он ли сам подавал тебе в этом пример! И к тому же не он ли принялся снова за свои бесстыдные делишки, с тех пор как ты заболела? Если и следует в кого-нибудь бросить камень, разве в тебя он должен попасть? Когда ты молода, нельзя жить без любви: она утешает нас, женщин, в наших печалях. Иначе невозможно; я прекрасно это знаю, я сама через все это прошла, как и другие (тут уж Сюзанна возвела на себя напраслину). Так будь же спокойна, — продолжала она. — Ты же знаешь, я никогда не давала тебе плохого совета. Так вот, поверь мне, когда я говорю тебе, что нужно избавиться от этих мерзких печалей, которые одни только повинны в твоем недуге. Ни у кого нет более чистой совести, чем у тебя; после всего того, что с тобой сделали, тебе все позволено. Давай же, воспрянь духом! Через несколько дней ты будешь здорова, а когда ты поправишься, то непременно исполнится все, что ты пожелаешь.
В это время Эмма находилась в том состоянии оцепенения, какое следует за лихорадочным возбуждением; восторженность гувернантки вначале ее скорее изумила, чем испугала; затем, когда та стала повторять имя, которое без конца нашептывало молодой женщине ее сердце, Эмма закрыла глаза, как бы опасаясь, что исчезнет такое утешительное сновидение, и уснула с улыбкой, почти успокоенная тем радужным будущим, которое на горизонте ее любви уже усмотрела кормилица, без труда разгадавшая сердечную тайну своей воспитанницы.
Легкое улучшение в состоянии больной, последовавшее за этим кризисом, убедило Сюзанну в ее самонадеянных предположениях, высказанных ею под влиянием отчаяния. В ее глазах доктор был уличен в явном невежестве; она не только перестала интересоваться его мнением о состоянии здоровья г-жи д’Эскоман, но и предпочитала отвечать с оскорбительной краткостью на вопросы, которые ему позволялось задавать ей по поводу того, что происходило после его предыдущего визита.
Легко догадаться, что Сюзанна не ограничилась лишь однократным испытанием целебных средств, принесших ей успех.
Каждый раз, оставшись наедине с Эммой — и Богу известно, испытывала ли она недостаток в предлогах, чтобы такое случалось как можно чаще, — кормилица неизменно переводила разговор на Луи де Фонтаньё; зная молодого человека крайне поверхностно, добрая женщина говорила о нем так, как будто она проникла в глубины его души; она награждала его всяческими добродетелями и приписывала ему всякого рода привлекательные черты; чтобы оправдать свою госпожу, Сюзанна не останавливалась ни перед каким преувеличением.
Вообще человеческие недуги чересчур приукрашивают; чтобы болезни оставались такими, какие они есть на самом деле, нужно изображать их более наглядно; обычно все чахнет, все умаляется, все слабеет в преддверии грядущего разложения. Человеческий организм напоминает тогда ткань, у которой под действием какой-нибудь едкой жидкости распадаются и ослабляются нити и в то же время меркнет цвет. Болезнь редко ограничивается телесными повреждениями, гораздо чаще она поражает и умственные способности человека, вплоть до его чувств.
С тех пор как Эмма заболела, она утратила способность отдавать себе отчет в том, что такое добро и зло. Она и не подумала оттолкнуть от себя чашу с ядом, подносимую к ее губам; не находила ли она там забвение своим печалям? Не исходила ли оттуда надежда, то есть здоровье, жизнь?
Но как только силы стали возвращаться к ней, в маркизе пробудился инстинкт долга, или совсем иного чувства, и вновь началась борьба со страстью, проникшей в ее душу. И вот однажды, когда она уже поправилась и кормилица, по своему обыкновению, с готовностью стала распространяться на излюбленную тему своих бесед — о счастливом будущем, ожидавшем ее ребенка, Эмма ответила ей, что такое счастье не для нее, что она сможет наслаждаться им лишь ценой преступления и, кроме того, существует еще множество других причин, препятствующих его осуществлению.
И тут, покраснев от стыда, она произнесла имя Маргариты Жели и, заливаясь слезами, спрятала лицо на груди своей кормилицы.
Сюзанна была поражена.
В области фантазии она зашла так далеко, что совершенно сбилась там с пути. Рисуя себе какого-то немыслимого Луи де Фонтаньё и помещая свою хозяйку в сердце этого созданного ее воображением существа, она совершенно забыла о том, что в действительности место там уже занято.
Во второй раз Сюзанна увидела, как разверзлась зияющая пропасть, готовая поглотить Эмму; но она предпочитала скорее броситься в эту пропасть сама, чем позволить туда упасть своей воспитаннице!
И на следующий день она попросила горничную заменить ее около г-жи д’Эскоман и отсутствовала часть дня.
XVII ГЛАВА, СЛИШКОМ ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫХ И СЛИШКОМ ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЛЕГКОМЫСЛЕННЫХ
Что бы ни делала Маргарита, какие бы ни пускала в ход женские уловки, она не только не сумела восстановить свою власть над сердцем Луи де Фонтаньё, но и с каждым днем утрачивала свое чувственное влияние на молодого человека.
Поражение бедной женщины оказалось столь полным, что она даже еще не подозревала о своем несчастье; Луи де Фонтаньё удерживало возле нее лишь одно чувство — убежденность в том, что разрыв с ним доставит ей глубокие страдания.
Поспешим оправдать Луи де Фонтаньё, на кого те, кому трудно угодить, несомненно возложат всю вину за создавшееся положение, и добавим, что, при всем своем стремлении поправить дело, Маргарита проявляла в этом исключительную бестактность.
Она стала любовницей молодого секретаря неожиданно для них обоих и независимо от их чувств; ей было хорошо известно, что сердце не принимало никакого участия в развязке их первого свидания; она сама сказала об этом Луи де Фонтаньё; в тот вечер, за ужином, она подслушала, как молодой человек излагал шевалье весь свой прекрасный замысел возвращения г-на д’Эскомана к жене. И ее стало терзать подозрение, что холодность к ней Луи де Фонтаньё, которую он не высказывал, но помимо своей воли давал ей почувствовать, кроется в его любви к другой.
Каждая женщина имеет в своем лице отличительную особенность, которой природа позволяет ей пользоваться во благо, а то и во вред. У одних это веселое выражение лица, у других — грусть и слезы; однако всем им опасно посягать на владения соперниц, почти так же опасно, как брюнетке — украшать себя белым тюрбаном, а блондинке — возлагать на свою голову пунцовые цветы; такого рода причуды могут позволить себе только королевы, ибо они прекрасны по праву рождения.
Маргарита и не подозревала о существовании этого простейшего правила и, горячо желая понравиться своему молодому любовнику, каждый день наталкивалась на немыслимые трудности.
Ни смеха, ни веселости, ни нежных чувств не дал Бог Маргарите, чтобы она могла пускать их в ход; глаза ее равным образом противоречили и тому и другому; у нее были томные, полные чувственности глаза — мужчины любят видеть время от времени такие у своей любовницы, но были бы приведены в отчаяние, если бы эти глаза оставались такими всегда.
Эти злополучные глаза постоянно опровергали то, что говорила их обладательница; они не вязались с намеченным ею образом действий — и когда она пыталась, напуская на себя игривость, разгладить морщины на сумрачном лице, с каким Луи де Фонтаньё приходил на все их свидания, и когда она старалась, чтобы очаровать его, воспроизвести то, что про себя называла задумчивым видом г-жи д’Эскоман. Они восставали против всех ее попыток; у них всегда было одно и то же выражение, и однообразие их призывов, даже без ведома Маргариты, мало-помалу усиливали равнодушие, с каким эти призывы воспринимались.
Самый привередливый желудок бывает у тех, кто хорошо пообедал. Луи де Фонтаньё питался мечтаниями, но он был из тех людей, кому мечтаний доставало, чтобы насытиться.
Но это было еще не все; Маргарита не осознавала всей опасности, стоявшей за разногласиями в их любви; заурядная по натуре, она не способна была понять целомудренности и нежности любви, подобной той, что питал в святилище своего сердца молодой человек, и, вместо того чтобы воспользоваться скрытыми и обходными путями, которые, возможно, и позволили бы ей добиться успеха, она в лоб нападала на страсть, составлявшую помеху ее желаниям, и делала это так неловко, что лишь усиливала ее; она пускалась в клевету на г-жу д’Эскоман, клевету, вынуждавшую собеседника Маргариты настаивать на добродетелях и достоинствах той, которую он любил.
Если же она пыталась разыгрывать меланхолию, то получалось еще хуже.
Истинная меланхолия подобает лишь душам, обладающим некоторой твердостью; слабым натурам ведома лишь грусть, напоминающая меланхолию, но она не такая упорная, не так ясно выраженная. Неотступная мысль, терзавшая рассудок Луи де Фонтаньё, сделала скучными для него все развлечения; но у него не было сил бежать от них, как не было энергии искать их; и он терпел их, потому что при таком состоянии его души всякое волнение, всякое усилие были ему невыносимы, как и шум, раздававшийся рядом с ним, когда он странствовал в мире грез.
Таким образом, он продолжал посещать Маргариту Жели и оставался ее любовником, руководствуясь тремя чувствами — жалостью, тактом и долгом.
Кроме того — следует говорить все, — шевалье де Монгла внушил ему мысль о том, что, вольно или невольно лишив ее прежнего положения, он теперь не вправе был уклоняться от ответственности за судьбу несчастной девушки. Вот почему Луи де Фонтаньё так щедро одаривал ее деньгами, выигранными в карты, пытаясь своей расточительностью кое-как успокоить собственную совесть.
В конце концов, роль жертвы всегда доставляет тем, кто принимает ее, тайные утешения; так и Луи де Фонтаньё не без некоторой восторженности думал о том, что он пожертвовал собой ради счастья обожаемой им женщины; и поэтому, в особенности после возвращения г-на д’Эскомана в Шатодён, он счел, что обязан навсегда сохранить за собой эту роль жертвы; он держался возле Маргариты, чтобы противодействовать мечтам маркиза о прекрасной шатодёнке. С другой стороны, болезнь Эммы сблизила Луи с ее супругом; слухи, ходившие в обществе о состоянии молодой женщины, были неточны и противоречивы. Полный тревоги, Луи де Фонтаньё бродил вокруг особняка д’Эскоманов, надеясь встретиться с Сюзанной; но гувернантка не отходила от своей госпожи, и молодой человек вынужден был обратиться с расспросами лично к г-ну д’Эскоману.
У Эммы было слишком мало необходимых средств, чтобы удержать распутника, чтобы вынудить г-на д’Эскомана продолжительное время добиваться осуществления супружеской прихоти или корыстного расчета, приведшего его к жене. Увидев неожиданное сопротивление, оказанное Эммой его желаниям, он вернулся к своим прежним привычкам; болезнь жены лишь усугубила их, маркиз воссоздал свой прежний отряд прожигателей жизни, и он не сомневался, что ему удастся завербовать в него своего преемника, нового любовника Маргариты; у г-на д’Эскомана было немало причин, чтобы поступить таким образом. Вот почему он проявил по отношению к Луи де Фонтаньё самую искреннюю сердечность, тем не менее весьма легкомысленно отвечая ему на вопросы, которые, по мнению маркиза, не могли так уж сильно затрагивать интересы его прежнего противника.
Молодой человек был в восторге от подобного приема, обещавшего ему пусть и не желанное место у изголовья Эммы, но, по крайней мере, возможность быть постоянно в курсе того, как протекает ее болезнь.
Некоторое время спустя у него появилась еще одна причина радоваться дружеской симпатии, проявляемой к нему г-ном д’Эскоманом.
С тех пор как Луи де Фонтаньё показалось, что маркиз не интересуется больше своей бывшей любовницей, он все реже и реже стал посещать Маргариту; тем не менее однажды, спускаясь из ее комнаты по слабо освещенной лестнице, он столкнулся с женщиной, лицо и фигура которой поразили его: в темноте ему почудилось, что он узнал в ней гувернантку г-жи д’Эскоман.
Появление Сюзанны в доме, где жила Маргарита, показалось ему странным; хотя, обдумав все это, молодой человек уже вышел на улицу, он не смог устоять перед любопытством и снова поднялся по лестнице.
Маргарита занимала второй этаж дома на улице Кармелитов; на третьем этаже находились три мансарды, в двух из которых ночевали подмастерья шляпника, имевшего в нижнем этаже того же дома свою мастерскую, и возвращались они к себе только вечером; третья мансарда служила жилищем вязальщице тапочек, которую все звали матушкой Бригиттой; вместе с ней жил мальчик лет десяти или одиннадцати, ставший сиротой после того как умерли его родители — дочь и зять бедной старухи — и находившийся на ее попечении.
Маргарита, сострадательная, как все простые девушки, часто вызывала жалость Луи де Фонтаньё к бедам матушки Бригитты, и он вручал своей любовнице милостыню, предназначенную для бедного хозяйства; новая милостыня была подходящим поводом, чтобы зайти к старушке.
И он решительно постучал в дверь мансарды.
Его палец еще барабанил по доске, когда дверь отворилась и на пороге показались матушка Бригитта; отклик на призыв последовал так скоро, что ему показалось, будто старуха ожидала его визита.
Она низко, чуть ли не уходя в землю, поклонилась Луи, и он воспользовался этим ее движением, чтобы окинуть взглядом убранство убогой комнаты; по правде говоря, это было нетрудно сделать.
Он увидел Никола — так звали внука старухи, внимание которого было настолько поглощено двумя занятиями сразу, что он даже не обернулся на шум открываемой двери.
В одной руке Никола держал гребень и с остервенением водил им по своим стоящим дыбом волосам, а другой пытался снять пробу с обеда и ухватить какой-нибудь кусок из котелка, стоявшего на глиняной печи, котелка, откуда витками вырывался пар, аппетитный запах которого вполне объяснял рвение, проявляемое метром Никола, чтобы использовать досуг, предоставленный ему бабушкой.
Ни один из трех стульев, составлявших всю обстановку чердачной комнаты, не был сдвинут с места, а сама она казалась слишком узкой, чтобы кто-нибудь — и тем более с телосложением Сюзанны — мог утаить здесь свое присутствие. Определенно, вовсе не к матушке Бригитте приходила кормилица г-жи д’Эскоман, если только это была она.
Луи де Фонтаньё стал расспрашивать старуху, но она была глуха и отвечала ему лишь новыми поклонами, доходившими до коленопреклонения, и горячей признательностью за полученные ею благодеяния.
Сильно заинтригованный, Луи де Фонтаньё, оставив старухе монету в пять франков, продолжил свои розыски. Подмастерья шляпника обычно оставляли двери своих комнат открытыми, и молодой человек заглянул в две другие мансарды, затем поднялся на чердак; нигде ему не удалось обнаружить ни малейших следов женщины, платья которой он коснулся.
Это напоминало чудо, хотя молодому человеку казалось совершенно невероятным, что у г-жи Сюзанны имелись крылья; не сумев разъяснить себе этой загадки, он заключил, что гувернантка выслеживает его.
Подобное предположение имело как хорошую, так и плохую сторону. Если за ним следили, значит, им еще интересовались в особняке д’Эскоманов, в то время как он держался от него на расстоянии.
Однако после своего разговора с Сюзанной он мог предполагать у нее лишь крайне недоброжелательные намерения по отношению к нему, скрытые под участливостью, проявляемой ею в том, что касалось ее поступков.
Но как бы то ни было, он дал себе слово пересилить свой стыд, перебороть боязливость и, как только маркиза будет в состоянии принять его, пойти к ней и смиренно и искренно объяснить ей свое поведение.
Вот почему, как мы только что говорили, он изо всех сил старался вести себя в соответствии с дружескими чувствами, проявляемыми по отношению к нему г-ном д’Эскоманом.
Он рассчитывал, что маркиз даст ему возможность прийти к Эмме во второй раз, как он это сделал в первый раз.
С тех пор как мысль о предстоящем свидании пришла ему в голову, Луи не переставал думать о нем; он готовился к тому, о чем можно будет говорить с Эммой, старался предугадать ее ответы, и сердце его заранее сжималось, когда он представлял, что снова окажется рядом с ней.
Два дня спустя после той странной встречи на лестнице в доме Маргариты Луи де Фонтаньё, бродивший вблизи особняка д’Эскоманов, заметил направлявшегося в его сторону г-на де Монгла.
Хотя было всего лишь семь часов утра, на шевалье был бальный костюм и белый галстук.
Вероятно, старый дворянин задержался на каком-нибудь буйном пиршестве, последовавшем за чинным светским вечером, для которого требовался подобный наряд, всегда отличавшийся у шевалье своей безукоризненностью, а теперь оказавшийся в немалом беспорядке. Жилет его был небрежно расстегнут; пуговицы, удерживавшие его обтягивающие панталоны под лодыжкой, оторвались; многочисленные красноватые пятна на его рубашке нарушали ее строгость; чтобы защитить себя от утреннего холода, он поднял воротник своего фрака (в те времена носили непомерно высокие воротники, и в таком положении он словно образовывал капюшон, охватывающий голову шевалье). Как только шевалье, несмотря на странности своего внешнего вида, казалось чувствовавший себя весьма непринужденно, заметил своего молодого друга, он двинулся прямо к нему.
— Итак, — сказал он, подмигиванием своих полных насмешливости глаз показывая на дом г-жи д’Эскоман, — мы все еще думаем о ней?
Луи де Фонтаньё по опыту знал, что с г-ном де Монгла притворяться бесполезно; он уже мог оценить, сколько верности, при всей беспорядочной и бурной жизни старого повесы, оставалось в его душе. Хотя г-н де Монгла и производил впечатление человека легкомысленного, Луи считал шевалье неспособным предать доверие тех, кому он обещал свою дружбу.
И молодой человек просто ответил:
— Да, все еще думаю.
— Я не устану вам повторять: дурак, набитый дурак! Какого черта вы хотите делать с трупом? Ведь говорят, что она умирает.
При этом печальном известии молодой человек изменился в лице.
— Напротив, — возразил он, — ей стало лучше.
— Тем хуже, черт возьми! Тем хуже для вас!
— Почему это тем хуже?
— Да, тем хуже для вас. Я сделал все от меня зависящее, чтобы вырвать из вашей головы эту блажь, возникшую там, словно нарост, и очень не хотел бы тратить на это свое время. Задумайтесь, мой бедный мальчик, ведь, если она выпутается из болезни и увидит себя снова покинутой мужем, у нее будет двадцать причин против одной, чтобы превратиться в святошу, а уж этого она точно не упустит.
— Признаюсь вам, шевалье, подобная перспектива меня вовсе не пугает.
— Вы храбры, мой любезнейший друг. Но святоша всегда надеется, что на том свете Господь Бог зачтет ей в заслугу те дни чистилища, к которым она приговаривает от собственного имени своих возлюбленных на этом свете.
— За эту женщину я готов идти в ад!
— Послушайте меня, Фонтаньё, я вас умоляю, станьте благоразумнее и не думайте более об этой женщине. Если б вы только знали, как вы изменились во вред себе за эти несколько месяцев; я говорю серьезно.
— И я отвечаю вам столь же серьезно: невозможно изменить любовь, столь страстную, как та, что я испытываю к ней.
— Черт возьми! Да испытывайте к ней что хотите, только поостерегитесь превратиться в посмешище! — воскликнул шевалье с таким гневным движением, что большой воротник его фрака упал и открылось его лицо.
— Я не понимаю вас. Извольте объясниться, — промолвил Луи де Фонтаньё.
— Разумеется, я объяснюсь и тем самым окажу вам услугу — это я сделаю непременно. Гнев мой против д’Эскомана утих, это правда; я великолепно доказал, что, несмотря на их прекрасный вид, эти нынешние господа повесы и в подметки не годятся нам, ветреникам Людовика Пятнадцатого, как они нас называют. Я содрал с этой презренной меди слой серебра, придававший ей видимость драгоценности, и об этом мог судить каждый. Мы с ним квиты, это определенно. Однако я не удержусь и без колебаний дам вам совет: поменьше ему доверяйте.
— Что вы хотите этим сказать?
— Разве вы не догадываетесь, что маркиз желает отыграться и надеется сделать это на том же поле, где он был побит?
— Вы имеете в виду Маргариту?
— Да, черт возьми!
— Но что же заставляет вас так думать, шевалье? Ведь господин д’Эскоман не появлялся у нее с тех пор, как он вернулся в Шатодён.
— Вполне возможно, но он отправляет к ней вместо себя посланца.
— Ба! — воскликнул Луи де Фонтаньё, казалось, совсем не испуганный и не удивленный этим открытием, как того желал шевалье.
— Ба! — повторил г-н де Монгла, насмешливо подражая интонации голоса своего собеседника. — Не держитесь за Маргариту, если вам так угодно, но хотя бы защитите свою честь, коль скоро она затронута.
Луи де Фонтаньё не мог удержаться от улыбки, услышав, как старый дворянин проявляет такую странную заботу о его чести.
— Надо еще понять, кто этот посланец, — поспешил он сказать, чтобы скрыть улыбку на своем лице.
— Я предлагаю вам угадать его из десяти тысяч человек.
— Предположите, шевалье, что я уже назвал девять тысяч девятьсот девяносто девять имен, не отгадав, и сразу же назовите мне десятитысячное.
— Это Сюзанна, мой друг, та самая, которая всюду сопровождает маркизу, словно солдат швейцарской королевской гвардии, и которую этому дьяволу д’Эскоману удалось сделать беззаветно преданной ему.
— Но это невозможно, шевалье!
— Невозможно? Говорю вам, что я видел своими собственными глазами, как она дважды выходила из дома вашей любовницы, причем в разные дни.
— Но, тем не менее, это невероятно, ведь Сюзанна всегда испытывала к маркизу неприязнь, доходящую чуть ли не до ненависти.
— Конечно, но ведь не сама же маркиза ее подсылает… Впрочем, у маркизы, быть может, появилась мысль сделать Маргариту своей придворной дамой.
Луи де Фонтаньё дал обещание г-ну де Монгла воспользоваться его советом; расставаясь со старым другом, он пребывал в глубокой задумчивости.
Это совпадение внесло сумятицу в его мысли, превзойдя все его предположения.
В то же утро он принял два решения.
Первое — расстаться с Маргаритой.
Тем самым он избавится от неприятного и утомительного надзора и таким образом вполне естественно сбережет то, что славный шевалье назвал его честью; в таком случае он сможет с более спокойной совестью предстать перед г-жой д’Эскоман, предъявив ей доказательства своего разрыва с Маргаритой, чтобы подтвердить искренность того, что он собирался рассказать ей о превратностях своей связи.
Второе решение Луи де Фонтаньё касалось Сюзанны.
Молодой человек решил во что бы то ни стало удостовериться, действительно ли женщина, появлявшаяся в доме на улице Кармелитов, была кормилица Эммы, и выяснить, какой интерес мог привлечь ее туда.
Оба эти решения он намеревался исполнить в тот же день.
XVIII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ДОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ГОРАЗДО ОПАСНЕЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ЗАТРУДНЕНИЯ, ЧЕМ В НЕГО ПОПАДАТЬ
В четыре часа, покинув свою канцелярию, Луи де Фонтаньё направился к Маргарите. Шел он быстро, как это свойственно человеку, который непривычен к решимости и может сохранить ее, лишь возбуждая себя тем или иным способом, позволяющим ему подгонять свою кровь.
Повернув на улицу Кармелитов, он оказался напротив дома, где жила Маргарита. Обычно она поджидала молодого человека, стоя у окна и посылая ему оттуда воздушный поцелуй.
В этот день он не заметил ее лица в окне. Подобное случилось впервые за все время их свиданий.
Луи де Фонтаньё затрепетал при мысли, что Маргарита вышла из дому; он чувствовал себя превосходным образом настроенным приступить к исполнению задуманного и был бы в полном отчаянии, если бы ему пришлось отложить осуществление своего замысла; он не знал, удастся ли ему когда-нибудь еще поднять свою волю на уровень, которого она теперь достигла.
Однако, преодолевая первые ступени лестницы, он услышал приглушенные раскаты смеха и узнал голос своей жертвы.
Маргарита, казалось, смеялась так весело, так задорно, как никогда еще с тех пор, как Луи де Фонтаньё стал бесчувственным к ее заигрываниям с ним.
— Иди же скорей! — кричала она ему с высоты лестницы. — Ах, если бы ты знал, какую любопытную историю я тебе сейчас расскажу!
Но, словно обещанный рассказ никоим образом не отнимал у нее прав, которые Маргарита себе приписывала, она, едва лишь ее любовник появился на площадке второго этажа, обняла его и с присущей ей страстностью поцеловала.
Она еще держала его за шею, когда он вышел из полумрака лестницы, и лишь когда свет ударил прямо в глаза Луи де Фонтаньё, Маргарита смогла разглядеть мрачное выражение его лица, к которому прислонялось ее собственное сияющее лицо.
Руки ее разомкнулись, она отступила на два шага: нахмуренные брови, почти угрожающая физиономия ее любовника предвещали ей грозу.
— Боже мой! Да что с тобой? — спросила она.
— Мне нужно поговорить с вами, Маргарита, — сказал Луи.
— Право, тем лучше! — отвечала молодая женщина, пытаясь из шутки устроить громоотвод. — Тем лучше! Ибо, нужно воздать тебе должное, если за последние две недели я и оглохла, то, разумеется, не надо винить тебя в том, будто моя барабанная перепонка лопнула, когда ты говорил мне, что любишь меня.
— Маргарита, то, что я намереваюсь сказать вам, намного серьезнее этого.
— Луи, ты пугаешь меня!.. Возможно, тебе наговорили что-то плохое обо мне. Но ведь ты ни на секунду не поверил в это, не так ли? Каждая женщина встречает в своей жизни мужчину, которому ей невозможно изменить! И судить ее нужно по тому, как она ведет себя с этим мужчиной; по отношению к другим совершенные ею проступки — всего лишь проступки. Да разве я могу изменить тебе?.. Знаешь, порой я спрашиваю себя, возможно ли для меня такое, и мне кажется, что все мое существо восстает при мысли о подобной измене!
— Я вовсе не обвиняю вас, Маргарита; напротив, я отдаю вам справедливость в том, что не могу сделать вам ни малейшего упрека.
— Это и есть то серьезное, отчего меня мороз по коже подирает? В таком случае браво! Только умоляю тебя, мой малыш, не говори мне "вы". Если бы ты знал, как мне больно такое слышать!.. Обращаться к друг другу на "ты" — это же именно то, что остается от лучших минут любви, это же именно то, что позволяет нам вспоминать о них. О, если ты не дорожишь этим, как я, значит, ты не любишь меня, как я люблю тебя.
Произнося эти слова нежным голосом, Маргарита попыталась сесть к Луи де Фонтаньё на колени, но он оттолкнул ее.
— Тем не менее вам следует примириться с этим, — отвечал он, — вполне вероятно, моя милая, что обращение на "вы" отныне войдет в наше обыкновение.
Маргарита находилась под столь сильным впечатлением того, как Луи де Фонтаньё оттолкнул ее от себя, что даже не расслышала его последних слов.
— Вот как! — промолвила она. — Повторяется то, что было вчера, позавчера и все последние дни; у тебя не найдется для бедной Маргариты ни одной ласки, ни одного поцелуя. Боже мой! Боже мой! Как же я несчастна!
И в подтверждение своих жалоб молодая женщина расплакалась.
Луи де Фонтаньё оказался в весьма затруднительном положении; собирая все свои силы перед тем как отправиться на улицу Кармелитов, он рассчитывал на ссору, на сцену, которую ему могла устроить Маргарита. Такая мягкость, такая покорность, которых он совсем не ожидал, заставляли его держаться с бесстрастным мужеством, что так трудно дается некоторым натурам; они вынуждали его усиливать притворную решительность, чтобы сделать ее наглядной; поэтому он привлек к себе на колени ту, что еще минуту назад отталкивал.
— Ты права, моя бедная девочка; ты страдаешь, я это вижу, и жизнь, которую я тебе создаю, должна тяготить тебя. Так зачем же продолжать ее?
Маргарита неправильно истолковала значение его двусмысленных слов.
— Зачем? Ты спрашиваешь, зачем? — отвечала она. — Да потому, что один твой поцелуй стоит всех моих страданий; потому, что ради него я готова идти хоть в ад; потому, что мне кажется, будто страдания и печали, на какие ты меня обрек, увеличивают его цену; потому, что сегодня, когда ты отказываешь мне не только в ласке, но даже в словах любви или в жалости, я люблю тебя еще сильнее, чем тогда, когда любила тебя так, что ты называл меня безумной.
Борьба началась, и назад хода уже не было.
В борьбе нравственной, равно как и физической, претит нанести только первый удар; слезы, как и кровь, опьяняют тех, кто заставляет их проливаться.
— Послушайте меня, Маргарита, — произнес Луи де Фонтаньё сухим тоном, который противоречил только что проявленной им нежности. — Вам известно случайное обстоятельство, ставшее причиной нашей связи; я всегда испытывал глубокое отвращение к тому, чтобы искать в любви лишь минутное наслаждение. И мне казалось, что наше случайное сближение не имело никакого основания продолжаться более одной ночи. По своей слабости, в которой я с тех пор часто и горько себя упрекал, я заглушил в себе этот голос сердца порядочного человека. Затем, узнавая вас ближе, я смог лучше оценить вас, открыв в вас те качества, каких и не мог подозревать. Поэтому я все еще надеялся, что вы сможете занять в моем сердце то место, какое я был бы счастлив предоставить вам. Но теперь, Маргарита, я чувствую себя не в состоянии далее продолжать эту постыдную комедию любви, ведь я не смогу разделить с вами это чувство, которое, скажу более, никогда и не испытывал к вам.
При первых же его словах Маргарита побледнела; она поднялась с его коленей и стала перед ним, пристально уставив угрюмый взгляд на рот молодого человека, как будто бы слова, исходившие оттуда, имели форму и цвет, а она пыталась разглядеть их.
— Что он говорит? — произнесла она, медленно проводя рукой по лбу, будто бы собирая свои мысли.
Затем рассудок ее, притупленный жестоким ударом, который только что был нанесен ей, стал проясняться, и она внезапно перешла от оцепенения к вспышкам криков и рыданий.
— Нет! Нет! — восклицала она. — Все это ложь!.. Ты говоришь, что не любил меня? Ложь! Да неужели я не смогла бы отличить любовь от равнодушия? Разве нелюбимой женщине говорят такие нежные слова, какие до сих пор еще звучат в моих ушах? Да полно же! Может быть, ты думаешь, что я потеряла память? Говорю же тебе: ты любил меня! Так не пытайся же придавать своему поведению ложный глянец порядочности; хочешь, я сама избавлю тебя от затруднительного признания и от стыда за обман, который ты собираешься совершить? Знаешь, я сама скажу за тебя всю правду: ты полюбил другую, я стесняю тебя, и ты прогоняешь меня! Вот и вся правда, и напрасно ты будешь противиться ей. Боже мой! Если б я могла знать, кто эта другая! Когда я узнаю, кто она, бойся за нее, предупреждаю! Я убью ее без всякой жалости и всяких сожалений! Бойся за нее, слышишь меня? Бойся за нее!
Маргарита произносила эти слова, размахивая над головой своего возлюбленного рукой, как будто бы в ней уже был кинжал; ноздри ее широко раздувались, глаза метали молнии, волосы от неистовости ее жестов рассыпались и начали развеваться вокруг головы, придавая молодой женщине, когда она говорила такое, столь страшный вид, что Луи де Фонтаньё почувствовал, как он бледнеет; но все же после угроз и проклятий нежные чувства в ней взяли верх и укротили ее дикое возбуждение.
Казалось, она вся сникла.
Упав на колени перед Луи де Фонтаньё, Маргарита обхватила его руки и принялась осыпать их поцелуями и обливать слезами:
— Нет, нет, нет, все это неправда! Это неправда! Ты хотел только испытать меня, посмеяться надо мной; ты сказал себе: "Дай-ка я посмотрю, любит ли меня эта безумная Маргарита так, как уверяет". Ты только хотел попугать меня. Боже мой! Да если тебе это нравится, если это веселит тебя, терзай меня, сколько твоей душе угодно. Разве я не твоя собственность, твоя вещь?.. А между тем, между тем… О! Как я страдаю! Поверь мне, я предпочла бы скорее умереть.
Сердце судьи не столь сурово, как сердце всякого, кто поглощен одним-единственным чувством, когда ничто не трогает это чувство.
Луи де Фонтаньё, готовый своей жизнью искупить слезинку из глаз г-жи д’Эскоман, и бровью не повел при виде корчившейся в рыданиях у его ног Маргариты.
Он думал лишь об одном: дело двигалось к намеченной цели.
— Послушайте, Маргарита, — сказал он ледяным голосом, — будьте же благоразумны. Сейчас вы проклинаете меня, но позднее поймете: из-за того, что я был вашим настоящим другом, я не захотел, чтобы ваша молодость пропадала без взаимной любви, которой вы несомненно достойны.
— Моя молодость! Да разве ты не замечаешь, что пройдет еще десять минут и я поседею? Моя молодость! Э! Да что значит она для меня? Моя молодость — это ты, потому что моя жизнь — это опять-таки ты! Луи, Луи, ради Бога, люби меня, а если не любишь, то хотя бы скажи мне, что любишь меня!
— Это невозможно, Маргарита. Если до сих пор мое молчание было предосудительным, то в дальнейшем оно превратилось бы в преступное; уже две недели как я терзаюсь сомнениями, открыть ли вам правду о моих чувствах; вы только что сами признались, что мы достаточно настрадались за эти две недели, и ни вы, ни я не должны желать, чтобы эти страдания начались снова.
Но Маргарита не слушала его, а вернее, притворялась, будто не слышит.
— Ну, скажи мне, какой надо быть, чтобы понравиться тебе, — продолжала она. — Скажи мне, что надо сделать, чтобы внушить тебе такую любовь?.. Боже мой, да разве я когда-нибудь жаловалась, что ты недостаточно любишь меня?.. Но какой мне надо стать, какой надо быть, чтобы ты полюбил меня? Говори же! Мне кажется, что, для того чтобы не утратить твои поцелуи, я способна броситься в тигель литейщика и обрести там новую форму.
Луи де Фонтаньё не сдержал нетерпеливого жеста.
— Маргарита, — промолвил он, — если вы хотите продолжать наш разговор, то хоть немного облагоразумьтесь.
— Благоразумие — это хмель, которым опьяняются только дураки, — запальчиво отвечала Маргарита, — у меня никогда его не было, и я не хочу его иметь; я хочу только, чтобы ты любил меня, а если это выше твоих сил, то позволь мне хотя бы верить в это…
— Но чему это все послужит, бедное дитя? Нет, послушайте, я ухожу, а вернусь, когда вы успокоитесь.
— Ты не выйдешь отсюда! — воскликнула Маргарита и бросилась к двери. — Что станет со мной, когда ты уйдешь? Ты не выйдешь, я повторяю! Я уверена, что ты любишь другую, иначе бы ты не был так неумолим! О! Мне такое понятно; я ведь сама была с д’Эскоманом, не любя его, как сегодня ты не любишь меня, и Господь Бог наказывает меня. Однако я зла, тогда как ты добр, я ведь тебя знаю. Но признайся, что тебе посоветовали так поступить со мной, тебе так внушили, тебя подтолкнули на это. Так скажи же мне правду, признайся, и я сама отпущу тебя. Ты же хорошо знаешь: я не из тех женщин, что будут терпеть соперницу; скажи же мне все, признайся мне во всем, и я успокоюсь, как ты этого желаешь. Так не лги мне, отвечай: да или нет? Смотри мне прямо в лицо, как я смотрю на тебя.
— Если даже и так, разве это не мое право?
— Кто же у тебя его оспаривает? Ну, говори же! Хоть раз скажи мне правду! Поскольку это мой приговор, имей же смелость объявить его мне, палач!
— Маргарита, сейчас вы клевещете на меня; я никогда не лгал вам и никогда не говорил, что люблю вас; это так же верно, как и то, что если подобная сцена между нами — последняя, то вы ведь уже не в первый раз обвиняете меня в неискренности с вами.
— О! — воскликнула Маргарита с выражением Архимеда, решившего свою великую задачу. — О! Ведь это опять она!
— Да о ком вы говорите?
— О ней, о ней, о ней!
— О ком же?
— О госпоже маркизе д’Эскоман! Ах! Так ты остался верен ей? Так твое постоянство все еще продолжается? Боже мой! Боже мой! Ты отомстил мне так, как я и не ожидала.
— Бог отомстил вам? Отомстил вам за госпожу д’Эскоман? Да какая же связь может быть между ней и…
— Вы хотите сказать между ней и мною? Между знатной дамой и падшей женщиной? Вы это хотите сказать? Только, по правде говоря, я не очень-то знаю, к кому в данную минуту больше подходит это слово: ко мне или к ней. О! Как же несправедлив мир и как терпелив Господь! Ты бедна и в свои шестнадцать лет носишь лохмотья, к которым вы все не прикоснетесь даже кончиком ваших перчаток; и вот какой-то мужчина раскладывает перед тобой драгоценности и шали, рассыпается перед тобой в цветистых речах, позлащенных, как эти шали и драгоценности… Ты уступаешь, ты отдаешь свое тело; ты отдала бы его за кусок хлеба, а продаешь за золото, и вот ты уже падшая женщина!.. Эта же, напротив, рождена богатой, знатной, красивой; и те, что созданы из той же плоти и кости, красивее, быть может, чем она, уступают ей дорогу и смотрят на нее скорее с восхищением, чем с завистью; все то, чего можно захотеть, все то, чего можно пожелать, все то, о чем можно мечтать, Бог постарался ей дать; она все получила от него даром, что все же несколько лучше, чем получать такое за деньги мужчины; и вот, имея все, она начинает завидовать позору падшей женщины, но разве подобный позор, марающий честь той, не пятнает ее?..
— Замолчите, Маргарита! Ни слова более! Не произносите более имя всеми уважаемой женщины, иначе я не отвечаю за свои поступки.
— Да, я знаю, ты готов меня ударить, избить за нее. Ах! Тебе вполне понятно, что это ее ты любишь… Хорошо, я замолчу; но все, что я выскажу тебе, будет говорить за меня, и, если ты бросаешь меня ради нее, то непременно увидишь, что всего лишь сменил одну распутную женщину на другую.
— Маргарита! — воскликнул Луи де Фонтаньё, схватив ее за горло, словно намеревался задушить. — Маргарита! Я убью тебя, если ты мне солгала.
— Пойдем же! — отвечала Маргарита. — Пойдем!
И она увлекла Луи де Фонтаньё на лестницу и стала подниматься по ней с лихорадочной поспешностью.
Все три двери на верхнем этаже были заперты.
Маргарита указала на одну из комнат, где жили подмастерья шляпника.
— Здесь и находится будуар госпожи маркизы д’Эско-ман, — громким голосом произнесла Маргарита, — здесь она и назначает свои любовные свидания.
— Свидания? Кому, великий Боже? — воскликнул молодой человек, уязвленный в самое сердце демоном ревности.
— Кому? Вот и спросишь у нее сам; должно быть, какому-то скромному мастеровому. Пока гризетка водится с дворянами, маркиза услаждается с мужланом; хорошо понятое равенство, не правда ли? Отвечай же, кто ты там: виконт, граф, барон? Я и не знаю уже, кто ты такой!
— Боже мой! Боже мой! — воскликнул Луи де Фонтаньё, закрывая лицо руками. — Мне кажется, что я в свою очередь схожу с ума!
И судорожно сжатыми пальцами он попытался открыть дверь, но она не поддавалась.
Между тем шум, поднятый Маргаритой, был услышан; все обитатели нижнего этажа уже поднимались по лестнице; из своей каморки вышла матушка Бригитта с внуком, и они изо всех сил старались помешать молодому человеку взломать дверь.
Маргарита поняла, что несколько секунд промедления сорвут задуманное ею мщение; она боялась, что ее любовник не поверит ее словам. Она столь грубо оттолкнула матушку Бригитту, что та упала навзничь, с той же силой она отстранила Луи де Фонтаньё, так что он перестал загораживать собою дверь, и одним ударом ноги выбила ее.
И тогда Луи де Фонтаньё увидел в узкой мансарде двух женщин; одна из них храбро выступила навстречу нападающим, и он узнал в ней Сюзанну Мотте; другая закрыла свое лицо руками, но по ее фигуре, по шелковистым белокурым локонам, выбившимся из-под шляпки, а заодно и по участившимся биениям своего собственного сердца Луи де Фонтаньё догадался, что это была Эмма.
Но Маргарита ошиблась в одном: в комнате не было и следа мужчины.
Более того, кровать, стоявшая в комнате, была отодвинута; на месте, где она прежде стояла, был разобран настил из плит, а перекрытие было освобождено от всей дранки и устилавших его кусков гипса, чтобы сделать как можно тоньше потолок, отделявший мансарду от комнаты, которая располагалась в нижнем этаже.
А комната эта как раз принадлежала Маргарите.
Обозрев все это и осознав, ради чего была проделана такая работа, Маргарита из просто бледной, какой она была до этого, стала мертвенно-бледной.
XIX ПОЧЕМУ ВСЕГДА ОПАСНО УСТРАИВАТЬ ЗАСАДУ В ЗАПАДНЕ
Именно Эмму и Сюзанну, которые затаились в убогой мансарде, смежной с каморкой матушки Бригитты, хотела показать Маргарита Луи де Фонтаньё.
Нам остается теперь объяснить, каким образом обе они попали туда.
Когда, как мы уже рассказывали, Эмма, для того чтобы утвердиться в своих сомнениях и усилить угрызения своей совести, воскресила в памяти воспоминания о бывшей любовнице своего мужа, сделав из них преграду для себя самой, Сюзанна приняла решение разрушить это препятствие.
Позднее гувернантка приводила себе превосходные доводы, чтобы оправдать странную роль, какую она играла в этих важнейших обстоятельствах своей жизни; но мы должны во имя правды заявить, что, решившись действовать таким образом, она не позволила себе более никаких сомнений. Она сгорела бы от стыда, если бы колебалась хоть одно мгновение. Тут для нее был вопрос жизни или смерти, и перед лицом него всякое возражение становилось преступлением против материнской любви. Выживет ли Эмма? Или болезнь, под гнетом которой изнемогала молодая женщина, доведет свое дело до конца? Вот какая задача, не позволявшая даже рассуждать, стояла перед гувернанткой; и фанатичная преданность Сюзанны к своей воспитаннице не давала ей возможности колебаться с решением. Религиозные убеждения старой кормилицы, убеждения, надо сказать, искренние, были заглушены той единственной мыслью, которая овладела ее сознанием. Непомерная горячность в любви может быть божественным проклятием; тем, кому дано ее испытывать, всегда полагают, что они ощущают в своей душе дыхание Господа, и воображают, что они подчиняются только ему; отсюда и некоторые преступления, едва ли не приближающиеся к добродетели.
Все замыслы, которые Сюзанна сразу же стала вынашивать для осуществления своего плана, носили на себе следы необузданности ее рассудка. Она думала лишь о том, чтобы отыскать Маргариту, предложить ей приманку в виде значительной суммы денег, взятой из своих собственных сбережений, и склонить ее уехать из Шатодёна. Сюзанне казалось, что, как только у нее будут развязаны руки, она сможет дать волю своим уловкам, и, вне всякого сомнения, Луи де Фонтаньё вернется к г-же д’Эскоман, которая никогда ничего не узнает о многочисленных ухищрениях, предпринятых ее гувернанткой, и будет считать себя обязанной только Провидению.
Проведя рекогносцировку перед тем как выдвинуть свои батареи на линию огня, Сюзанна обнаружила, что задача ее гораздо легче, чем она предполагала вначале. Выяснив, что молодой человек относится более чем холодно к той, которая считалась его любовницей, Сюзанна с чисто женской логикой пришла к предположению, что он никогда и не переставал любить ту, о любви к которой она слышала от него столь пылкое признание.
При этой мысли Сюзанна подпрыгнула от радости и надежды. Начиная с этой минуты она сосредоточила помыслы на том, чтобы удостовериться в своих догадках.
С упорством сыщика кормилица выслеживала Луи де Фонтаньё, целыми днями ходила по его пятам, наблюдала, как молодой человек с грустью останавливается на берегу реки Луар, в том месте, где, как ей было известно, он встречался с г-жой д’Эскоман; она замечала, как он бесцельно бродит вокруг их дома, и из всего увиденного смогла заключить, что он совсем не похож на счастливого любовника.
Это было много, и вместе с тем это ничего не значило.
Чтобы подступиться к Эмме, нужна была уверенность.
Развиваясь под влиянием какой-нибудь навязчивой идеи, чувства человека приобретают необычайную тонкость; так и Сюзанна в конце концов стала составлять одно целое со своей хозяйкой, страдать от ее печалей, трепетать от ее радостей. Она догадывалась, что чередования надежды и разочарований убьют ее девочку, если только та могла их ощущать.
Единственной сообщницей, которой Сюзанна могла обзавестись в стане противника, была матушка Бригитта. Гувернантка и бедная работница принадлежали к одному приходу, и это облегчило их сближение; связующим звеном между ними стал податель святой воды, на глазах у Сюзанны достаточно долго разговаривавший с Бригиттой перед началом мессы. Едва лишь их отношения наметились, обе кумушки перешли от религиозных тем к мирским с легкостью, доказывавшей, что любовь к ближнему не входила в число их добродетелей.
Простой народ в провинции с гораздо более глубоким презрением, чем люди светские, относится к женщинам своего сословия, ведущим неприличный образ жизни, а в особенности к живущим на содержании у любовника. Что внушает им это чувство — зависть, инстинкт порядочности, отвращение к тем, что бесчестят бедность? Не нам решать это. Во всяком случае матушка Бригитта, беззастенчиво принимавшая и благодеяния Маргариты, и подаяния Луи де Фонтаньё, не заставила долго себя упрашивать и вполне ясно высказала Сюзанне свою неприязнь к Маргарите и сурово осудила ее любовника.
Во имя оскорбленной нравственности Сюзанна изо всех сил побуждала матушку Бригитту к таким решительным порицаниям, а затем, вопреки только что заявленным ею строгим нравственным принципам, принялась лгать столь же отчаянно, как это могла бы делать одна из тех женщин, которых она еще минуту назад клеймила. С великолепной наглостью она поведала своей новой знакомой о том, что молодой человек, безумства которого они оплакивали, приходится родственником ее госпоже; при этом она добавила, будто он женат и довел свою молодую жену до отчаяния; ей удалось описать такую волнующую картину этого отчаяния, что матушка Бригитта возненавидела Маргариту еще более, чем сама кормилица. Она говорила уже только о том, чтобы пойти за сотней охапок хвороста и сжечь живьем этих мерзавок, которые сеют смуту в семьях и власть которых, достойная сожаления, основывается, по ее мнению, на чародействе.
Сюзанне даже пришлось успокаивать ее рвение, делая ударение на этом страшном слове чародейство.
Она пока еще несколько робко заявила, что ей очень хотелось бы узнать с помощью каких чар этой шельме (по молчаливому соглашению обе кумушки нарекли этим словом обитательницу второго этажа) удается околдовывать своего любовника.
— И только-то? — отвечала ей матушка Бригитта. — В соседних мансардах проживают мастеровые, приходящие к себе домой лишь ночью, и они разрешают Никола заходить туда, чтобы играть там и смотреть в окна, выходящие на улицу. Так вот, через одну из этих мансард проходит труба от камина мадемуазель Маргариты; как-то раз, развлекаясь, паренек раскачал в кладке три или четыре кирпича; стоит теперь вытащить их оттуда и приложить к отверстию ухо, как ни одно произнесенное в комнате распутницы слово, ни один испущенный там вздох не останется неуслышанным.
Сюзанна не стала расспрашивать матушку Бригитту, каким образом та сделала подобное открытие. Если любопытство грех, то любопытство по отношению к вздохам, несущимся из квартиры мадемуазель Маргариты, было не таким, чтобы считать его простительным. Однако не время было придираться к старушке по поводу большей или меньшей чистоты ее намерений; они могли помочь осуществлению собственных намерений Сюзанны, поэтому она удовольствовалась тем, что незамедлительно воспользовалась полученным советом, и смогла убедиться, что матушка Бригитта нисколько не солгала.
Луи де Фонтаньё только что пришел к Маргарите, и Сюзанна не упустила ни одного слова из разговора любовников.
Сюзанна стала ежедневно наведываться на свой наблюдательный пост и однажды встретила на лестнице молодого человека.
И если он все же сомневался, что ему повстречалась именно Сюзанна, то гувернантка его прекрасно узнала и, опасаясь последствий этого происшествия, поторопилась подняться на третий этаж, но, вместо того чтобы укрыться в комнате подмастерья шляпника, она спряталась за дверью у матушки Бригитты, и та, открыв дверь молодому человеку, неизбежно должна была заслонить ею Сюзанну.
Прекрасно уяснив себе сложившееся положение, матушка Бригитта и Никола с уверенностью опытных комедиантов разыграли свои роли; Луи де Фонтаньё не переступил порога их комнаты и не заметил Сюзанну.
Итак, вот уже некоторое время Луи де Фонтаньё, истерзанный все возрастающей страстью к Эмме, не проявлял более к Маргарите сострадания и участия, к которым он принуждал себя в начале их связи. Он не старался более скрывать своей холодности к ней, и, как ни легко было угодить Маргарите, эта холодность была столь явной, столь очевидной, что молодая женщина или неустанно боролась с ней, или горько жаловалась на нее.
Став незримым свидетелем этих интимных сцен, Сюзанна заключила, что ее догадки были небезосновательны и что все казавшееся г-же д’Эскоман гранитными укреплениями, надежно охраняющими ее шаткую добродетель от искушений, которые осаждали Эмму вопреки ее воле, было лишь жалкой глиняной стеной, готовой рухнуть от малейшего нахмуривания ее бровей, как рухнули башни Иерихона от звуков трубы Иисуса Навина.
Сюзанна поспешила сообщить эту добрую весть Эмме.
Но г-жа д’Эскоман приняла эту новость крайне плохо, так плохо, что несколько слезинок оставили след на щеках гувернантки — такое впечатление произвели на нее упреки ее воспитанницы, первые, с тех пор как та появилась на свет.
Эмма попыталась заставить свою старую кормилицу увидеть всю гнусность ее происков; она пояснила Сюзанне, сколь предосудительны цели, поставленные ею перед собой, и неблаговидны средства, предназначенные для их достижения. Но там, где был бессилен голос совести, слова Эммы не могли найти отклика. Ведь вовсе не любовника хотела дать ей Сюзанна, но здоровье и жизнь; а по ее убеждению, жизнь и здоровье г-жи д’Эскоман зависели от добытой таким путем уверенности в том, что Луи де Фонтаньё не любит Маргариту Жели.
Вывести бедную женщину из порочного круга, в котором сосредоточились ее рассуждения, оказалось невозможно.
Так что с того же самого вечера она вернулась к выполнению задачи, взятой ею на себя, с неутомимой настойчивостью, свойственной детям и дикарям. Отвергнутая Эммой, Сюзанна уже на следующий день начала все сначала, не растерявшись от своей неудачи; она без перерыва, без передышки надоедала своей хозяйке, говорила с ней только о Луи де Фонтаньё, об огромной любви, которую он питал к ней, о горестях и печалях, угнетавших и его тоже в том положении, в какое он был ввергнут из-за своего минутного заблуждения.
Вода, падающая со скалы капля за каплей, точит камень; искушающие речи Сюзанны, вызовы, брошенные природному самолюбию женщины и ее страсти, призывы, обращенные к ее жалости по отношению к этому несчастному молодому человеку, который, как и она сама, мог не перенести страданий и умереть, должны были сломить сопротивление изнемогавшего сердца Эммы, державшегося лишь благодаря той чудесной уравновешенности, что так часто встречается у светских женщин.
И вскоре Эмма перестала принуждать свою гувернантку к молчанию; она уже оспаривала, вместо того чтобы порицать, и начиная с этого дня была обречена: ее поражение было всего лишь вопросом времени и случая.
Победоносная Сюзанна обращала в прах все доводы своей госпожи, используемые ею в этой обороне in extremis; но был один довод, который ей опровергнуть не удавалось: если Луи де Фонтаньё не любит Маргариту, то почему же он продолжает эту скандальную связь, восстанавливающую против него всех порядочных людей?
Не слишком осведомленная в вопросах, касающихся нравов и привычек людей благовоспитанных, Сюзанна видела, что тут ее обычной проницательности недостаточно. Она понимала причины такой терпеливости Луи де Фонтаньё не больше, чем ее госпожа. Так что она не отвечала на этот вопрос, стараясь уклониться от него.
Гувернантка изобразила картину (и на этот раз в ней не было заметных преувеличений) тех обольщений, каким, как она слышала, противостоял молодой человек в течение нескольких дней, посвященных ею наблюдению за ним. Мозги гувернантки должны были быть более тонко устроенными, чтобы она могла явить перед своей хозяйкой столь же откровенные картины, какими оказались те, что она изобразила с единственным намерением — доказать ей, сколь мало ценит Луи де Фонтаньё свою искусительницу.
Случайность, а вернее всего женская натура, помогла Сюзанне. Своими рассказами гувернантка пробудила в Эмме чувства, неведомые ей до тех пор, сердечный жар, который не заставляли ее испытывать многочисленные измены г-на д’Эскомана. Описание неистовых ласк Маргариты разжигали в ней одновременно чувственность и ревность. Нежная Эмма ощущала, как жало ненависти вошло в ее душу; молодая женщина, целомудренное сердце которой раньше с отвращением воспринимало такого рода безобразия, теперь порицало их только из зависти.
Физическое состояние г-жи д’Эскоман снова ухудшилось; она совсем лишилась сна; кошмары, заполнявшие ее сновидения, настолько пугали ее, что она уже не осмеливалась закрывать глаза; бессонница обернулась быстрым упадком сил.
Однажды ночью Эмма, сломленная одолевавшей ее усталостью, уснула, но вдруг пробудилась с громким криком.
Сюзанна тотчас прибежала к ней и обнаружила маркизу задыхающейся; глаза ее блуждали, а лицо горело то ли от лихорадки, то ли от волнения.
— Я хочу все увидеть сама! — кричала г-жа д’Эскоман резким и дрожащим голосом. — Я хочу увидеть все своими глазами; и если ты, Сюзанна, обманула меня, что ж, я умру без всякого сожаления; если же он действительно любит меня, то нет, нет! Я не хочу умирать, пока не услышу от него признания в любви и сама не отвечу ему: "И я тоже люблю тебя!"
— Ты не умрешь, дитя мое! — отвечала кормилица вне себя от радости: она подумала, что беды Эммы наконец-то приближаются к концу.
С самого утра гувернантка отправилась к матушке Бригитте, дрожа от мысли, что какая-нибудь помеха может расстроить ее замысел. Она внушила старушке, будто родственница Луи де Фонтаньё желает дать себе отчет в том, что происходит между Маргаритой и молодым человеком, обманывающим свое семейство пустыми обещаниями разорвать эту связь.
Значительная денежная сумма, врученная ею матушке Бригитте, подкрепила ее преданность и умение молчать, и старуха даже великодушно вызвалась постоять на страже, пока Сюзанна и Никола будут расширять отверстие для подслушивания.
Сюзанна лишь напевала вполголоса, раздирая себе в кровь пальцы и ломая ногти о кирпичи и затверделую штукатурку; она выполняла эту работу с таким рвением, что готова была бы разобрать и весь дом.
Между женщинами было условлено, что Сюзанна придет к матушке Бригитте в три часа в сопровождении той самой родственницы молодого человека. Никола должен был уже за полчаса до этого стоять у дверей дома. Ему следовало предупредить условным знаком обеих дам, если там появится какая-нибудь опасность, препятствующая тому, чтобы они отважились подняться по лестнице.
Нетерпение, с утра мучившее Эмму, сделало все эти предосторожности бесполезными.
Когда она с Сюзанной подошла к дому, Никола не было на посту; зато Маргарита стояла за окном, прячась за приоткрытые ставни.
Она обратила внимание на двух женщин, вошедших в проход к дому; походка одной из них поразила ее; Маргарита осторожно приоткрыла дверь и, несмотря на густую вуаль, скрывавшую лицо г-жи д’Эскоман, безошибочно узнала ее.
Репутация Эммы была настолько выше всяких подозрений, что Маргарита, вопреки своей заведомой и открыто проявляемой недоброжелательности к ней, предположила сначала — как это сделал Луи де Фонтаньё, когда он встретился на лестнице с Сюзанной, — что маркиза поднималась наверх к матушке Бригитте с целью оказать ей милосердие.
Она подождала немного, но так и не увидела, что обе посетительницы спустились вниз.
И тогда дурная мысль промелькнула в голове Маргариты: может быть, г-жа д’Эскоман только внешне добродетельна; может быть, под видимостью строгих нравов у нее скрывается такая же развращенность, как и у всех прочих.
Это было общее мнение девиц одного с Маргаритой положения в обществе о светских дамах, которые, по их мнению, сохраняют свою репутацию только посредством лицемерия.
Внезапно во время философских размышлений, которые Маргарита позволила себе по этому поводу, с третьего этажа до нее донесся шепот; затем скрипнула отворяющаяся дверь в комнату мастерового, наконец послышались приглушенные шаги и более отчетливый стук женских каблуков.
Подозрения Маргариты начинали оправдываться; без всякого сомнения, благородная маркиза посещала в этом доме любовника, и этот любовник занимал на общественной лестнице скромное положение подмастерья шляпника.
Правда, в Шатодёне не было более красивого подмастерья шляпника.
Маргарита, опытная в делах такого рода, знала, что для уверенности нужны не подозрения, а достоверные факты.
И она поднялась к матушке Бригитте, чтобы найти в ее комнате то, чего ей недоставало, — эти достоверные факты.
Старуха оказала ей точно такой же прием, какой дней за двенадцать до этого получил Луи де Фонтаньё.
Однако Никола внес в обстановку кое-какие незначительные изменения.
Вместо того чтобы ворошить свои волосы пятерней, он с остервенением тер глаза тыльной стороной ладони и пользовался каждой минутой, когда бабушка отворачивалась от него, но на этот раз не для того, чтобы утащить из горшка кусок баранины, а чтобы ударить башмаком огромного черного кота, своего личного врага.
Так же как Луи де Фонтаньё не нашел там следов Сюзанны, Маргарита не обнаружила в комнате матушки Бригитты следов двух дам; однако вывод она сделала совершенно иной.
Она подумала, что скромность, какую великодушные сердца привносят в дела милосердия, никогда не доходит до того, чтобы целыми часами прятаться в комнате мастерового.
В отсутствии логики Маргариту упрекать не приходилось.
Спускаясь к себе, она бросила взгляд на соседнюю мансарду и заметила, что ключ находился в замочной скважине изнутри; вернувшись домой, она посмеялась наедине с собой и дала себе слово поклониться дамам, когда они решатся покинуть гнездышко, где прелестная Эмма предавалась любовным утехам.
Однако восторгом и веселостью ее переполняло в особенности то, что она рассчитывала извлечь из этого открытия пользу в отношении Луи де Фонтаньё.
Мы уже увидели, насколько оправдались радостные надежды молодой женщины и как ей удалось застигнуть врасплох г-жу д’Эскоман, но лишь в обществе Сюзанны.
Ни одно слово из разговора молодого человека с его любовницей не ускользнуло от маркизы.
Жесткость и суровость, с какими Луи де Фонтаньё разговаривал с Маргаритой и вел себя с ней, возвысили его в глазах Эммы больше, чем все похвалы, какими награждала его Сюзанна.
Для ревнивого сердца жалость — преступление, которое нельзя простить, ибо оно ее не испытывает; маркиза судила о любви того, кого она любила, по его неумолимости и нашла его достойным ее чувств; однако она спрашивала себя с некоторым страхом, как ей удастся заместить пылкую и страстную Маргариту.
Сцена, столь внезапно завершившая разговор Луи де Фонтаньё с Маргаритой Жели, стала для маркизы, погруженной в размышления, полной неожиданностью.
Сюзанна, благодаря своему удивительному слуху не упустившая ничего из того, что происходило внизу, решила, когда она поняла намерение Маргариты, увести свою хозяйку и спрятаться с ней в комнате у матушки Бригитты; но в эту минуту Эмма услышала свое имя, произнесенное Маргаритой, и, оцепеневшая от страха, повергнутая в ужас выражениями, которые та использовала, говоря о ней, упала бездыханной на единственный стул, стоявший в мансарде, и была уже не в силах сделать ни одного движения, чтобы бежать.
XX ГЛАВА, В КОТОРОЙ СОВЕРШАЕТСЯ РАЗВЯЗКА, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ТЕМИ, КТО БОЛЕЕ ВСЕГО ЕЕ ЖЕЛАЛ
С первого взгляда, брошенного внутрь мансарды, Маргарита осознала все происходящее.
Полупризнание Луи де Фонтаньё, замешательство г-жи д’Эскоман, ярость Сюзанны, беспорядок, царивший в комнате, и огромная дыра в дымовой трубе — все это ясно указывало ей на правду: если причиной такого поступка маркизы была любовь, то предметом этой любви мог быть только один мужчина — любовник Маргариты.
Но предположения Маргариты вышли за пределы истины.
Она решила, что г-жа д’Эскоман могла пойти на такое постыдное шпионство лишь для того, чтобы удостовериться, выполняет ли Луи де Фонтаньё обещание, несомненно вырванное ею у него, порвать с любовницей, а также чтобы насладиться тревогами и отчаянием соперницы.
При этой мысли Маргариту охватила беспредельная ярость, и она с диким воплем бросилась на Эмму.
Но Луи де Фонтаньё еще быстрее, чем она, кинулся к находившейся в полуобморочном состоянии Эмме и, обхватив ее одной рукой, другой рукой удержал Маргариту, разразившуюся неистовыми проклятиями.
Во всяком даже невольном прикосновении двух тел, устремленных друг к другу, есть непередаваемые ощущения, которых никому не дано избежать. И г-жа д’Эскоман при всем ее отчаянии, страхе и изнеможении, ощутив, как сердце любимого человека бьется и трепещет рядом с ее собственным сердцем, испытала воздействие непреодолимой притягательной силы на все свое существо.
От крепкого объятия Луи де Фонтаньё, прижимавшего Эмму к себе, все ее тело содрогнулось, словно от сильного удара, какой испытывают, прикасаясь к гальваническому столбу; да, она еще пребывала в охватившем ее оцепенении, но душа ее пробудилась, со сладострастным упоением уступая действию мощного влечения. Эмма обвила руками шею молодого человека и, откинув назад голову, лежавшую у него на плече, произнесла с необычайной нежностью:
— Луи, я страдаю от любви к вам, и вам следует защитить меня от нападок этой женщины.
Она назвала того, кого любила, по имени, как делала это в своих мечтах в последнее время.
В эту минуту жильцы дома, встревоженные криками Сюзанны, сбежались на третий этаж.
Увидев это, Сюзанна, с неистовой бранью боровшаяся с Маргаритой, оставила ее и побежала запирать дверь мансарды; но разъяренная Маргарита, которую слова Эммы привели в бешенство, опередила кормилицу и изо всех сил распахнула дверь настежь.
Она понимала, что наступил час ее мщения.
— Здесь никто не лишний! — воскликнула она. — Отныне госпожа маркиза должна смело ходить с высоко поднятой головой, как это делала я на протяжении предыдущих трех лет. Скромность неуместна в тех ролях, какие мы с ней играем. Вы полагаете, что здесь одна я такая? Так вот нет, нас две: одна — Маргарита Жели, надеявшаяся восстановить свое опозоренное имя и желавшая искупить свои ошибки, проявив себя честной в своем распутстве, а вторая — госпожа маркиза д’Эскоман, замужняя женщина, госпожа маркиза д’Эскоман, честная женщина, пришедшая сюда, чтобы отнять любовника у гризетки.
Недоверчивый шепот вырвался у всех сбежавшихся на шум.
— Добрые люди, неужели вы сомневаетесь? — с тем же воодушевлением продолжала Маргарита. — Посмотрите, откуда госпожа маркиза подсматривала за тем, что происходило в моей комнате; посмотрите, как они покраснели. Вдобавок, на глазах у всех они стоят в обнимку, столь неудержима их страсть! Да разве я нуждаюсь во всех этих доказательствах? Если я захочу, у меня найдутся еще более неопровержимые! Опровергните же мои слова, сударыня, если осмелитесь! Скажите это всем, кто нас слушает, они ведь не желают верить, что подобное бесстыдство скрывается под маской целомудрия, а подобная наглость — под видимостью скромности. Скажите же им, что я лгу, что вовсе не ваша любовь к господину де Фонтаньё вынудила вас на этот недостойный, подлый поступок — шпионить за несчастной женщиной; скажите же им, что я ошибаюсь, утверждая, что вы, как и я, всего лишь шлюха.
Сюзанна безуспешно пыталась что-то ответить, перекричать Маргариту. Как только та произнесла последнее слово, Луи де Фонтаньё, оставив г-жу д’Эскоман, кинулся к Маргарите и схватил ее за горло, словно у него еще было время задержать позорный эпитет, только что заклеймивший любимую им женщину, и не дать ему прозвучать из уст его прежней любовницы.
Свидетели этой достойной сожаления сцены бросились вырывать несчастную из рук молодого человека; Луи де Фонтаньё увели в комнату матушки Бригитты, а Маргариту, бившуюся в сильнейшем нервном припадке, отнесли в ее комнату.
Избавившись от чужого присутствия, Луи де Фонтаньё тотчас же устремился назад в мансарду, думая, что г-жа д’Эскоман нуждается в его помощи, но там он уже никого не застал.
Сюзанна поторопилась воспользоваться суматохой, возникшей во время борьбы Луи де Фонтаньё с теми, кто не дал ему учинить насилие, и скрылась из этого жуткого дома, увлекая за собой свою хозяйку.
Луи де Фонтаньё даже не приостановился перед дверью Маргариты, когда он проходил мимо; Маргарита казалась ему каким-то чудовищем, с которым он согласился бы встретиться лишь для того, чтобы растоптать его. Безумное исступление, в которое бедную девушку ввергло отчаяние, далеко не извиняло ее в глазах молодого человека, а было еще одним преступлением, причем преступлением, за какое, по его мнению, она заслуживала смерти.
Он шел по улицам, покачиваясь как пьяный, с блуждающими глазами, не узнавая проходящих мимо него знакомых.
И вряд ли горделивая мысль временами наполняла его душу удовлетворением, когда он думал о том, что самая желанная его мечта столь чудесным образом исполнилась, когда он говорил себе, что это из-за него добродетельная г-жа д’Эскоман окажется столь ужасно скомпрометирована; нет, к чести его юношеского бескорыстия мы должны подтвердить: он был целиком поглощен заботой о судьбе Эммы.
Этот грандиозный скандал должен был вызвать огласку в городе, и маркизе после ее безрассудного поступка невозможно было и думать о том, чтобы возвратиться домой. Луи опасался, как бы ужасное положение, в какое она попала, не помутило ее рассудка или не толкнуло ее, лишенную иных советчиков, кроме отчаяния, посягнуть на свою жизнь.
Встревоженный этими мыслями, Луи де Фонтаньё беспрестанно бродил вокруг особняка д’Эскоманов. Уже спустилась ночь, и внутри этого дома все выглядело мрачным и безжизненным, из него не доносилось ни звука. Высокие черные стены, не освещенные никакими огнями, имели зловещий вид. Казалось, что за ними поселилась смерть и скорбь. Глядя на дом, молодой человек чувствовал, как его до костей пронизывает ледяной холод; страхи его настолько усилились, что он решил во что бы то ни стало проникнуть внутрь особняка, найти кого-нибудь из слуг и узнать у него, что там происходит.
Он схватил дверной молоток, чтобы постучать им по двери, как вдруг его толкнула какая-то женщина: запыхавшись от бега, она дрожащими руками пыталась вставить ключ в замок.
Луи де Фонтаньё и женщина одновременно вскрикнули, узнав друг друга.
— Ради Бога, Сюзанна! — воскликнул Луи де Фонтаньё, ибо это была она. — Что случилось с госпожой маркизой?
— Идемте, идемте, — отвечала гувернантка. — И пусть Господь Бог пошлет нам крылья! Если мы не успеем, то, возможно, не застанем ее в живых!
И, будучи уверена в согласии молодого человека, из-за которого ее хозяйка опозорила себя, и забыв о том, что привело ее к дому, как будто, найдя Луи де Фонтаньё, она обрела нечто большее, чем искала, Сюзанна бросилась бежать в том направлении, откуда она примчалась; при всей тучности гувернантки, это был настоящий бег, бег, в котором она проявила такую энергию, что, несмотря на свою молодость и силу, Луи де Фонтаньё едва поспевал за ней.
Так они бежали и вскоре оказались за городом.
Сюзанна ничего не объясняла и не отвечала на беспрерывные вопросы молодого человека; казалось, она едва справлялась со своим дыханием; легкие ее издавали хрипящие звуки, как кузнечные мехи.
Наконец они достигли берега реки Луар; однако Сюзанна, сломленная усталостью, не смогла пройти и ста шагов вдоль ряда тополей, споткнулась и упала на колени; она сделала чудовищное усилие, чтобы приподняться, но все было напрасно: кровь прилила к ее груди и до такой степени расширила артерии, что бедная женщина стала задыхаться; она пыталась что-то сказать, но голос отказывал ей; несколько слов, все же произнесенные ею, напоминали хрипение умирающего.
— Дальше, немного дальше, — говорила она. — Там вы найдете ее… Ради Бога, уведите ее оттуда. Ради всего, что вам дорого, не дайте ей умереть!
Луи де Фонтаньё не слушал ее более: он стремительно побежал дальше, не беспокоясь за Сюзанну (впрочем, та и не просила, чтобы о ней беспокоились).
Несясь вперед, он озирался по сторонам, стараясь проникнуть взглядом сквозь мрак ночи. Внезапно он чуть было не наскочил на темную фигуру и заметил ее, лишь пробежав мимо; он вернулся: это была г-жа д’Эскоман.
Уронив голову на колени и обхватив их руками, она сидела на голой земле, прислонившись к тополю; за два шага до нее Луи де Фонтаньё услышал, как стучали друг об друга зубы бедной женщины.
— Сударыня, сударыня! — воскликнул он. — Во имя Бога, что с вами случилось?
При звуке этого голоса г-жа д’Эскоман распрямилась, словно подброшенная стальной пружиной.
— Кто зовет меня? — спросила она хриплым от испуга голосом.
— Это я, Луи де Фонтаньё, я люблю вас и никогда не переставал любить.
— И я не узнала его?! — воскликнула Эмма. — И я еще сомневалась, что это он? О!.. Ведь сердце говорило мне, что он не покинет меня в моем несчастье!
Нет никого целомудреннее куртизанок: только они умеют обставить грехопадение, соблюдая все приличия. Когда же отдается честная женщина, принося в жертву то, что было самым драгоценным из ее сокровищ, — добродетель, что значит для нее суетная скромность? Подлинная страсть не признает ни постепенности, ни рассудочности, ни расчета. Госпожа д’Эскоман обвила руками Луи де Фонтаньё; она прижалась к нему с той силой отчаяния, какая принуждает осужденного на смерть припадать к алтарю; и в самом деле, разве эта грудь, к которой прильнула ее собственная грудь, не была отныне ее единственным прибежищем?
Губы их встретились, и она не стала отводить в сторону свои, продолжая обнимать молодого человека; она вновь заговорила, и слова ее прерывались то поцелуями, то рыданиями:
— Нет! Нет! Вы ведь не покинете меня, не правда ли, друг мой?.. О! Как я страдала эти последние два часа! Я думала, что умру здесь, под этим деревом! Но, к счастью, смерть, которую я звала, не пришла! Как было бы жестоко, если бы я умерла, не увидев вас!.. Ведь вы любите меня, Луи? Не правда ли, вы любите меня? Скажите мне хоть что-нибудь, я хочу слышать, как ваш голос повторяет то, что шептало мне мое сердце; ибо я ведь уже давно люблю вас… Неужели все, что происходило со мной, лишь сон? Нет же, то был не сон; до сих пор в моих ушах звучит голос этого ужасного создания; позорное имя, которое она дала мне, адским огнем обожгло меня. О Боже мой! Боже мой!
— Я отдам всю свою жизнь, чтобы заставить вас забыть эту страшную минуту, чтобы искупить вину, роковым образом совершенную мною поневоле… Эмма, милая Эмма, клянусь вам всем, что свято на этом свете для человека: если из-за меня вы опозорены…
— Да, да! Я опозорена! — вполголоса произнесла г-жа д’Эскоман (последние слова Луи де Фонтаньё вынудили ее бросить взгляд на события прошедшего дня). — Боже мой! Мне кажется, теперь я покраснею от одного взгляда ребенка!
— Если из-за меня вы опозорены, — продолжал молодой человек, — то во мне будет столько любви к вам, я найду в этом неслыханном счастье, каким я буду вам обязан и каким я уже вам обязан, потребность в таком постоянстве, что вы никогда не будете сожалеть о мучительной жертве, принесенной из-за меня. И пусть я буду проклят Богом, если когда-нибудь изменю этой клятве, которую я приношу в эту минуту — самую торжественную в моей жизни!
— Да разве мне нужны ваши клятвы, Луи? Кто любит, тот не может лгать. Боже мой! Да разве возможно, чтобы я когда-нибудь сожалела о чем-либо? Боже мой! Да все мои мысли настолько целиком заняты вами, что когда я слышу ваш голос, то не помню ничего, что было сегодня, вчера, давно. Мне кажется, будто я только что родилась. Повторите же мне еще раз, Луи, что вы любите меня! Я так мечтала услышать от вас эти слова, но не думала, что так сладко внимать им.
После первых восторгов нахлынувшего на них упоения им следовало подумать о реальных трудностях положения, в какое поставила г-жу д’Эскоман выходка Маргариты.
Как только молодые люди заговорили об этом, к ним подошла Сюзанна.
Когда гувернантка увидела их, сидящих бок о бок под тополем и держащих друг друга за руки, услышала дрожащий и звонкий голос своей хозяйки, она догадалась, что та вышла из своего ужасного оцепенения. Радость произвела на кормилицу такое же действие, как и усталость: ноги ее подкосились, и она упала перед Луи де Фонтаньё на колени и принялась целовать его с таким восторгом, какой до этого выражала лишь своей госпоже; она прижимала его к своей груди, как мать, отыскавшая своего любимого сына.
— Не правда ли, вы сделаете ее счастливой, мою Эмму? — говорила Сюзанна. — Ведь так, господин де Фонтаньё? О! Если бы все случилось иначе!.. Еще минуту назад я думала, что такое возможно, и если бы вы только знали, как меня это пугало! Боже мой! Ведь на этот раз виновницей ее несчастья была бы я, поскольку это я… Боже мой! Возможно, то, что я совершила, очень дурно, если Небо хотело меня за это покарать, но наказав не меня лично, а того, кого я люблю больше всего на свете, — мое дитя!.. О нет, я совсем с ума сошла со своими страхами!.. К тому же, она умерла бы от любви к вам. А разве можно позволить умереть подобным образом той, что вскормлена твоей грудью? Нет, она будет счастлива с вами, я в этом уверена; вы ведь совсем не похожи на того; у вас еще не было времени развратиться… Она будет счастлива! Посмотрите: мне кажется, она и сейчас уже изменилась; я вижу улыбку на ее губах!.. А ведь она так давно уже не смеялась!.. Она привела меня сюда, выйдя из того ужасного дома. О Боже мой! Да зачем же я повела ее туда?.. Прибежав сюда, она бросилась под это дерево, и ничто — ни мои мольбы, ни мои слезы — не могло заставить ее вернуться домой; я побежала за помощью, и вот я встретила вас…
Хотя Луи де Фонтаньё и не догадывался, какую важную роль сыграла Сюзанна в этой запутанной истории, завершившейся столь неожиданным для него образом, он знал, какое влияние имела гувернантка на свою госпожу. Поэтому он повторил перед ней все клятвы, данные им только что Эмме.
Ночь между тем сгущалась, и необходимо было что-то предпринять.
Поскольку робким натурам труднее даются ответственные решения, они и с большей твердостью воспринимают последствия положения, в какое их ставят обстоятельства; им одинаково тяжело идти как назад, так и вперед.
Следовало иметь большую волю, чем располагала г-жа д’Эскоман, чтобы безбоязненно встретить и упреки мужа, и всеобщее презрение, какие ей нужно было ждать после того как утренняя сцена несомненно получила огласку в Шатодёне.
Такие соображения воздействовали на решимость г-жи д’Эскоман лишь косвенно, хотя они все же в некоторой степени способствовали тому, что маркиза утвердилась в мысли о невозможности для нее сделать шаг назад. Главным же образом решиться на это ее заставило воспоминание о том, что она услышала, находясь в мансарде; в ней осталась ревность к Маргарите; она завидовала такому кипению чувств, которое сама она этим утром отчаялась достигнуть. Что бы ни должно было из этого воспоследовать, она не желала делать первые шаги в своей любви, проявляя бесстрастность, казавшуюся ей полной противоположностью любовному чувству. В том, чтобы спокойно обладать любовником, находясь вне света, с которым она только что порвала, несмотря на предрассудки и обвинения, с какими ей предстояло столкнуться, таилось нечто казавшееся ей победой и оказывавшее на нее то непреодолимое притягательное воздействие, какое исторгло из общества столько благородных и великодушных сердец. К тому же она надеялась безмерностью своей жертвы навсегда приковать к себе любимого человека.
В этом ее решении заключалось слишком много сиюминутных выгод, сводивших влюбленных с ума, чтобы Луи де Фонтаньё мог искренне оспаривать его; одна только Сюзанна была в состоянии прислушаться к голосу разума, она умоляла свою госпожу противостоять надвигавшейся буре или, по крайней мере, предварительно все обдумать.
Но ее не слушали. Было решено уехать из города втроем этой же ночью. Эмма с еще большим нетерпением, чем Луи де Фонтаньё, ожидала этого отъезда; она настолько жаждала покинуть город, ставший невыносимым для нее за последние несколько дней, и увидеть себя на пути к земному раю, к которому, как ей верилось, она шла, что понадобились самые неотступные просьбы, чтобы заставить ее покинуть дорогу, где она собиралась ждать экипаж (его должен был добыть ее возлюбленный), и принудить ее немного отдохнуть, перед тем как отправляться в путь.
Между тем она крайне нуждалась в отдыхе; сильные потрясения, пережитые ею в течение дня, совсем разбили ее хрупкий организм, едва оправившийся после болезни; она же мерила свои силы по счастью, наполнявшему ее душу, по этому живительному счастью первой любви; она тихо подсмеивалась над своей слабостью, умоляла Луи де Фонтаньё не судить о ее сердце по ее физической немощи и, когда с первых сделанных ими шагов молодой человек, державший ее под руку, почувствовал, как она шатается, долго отказывалась, чтобы он взял ее на руки и донес до города.
И лишь когда они вошли в предместье, шутливость, с помощью которой она старалась бороться с упадком своих сил, покинула ее. Эмму помимо ее воли снова охватил ужас: вид каждого припозднившегося прохожего, оказавшегося на их пути, заставлял ее вздрагивать.
К счастью, было уже десять часов вечера, а в десять часов вечера улицы Шатодёна бывают почти пустынны.
Луи де Фонтаньё не мог предложить Эмме другого убежища, кроме своей собственной квартиры; именно туда он предполагал ее отвести.
Однако, каким бы уснувшим ни казался город, молодой человек счел неблагоразумным вступать на такое открытое место, каким была площадь с размещавшейся на ней супрефектурой, не попытавшись узнать намерений тех, кто мог там находиться.
В эту минуту они как раз проходили мимо церкви святого Петра; в те времена старое кладбище, когда-то окружавшее ее и уже заброшенное, не было еще снесено. Несмотря на всю мрачность этого места, оно показалось Луи де Фонтаньё вполне подходящим, чтобы послужить г-же д’Эскоман укрытием, пока сам он отправится на разведку.
Он перебрался через пролом в разрушенной стене и отвел двух своих спутниц в угол кладбища, за чащу кипарисов, а затем удалился, настоятельно посоветовав Сюзанне беречь Эмму и, самое главное, не покидать ее ни на мгновение.
Его осторожность была ненапрасна: перед зданием супрефектуры прогуливались двое мужчин и казалось, что они кого-то ждали; один из них осанкой напоминал г-на д’Эскомана.
Как бы маркиз ни был равнодушен к жене, он, конечно же, не мог не встревожиться, узнав об ее исчезновении.
Вне всякого сомнения, городская молва уже указала ему на Луи де Фонтаньё как на того человека, кто мог бы ему сказать, что произошло с г-жой д’Эскоман.
Определенно, если они хотели бежать, нельзя было терять ни минуты.
Луи отправился будить человека, занимавшегося тем, что он отдавал в наём лошадей и экипажи, и попросил, чтобы тот немедленно отвез его вместе с матерью и сестрой в Шартр, куда он отправляется по неотложным делам.
Человек этот посмотрел на Луи де Фонтаньё с улыбкой, означавшей, что одурачить его не так-то просто и что ему, прекрасно знавшему секретаря господина супрефекта, известно, есть ли у того в Шатодёне мать и сестра. Однако Луи де Фонтаньё сунул ему в руку несколько экю, и тот сразу же стал серьезным и пообещал, что через десять минут он заложит лучших лошадей из своих конюшен в самый великолепный из своих экипажей.
Надежда на такой скорый отъезд сняла с сердца молодого человека тяжелый груз; с радостной душой он направился к церкви святого Петра и вошел на заброшенное кладбище; однако на том месте, где он оставил своих спутниц, их не оказалось.
Ледяной холод пронзил его сердце.
Он тихо позвал г-жу д’Эскоман, но никто ему не ответил.
Он подумал, что их вспугнуло что-то и они, наверное, спрятались в кладбищенских зарослях. Молодой человек осторожно раздвинул ветви и стал шарить там руками: руки его натыкались лишь на поросшие мхом надгробные плиты и еще не упавшие кресты.
Мысли его помутились; его охватил ужас, вызвавший у него головокружение; ему представлялись кругом тени, привидения, призраки, увлекавшие любимую им женщину в разверстые могилы.
Забыв об осторожности, которую требовали от него обстоятельства, он принялся бегать по всему кладбищу и громко выкрикивать имя Эммы.
Наконец, ему послышались стоны, исходившие из середины обнесенного стеной пространства, и, полный тревоги, он бросился туда.
Большинство надгробий уже разрушилось и поросло травой; целым оставался один-единственный крест, столетия назад водруженный посреди этого царства вечного покоя; он распростер две свои огромные гранитные длани как символ воскрешения всех тех, кто покоился под его тенью.
На подножии этого креста, источенном лишайниками и устланном плющом, Луи де Фонтаньё и обнаружил Эмму с Сюзанной; они стояли на коленях, погруженные в молитву; это рыдания Эммы указали дорогу к ней молодому человеку.
— Идемте! Идемте! — воскликнул Луи де Фонтаньё. — Экипаж уже готов, до рассвета нам необходимо быть далеко отсюда.
Но г-жа д’Эскоман не отвечала; лишь рыдания ее усилились, сотрясая все ее тело.
Луи де Фонтаньё хотел было схватить ее на руки и унести, как он сделал незадолго до этого, но она мягко оттолкнула его.
— Боже мой! Что произошло? — спросил он. — Что случилось? Что вы делали?
— Я молилась.
— Пойдемте же! Неужели вы хотите, чтобы какая-нибудь жалкая потерянная минута навсегда нас разлучила? Эмма! Эмма!
Госпожа д’Эскоман попыталась что-то ответить, но, задыхаясь от волнения, лишь покачала головой в знак отрицания, а затем закрыла руками залитое слезами лицо.
— Она не любит меня! — с отчаянием в голосе воскликнул Луи де Фонтаньё.
— Я не люблю его?!.. Боже мой, неужели мне нужно умереть от этой несчастной любви, чтобы он поверил в искренность моих чувств?! Луи, — добавила Эмма, — наверное, это преступление — говорить о земных чувствах в подобном месте; но клянусь этим крестом, клянусь всеми мертвыми, которые окружают нас и знают, что я говорю правду, ибо мертвые знают все, клянусь, что в сердце моем есть лишь одна мысль — о вас, и мысль эта настолько поглощает его целиком, что мне кажется, будто она переживет его.
— Так отчего же тогда вы отказываетесь идти со мной? Получив от вас такое нежное признание в любви, можно ли потерять вас? Что мне останется, если, увидев Небо, я окажусь на этой пустынной, безлюдной и мрачной земле?
— С вами останется вот это, — произнесла Эмма, указывая пальцем на символ искупления, возвышающийся над всей сценой, — этот крест, который даст вам силы преодолеть время испытаний, ибо только что он придал мне силы для борьбы с моей слабостью и моими заблуждениями.
— Нет, — возразил Луи де Фонтаньё, — я не смогу утешиться, потеряв вас, сударыня! А доказательство того, что мною сказано, будет у вас в самое скорое время, ибо, клянусь этим крестом, я не переживу того удара, какой вы мне наносите.
В эту минуту к нему пришла помощь с той стороны, откуда он ее и не ожидал.
— Эмма, дитя мое, послушай меня, — прервала его Сюзанна, трепеща, что какое-нибудь решение отчаявшегося молодого человека станет роковым для ее хозяйки, — а если он сделает то, о чем говорит? Ведь он любит тебя, а ты любишь его. Он говорит о смерти, а я знаю наверняка, что если умрет он, то умрешь и ты! Согласись же на это счастье, которое так пугает тебя последние несколько минут, да и меня пугало минуту назад; но Господь милостив; он уже столько раз испытывал тебя, что простит тебе твою слабость там, где даже ангельская добродетель была бы бессильна.
— Нет, нет. Когда я только что молилась, мне показалось, что луч света, исходивший из этого креста, пронесся сквозь мое сердце и осветил его. Я боюсь этой справедливости Божьей, о которой ты говоришь, моя бедная Сюзанна, поскольку знаю, что Господь не может меня оправдать. Ах! Если бы он наказал меня только вечными муками! Ну а если он отлучит меня от того, что мне дороже его заповедей? Луи, Луи, что если он отнимет вас у меня? Что если он лишит меня вашей любви?.. Ах! Простите мне эту мысль, но как только она вошла в мое сердце, оно леденеет от ужаса. Я люблю вас, Луи, но умоляю, не требуйте от меня ничего более. Мы молоды, мы любим друг друга, наша совесть и Бог за нас — так разве будущее не принадлежит нам? Господь, пришедший остановить меня на краю бездны, еще сжалится над моими слезами; каждый день я буду молить его соединить нас так, чтобы мы не преступали его законов.
Но Луи де Фонтаньё более не слушал ее; при виде того, как рушатся надежды, столь близкие к осуществлению, он почувствовал, что им овладело бешенство; он готов был сокрушить крест, опрокинувший задуманное им счастье. Испугавшись такой святотатственной мысли, он рухнул там, где стояла на коленях г-жа д’Эскоман, и разразился тысячами проклятий Небу и судьбе.
Госпожа д’Эскоман взяла его за руку и села рядом с ним.
— Бодритесь, Луи! — сказала она. — Если это может вас утешить, то знайте, что я страдаю, как и вы, а возможно, даже больше вас, поскольку это я приношу жертву. Умоляю, друг мой, не плачьте так! Я доказала вам, что мне ничего не стоило стать вашей. Что мне до мнения света? Что значит для меня моя репутация, когда у меня есть ваша любовь? Но я не желаю подвергаться вашему презрению.
— Моему презрению?
— Да, вашему презрению!.. Углубившись в себя, я поняла, что рано или поздно женщину, пренебрегшую своим долгом, ждет презрение. Перед лицом вечного образа, вызванного в моем представлении этим божественным символом, я подумала о хрупкости человеческих чувств; допустим, я совершу ошибку, и что же мне останется, если ваше чувство ко мне исчезнет? Мне не останется даже вашего уважения! Мои нынешние страдания — ничто по сравнению с теми, что ожидали бы меня в будущем. Я не хочу их! Не хочу!
— Презирать вас? Презирать вас за то, что вы подарили мне больше, чем вашу жизнь? Это же безумие, то, что вы говорите, Эмма! Разве презирают мать? Разве презирают Бога? А ведь им мы должны меньше, чем я должен вам! Скажите, какой же подлой и грязной вы представляете душу любимого вами человека? Мне не хватит и жизни, чтобы доказать вам своей нежностью, своей самоотверженностью, заботами, которыми я хотел бы окружить вас, сколько признательности и в то же время любви к вам будет заключено в моей душе! Да разве я могу презирать вас! Скорее мертвые стряхнут с себя саваны, чем осуществится такая гнусность. Эмма, это мне следует молить вас о жалости и сострадании! Боже мой! Как бы я хотел найти слова, которые тронули бы ее душу! Боже мой! Как бы я хотел распахнуть свою грудь, чтобы она увидела ужасную тоску в моем сердце!.. Ведь я же умру, Эмма! Ведь когда я не буду больше вас видеть, не буду больше слышать ваш голос, для меня настанет вечная ночь. Неужели ничто не говорит вам, что происходит в моей душе? О! Если вы испытываете то же, что и я, мне кажется, что мое сердце угадает это и я пройду сквозь огонь, чтобы оказаться рядом с вами. Эмма, Эмма! Не доводите меня до отчаяния!
Говоря это, молодой человек обнял Эмму и с невыразимым восторгом прижал ее к своей груди; он покрывал поцелуями ее лицо; слезы их смешались.
— Сжальтесь, сжальтесь! — отвечала ему г-жа д’Эско-ман. — Не говорите так, Луи! Уже давно мое сердце целиком отдано вам; и мое тело, и мои мысли принадлежат вам; и вот вы собираетесь отнять у меня крохи мужества и разума, только что вернувшиеся ко мне… И если вы просите это с таким отчаянием, если вы говорите о смерти, разве я могу отказать вам в чем-то? Я в вашей власти, но я взываю к вашей жалости, пусть она пребудет со мной; посочувствуйте моим страхам! После того что я сказала, не проявите ли вы терпение? Будьте милосердны, мой возлюбленный Луи! Не обрекайте меня на бесчестье, которое меня страшит; дайте мне уехать одной!.. Подождите!.. С вашим образом в сердце я скроюсь в монастыре и буду жить там до того дня, когда мы сможем, не стыдясь, броситься в объятия друг друга; не отказывайте мне в том, что я прошу вас, ради моей огромной любви к вам!.. На коленях, на коленях, Луи, я молю тебя: дай мне уехать одной!
— Черт возьми, госпожа маркиза д’Эскоман права! — раздался мужской голос в двух шагах от молодых людей. — И я не могу понять, почему господин де Фонтаньё сейчас оказался слабее женщины.
Луи де Фонтаньё бросился в ту сторону, откуда раздался голос, и оказался лицом к лицу с г-ном де Монгла.
— Шевалье, что вы делаете здесь? — воскликнул молодой человек.
— Прежде чем я отвечу, позвольте мне исполнить долг благовоспитанного человека, — отвечал шевалье, раскланиваясь с г-жой д’Эскоман и осведомляясь о ее самочувствии с такой почтительной непринужденностью, будто они находились в ее гостиной. — Теперь я скажу вам, что мне приходится играть роль, которую вы, мой юный друг, не в укор вам будет сказано, делаете довольно тяжелой, роль Ментора, а она очень трудна, когда имеешь дело с Телемахом, проявляющим такое упорство в своих глупостях.
— Шевалье! — вскричал Луи де Фонтаньё, чувствительность которого явно возросла в присутствии г-жи д’Эскоман.
— Принимайте мои слова как хотите, черт возьми! Я слишком хорошо знаю цену человеческой признательности и не удивлюсь, если вы захотите перерезать горло пожилому человеку, который выбился из сил, уже три часа разыскивая вас по всему городу с единственным намерением оказать вам услугу.
— Но кто же сообщил вам, что вы найдете меня здесь?
— Кто? Да окрестное эхо, черт возьми! Слава Богу, оно не более молчаливо, чем ваше горе, понаделавшее столько шума!
Госпожа д’Эскоман вздрогнула, узнав, что посторонний человек мог проникнуть во все тайны ее сердца. Луи де Фонтаньё, заметив выражение ужаса на лице Эммы, понял ее мысль.
— Успокойтесь, сударыня! — промолвил он. — Господин шевалье де Монгла мой друг, у него благородное сердце, и он не предаст нас.
Эмма протянула руку старому дворянину, и он поцеловал ее с той учтивостью, которую привычка превратила в его вторую натуру.
— Говорят, — заметил он, — будто время, употребленное на любезности дамам, нельзя считать потерянным; однако мы поступим правильно, отложив любезности на другой день. Госпожа маркиза, вам не следует терять ни минуты; немедленно уезжайте из города; сейчас это говорю вам я, то есть ваш благоразумный и хладнокровный друг.
Луи де Фонтаньё громко вздохнул; что бы ни делал шевалье, молодой человек все еще надеялся, что тот пришел ему помочь; ему казалось, что старый повеса не мог, не изменяя своему прошлому, препятствовать похищению женщины. Луи де Фонтаньё все еще верил, что они смогут отправиться в путь.
— Уже полчаса, как карета должна быть готова, — сказал он, — извозчик мне поручился за своих лошадей…
Господин де Монгла презрительно пожал плечами.
— Вы не успели сделать и десяти шагов, — отвечал он, — как извозчик отправился на поиски господина д’Эскомана, чтобы продать ему тайну вашего отъезда; так что если карета и готова, то для того, чтобы отвезти вас в любое другое место, но только не туда, куда вы хотели. Мой юный друг, — добавил шевалье, которого ничто не могло заставить отказаться от изложения своих взглядов прожигателя жизни, — когда нужно заручиться скрытностью человека, его либо заваливают золотом, либо нещадно колотят; по множеству причин, о каких бесполезно здесь распространяться, я всегда предпочитал второе из этих двух средств; вы же не употребили ни того ни другого. А теперь, повторяю, господин д’Эскоман укрылся в засаде с кучей весьма дурно воспитанных людей, и с вашей стороны будет безумием встречаться с ним лицом к лицу.
У Эммы вырвался крик ужаса.
— Боже мой! Что же делать? — спросил Луи де Фонтаньё. — Шевалье, посоветуйте мне.
— Согласен, я и пришел к вам с этой целью.
— Что ж, мы слушаем вас, говорите!
— Сейчас половина двенадцатого; мальпост отходит в полночь; мы подождем его на дороге, — предложил шевалье. — Таким образом, мы оставим д’Эскомана томиться от скуки вместе со своими людьми, которые, разумеется, не предложат ему сыграть в вист, чтобы убить время.
— Но какова вероятность, что в мальпосте окажется три свободных места? — поинтересовался Луи де Фонтаньё.
— Три места? Вы что же, все еще рассчитываете уехать вместе с госпожой маркизой?
— Покинуть ее в тот час, когда муж угрожает ей? Никогда! Я последую за ней!
— А я вам говорю, что вы не последуете за ней, господин де Фонтаньё; вы не последуете за госпожой маркизой, даже если мне придется, чтобы лишить вас ее общества, налепить вам на грудь пластырь моим способом.
— Тем лучше! Ничего другого я и не желаю; да, я предпочитаю умереть, нежели разлучиться с ней! — воскликнул молодой человек.
Эмма с Сюзанной попытались успокоить его. Но г-н де Монгла взял его за руку и отвел в сторону.
— Черт возьми! — произнес старый дворянин. — Недостаточно быть влюбленным, господин де Фонтаньё, нужно еще при этом оставаться честным человеком. Я в своей жизни всякое делал, на всякое отваживался, но, черт побери, это всегда шло на пользу вящей славе вашего покорного слуги и общественной нравственности. Я обесчестил много женщин, раз уж это так называется, но, черт побери, никогда не разорял их и не совершал такой низости, чтобы низвергать их из богатства в нищету. А вот вы собираетесь совершить такое.
— Разорить ее? Я разорю Эмму?
— Конечно же, разорите. Неужели вы не понимаете, что сегодняшнее происшествие с Эммой, о котором я еще не составил себе полного представления, хотя на протяжении пяти часов мне прожужжали о нем все уши, пойдет на пользу самым заветным желаниям господина д’Эскомана? Он только и мечтает о том, как бы заполучить все ее состояние, не подвергаясь обвинениям, а вот вы помогаете ему в этом.
— Но прежде я убью его!
— Это следовало сделать тогда, когда вы держали его жизнь на острие вашей шпаги, но вы мужчина лишь наполовину! Теперь уже слишком поздно! Неужели вы думаете, что мы, старики, когда-нибудь колебались нанести удар тому, кто нам мешал? Кровь за кровь, жизнь за жизнь, черт возьми! Но, как я уже имел честь сказать вам, теперь уже не время; маркиз избрал другое поле битвы, там вам придется сражаться и там вам следует победить его, мой юный друг, и вы сможете это сделать.
— Но как?
— Предоставив его супруге делать то, что она хочет делать. Пусть маркиза уезжает; в Париже она найдет десять, а то и сто стряпчих, которые возьмутся изобразить ее белой как снег, а в лицо ее мужу выплеснут бутылку чернил. Против него отыщут двадцать бесспорных улик; а что найдется против нее, если вас не будут видеть вместе, если вы останетесь здесь, хотя вас и называют ее любовником? Злые сплетни, которые опровергаются чистым прошлым маркизы; свидетельства бывшей любовницы господина д’Эскомана, на которые он не сможет сослаться. Этот процесс уже выигран, еще не успев начаться.
— Но я, я? Что станет со мной за это время? А вдруг она забудет меня?
— Полноте! Забыть вас? Этому помешают пришедшие к ней угрызения совести. Разве ей не придется проводить время в борьбе с ними? Вы обнаружите в них широкую брешь, когда процесс будет выигран, и сможете свободно соединиться с маркизой. Угрызения совести могут задержать победу, но сорвать ее — никогда! Эти угрызения совести так забавны! — произнес шевалье со вздохом сожаления. — Поступите так, как я вам советую, и сделайте это решительно, по-мужски, черт возьми!
Затем, обернувшись к маркизе, он добавил:
— Ну вот наш друг облагоразумился, и нам остается только отправиться в путь.
Луи де Фонтаньё ничего не ответил; он опустил голову: его скорее победили, чем убедили. Эмма казалась не менее удрученной, чем он, и не пыталась скрыть свое горе от шевалье де Монгла.
Наконец они покинули кладбище. С одной стороны Эмму поддерживал г-н де Монгла, с другой стороны она опиралась на Луи де Фонтаньё. Влюбленные не могли беседовать между собой, поскольку их стесняло присутствие шевалье.
Старик с присущим ему опытом и здравомыслием объяснял г-же д’Эскоман все, что ей следовало сделать, чтобы выйти из того затруднительного положения, в котором она оказалась по собственной неосторожности, и молодая женщина лишь пожатием руки своего возлюбленного, на которую она опиралась, могла сказать Луи де Фонтаньё: "Я люблю вас!"
Правда, время от времени она все же отвечала г-ну де Монгла, но лишь для того, чтобы поручить ему заботиться о его друге, и делала это с горячностью, доказывавшей молодому человеку, сколь горестна была для бедной Эммы эта разлука.
Они остановились отдохнуть на пригорке, в четверти льё от города. Сюзанна подошла к Луи де Фонтаньё; она опасалась, что, когда дело дойдет до последних прощаний, он не подумает о ней, и хотела проститься с ним заранее. Кормилица обратилась к нему с тысячей просьб не забывать ту, что пожертвовала ради него всем. Перед лицом горестей, которым г-жа д’Эскоман уже была обязана ее вмешательству, Сюзанна испытывала страхи, предвещающие угрызения совести; ей было необходимо услышать успокоительные слова о будущем ее воспитанницы.
Слезы и отчаяние Луи де Фонтаньё явно свидетельствовали о его любви, и гувернантка могла надеяться, что она не обманулась в своих предположениях.
Наконец в ложбине послышалось грохотание катящегося по мощеной дороге экипажа, похожее на отдаленные раскаты грома. Эти звуки оказали на молодого человека то же впечатление, какое производил на приговоренного к смерти шум повозки, в которой его должны были отвезти на казнь.
Ему хотелось бы, чтобы этот экипаж развалился, не доехав до них.
Вскоре они заметили свет фонаря, который, словно блуждающий огонек, мерцал на черном пологе сгустившегося на горизонте мрака.
Господин де Монгла, человек предусмотрительный, выбрал для ожидания то место, где дорога шла в гору, вынуждая лошадей замедлять бег. Он окликнул почтальона; у того оказалось два свободных места.
У молодого человека исчезла последняя надежда.
В последний раз влюбленные бросились в объятия друг друга и долго стояли обнявшись. Маркиза была так глубоко взволнована, что она находилась в полуобморочном состоянии, когда Луи и шевалье сажали ее в карету, где уже находилась Сюзанна.
Луи де Фонтаньё опустился на придорожную груду камней, несмотря на то что шевалье пытался увести его.
Он смотрел вслед удалявшейся карете, пока мог ее видеть, и прислушивался к глухому шуму колес и дребезжанию колокольчиков, пока ветер не унес эти звуки.
Ему казалось, что это его собственную душу так быстро увозила от него пятерка лошадей мальпоста.
XXI ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЛУИ ДЕ ФОНТАНЬЁ ЗАБЫВАЕТ, ЧТО БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕМ, КТО УМЕЕТ ЖДАТЬ
Шевалье де Монгла всячески пытался взбодрить Луи де Фонтаньё: сначала упреками, затем шутками и, наконец, обещаниями самых радостных надежд.
Но, несмотря на все старания своего старого друга, молодой человек оставался грустным и погруженным в скорбь; он, казалось, не слушал его и заговорил лишь при входе в город, и то для того, чтобы отказаться от уговоров шевалье отправиться вместе с ним к дому человека, сдававшего внаём экипажи.
Достойный дворянин утверждал, что Луи де Фонтаньё обязан сменить маркиза д’Эскомана, стоявшего в засаде уже в течение трех часов; старик ожидал столько удовольствия от этой грубоватой шутки, что лишь с некоторым трудом от нее отказался.
Но молодой человек находился в таком душевном состоянии, что г-н де Монгла был для него плохим утешителем. Шевалье, никогда не испытывавший подобных печалей, ничего не мог в них понять; его любовные истории ничуть не были похожи на ту, что случилась у Луи де Фонтаньё. Они напоминали толстощеких и украшенных ленточками амурчиков, пухлых и цветущих, образчики которых живописцы XVIII века помещали над всеми дверями и каминами, легкокрылых мотыльков, веселых и смеющихся, вечно порхающих и собирающих нектар и никогда не ведающих иных слез, кроме тех, что роса оставляет в цветах розы, стебель которой никогда не обагряли кровью загрубелые пальцы; если же им случалось извлекать стрелу из своего колчана, они сохраняли при этом благодушную физиономию повара, приносящего жертвоприношение лишь для вящего веселья и сохранения навеки человеческого рода.
Так что г-ну де Монгла не могла прийтись по вкусу грусть его молодого друга.
— Зачем же плакать? — говорил он ему. — На вашем месте я бы выделывал батманы в антраша до самого шпица колокольни святого Петра.
И в подтверждение своих слов шевалье изобразил жете-батгю, но мостовая, ставшая скользкой от ночной влажности, никак не давала старику исполнить этот прыжок таким образом, чтобы это его удовлетворило, и ему пришлось несколько раз начинать все сначала.
— Как же так, — продолжал он после этого, — очаровательнейшая из городских дам, образец истинной добродетели нашего общества, проникается к вам расположением… Да что я говорю о расположении? Она безумно влюбляется в вас, влюбляется до беспамятства, а вы еще тут корчите такую мину, будто дьявола хороните. Черт возьми! Кто мне подсунул (тут шевалье употребил более крепкое выражение) этакого Амадиса? А что бы вы сказали, если бы она, как ей, возможно, следовало бы сделать, приказала своим лакеям вышвырнуть вас за дверь? Всему свое время, мой милый мальчик; приберегите ваши вздохи для того, чтобы возложить их к ее ногам; Революция настолько все перевернула, что женщинам такое нравится; но сейчас, вдали от нее, верните себе веселое настроение, у вас столько поводов для этого. Не хотите ли вы нанести вместе со мной короткий визит этому храбрецу д’Эскоману, а то он, должно быть, изнывает от скуки, словно ларь в окружении охапок сена и морд жующих это сено лошадей? А ведь это было бы так забавно и наверняка могло бы вас развлечь! Но я не оставлю вас умирать от тоски; я обещал это вашей обворожительной маркизе, и мне хотелось бы, чтобы вы при встрече с ней тут же засвидетельствовали, как этот старый дурак Монгла держит слово; вот вам еще одно предложение: давайте постучимся в дверь к бесподобнейшей госпоже Бертран! Муженек ее, конечно же, немного поворчит, но если он будет слишком шуметь, то живо у нас сядет в собственный котел; что же касается его половины, то она будет безумно рада видеть меня. Закончить эту ночь в обществе веселого товарища, красивой женщины, за полдюжиной бутылок шампанского — черт побери, такое утешит меня, даже если наступит конец света.
Но, видя, что такая перспектива нисколько не улучшает настроения Луи де Фонтаньё, шевалье продолжал:
— Возможно, вы гнушаетесь ею, госпожой Бертран?.. Поверьте моему стариковскому опыту, мой юный друг, и никогда не пренебрегайте женщиной, будь она молода или стара, если на лице ее мелькает отражение адского пламени. Несомненно, порой и ангелочки хороши, но случаются минуты, когда так приятно бывает общество тех, кто послан нам дьяволом!.. Ну вот, я, его старый приспешник, веду себя подобно царю Кандавлу! Не хватало еще, чтобы я расписывал такому жестокому покорителю женских сердец, как вы, тайные прелести красотки, пожелавшей удостоить меня своими милостями. Ах, мой юный друг, не очень-то обольщайтесь; я столь очарован ее красотой, что способен поступить так же глупо, как д’Эскоман, а мне это было бы досадно. Ну да ладно, — прибавил старый дворянин с ясно различимым оттенками самодовольства и добродушия в голосе, — если такое может принести вам утешение, то я обещаю вам не быть слишком щепетильным. Вот как следует поступать со своими друзьями, черт возьми! Впрочем, это славное создание всегда вернется ко мне; такой молокосос, как вы, неспособен заставить ее забыть меня.
Луи де Фонтаньё испытывал некоторые трудности, отговаривая г-на де Монгла от этого последнего средства, целебная сила которого казалась старику куда более действенной, чем у первого из придуманных им развлечений, при том что мысль о них внушила ему забота о молодом человеке; еще труднее ему оказалось убедить своего старого друга, что в своей печали он не желает в эту минуту ничего, кроме отрешенности и уединения, и только так он сможет немного подкрепить свои душевные силы.
Скорее утомленный бесплодностью своих уговоров, чем убежденный доводами, какие были им противопоставлены, шевалье кончил тем, что проводил своего друга до порога его дома, попытавшись все же возобновить свои наставления по части философии.
Манера старого дворянина вести разговор была сушим мучением для Луи де Фонтаньё; скептические рассуждения старика не только не освежали сердце молодого человека, но растравляли его раны; каждый из взрывов веселья шевалье падал на сердце несчастного влюбленного словно капли воды на раскаленное в кузнице железо: они обращались в пар, не ослабляя жара. Несмотря на все услуги, оказанные ему шевалье, он с какой-то лихорадочной радостью увидел, как тот удаляется; за минуту до этого он готов был отдать десять лет своей жизни, только бы иметь возможность помечтать об Эмме, не испытывая при этом беспокойства от навязчивого собеседника.
Он вошел в свою квартиру.
Слезы, которые до тех пор он сдерживал из стыда перед людьми, из опасений сделать их постоянной темой для насмешек, более утомлявших его, чем раздражавших, эти слезы хлынули потоком, как если бы г-жа д’Эскоман покинула его в эту самую минуту.
Мало-помалу он начал упиваться своим страданием; оно стало неистовым, а затем приобрело черты безумия.
Так же как и на кладбище, он бросился на пол, стал рвать на себе волосы, раздирать платье, громко звать Эмму, казавшуюся ему в эту минуту умершей.
Он принялся искать вокруг себя какой-нибудь предмет, напоминавший ему о ней и хранивший следы ее прикосновений; отчаяние его было так сильно, что прошло минут пять, прежде чем он вспомнил о маленьком кошельке, который она ему дала и который он всегда носил у себя на груди.
Он достал его оттуда и принялся покрывать поцелуями.
Но слишком свежи еще были воспоминания о том, как нежно обнимала его в этот вечер Эмма, чтобы усилия воображения могли ввести в заблуждение его губы, еще пылавшие от полученных ими ласк.
Он начал снова звать Эмму, как будто бы она была возле него, и придавал своему голосу всевозможные оттенки нежности и страсти.
Особую прелесть он находил в том, что прислушивался к собственному голосу.
Буквы, составлявшие ее имя, казались ему отличными от других букв.
Затем он заплакал, и плакал так, что у тех, кто услышал бы его рыдания, должно было сжаться сердце.
Во время этого приступа отчаяния мысли молодого человека стали такими зыбкими и беспорядочными, что речь могла бы идти о потере им способности думать.
Наконец силы у него истощились, и тогда мечтания его стали определенными.
Они сосредоточились на одной мысли: увидеть Эмму!
Машинально он собрал все оставшиеся у него в карманах деньги, достал из шкафа охотничьи сапоги и принялся их надевать.
Но вдруг он с гневом бросил их на паркет; в один миг ему представилось, как по требованию мужа г-жу д’Эско-ман ведут в суд, опозоренную, обесчещенную; и все это по его вине; молодого человека охватил ужас.
В нем началась борьба между горем и совестью.
Горе его обманывало само себя; и без того жестокое, оно стало невыносимым и со страстью растравляло свои раны, чтобы сделать их еще более страшными на вид — так поступают нищие, желая возбудить сочувствие прохожих; оно не плакало больше, а причитало; оно не кричало больше, а выло; оно говорило ему, что, перед тем как он сойдет в могилу, высшим утешением для него должно стать одно — снова увидеть Эмму.
Совесть же его возражала, она говорила: "Подлец! Подлец! Подлец!", как это делал г-н де Монгла; но эти упреки терялись в шуме, производимом ее обезумевшим противником.
И настала минута, когда Луи де Фонтаньё вовсе перестал прислушиваться к ней: совесть была побеждена.
Он вздохнул, как это делают все те, кто решился на дурной поступок, и заглушил голос всех своих добрых начал, чтобы воспользоваться их поощрительным молчанием.
И тогда на ум его во множестве пришли прекрасные доводы и благовидные предлоги, способные оправдать его действия.
В самом деле, кто сказал, что маркиз д’Эскоман намеревается воспользоваться ошибкой своей жены? Господин де Монгла. Но г-н де Монгла всегда был противником его любви к Эмме. Почему? Вероятно, из-за скрытой зависти, которой шевалье не смог избежать. Характер же г-на д’Эскомана ставил маркиза выше подобного предположения. Супруг Эммы был слишком легкомыслен для такого вероломства; он слишком опасался расследования своего собственного поведения, чтобы идти на скандальное судебное разбирательство. К тому же, разве зло уже не было совершено? И вовсе не он, Фонтаньё, дал к этому повод; ну а эта разлука всего лишь напрасная полумера. Если он и не уедет вслед за маркизой сегодня, хватит ли у него самообладания не уехать завтра? Эта история имела такую огласку, что навряд ли супрефект согласится дальше держать его на должности своего секретаря. И к чему привело бы подобное отчаяние, ведь коль скоро г-жа д’Эскоман его разделяет, что было вполне вероятно, оно губительно подействует на ее здоровье.
Эти размышления привели Луи де Фонтаньё в такое возбужденное состояние, что рассудок его не выдержал. Перед ним, как наяву, предстала Эмма, простиравшая к нему руки и кричавшая: "Иди ко мне, я жду тебя! Ты, как и я, несчастная жертва людской злобы. Не медли более, иди ко мне!"
Ему показалось, что он ощутил, как обжигающее дыхание Эммы овеяло его лицо. Он оделся с поспешностью, свидетельствующей о его исступлении, вышел из дому, бегом пересек город и устремился к дороге на Париж, как будто у него была возможность догнать карету, которая увезла Эмму.
Заря уже занималась над Босом и широкий горизонт был испещрен багровыми и серыми полосами, когда Луи де Фонтаньё дошел до того места, где накануне он простился с маркизой.
Он обернулся в сторону города: Шатодён был полностью окутан туманом, и только возвышавшиеся над ним стены древнего замка Монморанси окрашивались отблесками зарождающегося дня.
При виде этого скопления домов еще спящего города, собиравшегося проснуться, чтобы заклеймить ту, которую он любил, Луи де Фонтаньё вновь стал сомневаться.
Вдруг в траве у дороги он заметил что-то белое; это был платок Эммы, влажный скорее от ее слез, чем от утренней росы.
В этой находке он увидел предзнаменование, которое должно было заставить его придерживаться принятого им плана; такое свидетельство горя г-жи д’Эскоман подавило всю его нерешительность. И он пошел по дороге, не оборачиваясь более назад.
Так молодой человек шел до полудня, не думая даже о еде. Он не был привычен к ходьбе, и семь часов утомительного пути исчерпали его силы; разбитые ноги отказывались служить ему.
И столь велико было смятение его мыслей, что лишь тогда он впервые подумал: а ведь завершить путь подобным образом невозможно. Молодой человек пожалел, что он не воспользовался простым, но удобным способом, предложенным г-ном де Монгла накануне для г-жи д’Эскоман, и, за неимением мальпоста, не сел в дилижанс.
Около часа Луи де Фонтаньё просидел на обочине дороги в ожидании какого-нибудь экипажа, но терпение его не выдержало такой задержки. Как ни болели у него ноги, молодой человек все же был в состоянии сидеть верхом; с трудом добравшись до первой почтовой станции, он нанял почтовую лошадь и так сильно погонял ее, что сопровождавший его старик-извозчик стал хмурить брови.
При такой быстрой езде он должен был прибыть в Париж уже вечером.
Господин де Монгла условился с г-жой д’Эскоман, что она укроется в монастыре на улице Гренель.
Ворота подобных заведений открываются для посторонних только в определенные часы. Луи де Фонтаньё прекрасно знал, что он напрасно утомляет себя, но дышать с Эммой одним воздухом уже казалось ему счастьем, и он с еще большим жаром ускорил свою езду.
В семь часов вечера он был в Лонжюмо. Торопя конюха, седлавшего ему лошадь, Луи вдруг услышал стук экипажа, приближавшегося с той же стороны, откуда приехал и он, и хлопанье бича кучера, дававшего знак переменить лошадей.
Инстинктивно он спрятался за стоявшую на дороге колоду, из которой поили лошадей.
Экипаж остановился как раз напротив того места, где укрылся молодой человек. Осторожно приподняв голову над краем поилки, Луи при свете двух фонарей, освещавших коляску, узнал сидящего в ней маркиза д’Эскомана.
Маркиз казался как всегда беззаботным, с полнейшим спокойствием курил сигару и говорил что-то веселое служанке, подавшей ему стакан воды. Казалось, отъезд жены не слишком взволновал его, но тем не менее не было ни какого сомнения, что он преследовал ее.
Луи де Фонтаньё тотчас же начал проклинать свою роковую растерянность, помешавшую ему воспользоваться почтовыми лошадями семью часами ранее; тогда бы он уже давно был в Париже и встретился бы с Эммой до приезда г-на д’Эскомана; но что же будет теперь? Он не смел даже и думать об этом.
Но после такой эгоистической мысли, после нескольких приглушенных возгласов, вызванных его неистовым негодованием против судьбы, крайняя усталость измученного тела развеяла его перевозбуждение, он смог обдумать последствия этого происшествия и в конце концов стал меньше сетовать на сложившиеся обстоятельства.
Значит, шевалье де Монгла не лгал, и г-н д’Эскоман был явно настроен не воспринимать сложившееся положение столь серьезно, как пытался убедить себя в этом Луи де Фонтаньё. Он начал осознавать, что эта встреча может изменить его решение, последствия которого тяжелым бременем давили бы на его совесть порядочного человека, и что, в конце концов, случай, если только это был случай, стоит на его стороне и может называться Провидением.
У него не было такой силы характера, чтобы без горечи и слез покориться судьбе, но все же в итоге он смирился. И когда маркиз, поговорив несколько минут со станционным смотрителем, приказал кучеру трогаться, молодой человек вышел из укрытия и, мысленно вверив себя постоянству и любви Эммы, в которых та ему поклялась, заявил своему извозчику, что слишком устал и отправится в дорогу только на следующий день.
В то же самое время он распорядился, чтобы ему приготовили постель. В те годы станционный смотритель в Лонжюмо был одновременно и содержателем постоялого двора в этом городке.
Служанка, к которой обратился Луи де Фонтаньё и которую взволнованное лицо молодого человека, видимо, живо заинтересовало, спросила его, неужели он собирается лечь спать не поужинав.
Когда тебе двадцать лет, природа с трудом уступает свои права. Вот уже сутки Луи де Фонтаньё ничего не ел, и заполненность сердца не мешала ему время от времени ощущать пустоту в желудке.
Он согласился поужинать.
Служанка провела его через закопченную кухню в обеденную залу и накрыла там на стол.
Первые кусочки еды, положенные Луи де Фонтаньё себе в рот, казалось, должны были застрять у него в горле, но мало-помалу этот нервный спазм прошел; съел молодой человек немного, но с помощью поданного ему крепкого вина, не слишком хорошо понимая, что он делает, с избытком удовлетворил мучившую его жгучую жажду.
Его тело, изнуренное так же, как и его рассудок, не смогло устоять от паров этого напитка. Ужин еще не закончился, а чувства Луи де Фонтаньё уже охватило глубокое оцепенение и мысли его затуманились; нежный образ любимой женщины еще мелькал в его воображении, но ему уже не хватало силы воли удержать его; он облокотился на стол и впал в ту непреодолимую дремоту, что следует за крайним утомлением.
Служанка, слишком молодая для того, чтобы не проявить горячий интерес к красивому юноше, казавшемуся столь печальным, не стала тревожить его сон.
Через двадцать минут после того, как Луи де Фонтаньё заснул, какая-то пожилая женщина прошла со свечой в руке через обеденную залу в кухню.
Она была так озабочена чем-то, что сначала не обратила никакого внимания на запоздалого посетителя; но, когда она возвращалась, служанка обратила на него ее внимание, подав ей знак идти потише.
Незнакомка перевела свой взгляд в сторону, куда указывал палец служанки, и, выронив из рук одновременно свечку и чайник, удивленно вскрикнула:
— Господин де Фонтаньё!
— Сюзанна! — воскликнул молодой человек, разбуженный ее голосом и полагавший, что он видит ее во сне.
И тогда, не обращая внимания на изумление, с каким смотрела на эту сцену служанка, и не пытаясь оправдать это знакомство, Сюзанна схватила молодого человека за руку и потянула его на лестницу, ведущую на галерею второго этажа.
— Это Господь привел вас; пойдемте, пойдемте, — говорила она. — Ах! Сегодня ночью я думала, что увижу, как моя бедная Эмма скончается у меня на руках; это я настояла не продолжать дальше путь: она могла бы умереть прямо в карете. Это было у меня внушение свыше! Пойдемте же! Если они захотят причинить вам зло, я стану защищать вас, я стану защищать вас когтями и зубами. Да, перед тем как опечалить мою девочку, им придется убить старую Сюзанну. Черт побери! — прибавила она, впервые в жизни произнося ругательство. — Посмотрим, смогут ли они сделать несчастной мою Эмму помимо моей воли.
Затем голосом, выдававшим все тревоги ее души, она тихо промолвила:
— О! Только бы внезапный испуг не убил ее!
Перед тем как произнести эти слова, Сюзанна открыла дверь одной из комнат, выходившей на галерею, и Луи де Фонтаньё бросился в комнату, куда эта дверь вела.
Прямо перед собой он увидел маркизу, сидевшую на убогой кровати постоялого двора и с беспокойством прислушивавшуюся к шуму, который доносился извне.
При виде своего возлюбленного г-жа д’Эскоман протянула к нему руки, но кровь отхлынула к ее сердцу, и бедняжка не смогла произнести ни слова; силы оставили ее, она упала навзничь и потеряла сознание.
XXII КАК ИЗВЛЕЧЬ ВЫГОДУ ИЗ ДУРНОГО ДЕЛА
Господин д’Эскоман весьма серьезно принялся за розыски своей жены.
У него было слишком много близких друзей, чтобы он мог долго оставаться в неведении о том, что произошло на улице Кармелитов.
Для чего еще нужны близкие друзья, как не для того, чтобы сообщать своему другу новости, заранее зная, что они для него не самые приятные, и все это с тем большим пылом, что поступают эти друзья так, находясь под охраной чувства, вынуждающего благодарить их, что бы при этом о них ни думали.
Господин де Гискар, тот из приятелей маркиза, кто, казалось, более всех был к нему привязан, в этих обстоятельствах дал доказательство поистине рыцарской преданности и самоотверженности; он покинул свою комнату, где его до тех пор удерживал удар шпаги шевалье де Монгла, и отправился к г-ну д’Эскоману, чтобы уведомить друга о положении, в которое, как утверждала молва, тот попал.
Согласно ей, Маргарита застала г-на де Фонтаньё наедине с маркизой; та же самая молва утверждала, что скандала, учиненного разъяренной гризеткой, оказалось недостаточно, и между двумя любовницами молодого человека завязалась драка; при этом через посредство г-на де Гискара, выступавшего от ее имени, молва приукрашала события обилием подробностей, изложение которых вызвало краску на лице у самого г-на д’Зскомана.
Распутный супруг добродетельной жены обычно менее всех других мужей обладает философским подходом к жизни. Исключение из правила почти всегда дает некоторое преимущество; вот почему так приятно составлять исключение, а в тех обстоятельствах, о каких идет речь, в него попадает распутный муж; его тщеславию льстит, когда он видит, сколько у него поводов оказаться на месте тех, кто прилагает все свои силы, чтобы избежать участи обманутого мужа, а он остается защищенным от обшей беды. И вовсе не добродетели жены он приписывает это свое преимущество, а своим личным заслугам. И тогда он укрепляется в мысли в собственной непогрешимости и начинает в полной мере пользоваться своей независимостью, от которой, по его мнению, ему не приходится ждать никаких неприятностей.
Кроме того, как ни мало г-н д’Эскоман дорожил любовью Эммы, он тем не менее расценивал ее чувство как часть принесенного ею приданого. Он охотно растратил бы это приданое, но не мог позволить, чтобы кто-либо его у него похитил.
Вот почему откровение г-на де Гискара огорчило маркиза много более, чем, казалось бы, этого следовало ожидать.
Тем более что Луи де Фонтаньё уже был виновен по отношению к нему в оскорблении такого же самого рода и маркиз все еще не мог ему простить этого.
Так что в беседе с г-ном де Гискаром маркиз заговорил о второй своей дуэли с секретарем супрефекта; он предупредил собеседника, что на этот раз один из противников не должен уцелеть в поединке.
Но прежде чем посылать вызов, ему необходимо было объясниться с г-жой д’Эскоман, поскольку шатодёнская молва могла и клеветать; поэтому он отложил вызов на следующий день и стал ждать маркизу.
Но маркиза не вернулась домой!..
Господин д’Эскоман уже размышлял, не послать ли вызов г-ну Луи де Фонтаньё немедленно, но тут кто-то постучал в дверь.
Это был камердинер, спрашивавший, не угодно ли будет господину маркизу принять своего поверенного. Господин д’Эскоман не видел в этом визите особой необходимости, но и не находил в нем большой беды, и он приказал впустить посетителя.
Поверенный пришел всего-навсего для того, чтобы предоставить себя в распоряжение господина маркиза.
Господин д’Эскоман был крайне удивлен: он никогда не слышал, чтобы принято было прибегать к советам представителей закона, отправляясь на дуэль.
Но законник объяснил ему, что по городу распространился еще один слух, а именно, что он, г-н д’Эскоман, собирается начать тяжбу о разводе с госпожой маркизой; законники обладают чутьем стервятника, распознавая добычу.
Слово "развод" заставило г-на д’Эскомана надолго задуматься. Ну а поскольку стряпчий был у него под рукой, хорошо было бы этим воспользоваться, и маркиз спросил у него совета.
Обычно поверенный бывает честен лишь в том, что касается его лично; по отношению же к клиентам он ведет себя, как подкладка: ее ставят лишь для того, чтобы укрепить ткань, с которой она соединена. Негодяй, который за такую подкладку платит, и весьма дорого, имеет право требовать, чтобы она не стесняла его движений.
Поверенный г-на д’Эскомана решительно поддержал позицию своего клиента.
Начал он с обличения варварского предрассудка, ставящего право и справедливость в зависимость от удачи в кровавой игре; среди общих фраз на главную тему он между прочим обронил несколько слов, полных такого угрожающего смысла, что они поразили г-на д’Эскомана более чем вся остальная речь законника.
Поверенный заявил, что дуэль маркиза с любовником его жены неизбежно ставит их в неравное положение; г-н де Фонтаньё подвергал опасности только свою жизнь, в то время как г-н д’Эскоман помимо жизни рисковал еще и своим состоянием.
И он это обосновал.
Прежде всего, подводя итог денежным делам своего клиента, он доказал маркизу, что его материальные возможности основываются лишь на достоянии его супруги.
Установив это, он отметил, что ему представляется опрометчивым злить госпожу маркизу до того, как появится уверенность в том, что ей можно нанести решительный удар. Нечего было и думать о том, чтобы являться в суд, не имея иных доказательств, кроме сомнительных свидетельских показаний, а ни на какие другие сегодня опираться не приходилось. Это могло подать г-же д’Эскоман мысль о встречном иске, который, учитывая печальную известность беспорядочного образа жизни маркиза, непременно стал бы для него гибельным.
Господин д’Эскоман позволил поверенному закончить эту назидательную речь, а затем спросил, не принимает ли тот его за болвана, и при этом пригрозил выставить его за дверь.
Законник зловеще улыбнулся, спокойно достал из своего бумажника небольшую связку продолговатых листков и спросил маркиза, будет ли он в состоянии к следующему дню оплатить долг в десять или двенадцать тысяч франков, устанавливаемый этими бумажонками.
Господин д’Эскоман побледнел и что-то невнятно пробормотал; поверенный же воспользовался его растерянностью, чтобы нанести ему удар прямо в сердце.
У маркиза были долги, и долги немалые; обеспечивались они только сердечным согласием супругов в пользовании их совместного имущества и жизнью самого должника. Однако согласие это было нарушено, и говоривший никак не мог допустить, чтобы господин маркиз подвергал опасности свою жизнь. Ведь если он был предан господину маркизу, то интересы других его клиентов, из средств которых он ссужал г-на д’Эскомана деньгами, нельзя было ставить под угрозу из-за этой преданности. Это вынуждало его поставить своих клиентов в известность о нависшей над их капиталами опасности, и он не сомневался, что, при первом же упоминании о возникшем между супругами разногласии, те распорядятся, чтобы он настоял по меньшей мере на обеспечении их долговых требований, а такое обеспечение могла предоставить в настоящий момент одна лишь маркиза.
Дело усложнялось; г-н д’Эскоман быстрыми шагами ходил туда и обратно по гостиной, опустив голову, засунув руки в карманы и сдавливая судорожно сжатыми губами сигару, которой он из-за своей озабоченности дал потухнуть; но поверенный не давал ему ни минуты передышки.
Поясняя свое мнение о том, что нужно какое-то время не тревожить г-жу д’Эскоман, он заявил, что у него не было намерения давать господину маркизу совет закрывать глаза на распутное поведение его супруги; напротив, он считает себя ярым сторонником строгих мер, но при этом разумных и полезных для тех, кто их применяет. Действовать необходимо, но только в том случае, когда можно будет опираться в этой тяжбе на одно из тех неопровержимых доказательств, перед лицом которых суд вынужден будет проявить себя непреклонным и применить закон, не принимая во внимание никаких рассуждений, могущих оправдать преступление; процесс, начатый уже не маркизой, а самим г-ном д’Эскоманом, в таких условиях примет совсем другой оборот. В подобных обстоятельствах господин маркиз, весьма вероятно, вступит во владение состоянием своей супруги, с обязательством выплачивать ей пенсион на содержание; законник был настолько уверен в таком исходе дела, что тут же был готов предоставить своему клиенту какую угодно ссуду под его будущие доходы.
Эти последние слова поверенного решили дело; г-н д’Эскоман снова закурил сигару и, достаточно спокойно усаживаясь, спросил у поверенного, какой смысл тот вкладывает в слова "неопровержимые доказательства".
Законник немного помедлил с ответом, а затем заявил, что в данном случае ему представляется необходимым факт преступного свиданьица, надлежащим образом установленный протоколом.
При этих словах г-н д’Эскоман вскочил с кресла; низость предлагаемого ему средства возмутила его даже больше, чем сама суть дела; но он имел неосторожность открыть поверенному свои уязвимые места, и тот с такой ловкостью приставил ему нож к горлу, что по прошествии двадцати минут беседы совестливость г-на д’Эскомана, размятая, раздавленная, размягченная этой умелой рукой, не устояла и господин маркиз, словно заурядный обыватель, обратился в полицию с просьбой помочь ему засвидетельствовать прелюбодеяние его супруги.
Между тем г-ну д’Эскоману доложили, что некто Можен, сдающий внаём лошадей на главной улице, желает поговорить с ним.
Нам уже известно, что тот хотел сообщить маркизу.
В каретном сарае Можена устроили засаду.
Но шевалье де Монгла, отправляясь к своему молодому другу, чтобы выяснить, что следует думать о ходивших по городу слухах, узнал от прокатчика лошадей об устроенной в его доме западне и не дал птичкам попасться в нее.
Тем временем другие агенты были расставлены вокруг супрефектуры, чтобы следить за Луи де Фонтаньё.
Они донесли поверенному маркиза, решительно взявшемуся за ведение этого дела, что молодой человек, вернувшись около часу ночи, спустя некоторое время снова вышел и более уже не возвращался; в то же самое время маркизу сообщили, что его жену видели около половины двенадцатого ночи идущей по направлению к парижской дороге, где она, вероятно, намеревалась ждать проезда мальпоста.
Уж если человек решается на преследование, то какую бы неприязнь он ни испытывал к тому, чтобы предпринять его, редко когда бывает, что пыл погони не пересиливает его отвращения к ней и он не продолжает ее столь же увлеченно, сколь бесстрастно он ее начинал.
Маркиз д’Эскоман немедленно велел закладывать в коляску четверку лошадей.
Мы видели его проезжающим через Лонжюмо.
Он прибыл в Париж к половине второго ночи и остановил карету прямо у дверей начальника почтового ведомства.
По его просьбе этот чиновник приказал, основываясь на сведениях, полученных им от г-на д’Эскомана, выяснить имя того кучера, который привез в Париж его жену. Он поступил даже лучше: в своем желании быть приятным светскому человеку, к положению которого начальник почтового ведомства, человек женатый, проникся искренним сочувствием, он тотчас же вызвал этого кучера к себе в кабинет.
Кучер рассказал, что на небольшом расстоянии от Шатодёна он действительно посадил в свою карету двух женщин. Его описание этих женщин в точности совпадало с тем, как маркиз описывал Эмму и Сюзанну; но кучер утверждал, что ни один из двух господ, сопровождавших этих дам, не занял место в экипаже; он добавил, кроме того, что дорога настолько утомила более молодую из этих двух путешественниц, что после нескольких вынужденных остановок, связанных с нервными приступами, которые поминутно ее одолевали, она смогла доехать лишь до Лонжюмо и остановилась там на постоялом дворе при почтовой станции.
В своей небескорыстной назидательной речи поверенный г-на д’Эскомана пояснил своему клиенту, что у того есть только две возможности выйти из затруднительного положения, в котором он оказался: начать судебный процесс на указанных им условиях или хотя бы для видимости примириться с маркизой.
Так что находился ли в это время Луи де Фонтаньё возле маркизы или нет, г-ну д’Эскоману следовало немедленно ее разыскать.
Приказав переменить лошадей, маркиз тотчас же отправился в обратную сторону по той же самой дороге, по которой он только что прибыл.
При въезде в городок Лонжюмо он велел остановить экипаж, заплатил кучерам тройные прогоны на условии, что они поедут в обратный путь, не дав отдыха своим лошадям, а сам направился к станционному постоялому двору.
Как самый неприметный прохожий, он скромно постучал в дверь. Ему открыл дежурный конюх. Господин д’Эскоман поведал ему извечную басню о сломанной оси и попросил комнату и постель. Пока будили служанку, в ведении которой находились комнаты, он принялся беседовать с конюхом.
В 1832 году путешественники, разъезжавшие верхом, что было так распространено до Революции, стали редки. Станционные смотрители давно уже заменили этот утомительный способ передвижения на более удобный, предоставляя путешественникам легкие тильбюри, которые не только позволяли им не протирать в седле кожаные штаны и подкладку под ними, но и давали большую выгоду упомянутым предпринимателям: почтарь просто пристраивался рядом с тем, кого ему предстояло сопровождать, так что брали одну лошадь, а платили за две.
Поэтому прибытие молодого человека, проделавшего путь верхом на почтовой лошади, вызвало настоящее волнение среди конюхов; это волнение возросло вдвое, когда проницательная служанка с постоялого двора рассказала им о глубокой печали молодого человека, и во сто крат, когда она сообщила о том, что он оказался знаком с гувернанткой дамы, с утра остановившейся в гостинице, и даже теперь, в полночь, все еще не лег в приготовленную ему постель, хотя простыни в ней были по-настоящему чистыми.
Конюх с нетерпением ждал рассвета, чтобы поделиться с другими своими догадками по поводу этого события; поэтому он был совершенно счастлив рассказать о них для затравки столь любезному слушателю, какого он нашел во вновь прибывшем путнике.
В самом деле, г-н д’Эскоман, казалось, весь обратился в слух.
Когда конюх закончил свой рассказ, маркиз сунул ему в руку золотую монету, которую тот принял как знак благодарности за интересную беседу. Затем маркиз попросил проводить его к мэру, заявив, что он имеет к нему важное и спешное поручение.
Конюх счел чудовищностью будить этого городского чиновника в столь неурочный час. Он не стал скрывать это от своего собеседника и посоветовал ему дождаться наступления дня. Однако заверение в том, что его никто ни в чем не упрекнет, а в особенности золотая монета победили в нем уважение к покою начальства.
И действительно, ознакомившись с паспортом г-на д’Эскомана и письмом королевского прокурора Шатодёна (супруг Эммы успел заручиться им на всякий случай), мэр представил себя в распоряжение незнакомца с поспешностью, поразившей конюха.
Но ему не дали долго удивляться, поскольку главный городской чиновник Лонжюмо приказал своему подчиненному отправиться на поиски жандармов, тогда как сам сменил ночное платье, в каком он принимал гостя, платье, в самом деле мало подходящее для того, чтобы соответствовать знакам властных полномочий, которые, стремясь как можно быстрее исполнить обязанности, возложенные на него обществом, достойный магистрат геройски схватил, даже не подумав прикрыть ту часть своей особы, к какой их следовало прикрепить.
Несколько минут спустя небольшая группа людей, к которым присоединились три жандарма, двинулась по тихим и пустынным улочкам Лонжюмо.
XXIII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН Д’ЭСКОМАН МСТИТ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ СВОЕЙ ЧЕСТИ СОВСЕМ ИНАЧЕ, ЧЕМ СИР ДЕ КУСИ
В комнате, занимаемой маркизой д’Эскоман в станционной гостинице в Лонжюмо, стояли две кровати.
Одна из них, без занавесей, находилась между окном и камином; на ней, на стеганом одеяле, не раздевшись, глубоким сном спала Сюзанна.
Посреди комнаты, напротив окон, находился альков, который был занавешен ситцем, с рисунком в виде каких-то фигур. В этом алькове отдыхала Эмма, а Луи де Фонтаньё сидел в кресле, прислоненном к изголовью ее кровати.
Подобно Эмме и Сюзанне, молодой человек был сломлен усталостью и спал; голова его опиралась на край постели; его руки не выпускали рук маркизы, переплетясь с ними. Время от времени кто-то из них вздрагивал во сне, и от этого руки молодых людей только крепче сжимались; и тогда, как если бы неодолимая связь между ними побеждала легкий сон Эммы, мимолетная улыбка пробегала по ее бледным губам, а через тонкий батист, едва прикрывавший ее грудь, можно было наблюдать, как учащалось биение ее сердца.
Единственная свеча, стоявшая на ночном столике около кровати г-жи д’Эскоман, освещала комнату. Свеча эта уже догорала. Иногда казалось, что она уже была готова совсем погаснуть, и тогда на стенах появлялись какие-то огромные тени с фантастическими очертаниями; иногда вдруг частичка воска оживляла ее колеблющееся пламя, и в ее свете все вокруг словно воспламенялось.
Госпожа д’Эскоман проснулась. Первый, на кого упал ее взгляд, был Луи де Фонтаньё, отделенный от нее лишь ситцевой драпировкой алькова. С непроизвольным испугом она высвободила свои руки из сжимавших их ладоней, но затем улыбнулась своему страху и прижалась щекой к его руке; облокотившись на подушку, она погрузилась в созерцание прекрасного лица молодого человека, с его белизной под венцом шелковистых локонов черных волос, прекрасного, как изображение античного Антиноя.
Эмма уже не находилась в том состоянии лихорадочного возбуждения, которое бросило ее в объятия Луи де Фонтаньё накануне, когда он кинулся на ее поиски; ее инстинкты подлинного целомудрия снова взяли над ней власть; она тут же вспомнила о своем первом порыве. И хотя никто не мог ее увидеть, молодая женщина покраснела при мысли о том, что сон Сюзанны, звучный храп которой она слышала, оставлял ее наедине с любимым человеком. Она натянула батистовую ткань на свои белые плечи, тщательно запахнула ее на груди, а затем протянула руку, чтобы разбудить молодого человека.
Но он так крепко спал, что она не решилась это сделать.
В эту минуту на улице послышались шаги нескольких людей.
Когда совесть неспокойна, для нее все небезразлично; Эмма прислушалась, охваченная настоящим и мучительным страхом, пока все снова не погрузилось в тишину.
И тогда она упрекнула себя за глупые страхи. Разве не естествен такой шум на постоялом дворе, где у стольких экипажей перепрягают лошадей?
Тем не менее волнение ее было так глубоко, что она испытывала неясное желание удостовериться, остался ли еще рядом с ней ее друг и защитник.
Она склонилась над Луи де Фонтаньё и нежно поцеловала его в лоб. Губы Эммы еще прикасались к лицу ее возлюбленного, когда раздался сильный стук в дверь комнаты.
— Что такое? — одновременно воскликнули Сюзанна и Луи де Фонтаньё, все еще полагавшие себя во власти сновидений.
Эмма не задавала подобного вопроса: она тотчас же поняла, что к ней стучится новое несчастье. В испуге она спрятала лицо в подушку.
Между тем стук в дверь усилился; послышался голос мэра, именем закона приказывавшего открыть дверь.
— Ради Бога, ничего не предпринимайте! — кричала Сюзанна, из последних сил устраивая перед входом в комнату оборонительное сооружение из мебели. Ей казалось, будто, спрятавшись за комод, они сумеют выдержать осаду.
Наконец Луи де Фонтаньё понял, что это прибыл муж Эммы, чтобы мстить за свою оскорбленную честь. Он подбежал к окну, полный решимости броситься из него и разбиться о мостовую. Но, открыв его, молодой человек увидел караулившего внизу жандарма, а затем услышал иронический смешок г-на д’Эскомана, которого он разглядел в темноте.
— Мы здесь уже не у Маргариты, — сказал маркиз. — И я весьма сожалею, что мешаю любовным утехам любезного господина де Фонтаньё, но закон предусмотрел это случай.
— Вы подлец, маркиз д’Эскоман! — в бешенстве вскричал молодой человек. — И если я буду держать вас на острие моей шпаги, то клянусь, я убью вас без сожаления и угрызений совести как ядовитую гадину, каковой вы и являетесь.
— Если несколько месяцев тюрьмы не охладят вашей горячей крови, я с удовольствием исполню обязанности вашего хирурга, любезнейший господин де Фонтаньё, — отвечал маркиз, насмешливый тон которого довел до предела раздражение молодого человека, и тот уже готов был разразиться новой бранью, как вдруг Эмма позвала его к себе.
Луи де Фонтаньё быстро закрыл окно и, обернувшись, увидел сидящую на кровати г-жу д’Эскоман. Все ее тело сотрясала нервная дрожь, но лицо ее выражало уверенность и чуть ли не решительность. Хватило нескольких мгновений, чтобы в поведении Эммы произошла полная перемена.
В обычных обстоятельствах жизни избранные натуры, если они робки, могут казаться такими же слабыми и беспомощными, как и натуры заурядные; но там, где последние не могут устоять, первые крепнут. Перед лицом бедствия они разрывают пеленки, мешающие их росту, и неожиданно проявляют себя, становясь вровень с несчастьем, которое, казалось, должно было неминуемо раздавить их.
Так и случилось с г-жой д’Эскоман.
По знаку, который она ему подала, Луи де Фонтаньё подошел к ее кровати.
— Луи, — промолвила она, впервые обратившись к нему на ты, — прошу тебя, поклянись мне еще раз, что, как бы ни сложились обстоятельства, ничто не сможет отнять у меня твою любовь.
Молодой человек поклялся ей в том, что она у него просила.
— Хорошо! — продолжала она, сжимая протянутые им руки. — В свою очередь, беру в свидетели Небо, что ничто не поколеблет моих нежных чувств к тебе и моего решения принадлежать в этом мире только тебе. А теперь, друзья мои, отворите дверь.
Луи де Фонтаньё с удивлением взглянул на Эмму, а Сюзанна воскликнула, что она скорее умрет, чем сдастся.
— Сюзанна, — твердым голосом произнесла Эмма, — я редко приказываю, но, когда мне приходится это делать, я хочу, чтобы мне повиновались. Отворите дверь!
Сюзанна подавила в себе рыдание и стала помогать Луи де Фонтаньё разбирать сооруженный ею бастион, который, как она рассчитывала, должен был защитить ее дитя.
Делать это было самое время. Плохо сколоченные доски двери уже начали уступать усилиям одного из жандармов, старавшегося ее выломать.
Мэр сделал жандармам знак оставаться на лестнице и один вошел в комнату.
Магистрат был весьма недоволен промедлением, с которым ему отворили дверь, поскольку он очень дорожил своими властными полномочиями и был склонен подозревать, что окружающие стараются пренебрегать ими; к тому же он, как и начальник почтового ведомства, был женат, и в его глазах преступная жена не заслуживала никакой жалости.
Так что он вошел в комнату, не сняв шляпы, стараясь придать своей физиономии выражение презрения, казавшееся ему столь же уместным в данных обстоятельствах, как и опоясывающая его перевязь.
— Какую из вас, сударыни, зовут маркизой д’Эскоман?
К каким бы несуразностям это ни должно было привести, Сюзанна в своей слепой преданности госпоже уже было открыла рот, чтобы указать на себя как на виновную и заслуживающую наказания, но г-жа д’Эскоман не дала ей на это время.
— Это я, сударь, — просто ответила она.
Мэр перевел свой взгляд в сторону алькова и увидел прелестное лицо г-жи д’Эскоман, обрамленное кружевным чепчиком, из-под которого выбивались длинные локоны; под ее ангельски кротким взглядом он невольно опустил свои глаза, машинально снял шляпу, смущенно поклонился этому видению и замер перед ним, не произнося ни слова.
Маркизе пришлось самой напомнить растерянному магистрату об обязанностях, которые он пришел исполнить.
— Что вам угодно от госпожи д’Эскоман? — спросила она.
— Разумеется, сударыня, — начал мэр, — задача, стоящая передо мною в эту минуту, крайне тяжела; но все мы обретаемся на земле, чтобы исполнять свой долг!.. Да и сам Господь разве не подал нам пример… пример… И в конце концов правительство, обратив на меня свой взор, дабы я замещал его подле населения…
— Ради Бога! Покороче, умоляю вас, сударь! — взмолилась маркиза.
— Ну что ж, пусть будет так, сударыня, — несколько сухо отвечал мэр, по-видимому уязвленный тем, что та, на чью красоту он обратил столько внимания, так мало оценила цветы его красноречия, — пусть будет покороче, я и сам желаю поскорее покончить с этим делом. Отвечайте же мне, что делает в вашей комнате в два часа ночи этот господин, который, как я предполагаю, не является вашим супругом?
— В пути я сильно занемогла и была вынуждена прервать свою поездку и остановиться в этой гостинице; моя горничная падала от усталости; случай привел сюда господина де Фонтаньё, моего друга; я попросила его заменить служанку по части исполнения ее тяжелых обязанностей сиделки, и он согласился.
— Черт возьми! Еще бы не согласиться! — отвечал мэр, приходя во все большее восхищение. — Поверьте мне, сударыня, будь я в тех же годах, что и этот господин, я поступил бы на его месте точно так же.
Слова эти мэр произносил голосом, становящимся все более тихим, но, подумав, что его могли слышать жандармы, стоявшие в это время за дверью, он заговорил громче, чтобы все дальнейшее послужило бы противовесом к сказанному им ранее.
— Разумеется, подобное милосердие этого молодого человека достойно всяческих похвал, если бы не одно неприятное обстоятельство, о котором мне надлежит вам сообщить: общественное мнение называет его отнюдь не вашим другом, а вашим возлюбленным.
К г-же д’Эскоман, покрасневшей от его грубой шутки, немного вернулась уверенность, когда он бросил ей в лицо это прямое обвинение.
— Сударь, — возразила она, — если вы под только что произнесенным словом подразумеваете человека, который мне дороже всего на свете, то вы правы: да, господин де Фонтаньё мой возлюбленный; если же вы придаете этому определению совсем иной смысл, то смею вас заверить, что вы ошибаетесь.
Достоинство, с каким держалась маркиза, говоря это, и волнение, невольно сквозившее в ее голосе, произвели на представителя закона впечатление совсем другого рода, нежели то, что уже оказала на него ее красота: он смотрел на г-жу д’Эскоман с почтительным уважением.
— Бедная сударыня, — промолвил он после минуты молчания, вновь возвращаясь в состояние добродушия, составлявшего основу его характера, — все возможно на этом свете, даже то, что вы мне сейчас сказали; но, на вашу беду, вовсе не мне надлежит это решать, хотя, по правде говоря, я склонен считать, что вы не лжете… Послушайте, — продолжал он, приблизившись к постели Эммы, — я хотел бы быть вам полезен и помочь вам, что бы там ни требовали общественная мораль и строгость моих служебных обязанностей: вы вызвали у меня участие. Нет ли какого-нибудь способа поправить дело? В подобных обстоятельствах правосудие молчит, если муж не подает голоса; в противном же случае — берегитесь: правосудие непременно сделает свое дело. Подумайте, нельзя ли заставить господина маркиза забрать назад его жалобу? На вид ваш муж добрый малый. Да будь я на его месте, у меня из ноздрей и ушей шли бы огонь и дым. Не угодно ли вам, чтобы я исполнил здесь роль примирителя? Ведь, по вашим словам, дело и выеденного яйца не стоит. Если вы желаете, я пойду поищу его и попытаюсь немного образумить?
— Я очень благодарна вам за ваше доброжелательное внимание ко мне, сударь, я им тронута; но воспользоваться вашей доброй волей себе во благо для меня невозможно.
— Отчего же? В чем вы тут видите помеху? Этот господин волнует ваше сердце больше, чем такое можно пожелать? Но, черт побери! В вашем возрасте и при вашей красоте стоит ли пугаться подобного затруднения? Я знал женщин, которые не годились вам и в подметки, но в таких же самых обстоятельствах умудрились бы за месяц сделать из этого вот господина самого близкого друга собственного мужа… Когда это достигнуто, то чего еще остается желать в этом мире женщине? Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает!
Но, словно испугавшись безнравственной картины, только что изображенной им перед преступниками, государственный муж добавил самым торжественным голосом:
— Сударыня! Общество в моем лице призывает вас отречься от ваших ошибок и вернуться в лоно семьи, которое не преминет принять вас, как говорит Писание.
— Господин мэр, вслед за судьями смертными, которые меня заклеймят, нас с господином д’Эскоманом рассудит Бог, и я не страшусь его приговора. В ответ вам я могу лишь сказать, что если обстоятельства, уже разлучившие меня с мужем, исходили по большей части от его воли, а не от моей, то ничто сегодня, я вас уверяю, не может меня подвести или принудить к тому, чтобы я снова увиделась с ним.
Луи де Фонтаньё бросился к руке г-жи д’Эскоман, которую она простирала к Небу, чтобы жестом придать торжественность своим словам, и, невзирая на присутствие мэра, поднес эту руку к своим губам.
— Как? Вы позволяете это себе, видя мою перевязь? — воскликнул чиновник. — Черт побери! Вы заслуживаете, молодой человек, вполне заслуживаете того, чтобы я внес этот факт в протокол, и на самом деле, это означает потешаться над моей снисходительностью. Из уважения к маркизе я готов сделать вид, будто ничего не заметил, но не повторяйте такого!.. После того как вы столь твердо выразили свою волю, госпожа маркиза, я больше не настаиваю на своем предложении; но, что касается меня, я сожалею об этом. Для человека, желавшего бы располагать храмом или по меньшей мере дворцом, чтобы вам их предложить, крайне прискорбно быть вынужденным отдать приказ о том, чтобы вас сопроводили в тюрьму.
При слове "тюрьма" Эмма почувствовала вдруг, как все силы, позволившие ей выдержать разразившуюся над ней страшную грозу, покидают ее: она залилась слезами и разразилась рыданиями.
— В тюрьму? — переспросила Сюзанна, в то время как Луи де Фонтаньё в изнеможении рухнул на стул и закрыл лицо руками. — В тюрьму? — повторяла кормилица. — Сударь мой милый, вы сказали, в тюрьму? Госпожу маркизу Эмму д’Эскоман — в тюрьму?
— Без всякого сомнения, милейшая сударыня; и воля короля Луи Филиппа, не говоря уже о моей, будет бессильна помешать тому, чтобы закон был исполнен.
— В таком случае вам не сказали всей правды, вам не могли сказать ее. Вам неизвестно, что на протяжении трех лет госпожа маркиза напрасно предлагала тому, кто сегодня ее преследует, не только свою красоту, поразившую вас так же, как она поражает всех, но еще и свою любовь, нежность, добродетели и кротость, какую можно найти разве только у ангелов Господа Бога, и все эти три года это чудовище отталкивало ее, а теперь осмеливается требовать то, чем оно пренебрегало; вам неизвестно, что…
— Ради Бога, Сюзанна! — прервала ее Эмма.
— Нет уж, позвольте, сударыня! Я хочу сказать и скажу: правосудие справедливо, господин мэр его представляет, и он меня выслушает, — продолжала Сюзанна, схватив мэра за его перевязь и притянув к себе с присущей ей силой.
— Вы ошибаетесь, милостивая сударыня, — отвечал ей мэр, задыхаясь от качаний, к каким усилия гувернантки принуждали его тело. — Я не представляю собой правосудие, да если бы и был им, то зачем же, черт возьми, трясти правосудие, как мирабелевое дерево?!
— Выслушайте меня, и вы больше не скажете, что госпожу маркизу надо отправлять в тюрьму… Тюрьма! Да это он заслужил тюрьму и нечто похуже! Тюрьма!.. Девочке — ей было семнадцать лет, сударь! — девочке достало несчастья, чтобы он позарился на ее состояние, желая возместить им свое, промотанное в молодые годы распутством. На следующий же день после свадьбы, когда он завладел тем, чего ему так хотелось, он изменил ей, он бросил несчастную женщину, которой накануне клялся быть верным и защищать ее, — на следующий же день! Да, милостивый сударь, я это докажу, ведь я следила за всеми его действиями, за каждым его шагом, как кот следит за мышью. О! Я это докажу, милостивый сударь.
— Да я-верю вам, верю; но ради Бога, отпустите меня!
Однако Сюзанна, казалось, не слышала его слов и продолжала:
— Если бы вы могли знать, какие страдания претерпевает покинутая супруга! Да вы, мужчины, никогда и не задумывались над этим! Можно перестать горевать из-за потери состояния, можно смириться с одиночеством, но распутная жизнь мужа все уничтожает, все, вплоть до уважения, которое честная женщина вправе требовать. Обычно в таких случаях говорят: "Как же она не может удержать подле себя мужа?" И начинают возводить клевету на ее нрав. А для бедняжки уже мертвы все радости мира, уже угасли все надежды; весна не имеет для нее цветов, а день — света; порой и в религии она не может найти утешения. Так вот, сударь, все пытки, какие только есть в подобном мученичестве, испытала женщина, которую вы видите перед собой, — Эмма, мое возлюбленное дитя! И из-за того, что однажды, увидев себя навеки приговоренной к этому аду, она из глубины бездны подняла глаза к небу, чтобы увидеть, действительно ли там нет больше ни единой звезды Господа Бога, которая взирает за ней, вы, по одной лишь надуманной или обоснованной жалобе того, кто станет причиной ее падения, как он стал источником всех ее зол, тащите ее в тюрьму! Да полноте же! Если это в самом деле так, то надо тут же отказаться от звания христианина.
— Несомненно, милейшая сударыня, вы говорите справедливые вещи, — сдавленным голосом отвечал мэр, — но, к несчастью, я ничего не могу сделать и, к еще большему несчастью, сейчас совсем лишусь счастья слышать вас. Я задыхаюсь.
И действительно, мэр, которому Сюзанна для нужд заключительной части своей речи предоставила передышку, тяжело свалился в кресло, поставленное возле него каким-то ангелом-хранителем.
Излив свой гнев, гувернантка прониклась жалостью к своей жертве и поднесла мэру стакан воды.
Придя в чувство и переведя дух, достойный чиновник попросил Сюзанну отойти в сторону, чтобы он мог переговорить с ее госпожой.
Гувернантка, не сомневаясь в успехе своего красноречия, подчинилась и отошла к окну, где стоял Луи де Фонтаньё.
Мэр занял то место, которое занимал в течение этой несчастной ночи молодой человек. В простых словах, искренность которых приободрила Эмму, он выразил сочувствие к ее несчастью, казавшемуся ему незаслуженным. Он пообещал маркизе, что она будет видеть с его стороны знаки внимания, согласующиеся с его обязанностями, и вызвался сопровождать ее в Версаль в своем собственном экипаже и без конвоя, потребовав лишь, чтобы г-жад’Эс-коман не говорила прямо своей кормилице об истинной цели этой поездки. Достойный человек утверждал, что он принимает эту предосторожность, дабы поберечь чувствительность бедной женщины, но, возможно, он просто хотел оградить себя от новых мучений.
Поднявшись, чтобы дать возможность маркизе привести в порядок свой туалет, мэр попросил ее ускорить сборы, поскольку, по его словам, важно было покинуть Лонжюмо до рассвета, прежде чем на улицах покажется народ, любопытство которого может доставить им неприятности.
— Уже слишком поздно, сударь, — ответил Луи де Фонтаньё, на протяжении нескольких минут с беспокойством смотревший в окно.
— Боже мой! Боже мой! — воскликнула бедная Эмма, простирая руки к Небу. — Я должна испить чашу до дна!
Действительно, с улицы доносился глухой шум собравшейся толпы.
Прежде чем Луи де Фонтаньё смог понять намерение Сюзанны, она распахнула окно.
При виде этой женщины, появившейся на балконе, из глоток пятисот людей, привлеченных, несмотря на ранний час, зрелищем жандармов у почтовой гостиницы, вырвалось пятьсот насмешливых криков, и несколько камней полетели в окна, оставив на них звездообразные трещины.
Эмма в ужасе закричала и спрятала лицо на груди Луи де Фонтаньё, подбежавшего к ней при первом же угрожающем шуме.
Мэр схватил сзади Сюзанну и попытался втянуть ее обратно в комнату, спрашивая ее, неужели она хочет быть побитой камнями.
Но гувернантка оказалась гораздо сильнее мэра: уцепившись за перила балкона, она свела на нет все его усилия, не смущаясь ни криками, ни камнями, брошенными детской рукой в окна комнаты.
Сюзанна считала важным объяснить толпе, как она полагала перед этим необходимым доказать мэру, что люди заблуждаются насчет ее хозяйки, которая не перестала быть достойной всяческого уважения; она хотела обратиться с речью к обитателям Лонжюмо.
Гувернантка в самом деле произнесла речь, и если ей не удалось убедить толпу, то, по крайней мере, она ее тронула.
Конечно, вначале были и шепот, и ироничный смех, но по мере того, как она говорила, начала воцаряться тишина.
Она повторила любопытным слушателям то, что было сказано ею /пэру, только изъяснялась она теперь более решительно; чутьем опытного оратора она почувствовала, что со стоявшими перед ней слушателями ей следовало говорить общим с ними языком, то есть языком народа.
Эта исступленная нежность кормилицы к ребенку, вскормленному ее молоком, эти крики, идущие из сердца обезумевшей матери; эти вспышки ненависти к поступкам мужей и к несправедливости мужчин сильно подействовали на сердца женщин, составлявших большую часть слушателей; они доставали из карманов платки и утирали увлажнившиеся глаза; и едва Сюзанна закончила свою речь, как ей стали восторженно рукоплескать.
И поскольку почти всегда страстям толпы, приведенной в волнение, нужна какая-нибудь жертва, несколько кумушек дали совет проучить мужа преследуемой жены, оставив память об этом в назидание будущим поколениям.
По счастью, маркиз д’Эскоман, дав указания мэру, тут же отбыл в Париж.
Отвага Сюзанны имела по крайней мере то положительное следствие, что, когда маркиза, после душераздирающего прощания с Луи де Фонтаньё, с которым ей предстояло теперь увидеться только в присутствии судей, появилась в дверях гостиницы под руку с мэром, провожавшим ее к своей двуколке, толпа почтительно расступилась перед ней и почтительный шепот, исполненный участия, смягчил то ужасное, что было в подобном положении для светской женщины.
Что же касается гувернантки, то она торжествовала и с гордым удовольствием пожимала руки, тянувшиеся к ней из толпы.
XXIV О ТЕХ, КТО ПОДРЕЗАЕТ КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ
В наш век скандал судебного процесса, связанного с супружеской изменой, уже не является какой-то новостью; однако публика оказывается чрезвычайно падкой на такие скандалы, особенно когда ответчик и истец принадлежат к высшим классам общества.
Поэтому в день, когда в суде заслушивается подобное дело, зал суда всегда бывает переполнен.
Если изучить чувства, побуждающие слушателей прийти туда, то окажется, что всю аудиторию можно разделить на несколько четко отличающихся друг от друга категорий.
Прежде всего это любители и знатоки историй с похищениями и соблазнениями, большие почитатели непристойных романов; они видят в таком судебном процессе занимательную главу одного из этих романов, которую интересно перелистать, и приходят в зал суда, чтобы собственными глазами оценить достоинства героини и обсудить не чудовищность, а приятные стороны греха. Они воображают себя в театре Жимназ; их бесстыдный лорнет отслеживает и выжидает с терпением и зоркостью глаза дикаря тот миг, когда потребность пустить в ход платок вынудит несчастную героиню приподнять краешек вуали, под которой она надеялась скрыть на своем лице краску стыда. Они поднимаются на свои скамьи, стараясь разглядеть, хороши ли у нее ножки; им нет никакого дела до слез, лишь бы только глаза, проливающие их, были красивы. Закрытые судебные заседания приводят их в отчаяние; на их взгляд, обвинительные акты никогда не содержат достаточного числа частных подробностей; они простодушно сожалеют (и не из соображений добронравия, а в интересах собственного любопытства) о временах, когда в ходу были публичные постыдные показания. Как правило, они снисходительны к обвиняемой даме, особенно если та хороша собой, но их шумное и излишне бурно проявляемое сострадание является не меньшим из мучений, каким судебный процесс, этот предварительный позорный столб, подвергает несчастную женщину.
За ними следует категория наблюдателей, убежденных в том, что, посмеявшись над несчастьем других, они тем самым показывают, будто им такая беда не грозит.
Затем идут уравнители — такие, как мэр Лонжюмо, прямые потомки лиса, которому обрубили хвост.
Затем идут друзья, роль которых и так ясна, и нет нужды о ней распространяться; они приходят отдать дань признательности той или иной стороне судебного процесса. И если на заседании суда вы услышите глухой ропот, посредством которого слушатели выражают от имени оскорбленной нравственности свое осуждение, будьте уверены, что исходит он от той части публики, о какой мы ведем речь.
Существует еще категория учеников, состоящая в большинстве своем из учениц, — эти приходят в зал суда, пытаясь разобраться на месте, где же необходимо остановиться, чтобы самим не сесть на страшную скамью подсудимых.
И наконец, последняя категория — это дураки, искренне полагающие, будто общество находится в опасности, поскольку Бог не одарил сердца женщин вечным постоянством.
Но каковы бы ни были тайные причины, побудившие слушателей явиться на судебное заседание, поведение всех этих различных групп публики остается одним и тем же, а именно глупым и жестоким в своем непристойном любопытстве.
Нам не дано понять, какую пользу можно извлечь из подобной огласки; в ней мы видим лишь одно преимущество и усматриваем тысячу бед.
Несомненно, можно утверждать, что подобное публичное бесчестие преступной супруги есть для нее спасительная узда; но разве недостаточно пяти человек, чтобы заставить покраснеть женщину?
Неужели вы думаете, что вам удастся привести к покаянию души бездельников, которые приходят слушать ваши обвинительные речи и читают судебные отчеты в наших многочисленных судебных газетах? Любовные приключения, как и дуэли, слишком глубоко вошли в наши нравы и обиход, чтобы вы подвигли общественное мнение видеть в том, что называется у вас преступлением, нечто иное кроме происшествия, способного послужить пищей для злорадства, и связать подобный поступок с мыслью о позорной расправе, наступающей вслед за ним.
К этому можно добавить, что такая огласка с ее любострастными пересудами лишь подстрекает к разврату, хотя призвана остановить его.
Выносите же приговор, но, осуждая, оставьте в тени супружеский альков, не оглашайте его тайны; пусть лишь представителю судебной власти и врачу дается право приподнимать этот полог. Не забывайте, что если преступление и совершено, то в результате его рождаются дети, и в этом отношении брак священен.
Не заставляйте толпу, с насмешкой внимающей суду, видеть, как та, для которой вы требуете кары, принимает гордый вид, и слышать, как она, повернувшись к тем, кто ее обличает, повторяет им божественные слова: "Кто из вас без греха, первым брось на меня камень!"; не принуждайте всех этих фарисеев склонять голову.
Если для любой женщины, какой бы она ни была, подобное выставление на судебной скамье, насквозь пропитанной флюидами тех гнусных злоумышленников, кого усадило на нее правосудие, и оскверненной их следами, уже было мучением, то можно судить о том, что испытывала г-жа д’Эскоман, увидев себя пригвожденной к ней.
Она рассчитывала, что у нее будет больше сил и что реальность будет не столь ужасной.
Переговоры г-жи д’Эскоман с видным адвокатом, взявшимся ее защищать, представляли ей в ином виде, насколько это было возможно, зловещее зрелище чаши с горечью, которую ей предстояло испить. Основательно ознакомившись с делом, адвокат вселил в нее надежду. Из его слов она поняла, что подразумевается вовсе не безнаказанность ее любви, а возможность дружески уведомить обвинителя, судей и публику о доброжелательности, встреченной ею у этого человека, доброжелательности, которая, не скрыв виновность маркизы в глазах закона, извинит и облегчит ее, пролив над нею слезы; что подразумевается ее оправдание (благодаря тому, что ошибки будут беспристрастно приписаны тем, на кого они должны были быть возложены) в глазах добросердечных людей — единственных людей, уважению которых она придавала отныне хоть какую-то цену.
Сюзанна также старалась ободрить маркизу; мы видели, какую веру в себя вселили в гувернантку рукоплескания, заслуженные ею в Лонжюмо; и хотя кормилица никак не могла привыкнуть к мысли, что она видит маркизу д’Эскоман в заключении, словно преступницу, и с трудом понимала, что после любого дознания необходимо публичное разбирательство, она, тем не менее, оставалась в убеждении, что оправдание Эммы будет безоговорочным и все обернется стыдом и позором для того, кого она считала единственным виновником случившегося.
В самом начале предварительного заключения маркизы и Луи де Фонтаньё Сюзанна поочередно посещала их, передавала им взаимные утешения, которые они находили в заверениях их общей любви; но адвокат настоял на том, чтобы кормилица прекратила эти посещения: их легко можно было использовать во вред его клиентке.
С тех пор Сюзанна уже не расставалась со своей госпожой; она так чудесно рассказывала ей о любовном восторге молодого человека, о том, как нежен был его взгляд и взволнован голос, когда он говорил об Эмме, а та получала такое удовольствие, заставляя свою старую подругу повторять все сказанное Луи де Фонтаньё в беседах с ней и расспрашивая ее даже об интонации, с какой он произносил эти слова, что маркиза находила возможность д ля смирения, и часы тюремного заточения текли для нее все же довольно быстро.
Наконец наступил день, когда должна была решиться ее участь.
Для скамьи подсудимых, как для балов и торжественных обедов, требуются свои туалеты, отвечающие подобным обстоятельствам. Адвокат подсказал Сюзанне, что ее хозяйка должна быть одета в черное платье, и кормилица употребила все усилия, чтобы этот наряд еще более подчеркивал красоту Эммы; достойная женщина не хотела пренебречь ни одним средством, которое могло бы повлиять на решение судей.
И вот маркизу д’Эскоман ввели в зал суда. При виде множества голов, прижатых друг к другу в тесных стенах, при виде тысячи глаз, устремленных на нее, Эмма с ужасом отступила; она хотела бежать, но неумолимая дверь уже затворилась за ней, и адвокат — единственный человек среди всей этой массы людей, на открытую поддержку которого она могла рассчитывать, — предложил ей руку и проводил ее, едва держащуюся на ногах, к скамье, где уже сидел Луи де Фонтаньё.
Судебное заседание открылось. Первое впечатление молодой женщины было уже столь глубоким, что все ее тело охватила судорожная дрожь; временами перед ее глазами проплывал густой туман; в ушах ее стоял неясный гул, схожий с отдаленным шумом моря; он помешал ей расслышать прочитанное королевским прокурором обвинительное заключение, документ, впрочем, формальный, в котором он, казалось, не решился слишком углубляться в прошлое обвиняемой из опасения сокрушить набор аргументов, на каких строилось обвинение, да и весь процесс в целом.
Вслед за королевским прокурором должен был выступать адвокат г-на д’Эскомана.
Его вышколил тот самый поверенный маркиза, что уже выступал перед нами в одной из предыдущих глав. Адвокат не был знаком ни с самим маркизом, ни с его супругой, но желал добросовестно отработать деньги, которые ему предстояло получить; за неимением таланта он готов был служить своему клиенту желчью.
И голос его прогремел во имя поруганной нравственности, бесстыдно нарушенных общественных законов и правосудия, которому бросили вызов; он призвал на голову виновной всю строгость суда, пуская в ход сильные ораторские приемы, какие следовало бы приберечь для чудовищ, время от времени с ужасом извергаемых обществом из своих недр; речь его была волнующей и грозной; он брал за образец Данте, опирался на заповеди Моисея и римские законы Двенадцати таблиц.
Однако все это было еще не столь страшно.
Но когда Эмма услышала, что адвокат обратился к ее прошлому и стал извращать ее мысли и действия, обращать в вину ее намерения, обрывать листок за листком, цветок за цветком девственный венок, принесенный ею к алтарю; когда он стал представлять ее злоупотребляющей доверием честнейшего и почтеннейшего из людей, прикрывающей свой обман религиозным лицемерием, предающей всеми чтимое до тех пор имя общественному презрению, водворившей в семейный очаг постыдную измену; когда она почувствовала зловонную грязь, которую этот человек горстями швырял ей в лицо; когда он, прибегнув к невероятному сравнению, сорвал покровы с брачного ложа и выставил напоказ публике г-жу д’Эскоман, которую для пользы своего дела измыслил нагой, как Мессалина, и, как Мессалина, утомленной, но не удовлетворенной сладострастием, — несчастная женщина ощутила себя безвольной участницей какого-то жуткого сновидения. Пронзительный голос адвоката доносился до нее лишь урывками, и в этих хриплых звуках ей чудился звон колокола, оповещавшего о ее собственных похоронах; тысячи взглядов, которых она так испугалась, входя в зал заседаний, теперь казались ей стальными; эти взгляды ранили не только ее душу, но и ее плоть; незаметная до того дрожь в ее теле постепенно превратилась в судороги; с душераздирающим криком она упала в сильнейшем нервном припадке.
Что же касается Сюзанны, ее уже давно не было рядом с Эммой. При первых же словах адвоката г-на д’Эскомана она, придя в неистовство, попыталась прервать его обличительную речь, и, несмотря на ее крики, мольбы и угрозы, председательствующий приказал выставить ее за дверь.
Ну а Луи де Фонтаньё плакал; сделать еще что-то означало скомпрометировать Эмму, к тому же его адвокат советовал молодому человеку скрывать даже свои слезы; и бедную женщину, корчившуюся в страшных судорогах, вынесли.
После завершения речи адвоката г-на д’Эскомана, вследствие отсутствия обвиняемой, председательствующий прервал на время заседание.
Как только Эмма пришла в себя, у нее спросили, согласна ли она вновь предстать перед судом.
Она не отвечала, и ее молчание было принято за согласие.
Природа, определившая границы нашим силам, равным образом наложила и пределы нашим болям. При определенном уровне страданий человек теряет способность чувствовать, перестает что-либо воспринимать, ощущение боли покидает его, муки становятся для него беспомощны; в такие минуты кажется, что душе достало сил ускользнуть на время от своих палачей, оставив им бедное тело, своего брата, в залог.
Эмма не плакала более; она оставалась ко всему безучастной и стояла с опущенными руками, едва держась на ногах, с застывшим и невидящим взглядом.
Чтобы привести ее в чувство, пришлось приподнять ей вуаль; возвращаясь в зал заседаний, она забыла опустить ее.
Когда Эмма появилась там, зрителей, которых не слишком-то тронуло ее отчаяние, казалось, ошеломила ее красота, остававшаяся дотоле почти невидимой вследствие снисходительного отношения председательствующего к обвиняемой. Мы уже говорили, что слезы не портили г-жу д’Эскоман, а горесть придавала еще больше прелести ее печальному лицу. Среди шума, вызванного изумлением любопытной толпы, послышался легкий шепот сострадания.
Красота — это единственное, что всегда оказывает воздействие на человеческое сердце.
Сама же Эмма не замечала происходящего вокруг. Адвокат, провожавший ее на место, наклонился к ее уху и сказал:
— Мужайтесь! Усердие увлекло наших противников чересчур далеко; они проиграли; я пришел в восторг, что они повели дело так; даже если бы вы их подкупили, они не смогли бы услужить вам лучше. Они вздумали представить господина маркиза д’Эскомана неким Катоном! Однако у метра*** не хватило красноречия; когда он говорил, я отлично заметил ироничные улыбки на губах судей; значит, они за нас. Да и вы, сударыня, упали в обморок как нельзя кстати. Посмотрите, с каким сочувствием нас встречает теперь публика! Я ручаюсь, что процесс будет выигран, и не только этот, но и другой, который мы возбудим перед гражданским судом; я ручаюсь за это с тем большей уверенностью, что уже вступил в соглашение с моим коллегой, который защищает господина де Фонтаньё, и оно в высшей степени облегчит мою задачу. Еще раз говорю вам: мужайтесь! Через час ваш оправдательный приговор встретят всеобщие рукоплескания.
Славный адвокат искренне верил, будто его клиентка играет свою роль точно так же, как он исполняет свою: из всего, что он сказал маркизе, она поняла лишь одно слово — имя своего возлюбленного; Эмма повернулась к нему и нашла в себе силы улыбнуться.
Вот что имел в виду адвокат маркизы, намекая на план, составленный им вместе с его коллегой.
У обвиняемой было отягчающее обстоятельство: ее застигли на месте преступления.
Но присутствие Сюзанны, спавшей в одной комнате со своей госпожой, и отсутствие беспорядка в одежде Луи де Фонтаньё несколько смягчали последствия правонарушения.
Что же касается вызова свидетелей сцены на улице Кармелитов для того, чтобы поддержать обвинение, то поверенный маркиза д’Эскомана об этом даже не подумал. Главного из них было слишком легко отвести, а все то, что показали бы другие, могло быть достаточным, чтобы г-жа д’Эскоман окончательно потеряла голову, но осталось бы явно неубедительным для судей.
В своей горячей преданности Эмме Луи де Фонтаньё готов был ради ее спасения принять на себя все последствия какой угодно гнусной или смешной роли.
Его адвокат, которому он сообщил об этом своем твердом намерении, переговорил с адвокатом г-жи д’Эскоман.
Между адвокатом г-жи д’Эскоман и Луи де Фонтаньё была достигнута договоренность: адвокат станет энергично отвергать, что между его клиенткой и г-ном де Фонтаньё существовали какие-либо иные отношения, кроме светских; адвокат обвинит г-на де Фонтаньё в том, что он гнусным образом злоупотреблял дружбой Эммы, чтобы из тщеславия или легкомыслия добиться ее любви, на которую ему никто не давал повода рассчитывать.
Во время первой части защитительной речи своего адвоката г-жа д’Эскоман оставалась безучастной и подавленной. Адвокат успешно опровергал клевету, жертвой которой стала его клиентка, и восстанавливал истинные факты и истинное положение дел. Затем, коснувшись личности самого маркиза д’Эскомана, он показал, насколько истинный г-н д’Эскоман отличался от чрезвычайного добродетельного г-на д’Эскомана, рожденного воображением его красноречивого коллеги, подобно Минерве, рожденной из головы Юпитера. Без жалости к маркизу он поведал о всех его похождениях, тайна которых была известна Сюзанне, поспешившей сообщить о них адвокату; он подсчитал все его легкомысленные траты, он подвел итог имущественному положению маркиза и его образу действий; затем, в противовес этому, он показал г-жуд’Эскоман, которая жила достойно и собранно среди этого беспутства, вызывая жалость и восхищение всех, кто ее знал, противилась всем соблазнам и с презрением отвергала все непристойные притязания на нее. Он показал ее так называемое брачное ложе; он открыл взору ее семейный очаг, и все увидели эту восхитительную молодую женщину, пребывающую подле него в печальном и стоическом смирении, даже не просящей у света утешения и сострадания и ищущей их лишь в религии и, что было не менее достойно, в возможности исполнять свой долг.
Луи де Фонтаньё предстал в речи выступавшего компаньоном распутного г-на д’Эскомана; он не то выменял у него любовницу, не то владел ею вместе с ним: брезгливость не позволила выяснить эту подробность. То ли он подчинился пагубному влиянию этой женщины, которая должна была ненавидеть свою соперницу, то ли поддался одному из постыдных внушений самолюбия, свойственных негодяям, то ли, наконец, из легко объяснимой или, напротив, совершенно необъяснимой преданности пожертвовал собой ради друга, в чьи руки эта чудовищная тяжба могла теперь передать все состояние жертвы, — в любом случае он настойчиво пытался погубить эту благородную и несчастную женщину. Затем последовало неизбежное сопоставление предателя со змием, показавшимся адвокату г-жи д’Эскоман еще слишком благородным в сравнении с ее так называемым сообщником.
С первых же слов адвоката, когда тот упомянул имя Луи де Фонтаньё, г-жа д’Эскоман приподняла голову; бледность ее лица сменилась яркой краской; она переводила свой взгляд то с адвоката на молодого человека, то с молодого человека на адвоката; казалось, глаза ее настоятельно просили адвоката замолчать, а к Луи де Фонтаньё они обращались с нежностью и мольбой.
Взгляд Эммы, встретившись с глазами Луи де Фонтаньё, чуть было не одержал верх над решимостью молодого человека; он ощутил, как она страдает; он спрашивал себя, не будет ли лекарство хуже самой болезни; чтобы избежать воздействия этого взгляда, он решил сидеть опустив глаза.
Подобная поза того, кто становился теперь главным обвиняемым, казалось, неизбежно должна была подсказать адвокату тему для ораторского хода, который мог бы обеспечить его клиентке победу.
— Склоните же голову, — воскликнул он, обратившись к Луи де Фонтаньё, — под тяжестью угрызений совести, уже одолевающих вас; склоните же ее от укоризны всех тех, кто вас окружает, — вы, кого эта женщина никогда не любила; вы, кто злоупотребил ее дружбой и предал ее; вы, кто извлекал, быть может, выгоду из прежде незапятнанной репутации; вы, кого глупое тщеславие сделало клеветником! Склоните же голову — это будет вашим наказанием: никогда ваши глаза не осмелятся отныне встретиться с взглядом честного человека!
Услышав это грозное обращение, г-жа д’Эскоман встала с гордо поднятой головой, со сверкающими глазами и дрожащими губами, преобразившись в глазах тех, кто недавно был поражен нежным и кротким выражением ее лица.
— Вы лжете, сударь! — воскликнула она. — Господин де Фонтаньё меня никогда не обманывал, вы лжете! Господин де Фонтаньё никогда меня не предавал и никогда не клеветал на меня. Вы лжете, сударь. Я люблю его!!!
И, к досаде жандармов, она упала в руки, простертые к ней Луи де Фонтаньё.
Как адвокат и предвидел, зал разразился рукоплесканиями, только предсказания его сбылись с небольшой поправкой: г-жу д’Эскоман присудили к тюремному заключению на шесть месяцев, а ее сообщника — к трем месяцам того же самого наказания.
XXV ЧЕМ КОРОЧЕ СКАШИВАЮТ ЛУГА, ТЕМ ГУЩЕ НА НИХ ВЫРАСТАЕТ ТРАВА
После того как г-жа д’Эскоман вышла из зала суда, у нее началась сильнейшая горячка.
Сюзанна, никогда не оставлявшая своих забот о ней, не оставила их и на этот раз. Несмотря на то что она была виновна в оскорбительных выходках по отношению к адвокату г-на д’Эскомана, преданность кормилицы настолько тронула королевского прокурора, что он дал ей разрешение разделить тюремное заключение с ее госпожой.
Болезнь не дала Эмме слишком глубоко погрузиться в свое несчастье; то, что могло ее убить, послужило ей спасением.
Когда она начала выздоравливать, все стало ей представляться в новом свете. Она словно заснула в одном мире, а проснулась в другом. Прошлое казалось ей точкой, затерявшейся на туманном горизонте, а будущее — ярким маяком, свет которого согревал ее душу и к которому были устремлены все ее мысли, все ее желания.
Избитая истина, послужившая заголовком этой главы, приложима как к чувствам человека, так и к тому, что управляется физическими законами.
Страсть, посеянная в человеческом сердце, в точности как растение, пускает ростки, растет, цветет и умирает.
Эти перемены с растением происходят тем быстрее, чем меньше оно испытывает мучений. В тени оно чахнет, а в слишком богатой почве, слишком большом покое остается бесплодным. Если оно растоптано, его жизненные соки сосредоточиваются в корнях, и те набирают толщину и силу. Тысячи тонких волокон, составляющих его корневую систему, охватывают окружающую почву и без конца пускают наружу корневые отпрыски. Напрасно вы будете расходовать силы, чтобы вырвать из земли то, что раньше было всего лишь травой: мучения превратили ее чуть ли не в дерево.
То же самое происходит и в области нравственности.
Всякое чувство, которое вы принуждаете замкнуться в себе самом, десятикратно усиливается, вместо того чтобы исчезнуть.
Из всех преимуществ, данных человеку, самым ценным для него и коренным образом отличающим его от всех прочих созданий, является способность сопротивляться, страдать за дело, за то, что любишь.
Гордость, которую он испытывает, ощущая в своем слабом теле нечто не поддающееся притеснению, неизмерима.
Это нечто и есть душа человека, которая в такие минуты проявляет себя, становится осязаемой и позволяет оценить ее величие.
Вступая в непосредственное сношение с одухотворяющим его божественным дыханием, сколь бы ни было оно слабым, человек становится, по крайней мере в своих собственных глазах, мучеником.
И нет ни одного мученика, сколь бы смиренна ни была исповедуемая им вера, который не считал бы, что в сравнении с ним любой король ничтожен.
Если и случается, что человек порою сожалеет о жертвоприношении, то это происходит лишь после того, как оно совершено; до этого он жалуется на его суровость не более, чем скакун жалуется на шпоры, которыми раздирают его бока, устремляя его в более мощном порыве к цели.
Когда г-жа д’Эскоман, жертва своей любви к Луи де Фонтаньё, погружалась в размышления и в мыслях своих доходила до того, что ею было утрачено, она не осуждала ни своей любви, ни человека, ставшего предметом этой любви. И ее любовь, и тот, кого она любила, так возвысились в ее глазах вследствие ее собственных страданий, что ей казалось невозможным жаловаться на них. Она испытывала своего рода счастье, думая о том, какой ценой далась ей ее любовь. И порой она задавала себе вопрос, а не стоило ли ей претерпеть еще большие страдания, как если бы она отчаялась подняться на один уровень с предметом своего поклонения.
Но г-жа д’Эскоман редко предавалась подобным размышлениям о прошлом: как мы уже сказали, она целиком жила будущим.
Она не думала более о свете. Мнение света весьма напоминает подпись банкира, ценную лишь для тех, у кого на руках есть векселя; или же те неведомые диковинки, которые мы все, за исключением коллекционеров, выбрасываем. Отныне свет сводился для нее к Луи де Фонтаньё и Сюзанне: лишь бы они ценили ее, и ей этого было достаточно.
Она рисовала себе чудесную картину того, каким должно быть счастье двух существ, соединенных равной взаимной любовью; и это блаженство, которое она искала, но не могла обрести и в своих девичьих мечтах, и в своих женских желаниях, должно было стать, как ей казалось, предвкушением райского блаженства.
Она направляла все свои умственные силы на то, чтобы попытаться приподнять краешек занавеса, закрывавшего от нее это радостное будущее, и увидеть его хотя бы мельком.
И когда ей это удавалось, это будущее казалось ей прекрасным, ведь все, что видишь лишь мгновение, так красиво!
Если Эмме, обладавшей таким помощником, как воображение, часы заточения и казались долгими, то лишь постольку, поскольку они отделяли ее от того, что она считала справедливой наградой за свои страдания.
Подобно куколке в коконе, она томилась в своей оболочке лишь потому, что ей хотелось побыстрее превратиться в бабочку, расправить крылья, подняться в воздух и покачиваться в дуновениях весеннего ветерка.
Но порой ей приходилось спускаться с этих заоблачных высот. Уголовный суд имел продолжение. Теперь уже в гражданском суде обсуждался вопрос о раздельном проживании супругов, поднятый маркизом д’Эскоманом, и юристы нуждались в частых встречах с Эммой.
Сюзанна, женщина в высшей степени расчетливая, не желала отступать ни на шаг и скорее согласилась бы лет тридцать вести тяжбу, чем поступиться хоть какой-нибудь безделицей. Вот почему, несмотря на обиду, какая у нее оставалась на сословие адвокатов, она чрезвычайно быстро примирилась с ними, ибо хитрости этих крючкотворов потворствовали такому ее настроению. Обладая способной к восприятию натурой, она даже освоила их варварский язык, все еще употребляющийся в судебных залах, и, когда маркиза, отпуская своих поверенных, полагала возможным для себя вновь найти прибежище в собственных мыслях, Сюзанна приходила ей на выручку; термины "дознание", "проверочное дознание", "справочное определение" и "оспаривание", "прошение в суд" и "предъявление документов" сыпались из ее рта, как град из недр грозового облака; для того чтобы избежать этого смерча, Эмма располагала лишь одним средством — сказаться больной и притвориться спящей.
Превосходные намерения гувернантки только ускорили развязку, давно уже задуманную г-жой д’Эскоман.
Этот замысел был порожден многими ее рассуждениями.
Она понимала, что развод для г-на д’Эскомана всего лишь предлог, которым он пользуется, чтобы прикрыть свои замыслы, а цель у него одна — завладеть хотя бы частью ее состояния. Эмма со стыдом наблюдала, как столь важный вопрос об общественных правах и обязанностях сводился к самым мелочным подробностям; она краснела при виде того, во что превратилось судебное разбирательство. Разрывая с обществом, маркиза не считала себя вправе сохранить за собой то, что она от него получила. Она полагала несправедливым лишать мужа того богатства, что оказало столь большое влияние на его решение, когда он женился на ней, ибо только ее желание было причиной их развода. Она вновь обретала свободу, и ей казалось вполне естественным оставить в качестве выкупа за это свое состояние. Но Эмме было присуще и другое направление мыслей, оказывавшее сильное влияние на ее сознание. Она обладала чрезмерной деликатностью юных душ, которых от соприкосновения со светом предохраняет одиночество, деликатностью, нетронутой и сверкающей чистотой, на которой, кажется, даже пылинка может оставить пятно. Собственное богатство вызывало у нее неприязнь, поскольку она знала, что Луи де Фонтаньё беден, поскольку ей казалось, что это богатство станет помехой к тому, чтобы он согласился на полный и безоговорочный союз их жизней и их сердец, какой она хотела видеть в будущем. Если и он и она будут бедными, неимущими, им будет гораздо легче любить друг друга, говорила она себе; кого из них можно будет тогда подозревать в какой-нибудь задней мысли, в каких-нибудь себялюбивых или корыстных намерениях? К тому же ей казалось, что эта бедность сделает обязательной для него и для нее работу — единственное, что могло помочь им выйти из ложного положения, в какое они попали.
Так что пока Сюзанна охотно подсчитывала на пальцах вероятную сумму неотчуждаемой части приданого г-жи д’Эскоман, которую та будет иметь право потребовать у маркиза (гувернантка не слишком при этом задумывалась над тем, что разорение вышеуказанного маркиза, как она неизменно его называла, сделает ее расчеты весьма неосновательными), Эмма втайне от нее написала поверенному, защищавшему ее интересы, о том, что она не хочет спорить с выставленным против нее иском и, напротив, намерена уступить г-ну д’Эскоману исключительное право распоряжаться ее имуществом; она сформулировала свое решение таким образом, что нельзя было даже попытаться его поколебать.
Узнав об этом неожиданном решении, г-н д’Эскоман удивился; но он не был человеком, способным анализировать, какими чувствами оно было продиктовано; маркиз предложил жене содержание, она и от него отказалась, и он, не тратя времени на догадки по поводу ее решения, удовлетворился радостной мыслью о том, что ему довелось родиться под весьма счастливой звездой.
Разорвав последнее звено цепи, привязывавшей ее к прошлому, г-жа д’Эскоман вздохнула тем более спокойно, что никогда прежде ей не удавалось так дышать; радужные горизонты казались ей еще более привлекательными; она с еще большим пылом стала призывать минуту, когда вместе с воротами тюрьмы для нее откроется новая жизнь.
Для Луи де Фонтаньё все складывалось гораздо труднее.
Галантное отношение к женщине неотделимо от нашего гражданского состояния, и каждый из нас, появляясь на свет, уже более или менее внесен в книгу его записей. Во Франции родятся галантными, как в Германии — мечтателями, в Англии — ипохондриками, а на берегах Зёйдер-Зе — флегматиками; так что закон проявил себя самонадеянно по крайней мере однажды, когда он вознамерился карать то, что составляет самое привлекательное занятие для громадного большинства представителей французского народа, считающих волокитство своих великих людей достоинством, которое может идти вровень с их самыми выдающимися качествами, и клеймящих столькими бранными эпитетами тех, кто вдруг пожелал бы удостоиться награды за целомудрие.
Закон может быть суров по отношению к женщине, однако по отношению к мужчине, которого ему следовало бы наказывать с большим основанием и более строго, чем ее, в соответствии с нравами остается бессильным; в руках закона, бичующего мужчину, розги превращаются в розы без шипов; закон ставит его к тому, что называют позорным столбом, а легкомыслие и пристрастие желают рассматривать лишь как пьедестал, на котором он выставлен ко всеобщему восхищению.
Как бы ни был строг отец семейства, будьте уверены, что, если грешки его сына остаются допустимыми, то есть не угрожают ни общественным устоям, ни его состоянию, ни его здоровью — во Франции из соображений галантности даже слова объединяют в пары, — старик не сделает своему сыну выговор без того, чтобы улыбка, появившаяся у него на губах, не вошла бы в противоречие с суровостью его слов и не опровергла бы их. Он стоически выполняет свой долг, но входит при этом в противоречие с национальным духом.
Что же касается матерей, то в обстоятельствах, о которых идет речь, они переполняются гордостью за грехи своих отпрысков; когда приговор суда во всеуслышание объявляет их сына неотразимым повесой, для них это прекрасный случай восхититься собственным творением.
Госпожа де Фонтаньё оказалась не более стойкой, чем другие матери, к голосу природы и естественной снисходительности, свойственной французской матроне: она нашла в своей душе лишь чувство милосердного сострадания, причем не только к сыну, но и к его сообщнице.
Правда, когда г-жа де Фонтаньё думала таким образом, у нее было твердое убеждение, что она принимает участие в похоронном шествии, отпевании и погребении любовной страсти молодых людей друг к другу. Как только в разговорах Луи с матерью он приоткрыл ей свои планы на будущее и г-жа де Фонтаньё поняла: то, что она принимала за конец, на самом деле было лишь началом, — ее взгляд на вещи сильно изменился, а вместе с ним изменилось и ее отношение к происходящему.
Любовь Луи де Фонтаньё к г-же д’Эскоман должна была полностью поглотить жизнь молодого человека и наложить путы на его будущее; с этого времени он оказывался вовлеченным в любовную связь из числа тех, что относятся к разряду непристойных и были описаны нами выше. И насколько эта связь прежде могла льстить тщеславию матери, настолько отныне она ужасала и заботила ее. Оправдав ее сына, его теперь собирались заклеймить; пролив над ним слезы, на него собирались яростно нападать; идея превосходства материальных интересов решает на этом свете даже те вопросы, где участвует одна лишь мораль.
Госпожа де Фонтаньё употребила все, что было в ее власти, чтобы вырвать своего сына из этой незаконной связи; слезы, просьбы, мольбы, упреки, угрозы — она пускала в ход все, чтобы победить сопротивление сына; она взывала к его чувствам сыновней нежности; рисовала ему образ несчастной молодой девушки, имеющей лишь его опорой в жизни, его сестры, которой предстояло стать круглой сиротой. Вне всякого сомнения, она одержала бы успех; она вернула бы себе сердце сына — разбитое, сокрушенное, разорванное, еще трепещущее; она отвоевала бы своего сына, возможно обрекая его тем самым на смерть, — ибо в том состоянии возбуждения, в котором находился рассудок Луи де Фонтаньё, оставить Эмму казалось молодому человеку преступлением, какое честный человек не вправе пережить, — и, в конце концов, достигла бы цели всех своих желаний и надежд: она оторвала бы его от Эммы. К несчастью, в матерях остается слишком много женского: в женщинах, борющихся с другими женщинами, обнаруживается чувство личной вражды, мелочное как по своей сути, так и по последствиям, какие из него проистекают, чувство, которому не следовало бы существовать в тех сияющих сферах, куда помещает его материнство. Госпожа де Фонтаньё перестала осуждать поступок сына как таковой и набросилась на ту женщину, которую она обвиняла в желании похитить у нее сына; она повторяла глупые слухи и в своей ненависти возводила их до клеветы; с бесстыдством и бессовестностью г-жа де Фонтаньё говорила о возмущении, какое ее любовь вызывала у г-жи д’Эскоман, хотя сама она вначале не могла удержаться от восхищения маркизой.
Луи де Фонтаньё растрогали просьбы и слезы матери, и он плакал вместе с ней; он прекрасно понимал, что долг и честь повелевают ему принести жертву, о которой она его умоляет, и что она проливает слезы над участью бедной Эммы и это к ней относятся все восклицания, какие исторгает у матери горе.
Но как только г-жа де Фонтаньё стала нападать на Эмму, он замолчал. Слезы его высохли, брови нахмурились, глаза вспыхнули; он стал холодно-почтителен к матери; ледяная стена, поднявшаяся столь же быстро, как если бы она появилась из-под земли по мановению волшебной палочки, отныне разделила их.
Со свойственной женщинам сильной интуицией г-жа де Фонтаньё догадалась, что произошло в душе ее сына. Ей стало понятно, что она изломала себе ногти, повредила до крови свои пальцы, так и не сумев поколебать основания этой твердыни; она спрятала лицо в платок и в рыданиях удалилась.
Луи де Фонтаньё не сделал ни шага, не сказал ни слова, чтобы ее удержать. Мать не появлялась больше в тюрьме; он писал ей, но не пытался разобраться в причинах такого ее решения, принимая его, напротив, как свершившийся факт.
Страстная любовь похожа на те деревья, что своей тенью заглушают всю окружающую их растительность. И если вдруг случайно какая-нибудь травинка появляется у подножия такого дерева — она погибает и тут же уходит в прах.
Когда Луи де Фонтаньё вышел из тюрьмы, он не стал возвращаться в дом матери. Решение его было непоколебимым, но это стоило ему борьбы его детских привязанностей с его любовью к женщине. Он томился ожиданием, и, как и у Эммы, — хотя им двигали чувства менее возвышенные, чем у нее, — все его мысли и мечты были о счастье, которое ему предстояло разделить с ней через три месяца.
У него еще оставалось немного денег из тех, что он привез из Шатодёна; он стал искать в окрестностях Парижа уединенное надежное убежище, где можно было бы укрыть их любовь. Найдя подходящий дом, он принялся обставлять его с заботливостью птицы, вьющей гнездо.
Время, остававшееся у Луи де Фонтаньё свободным от предпринятого им достойного обустройства жилища, где нужно было укрыть от завистливой злобы людей столько блаженства, он посвящал письмам к г-же д’Эскоман. Каждое утро с тех пор как Сюзанне приходилось переступать порог уже только одной тюремной двери, гувернантка приносила Эмме письмо и каждый день уносила ее ответ на него.
Письма г-жи д’Эскоман, несомненно, несли на себе отпечаток чувств, поглощавших ее целиком; в них выражалась вся нежность, преданность и самоотверженность ее души, все ее надежды, и, тем не менее, эти послания должны были показаться холодными ее возлюбленному в сравнении с письмами, которые ему диктовало его разгоряченное воображение; в сравнении с гимном любви, который его страсть повторяла на все лады в честь его будущей спутницы; в сравнении с его истолкованиями слова "любить", которые он возобновлял каждый день, так и не сумев их исчерпать.
И вот, наконец, приблизилось время, когда столь желанное и столь дорого купленное счастье должно было из мечты превратиться в реальность.
Накануне того дня, когда должно было закончиться наказание, к которому приговорили г-жу д’Эскоман, Луи де Фонтаньё не спал. Часть ночи он провел перед тюрьмой, посылая поцелуи в сторону темных очертаний страшного здания, повторяя сердцем самые искренние клятвы в благодарности и любви. Когда он попытался на некоторое время заснуть, удары маятника, отсчитывавшего секунды, которые приближали молодого человека к встрече с любимой, все время будили его.
Задолго до того часа, когда ему предстояло ждать г-жу д’Эскоман и Сюзанну в конце дороги на Париж, для того чтобы увезти их из города, оставившего у влюбленных лишь печальные воспоминания, он уже был собран и взволнованно расхаживал по своей комнате, дрожа, трепеща, вздрагивая при малейшем шуме, долетавшем с улицы, спрашивая себя, не поглотит ли его земля, прежде чем подобное блаженство будет позволено вкусить человеку, бледнея при мысли, что какое-нибудь непредвиденное препятствие помешает Эмме соединиться с ним, и задавая себе вопрос: не сойдет ли он, случайно, с ума, если их встреча отложится хотя бы на один день.
Тем не менее сторонний наблюдатель, возможно, испытал бы некоторое опасение за будущее этой любви, если бы он увидел, с какой педантичной заботой Луи де Фонтаньё, несмотря на снедавшую его тревогу, занимался своей внешностью и своим костюмом.
XXVI ИДИЛЛИЯ
В долине Марны, в четырех льё от Парижа, на пути от деревни Шампиньи к мельнице Боннёй, немного не доходя до переправы Сент-Илер, у подножия холма, на котором раскинулся городок Шенвьер, в том месте, где дорога делает поворот, внезапно оказываешься перед небольшим домиком, сероватые стены и красная крыша которого настолько теряются среди окружающих его тополей, ольх и ив, что нужно чуть ли не прикоснуться к нему, чтобы его заметить.
Местные жители называют этот дом Кло-бени — "Благословенный уголок".
По его незатейливому внешнему виду, забранным железными прутьями окнам, рамам с маленькими стеклами, тяжелой двери, выходящей прямо на дорогу, ригам и обвалившимся сараям, окружающим двор, угадывается, что это старинная ферма, которую какой-то владелец, любитель красот природы, превратил в загородный дом.
Но ни эта прихоть, ни название, несущее благоприятное предзнаменование, не принесли удачи скромному жилищу.
Свежезамазанные широкие трещины, проступавшие на его стенах, многочисленные ярко-красные квадраты новой черепицы, превратившие заросшую мхом крышу в шахматную доску, заросли ежевики, крапивы, еще не удаленные из сада дикие злаки, неупотребительных форм куртины и шпалеры, живописно разросшиеся побеги виноградной лозы — все это доказывало, что Кло-бени ремонтировали совсем недавно, а перед тем он долго стоял заброшенным.
Нижний этаж дома хранил запах запустения и обветшалости, характерный для всего этого здания. Здесь находилась одна из тех кухонь, которые скоро будут вытеснены из памяти современными конструкциями, кухонь с высоким и глубоким камином, с гигантским очагом, где пламя высотой в шесть футов, пожирающее стволы деревьев и вязанки хвороста, позволяет обогреть десяток промокших охотников и изжарить целого барана, предназначенного для утоления их могучего аппетита; помещение кухни было устроено скорее из соображений простоты и удобства, нежели красоты и бережливости: полосы почерневших балок потолка, где пауки беспрестанно и успешно вели борьбу с мухами, желтоватые стены с развешанными на них повсюду сверкающими кастрюлями и оплетенный ивовыми прутьями керамический сосуд для хранения воды.
В столовой, отделенной от кухни дверью, было так же сумрачно и пусто. Под воздействием влаги расцвеченные под мрамор обои, покрывавшие стены, заплесневели; кое-где они покрылись твердым беловатым налетом, передававшим рисунок камня с большим совершенством, чем фабричные краски, а в других местах отошли от стен и развевались от ветра, проникавшего сквозь щели в дверях и окнах. Широкий стол орехового дерева, несколько резных стульев, окрашенных белой краской и некогда имевших обивку, от которой осталась одна канва, изразцовая печь и барометр без ртутной трубки — все это составляло одновременно и меблировку и украшение этой комнаты.
На этом же этаже находилась и третья комната, но дверь в нее была закрыта, и не без причины. Ранее она служила гостиной, а затем ее постигла участь всех великих человеческих деяний; она превратилась в теплицу, если не в чего-нибудь похуже. Остатки карниза, черноватый налет пыли на тех местах, где были лепные украшения стен и потолка, разошедшийся и покрытый грязью паркет свидетельствовали о первоначальном назначении этого помещения; усыпанные семенами стебли крестоцветных растений, развешанные по стенам, указывали на его второе назначение; что касается его третьего назначения, то о нем можно было догадаться по оставшемуся в комнате едкому и тошнотворному запаху, свойственному некоторым домашним животным.
Чтобы наши читатели заранее не сожалели об участи будущих обитателей Кло-бени, поспешим добавить, что второй этаж дома благодаря усилиям по его недавнему благоустройству был весьма изящно отделан и представлял собой полную противоположность как первому этажу, так и остальным помещениям дома.
В один прекрасный майский день, около полудня, медленно катившаяся по проселочной дороге наемная карета остановилась у ворот Кло-бени.
Из нее вышел Луи де Фонтаньё; он подал руку Эмме, и она легко выпрыгнула из экипажа; затем из него вышла и Сюзанна.
Молодой человек отпустил кучера и, достав ключи, открыл ворота; г-жа д’Эскоман первой вошла в их будущее жилище; когда ее спутники в свою очередь проследовали за ней, она уперлась обеими руками в потрескавшиеся доски ворот, собрала все свои силы и с детской радостью закрыла створки, как будто бы говоря светским пересудам: "Вам сюда не войти!"
Она схватила за руку Луи де Фонтаньё, прижалась к его груди своей головкой и, с улыбкой на устах заглянув ему в лицо улыбающимися глазами, подставила лоб для поцелуя. Молодая женщина вздрогнула, почувствовав прикосновение губ своего возлюбленного, но чувства ее оставались чистыми; она испытывала красноречивый в своей немоте восторг моряка, видящего после бури гавань, которую он уже не надеялся достичь.
И как если бы все сколько-нибудь напоминавшее ей в этот день о прошлом вызывало у нее неприязнь, как если бы она не хотела проливать слезы, даже когда их вызывало одно лишь счастье, г-жа д’Эскоман попросила немедленно приступить к осмотру их маленького царства, шумно выражая при этом свои восторги, что было совсем несвойственно ни ее характеру, ни ее привычкам.
Под ее ногами кудахтали куры, в двух шагах от нее красавец-петух затягивал свою задорную песнь; по крыше порхали голуби, отливая на солнце лазоревым и золотистым тонами своего оперения. Эмма ощутила доселе неведомое ей расположение к этому маленькому народцу, призванному вносить оживление в ее одиночество, и не пожелала покидать двор, не собрав вокруг себя всех этих пернатых с помощью нескольких пригоршней зерна.
Несмотря на протесты Луи де Фонтаньё, имевшего веские доводы для желания прежде всего заставить ее подняться на второй этаж, Эмма осмотрела весь нижний этаж вплоть до малейших его закоулков.
В определенных обстоятельствах жизни женщина видит не глазами, а чувствами. Эмма была так опьянена счастьем видеть осуществленными свои мечты, что, не обращая внимания на весьма многозначительную гримасу Сюзанны, она находила в окружающем возмещение этой разрухе и этой бедности, какое, кроме нее, никто, вероятно, не сумел бы здесь обнаружить.
Но когда она поднялась по деревянной лестнице, прилегавшей к наружной стене дома, на второй этаж и Луи де Фонтаньё ввел ее в сплошь обтянутую набивным кретоном комнату, предназначенную для нее, и в маленькую гостиную с мебелью розового дерева, где она могла бы днем работать или отдыхать, радости ее уже не было границ. Это была уже не маркиза д’Эскоман, с детства привыкшая к роскоши современных жилищ, а гризетка, завладевшая обстановкой, которая составляла мечту ее жизни. Эмма переходила из комнаты в комнату, садилась в кресла, переставляла фарфор и придавала более изящный вид букетам сирени, барвинков и боярышника, которые Луи де Фонтаньё накануне расставил в вазы; она осмотрела библиотеку, составленную из ее любимых книг, раскрыла все шкафы, восторгаясь их удобством, и распахивала все окна, восхищаясь открывающимся из них чудесным видом, подзывала к себе Луи, чтобы вместе с ним полюбоваться изумрудно-зелеными водами Марны, плескавшимися у стен дома, и возвышавшимися на островках Анго и Корморан тополями, покрывавшими своей сенью рукав реки, который разделяет эти острова, и рассеивавшими своей листвой свет, который испещрял темную поверхность воды тысячами серебристых искр; она показывала ему видневшийся на горизонте Венсенский донжон, словно встававший из массы зелени вокруг него и черневший на фоне лазурного неба; все это она сопровождала громкими возгласами изумления и восхищения; с восторгом искренне любящего сердца она благодарила своего возлюбленного; она спрашивала его, ощущает ли он, подобно ей, как в его сердце проникает признательность Богу, сотворившему природу в Бри столь прекрасной и столь величественной, чтобы она служила достойным окружением их любви.
Но в то время как Эмма безмятежно и радостно витала в своем счастье и ей представлялось, что это счастье превзошло все ее ожидания и распахнуло ее душу для ощущений, дотоле ей неведомых, в то время как она выражала это счастье излиянием чувств, совершенно ей несвойственным, у Луи де Фонтанье, в противоположность ей, казалось, несколько угас страстный пыл, столь замечательные образчики которого давали его письма к ней. С молодым человеком случилось то, что бывает со всеми, кто дает волю своему воображению: оно завело его так далеко в область несбыточных мечтаний, что в реальности ничто не могло его теперь удивить. Все наслаждения, какими не переставала насыщать свое сердце г-жа д’Эскоман, притупились для него; они потеряли для него характер новизны и неожиданности, придающий им такую огромную прелесть; он оставался равнодушен и, сознавая свое равнодушие, упрекал себя за него как за преступление; он не мог, как это делала Эмма, находить, что никогда еще солнце не было таким лучезарным, воды реки — такими прозрачными, ветерок — таким благоуханным, листья деревьев — такими переливчатыми по цвету, а пение птиц — таким нежным, как в эту минуту.
Но Эмма не замечала этого легкого не созвучия, существовавшего между внешним проявлением чувств Луи де Фонтаньё и восторгами, каким предавалась она сама; если бы она и заметила его, то не осмелилась бы упрекать своего возлюбленного, ведь ей, искренней в своих восторженных чувствах, казалось невозможным, чтобы он не разделял их.
Но, тем не менее, у нее были и некоторые задние мысли. В то время как Луи де Фонтаньё изумлял ее сельским прибежищем, приготовленным им для их любви, она размышляла о том, что осуществленный ею отказ от своего состояния вполне может позднее нарушить их душевный покой; но этот день их воссоединения полностью принадлежал их любви; Эмма полагала, что ей не позволено иметь другие заботы, кроме одной — любить и быть любимой.
И на протяжении всего дня она безоговорочно предавалась упоению, охватившему целиком все ее существо.
Если Сюзанна оставляла на какое-то время молодых людей наедине, начинались беседы и бесконечные излияния чувств — так много у них было что рассказать друг другу и о чем спросить друг друга, выразив свою обоюдную признательность и любовь; затем следовали долгие объятия и заверения в вечной преданности, которые нельзя ни повторить, ни понять. Когда же Сюзанна появлялась снова, некоторая скованность, возникавшая у влюбленных из-за ее присутствия, казалось, удваивала ценность их общения между собой. Они украдкой пожимали друг другу руки, и этого прикосновения было достаточно, чтобы заставить трепетать их тела. Молодые люди шепотом обменивались словами любви, наполнявшими их глаза нежной томностью. Порой они осмеливались и на поцелуй, доставлявший столько же удовольствия тому, кто позволял себя целовать, сколько и тому, кто украдкой целовал; когда же Сюзанна заставала влюбленных врасплох, они громко смеялись.
Несмотря на возражения Сюзанны, ссыпавшейся на неприличие подобных обязанностей для г-жи д’Эскоман и подкреплявшей свои доводы обвинением ее в полнейшем кулинарном невежестве, Эмма вознамерилась помогать гувернантке в приготовлении еды. И поскольку никто в их скромном жилище не имел права оставаться без дела, Эмма потребовала, чтобы, в то время пока она будет отдаваться этим новым для нее обязанностям, Луи де Фонтаньё расчистил кусты ракитника и сирени, под которыми ей захотелось обедать; однако занятия эти разъединили влюбленных, и они не замедлили оставить свои рабочие места, чтобы вновь обрести друг друга. Луи де Фонтаньё от души смеялся над неловкостью, с какой бывшая светская дама исполняла обязанности, возлагаемые ею на себя. Эмма брала из рук своего возлюбленного тяжелый заступ и давила на него своей тонкой изогнутой ножкой, но при этом ей не удавалось даже затронуть поверхность земли.
После обеда они покинули устроенную ими беседку и, взявшись за руки, направились в сторону сада, тянувшегося вдоль берега реки.
Глядя, как они удаляются, Сюзанна плакала от умиления. Никогда еще щеки ее дорогой девочки не горели таким румянцем, как сегодня, никогда еще на ее устах не играла такая счастливая улыбка, никогда еще глаза ее так ярко не блестели; бедная старушка хвалила себя за победу, одержанную ею, как она полагала, над смертью.
Было семь часов вечера. Солнце уже спустилось за горизонт, и его диск, наполовину скрытый за радующими взор далями холма Сюси, озарял его багровым цветом и придавал реке, широко разлившейся у его подножия, вид огненного озера.
Воздух был пропитан невыразимым благоуханием весны — того времени года, когда чудится, что даже листья пахнут, как цветы, и из самой земли исходят запахи ежегодного возрождения жизни растений.
Легкий ветерок тихо колыхал высокие травы, шелестела листва тополей, и этому шелесту вторило радостное вечернее приветствие, какое дневные пернатые посылали светилу, дававшему им свое тепло и свет.
Несколько запоздалых стрекоз слегка касались своими стальными грудками острых листьев дикого ириса и стрелолиста; несколько пчелок еще жужжали над незабудками, барвинками и фиалками, расцвеченным поясом окаймлявшими берег реки.
То были минуты, когда природа, стараясь казаться еще красивее, с любовью наряжается во всем своем великолепии, перед тем как погрузиться в молчание и мрак, — возвышенный урок, не потерянный для мудрецов, которые увенчивали себя розами, когда им предстояло перейти от жизни к смерти, этой недолгой тьме, предшествующей воскрешению!
Луи де Фонтаньё и Эмма брели среди колеблющихся прибрежных трав. Губы их были сомкнуты, но никогда еще их сердца так хорошо не понимали друг друга. Тихого пожатия, соединявшего их руки, было достаточно, чтобы влюбленные сообщали друг другу о сильных впечатлениях, какие производило это прекрасное зрелище на их души, приведенные в умиление любовью.
Когда они вернулись к месту, откуда началась их прогулка, Луи де Фонтаньё отвязал от берега лодку, перенес в нее Эмму, взял весла и стал грести вверх по течению реки. В том месте, где они находились, постоянные наносы реки образовали под прикрытием острова Анго пять или шесть островков, ставших его отростками; эти островки располагались так близко друг от друга, что ветви венчающих их деревьев сплелись, образовав непроницаемый свод зелени над узкими протоками между ними.
Скользя в лодке по светлому зеркалу воды между этими цветущими берегами, под этим шелестящим сводом, Эмма вновь предалась своей восторженности. Она сидела на корме лодочки, облокотясь о борт и склонив на руку голову. Прихотливый ветерок развевал ее волосы, и они напоминали хлопья золотистой дымки; ее полузакрытые глаза, казалось, были погружены в созерцание Неба, и если бы не сохранявшаяся на ее губах улыбка, если бы не ее учащенное дыхание, вздымавшее прозрачную ткань ее корсажа, то можно было бы подумать, что душа ее покинула тело.
Но какова бы ни была притягательная сила впечатлений, которые испытывала г-жа д’Эскоман, они не завладели мыслями Луи де Фонтаньё.
Он бросил весла и придвинулся к Эмме.
Лодка, предоставленная самой себе, тихо поплыла по течению.
Лицо молодого человека приобрело в эту минуту выражение, какого г-жа д’Эскоман никогда прежде у него не видела. Заметив, что он придвинулся к ней, что глаза его блестят, а губы побелели, Эмма испугано приподнялась и умоляюще протянула к нему руки.
— Неужели ты теперь боишься меня? — с волнением, сделавшим невнятным его речь, произнес он.
Эмма попыталась вернуть себе улыбку, отрицательно покачала головой и уступила молодому человеку место рядом с собой.
Луи де Фонтаньё обвил своей рукой талию г-жи д’Эско-ман и прижал любимую к своей груди. Эмма поддалась этому нежному объятию, но он почувствовал, как по телу ее пробежала нервная дрожь.
— Тебе холодно, — произнес он. — Не лучше ли вернуться домой?
— Нет, нам здесь так хорошо. С сегодняшнего утра мне кажется, что я вошла в неведомый мне мир; я чувствую в своей душе энергию, о которой раньше и не подозревала; силы мои удвоились, а мое тело стало нечувствительным ко всему, кроме любви. О! Поистине, она и есть жизнь!
— Но между тем мы еще не преодолели ее порога? — прошептал Луи де Фонтаньё.
— Возможно ли умереть, так и не услышав звуков этого слова, в котором заключено столько счастья? Луи, повтори еще, что ты любишь меня!
— Да разве ты можешь сомневаться в этом?
— О! Конечно же нет. Но я хочу услышать нежную мелодичность этих слов, произносимых тобою.
Вместо ответа Луи де Фонтаньё запечатлел поцелуй на губах молодой женщины.
В этом поцелуе было столько страстности, что он оказал на Эмму неожиданное воздействие: она испуганно вскрикнула и попыталась освободиться из судорожно сжатых рук молодого человека.
В эту минуту лодка получила сильный толчок, и оба они упали на колени; легкое суденышко наскочило на песчаную отмель, тянущуюся от острова Виньерон.
— Умоляю тебя, любимый мой! — воскликнула г-жа д’Эскоман, оставаясь в положении, какое она приняла по воле случая. — Ведь мы с тобой уже так счастливы! Чего же ты можешь желать большего от нашего союза, который Господь наделил такими радостями? Понимаешь, я боюсь! Я так исстрадалась, что надо быть снисходительным ко мне; я боюсь потерять это блаженство, только что коснувшееся моих губ. Боже мой! Я принадлежу тебе, и не только сердцем, я принадлежу тебе вся. Однако сжалься над моими страхами, которые я не могу высказать, но они столь мучительны, что заставляют меня плакать. А вдруг ты перестанешь любить меня?!
Луи де Фонтаньё ничего не понял из того, что претило целомудренной женщине. Он не осознавал, что заставить Эмму столь резко спуститься с заоблачных высот, в которых находила радость ее чистая любовь, означало испугать эту душу, лишенную всякой чувственности.
— Это вы не любите меня! — отвечал он сухим голосом.
При этом упреке лицо г-жи д’Эскоман покрылось слезами. Вместо ответа она упала в объятия молодого человека, и своими страстными поцелуями он осушил ее слезы.
Спускавшаяся ночь постепенно окутала всю долину; на небе мерцали звезды, отражаясь на темной глади воды.
Сквозь заросли вяза и орешника, покрывавшие островок, в молчании пробирались две сплетенные между собой тени; раздвинув ветви хмеля и ломоноса, встававшие перед ними стеной, молодые люди сели под ивами, на берегу реки, обращенном к долине.
Луна медленно плыла над холмами Шенвьера и серебрила листву ив над головами влюбленных, а у их ног нашептывала речная волна, переливаясь тысячами алмазных спиралей.
Внезапно звонкая трель пронзила ночную тишину.
Это был соловей, разливавший свою восхитительную песню любви.
XXVII КЛО-БЕНИ
Маленький домик на берегах Марны, казалось, наконец-то оправдал данное ему прежде времени название "Благословенный уголок".
На протяжении полугола уделом тех, кто обитал в нем, было совершенное счастье, и на Кло-бени упал отсвет этого счастья: усадьба приняла отрадный для глаз облик.
Сад был расчищен, дорожки посыпаны песком; грушевые, персиковые и яблоневые деревья вновь обрели соразмерные пропорции, утерянные из-за нерадивости предыдущих хозяев. Виноградные лозы уже не имели прежнего буйного вида — несомненно живописного, но свидетельствующего о слабом плодоношении. Домик был старательно оштукатурен, а аристократка Сюзанна даже потребовала, чтобы бедное убранство нижнего этажа было приведено в соответствие с изяществом комнат второго.
Время в этом уединенном убежище текло для молодых людей быстро и незаметно.
Сельские занятия имеют свойство более всего нравиться влюбленным; больше других влюбленные чувствительны к радующему взор виду цветов; больше других они могут интересоваться их ростом.
Эмма необычайно пристрастилась к своему маленькому цветнику. Она копалась в земле, не опасаясь, что загорят ее белые нежные ручки, а Луи де Фонтаньё помогал ей ухаживать за ее цветами. Остальное время они посвящали водным прогулкам, чтению и, наконец, беспрестанному спряжению глагола "любить".
Эмма была теперь всегда счастлива. Каждое утро, пробуждаясь, она с удивлением обнаруживала, что жизнь еще прекраснее, чем ей казалось накануне; каждый день она замечала, что ее возлюбленный становится ей все дороже; она все больше радовалась, что принесенная ею жертва привела к такому коренному изменению в состоянии ее души.
Все, что могло вызывать у нее тревогу по поводу беззаконности ее совместной с Луи де Фонтаньё жизни, исчезло. Успех, сопутствующий совершенному поступку, быстро берет верх над угрызениями совести; к тому же, совести г-жи д’Эскоман было чем оправдать себя: это Эмме следовало обвинять тех, кто заклеймил ее позором.
Однако Луи де Фонтаньё не шел вслед за ней на этой восходящей стадии ее любви. Несомненно, он тоже был счастлив, он тоже любил свою подругу, он тоже любил только ее одну; но счастлив он был скорее под действием какого-то душевного оцепенения, а не ясного восприятия сложившихся обстоятельств. Он любил Эмму, поскольку глубокому спокойствию, царившему вокруг них, удавалось обуздывать волнение его ума, а его сердце, которому была предоставлена свобода выражать свои чувства, не могло не находить приятной жизнь подле этой очаровательной молодой женщины, тем более что он без конца находил в ней новые достоинства; он любил ее, поскольку ему казалось невозможным оставаться сдержанным перед лицом этой страстной и целомудренной нежности, следившей за каждым его взглядом, чтобы сделать для себя законом его желания; но он не осмелился бы заглянуть в свою душу, он побоялся бы спросить себя, как это без боязни делала г-жа д’Эскоман, а не различает ли эта душа еще что-нибудь вне этого оазиса, где они остановились на привал. Его мучили бы опасения, что ответ не согласовывался бы с тем, чего требуют деликатность и честь, и, пребывая в сомнениях, он заглушал в себе неясное чувство, смутно различимое им в своем сердце и когда-то ставившее его мечтания много выше будничной действительности; он закрывал глаза, лишь бы этого не замечать, и в этом смятении духа день ото дня принимал свою любовь за страсть, которую он полагал себя обязанным испытывать.
Такое душевное состояние молодого человека порой давало о себе знать на его лице. Бывали дни, когда при виде возвышенности характера Эммы и безмерности ее любви он внезапно испытывал упадок душевных сил, и это ему не удавалось скрыть. Он ужасался собственной ничтожности перед своей подругой, и, в то же самое время, в тех мыслях, что проносились в его голове, он узнавал те, какие прежде заставляли его оставаться столь равнодушным, когда у Маргариты во всю силу проявлялась ее безудержная страсть к нему. Он с ужасом спрашивал себя, а не может ли быть так, что его сердце неспособно любить, и впадал в уныние, которое Эмме с трудом удавалось у него рассеять.
Молодая женщина совершенно не догадывалась о причинах внезапно наступавшей у него подавленности. Лишь одно тревожило спокойствие и благополучие ее души, и то был вопрос сугубо материальный.
Госпожа д’Эскоман откладывала со дня на день разговор, в котором она собиралась осведомить Луи де Фонтаньё о положении ее дел; тайком даже от Сюзанны она отдала своему поверенному драгоценности, поручив ему продать их в Париже; на вырученные деньги можно было прожить несколько лет, принимая во внимание то скромное существование, какое вели молодые люди.
Но каково будет их положение, когда роковой срок истечет и они окажутся во власти нищеты, которой Эмма страшилась более из-за него, чем из-за себя?
Первоначально принятое Эммой решение, состоявшее в том, чтобы вложить небольшой капитал в какое-нибудь дело, способное навсегда обеспечить существование им обоим, снова пришло ей на ум, когда она задавалась подобными вопросами о будущем; но блаженство ее было столь полным, что у нее не было сил нанести ему такой страшный удар собственными руками; она не ощущала в себе мужества потревожить его.
Понадобилась причина совсем иного порядка, чтобы Эмма решилась прервать хранимое ею молчание. Однажды Луи де Фонтаньё заговорил с ней о своей матери, и Эмма почувствовала, как душу ее охватили угрызения совести.
Разве не из-за нее были ослаблены священные узы, связывающие сына с той, что даровала ему жизнь? Это размышление повлекло за собой и другие; она вспомнила об испорченной карьере своего любовника и стала обвинять себя в этом как в преступлении.
Она тут же приняла решение, и на следующий же день Луи де Фонтаньё узнал, что маркиза д’Эскоман, идя навстречу собственной щепетильности и порядочности, добровольно сделалась бедной, как и он; что ей ничего не нужно из прошлого и она намерена быть обязанной всем только своему труду.
Было решено, что молодой человек попытается поступить в качестве приказчика в какую-нибудь банкирскую контору, тогда как Эмма, полагавшая показать ему пример покорности судьбе, отрекаясь от прежнего своего высокого положения, заведет какое-нибудь скромное торговое дело и заложит основу их совместного капитала, с тем чтобы позднее Луи де Фонтаньё пустил его в оборот и увеличил, если это будет возможно.
На следующий день они отправились в Париж, и, благодаря поддержке, которую поверенный Эммы — единственный из ее прежних знакомых, с кем она сохранила отношения, — соблаговолил им оказать в данных обстоятельствах, спустя несколько дней молодой человек получил скромную должность, а маркиза д’Эскоман, именовавшаяся теперь г-жой Луи, договорилась с владельцем "Вышивальщицы" — небольшого бельевого магазинчика, располагавшегося в безлюдном тогда квартале неподалеку от церкви святой Магдалины, — о приобретении этого заведения.
Но предстояло еще исполнить самое трудное.
Оставалось проститься с Кло-бени, занявшим в привязанностях Эммы гораздо большее место, чем она могла подозревать.
Оставалось еще сообщить Сюзанне об этой революции, которая, как новый 93-й год, должна была перевернуть все твердо установленные старушкой понятия касательно общественной иерархии.
Ничто не отождествляется полнее со знаменательными событиями в жизни человека, чем места, ставшие им свидетелями. Покинуть Кло-бени означало для Эммы сорвать со своего счастья защитный покров, под которым оно вырастало. Не было ни одного уголка в этом доме, ни одной дорожки в этом саду, которые не вызывали бы у нее дорогие ей воспоминания. Она содрогалась от боли при мысли, что чья-то равнодушная рука пройдется кривым садовым ножом по ее розам, которые она так тщательно выхаживала, охраняя их слабые стебли от порывов южного ветра; что стены дома, заглушавшие страстные вздохи влюбленных и оглашавшиеся звуками их поцелуев, будут слышать только грубую ругань какого-нибудь крестьянина. Слезы навертывались на ее глазах при мысли, что она никогда более не увидит этого радующего взор холма, откуда она столько раз сбегала за руку с Луи де Фонтаньё, этой красивой и спокойной реки, широкой лентой извивающейся по долине, — на ее берега любила приходить в прекрасные летние вечера Эмма, чтобы подышать свежестью.
Не менее грустен, чем его подруга, был и Луи де Фонтаньё, хотя он и не придавал этому расставанию тот чуть ли не суеверный смысл, какой привносила в него Эмма. У него быстро прошли решительность и мужество, сообщенные ему Эммой, и, как и все любители помечтать, он охотно предался лени, своей второй натуре, и бездеятельная жизнь, которую он вел в Кло-бени, оставила в его душе немало сожалений. Он предложил Эмме сохранить этот домик, поскольку плата за него не должна была стать для них тяжелым бременем. Став отныне простыми и честными коммерсантами, они смогут приезжать сюда в воскресные дни. Молодая женщина с подлинным восторгом приняла это предложение, столь соответствовавшее ее желаниям.
При первых же словах, сказанных Сюзанне и о том, что ее хозяйка принесла в жертву свое состояние, и о том, с каким положением она при этом смирилась, гувернантка покачала головой, отказываясь такому верить. Подобное превращение знатной дамы в простую лавочницу казалось ей выходящим за пределы возможного, и ее упрямство в этом отношении было столь велико, что в течение двух дней она упорно воспринимала как шутку признание, сделанное ей г-жой д’Эскоман.
Сюзанне понадобилось увидеть, что Эмма начала укладывать в дорожный сундук необходимые ей и Луи де Фонтаньё вещи, чтобы решиться найти в этой чудовищности хоть какое-то правдоподобие.
Кормилица принялась расспрашивать ту, которую она теперь как никогда часто называла своей девочкой, и Эмма заверила ее в своем отказе от состояния, предложив ей место старшей продавщицы в магазинчике, что та с решительным возмущением отвергла.
Бывшая гувернантка предавалась то гневу, то отчаянию, и оба эти чувства были одинаково страстными.
Как и в прошлом, с уст ее срывались тысячи проклятий, адресованных исключительно г-ну д’Эскоману, которого славная женщина считала виновным в том, что ее самолюбию нанесен сильнейший удар. С великим трудом, прибегнув к всевозможным ласкам, г-же д’Эскоман удалось укротить возмущение своей кормилицы; на все заверения Эммы, что истинное счастье заключается в умеренности, Сюзанна отрицательно качала головой с видом человека, который не может согласиться с подобной нелепостью.
Наконец, настал день, когда нужно было, по крайней мере на какое-то время, расстаться с Кло-бени. Эмма захотела еще раз пройти с Луи де Фонтаньё по тем местам, где расцвела их любовь. Она собрала в осеннем саду все оставшиеся на кустах розы и соединила их в букет с начинавшими распускаться бутонами хризантем; ей хотелось, чтобы ее новое жилище благоухало ароматами этих святынь.
С глубоким волнением переступила она порог дома, перед которым, как и полгода назад, остановилась карета, с той только разницей, что теперь головы лошадей были обращены в сторону дороги, ведущей к Парижу.
Она крепко сжала протянутую ее спутником руку и тесно прильнула к нему, как бы желая, прижавшись к любимому человеку, побороть в себе какое-то зловещее предчувствие.
Ей захотелось пешком подняться на холм и еще раз взглянуть оттуда на дом, покидаемый ею с таким сожалением, но его было невозможно разглядеть среди пожелтевшей листвы деревьев.
Неужели радостям их любви суждено было исчезнуть так же, как скрылась от глаз Эммы, стоило ей сделать несколько шагов, крыша дома в Кло-бени?
XXVIII О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО В МАГАЗИНЕ НА УЛИЦЕ СЕЗ
Во второй половине полугола, отсчитываемого с того времени, как г-жа д’Эскоман вышла из заключения, она проявила подлинное величие.
Светская женщина, воспитанная в беспечности и роскоши, привыкшая занимать пустяками немалую часть своей жизни и всегда видеть немедленное исполнение всех своих прихотей, она с героическим смирением приспособилась к утомительным будням своего нового положения и к бесчисленным лишениям, на которые ей пришлось пойти, чтобы извлечь пользу из принесенной ею жертвы.
Переход к новой жизни произошел так, что она даже его не заметила. Ничто не обескураживало ее: ни бессонные ночи, ни однообразный труд, ни даже, что дороже всего должно было обходиться ее благородным чувствам, досадные мелочи, присущие торговле.
Видя ее за скромным прилавком из полированного дуба, в непритязательном ситцевом платье и самом простом из чепчиков, продававшихся в ее собственном магазине, то погруженной в изготовление какой-нибудь одежды, то проворно взбирающейся по лестнице, чтобы достать картонки с верхней полки, то с грациозной предупредительностью раскладывающей перед глазами какого-нибудь постоянного покупателя множество образцов своих товаров, посетители бельевого магазина немало удивлялись изысканности манер его молодой хозяйки; но никто из них не подозревал, сколько утраченного величия стоит за этой простотой, сколько сокровищ скрыто под этой меркантильной непринужденностью. И если бы кому-нибудь сказали: "Эта милая женщина, которая только что так трудилась, расточала столько любезности, чтобы заработать один франк на том, что она вам продала, еще недавно звалась маркизой д’Эс-коман, имела полдюжины лакеев, готовых исполнить ее малейшие указания, и десяток лошадей в своей конюшне; знатность же ее восходит ко времени крестовых походов, а ее богатство делало ее миллионершей", — никто и никогда бы в это не поверил.
В свою новую жизнь Эмма внесла жизнерадостность, которую ничто не могло нарушить; она старалась, чтобы Сюзанна не предположила в ней какие-нибудь сожаления, и в равной мере пыталась скрыть от Луи де Фонтаньё размеры жертвы, принесенной ею во имя любви к нему. Полностью занятая делами, она беспрестанно пыталась облегчить огорчения Сюзанны и Луи де Фонтаньё, разделяя их с ними, поскольку ей не хотелось, чтобы ее собственная участь доставляла им заботу.
Кормилица затаила против Луи де Фонтаньё страшную злобу; она обвиняла его в том, что он с беспримерной слабостью дал согласие на безумный, как она по-прежнему полагала, поступок Эммы; она считала, что молодой человек несет ответственность за счастье ее хозяйки, и при этом не могла смириться с тем, что это счастье поставлено под угрозу; она наблюдала за ним с неусыпной тревогой птицы, которая видит в воздухе черную точку, несущую опасность ее выводку. Но г-жа д’Эскоман каждый раз повторяла, что она счастлива, и Сюзанна замолкала. Кормилица была глубоко убеждена, что блаженство это воображаемое, и внушила себе, что всю прелесть ему придает новизна и что эта игра в лавочницу рано или поздно наскучит маркизе, или, точнее, г-же Луи. Сюзанна ждала пробуждения своей хозяйки, но ничто на свете не могло подтолкнуть ее к тому, чтобы она ускорила это пробуждение; она ограничивалась тем, что оказывала покупателям, посещавшим маленькое заведение, прием, составлявший полную противоположность привлекательным манерам молодой хозяйки магазина, резко отвечая тем из них, кто обращался к ней без соблюдения правил самой строгой учтивости.
Самая распространенная ошибка в любви заключается в том, что в ней обычно судят о силах того, кого любишь, по силам, какие эта любовь придает тебе самому. Луи де Фонтаньё изнемогал под бременем, которое так мужественно несла маркиза.
Какое бы образование ни получил мужчина, какими бы высокими ни были традиции его прошлого, он приспособится, если будет к тому принужден, к самому незаметному положению в обществе, лишь бы только это положение имело для него привлекательную сторону, лишь бы только, что особенно важно, оно позволило ему сохранить приятнейшее из преимуществ светского человека — независимость характера; он охотно будет художником, земледельцем, солдатом, матросом, всем кем угодно, но только не коммерсантом.
Каждый из нас на этом свете находится более или менее в крепостной зависимости от своих интересов, но существуют разные степени такого рабства; для коммерсантов же оно абсолютно; пошлость розничной торговли увеличивает бремя оков; чтобы выдержать эти оковы, нужна долгая привычка, ослабляющая ощущение их тяжести.
В первые месяцы, когда Эмма обосновалась на улице Сез, Луи де Фонтаньё надменно бунтовал против своенравного тирана по имени публика, являвшегося оспаривать у него его возлюбленную на основании прав, какие ему давала вывеска, нарисованная на витрине магазина.
Луи возвращался из своей конторы около четырех часов, утомленный цифрами, пресыщенный подсчетами, посылая ко всем чертям учеты векселей, комиссионные вознаграждения и аккредитивы, вовсе не для того, чтобы заставать в собственном доме все ту же финансовую мешанину с бесплодностью еще более грандиозных размеров и видеть тошнотворную кухню маленького торгового дела с его бесконечными расчетами, приобщаться к его пошлым целям, строгим обязательствам, в этом смехотворном поединке медных денег становиться секундантом сантима, нуждающегося в том, чтобы его защищали и им завладевали, участвовать в стратегических комбинациях такого порядка, что они весьма напоминали жадность.
Если Луи де Фонтаньё присаживался возле той, которую он называл своей женой; если он, как ребенок, пришедший к матери, рассказывал ей об испытываемых им печалях и пошлости своих занятий в конторе; если Эмма, объяснявшая эти жалобы скукой, которая одолевала его из-за их каждодневных разлук, осторожно сочувствовала ему; если она пыталась ободрить своего спутника жизни, уверяя его, что, близко ли они сами друг от друга или далеко, души их неразлучны; если она приближала свои губы ко лбу молодого человека, чтобы сделать свои утешения более действенными, — именно это самое мгновение какая-нибудь женщина, жившая по соседству, выбирала для того, чтобы прийти в магазин за покупками. Дверь поворачивалась на петлях, Эмма вскакивала, красная, как цветок гранатового дерева, женщина — чаще всего она была старая и безобразная — со спесивым, заносчивым видом приближалась к прилавку, словно получая злобную радость от того, что ей удалось прервать любовное щебетанье птиц в их гнезде; старуха нетерпеливо стучала по дубовому прилавку медной монетой, которую она готова была выделить на приобретение какой-нибудь ленты, и грубым, повелительным голосом обращалась к Эмме, браня ее и обвиняя в медлительности, ожесточенно торгуясь и споря, перед тем как выложить одну за другой свои гнусные монеты, продлевая без надобности мучения молодого человека, который уже раз двадцать в течение этой пытки был на грани того, чтобы уступить своему желанию и выставить противную посетительницу за дверь, а сдерживался лишь благодаря выразительным и умоляющим взглядам, какие бросала на него г-жа д’Эскоман.
Когда старуха уходила, Эмма, которую ничто не могло вывести из ее восхитительного спокойствия, пыталась возобновить беседу с того самого места, где их прервали; но напрасно она говорила, напрасно с новой силой изливала на него свою нежность; даже ее ласки потеряли свое всемогущество: Луи де Фонтаньё не слушал ее более, не смотрел более в ее сторону; его раненое сердце было испорчено удивительной способностью, являющейся общей особенностью людей с его складом характера — он укрывался в своих мечтаниях, он витал в заоблачных далях своего прошлого; и если страстным звукам ее голоса удавалось призвать его в настоящее, он не был в состоянии сопоставить то, что было увидено им в воспоминаниях, с тем, что его окружало. И тогда он начинал раскаиваться в том, что содействовал падению этого ангела; он ужасался отвратительной бездне, в которую она на его глазах погружалась, и в мыслях бил себя в грудь.
Угрызения совести соответствуют нулю на термометре любви: как только такая отметка преодолена, это означает, что чувства угасли.
И если для человека наступает минута, когда он проклинает свое участие в совершенной ошибке, то близится время, когда он проклянет и соучастницу своей вины.
На самом деле Луи де Фонтаньё почти перестал любить Эмму с того самого дня, как она отдалась ему. Любовь — это всего лишь вечное желание. Существуют беспокойные натуры, у которых это желание пробуждается только перед неведомым или перед тем, что ускользает из их рук; натуры, для которых обладание неминуемо становится разочарованием; натуры, которые, находясь на небе, стремятся спуститься на землю; души несчастные и измученные, обреченные, пока молодость воспламеняет их кровь драгоценным жаром, изнурять себя неясными стремлениями и боготворить лишь звезды, даже если они принимают за небесное светило отражение ничтожной плошки, мерцающее в сточной канаве.
Луи де Фонтаньё был человеком порядочным, и он смотрел на то, что происходило в его душе, сквозь пелену своих чистых и деликатных чувств.
Он пребывал в убеждении, что все еще обожает Эмму, и настойчиво уверял себя, что если только он не самый подлый и не самый презренный из людей, то по-другому и быть не может и что надо верить своим собственным словам. Однако молодой человек не находил в себе больше того возбуждения, которое прежде заставляло вскипать кровь в его жилах, когда он приближался к Эмме; Луи де Фонтаньё оставался равнодушен к очаровательному кокетству целомудренной женщины, о которой когда-то он не мог думать без трепета; он не находил больше прелести в прикосновении к ее руке и всевластия в аромате, который оставляли ее волосы, когда она проходила мимо; шелест ее платья потерял для него свою выразительность; изящные складки одежды, облекавшей ее тело, стали для него иероглифами, ключ к разгадке которых уже не искали его сердце и его чувства; он испытывал скрытое недовольство не только когда какой-нибудь навязчивый человек становился между ним и его любовницей, но и когда они были одни. Оставаясь наедине с ней, посреди любовных излияний он был вынужден отыскивать слова, следить за своими жестами, сознательно оживлять свой взгляд; все его способности оставаться в любви непосредственным были мертвы.
И тогда отвращение, испытываемое им к положению, в каком они оказались, пришло на помощь тайным стремлениям его сердца. Если сначала Луи де Фонтаньё оплакивал исключительно Эмму, то мало-помалу он стал приписывать и себе некоторую долю в роли жертвы и подло проливать слезы над своими собственными невзгодами; затем лучи ореола, который еще сохраняла в его глазах благородная женщина, померкли один за другим под веянием мыслей, внушенных ему себялюбием. Он дошел до того, что его стали удивлять необычайные способности, какие г-жа д’Эскоман с ее изысканным умом проявила в своих бездуховных занятиях; он отождествлял благородную хозяйку бельевого магазина с пошлым ремеслом, каким она занималась. Он забывал, что это госпожа маркиза д’Эскоман доблестно служила своей вере и своей любви за этой скромной витриной! Он видел за прилавком лишь г-жу Луи, рожденную, сотворенную и явившуюся на свет с вкусами, предпочтениями и потребностями скромной мастерицы, и вздыхал при мысли, что двум их судьбам суждено быть связанными навечно.
Наконец, в то самое время, когда мы снова встречаемся с ними, кое-что из того, что происходило в душе Луи де Фонтаньё, стало проявляться внешне; у него случались часы грусти, которую г-же д’Эскоман со всей ее сердечной заботливостью не удавалось рассеять; он ринулся в развлечения, не имеющие отношения к его домашней жизни. При распределении их скромного семейного бюджета он позволял себе тратить больше, чем имел бы на это право, если бы ему пришло в голову подумать не только о себе. Тем не менее Эмма была так ослеплена страстью и желанием быть счастливой, что для нее еще не настало время отягощать свое сознание этими опасениями; удрученность, которую ей невозможно было не заметить у своего любовника, она относила на счет беспокойства, проявляемого им о ее судьбе, и печали, испытываемой им при виде того, что ей приходится заниматься физическим трудом; и она еще больше старалась подчеркивать удовлетворение, какое вызывала у нее собственная участь.
Такое положение могло бы тянуться еще очень долго, оно, вероятно, длилось бы вечно, если бы молодые люди, смирившись с тем, что с их любовью произошла перемена в худшую сторону, могли бы в то же самое время переменить окружавшую ее обстановку.
У них оставалось слишком много точек соприкосновения со светским обществом, чтобы в тот или иной день, несмотря на заботы, предпринимаемые ими с целью избегать прежних знакомых, не произошла бы неожиданная встреча, которая должна была вывести Луи де Фонтаньё из его безучастного состояния.
Все, что их окружало, таило в себе беды, подобные тем, что остались у них за спиной.
Среди мелких парижских торговцев всегда существуют соседские отношения, и их трудно избежать. Чета Луи терпела их так, как в церкви терпят общую службу мученикам;
но молодые люди были столь далеки в своих привычках от образа жизни большей части тех, кто жил в той среде, где они заняли место, что их взаимная неприязнь не позволила этим отношениям просуществовать и одного дня.
Однако в нескольких шагах от их дома жили часовщик и краснодеревщик, которых они находили менее отталкивающими, чем подобных им людей, и с которыми они поневоле остались в добрососедских отношениях: Луи де Фонтаньё от нечего делать, а Эмма для того, чтобы не вызывать на себя множество обвинений в глупой гордыне, уже брошенных соседскими кумушками.
Господин Бернье — так звали часовщика — заслуживал лишь отрицательной оценки во всем, что выходило за рамки его профессии, и был нулем, которому относительную цену придавала г-жа Бернье; при этом он очень гордился своим положением слева от положительных величин. Госпожа Бернье до приезда Эммы и в самом деле слыла первой щеголихой в среде мелких торговцев из квартала, примыкавшего к церкви святой Магдалины. Воспитанная в пансионе, она вынесла оттуда тщеславие и подавлявшее всех соседок умственное превосходство. Завистливая и болтливая г-жа Бернье проникла в дом той, которую она называла мелкой торговкой бельем и по праву считала своей соперницей, с целою выведать ее секреты и воспользоваться ими, если это удастся. Впрочем, она с чисто женским умением скрывала свои недобрые намерения под видом дружеских чувств.
Краснодеревщик и его жена — фамилия их была Вердюр — были тружениками, и в этом снискали себе славу. Господин Вердюр принадлежал к тем добрым, честным и трудолюбивым парижским мастеровым, что жаждут знаний, поэтому он всегда с интересом беседовал с Луи де Фонтаньё и гордился тем, что тот подавал ему руку. В свою очередь жена его, бывшая цветочница, относилась к Эмме с искренней симпатией.
Стоял один из первых весенних воскресных дней.
Эмма, Луи и Сюзанна находились в Кло-бени, этом гнездышке лучших воспоминаний влюбленных, этом уединенном прибежище, где не смолкли еще звуки их первых поцелуев. То было одно из еженедельных посещений дорогого для Эммы обиталища, где она закаляла свое мужество и черпала неизменное спокойствие, с каким ей удавалось сносить свои невзгоды в надежде вернуться когда-нибудь сюда навсегда.
В то же время на Луи де Фонтаньё Кло-бени, казалось, не оказывало никакого воздействия. Он следовал туда за Эммой; однако, если он и сопровождал ее в трогательных паломничествах к каждой из вех, стоявших на пути из настоящего в прошлое, ему с огромным трудом удавалось удерживать себя на уровне детских восторгов, с какими молодой женщине нравилось узнавать каждый из уголков, видевших их первые поцелуи, их счастье. Вот почему, чтобы избавиться от таких испытаний, он пристрастился к удовольствиям, к развлечениям, какие г-жа д’Эскоман лишь с трудом могла разделять с ним, — к рыбной ловле и охоте.
Тем не менее в это воскресенье, после утомительной недели, Луи де Фонтаньё выглядел столь грустным, что Эмма, все еще полагавшая, что она владеет волшебной палочкой, способной прогнать тучи со лба своего возлюбленного, решилась сопроводить его на рыбную ловлю.
Следуя вдоль берега реки и ловя то пескарей, то уклеек, они ушли далеко за пределы селения Шампиньи. В середине дня Сюзанна, пожелавшая участвовать в этом развлечении, накрыла в извилине берега завтрак, и все трое прямо на траве принялись за еду с аппетитом, который появляется, когда дышишь свежим речным воздухом.
Толи это развлечение восторжествовало над мрачными мыслями Луи де Фонтаньё, толи молодой человек испытал прилив прежних своих чувств к Эмме, которая была очаровательна в жаконетовом платье, плотно облегавшем ее изящную талию, и в чепчике с розовыми лентами, великолепно сочетавшимся с чистым цветом ее лица, но он казался веселым и счастливым; г-жа д’Эскоман, преисполненная гордости и радости при виде того, что достигнуты цели ее постоянных забот, щебетала, как славка.
Неожиданно со стороны бечевой послышался шум, и почти в то же время мимо них пронеслась группа всадников и амазонок, мгновенно исчезнувших в клубах пыли.
Как ни стремительно неслись верховые, одна из амазонок, повернув голову, успела заметить скромных сотрапезников и их пиршество; она вскрикнула от изумления и тут же разразилась насмешливым хохотом.
Для Эммы эти звуки смешались с топотом промчавшихся лошадей и шумом веселых голосов, но Луи де Фонтаньё ясно и отчетливо расслышал этот смех и этот голос, и они показались ему знакомыми. От этого он так встревожился, что день, обещавший быть таким хорошим, закончился сумрачно и печально.
Спустя некоторое время после этого случая Эмма ждала Луи де Фонтаньё, как у нее это было заведено, в тот час, когда он выходил из своей конторы; она подстерегала его возвращения, стоя за занавеской магазинной витрины.
Она заметила его: он шел по улице, опустив голову, в уже привычном для него подавленном настроении.
Чтобы развеселить его улыбкой, она осторожно постучала по оконному стеклу.
В эту минуту по улице крупной рысью пронеслись резвые лошади, запряженные в элегантную открытую коляску, которой правил кучер в ливрее. Луи де Фонтаньё поднял глаза: его внимание привлек экипаж. Молодой человек сделал жест, свидетельствующий о его удивлении, а взгляд его стал следить за коляской, пока та не скрылась за поворотом.
Эмма сумела различить белые перья, развевающиеся на шляпе дамы, которая сидела в экипаже. Изумление молодого человека и проявленный им интерес не скрылись от ее глаз; она быстро выбежала из магазина и заметила, что ее возлюбленный смотрит в сторону удалявшегося экипажа. Она окликнула Луи де Фонтаньё, но он настолько был поглощен своими мыслями, что ей пришлось второй раз позвать его, чтобы он пришел в себя.
Эмма спросила у него, что это была за особа, которую он разглядел в коляске. Луи де Фонтаньё покраснел, забормотал что-то и стал отрицать свое удивление при виде незнакомки, но оно было слишком очевидным, чтобы ускользнуть от Эммы.
И в сердце маркизы вкралось зловещее предчувствие.
Она поняла, что Луи де Фонтаньё что-то скрывает от нее и у него есть какая-то мысль, какая-то тайна, быть может, которой он не хочет поделиться с ней; и мир ее пошатнулся на своей основе, мир, в который, по ее разумению, она была призвана жить в столь совершенном счастье, во взаимном и полном доверии, — мир этот потерял равновесие!
Ею овладело беспокойство, у нее зародилось множество подозрений по поводу жеста молодого человека, его поведения и его отрицания того, что она сама видела.
Неужели существовала какая-то связь между постоянной грустью Луи де Фонтаньё и дамой в экипаже? От этого обращенного к себе вопроса Эмма задрожала всем телом.
Неужели для нее настало время пробуждения? Неужели любовь ее друга, которой суждено было быть вечной, уже прожила свой срок? Но в ответ на это предположение, показавшееся ей кощунственным, она лишь покачала головой и улыбнулась, как улыбнулся бы ангел-хранитель, если бы кто-нибудь сказал ему, что вверенное его попечению дитя осквернило себя преступлением.
Чрезмерность подобных опасений доказывала, что они беспочвенны; Эмма успокоилась, но дала себе слово выследить даму в шляпе с белыми перьями и попытаться узнать, кто же она такая.
На следующий день, много ранее того часа, когда она увидела, как эта женщина проезжала мимо магазина накануне, Эмма заняла свое место за занавеской.
Каждый звук, доносившийся с улицы, заставлял трепетать сердце г-жи д’Эскоман.
Неожиданно в магазин кто-то вошел: то была г-жа Бернье.
Ясно, что она не могла выбрать более неудачной минуты, для того чтобы посетить свою соседку. Этот визит был тем более неприятен Эмме, что никогда еще речь часовщицы не была столь вычурной и пустой.
Взволнованность молодой соседки не ускользнула от внимания г-жи Бернье.
— Да что это с вами, моя милочка? — спросила она Эмму. — Право, можно подумать, что вы поджидаете своего возлюбленного.
— Вы правы, сударыня, — отвечала Эмма. — В этот час мой муж возвращается из конторы.
Госпожа Бернье отвечала шутками по поводу затянувшегося медового месяца; судя по всему, утонченность шуток не входила в программу образовательного заведения, учением в котором она так гордилась.
Эмма подумала, что будет лучше не слушать ее болтовню. Она погрузилась в свои мысли, и голос г-жи Бернье, которую вполне устраивало молчание собеседницы, доходил до ее слуха, будто какое-то непонятное бормотание.
Вдруг бормотание это смолкло и часовщица, дававшая отчет о пьесе "Нельская башня", увиденной ею накануне, оставила незавершенным изложение сцены в тюрьме.
— Ах, Боже мой, моя милая, — вскричала она, — посмотрите, какой красивый экипаж останавливается у ваших дверей! Боже мой, какие покупатели!
Эмма прильнула к стеклу витрины.
И действительно, тот самый экипаж, что привлек накануне такое внимание Луи де Фонтаньё, остановился у дверей ее скромного магазинчика.
Лакей, разодетый в ливрею, спустился с козел; он отворил дверцу кареты и с шумом опустил подножку. Владелица экипажа оперлась на его руку и скорее проворно, чем благопристойно, спрыгнула на землю, не слишком заботясь о том, что живостью такого движения она посвящает прохожих в сокровенные красоты своих ножек.
До этой минуты г-жа д’Эскоман не могла рассмотреть лица дамы, но когда та повернулась к витрине, чтобы прочитать вывеску, Эмма побледнела и вздрогнула.
— Умоляю вас, сударыня, — крикнула она г-же Бернье, — ради Бога, скажите этой даме, что я вышла, скажите ей… Ах! Боже мой!.. Боже мой!..
И, не дожидаясь ответа часовщицы, она скрылась в задней комнате магазина и заперла за собой дверь; тем временем, пока г-жа Бернье поправляла свой туалет, чтобы достойным образом предстать перед такой важной дамой, казавшейся ей хозяйкой лакея в золоченой ливрее, эта дама, в которой читатель, вероятно, уже узнал нашу старую знакомую Маргариту Жели, уже отворяла дверь магазина.
XXIX ГЛАВА, В КОТОРОЙ МАДЕМУАЗЕЛЬ МАРГАРИТА ОПЯТЬ ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ
Маргарита Жели нисколько не изменилась, разве что чуть располнела и добавила немного румян и белил к бело-розовым краскам своего тела, какими она и без того была щедро награждена природой. Ее наряды, и год назад способные привести в изумление обывателей Шатодёна, стали еще чуть более яркими, еще чуть более пышными. Она придавала важность своему лицу прищуриванием глаз, переняв это у каких-то знатных дам, ее соседок по Опере, и дерзость подобного взгляда доставляла ей удовольствие. За исключением этого, год жизни в Париже не изменил Маргариту.
Войдя в маленький магазин, она приложила к глазу лорнет, обвела взглядом стены заведения и то, что в них заключалось, осмотрела обстановку, товары, небрежно взглянула на г-жу Бернье, рассыпавшуюся перед ней в поклонах, и с презрительной гримасой произнесла:
— Не так уж здесь и красиво, нет ни богатства Лоры, ни элегантности Викторины; однако похоже, что платить тут надо не столь дорого, а это прельщает мещанок.
Проговорила она это как будто бы про себя, но громким голосом, затем уселась на стул, давая знать, что совершенно не боится измять платье, и, повернувшись к часовщице, в шестой раз делавшей образцовый поклон, промолвила:
— Милая моя, возможно, я обеспокою госпожу маркизу, но, черт возьми, либо она торгует бельем, либо нет; потрудитесь сообщить ей, что я нуждаюсь в ее услугах.
Услышав, что хозяйку бельевого магазина величают маркизой, г-жа Бернье почувствовала, что за этим скрывается какая-то тайна. Она тут же навострила уши, как боевая лошадь при звуке трубы.
— Госпожи Луи нет дома, — отвечала она, делая ударение на фамилию.
— Госпожа Луи! — воскликнула Маргарита. — Ну и ну, сколько чувства! Однако ваша хозяйка не права, барышня; ей не плохо было бы написать на вывеске: "Маркиза д’Эс-коман, торговля бельем", и это привлекло бы к ней покупателей.
— Сударыня, особа, о которой вы говорите, мне не хозяйка, — с обиженным видом ответила часовщица (даже удовлетворение ее недоброжелательного любопытства не помешало ей оскорбиться тем, что ее приняли за продавщицу в магазине). — Я ее соседка, и она попросила меня заменить ее во время ее отсутствия. Если вам угодно что-то купить, сударыня, скажите мне, и я попытаюсь отыскать эту вещь в коробках.
— Нет, — величественным тоном возразила Маргарита, — в магазинах, которым я делаю честь своими покупками, я привыкла обслуживаться хозяином или хозяйкой, и на этот раз более чем когда либо желаю придерживаться этого правила… Я готова пожертвовать сто луидоров на подобную прихоть; я еще вернусь.
— Если сударыне будет угодно сообщить время, я предупрежу госпожу Луи, — с безукоризненным лицемерием отвечала часовщица, — и она непременно будет ждать вас.
— Ну да, сообщить ей время, чтобы она дала тягу? Нет уж, милая моя! Скажите ей лишь, что я буду приезжать сюда каждый день, пока не застану ее. Еще бы! Разве можно отказать себе в удовольствии похвастаться перед кем-нибудь: "Посмотрите на этот чепчик, его мне смастерила госпожа д’Эскоман… Полюбуйтесь на эту кофточку: маркиза сама снимала для нее мерку…" Ведь можно быть судимой за измену мужу и сидеть за это в тюрьме, можно на глазах у всех жить со своим любовником, как могли бы это делать вы или я, но при этом все равно оставаться маркизой; от этого никуда не денешься, и я хочу иметь маркизу д’Эскоман в числе моих поставщиц; ведь это вполне разумно, не правда ли, сударыня?
Часовщица ответила самой одобрительной улыбкой. Случай послал ей непримиримого врага женщины, достоинства которой затмили ее собственные достоинства, и ее переполняла радость.
Госпожа Бернье проводила Маргариту до экипажа, а потом поспешила вернуться, чтобы найти мнимую г-жу Луи: она торопилась насладиться унижением той, чью тайну она теперь знала.
Но в ту минуту, когда экипаж тронулся с места, а г-жа Бернье постучалась в запертую дверь задней комнаты, где скрывалась Эмма, в магазин вошел Луи де Фонтаньё.
Молодой человек поворачивал на улицу Сез в ту самую минуту, когда Маргарита выходила из экипажа, в котором он видел ее накануне. Он тут же представил себе все те неприятности, какие этот злонамеренный визит должен был внести в его домашнюю жизнь, однако понадеялся, что Эмме удастся уклониться от взглядов своей прежней соперницы. Подвергать же самого себя риску такой неприятной встречи он счел ненужным и спрятался неподалеку.
— Посмотрим, будете ли вы счастливее меня, сударь, — сказала г-жа Бернье, заметив подходящего к ней Луи де Фонтаньё. — Похоже, дверь эта не ведет в рай; я стучу, а мне не отпирают. Тем не менее я должна сообщить вашей любовнице о поручении, оставленном мне этой дамой.
— Любовнице? — нахмурив брови, с побелевшими и искаженными от гнева губами воскликнул молодой человек.
— По крайней мере, так мне сказала эта дама… Поверьте, сударь, я вовсе не собираюсь проверять ваше свидетельство о браке и в конце концов скорее готова предположить, что эта незнакомка сумасшедшая, чем подумать, будто хорошо воспитанный на вид человек осмелится ввести свою сожительницу в общество людей, которые хотя и не имеют титулы, вписанные в дворянские грамоты, зато имеют право носить имена, какие они ставят на своих вывесках и какие никогда не фигурируют в "Судебной хронике".
— Вон отсюда, сударыня! Убирайтесь вон! И благодарите Бога, что вы женщина.
И, не обращая внимания на протесты и угрозы г-жи Бернье, Луи де Фонтаньё вытолкнул ее из дома. Затем он одним ударом ноги выбил дверь в заднюю комнату магазина и поднялся на антресоли, где были слышны порывистые шаги Сюзанны.
Он обнаружил Эмму в постели, охваченную тем же нервным припадком, каким она страдала год назад.
Вот что произошло до его прихода.
Услышав голос Маргариты и уловив волнение Эммы, Сюзанна тотчас догадалась о злом умысле, с каким явилась бывшая гризетка; кормилица хотела тут же броситься в магазин, и, если бы ее намерения осуществились, они оказались бы роковыми для наряда шатодёнской красавицы. Эмме с великим трудом удалось удержать Сюзанну. Однако усилия, предпринятые ею, чтобы сдержаться самой и скрыть мучительные чувства, охватившие ее, от старой подруги, вызвали у молодой женщины сильнейший нервный приступ. Эмма только начала приходить в себя, когда Луи де Фонтаньё вошел в комнату.
От любви не должно остаться совершенно ничего, кроме пепла, чтобы вид страданий того, кто был предметом этой любви, не оживил ее. Но пока сохраняется хоть искра любовной страсти, эта искра способна разгореться в пламя. Жестокосердие было несовместимо с характером Луи де Фонтаньё; его сильно тронуло состояние, в каком он увидел Эмму, тем более когда он подумал о его причинах. Он бросился к ней, обнял ее и покрыл своими поцелуями и облил своими слезами.
Его нежные ласки подействовали на Эмму гораздо сильнее, чем заботы Сюзанны; она осторожно отодвинула от себя его лицо, чтобы увидеть слезы, катившиеся из-под его ресниц. То была роса, которую жадно впитывало ее сердце, иссохшее от каждодневных тревог.
— Так это была она? — воскликнула г-жа д’Эскоман. — Прости меня, друг мой, что я на мгновение усомнилась в твоей любви. Теперь я поняла, почему ты не хотел признаться мне, что узнал ее вчера. В то время как ты пытался оградить меня даже от воспоминаний о ней, в мою душу смогло закрасться подозрение и сомнение… Еще раз, Луи, прости меня! В эту минуту моя любовь мелка и ничтожна перед твоей, и сейчас я плачу о своей слабости, а не о смешном поддразнивании, которое позволяет себе эта женщина… Разве ты не находишь, что подобные проявления ее ненависти бессильны? Что значит для нас какие-то насекомые, жужжащие у нас под ногами, когда наша любовь уносит нас на небо? Это ее, а не себя мы должны пожалеть, поскольку мы любим друг друга, поскольку ты любишь меня безраздельно, мой возлюбленный Луи, и твои глаза, твои слезы непрестанно уверяют меня в этом, как и твои уста!
Луи де Фонтаньё заверил г-жу д’Эскоман в том, в чем она убеждала сама себя, — в его любви к ней. И в эту минуту он не считал, что лжет ей, а Эмма попыталась не горевать более о зле, из которого проистекло столь великое благо.
Когда они оба успокоились, им пришлось менее думать о чувствах, а более заниматься своим положением. Луи де Фонтаньё воспользовался представившимся случаем, чтобы поделиться с Эммой своими сокровенными мыслями по поводу этого ремесла торговки бельем, становившегося ему все более ненавистным. Сославшись на только что случившееся с ними происшествие, он заставил ее задуматься о том, что их ожидало в будущем; он признался ей, что ему самому господин и госпожа Луи, торговцы пеленками и изготовители нижних юбок, кажутся в высшей степени смешными; что свет преследует своей ненавистью тех, кто намерен не считаться с его установлениями и обходиться без него, — совершенно так же, как это могла бы делать ревнивая женщина; что, не будь даже этого злого умысла со стороны Маргариты, упреки общества, взбудораженного известием о скандале, повод к которому дали два члена этого общества, отныне не оставят их в покое.
Однако Эмма с трудом допускала, что невозможно осуществить замысел, казавшийся ей столь достойным. В своем чистосердечии молодая женщина никак не могла понять, как это ее бескорыстие, которому она дала доказательство, и безропотность, с которой она покорилась судьбе, не могут смягчить злопыхательство, о каком говорил ее возлюбленный. Она отказывалась верить, что это общество, на ее глазах проявлявшее такую снисходительность к тем, кто с высоко поднятой головой несет свое бесчестие, проявит себя неумолимым к двум беззащитным существам, требующим только одного — чтобы им позволили затеряться в тени, созданной ими вокруг себя.
Но Луи де Фонтаньё не хотел сдаваться; во время этого внезапного прилива нежности к Эмме, вызванного у него вспышкой чувствительности, он убеждал себя, что в других обстоятельствах он вновь обрел бы порывы страстной любви, которые в эту минуту почитал своей честью проявлять по отношению к бедной женщине. Он винил торгашескую обстановку, в какой они вынуждены были жить, в том, что она, к сожалению, сделала его сердце каменным; он преувеличивал отвращение, испытываемое им при виде г-жи д’Эскоман в магазине на улице Сез, и, не высказывая откровенно всего, что происходило в его душе, дал Эмме понять, что досада, не позволяющая ему владеть собой, изменила не только его чувства, но и то, как они выражаются; он дал ей знать, что последствия этой досады могут стать еще более страшными.
Какое бы значение ни придавала г-жа д’Эсоман осуществлению своих первоначальных намерений и как бы после полугодового опыта жизни с беспечным Луи де Фонтаньё ни казался ей необходим труд, приходивший им на помощь, доводы молодого человека должны были сильнейшим образом подействовать на нее; но, прежде чем решиться на что-то, необходимо было подумать и о последствиях.
Покинуть улицу Сез, уехать в Кло-бени и жить там в лишениях, как того в запальчивости требовал Луи де Фонтаньё, было к тому же невозможно.
От продажи своих драгоценностей маркиза получила двадцать восемь тысяч франков, но приобретение торгового предприятия, покупка товаров и расходы по их маленькому хозяйству в продолжение целого года поглотили большую часть этой суммы.
Луи де Фонтаньё умолял Эмму положиться на него; он обещал, что будет работать и обеспечит их существование; но, как бы ни радовали Эмму подобные заверения, с ее характером и с ее благоразумием она не могла позволить себе строить их общее будущее на таких ожиданиях. Молодая женщина убеждала своего возлюбленного набраться мужества и терпения; она намеревалась попытаться сбыть с рук бельевой магазин; с вырученными от этой продажи деньгами им будет легче думать о том, как действовать более разумно.
Если это решение, перечеркнувшее полгода ее мучительных усилий, стоило Эмме дорого, то восторг, с каким Луи де Фонтаньё принял его, вполне наградил ее за эту новую жертву.
Единственное, чем были обеспокоены молодые люди, так это опасениями, как бы Маргарита не осуществила с неукоснительностью своей угрозы в отношении г-жи д’Эс-коман, которую та услышала сквозь витрину магазина, и как бы преследования гризетки не сделали для Эммы мучительными последние дни ее пребывания в магазине.
Обычно сознание глубокой личной вины приводит к непомерному усердию: Луи де Фонтаньё решил во что бы то ни стало отвести от Эммы эту опасность.
В конторе, где он служил, находились на стажировке несколько сыновей провинциальных негоциантов; они изучали парижский финансовый мир, надеясь со временем примкнуть к отцовскому делу; молодые люди пользовались случаем, чтобы наравне с тайнами биржи приобщиться ко всем тайнам парижской жизни. Через одного из них любовник Эммы легко добыл адрес какой-то женщины, занимавшей достаточно высокое место в среде прожигателей жизни, и ему показалось, что это могла быть Маргарита.
Он полагал себя настолько защищенным от соблазнов, какие могла внушить ему его бывшая любовница, что некоторое время даже подумывал, не явиться ли ему к ней в дом.
Однако, опасаясь неприятных объяснений, которые ему пришлось бы вести с ней, он решился лишь написать ей.
Он взывал к великодушию и здравомыслию Маргариты. Он объяснял ей, что если она считает себя вправе мстить, то месть эта должна быть направлена против него, оскорбившего ее, а не против женщины, ничуть не повинной в том, что произошло между ними.
Письмо это он отправил с рассыльным, и полчаса спустя тот принес ему короткий и благосклонный ответ.
Господин де Фонтаньё, отвечала ему Маргарита, прекрасно знает, что он один из тех людей, кому ни в чем нельзя отказать; однако достойно сожаления, что он не счел приличным обратиться к ней с этой просьбой лично.
Разорвав письмо Маргариты на мелкие клочки и рассеяв их по мостовой на манер Мальчика с пальчик, Луи де Фонтаньё вернулся домой сияющим.
Он был доволен Эммой, был доволен собой и не менее был доволен Маргаритой, оказавшейся, в конце концов, не такой зловредной, как ей хотелось выглядеть.
Поэтому он не был так уж удивлен, обнаружив, что прекрасная шатодёнка заполнила все его ночные сновидения.
Однако через три или четыре дня он заметил, что на самом деле она прочно обосновалась в его уме.
Это наблюдение пришло ему в голову, когда он находился возле Эммы. Он посадил ее к себе на колени и крепко обнял, как будто его душа протестовала против этой уловки его воображения.
Но, несмотря ни на что, мысли его тяготели к одному и тому же полюсу с упорством магнитной стрелки; вызванные его воображением воспоминания, придававшие такую силу его страсти к г-же д’Эскоман, возникли у него снова, и на этот раз их героиней была бывшая гризетка; хотя представлявшиеся ему картины и отличались от прежних, они были не менее соблазнительными. Причудливый контраст! Именно то, что когда-то вызывало у него неприязнь к ней, то, что леденило его любовь к ней, вместо того чтобы разжигать страсть, — необузданные чувственные желания и пыл этой молодой женщины, — с наибольшей настойчивостью все время возникали в этой панораме прошлого, и впечатление, оставляемое ими после себя, не было неприятным для него, как прежде: изменение ракурса меняло в лучшую сторону всю картину.
Как любители гашиша или курильщики опиума, как все те, кто естественным или искусственным способом предается наслаждениям, доставляемым перевозбуждением мозга, Луи де Фонтаньё стал находить некую прелесть в этих всепоглощающих фантазиях; они казались ему настолько невинными, что он все более и более стал предаваться им. Время неясных ощущений для него миновало, тревоги его сознания определились: оно снова обрело путеводную звезду.
Как и в прошлом, всякий шум, выводящий его из этих упоительных мечтаний, казался ему отвратительным; дуновение, которое развеивало послушные и милые видения, вызывавшие эти мечтания, становилось ему ненавистным. Если что-то насильно возвращало его к действительности, он тут же начинал скучать. И вскоре он стал скучать так, как никогда прежде.
Скука — это кинжал, предназначенный для того, чтобы нанести смертельный удар любви.
Прежде Луи де Фонтаньё из чувства чести и долга находил в себе силы обманывать Эмму и не давал ей повода подозревать, что втайне он охладел к ней. Но нескольких дней оказалось достаточно, чтобы эти силы его исчерпались; он считал себя настолько настрадавшимся, что у него не было духа носить на себе личину и прикрывать ею свое безразличие. Тоска, сопровождавшая эти его странствования в края несбыточных мечтаний, была у него столь глубокой, что он не мог уже ее скрывать.
Госпожа д’Эскоман заметила, что он тускнел и томился рядом с ней; страх охватил ее, но в ней билось отважное сердце, способное сражаться до последнего своего удара.
И оно продолжало сражаться.
Сначала Эмма приписывала грусть своего возлюбленного тем причинам, о каких он сам говорил ей, то есть раздражению, вызванному в нем их пребыванием в лавке на улице Сез, и она поторопила своего поверенного с продажей этого магазина. К несчастью, время было летнее, когда подобные торговые сделки совершаются с трудом, а те немногочисленные покупатели, что были прежде, больше не появлялись.
Сплетни завистливой г-жи Бернье, недоброжелательство и злословие соседей явно лишили заведение бывшей маркизы доверия.
Эмма отдавала себе в этом отчет и вместе с тем осознавала, что положение с каждым днем ухудшается.
Самая совершенная любовь — это та, что более всего похожа на материнскую. Видя, как постоянно возрастает печаль ее возлюбленного, и опасаясь, что это будет иметь гибельные последствия для его здоровья, Эмма была взволнована до глубины души, и крик материнского отчаяния сорвался с ее уст: "Пусть все погибнет, пусть все низвергается в пропасть, но пусть тот, кого я люблю, будет спасен!"
И без всяких размышлений, без тревоги о настоящем и без страха за будущее она бросила на съедение этой скуке все то, что осталось от ничтожного состояния, которое ей удалось сохранить. Эмма пошла дальше: она наделала долги, лишь бы не дать этому чудовищу пожрать ее возлюбленного; она упросила молодого человека отказаться от службы в конторе, ибо опасалась теперь, что он утомится. Стоя на коленях, она заклинала его противостоять овладевшему им унынию с помощью развлечений. Эти развлечения она выбирала ему сама, и, чтобы иметь возможность сделать их более привлекательными, более действенными, подвергала себя все новым лишениям. Она без колебаний вскрыла бы себе вены и отдала бы возлюбленному свою кровь, чтобы развеять его печаль и увидеть на его лице улыбку, казавшуюся ей самым драгоценным из всех сокровищ.
Луи де Фонтаньё не сопротивлялся этим усилиям Эммы. Скука чревата опасностью не только для любви, но и для чести человека.
XXX ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ И СОЖАЛЕНИЯ
Однажды вечером Луи де Фонтаньё, с недавних пор редко проводивший время в обществе Эммы, отправился в Оперу, где играли "Бога и баядерку".
В середине первого акта громкий шум открывшейся и закрывшейся двери заставил его повернуть голову. В одной из лож первого яруса он заметил молодую даму: она снимала шаль и презрительной улыбкой отвечала на шиканье, доносившееся до нее из партера. Он узнал в этой даме Маргариту, и сердце его затрепетало.
Мечтательность, как и всякое опьянение, имеет свои передышки. Интерес к спектаклю поглотил мысли Луи де Фонтаньё и не давал молодому человеку утолять жажду из столь дорогого ему кубка. Он удивился своему волнению, но, не позволяя себе допустить, что эта женщина могла иметь хоть какое-то влияние на его чувства, продолжал упорно смотреть на сцену; ему было бы неловко, если бы Маргарита заподозрила его в малейшем внимании к ней.
Но, вопреки пренебрежению, которое он так старался проявить, душа его была смущена; кровь его бурлила, в ушах стоял гул, туман поплыл перед глазами и, сгустившись, скрыл все происходящее вокруг. Мысли его стали неясными, беспорядочными, бесформенными; они бились о стенки его мозга, рождались и гасли там, словно огненные искры, что сыплются из-под молота кузнеца, кующего железо на наковальне. Ему казалось, что, не сделав ни единого движения, он отчетливо различает на черной завесе, отделяющей его от сцены, сияющее лицо Маргариты.
Ее красота была способна погубить и святого в раю; молодая женщина была в бархатном платье с соблазнительным вырезом; черный цвет платья подчеркивал атласные тона ее плеч и еще более матовую белизну ее груди; прическу ее украшали серебряные виноградные лозы и позолоченные гроздья. За прошедшее время чувственное начало, пронизывающее все ее существо, приобрело спокойствие и укрепило свойственные ему особенности; глаза ее, метавшие пламя, уже не были подернуты истомой, а ярко сверкали; лишь рот ее сохранил прежнее свое выражение: всегда приоткрытые, губы ее беспрестанно манили к поцелую.
Луи де Фонтаньё прилагал всевозможные усилия, чтобы избавиться от того, что ему представлялось видением, но он находил его повсюду. Все ложи были заполнены Маргаритами, такими же чарующими, как и настоящая. Баядерка, которая вихрем носилась по сцене вокруг бога, поднимая волны газа, служившего ей одеянием, тоже была Маргаритой: то были ее взгляды, ее страстные движения, ее зовущее тело.
Внезапно он поднялся и, расталкивая всех встречавшихся ему на пути, вышел из театра.
Но не успел он сделать и ста шагов по улице, как уступил новому помрачению сознания и вернулся в зал.
Закончилось действие. Маргариты не было в ложе; он поискал ее в фойе, но не нашел; наконец он увидел ее в коридоре первого яруса среди толпы поклонников.
Маргарита казалась очень веселой. Несомненно, с ее уст слетела какая-то острота или какая-то непристойность, поскольку все окружавшие ее мужчины громко хохотали. Самый верный способ ухаживать за женщиной — уверять ее в том, что она остроумна, и поклонники Маргариты успешно пользовались этой истиной, проверенной столетиями.
Тем не менее Луи де Фонтаньё обвел этот кружок исполненным ненависти взглядом; из тщеславия он отказывался верить, что шатодёнская красавица могла быть занята чем-нибудь еще, кроме его персоны. Вероятно, его внезапный выход из кресел и послужил поводом к этим насмешкам.
Он приблизился к тем, кто окружал Маргариту, полный решимости поссориться с кем-нибудь из них. Она заметила его и подала ему дружеский покровительственный знак рукой; кое-кто из окружавших ее молодых людей обернулся, чтобы посмотреть, кому она адресовала этот знак; затем Маргарита продолжила отвечать шуточками на попытки какого-то толстого лысого господина завладеть цветком из ее букета, и все это с таким безразличием по отношению к Луи де Фонтаньё, как если бы он был для нее посторонним человеком.
Он попытался испепелить ее уничтожающим взглядом, но взгляд его попал в пустоту: Маргарита была так занята своими обожателями, что, казалось, совершенно забыла о его присутствии.
Как бы мало ни ценил мужчина любовь женщины, как бы ни легкомысленны были связывающие их отношения, он предпочитает думать, что женщина, лишившись его любви, устраивает гробницу из своего сердца; он изумляется, если происходит нечто противоположное.
Осознание полнейшего душевного спокойствия, в котором пребывала по отношению к нему Маргарита, произвело на Луи де Фонтаньё действие ледяного душа, излившегося на его пылкие воспоминания, что вот уже полчаса вольно резвились в нем. Их место заняло чувство глубокой досады и ненависти. Уступив ему, Луи де Фонтаньё решил проявлять по отношению к своей прежней любовнице лишь пренебрежение. Возвращаясь к себе домой на улицу Сез, он по дороге проклинал порочность всего женского рода и благодарил Небо, что оно приберегло для него женщину, составляющую самое редкое исключение.
Луи де Фонтаньё шел и говорил себе, что его дом, такой простой, такой тихий, представляет собой оазис, где он находит покой и счастье.
Впрочем, эти мысли не помешали ему, когда он вошел в маленькую бедную комнату, едва освещенную скверной лампой с зеленым абажуром, подумать также о том, что оазис это необычайно грустный и унылый.
Эмма сидела на кровати и что-то шила в ожидании своего друга.
Несмотря на то что молодой человек гордо заверял себя в своем невыразимом счастье, он не смог удержаться от вздоха при виде этой несчастной женщины с запавшими от недосыпания глазами, с исхудавшим от лишений и мук лицом, в неизящном чепчике, скрывавшем все ее волосы, и в бумазейной кофте, утаивавшей ее фигуру.
Эмма обвила руками его шею, привлекла к себе его голову и поцеловала в лоб. Губы г-жи д’Эскоман показались Луи де Фонтаньё холодными и сухими, как у покойницы. Невольное сравнение пронеслось в его голове, и эта адская мысль так его ужаснула, что он бросился на постель и зарыдал.
XXXI ПРОБУЖДЕНИЕ
Однажды, месяц спустя, Сюзанна вернулась на улицу Сез совершенно потрясенная. Отправившись в Сен-Жерменское предместье, она пересекала площадь Согласия и едва не была сбита коляской. Подняв голову, гувернантка отчетливо увидела, что на передней скамейке экипажа сидел тот, кого она привыкла называть мужем своей госпожи. Чтобы удостовериться в том, что глаза ее не обманули, Сюзанна бросилась за экипажем, но он мчался так быстро, что кормилица сумела только заметить в нем еще даму и пожилого господина, но лиц их она различить не смогла.
В это время здоровье г-жи д’Эскоман было столь слабым, дела ее в магазине приняли столь печальный оборот и доставляли ей так много забот, что Сюзанна не решилась добавлять к огорчениям молодой женщины свои опасения, возможно и воображаемые… Но вечером она дождалась возвращения Луи де Фонтаньё и, когда через оставленную ею приоткрытой дверь послышались его шаги, вышла на улицу навстречу ему.
— Сударь, — сказала она, заслонив ему дорогу и так властно схватив его за руку, что он тщетно старался ее освободить, — вы стали причиной того, что Сюзанна Мотте запятнала свое имя честной женщины на этом свете и, возможно, подвергла опасности свое спасение на том свете; этой ценой я надеялась, по крайней мере, приобрести уверенность в счастье той, которую люблю как родного ребенка, но слезы и отчаяние вновь вернулись в ее дом.
— Если они и вернулись, Сюзанна, то скорее в силу обстоятельств, чем по моей вине, — с притворной кротостью отвечал молодой человек.
— Господин де Фонтаньё, вы знаете, что я осуждала многие решения, внушенные моей хозяйке ее чуткостью, но еще больше я ими восторгалась. Я всего лишь бедная, необразованная женщина, но сознание такого величия и благородства внушает мне желание подняться на ее высоту.
— Однако, Сюзанна, что дает вам повод думать, будто я нарушаю свой долг по отношению к Эмме?
— Я вам это скажу: она грустит, а вы оставляете ее одну; она плачет, а вы, вместо того чтобы облегчить ее печали, разделив их с нею, проводите время в праздности, в удовольствиях, в беспутстве…
— Сюзанна! — гневно прервал ее Луи де Фонтаньё.
— Нет, вы меня выслушаете; я ваша сообщница и потому имею право высказать вам все, что думаю; я сделаю это без страха, господин де Фонтаньё, предупреждаю вас: поберегитесь! Я сильно ненавидела ее первого палача, но если из-за вас мне будет дано познать угрызения совести оттого, что я собственными руками подготовила несчастье для моей бедной хозяйки и вырыла для нее пропасть, которая поглотит ее навсегда, то, чувствую, ненависть моя к вам будет куда более непримирима, чем та, какую я прежде испытывала к господину д’Эскоману. Предупреждаю вас еще раз: поберегитесь!
Луи де Фонтаньё слушал угрожающие слова дуэньи, храня презрительное молчание. Тем не менее они все же произвели на него определенное впечатление, ибо он не мог не видеть состояние удрученности, в каком уже несколько дней пребывала Эмма. Однако это впечатление должно было проявиться в последствиях, совершенно отличных от тех, какими они были бы месяц тому назад.
Пока его душа не ощущала ничего, кроме горечи разочарования, пришедшего на смену его пылкой страсти к г-же д’Эскоман, что привлекало его этим контрастом; пока она поддавалась лишь неясным чаяниям, малейшему порыву его легко смягчающегося сердца, он, если и не любил больше, то, по крайней мере, еще испытывал сожаление об отсутствии любви; но затем вина его обрела плоть, его совесть получила возможность предъявить ему тяжелые и серьезные упреки; глубокое осознание совершенного им дурного поступка ослабило его чувствительность, и, когда на него что-либо воздействовало, его способность к восприятию проявлялась лишь в своего рода дерзком недовольстве.
Из всех чувств труднее всего скрыть подобные тайные угрызения совести.
Луи де Фонтаньё еще недостаточно пожил и был еще слишком далек от того, чтобы стать тем, кого называют лицемером; он этого и не пытался сделать; но при каждом случае, какой ему представлялся, молодой человек, вымещая свое дурное расположение духа на других, давал выход тому, что он испытывал против самого себя, и полагал при этом, что он получает таким образом облегчение.
Ему не приходила в голову мысль расспросить Эмму о ее печалях, выяснить, не связаны ли они с его отношением к ней, успокоить ее ложью и хотя бы поинтересоваться, не проистекают ли они из плохого состояния дел в магазине, чего, несмотря на свою беспечность и частые и долгие отлучки в течение месяца, он не мог не заметить. Пора такой его заботливости к Эмме миновала; он поднимал шум, чтобы отвлечься; он оплакивал самого себя, чтобы не оплакивать свою подругу, и воспламенялся от собственных слов, словно обвинения, какими нелепыми бы они ни были, становились оправданием его поведения; с бесстыдным простодушием преступника он поменял роли и попытался изобразить волнующую картину пустоты своей жизни с тех пор, как ему стало заметно, что Эмма не любит его так, как она любила его когда-то.
Против его ожидания, г-жа д’Эскоман нисколько не возмутилась подобной несправедливостью, а оставалась серьезной и спокойной; она слушала его и смотрела на него, находясь в каком-то оцепенении; глаза ее были сухи, взгляд их был неподвижен; лишь несколько вздохов, которые ей с трудом удавалось сдерживать, свидетельствовали о том, что должно было происходить в ее душе, когда ей открылась самая жуткая из всех неблагодарностей — неблагодарность разлюбившего человека.
Когда он закончил, Эмма с ангельской кротостью сказала:
— Луи, если я попрошу тебя об одной милости, ты не откажешь мне в ней?
Молодой человек смутился и покраснел, волнение его души отразилось у него на лице.
— Говори, — наконец произнес он.
— Ты давно уже обещал мне съездить к своей матери и помириться с ней. Обещай мне исполнить этот долг завтра же.
— Отчего же непременно завтра, а не в любой другой день?
— Потому что завтра двадцать девятое июля — годовщина смерти твоего отца и дяди, потому что весь последний год твои слезы не смешивались со слезами бедной вдовы и сироты и, возможно, именно это и приносит нам несчастье. Ты обещаешь исполнить мою просьбу?
В этом трогательном самозабвении было столько простоты и естественности, что Луи де Фонтаньё, несмотря на свое нервное раздражение и желание найти какую-нибудь отговорку, не смог отказать Эмме в ее просьбе. Впрочем, при первых же словах, с какими Эмма обратилась к нему, он испугался, что она преследует совсем иную цель, и, узнав, что опасения его были напрасны, ощутил огромное облегчение.
Затем он лег и уснул. Когда дыхание молодого человека стало мерным и г-жа д’Эскоман поняла, что можно не бояться более его пробуждения, она приблизилась к кровати, облокотилась на подушку и долго смотрела на лицо еще столь дорогого ей человека; затем столь же долго она оставалась погруженной в раздумья.
Когда наступило утро, простыня, к которой она прислоняла свое лицо, была мокрая от пролитых ею слез; Эмма встала и взяла из шкафчика письма и пряди волос, которые Луи де Фонтаньё присылал ей, когда она находилась в тюрьме. Она поцеловала эти святыни и заперла их в шкатулку.
— Вот и все, — произнесла она сдавленным голосом, — что я унесу с собой из этого дома, и, без сомнения, вот и все, что вскоре останется мне от него.
Затем, встав на колени и скрестив на груди руки, Эмма принялась молиться:
— Боже мой! Я водрузила идола на твой алтарь, и твой гнев низверг этого идола на меня; я поклонялась греху, и ты наказываешь меня грехом; Господь мой, я подчиняюсь твоей всемогущественной справедливости; я не ропщу против кары, не проклинаю карающую меня десницу; но, подвергая наказанию меня, Господь мой, пощади его! Пусть эти страдания, размеры коих один ты можешь исчислить, станут еще горше; пусть муки моей оставленной в одиночестве души станут еще сильнее, но отведи от него свою длань, пусть я одна снесу бремя твоего гнева, и, смиренная и повергнутая ниц, я буду благословлять тебя, Господь мой, в твоей суровости!
XXXII УТРЕННИЕ ПРИЕМЫ МАДЕМУАЗЕЛЬ ЖЕЛИ
Многие стремились попасть на утренние приемы мадемуазель Жели, однако состав тех, кого на них приглашали, подбирался весьма тщательно. Допущен туда был не всякий, кто хотел этого; весьма уважаемые, если и не высокочтимые господа были вынуждены прибегать к прямо-таки дипломатическим приемам, чтобы с помощью выездного лакея, исполнявшего обязанности придверника, добраться до входа в роскошные гостиные бывшей гризетки.
Конечно, нет ничего сложнее, чем завоевать титул модного мужчины.
Чтобы достичь этого, нужно или иметь серьезные данные, но тогда те, кто домогается такого титула, предпочитают быть просто великими людьми: они рассматривают моду как один из вымышленных рыцарских орденов, отыскивающих громкие имена, чтобы придать некоторую значимость списку своих кавалеров, и остерегаются носить их знаки отличия; или же обладать совершенством в наборе глупостей столь усложненных, что большая часть тех, кто предпринимает их изучение, останавливается еще на начальном уровне, как те, кто пытается выучить китайскую грамоту.
Для женщины же все обстоит совершенно иначе.
В этом отношении женщины находятся в привилегированном положении. Все они рождены, чтобы быть модными, и если не все они достигают этого, то лишь потому, что обстоятельства по-разному благоприятствуют их призванию.
Немного сердца, много силы воли, дикарское пристрастие ко всему блестящему, присущая детям привязанность ко всему шумному — вот и все, что необходимо женщине, чтобы стать жемчужиной всех светских кругов.
Конечно же, хорошенькие глазки не могут повредить, но есть множество примеров, доказывающих, что и без этого можно обойтись. Что же касается ума, то установлено, что все женщины наделены им. Возможно, у них это немножко обезьянье кривлянье, ибо их ум заимствован у других; но шум эха ведь все равно шум.
Когда Маргарита приехала в Париж, с ней сошелся один очень богатый и очень известный банкир. И вот однажды утром в великолепном особняке по улице Эльдер, особняке посланницы, по правде сказать, все увидели высокую и красивую девушку, словно гриб выросшую здесь за ночь. Те, кто отважился пойти к ней знакомиться, сообщали потом любопытным, что это тайнобрачное растение имеет на своей конюшне пару караковых лошадей, весьма примечательных тем, что такие же были и у Стивена Дрейка; искусного повара на кухне и несколько гостиных, достаточно просторных для того, чтобы там можно было исполнять самые затейливые фигуры котильона. Она произвела впечатление славной девушки, добродетельной именно в той степени, чтобы никого не приводить в отчаяние, и достаточно сумасбродной в своей роскоши, чтобы каждый надеялся добраться до Коринфа. Большего и не надо было: молодая шатодёнская гризетка прослыла маршальшей в стане щёголей, и интерес к ее происхождению и ее прошлому стали рассматривать как совершенную нелепость и дурной вкус.
Женщины вылеплены из податливой глины, проникающей в самые острые углы литейных форм, углы, которые, кажется, более всего чужды женской натуре. Маргарита удивилась своему новому высокому положению не более, чем бедная маркиза д’Эскоман испугалась утомительного труда, на какой она себя обрекла. Не прошло и недели, как бывшая любовница супруга г-жи д’Эскоман вселилась в роскошный особняк на улице Эльдер, а между тем уже казалось, что ноги ее всю жизнь только и ступали по самым великолепным восточным коврам и ей менее всего на свете вспоминались огрызки яблок, которыми она питалась в детстве. Конечно, придирчивый вкус мог бы найти, что осудить в ее туалетах, несмотря на их великолепие; это была тема завистливой хулы ее подружек, но Маргарита твердо, как на пьедестал, опиралась на денежный сундук своего финансиста, и всем этим сплетням не удавалось возмутить безоблачную жизнь счастливой куртизанки.
Только одно обстоятельство бросало тень на этот сияющий небосвод. Этим облаком, омрачавшим счастье Маргариты, была ее ненависть к г-же д’Эскоман: эта ненависть пережила любовь прекрасной шатодёнки к Луи де Фонтаньё.
Как читатели, должно быть, уяснили себе из только что прочитанного ими, Маргарита, вновь увидев Луи де Фонтаньё и заметив его волнение, скрыть которое полностью молодому человеку не хватило самообладания, смогла рассудить, что у нее, по крайней мере теперь, есть такое влияние на чувства ее бывшего любовника, за какое прежде она готова была отдать половину своей жизни. К своему великому удивлению, она оставалась спокойной, сделав такое открытие; пульс ее не участил своего биения, и лицо ее не вспыхнуло внезапно, как это бывало прежде при одном приближении к ней Луи де Фонтаньё.
Когда сильные чувственные волнения затухают, ничто не приносит утешения тем, кто их испытывал и был при этом унижен; память о них вызывает досаду, они оставляют после себя лишь сожаления. Много раз сетуя на свои прежние чувства к Луи де Фонтаньё и пользуясь выразительным языком, тут же позаимствованным ею в том новом мире, куда она попала, Маргарита называла их своей глупостью. Воспоминание о роли, которую она тогда играла, оскорбляло ее самолюбие — единственное чувство человека, которое усиливается, а не ослабляется при его нравственном падении. Она часто давала себе клятву отомстить за себя и однажды уже пыталась это сделать; вряд ли у нее был бы более подходящий случай, но эта возможность ей представилась, а она была не из тех, что такое упустит.
Маргарита ненавидела Эмму не только из-за боли, которую ее заставляла испытывать время от времени старая рана; возвышенность характера Эммы, проявляемая ею в несчастье, величие ее души, ее мужество, смиренность, благородство чувств, сохраненные ею, несмотря на ее прегрешение, — все эти добродетели, которые Маргарита напрасно пыталась высмеять и извратить, но которым она была вынуждена в глубине души воздать должное, непрестанно жалили ее, возбуждая ее гнев и будоража ее кровь, по природе медлительную и ленивую. Ее возмущало это противостояние красоты и добра злу и скверне. Мужественная маркиза из нищеты своей лавчонки унижала куртизанку в ее дворце, и та не могла ей этого простить. Эта ненависть Маргариты к г-же д’Эскоман служила неопровержимым свидетельством, доказывавшим, что добродетель несчастной женщины пережила ее бесчестье; лучшего доказательства этому она получить бы не могла.
Как и любовь, как и всякое другое возникающее чувство, ненависть оказывает значительное влияние на умственные способности того, кто охвачен ею. Погруженная в навязчивую идею утолить свою жажду мщения и побуждаемая этим новым для нее чувством, беспечная Маргарита проявила теперь столько хитрости и воли, сколько нельзя было от нее ожидать.
Как только Луи де Фонтаньё появился в ее особняке, она приняла его с трогательным радушием и сумела изобразить чувство, совершенно ею не испытываемое. Заговорив об их прошлом, она красноречиво вздыхала. Молодой человек мог подумать, что она ждет лишь одного его слова, чтобы оживить свои любовные порывы, о которых он догадался пожалеть несколько поздно. Чтобы растрогать ее еще больше, он, как все слабохарактерные мужчины, счел необходимым разжалобить молодую женщину своей участью, рассказать ей о тяготившей его нищете и обнажить раны, нанесенные его душе разочарованностью. Но он ошибался: все воспоминания о прошлом заглохли в сердце Маргариты, и его неуместные откровения нанесли ему смертельный удар. Обыкновенно женщины одаривают своей милостью только тех, кто не просит о ней. Маргарита позволила ему встать на этот гибельный для него путь, будучи уверена, что он пройдет под кавдинским ярмом; хорошо разыгранными восклицаниями, с притворной страстью, она поощряла его идти по этому пути все дальше; затем, умело воспользовавшись совершенным им промахом, она принялась превозносить его великодушие, самоотверженность, тем самым принижая в его глазах добродетели, какие он должен был видеть в Эмме. Таким образом она нанесла первый удар по связям, соединявшим бывшего секретаря с его подругой, а затем стала наносить их до того ловко, что вскоре от них осталась лишь одна ниточка.
И в самом деле, Луи де Фонтаньё не замедлил обратиться в одного из самых прилежных посетителей особняка на улице Эльдер. Но случилось это вовсе не потому, что Маргарита вернула ему какое-либо из его прежних прав; она слишком хорошо читала во взглядах молодого человека его душевное нетерпение и извлекла слишком полезный урок из того, что случилось с ее соперницей, чтобы совершить такую оплошность. По ее словам, если она умоляла его приходить к ней почаще, то делала она это для того, чтобы, насколько такое от нее зависело, ее благородная дружба могла утишить печали единственного мужчины, которого она любила на этом свете. В действительности же этими постоянными встречами со своим бывшим любовником Маргарита пыталась разжечь его страсть до такой степени, чтобы нечистые помыслы затмили его рассудок и его зрение и он был вынужден сам принести ей жертву, которую она жаждала.
Мстительный дух куртизанки использовал самые тонкие и изощренные приемы.
Но напрасно она с такой расточительностью поливала масло и в без того неистово пылавший огонь. Среди этой роскоши и этого великолепия, этого изобилия кружев, шелка и бархата, так прекрасно оттенявших ее красоту, в окружении всех этих переливов красок и всей этой позолоты, бросавших на нее свои отблески, Маргарита, восседавшая на обитом атласом ложе с колоннами и балдахином, на которое можно было подняться лишь по ступеням, казалась царицей сладострастия, господствующей в своих владениях, и Луи де Фонтаньё, которого неодолимо влекло к ней, желал лишь одного — быть ее рабом. Что могли поделать воспоминания о бедной Эмме, такой смиренной, скромной, целомудренной и сдержанной даже в упоении страсти, против подобных чисто плотских соблазнов, нацеленных на сердце, которое устало от чистых наслаждений любви! Эти соблазны мутили разум Луи де Фонтаньё, и, если б не остатки у него гордости, он бросился бы к ногам Маргариты, прося ее о милости, в которой когда-то сам отказывал умолявшей его молодой женщине.
Преданная своей тактике, куртизанка прилагала все усилия, чтобы избежать таких опасных для нее излияний чувств. Под предлогом, что подобное знакомство может быть полезно молодому человеку, она представила бывшего любовника господину барону Вердьеру, своему нынешнему покровителю, и всегда устраивала так, чтобы барон присутствовал при ее разговорах с ним.
В то же время она старалась выставить его в дурном свете в глазах г-жи д’Эскоман. Она была вполне уверена в своей будущей победе, но, как и все женщины, любила забегать вперед: булавочный укол в сердце Эммы был для нее предвкушением наслаждений, какие ей предстояло испытать, всадив в него кинжал.
Вот почему, пользуясь своим влиянием на Луи де Фонтаньё, она заставляла его показываться с ней в обществе, сопровождать ее на прогулках в Булонском лесу; вот почему, отправляясь туда, она отдавала своему кучеру распоряжение ехать по улицам, расположенным как можно ближе к улице Сез.
До сих пор любовник маркизы д’Эскоман не показывался у Маргариты в ее приемные дни; но она потребовала, чтобы он присутствовал на ее утренних приемах (она устраивала их из чувства соперничества с одной знаменитой актрисой, слухи о вечерних приемах которой вызывали у нее зависть).
Луи де Фонтаньё обещал ей приехать туда, но чуть было не нарушил своего слова.
Мы были свидетелями того, как Эмма упрашивала его, чтобы он принял решение навестить мать. Сыновнее чувство сохранилось в молодом человеке, невзирая на все его заблуждения, и, по мере того как любовь к Эмме покидала его сердце, оно постепенно занимало в нем свое прежнее место. Поэтому он почти решился во имя долга пожертвовать удовольствием и отправиться в Сен-Жермен, где жила г-жа де Фонтаньё.
Одеваясь, он заметил, что г-жа д’Эскоман необычайно взволнована. Он испугался, не сказала ли ей чего-нибудь о нем Сюзанна, но его слишком страшили объяснения с ней, чтобы самому их вызывать, и он вышел из дома.
Дойдя до улицы Риволи, откуда в те времена отправлялись экипажи в Сен-Жермен, он заметил, что забыл кошелек дома, и ему пришлось возвратиться на улицу Сез; но там он обнаружил двери магазина запертыми, и привратник объяснил ему, что вскоре после его ухода Эмма и Сюзанна покинули магазин, уйдя в разные стороны. Таким образом, он был вынужден перенести задуманную им благочестивую поездку на другой день и машинально пошел по дороге, ведущей к дому Маргариты.
Проходя мимо лавки г-жи Бернье, он увидел в дверях часовщицу; та бросила на него презрительный взгляд, сопровождаемый самой победоносной из ее улыбок. Молодой человек был слишком озабочен своими мыслями, чтобы придавать какое-нибудь значение этому проявлению чувств, питаемых г-жой Бернье по отношению к нему, после того как он выставил ее за дверь, но сильный удар по плечу заставил его остановиться. Обернувшись, он узнал г-на Вердюра, протягивавшего ему руку.
— Мне необходимо с вами поговорить, — сказал краснодеревщик, фамильярно беря Луи де Фонтаньё под руку и уводя в своего рода контору, служившую продолжением его магазина.
— Чего же вы хотите от меня, любезнейший сосед? — спросил его Луи де Фонтаньё.
— То, чего я хочу от вас, довольно трудно высказать, господин Луи, — отвечал ремесленник, почесывая затылок. — Тем не менее не следует судить о моем сердце по тому, с каким трудом оно высказывает свои чувства. Я полон дружеских чувств к вам, господин Луи.
— Я нисколько не сомневаюсь в этом, любезнейший господин Вердюр, и весьма вам за это признателен. Но, уверен, не в это вы хотите меня посвятить.
— Похоже, дела ваши идут неважно, не так ли? — продолжал краснодеревщик, понижая свой голос, от природы громкий, словно у Стентора, с тем чтобы его не расслышали трудившиеся в мастерской рабочие.
— Нет, — отвечал молодой человек, — мы просто хотели продать магазин, но жена сказала мне, что она столкнулась при этом с кое-какими трудностями.
— Черт возьми! Господин Луи, вам следовало бы уступить его с убытком! Да эти плуты обстругают и обдерут вас дочиста, ясно? Уж если они примутся обделывать ваше дело, то, черт побери, не оставят вам ничего, кроме стружки!
— О каких плутах вы ведете речь? — спросил Луи де Фонтаньё, с неподдельным удивлением глядя на мебельщика.
Тот пожал плечами:
— Не таитесь же от меня, господин Луи. Послушайте, я постараюсь вас тут же успокоить. Неужели вы думаете, что можно двадцать лет вести дела без того, чтобы к тебе то здесь, то там не цеплялась эта сволочь, которая теперь взялась трепать вас? Торговец — это та же мебель: из какого бы крепкого дерева он ни был сколочен, все равно его ведет от жары.
Затем, достав из папки связку пожелтевших и грязных бумаг, он продолжал:
— Видите, и у нас найдется даже больше, чем у вас, гербовой бумаги и заморочек! Слава Богу, это отнюдь не бесчестит человека; так что выкладывайте свою тайну.
— Клянусь честью, я не понимаю ничего из ваших слов, господин Вердюр.
— Ну, полноте! Судебный исполнитель уже трижды приходил к вам на этой неделе, это всем известно, с требованием о платеже, а на сегодня назначено наложение ареста на имущество. Черт возьми! Вы думаете, будто от соседей можно что-нибудь утаить? Ну-ну! Да в каждом квартале есть своя полиция, она и государственной полиции нос утрет, — это наши дворники!
— Да нет же, это невозможно! — повторял Луи де Фонтаньё, совершенно ошеломленный известием, которое открыло ему глаза на положение его семейных дел.
— Так, наверное, ваша славная женушка решила скрыть это от вас, — промолвил краснодеревщик, которого это восклицание наконец убедило в неведении Луи де Фонтаньё. — Сделала она это, видать, от доброго сердца, хотя в том, чтобы отступать перед опасностью, никакого проку нет. Да уж теперь все равно, надо быть ей признательной за благое намерение и не расстраивать ее, господин Луи. Поверьте, я от всей души полюбил вашу женушку. Она и тихая, и опрятная, и трудолюбивая, да и к тому же наряжается как герцогиня. Поговаривают, что вы не женаты, а по мне, так это только злые сплетни, и они не мешают мне приводить вашу жену в пример моей супружнице, хотя и она не совсем лишена благородных чувств. Видите ли, господин Луи, таких жен, как ваша, нужно одевать не в красное дерево, не в палисандровое и не в лимонное, а в чистое золото.
По всей видимости, г-н Вердюр мог бы продолжать в том же духе еще целый час.
Но Луи де Фонтаньё его больше не слушал. Он был совершенно сломлен новостью об этом несчастье; в душе его творилось полное замешательство; думал он не столько об Эмме, сколько о себе; он с ужасом видел, как усиливаются невзгоды, которые она терпит из-за него, но одновременно чувствовал, что его обязанности по отношению к ней становятся более неотложными. Внезапно он встал, чтобы уйти, но г-н Вердюр удержал его за руку.
— Мы еще не обо всем поговорили, — произнес он. — На этом свете есть не только судебные исполнители, есть также и друзья. Послушайте, господин Луи, я не богат, но у меня точно найдется где-нибудь билет в пятьсот франков, который может выручить доброго человека в трудную минуту. Воспользуйтесь этим; сказано, может быть, и плохо, ну да я привык работать больше руками, чем языком. Одним словом, если вам понадобятся мои денежки, то рассчитывайте на старика Вердюра.
Луи де Фонтаньё сердечно пожал руку славному ремесленнику и побежал домой. Эмма еще не возвратилась. После того как он узнал о жестоких испытаниях, какие ей пришлось вынести в предшествующие дни, серьезное беспокойство, вызванное ее отсутствием, стало брать в нем верх над его эгоистическими тревогами. В ту минуту, когда молодой человек вышел из прохода к дому, чтобы посмотреть, не идет ли г-жа д’Эскоман по улице, он столкнулся с человеком в черном, который вручил ему уведомление о наложении ареста на имущество и заявил, что он намерен немедленно приступить к выполнению своих обязанностей, а если ему добровольно не откроют двери магазина, вынужден будет призвать на помощь полицейского комиссара.
Луи де Фонтаньё машинально развернул бумагу, протянутую ему судебным исполнителем, и тут же в глаза ему бросилась подпись на этом документе, сделанная довольно крупным почерком.
Бумага была подписана покровителем Маргариты.
Луи де Фонтаньё прочитал ее внимательней. "Госпожу маркизу д ’Эскоман, называвшую себя г-жой Луи", преследовали именно по требованию г-на Вердьера; сомнений быть не могло.
Луи де Фонтаньё радостно вскрикнул и бросился к особняку Маргариты.
Перед его парадным подъездом выстроилась длинная вереница экипажей. С великим трудом Луи де Фонтаньё протиснулся через толпу гостей, и с еще большим трудом сумел подойти к самой хозяйке.
Наконец он увидел ее; она была занята тем, что отдавала окружавшим ее молодым людям, которые исполняли при ней обязанности адъютантов, последние распоряжения по поводу концерта. Он подошел к ней, но она словно бы не заметила его присутствия.
— Маргарита, — проговорил он, склонившись к ее плечу.
Она обернулась.
— А! Это вы, Фонтаньё? — откликнулась она. — Я вам искренне признательна за то, что вы так старательно сдержали свое слово; я было опасалась, что ваша жена (она голосом выделила это слово) не отпустит вас и заставит сидеть подле нее и распутывать с нею мотки ниток.
Окружавшие ее молодые люди, хотя они совсем не знали Луи де Фонтаньё, расхохотались над этой грубоватой шуткой, словно полагая, что с таких прекрасных уст может слететь лишь прекрасная острота.
— Маргарита, — дрожащим от тревоги голосам тихо произнес Луи де Фонтаньё, — мне необходимо переговорить с вами.
— Так что же? Мне кажется, вы уже начали это делать.
Умоляющим взглядом молодой человек показал на тех, кто мог их услышать.
— Как, Фонтаньё, вы просите свидания наедине? На правах старого друга, — промолвила Маргарита, — вы хотите стать виновником того, что барона хватит удар и я лишусь двухсот тысяч франков годового дохода, которые он мне дает?
— Маргарита, умоляю, речь идет о жизни и смерти!
— Вопросы жизни и смерти имеют свое время, мое милое дитя. В данную минуту я полностью принадлежу своим гостям, и даже если бы ваш вопрос касался лично меня, я не покинула бы их из-за такого пустяка.
Маргарита говорила очень громко; многие из окружавших ее молодых людей поклонились ей, а один из них поцеловал куртизанке руку с надетой на нее перчаткой; однако по выражению лица Луи де Фонтаньё Маргарита поняла, что она, несомненно, зашла слишком далеко и что беззаботность, проявляемая ею по отношению к тревогам своего друга, может просветить его, как бы ни был он слеп, по поводу ее чувств, и поставить под удар вынашиваемые ею планы мести.
— Будет вам, не надо сердиться, — произнесла Маргарита и фамильярно взяла молодого человека под руку. — Так уж и быть, мы предоставим вам эту столь срочную аудиенцию, и, заверяю вас, мой сеньор и хозяин не будет этим возмущен, ведь он знает, что вы были моим любовником… Да, господа, я была без ума от этого красавчика и желала бы вам всем, как бы я ни была сейчас на него зла, быть любимыми так же, как он был любим мною; но мой милый барон прекрасно знает, какое доверие должны внушать ему мои принципы!
С этими словами она ввела Луи де Фонтаньё в маленький будуар и прикрыла за собой дверь.
— Так чего же ты хочешь от меня? — спросила она, присаживаясь.
Вместо ответа Луи де Фонтаньё молча протянул ей роковую бумагу; Маргарита прочла ее и наморщила лоб.
— Ну, и что я, по-твоему, должна сделать? — спросила она, закончив чтение и посмотрев, не испортила ли эта грязная бумажка свежести ее перчаток.
— Разве ты не поняла, что это судебное преследование затеял господин Вердьер?
— Он? Бедный мой мальчик, или ты действительно обокрал банкира, у которого ты работал, или же твой хозяин всего лишь трус. Но уверяю тебя, что господин Вердьер даже не знает имени этой дамы.
— Да, конечно. Но в его силах остановить это дело, и одного твоего слова будет достаточно, чтобы он на это решился.
На лице Маргариты появилось выражение, не обещавшее ничего хорошего.
— А если я сам попрошу его об этом? — спросил молодой человек, тревоги которого усилились от молчания Маргариты.
— Поостерегись делать это! — поспешно отвечала она. — Поостерегись, если не хочешь со мною ссоры! Господин Вердьер очень расположен в твою пользу, и именно мне удалось этого добиться, несмотря на сплетни, которые позволяют себе разные дамочки. Послушай, я частенько замечала, что ты совсем не доверяешь сохранившейся у меня привязанности к тебе; ты ошибаешься, она еще сильнее, чем прежде; только она более разумная, она гораздо сильнее той, что испытывает к тебе эта жеманница, вздумавшая поиграть в лавочницу и без всякого смысла втянувшая тебя в такую переделку. Ты считаешь меня ветреной и легкомысленной, а я обеспокоена твоим будущим и, во всяком случае, ничем тебя не запятнала. У меня даже есть для тебя одно предложение, основательное и денежное. Ты услышишь об этом, когда придет время, мой херувимчик. Знай только, что твое будущее полностью зависит от расположения к тебе добряка Вердьера, и бойся какой-нибудь глупостью навредить себе.
— Глупостью, Маргарита? О, ты не подумала о том, что сказала; подумай об ответственности, которая лежит на мне! Конечно, я совершил глупость, но моя честь обязывает меня отвечать за последствия; она не позволяет мне, чтобы маркиза д’Эскоман, после того как по моей вине она была низвергнута в позор, попала бы в нужду и предалась отчаянию. И вовсе не за нее, а за себя я умоляю тебя, — поспешил прибавить молодой человек, заметив, как нахмурились брови молодой женщины, когда она услышала эти его слова.
— Ты оскорбил меня, когда произнес это имя! — воскликнула Маргарита, сверкнув глазами и топнув ногой. — Я всего лишь разумна, а ты хочешь представить меня злой… Я не исполню твоей просьбы, и не исполню ее, потому что люблю тебя, люблю искренно и серьезно. Ты не любишь ее больше; если бы ты еще любил ее, то не пришел бы сюда; однако я не знаю, найдешь ли ты после года этого страшного союза живого человека и мертвого, союза двух несовместимых сердец, найдешь ли ты силы размышлять вслух о том, что ты думаешь наедине с собой. Ты просто ждешь, чтобы произошло какое-нибудь бедствие, способное разорвать эту бессмысленную связь. И вот бедствие произошло, а ты испугался и пришел просить меня, чтобы я помогла тебе передвинуть его на будущее. Повторяю: я этого не хочу. Такое твое будущее, то, что готовит тебе она, меня ужасает. Я хочу упрочить твое положение вопреки ей и тебе; возможно, мне это удастся. Я не настолько глупа, чтобы упустить такой случай, который, представься он, застал бы, возможно, и меня беспомощной тоже. Хочешь денег на свои развлечения? Хочешь существования, достойного твоего имени и твоего места в обществе? Что бы ты ни сказал, все у тебя будет, и твоя чувствительность при этом не пострадает; но, если ты желаешь продлить хоть на один день, хоть на один час нелепое существование, какое ты ведешь, не проси меня пожертвовать самой ничтожной из мелочей, ибо я все равно тебе откажу в этом.
Сказав это, Маргарита ударила веером, зажатым в руке, по столику розового дерева, и так сильно, что веер рассыпался на маленькие кусочки, которые она пренебрежительно оттолкнула ногой.
Ей не удалось победить в молодом человеке ужас, вызванный тяжелыми обстоятельствами, в каких тот оказался; он хотел было возобновить свои мольбы, но Маргарита, в ходе разговора следившая за тем, какое действие оказывают на ее бывшего любовника произнесенные ею слова, и распознавшая на его печальном лице выражение признательности и блаженного доверия, с какими он выслушивал ее полные заботы о нем уверения в дружбе, — Маргарита не дала ему время открыть рот.
— Боже мой! — воскликнула она, тщательно осматривая перед зеркалом свой туалет. — Опять он заставил меня забыть обо всех, как и в те времена, когда заполнял собою весь мир! Но не будем больше искушать злые языки… Подними-ка немного повыше отделку моего лифа.
Отделка эта состояла из цветов и орнамента в виде листьев; чтобы поправить бахрому, Луи де Фонтаньё пришлось просунуть руку между платьем и спиной куртизанки. От прикосновения к этой трепещущей плоти его пальцы задрожали, и одновременно взгляд его встретился в находившемся напротив них зеркале с глазами Маргариты, затуманенными такой зовущей истомой, какой ему прежде еще никогда не приходилось видеть. В тот же миг он забыл Эмму, тревоги, в каких должна была пребывать несчастная женщина, и свои собственные волнения, и, наклонясь к надушенному плечу своей бывшей любовницы, впился в него таким болезненным, таким жгучим поцелуем, что она едва смогла приглушить свой испуганный крик.
Маргарита быстро распахнула дверь в гостиную, где толпились ее приглашенные.
— А что если бы барон подслушивал у дверей? — то ли с досадой, то ли с улыбкой сказала она Луи де Фонтаньё, а потом, пожав ему руку, добавила: — До завтра, мой милый!
Слова эти были сказаны ею таким голосом, что молодому человеку оставалось лишь повиноваться и удалиться.
Изнемогая от множества различных впечатлений, шатаясь, он прошел через толпу гостей. И только в прихожей ему удалось прийти в себя и преодолеть свое волнение.
Что же касается Маргариты, то она не покинула своего будуара. Когда Луи де Фонтаньё удалился, она написала на клочке бумаги несколько слов:
"Оставайтесь глухим к любым мольбам и не давайте никаких обещаний".
Затем, позвав лакея, она отдала приказание отправить эту записку с рассыльным тому самому судебному исполнителю, который в данную минуту должен был производить на улице Сез арест имущества.
XXXIII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПОМОЩЬ ПРИШЛА, КАК И ПОЛАГАЕТСЯ, С ТОЙ СТОРОНЫ, ОТКУДА ЕЕ НИКТО НЕ ЖДАЛ
В то время как происходили только что описанные сцены, Эмма вернулась домой.
Вот уже некоторое время, вспоминая, какие губительные последствия имели для ее слабого здоровья пережитые ею душевные страдания, она сама удивлялась, откуда брались у нее силы, чтобы вытерпеть еще более ужасные муки, чем те, что причинял ей г-н д’Эскоман.
Единственная тайна такого мужества заключалась в ее любви к Луи де Фонтаньё. Она по-прежнему любила его, и ее бедное сердце, дважды потерпевшее крушение, с энергией отчаяния цеплялось за хрупкие обломки, поддерживавшие ее на волнах грозного моря одиночества.
Ее нежность к любовнику была теперь глубже, чем когда-либо прежде. Подлинные чувства не умирают, как и все, что выходит из рук Создателя в дни его милосердия; они изменяются, слабеют, но никогда не покидают сердце, в котором родились.
Поневоле утратив свою слепую доверчивость к Луи де Фонтаньё, Эмма научилась читать его мысли и с чудесной женской интуицией догадывалась, что происходило в его душе; она не пыталась ничего разузнать, гнушалась выяснять достоверные факты, ибо не нуждалась в них. Что значили для нее пошлые подробности измены, если она теряла самое драгоценное свое достояние — сердце своего возлюбленного?
Госпожа д’Эскоман смирилась с тем, что ей пришлось воспринимать как прекрасный сон счастье, основанное на вечности любви, которую в свое время заставил ее ощущать Луи де Фонтаньё. Она плакала, видя, как быстро это счастье закончилось, но не испытывала ни презрения, ни гнева к тому, кто одним вздохом вынудил его столь скоро улетучиться. Она, наконец, поняла неуравновешенность настроения и непостоянство характера этого мечтателя, остававшегося ныне таким же чистосердечным, как и прежде, и испытывала к нему то ласковое и сострадательное чувство, какое мать испытывает к сыну, терзающему ее душу. И когда непомерная боль приводила в лихорадочное состояние ее рассудок, она начинала мнить себя небесным духом, посланным Богом охранять это человеческое существо, которого присущее ему малодушие ввергает в опасность; при этом она была убеждена, что ее миссия не закончится даже тогда, когда ангел смерти явится призвать ее или его, и надеялась к тому же, что если ей первой суждено подняться на Небо, то Бог позволит ей и оттуда оберегать ее возлюбленного. Снисходительная, как и тот, чью роль она на себя взяла, Эмма старалась запастись и его терпением; с болью она заглушала в себе впечатления, которые вызывали в ней ставшие слишком явными прегрешения Луи де Фонтаньё; ей казалось, что настанет время, когда если и не она, то, по крайней мере, разум сможет возобладать над этим изменчивым характером, и, в ожидании этого дня, она старалась, забывая о себе самой, уберегать молодого человека от всех печалей, какие могли бы сделать его жизнь еще более горькой.
Но как же тяжело было для Эммы бремя этих печалей! К отчаянию, раздиравшему ее оставленное в одиночестве сердце, присоединились еще и мучительные материальные тяготы.
В маленьком доме на улице Сез давно уже не хватало денег. Любое опьянение имеет одни и те же последствия. В своем опьянении Луи де Фонтаньё совершенно не сознавал, что происходило вокруг него; он выезжал в свет, и этим светом для него было общество Маргариты; потребности его становились огромными, и они исчерпывали их семейный кошелек. Эмма краснела за это его безразличие, но она оставалась светской дамой, к тому же ей было бы стыдно примешивать столь пошлый вопрос, как деньги, к нареканиям более высокого порядка, и она устраивала так, что этот кошелек никогда не оказывался для молодого человека пустым.
Долги, которые она набрала, накопились, и однажды ей пришлось рассчитаться векселем за покупку довольно значительной партии необходимых ей товаров. Этот вексель ей не удалось оплатить своевременно; она хотела вымолить отсрочку у индоссата, предъявившего ей иск, но этот человек проявил суровость, которую не могла объяснить себе несчастная женщина, не подозревавшая, что за г-ном Вердьером, банкиром, скрывается рука Маргариты.
Эмма тщательно скрывала от своего любовника все свои печали; как мы видели, она настояла на том, чтобы в тот день, на какой было назначено исполнение судебного решения, а именно наложение ареста на имущество, Луи де Фонтаньё поехал к своей матери. Она хотела одна противостоять буре. Возможно, у нее еще оставалась смутная надежда, пережившая все ее разочарования, что ей удастся вернуть возлюбленного при помощи своей самоотверженности и преданности.
Утром этого грустного дня, посвятив верную Сюзанну в новость об ожидавшем их крахе и увидев, что Луи де Фонтаньё отправился к матери, Эмма сама вышла из дома, намереваясь испытать последнее средство. Она отыскала адвоката, защищавшего ее на судебном процессе, и стала настойчиво просить его о денежном займе. Адвокат предложил ей обратиться к г-ну д’Эскоману, находившемуся тогда в Париже. Несмотря на все уговоры законника, Эмма отвергла этот совет.
Вернувшись в магазин, она уже обнаружила там судебного исполнителя и его помощников; в ее отсутствие закон в лице полицейского комиссара позволил слесарю отпереть двери. В последний раз обратившись к ней с требованием уплатить по векселю, на что ей нечего было ответить, чиновники продолжили опись имущества, обмениваясь грубыми замечаниями по поводу красоты молодой хозяйки. Эмма позвала Сюзанну, стала ее искать, но не нашла в доме. В своем отчаянии она вдруг усомнилась в преданности гувернантки.
Непостоянство Луи де Фонтаньё делало в ее глазах возможным все, и, ужаснувшись чудовищности этого ухода, она почувствовала, что мужество оставляет ее, рухнула на стул среди перевернутых картонок и расплакалась.
Вдруг с улицы послышались хорошо ей знакомые шаги кормилицы. Радостно вскрикнув, Эмма бросилась к затворенным дверям, распахнула их створки и упала в объятия Сюзанны.
Гувернантка была бледна, и, тем не менее, пот заливал ее лицо; было видно, что она шла тем быстрым шагом, какой давался ей крайне тяжело и какой она позволяла себе только в исключительных случаях. Она всего лишь поцеловала ту, которую называла своей девочкой, но этот поцелуй, словно безукоризненный сонет, являл собой целую поэму нежности и преданности.
Сюзанна одним взглядом окинула все: и сцену, и действующих лиц.
— Немедленно расставьте все по своим местам, — громовым голосом обратилась она к судебному исполнителю и его помощникам.
И поскольку те насмешливо посмотрели на нее, она добавила:
— Ну же, давайте поторапливайтесь! Раз у меня нашлось, чем заткнуть ваш подлый рот, то найдется и чем пройтись по вашему хребту.
Свои слова гувернантка сопроводила двумя одновременными жестами: одной рукой она бросила на прилавок увесистый мешочек с монетами, до этого скрытый под ее шалью, а другой — угрожающе замахнулась на присутствующих метровой линейкой.
Первая часть этой пантомимы произвела на судебного исполнителя гораздо большее впечатление, чем вторая. Взвесив взглядом брошенный Сюзанной мешочек и оценив его округлость, он обратился к г-же д’Эскоман:
— Чьи это деньги, сударыня?
— Да какое вам до этого дело? Не собираетесь ли вы подумать, будто мы их украли, бесчестный вы человек? — вспыльчиво воскликнула Сюзанна. — Деньги эти принадлежат моей хозяйке, слышишь ты, подлый душегуб!
— Итак, вы подтверждаете, что деньги принадлежат этой даме?
— Конечно.
— Но, Сюзанна, — промолвила Эмма, — по крайней мере, скажи мне…
— Молчите: это сбережения, которые я сделала, работая у вас в услужении, и я только что обратила их в деньги. Вы прекрасно понимаете, что они принадлежат вам.
— В таком случае, — сказал судебный исполнитель, — я налагаю арест на этот кошелек, обнаруженный в доме, где я веду опись имущества. Если в нем нет золота или банковских билетов, в нем не может находиться более трех тысяч франков.
— И что же?
— А то, что ваше долговое обязательство, с которым связаны наши действия, не превышает, разумеется, двух тысяч восьмисот франков, но вместе с издержками эта сумма поднимается до трех тысяч двухсот сорока семи франков, и, чтобы покрыть недостающую сумму, мы продолжим опись имущества, — отвечал судебный исполнитель, верный указаниям, полученным им несколько минут назад от Маргариты.
Сюзанна испустила возмущенный вопль, и, если бы ее не сдержала Эмма, она обрушила бы на лицо судебного исполнителя карающее орудие, каким она была вооружена, в ту самую минуту, когда тот произнес слова, отнявшие у обеих женщин всякую надежду.
— Боже мой! — произнесла Эмма. — Возможно ли, бедная моя Сюзанна, чтобы твоя преданность мне была бесполезна?
— Нет ничего бесполезного на этом свете, не исключая и такого старого негодяя, как я, — послышался вдруг голос позади г-жи д’Эскоман и Сюзанны. — И лучшим тому доказательством, госпожа маркиза, служит то, что Небо второй раз посылает мне счастье быть вам чем-нибудь полезным.
— Шевалье де Монгла! — воскликнула Эмма, обернувшись.
И действительно, на пороге стоял шевалье, приветствовавший хозяйку дома самым почтительным из поклонов, воспоминания о которых могли оставить в его памяти прекрасные времена Версаля, а за ним держался Луи де Фонтаньё, с совершенно расстроенным лицом и блуждающим взглядом следивший за всем, что происходило в маленьком магазине.
— Луи! — воскликнула г-жа д’Эскоман, пытаясь улыбнуться сквозь слезы молодому человеку.
— Тсс! — прервал ее шевалье. — Позвольте мне сначала выпроводить этих пройдох.
Затем, приблизившись к судебному исполнителю, он произнес:
— Итак, сударь, вы говорите, будто вам должны…
— Три тысячи двести сорок семь франков, сударь, — отвечал тот. — Вот документы.
Тыльной частью руки шевалье де Монгла отшвырнул поданные ему бумаги к потолку и, достав пачку билетов по тысяче франков, протянул половину чиновнику:
— Я плачу вам, а кошелек с деньгами верните даме.
— Но… — попыталась возразить Сюзанна, которая желала сохранить свое участие в услуге, оказанной ее госпоже.
Шевалье де Монгла взглядом сделал гувернантке незаметный знак, побуждавший ее хранить молчание; повелительный характер этого знака был смягчен определенным оттенком ласковости, как если бы этот поступок, свидетелем которого он только что стал, несколько сократил расстояние, отделявшее достойного дворянина от старой кормилицы. Затем шевалье обернулся к г-же д’Эскоман и поцеловал ей руку с такой непринужденностью, словно находился в ее гостиной в Шатодёне.
В это время чиновник вернул Сюзанне ее кошелек и пересчитал деньги, которые ему следовало вернуть г-ну де Монгла.
— Вы дали мне четыре тысячи франков, сударь, — сказал он. — Я должен вернуть вам семьсот пятьдесят три франка, вот они.
— Отдайте сдачу вашим людям, — отвечал, не оборачиваясь, шевалье.
— Сударь, — гордо отвечал судебный исполнитель, — мои чиновники получают жалованье и ни от кого не принимают милостыни.
— Ах, вот как! В мои времена они всегда брали взятки; правда, их частенько поколачивали. Революция все это изменила. Но я считаю, что мы больше потеряли от этого, чем приобрели взамен.
В то время как те, по поводу кого шевалье высказывал свои не слишком милосердные сожаления, выскользнули через входную дверь, Луи де Фонтаньё и маркиза д’Эскоман подошли к шевалье и успели пожать ему руки.
— Монгла, — спросил молодой человек, — чем я могу отблагодарить вас за услугу, какую вы только что мне оказали?
— А разве вы не помогли мне в обстоятельствах куда более щекотливых? Вы одолжили мне пятьдесят луидоров, когда они были у вас, а теперь я одалживаю вам двести, поскольку они у меня есть. Да и с каких это пор среди дворян величина услуги стала измеряться цифрами?
— Но каким образом вы оказались у нас так кстати, шевалье? — спросила г-жа д’Эскоман, которая никак не могла объяснить себе ни причины появления г-на де Монгла, ни источника его богатства, казалось сменившего общеизвестную бедность старого прожигателя жизни. — Так Луи знал, что вы сейчас в Париже?
— Госпожа маркиза, даже романистам никогда не сочинить того, что вытворяет случай, когда дело касается неожиданностей. Я шел с визитом к… одному из наших общих друзей. Среди бела дня этот самый друг давал бал, и его лакеи под предлогом, что у меня нет пригласительного билета, хотели просто-напросто выставить шевалье де Монгла за дверь!.. Черт возьми! — продолжал старый дворянин, отдавшись внезапно возникшей у него мысли, — Я никогда не представлял себе, что нужно иметь пригласительный билет, чтобы попасть туда, словно к королю!..
Луи де Фонтаньё бросил умоляющий взгляд на своего старого друга.
— Фонтаньё вышел в ту самую минуту, когда я отбивался от этих негодяев. Он пришел мне на помощь, и, разговаривая с ним, я рассматривал его лицо, обеспокоившее меня. Вы же прекрасно знаете, милейшая сударыня, что наш друг не из тех, кто умеет скрывать свои чувства…
Эмма вздохнула.
— Я тут же учуял, как гончая чует оленя на лежке, что пахнет какими-то заботами; мое сердце давно уже иссохло, и я на самом деле хотел его чем-то освежить; я отказался от мысли наказать лакеев за их опрометчивые действия и решил проводить Фонтаньё. Он не хотел доверить мне своей тайны, но я был уверен, что, придя сюда, сам догадаюсь о ней и к тому же получу удовольствие от возможности возложить к вашим стопам мое почтение, прекрасная сударыня.
— Но знаете ли вы, господин шевалье, — с некоторым смущением сказала Эмма, — что мы долго не сможем возвратить вам сумму, которую вы столь любезно предоставили нам?
— Тем лучше, маркиза! Игорный стол отдохнет подольше. Впрочем, не беспокойтесь о последствиях, какие эта ссуда может иметь для меня. Скоро я буду богат.
— Значит, вы получили наследство? — с любопытством спросил Луи де Фонтаньё.
— Я? Напротив! Те четыре тысячи франков, что я одолжил вам, дорогой друг, это ровно половина денег, оставшихся у меня после того как Провидение приохотило моего последнего дядю к моим кладовым.
— Ах, Боже мой! — воскликнула Эмма в отчаянии оттого, что она предоставила г-ну де Монгла возможность проявить свою дружескую щедрость.
— Я сейчас рассею все ваши сомнения, избрав вас своей наперсницей, если только вы соблаговолите мне это позволить, маркиза. Я прибыл в Париж с целью жениться, — с полнейшим простодушием сообщил шевалье и расправил свой галстук движением, сохранившимся у него еще со времен Директории.
— Вы? Жениться? — всплеснув руками, воскликнул Луи де Фонтаньё.
— По правде говоря, вы невежливы, мой дорогой. Да, в самом деле жениться! Нужно же когда-нибудь с этим покончить. На протяжении двадцати лет из года в год я все откладываю прощание со своей холостяцкой жизнью. Ждать более нет разумных оснований, и вот, клянусь, вы видите, что я уже с этим смирился.
Последние свои слова г-н де Монгла сопроводил глубоким вздохом.
— И на ком же вы женитесь, шевалье?
— Черт возьми! Да не торопите же событий, мой юный друг, погодите! Я сам жду. Как только я узнаю имя будущей госпожи де Монгла, я тут же вам сообщу. С завтрашнего же дня я намерен приступить к поискам и поскольку, ввиду того, что времена нынче суровые, расположен сделать кое-какие уступки по части происхождения невесты, так как мещанская публика, окружающая новую королевскую власть, изрядно алчет титулов, а я обнаружил в своих архивах покоробившуюся грамоту, дающую мне право именоваться графом, то у меня нет сомнений, что в самом ближайшем будущем можно будет представить графиню госпоже маркизе, если только она соблаговолит мне это позволить.
Шевалье говорил так серьезно, что невозможно было сомневаться в правдивости его слов. Проницательность старого дворянина быстро позволила ему обнаружить и грусть Эммы, и смущение, которое испытывал Луи де Фонтаньё, находясь в присутствии свидетеля его прежней бурной страсти, когда стало очевидно, что он так плохо сдержал свои клятвы; гневные взгляды, которые Сюзанна время от времени бросала на молодого человека, помогли ему окончательно разобраться в сложившемся положении; но, обладая тактом и деликатностью светского человека, он воздержался от того, чтобы делать малейшие намеки или вызывать кого-нибудь на откровенность; своей общительностью и веселостью он старался развеять печаль своих друзей.
Шевалье пожелал, чтобы его встреча с ними стала праздником; он проявил при этом такую настойчивость, что Эмма, не зная, как отказать в столь малой милости человеку, оказавшему им столь большую услугу, решила принять приглашение на ужин, который он вознамерился дать в их честь в тот же день.
Выйдя из ресторана, шевалье привел их в Оперу, чтобы завершить там вечер.
Во время антракта шевалье сослался на сильную головную боль и попросил Луи де Фонтаньё выйти вместе с ним; оставив г-же д’Эскоман одну в ложе, они велели театральной служительнице никого туда не впускать.
Господин де Монгла привел Луи де Фонтаньё на бульвар.
— Любезнейший друг, — решительно заговорил шевалье, — я безуспешно старался удержать вас от многих глупостей; буду ли я более удачлив, когда речь идет о том, чтобы помешать вам совершить подлость?
Молодой человек сделал резкое движение, чтобы высвободить свою руку из руки старика, но тот удержал ее с цепкой хваткой и с такой мускульной силой, какой, казалось бы, нельзя было ожидать от человека его возраста.
— Простите, я закончу, — произнес шевалье, — у меня настоящая мания вмешиваться в то, что меня не касается; однако, поскольку я готов обнажить против вас свою шпагу, если вас оскорбили мои слова, и вовсе не претендую на то, чтобы мои седые волосы служили мне громоотводом, я продолжаю. Вы не любите более маркизу, и вас вновь охватила глупейшая из страстей к тамошней распутнице.
— Шевалье, не Эмма ли поведала вам эти глупые сказки?
— О! — отвечал шевалье с непритворным возмущением. — Я слишком уважаю в маркизе светскую женщину, чтобы допустить возможность произносить между нами имя той девки. Мне шестьдесят пять лет, но мои глаза еще прекрасно видят, и это смягчает нелепость моих матримониальных замыслов, ошеломивших вас этим утром. Я прекрасно узнал Маргариту, которая, как и мы, находится в Опере, ярусом выше нашего. Я перехватил ваши взгляды, как бы вы ни старались их сдерживать; не ускользнули от меня и ее бледность, сжатость ее губ, судорожные движения, какими она обрывала лепестки цветов из своего букета, и взгляды ненависти, какие она бросала на госпожу д’Эскоман. К тому же, почему вы утром были у нее, в то время как бедная маркиза находилась в таком страшном положении? Ах, Фонтаньё, не припирайте меня к стенке, иначе моя проницательность станет для вас куда более неприятной.
— А если бы так оно и было, если бы я позволил себе уступить связанной с прошлым прихоти в отношении Маргариты, то вам ли, Монгла, вам ли, кто сотни раз хвастался передо мною своими любовными похождениями, ставить мне это в вину?
— Не надо клеветы, мой мальчик! Пусть я закоренелый негодяй, разбойник, но, клянусь честью, я никогда никого не обманывал; на моем лице всегда можно было читать и все мои достоинства, и все мои пороки; те женщины, которым они нравились, их принимали; если же потом они в этом раскаивались, то могли пенять на себя, а не на меня. Я обещал им только гусарскую любовь, и напрасно бы они требовали от меня чувств и элегий. А вы разве такую роль взялись разыграть в отношении маркизы?
— Но разве я виноват, что не люблю ее больше?
— Не мне ставить это вам в вину; я предвидел подобную развязку еще в ту минуту, когда на кладбище Святого Петра вы рассыпались перед ней в громогласных клятвах, напоминающих "Dies irae"[9]. Но я полагал тогда, что, будучи всего лишь обыкновенным смертным, вы все же будете помнить о своей дворянской чести и придадите некоторое значение тому, чтобы эта бедняжка, положившаяся на вас с такой доверчивостью, не смогла сказать о вас: "Он ведет себя, как…"
— Но что же нужно было делать?
— Быть честным и признаться ей, что произошло с вашим сердцем; такое известие могло бы и убить ее сразу, но с вашей стороны это было бы честнее, чем играть ту роль, какую вы при ней играете, и человечнее, чем заставлять ее сносить муки, какие она испытывает.
— Эмма ничего не подозревает.
— Вы думаете? Ну тогда знайте: ей все известно, я вам ручаюсь в этом, а вот вы, один только вы, не подозреваете 0 том, что происходит у нее в душе. Послушайте, — продолжал шевалье, смягчая голос, — вот вам мой последний совет. Вы не любите более госпожу д’Эскоман; это ее беда, но еще более это ваша беда; однако, за отсутствием любви постарайтесь все же не забыть о долге, к которому вас обязывает ее преданность и ее слабость. Только чувство долга может остановить вас на краю гибельной пропасти, куда вы скатываетесь. Будьте мужчиной, обдумайте свое положение, сохраняя твердое желание быть на высоте; постарайтесь почаще напоминать себе, что вы бедны и что у вас есть два кредитора, с которыми вы обязаны расплатиться: госпожа д’Эскоман, доверившая вам свою жизнь, и бедная служанка, принесшая вам сегодня утром свои последние гроши. Займитесь же трудом и не превращайтесь в Монгла, причем в Монгла без его ухарства, его пылкости и его веселого нрава, которые хоть как-то сглаживали сделки, совершаемые настоящим Монгла с его собственными нравственными началами. И в заключение, дорогой мой мальчик, хочу напомнить вам заповедь из Писания: "Если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось в огонь"; так следуйте же этой заповеди и не возвращайтесь более к Маргарите, коль скоро вы недостаточно богаты, чтобы оплатить и четверть часа из того времени, которое она не сможет вам уделить, не нанеся ущерб своей коммерции… Вы обещаете мне это?
Луи де Фонтаньё склонил голову и не отвечал.
Они прошли еще несколько шагов в молчании; внезапно шевалье остановился и сказал:
— Моя головная боль решительно становится нестерпимой; пожалуй, я не вернусь в Оперу; засвидетельствуйте мои почтения нашей прелестной маркизе и передайте ей мое сожаление, что я вынужден отказаться от чести проводить ее домой. Если вы или она будете нуждаться во мне, я остановился в гостинице "Риволи". Прощайте, любезнейший друг.
И шевалье, не пожав руку молодому человеку, растворился в толпе, а Луи де Фонтаньё вернулся в театр к Эмме, удивившись странной совестливости шевалье де Монгла, появившейся у того на старости лет.
XXXIV ГЛАВА, В КОТОРОЙ НА СЦЕНЕ ВНОВЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗОЛОТОЙ ЛУИДОР
Щедрая дружеская помощь шевалье де Монгла г-же д’Эс-коман оказалась напрасной.
Согласно закону тяготения, скорость падающего тела увеличивается пропорционально квадрату пройденного им пути. Данному физическому явлению соответствует и даже обнаруживается заметнее его подобное же физиологическое явление. Никто не в состоянии измерить чудовищную скорость, с какой несчастье низвергает тех, кого оно преследует, в пропасть, где им предстоит разбиться.
Сначала несчастье поразило Эмму в ее любви; затем, поскольку она не сломилась от этого удара, который вполне мог бы стать для нее смертельным, оно первый раз нанесло удар по ее материальным интересам, и испытания, последовавшие за этим первым испытанием, пошли одно за другим без остановки и передышки.
Она лишилась кредита и растеряла своих покупателей;
любой долг, любое денежное обязательство, какими бы незначительными они ни были, требовали от нее с такой строгостью, с таким чрезмерным старанием, что бедная Эмма не могла объяснить себе это иначе как своим прошлым; избавиться от магазина, покупка которого обошлась ей столь дорого, она не могла; ей удалось избежать банкротства лишь решившись, к своему глубокому огорчению, воспользоваться сбережениями Сюзанны, которые гувернантка ей без конца предлагала с яростной настойчивостью, ибо она никак не могла понять, почему г-н де Монгла получил предпочтение, на какое у нее было столько оснований заявить свои права.
Понадобились эти три тысячи франков и деньги, вырученные от продажи обстановки в Кло-бени, чтобы г-жа д’Эскоман могла достойно покинуть улицу Сез. Эмма так настрадалась в этом жилище, что она покидала его с истинным счастьем, хотя изгонял ее оттуда денежный крах. Для того, кого колесуют, для того, кого удручает горе, всякое изменение положения служит облегчением.
Тем больше оно было облегчением для Эммы. Она входила в скромный дом, нанятый ими на улице Пепиньер, с зародившейся надеждой, что переезд послужит каплей воды, которая освежит ее иссохшие губы.
Быть любимым — огромное счастье, но для некоторых сердец, щедрее одаренных по сравнению с другими, любить самим составляет еще большее счастье. С тех пор как Луи де Фонтаньё стал к ней так невнимателен, так холоден и так равнодушен, Эмма безропотно отказалась от счастья быть любимой, но она надеялась, что Небо оставит ей это утешение — любить самой; она полагала, что этого ей может быть достаточно; она нежила и лелеяла эту несбыточную надежду, основывая на ней все свое будущее.
В душевных болезнях, как и в лихорадке, бывает свое бредовое состояние. Госпожа д’Эскоман испытала уже достаточно жестоких страданий, чтобы утратить ясность своего восприятия; для того чтобы вступить в третью стадию своего существования, она составила план поведения, совершенно невыполнимый как в том, что касалось ее самой, так и в отношении ее любовника.
Она изучала характер Луи де Фонтаньё и, подметив постоянное несоответствие его сердечных влечений с его действиями, пришла к выводу, что он подчиняется непреодолимой жажде стремления к идеалу; она полагала, будто распознает в нем то, что делает человека поэтом и художником, и хотела направить его на путь, как ей казалось, предназначенный ему; Эмма думала, что, давая волю его мечтательным побуждениям, она предохранит его от участи, пугавшей ее, — брести от разочарования к разочарованию; она предполагала, что если сделать его любовницей музу, то его беспокойное воображение, столь пагубное для него в это время, успокоится.
Первая ошибка, совершенная г-жой д’Эскоман, состояла в том, что она смешивала художников, этих трудолюбивых первооткрывателей нашей цивилизации, с бесплодными мечтателями.
Эмма не думала, что далеко не одно и то же — полностью отдаться своему воображению, превратиться в его раба, повиноваться всем его прихотям и лениво идти за ним следом в мир безрассудного и несбыточного или же совладать с этим воображением, обуздать его, собрать его в горнило, откуда, после долгих и тяжелых трудов, может выйти, сверкая, то, что в нем было полезного. В ней было слишком много гордости любящей женщины, чтобы прийти к роковому заключению, что его мечтательность есть лишь проявление его слабохарактерности; недостатки, даже пороки менее страшат в человеке, чем качества, называемые отрицательными и обычно являющиеся признаком душевной вялости. Впрочем, хотя г-жа д’Эскоман и считала, что хорошо изучила своего возлюбленного, она знала его лишь поверхностно; в ней не было достаточной твердости характера, чтобы легко проникать скальпелем в плоть, которую ее любовь сделала своей; она закрывала глаза, боясь, что вид раны испугает и парализует любовь, которую ей хотелось сохранить вопреки всему; она не могла понять, как он, одно время довольствуясь тем, что вошел в ее мысли, затем проник в ее сердце, а потом и в ее чувства; как, накалив их, он поработил все ее существо.
К несчастью, эта ошибка Эммы осложнялась ее другой ошибкой, которой суждено было оказать более прямое воздействие на ее жизнь.
Наряду с ролью наставницы, которая поддерживалась ее слепой нежностью к Луи де Фонтаньё, она вообразила себе еще одну роль, против которой рано или поздно должны были восстать ее женская гордость и сама ее любовь.
В состоянии горестного исступления она в буквальном смысле слова приняла на себя роль матери — единственную, достойную ее привязанности к Луи де Фонтаньё; из страха перед одиночеством она нашла себе прибежище в этом чувстве, составляющем своего рода точную середину между любовью и дружбой. Она решила, не посоветовавшись со своим сердцем, что отныне оно будет довольствоваться этим, и приняла его молчание за согласие. Намерения ее были чисты; она и не предполагала, что ее героическое самоотречение и полнейшая самоотверженность вернут ей целиком этот неустойчивый ум, эту мечущуюся душу; но она была убеждена, что все это склонит ее возлюбленного к будущему, в котором ей виделось для себя лишь одно, чего она желала на этом свете, лишь одно, что она отныне считала укрытием от произвола прихоти, — чистую и бескорыстную привязанность человека, прежде страстно любившего ее.
В то же самое время, когда она пыталась тронуть душевные струны Луи де Фонтаньё, казавшиеся ей такими чувствительными, она старалась вывести его на тот уровень взаимодоверия, что был необходим для осуществления ее замыслов.
Поставленная ею перед собой задача была сложна.
С одной стороны, Эмма видела у Луи немало порывов, но они были чисто внешними и оседали, как пена в стакане; и как ни пыталась Эмма сохранить доброе мнение о своем возлюбленном, ей все труднее было сохранить иллюзию, что он предназначен для великого будущего, о каком она мечтала для него.
С другой стороны, она столкнулась с еще более серьезными препятствиями. Обыкновенно человек, если речь идет о чувствах, понимает только те из них, что он может испытывать сам; такое возвышенное понятие, как бескорыстие в любви, располагалось на таких высотах, какие душе Луи де Фонтаньё никогда не приходилось достигать. Он не поверил в это бескорыстие, увидел в нем ловушку, и его стоявшая на страже подозрительность отказывалась воспринимать любую откровенность, причем с тем упрямством, какое обычно приберегают для лжи.
Эмма вознамерилась вызвать у него то излияние чувств, которое она не получила в ответ на свое великодушие, и если раньше ей хотелось ничего не знать, то теперь ей хотелось знать все. Господин де Монгла более не объявлялся в их доме; она заподозрила, что за его отдалением от них, после того как он дал им такое доказательство своей дружбы, скрывается суровое порицание поведения его молодого друга; она написала ему, чтобы попросить о встрече. Шевалье был слишком учтив, чтобы не ответить ей; но он сослался на свое плохое здоровье, мешавшее ему воспользоваться такой честью.
Сюзанна со своей стороны хранила полнейшее молчание. Тем не менее она знала, что следует думать о причинах охлаждения молодого человека к ее госпоже; мы уже видели, какие изобретательные способности проявляла кормилица, чтобы распознать истину, и на этот раз они не подвели ее; она прекрасно знала секрет все более и более частых отсутствий Луи де Фонтаньё; однако, несмотря на намеченный Эммой материнский план действий, во взгляде, каким встречала маркиза возвращение домой своего возлюбленного, было столько нежности, а одна его улыбка, одно его слово доставляли ей столько радости, что гувернантка опасалась лишить ее этого последнего утешения и изо всех сил старалась не дохнуть на эту хрупкую былинку, удерживающую ее хозяйку над пропастью; напротив, она протягивала ей руку, чтобы не дать ей упасть туда; она вела двойную игру: в присутствии Эммы она была любезна и почти приветлива с Луи де Фонтаньё, а оставшись наедине с ним, позволяла своим глазам наполняться ненавистью, какую она испытывала к нему.
В то время как г-жа д’Эскоман боролась с первыми непреодолимыми трудностями, встретившимися ей при осуществлении ее замыслов, в дом к ней явился опасный гость, о котором сердечные тревоги не давали ей думать.
Этим гостем была бедность.
На этой третьей стадии своего общественного падения Эмма не побоялась взяться за труд мастерицы, который должен был стать единственным источником их существования, но она не рассчитала, что этот источник обычно бывает скуден.
Сюзанна свято последовала примеру своей госпожи. Слабое зрение не позволяло ей помогать Эмме в шитье, но и она вносила свою лепту в общий доход, хотя и скрывала, в чем состояло ее непритязательное занятие.
Луи де Фонтаньё тоже согласился снова занять свою должность у банкира; но наступил день, когда его незначительного жалованья и денег, зарабатываемых обеими женщинами, уже не хватало на домашние расходы.
Несмотря на перемену их положения, Сюзанна сохраняла неизменными все обычаи прежней жизни; и в Кло-бени, и в задней комнате при магазине на улице Сез она накрывала на стол столь же торжественно и тщательно, как это делали когда-то лакеи в особняке д’Эскоманов, и всегда провозглашала особым голосом привычное "Госпоже кушать подано!" со всей высокопарностью, какую эта фраза была способна вместить.
И теперь, поскольку ее новые занятия отнимали у нее лишь вечера, Сюзанна, несмотря на скромность подаваемой ею еды, сохранила эту причуду.
Однажды, закончив все приготовления к трапезе, надлежащим образом расставив тарелки, со знанием дела расположив приборы и поставив на стол два графина с чистой водой, она отправилась в соседнюю убогую харчевню за тем, что у нее называлось обедом для хозяев; через несколько минут она вернулась с пылающим взглядом и перевернутым лицом, изливая свой гнев потоком проклятий.
С большим трудом г-же д’Эскоман удалось добиться от нее причины этой ярости и узнать, что она была вызвана обидой на трактирщика, отказавшего продлить ей кредит, который показался ему совсем не безопасным.
У них еще сохранялись кое-какие остатки от прежнего богатства, но эти обломки кораблекрушения быстро исчезли, и чуть ли не каждый день Эмму одолевала нужда.
В своем отчаянном положении г-жа д’Эскоман более всего беспокоилась о том, чтобы не дать своему другу заметить жалкие уловки, к каким ей приходилось прибегать, и скрыть от него свою постоянную озабоченность ими; однако настал день, когда продавать было уже нечего, а торговцы проявили свою неумолимость, и Эмме пришлось посвятить Луи де Фонтаньё в эти подробности их существования; делала она это со слезами на глазах.
Молодой человек был глубоко взволнован; его мягкосердечие не могло устоять при виде столь горестной бедности; он расплакался вместе с молодой женщиной и нашел для нее утешительные слова, какие она уже давно ждала; он стал просить у нее прощения за то, что вовлек ее в такое бедственное положение; он винил себя, восхвалял ее и в заключение вдруг заявил ей, что беды их скоро прекратятся и их ждет лучшее будущее, причем он говорил так, что вызвал острое любопытство г-жи д’Эскоман.
На следующее утро Эмма отправилась за деньгами к торговке бельем, на которую она работала. Она долго отсутствовала, а вернувшись, казалась очень взволнованной: у нее дрожали и подгибались ноги, лицо было бледным, глаза блестели, и нервная дрожь время от времени пробегала по всему ее телу; казалось, она изнемогала от усилий скрыть свое тайное волнение. Сюзанна с привычной заботливостью принялась ее расспрашивать; г-жа д’Эскоман объяснила это свое состояние, вызывавшее тревогу у ее старой подруги, пустяковым недомоганием и настояла, чтобы та пошла по своим обычным делам. А Луи де Фонтаньё ничего не заметил; казалось, он сам находился в каком-то беспокойстве и тревоге, и его снедала какая-то тайная забота.
Когда они остались наедине, Эмма подошла к молодому человеку и вложила свою руку, горячую и влажную, в его руки.
— Луи, — обратилась она к нему, — вам нечего мне сказать?
Он вздрогнул и пробормотал что-то похожее на отрицание.
— Настоящая любовь пробуждается редко, почему же вы, мужчины, отказываетесь ее замечать?
— Что вы хотите этим сказать?
— Я хочу сказать, что, по моему мнению, вы имели достаточно доказательств того, как далеко может простираться моя нежность к вам, и не следует подвергать меня смертельному оскорблению, показывая, что вы сомневаетесь в ней!
Луи де Фонтаньё в свою очередь побледнел, услышав, что его любовница выражается с непривычной для нее определенностью.
— Послушайте, — промолвил он, — если вы затронете тему упреков, то мы никогда не кончим нашего разговора! В любви упреки это нечто вроде ружейной пальбы, предваряющей основную атаку. Ну же, Эмма, нападайте на меня сразу, чтобы я знал, куда направлена угроза.
— Вы несправедливы, — с грустью отвечала г-жа д’Эс-коман, удивленная легкостью тона, с каким ее возлюбленный произнес эти слова. — Вы несправедливы, но я должна была предвидеть эту несправедливость, поскольку вы разлюбили меня.
— Я разлюбил вас? — с нетерпением возразил Луи де Фонтаньё, желая скрыть им свое смущение, вызванное этим разговором. — Как вы, Эмма, неоспоримое превосходство которой я признаю, можете решиться на то, чтобы пускать в ход доводы разъяренной гризетки? Я вас разлюбил?! Это означало бы, что я забыл ваш благородный порыв, с каким вы уступили любви, которую я имел счастье к вам испытывать, бедствия, какие за этим последовали, ваше бескорыстие и вашу самоотверженность! Вы это хотите сказать? Так вот, я утверждаю, что люблю вас больше, чем когда-либо прежде. Разумеется, моя любовь изменилась внешне, по форме, по тому, как она проявляется; это общий закон, ничто на свете не может не подчиняться ему; но если у меня и нет больше страсти, то нежность моя к вам по-прежнему безмерна; если в ней нет больше весеннего пыла, она, по крайней мере, пустила более крепкие корни. Лишь некоторым деревьям Бог даровал способность оставаться вечнозелеными, лишь некоторым сердцам — способность сохранить аромат юности и любви; ваше сердце, без сомнения, таково; но из этого не следует, что те, кто разделяет людские слабости и немощи, обездолены до такой степени, что они утратили чувство долга и признательности. Разве так уж важна причина, если результат тот же? Разве так уж важно, что не будет более любовной горячки, если сегодня, как и когда-то, я готов отдать свою кровь и свою жизнь, коль скоро они помогут обеспечить ваше счастье?
— Я просила вас о гораздо меньшем, Луи, но тем не менее вы отказали мне.
— В чем же? Говорите!
— Я просила вашего доверия.
— Скажите, когда и как я отказывал вам в нем, Эмма? — спросил Луи де Фонтаньё, невольно краснея.
Внезапная мысль оживила молодую женщину, она покраснела и заговорила дрожащим от волнения голосом:
— Выслушай меня, Луи! Ты не знаешь, до какой степени любовь может преобразить женщину; ты полагаешь, что во мне еще осталась пошлая ревность, но ты ошибаешься. Я была искренна, когда говорила тебе недавно, что Эмма д’Эскоман умерла, умерла, срывая цветы, как шекспировская Офелия; то, что осталось от нее, стало твоей плотью и кровью, страдает лишь твоими страданиями и улыбается лишь твоим радостям. Мне казалось, что если я лишусь этой роли, столь незначительной после той, на какую мне давали право надеяться твои клятвы, то твоя честь не пострадает и наша взаимная привязанность, освобожденная от всех земных уз, переживет нашу любовь. Я никогда не домогалась влияния на твою волю, никогда не следила за твоими поступками; я лишь хотела, чтобы ты делился со мной своими мыслями, и ничего более. В лучшие времена тебе было угодно называть меня супругой, но сейчас я готова отказаться от этого звания; однако я хочу остаться для тебя чем-то вроде сестры, матери, подруги, смирившейся с позорной участью рабыни, лишь бы внимать твоим сладостным откровениям. Но все это, разумеется, оказалось пустой мечтой, ибо после снисходительного молчания, с каким я наблюдала за следствиями немощи и слабости, о которых тобою только что было сказано, ты не посчитался с моим правом быть первой наперсницей счастья, что тебе готовится.
— Что ты хочешь сказать? Я не понимаю тебя.
— Луи, умоляю, даруй мне последнее утешение и доверься моей любви!
— По правде говоря, ты выводишь меня из терпения; я не понимаю, кто мог внушить тебе все эти нелепости.
— Ну что ж, если ты не хочешь говорить, я скажу все сама!
— Говори, я слушаю, — с неистово бьющимся сердцем ответил молодой человек, лицо которого из красного, каким оно было, сделалось бледным.
Наступила минута молчания; Эмма казалась подавленной; дыхание ее было прерывистым; рыдания заглушили ее голос, слезы залили лицо; в отчаянии она запрокинула голову и закричала:
— Я не могу говорить! Не могу!..
— Ну что ж, давайте послушаем эти милые измышления, эту славную клевету, — заговорил Луи де Фонтаньё, к которому немного вернулась его уверенность. — Почему вы не выносите их на суд? Я жду.
Рыдания г-жи д’Эскоман усилились, и он добавил:
— Поистине глупо с твоей стороны доводить себя до такого состояния, ведь я даже не могу предположить, о чем может идти речь…
— О! — воскликнула Эмма с настолько ясно выраженным негодованием в голосе, что молодой человек остановился, совершенно озадаченный, не договорив фразы. — Вы женитесь! — произнесла маркиза, глядя ему в лицо.
Луи де Фонтаньё вздрогнул.
— Вы женитесь! — повторила Эмма дрожащими губами.
— Это ложь!
Госпожа д’Эскоман наклонилась над своей рабочей корзинкой и достала оттуда небольшой пакет с тонкой бельевой тканью и образцами вышитых инициалов с графской короной.
— Вы женитесь! — в третий раз произнесла Эмма. — А поскольку я считаюсь искусной мастерицей, то меня попросили сшить приданое для вашей невесты. Мне сказали, что вы женитесь на богатой, очень богатой сироте. Ну а если вы нуждаетесь в других подробностях, доказывающих, что я обо всем прекрасно осведомлена, то завтра я смогу предоставить их вам.
Луи де Фонтаньё не отвечал, закрыв лицо руками.
— Мне не хочется, чтобы вы могли подумать, будто в эту минуту, когда я так страдаю, я уступила каким-то эгоистическим тревогам. У Эммы нет больше слез для самой себя; и если она плачет сейчас, то не о разлуке с вами, ибо она давно уже ее предвидела; она оплакивает ваше вероломство и ваше двуличие.
Молодой человек бросился к ее ногам, взял ее руки, оросив их своими обильно льющимися слезами.
— Неблагодарный! — продолжала г-жа д’Эскоман. — Неужели ты думаешь, будто у меня сохранились какие-нибудь иллюзии? Неужели ты думаешь, будто от моей любви могло утаиться хоть одно из последствий нашего плачевного положения?.. Можешь ли ты вообразить, чтобы я, увидев, как улетучиваются мои тщетные надежды, не решилась испить чашу до дна? Послушай, я хочу, чтобы ты мог судить о том, очистилась ли эта любовь в постигших меня невзгодах; я хочу, чтобы ты знал о том, что очень часто, еще раньше, я задумывалась о такой развязке, которой неизбежно должна была завершиться наша связь; вместо того чтобы с ужасом отталкивать ее от себя, я призывала ее от всей души, коль скоро оно должно было обеспечить твое счастье. Тебе известно, с каким равнодушием я переношу нищету, если она касается одной меня; и все же мне приходилось сожалеть о своем богатстве, пожертвованном мною во имя нашей общей чести, в те минуты, когда я размышляла о том, что оно чрезвычайно помогло бы обеспечить тебе существование, достойное твоего имени и звания. Повторяю еще раз: не думай, чтобы я винила, осуждала или проклинала тебя, мой вечно любимый Луи! Я упрекаю тебя только в одном — в том, что из чужих уст я узнала твою тайну, на которую я имела право по многим причинам.
— В свою очередь клянусь тебе, Эмма, что, когда я согласился на женитьбу, мысль о тебе преобладала над всем прочим; понимая, что ты погубила себя ради меня, приговорив себя навечно на этот каторжный труд, для которого ты вовсе не создана, я хотел избавить тебя от этого положения.
— Я верю тебе, мой бедный друг, я хочу тебе верить; но прежде всего необходимо устроить на надежных, крепких основаниях твое счастье. Почему ты сомневался во мне? Взор любящей женщины куда проницательнее взора мужчины. Я могла бы удостовериться, найдешь ли ты в своей избраннице все то, что послужит залогом блаженства, которое я тебе желаю. Мне сказали, что невеста твоя молода, значит, она должна быть чиста; она полюбит тебя, — в это мгновение голос Эммы стал почти неслышным, — и я буду молить Бога, чтобы моя любовь к тебе переселилась в ее сердце.
— Но что же будет с тобой, Эмма?
— Зачем тебе беспокоиться обо мне? — отвечала маркиза, невольно сгибаясь под бременем креста, который она решилась нести. — Разве важно то, что происходит с мертвым телом, когда душа разрывает соединяющие ее с ним связи?
Луи де Фонтаньё был поражен отчаянием и горечью, какие звучали в этих словах; он почувствовал искреннее раскаяние, а также сострадание к женщине, прежде так страстно любимой им.
— Не говори так, Эмма! — воскликнул он. — Ни мое богатство, ни мое честолюбие, ни мой эгоизм не должны стоить тебе жизни, ты и так слишком уже много дала мне. Я забываю все и отказываюсь от всего. Давай скорее уедем отсюда. Ты помнишь, как мы были счастливы в Кло-бени? Мы найдем подобное ему пристанище подальше от Парижа, где я сбился с пути; оно будет еще скромнее, чем первое, но это не имеет значения! Я стану работать своими руками, своими руками я буду возделывать землю и, как и ты, смогу заслужить славные трудовые мозоли. Такое мне будет по силам, я почувствовал это, когда ты заронила мне в душу ужасную мысль о твоей смерти. Нет, нет, Эмма, я не желаю, чтобы ты умирала ради меня, я не желаю более, чтобы ты страдала!
Он взял обеими руками голову молодой женщины, наклонил ее к себе, и их губы снова слились в поцелуе.
По выражению его глаз, по звуку его голоса Эмма могла судить, что в данную минуту несчастный Луи де Фонтаньё был с ней искренен.
Она почувствовала, что в душе ее зародилось искушение в последний раз испытать свое счастье; но после стольких разочарований у нее уже не хватало мужества решиться на такое; борьба пугала ее больше, чем смерть, и Эмма отбросила эту мысль; при этом она постаралась найти новые силы в своей измученной душе и попробовала сменить мучительное подергивание губ на улыбку.
— Дитя! — обратилась она к своему возлюбленному. — Кто говорит тебе о смерти? Разве, напротив, не должна я жить и быть счастливой, зная, что ты счастлив, богат и уважаем? Если я тебе сказала, что душа моя покинет мое тело, то это значит: что бы ни случилось, что бы ни произошло с тобой, ничто, мне кажется, не сможет помешать ей преодолеть пространство и последовать за тобой. Ты прав, тебе нужно уехать из Парижа, полного слишком больших опасностей для твоей слабой воли, и укрыться где-нибудь в деревне, но только не со мной, мой бедный Луи, а с той женщиной, которую ты перед Богом и людьми сможешь назвать своей женой.
— Эмма, не произноси этого слова! У меня мутится разум! Боже мой, я впервые заглянул в ужасающую бездну, где мы очутились. Но ты… — с тревогой продолжал Луи, — что станет с тобой?
— Со мной? — отвечала г-жа д’Эскоман, исполненным высочайшей веры жестом простирая руки к Небу. — Я буду молиться.
Луи де Фонтаньё отвечал ей новыми взрывами отчаяния, новыми горестными возгласами; он был настолько удручен, что Эмме пришлось явить собой странное зрелище любовницы, побуждающей своего любовника оставить ее и дающей ему силы бороться с угрызениями совести; она делала это так естественно, с таким забвением собственных мук, что ей удалось внести некоторое спокойствие в душу молодого человека; и тогда, несмотря на страшную боль, которой отдавались в ее сердце каждый из поднятых ею вопросов, она попыталась придать чисто дружеский характер их беседе: она стала расспрашивать Луи де Фонтаньё о его избраннице, о ее семье, об обстоятельствах их знакомства, о мнении г-жи де Фонтаньё, его матери, насчет его невесты, при этом более всего силясь казаться безразличной к тому, что ее так живо интересовало.
Вдруг г-жа д’Эскоман с удивлением заметила, что он испытывает определенное замешательство, отвечая на ее вопросы; одновременно она увидела, что он с беспокойством поглядывает на часы, стрелка которых показывала девять часов.
Смертельный холод пробежал по ее жилам: она поняла, что ожидает Луи де Фонтаньё, она поняла, кто его ждет.
Она громко, протяжно вздохнула, словно несчастный, который долго оставался лишенным воздуха; она задыхалась, ей казалось, что ее кровеносные сосуды вот-вот разорвутся. Лишь после довольно большого промежутка времени ей удалось прийти в себя настолько, чтобы найти силы сказать Луи де Фонтаньё, что она устала от всех этих переживаний, что ей хочется немного отдохнуть и что он может отправиться на свою ежевечернюю прогулку.
Луи де Фонтаньё поцеловал ее, с нежностью сказал: "До свидания" — и вышел.
Эмма беспокойно прислушивалась к удаляющимся шагам на лестнице; оставшись одна, она перестала сдерживать свое сердце, и оно готово было взбунтоваться; каждое поскрипывание деревянных ступеней болью отдавалось в ее груди; она испытывала мучительное желание бежать за тем, кто удалялся, позвать его, просить его о милосердии, вымаливать его сострадание.
Эмма услышала, как со скрипом захлопнулась выходящая на улицу дверь, и звук этот, показавшийся ей зловещим, усилил ее отчаяние; она бросилась к окну, распахнула его и раздирающим душу голосом прокричала имя Луи; но крик ее потерялся среди шума экипажей; она высунулась из окна, надеясь увидеть своего возлюбленного, но улица уже была объята ночной мглой, и ничего нельзя было разглядеть.
И только теперь она смогла оценить несбыточность своих решений, представлявшихся ей твердо установленными, и понять, что воля может быть бессильной по отношению к некоторым чувствам. Ее отклик на это был мучительным: Эмме казалось, что она пробудилась от сна, а снилось ей, что ее постигло какое-то страшное бедствие. Госпожа д’Эскоман спрашивала себя, возможно ли, что она отказалась от человека, который составлял все ее благо, любовь которого стоила ей так дорого, и она отвечала себе, что такого быть не может и сам Господь не мог допустить подобной чудовищности. Ее любовь, остававшаяся спокойной и нежной в своих порывах, воскресла в ней, обратившись в жгучую, неведомую ей до этого страсть, которая пугала ее, но перед которой она не могла устоять. При одной мысли, что тот, кто клялся ей в любви, в эту самую минуту, возможно, находится у ног другой женщины, она чувствовала, как ее охватывает бешеная ненависть, хотя когда-то она не была в состоянии испытывать ненависть даже к своему первому мучителю; вслед за безумными проклятиями и порывами исступления она стала в отчаянии заламывать руки, взывая к состраданию к ней и к нему. Затем мысли ее приняли другое направление: она стала думать о том, что, возможно, никогда больше не увидит того, кого сейчас проклинала; что он поцеловал ее в последний раз; что он почувствовал все происходящее в эту минуту в душе его любовницы и не вернется, чтобы не испытывать напрасные муки возле нее, и что после его "До свидания" ей отныне уже нечего от него ждать. Мысль эта восстановила порядок в чувствах Эммы; она горько заплакала, и гнев ее и все ее злые чувства ушли вместе со слезами; в сердце ее осталась только бесконечная нежность к любимому человеку. Она принялась собирать вещи, оставшиеся после него, и делала это с благоговением матери, собирающей то, что осталось после смерти обожаемого ею ребенка; это были письма, кольцо, какие-то безделушки, хрупкие напоминания о днях ее не менее хрупкого счастья; она взяла все эти вещи, прижала их к груди и осыпала поцелуями; ей казалось, что они хранят на себе следы прикосновения и дыхания ее возлюбленного и посредством их она все еще общается с ним.
Среди этих предметов находился и тот, что был дороже ей всех прочих: это была золотая монета, которую она дала Луи де Фонтаньё в день их первой встречи и которая на следующий день послужила ему столь счастливым талисманом. Эмма вправила ее вместе со своими волосами в медальон, и она и Луи де Фонтаньё прежде носили его по очереди у себя на шее, но, с тех пор как счастливые дни их любви миновали, его повесили над камином, и все же, даже в крайней нужде, она не решалась с ним расстаться.
Она сняла медальон и поднесла к губам, но внезапно у нее вырвался крик удивления: медальон был пуст.
Эмме показалось, что ей это снится, что она теряет рассудок, и машинально, не отдавая себе отчета в том, что она делает, молодая женщина принялась искать вокруг себя луидор, ставший для нее вдвойне драгоценным.
В эту самую минуту на лестнице послышались тяжелые шаги; дверь отворилась, и на пороге показалась Сюзанна.
Эмма была настолько не в себе, что даже не обратила внимания на наряд и поклажу гувернантки, которые выдавали тайну ее занятий, столь тщательно ею скрываемую. На голове Сюзанны был безобразный Мадрас, надвинутый на глаза, на груди у нее висел лоток, выстланный тисовыми ветками, на которых лежало еще несколько цветков, а в руках она держала корзину с тремя или четырьмя букетами.
Все вечера бедная старушка торговала на улице цветами — это было единственное найденное ею средство облегчить нужду той, что она любила, и не лишить ее при этом своих забот и своих услуг.
Эмма бросилась ей навстречу:
— Где моя золотая монета? Та, что была в медальоне! Сюзанна, куда ты дела мой луидор?
— Я принесла его тебе, дитя мое, — отвечала гувернантка, бросая монету на свой лоток.
Эмма с восторгом схватила монету.
— А ты не хочешь меня спросить, каким образом этот луидор попал ко мне в руки?
Эмма в изумлении взглянула на свою старую кормилицу и только тогда заметила, что щеки ее были совершенно мокрыми и их покрывали лиловые пятна, служившие знаком ее глубокого душевного волнения.
— Говори! Говори! — воскликнула г-жа д’Эскоман.
— Так вот, этот луидор, недавно вынутый из медальона, луидор с изображением Карла Десятого, который я не могла не узнать, потому что над головой короля была пробита дырочка, — он сам мне его дал сегодня.
— Он сам?
— Да, он заплатил мне за два букета, которые торопился отнести мадемуазель Маргарите.
— Мадемуазель Маргарите? О! Но это невозможно!.. Ты ошибаешься, Сюзанна!.. Этой женщине?!.. Нет, нет, это не так!
— Если бы это было не так! Понимаешь, этот оказался еще хуже, чем прежний! Тот обладал всеми пороками Сатаны, а у этого есть один, превосходящий их все: подлость. Это так, как я говорю, и ты не можешь, ты не должна больше любить его. О! Сюзанну не обманешь… Как только он бросил на мой лоток этот луидор, как только я узнала монету, которой он должен был дорожить как святыней, я пошла за ним следом — от магазинов, где он делал какие-то покупки, и до дома этой девки; я видела, как он поднимался по лестнице с двумя букетами в руках. Я давно уже знала, что он ходит к ней, однако хотела утаить это от тебя… Но такое переполнило мое терпение, и я решила, что все расскажу тебе сегодня; эта любовь отвратительна, и я могу дать тебе оружие для борьбы с ней — презрение; в этом мире никто, кроме меня, не будет любить тебя так, как ты того заслуживаешь… Давай, попробуй! Этот человек однажды продаст тебя, как он продал твой талисман!
Но Эмма уже давно не слушала свою старую подругу. После первых же слов Сюзанны золотая монета выскользнула из рук молодой женщины и покатилась по полу. Сама же Эмма упала на колени и замерла в этом положении — безмолвная, раздавленная таким разоблачением.
Сюзанна обняла ее, но при первом же ее прикосновении маркиза вышла из своего оцепенения и освободилась от объятий кормилицы.
— Уедем! Уедем! — воскликнула она. — Я боюсь, что если увижу его снова, то возненавижу!
Эмма бросилась на улицу и, не оглядываясь, побежала с такой быстротой, что Сюзанна потеряла ее из виду на втором же перекрестке.
XXXV ЖЕНЩИНА ПРЕДПОЛАГАЕТ…
Эгерии стали встречаться в нынешнее время невероятно часто.
О любовных связях принято рассуждать развязно, и никогда еще им не придавали такого серьезного значения, какое им приписывают в наши дни.
По-другому и быть не может в эпоху, когда все подсчитывается и когда деньги выбрасывают в окно лишь в том случае, если на улице стоит свой человек, который их подберет.
Куртизанке платят тысячу экю в месяц, но если бы от нее получали бы только наслаждение, то трудно было бы уравновесить расход с приходом; поэтому за основу окончательного расчета соглашаются принять другое: молодые — удовлетворение своего самолюбия, а старики — советы.
Много важных и просто разумных людей предоставляют своим любовницам право голоса в вопросах, где обсуждаются частные и даже общественные дела. Лежа с ними в постели, этих дам просят поделиться своими советами, и они всегда удивляют основательностью суждений, каким подкреплено их мнение. За последние пятьдесят лет они, как правило, обратились во влиятельных теоретиков; они голосуют, и их голос, поданный на расстоянии, но in агticulo amoris[10], имеет вес и значимость председательского.
Так постепенно в семейных делах они стали тем же, чем была государственная инквизиция в Венеции.
В этой роли, которую им было позволено играть, более всего они эксплуатировали область матримониальных расчетов, ибо к ней они по вполне естественным причинам ощущали особую свою близость. Мы намеренно употребили слово "эксплуатировать", не желая обвинить этих дам в нелепом бескорыстии. Тем не менее нам следует признать, что это тот самый случай, когда положенное вознаграждение не выплачивается звонкой монетой, хотя дьявол на этом ничего не теряет.
Именно Маргарита, бывшая шатодёнская гризетка, устроила Луи де Фонтаньё законнейший брак, о котором шла речь в предыдущей главе, брак, главная цель которого состояла в том, чтобы сделать молодого человека обладателем такого пустяка, как миллион.
Как раз на перспективу этой блестящей партии и намекала Маргарита, когда она умоляла своего бывшего любовника не восстанавливать против себя, защищая г-жу д’Эс-коман, покровителя гризетки, которому она уже была обязана своим богатством.
Маргарита знала, что Эмма борется с душевными невзгодами и нищетой, но она не находила такую месть достаточной. Ей казалось, что отнять у бывшей соперницы любовника, которого та в свою очередь у нее отняла, — это единственная возможность сравнять ущерб, нанесенный ими друг другу. Легче всего добиться этого она могла, если бы ей было угодно соблазнить Луи де Фонтаньё своей собственной особой; но у него были предрассудки, безоговорочные представления и деспотические наклонности, казавшиеся ей опасными для ее положения; Маргарита боялась, что он не удовлетворится второстепенной ролью, а только такую она и могла ему предоставить; целый год, проведенный ею на положении содержанки — в блаженной свободе, в сияющей роскоши, — позволил ей оценить и то и другое; она стала умелым стратегом в любви и расчетливым финансистом, и ей не хотелось ничего ставить под угрозу.
Пожалуй, только в среде финансистов сохранились совершенно нетронутыми традиции прожигателей жизни прошлого века.
Господни Вердьер, потомственный банкир, в юности нередко странствовал в краях незаконной любви. Среди всего того, что он вынес себе оттуда на память, была и дочь, которой он вместо имени хотел дать одно из тех баснословных приданых, на какое в прежние времена имели право побочные дети принцев крови, приданое, вызывавшее злобу повсюду — от улицы Шерш-Миди до улицы Шоссе-д’Антен.
На г-на Вердьера слишком влиял род его занятий, чтобы он не похвастался подобным прекрасным намерением перед Маргаритой, а та, усмотрев в этом отличный случай сбыть своего Фонтаньё и нанести смертельный удар г-же д’Эскоман, поспешила за него ухватиться.
Некоторые злые языки уже нашептывали банкиру, что Маргарита и молодой дворянин воскрешают, по-видимому, свои прежние отношения, поэтому предложение, сделанное банкиру его любовницей, решительно опровергало эти оскорбительные домыслы, и он принял его с восторгом.
Оставалось только склонить к этому самого Луи де Фонтаньё, без участия которого устраивалась эта сделка.
В жизни человека всегда бывает минута, когда он расположен совершить дурной поступок; и Маргарите приходилось надеяться, что такая найдется и у Луи де Фонтаньё; она выжидала эту минуту с терпением, проявляемым кошкой, когда та хочет схватить мышь.
Луи де Фонтаньё весь растворился в ней; пожиравший его огонь желания горел в его глазах; Маргарите приходилось одновременно ослаблять и упрочивать его пыл; однако она чувствовала, несмотря на всю свою власть над молодым человеком, что ей будет трудно подвести его к такому смелому решению, если она будет добиваться этого грубо.
И Маргарита принялась приготовлять почву при помощи искусного сочетания двух совершенно различных чувств Луи де Фонтаньё.
Вдруг она перестала нападать на Эмму и начала ее оплакивать; она чрезвычайно растроганно говорила о бедственном положении несчастной женщины и произносила волнующие проповеди о хрупкости человеческих судеб. Она не возлагала на Луи де Фонтаньё напрямую ответственность за невзгоды его любовницы, но дала ему понять, что очень скверно и очень досадно, что у него не хватает мужества сделать г-жу д’Эскоман счастливой, завоевав для нее богатство, которого она была лишена из-за него.
Это было то самое время, когда на улице Пепиньер продавали последние жалкие безделушки, чтобы обеспечить пропитание их владельцам.
Такое резкое несоответствие действительности и его постоянных раздумий настолько удручало Луи де Фонтаньё, что Маргарита это заметила; без труда она выведала его секрет и рассудила, что настала минута нанести решающий удар; медлить она не стала. Несколько лживых слов и немного слез взяли верх над его нежеланием. Ослепив Луи де Фонтаньё целым каскадом банковских билетов, она вскружила ему голову и тут же заставила его просить у г-на Вердьера руки его дочери, на что тот, разумеется, согласился.
Вот таким образом обстояли дела. Однако Маргарита так спешила насладиться своей победой, что чуть было не поставила ее под угрозу. Это она дала торговке бельем заказ на мнимое приданое, потребовав, чтобы изготовление его было поручено мастерице по имени г-жа Луи. Так что по ее воле бедной женщине пришлось плакать раньше времени.
Между тем Луи де Фонтаньё еще не видел своей невесты; свидание было назначено на тот самый вечер, о событиях которого было рассказано выше. У него не было и согласия матери на его брак; он известил о своей женитьбе г-жу де Фонтаньё, но не получил ее ответа.
Ложные ситуации всегда вызывают головокружение; в какую бы сторону ни бросал Луи де Фонтаньё взгляд, повсюду он видел лишь бездну, и потому он пошел прямо, чтобы не свалиться в нее. Он много думал о том, чтобы посоветоваться с шевалье де Монгла, но боялся насмешек старого дворянина.
Утром в день свидания с невестой крайне незначительное обстоятельство еще более утвердило молодого человека в правильности принятого им решения. Этот день был приемный у Маргариты; обычно молодой человек не придавал особого значения своему костюму, но в столь торжественных обстоятельствах невозможно было позволить себе идти в каждодневной одежде. В отсутствие Эммы он провел осмотр своего туалета и обнаружил, что в нем не хватает многих предметов, представляющих для светского человека то же, что металлический колпачок на пробке — для бутылки шампанского.
А в кармане у него не было ни одного су.
Потерять миллион из-за отсутствия пары перчаток! Такое показалось ему одновременно нелепым и ужасным, столь ужасным, что эта навязчивая мысль заглушила в нем угрызения совести, время от времени все же тревожившие его душу с тех пор, как вопрос о его женитьбе был решен им вместе с его будущим тестем и Маргаритой.
Он принялся искать, не осталось ли в доме чего-нибудь такого, что он сумеет в этих крайних обстоятельствах обратить в деньги.
Золотая монета, первый подарок г-жи д’Эскоман, был единственным сколько-нибудь ценным предметом, уцелевшим после их разорения.
Он снял со стены медальон, раскрыл его и остановился в нерешительности.
Но сердце его перестало ощущать ту бесконечную тонкость чувств, что заставляет уважать святыни. Всякий беспорядок, даже беспорядок в чувствах, порождает снижение нравственности. Молодой человек не думал ни о суеверии, которое он когда-то связывал с этим талисманом, ни о происшествии, которое столь чудесным образом оправдало это его верование, ни о цене, которую Эмма могла придавать тому, чтобы сохранить эту святыню. Сейчас это был лишь кусочек золота, и ничего больше. Будучи человеком неукоснительно честным, он стал обдумывать, действительно ли эта монета принадлежит ему. Он вспомнил, как в первый день их связи, в гостинице Лонжюмо, в обмен на этот луидор, который Эмма захотела повесить ему на шею, он вручил ей монету такого же достоинства. Тогда все его сомнения рассеялись, он смело вынул монету из ее стеклянной рамки и при этом улыбнулся, подумав, что когда-то он был обязан этому луидору жизнью, а теперь, возможно, будет обязан ему богатством.
Остальное уже известно; не узнав Сюзанну, он заплатил ей этой монетой за два букета: один из них предназначался Маргарите, а другой — девушке, которую коварная куртизанка предназначала ему в жены.
Несмотря на ожидавшее ее богатство, дочь барона Вердьера явно принадлежала к тому разряду общества, что весьма метко названо полусветом и состоит из лиц, исторгнутых из высших слоев общества вследствие каких-либо проступков; тех, кто носит на себе позор внебрачного рождения; и, наконец, старых греховодниц, которым необычность их положения предписывает определенную сдержанность: вынужденные соблюдать правила приличия, они не могут больше поддерживать знакомство с теми, что продолжают пускаться во все тяжкие.
К этой последней категории и принадлежала мать юной особы. И потому пришлось пустить в ход все дипломатические приемы, чтобы склонить ее к позволению устроить свидание молодых людей в доме Маргариты. В подобных обстоятельствах ее показная стыдливость подкреплялась естественной ненавистью старой женщины — к молодой, прежней любовницы — к новой.
Луи де Фонтаньё застал Маргариту в сильной растерянности. Барон Вердьер обещал приехать к ней обедать, но хотя обед был готов к шести часам и присутствие барона было необходимо, он еще не появлялся. Маргарита не была знакома с третью гостей, толпившихся в ее гостиной; мать невесты, злоупотребив разрешением, предоставленным ей бароном, пригласила кого ей только вздумалось в этот дом, где, несмотря на присутствие его нынешней владелицы, бывшая любовница чувствовала себя почти как под собственной крышей. Так что Маргарита пребывала в замешательстве, которое она с трудом скрывала.
Все это создавало некоторую напряженность в обстановке вечера.
Впрочем, и Луи де Фонтаньё не пребывал в достаточно ясном расположении духа, чтобы изображать приветливость. В результате странной противоречивости его характера, по мере того как он приближался к осуществлению замысла, с которым ему пришлось согласиться, в нем начали воскрешаться чувства, казавшиеся ему уже угасшими, и представший перед его глазами образ г-жи д’Эскоман, вернув себе прежнюю власть над ним, внес в его душу тревогу и угрызения совести.
До этой минуты невозможность повернуть вспять, а также упрямство, свойственное слабохарактерным людям, придавали ему некоторую твердость; но по мере того как это решение приобретало характер свершившегося факта, решительность его ослабевала, выгоды этой женитьбы отступали в тень, а ее нежелательные последствия приобретали очертания и смысл; воображение Луи опережало у него чувство; в голове его витал такой хаос мыслей, что молодой человек шатался как пьяный, когда, взяв под руку Маргариту, он вошел в кружок, посреди которого сидела дочь барона Вердьера.
Это была молодая девушка лет двадцати, собой ни хороша и ни дурна, как и подобает богатой наследнице. В ее юных чертах уже ощущалось влияние пагубной обстановки, в которой она жила. На лице ее, хотя и расцвеченном румянами и белилами, угадывалась болезненная бледность, присущая тем, кто страдает малокровием; глаза ее, подкрашенные для того, чтобы усилить их блеск, сохраняли свойственное им безучастное выражение.
Луи де Фонтаньё едва посмотрел на свою невесту. Уже несколько минут взгляд его замер, остановившись поверх плеч окружающих его дам; он только что заметил желчное и насмешливое лицо шевалье де Монгла, а для него оно воплощало прошлое. Он отделился от тех, кто его окружал, и направился к своему другу.
Шевалье де Монгла, прислонившись к косяку входной двери, с философским выражением на лице наблюдал за блистательной толпой, заполнявшей гостиные Маргариты.
Луи де Фонтаньё протянул ему руку, и шевалье пожал ее, не изобразив на лице ни досады, ни удовольствия от встречи со своим молодым другом.
— Какого черта говорят, что во Франции нет больше знати! — обратился г-н де Монгла к нему. — Вот уже полчаса как я стою здесь и вижу, что самый незначительный или самая незначительная из тех, чье имя торжественно объявляет этот лакей, имеет право на баронскую корону. Знаете ли, любезнейший друг, я сожалею о том, что заранее не принял графский титул; я не хотел им бравировать до тех пор, пока не появится особа, с которой я его разделю. А теперь я страшно стыжусь своего скромного звания перед лицом такой крупной аристократии.
Молодой человек покраснел до корней волос. Шевалье сделал вид, будто не заметил этого, и продолжал разговор тем же безразличным тоном; он говорил о лошадиных бегах, о политике, об отсутствии маркиза д’Эскомана — его удивляло, что он не видит маркиза в гостиной Маргариты, — словом, обо всем, только не о женитьбе Луи де Фонтаньё.
А тот слушал старика с нескрываемым нетерпением; он не надеялся услышать одобрения из уст шевалье и заранее предвидел его мнение о своем поступке, но все же испытываемая им потребность услышать о том, что его заботило, и оправдаться как в глазах г-на де Монгла, так и в своих собственных, подталкивала его к тому, чтобы заставить старого дворянина нарушить молчание.
— И когда же вы последуете моему примеру, шевалье? — спросил он с притворной беспечностью.
— Э! — откликнулся шевалье. — Я постарше вас, а потому вам нечего удивляться, что я не так быстро шагаю.
Поколебавшись, молодой человек заговорил снова, но уже приглушенным голосом:
— А как вы находите мое решение, Монгла? Вы одобряете его?
Шевалье улыбнулся, но не ответил.
— К чему ваша улыбка? Почему вы отказываете мне в ваших советах, хотя сегодня я более чем когда-либо в них нуждаюсь?
— Дорогой мой Фонтаньё! Если вы придавали моему мнению хоть малейшую цену, то отчего же не пришли выслушать его раньше? Мне слишком мало времени остается жить, чтобы тратить его попусту. Наконец — и это последний пункт моего трехчастного ответа, — я сею только для того, чтобы собирать плоды. Вы удовлетворены?
Сдержанность, проявленная г-ном де Монгла, и его нежелание раскрывать свои мысли не смутили Луи де Фонтаньё: решимость его пошатнулась, и он искал опору, хватаясь за эту дружескую руку в надежде, что она поможет ему в его слабости. Молодой человек старался убедить шевалье, будто принимает предложенное богатство лишь с одной целью — избавить Эмму от невзгод их ужасающего положения; он пытался придать своему малодушию блеск героизма.
— И вы действительно верите в то, — прервал его собеседник, — что госпожа маркиза д’Эскоман примет что-нибудь от мадемуазель Миллион? Вы удивляете меня, я не думаю, что это в ее характере.
— Но в конце концов, — в заключение сказал Луи де Фонтаньё, как если бы он приберег напоследок довод, казавшийся ему решающим, — мой дорогой шевалье, я делаю лишь то, что, по вашим словам, замыслили сделать вы сами.
— О мой юный друг, давайте без сравнений! — отвечал шевалье. — Я уже много раз вам объяснял, что я представляю собой исключение из общего правила. Я не человек, а порок; если дьявол протянет мне свою руку, я приму ее, и рассудительные люди найдут, что мой поступок не лишен смысла. Но в мои двадцать пять лет, когда единственным средством к существованию у меня был солдатский мушкет, а будущее сулило мне жизнь наемника… О сударь! Тогда я и за миллион не смог бы забыть, что имею честь быть дворянином.
От тяжести этих суровых слов Луи де Фонтаньё опустил голову.
— На самом деле, — продолжал г-н де Монгла, — вы заставили меня забыть о моем решении хранить молчание; вот уже добрых двадцать минут, как вы висите на ниточке в ожидании, что вас окатят ведром холодной воды, как это делают в наших деревнях; но если вас обольют грязью, то пеняйте только на себя.
— Я полагал, шевалье, что ваша дружба, которой вам было угодно меня почтить, давала мне право просить ваших советов.
— Советов? В порядке исключения я дал вам совет, потому что предчувствовал вашу слабодушие и полагал, что если вы не получите надежную поддержку в жизни, то это слабодушие повредит всем вашим блестящим качествам. Но вы меня вовсе не послушались, и я не ошибся в моем предвидении. Вы не сумели совладать со своими страстями, сделались их игрушкой; вы подчинились им, не имея сил, так же как и я, поставить их себе в услужение. Вы доверились посулам своего воображения, вы жили в мире мечтаний и только теперь на собственном горьком опыте постигаете реальность жизни. Несмотря на мои пороки, я сумел сохранить какое-то уважение к себе других людей; при вашей же слабой воле вам трудно будет жить сколько-нибудь достойно. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, вы погибли и обречены пасовать при малейшей трудности. Во мне вы вызываете лишь заурядный интерес, проявляемый к игроку, на которого больше не делают ставок.
— Шевалье! Не торопитесь осуждать меня! — воскликнул Луи де Фонтаньё.
В эту минуту доложили, что ужин подан, и Маргарита знаком показала молодому человеку, чтобы он предложил руку дочери г-на Вердьера и проводил ее в обеденный зал.
Молодой человек замешкался; в его душе разыгралась последняя битва между чувством чести, которое в нем наконец пробудил разговор с г-ном де Монгла, и своими жизненными затруднениями.
Нахмурив брови, Маргарита с гневом взглянула на шевалье, которого она считала виновным в том, что молодой человек вдруг на ее глазах переменился в лице.
Внезапно Луи де Фонтаньё почувствовал, как кто-то сзади с силой схватил его за руку; он обернулся и увидел Сюзанну, которая воспользовалась минутой, когда слуги находились в обеденном зале, и, бросившись между лакеем, докладывавшим о приходе гостей, и г-ном де Монгла, ворвалась в гостиную.
В забрызганной грязью одежде, с растрепанными волосами, блуждающим взглядом и пеной на губах старуха предстала перед блистательным собранием, словно привидение.
— Где она? Где она? — кричала Сюзанна, неистово тряся Луи де Фонтаньё.
Молодой человек сделался мертвенно-бледным; он понял, что речь шла об Эмме, и почувствовал, что произошла страшная катастрофа.
— Выбросьте эту сумасшедшую за дверь! — приказала Маргарита, сразу же узнавшая гувернантку г-жи д’Эско-ман.
Но старая кормилица не слышала ее и никого не замечала, кроме Луи де Фонтаньё.
— Где мое дитя? — кричала она ему. — Она умерла! Умерла из-за тебя! А у тебя в это время праздник, ты улыбаешься и веселишься у ног этой дряни! Подлец! Какой же ты подлец! Неужели тебе неведомы угрызения совести? Почему я не могу отдать тебе свои?.. Да, это я подтолкнула этого ангела чистоты и добродетелей к преступлению, признаюсь в этом перед всеми; это я отдала ее в руки этого негодяя. Мне казалось, что я спасаю ее, а на самом деле я ее погубила. Я убийца, как и он. Я убила своего бедного ребенка!
При этих словах Сюзанна стала бить себя рукой, остававшейся у нее свободной, в лицо и грудь.
— Боже мой! Если бы только знать, где найти ее, может быть, я поспела бы вовремя! Одно его слово — и она будет жить!.. Но нет, она уже мертва! Когда я бежала по набережной и смотрела на реку, мне почудилось, как что-то подсказало мне: она там! Но не думай, подлец, что ты насладишься своим преступлением, ты последуешь вместе с нами в ад, который нас ожидает!
При последних словах Сюзанна выхватила из-за пояса небольшой нож, которым она обрезала цветы, и нанесла сильный удар Луи де Фонтаньё. Лезвие прошло сквозь одежду и слегка задело грудь молодого человека.
Все присутствующие закричали; дамы закрыли лица руками, а шевалье де Монгла вырвал оружие из рук Сюзанны, готовившейся снова нанести удар.
— Схватите ее, схватите ее! — закричала Маргарита в приступе бешенства.
— Пусть никто не прикасается к этой женщине! — воскликнул Луи де Фонтаньё и бросился между Сюзанной и слугами, намеревавшимися ее схватить. — Она имеет полное право поступать так; она сказала правду: я поступил с ее госпожой как подлец.
Исчерпав все свои силы в этой сцене, Сюзанна упала на ковер; она лежала неподвижно, без всяких поползновений к бегству, не произнося ни слова; только тело ее судорожно вздрагивало и зубы скрежетали.
Луи де Фонтаньё обхватил ее руками и попытался поднять.
— Вам теперь надо выполнять другой долг, — сказал ему г-н де Монгла, — оставьте эту женщину, я сам позабочусь о ней.
Молодой человек понял слова шевалье.
Бросившись к лестнице, он крикнул ему "Прощайте!".
— Да нет же, до свидания! — возразил шевалье, с сильнейшим сочувствием пожимая руку молодому человеку.
— Если вы имеете хоть какое-нибудь отношение к этой глупости вашего друга, то я вас не поздравляю, — вполголоса сказала Маргарита шевалье, в то время как два лакея выносили Сюзанну и усаживали ее в фиакр, который велел подогнать г-н де Монгла.
— Ба! Эта глупость уже принесла ему счастье!
— Что вы хотите этим сказать?
— То, что она помогла ему избежать разочарования.
— Я не понимаю вас.
— Разочарования при виде миллиона, исчезающего в ту минуту, когда ему казалось, что тот уже лежит в его кармане.
— Почему же?
— Да потому что один друг семьи Вердьеров минуту назад заверил меня, что между пятью и половиной шестого вечера бедный барон скончался от апоплексического удара; и вполне возможно, что он забыл оставить завещание.
Маргарита вскрикнула и сделала все возможное, чтобы упасть в обморок, но шевалье не стал ожидать успешного окончания этой сцены, отвесил хозяйке дома самый учтивый из своих поклонов и поторопился к Сюзанне.
Луи де Фонтаньё всю ночь провел в поисках Эммы; он продолжал эти поиски еще больше месяца, сначала в Париже, потом в его окрестностях; но, несмотря на все его усилия, ему не удалось обнаружить следов г-жи д’Эскоман.
XXXVI О ТОМ, КАК НЕ СТОИТ ПОЛАГАТЬСЯ НА СТАРИКОВ
Барон Вердьер оставил после себя завещание.
После того как Луи де Фонтаньё дал ей новое доказательство того, что она называла несостоятельностью его характера, Маргарита вовсе не беспокоилась, упомянул ли богатый банкир свою незаконную дочь в завещательном распоряжении или нет; большее значение она придавала иному — упоминается ли там она сама.
И она не обманулась в своих надеждах.
Ее покровитель пожелал и после смерти оставаться таким же щедрым, каким он был при жизни. Каждой из любовниц, украшавших его жизнь, он определил в завещании некоторую часть наследства: как и на Небесах, лучше всех оказались наделены те, что явились последними. Доля Маргариты была превосходной; барон оставил ей значительную сумму, вполне достаточную для обеспечения благополучия дюжины семейств.
Однако Маргарита не была счастлива.
Честолюбие щемило ей сердце; у нее остались неприятные воспоминания о злополучном вечере; она была глубоко оскорблена несколько презрительным отношением к себе большого числа людей, которых она поила своими шербетами и кормила своими петифурами.
Когда в женщине затухают страсти, весь остаток ее жизненных сил находит себе прибежище в ее самолюбии.
Не будучи умной, Маргарита была достаточно проницательна, чтобы понять, что, как бы мало ни был щепетилен свет, ему все же требуется видимость почтенности у человека, дабы оправдывать свое уважение к нему; для того, чтобы завоевать эту видимость почтенности, ей следовало прежде всего не называться больше Маргаритой Жели, ведь от имени зависит невероятно много.
Феникс сжигал себя, чтобы восстать из пепла; женщины, подобные Маргарите, выходят замуж, чтобы возродиться. Говорят, что феникс приобретал в огне молодость и вечный блеск своего оперения; однако, сколь ни легко подсчитать все, что такие дамы теряют, окунувшись в этот источник Ювенты, никто не утверждает, будто столь же легко оценить, что они там приобретают.
Но никакие известные примеры не отвращали Маргариту от этого шага; она, в свою очередь, хотела унижать; ей необходимы были имя, титулы и гербы на дверцах кареты, чтобы раздавить тех, кто ее чернил; она была готова рискнуть всем, чтобы завоевать это.
Нужно отдать ей справедливость: ее первая мысль была о человеке, которого она прежде любила; но никто не видел больше Луи де Фонтаньё. Первое время его еще встречали в Париже — исхудалого, осунувшегося, озабоченного и настолько погруженного в свои мысли, что он не узнавал знакомых. Но потом он вдруг исчез. Маргариту уверяли, будто его видели в Сен-Жерменском лесу на прогулке с пожилой дамой и юной девушкой. Она несколько раз выбирала целью своих прогулок павильон Генриха IV и на террасе выставляла напоказ свои вдовьи наряды, ленты и вуали, выражая тем самым свою признательность умершему великодушному покровителю; но она ни разу не встретила там любовника маркизы и решила, что он, вероятно, отыскал ее и они вновь переживают пасторальную идиллию в каком-нибудь никому неведомом пристанище. Маргарита дала себе слово выведать у шевалье де Монгла, когда она его увидит, так ли все обстоит на самом деле, ибо, невзирая на ее личные заботы, злопамятность в ней еще не утихла.
Между тем она рассудила, что, как говорится, за неимением монахов монастырь не должен бездействовать; она открыла двери своей гостиной, и туда сбежалась толпа ее поклонников. И хотя она позаботилась удалить из числа приглашаемых к ней гостей тех мужчин и женщин, присутствие которых могло бы дать повод к предположению, что ей хочется возобновить свой прежний образ жизни, вскоре она заметила, что вовсе не руки ее жаждут самые услужливые ее обожатели.
Этот новый удар по самолюбию разъярил Маргариту.
Горы не сдвигались с места, чтобы идти к ней, и тогда она сама пошла навстречу им. Но, к несчастью, горы эти были чрезвычайно строптивыми: они отступали по мере того, как Маргарита приближалась к ним; если же они проявляли себя покладистыми, Маргарита обнаруживала, что горы эти картонные — другими словами, благородные рыцари, охотно бросавшие ей под ноги свои плащи, оказывались мошенниками.
По мере того как она обнаруживала свои притязания, вокруг нее образовывалась пустота: одни уходили, покатываясь от смеха, другие — пожимая плечами; но все словно сговорились не возвращаться к ней. Маргарита обратилась в опасный подводный камень и расценивалась как таковой на карте Нежности парижских любовных приключений.
Однажды вечером Маргарита осталась одна; задумавшись о неприятных последствиях своего честолюбия, она заключила, что если решение по-прежнему будет запаздывать, то осмеяние, эта гражданская смерть женщины из мира любви, начнет подгонять ее кончиком своего крыла; страшась всякого рода кончины, она спрашивала себя: почему, если французы так привередливы, ей не накинуться на иностранцев, которыми она прежде пренебрегала; поэтому она взяла карту Германии и стала искать, на каких курортах этой страны могут находиться самые богатые залежи мужей.
В это время ей доложили о приходе шевалье де Монгла; Маргарита встрепенулась, и на память ей пришел Луи де Фонтаньё.
В шевалье уже не было той спесивости, какую мы видели в нем в тот день, когда он излагал маркизе д’Эскоман и ее возлюбленному свои завоевательные планы; он стал мрачен, хотя частые вспышки веселого настроения прогоняли его печаль, словно действуя от имени полувековой беззаботной жизни, не оставившей на лице старого дворянина почти ни одной морщины.
Он едва ли не почтительно поцеловал руку Маргариты. Господин де Монгла принадлежал к той эпохе, когда почитание мундира, каким бы скверным ни было мнение о том, кто его носил, доходило до скрупулезности.
Маргарита тут же завела разговор о самых обыкновенных предметах; потом она ловко перевела его на Шатодён, на их общих знакомых, на господина маркиза д’Эскомана, остававшегося одним из ее поклонников. А уж от г-на д’Эскомана она самым естественным образом перешла к его жене.
Но как ни ловко она рыла подкоп, с таким опытным противником, как шевалье, приходилось ждать какого-нибудь подвоха. Маргарита и получила его в виде насмешек, которые старый дворянин не пожалел для нее, когда она, чтобы оправдать свое любопытство, заговорила о живейшем участии, проявляемым ею к несчастным влюбленным. Она не добилась своего и не выяснила ничего из того, что ей хотелось узнать.
Неожиданно шевалье заявил, что он собирается удалиться; несмотря на то, что у нее появились дополнительные основания быть им недовольным, Маргарита стала теперь слишком дипломатична, чтобы не протянуть ему еще раз руку и не попросить его заходить к ней почаще.
— Как бы мне этого ни хотелось, я не могу связать себя обещанием вернуться, — ответил г-н де Монгла.
— Отчего же?
— Посмотрите, — произнес шевалье, подавая Маргарите визитную карточку, на которой после слов "Граф де Монгла", заставивших затрепетать сердце молодой женщины, она прочитала слова: "В знак прощания". — Я приготовил карточку, чтобы отдать ее вашему привратнику на случай, если бы не имел счастья застать вас дома.
— Так вы граф? — со вздохом спросила бывшая гризетка.
— Вы достаточно хорошо меня знаете и не можете заподозрить, чтобы я взял титул, носить который у меня нет никакого права.
— И вы уезжаете?
— Несомненно.
— Вы возвращаетесь в Шатодён?
— О! Совсем нет. Я еду… путешествовать.
— В Германию, быть может?
— Немного дальше.
— Скажите же, куда, меня уже сутки тянет сесть в почтовую карету; возможно, я решусь сопровождать вас.
— Не думаю.
— Говорите же, шевалье; мне надоели ваши загадки. Если страна, куда вы едете, привлекательна, то, клянусь честью, я отправлюсь с вами. Говорите же, там веселятся?
— Одни утверждают, что там спят, другие — что там мечтают. Я узнаю об этом завтра.
— Должно быть, вы увидитесь с Луи де Фонтаньё?
— Ох! Бедный малый! Что вы такое говорите? Очень надеюсь не застать его еще там, куда я отправляюсь сам.
Маргарита взглянула на шевалье с изумлением и испугом: она поняла его слова. Шевалье расхохотался.
— Ну да, — сказал он, — завтра, между одиннадцатью часами утра и полуднем я пущу себе пулю в лоб. Я необычайно рад, что вы, приставив мне нож к горлу, вызвали меня на откровенность. Теперь вы обязаны завтра в назначенный час вспомнить обо мне, и, клянусь вам, очаровательная сударыня, что такая общность мыслей необычайно облегчит последние минуты моей жизни.
— Да вы сошли с ума!
— Я прошу Бога, чтобы я еще часов двенадцать оставался сумасшедшим.
Маргарита глубоко задумалась.
— Простите, прелестная красавица, — продолжал г-н де Монгла, — но мне еще предстоит съесть три обеда, расплатившись за них такими же тремя карточками, что и ваша: мне не хотелось бы оставить о себе память как о человеке, который не умел жить.
— Шевалье де Монгла, — внезапно заговорила молодая женщина, — чувствуете ли вы какое-нибудь отвращение к женитьбе?
— Смотря по обстоятельствам.
— К женитьбе на богатой женщине.
— Всю свою жизнь я старался победить свои антипатии к женитьбе; в подобном случае, я думаю, они не устоят.
— Даже если бы эта женщина звалась Маргаритой Жели?
— Почему бы нет?
— Тогда не убивайте себя, шевалье, вот вам моя рука.
Казалось, г-н де Монгла не был ни удивлен, ни взволнован.
— Ах, — откликнулся он, — стыдно было мне, человеку находчивому, не догадаться, что вы ищете себе мужа. В самом деле, милейшая красавица, вынужден вас заверить, что вы нигде не найдете титул за меньшую цену; мне шестьдесят семь лет, я несколько склонен к апоплексии, которой вы и так уже стольким обязаны; и, как бы это ни выглядело со стороны, из нас двоих вовсе не я, возможно, получу от этой сделки большую выгоду; ведь, само собой разумеется, ни вам, ни мне ничего другого и не нужно.
Маргарита кивнула в знак согласия.
Господин де Монгла встал и откланялся.
Мадемуазель Маргарита Жели поднялась и сделала перед ним реверанс: все было решено.
Подобное решение старого дворянина, хотя и принятое in extremis, все равно вызвало всеобщее осуждение. Парижские друзья г-на де Монгла отвернулись от него, не дав себе труда изображать притворство, когда они его избегали.
Впрочем, сам шевалье нисколько не выглядел обеспокоенным; к тому же он был настолько занят, что ему было не до таких пустяков; все свое время шевалье делил между официальными визитами, которые он наносил своей красавице-невесте, и чрезвычайно долгими застольями, которые ежедневно устраивались им в нижней зале гостиницы, где он проживал, в компании с незнакомым господином весьма отвратительной наружности, со дня решения о женитьбе следовавшим за ним как тень.
Маргарита светилась от радости; она достаточно знала свет, чтобы оценить всю силу того, что совершалось; она ожидала увидеть самых негодующих в тот день, когда госпожа графиня де Монгла будет давать свой первый бал. Однако она никак не могла привыкнуть к характеру будущего супруга. Шевалье ухаживал за ней со всей учтивостью, принятой в XVIII веке, но при этом сохранял свой обычный насмешливый тон, и часто молодой женщине приходилось хмурить брови от колких намеков, которые позволял себе старый дворянин, несмотря на то что он из предосторожности всякий раз приукрашивал свои остроты и прикрывал их шипы цветами галантного обхождения.
Но это не было помехой, способной уравновесить преимущества, которые Маргарита находила в предстоящем ей союзе. И вот настал день, когда этому союзу предстояло свершиться. Свадьба должна была пройти без особого блеска. Маргарита даже отказалась от белого подвенечного наряда, на что она в своем качестве девицы имела право претендовать, как и любая другая; но это вовсе не означало, что ей не следовало быть красивой, и Маргарита заказала себе необычайно роскошный туалет, хотя наслаждаться его зрелищем призваны были только четыре свидетеля, которые должны были сопровождать супругов, и почтенный магистрат, которому предстояло соединить их руки.
В день свадьбы г-н де Монгла, по-видимому, не особенно торопился. Назначенный в муниципальном совете час давно уже прошел, но ни жених, ни его свидетели не появлялись.
Молодая женщина, которую совершенно не мог развлечь разговор с двумя шестидесятилетними прихлебателями, завсегдатаями всех гостиных, где пьют и едят, выбранными ею для того, чтобы они сопровождали ее в ратушу, проявляла сильное нетерпение и выдавала свой гнев тем, что нервно и безжалостно комкала в руках дорогой носовой платок, отделанный кружевами.
Наконец раздался стук колес подъехавшего экипажа, и почти тотчас же на лестнице послышался громкий голос г-на де Монгла; минуту спустя он уже входил в гостиную, ведя под руку элегантного молодого мужчину, в котором Маргарита узнала маркиза д’Эскомана.
Маргарита сильно побледнела и вспомнила, что до сих пор ее будущий супруг не называл ей имен выбранных им свидетелей; в странном предпочтении, отданном им ее бывшему любовнику, она заподозрила какой-то злой умысел.
Прежде чем невеста оправилась от изумления, г-н де Монгла подошел к ней и заговорил самым естественным и самым непринужденным тоном:
— Простите меня, прекрасная графиня, если я заставил вас ждать; но такой сюрприз этого стоит! Я думаю, во всех ваших расчетах выгод, какие вам может предоставить муж родом из прошлого столетия, вы не учли его неизменной предупредительности по отношению к вашим самым сокровенным желаниям, и я решил выразить свое несогласие с этим вашим упущением. Я знал, что для вас не будет ничего более приятного, чем увидеть свидетелями нашего счастья наших старых друзей, поэтому и пресмыкался перед ними, чтобы побудить одного покинуть маленькое королевство Дюнуа, а другого — освободиться на один день из-под строгого материнского надзора. Мне без труда удалось уговорить первого, а что касается другого… Эх, черт возьми, да вот же он, — продолжал г-н де Монгла, указывая на появившегося в дверях Луи де Фонтаньё, — определенно, Небо на моей стороне и помогает мне!
Маргарита по очереди смотрела на обоих героев ее былых похождений; лица их составляли удивительный контраст.
Господин д’Эскоман нисколько не был смущен ролью, представленной ему играть подле его бывшей любовницы его другом Монгла, — в комедии, по завершении которой куртизанка должна была получить звание порядочной женщины. Его, казалось, вовсе не стесняло присутствие человека, который дважды был его соперником. Маркиз отвечал холодным, но весьма учтивым поклоном на приветствие, с каким Луи де Фонтаньё обратился ко всем присутствующим, и горячо пожал руку старому дворянину, что служило добрым предзнаменованием для их будущих отношений.
Напротив, Луи де Фонтаньё, по-видимому, было вдвойне неловко: он старался не стоять возле выказывавшего свое равнодушие маркиза и опускал глаза, когда они встречались со взглядом Маргариты.
Маргарита прекрасно поняла, что ей следовало думать о любезном добродушии г-на де Монгла. В предумышленности, с какой он поставил ее лицом к лицу с ее прошлым в тот самый час, когда она собиралась дать клятву от этого прошлого отречься, ей виделось объявление войны. Сначала она замешкалась, поднесла было руку к лентам шляпки, намереваясь сбросить ее, и открыла рот, чтобы заявить о своем отказе от чести стать графиней де Монгла, но затем, покраснев от своего малодушия, презрительно взглянула на этого человека, дряхлость которого, как ни щадили его годы, все же сильно давала себя знать, и наградила его улыбкой, полной одновременно негодования и угрозы.
Господин д’Эскоман предложил ей руку; но Маргарита воспользовалась мгновением, когда он, отвечая на какой-то вопрос г-на де Монгла, отвернулся, и быстро схватила за руку Луи де Фонтаньё, вовсе и не намеревавшегося ее подавать.
По дороге из дома в мэрию, из мэрии в церковь и во время обеих церемоний молодой человек был необычайно взволнован; он то чрезвычайно бледнел, то сильно краснел, губы его дрожали, а дыхание прерывалось; хотя было и не так жарко, несколько раз ему приходилось утирать пот на лице.
Тем не менее Маргарита до сих пор еще не сказала Луи де Фонтаньё ни слова; казалось, она была охвачена вполне естественным волнением; ее глаза, полные истомы, были обращены к Небу, куда губы ее посылали горячие молитвы; однако, несомненно по чистой случайности, взгляд молодой новобрачной упорно искал небесные сферы в той стороне, где находился Луи де Фонтаньё.
Выходя из ризницы, Луи де Фонтаньё и новоиспеченная графиня де Монгла оказались на несколько мгновений в стороне от всех присутствующих; Маргарита склонилась к молодому человеку и шепнула ему несколько слов, которые мог слышать только он один. Волнение Луи де Фонтаньё усилилось; забыв о святости места, где они находились, он схватил руку Маргариты, поднес к губам и страстно поцеловал.
Она быстро отдернула свою руку и обернулась к мужу с торжествующей улыбкой женщины, чьи желания исполнились; тот подошел к ней, подал ей руку и повел к ожидавшей их карете.
Госпожа де Монгла, отвечая на любезности старого дворянина, в то же время не сводила глаз с Луи де Фонтаньё. Несколько мгновений он пребывал в нерешительности, которая свидетельствовала о борьбе, разыгравшейся в его душе, а затем круто повернулся и пошел в направлении улицы Сент-Оноре с видом человека, уклоняющегося от битвы, в которой силы его и противника были бы неравными.
Сияющее лицо Маргариты сразу опечалилось.
— Как? — воскликнула она. — Господин де Фонтаньё нас уже покидает?
Господин де Монгла посмотрел в ту сторону, куда указывал взгляд Маргариты, и, изображая величайшую снисходительность, бросился догонять беглеца, в то время как г-н д’Эскоман, от которого не ускользнуло ничто из этой сценки, корчился в приступе гомерического смеха, сидя на скамейке своего экипажа.
— Черт побери! Мой юный друг, с вашей стороны кощунственно истощать последние силы несчастного новобрачного моих лет, — сказал г-н де Монгла Луи де Фонтаньё, настигнув его после нескольких минут быстрого бега.
Молодой человек обернулся.
— Какая муха вас укусила? — продолжал старик. — Неужели вы теперь боитесь прекрасных глаз, некогда так любимых вами?
— Нет, — отвечал молодой человек. — Но я обещал матери вернуться к вечеру; а перед тем как возвращаться в Сен-Жермен, я хотел бы навестить Сюзанну в лечебнице, куда вы ее поместили.
— А как здоровье Сюзанны? Вам это известно? Со всеми своими брачными терзаниями я был вынужден оставить ее без моего внимания.
— Увы! Сумасшествие ее доходит до бешенства, — отвечал Луи де Фонтаньё.
— Но за ней там хороший уход, а поскольку она никого не узнает, то ваше посещение не принесет ей никакого утешения; вы вполне можете перенести свой визит на другой день. Послушайте, поворачивайте обратно и возвращайтесь. Графиня приказала мне доставить вас живым или мертвым, и, клянусь вам, мой мальчик, я боюсь ослушаться ее сегодня, ибо слишком дорожу прелестями предстоящей ночи.
— Нет, шевалье, — отвечал молодой человек, называя своего старого приятеля его прежним титулом, — я не пойду с вами.
— Послушайте-ка, любезнейший Фонтаньё, вы сошли с ума или намерены зародить во мне странные подозрения. Я хотел, чтобы вы и д’Эскоман были свидетелями на моей свадьбе, поскольку относился к вам с полным уважением и был уверен, что вы будете смотреть на Маргариту только как на жену вашего старого друга; поскольку надеялся, что ваше присутствие удостоверит ее отречение от прошлого; поскольку полагал, что Маргарита со своей стороны, видя свидетелями приносимых ею новых клятв тех, кто был сообщником ее первых прегрешений, укрепится в решимости вести порядочную жизнь, безусловно внушенной ей именем, которое она отныне будет носить. Так что же произошло между нею и вами?
— Не спрашивайте меня ни о чем, я не стану отвечать вам; оставьте меня, дайте мне удалиться в свой тихий угол. Довольно с меня угрызений совести, лишающих меня покоя, нарушающих мое душевное равновесие; довольно с меня призрака, призрака той, что умерла, терзающего меня днем и ночью. Если у вас остается ко мне хоть немного сочувствия, Монгла, умоляю вас, оставьте меня: чаша уже переполнена, еще одно терзание — и я не выдержу.
Луи де Фонтаньё произносил эти слова с необычайным возбуждением. Господин де Монгла выслушал его, и лицо старого дворянина, вместо удивления, которое, казалось бы, могли вызвать загадочные слова молодого человека, отразило чуть ли не нежность к нему.
— Ну хорошо, хорошо, мой бедный мальчик, — сказал он, пожимая руку молодому человеку, — я уважаю вашу деликатность и не принуждаю вас делиться со мной тем, что я и так прекрасно понимаю. Вы пользуетесь столь дорого приобретенным вами опытом и поступаете правильно; ваш уход есть не что иное, как первый бой, который вы даете самому себе, и, убегая, вы поступаете правильно. Отчего только вы не поступили так пол года тому назад? Теперь бы вы не мучились угрызениями совести, о каких вы мне говорили только что.
Луи де Фонтаньё вздохнул и вытер слезы.
— Но в конце концов, — продолжал г-н де Монгла, — вам не следует заходить слишком далеко в ваших терзаниях; не так уж вы виновны, как вам кажется; скорее это не ваша вина, а вина вашего века. Мы в свое время тоже увлекались любовью, но вас еще в детстве убаюкивали бабушкиными сказками, в которых любовная страсть играет столь большую роль, что вы захотели познать ее; вы не стали ждать, пока она придет к вам сама, а принялись ее искать, вы сами придумали ее, нуждаясь в ней, и сделали это в том возрасте, когда ваше сердце еще не окрепло настолько, чтобы она могла пустить там глубокие корни, а только такие и позволяют ей выжить; модный ныне сентиментализм вводит вас в заблуждение по поводу той зрелости ума и души, что необходима для развития сильных чувств и для возможности выдерживать борьбу, обычно являющуюся их следствием. Десятью годами позже вы, вероятно, не осмелились бы на ту глупость, от которой я вас пытался предостеречь; а если бы вы и совершили ее, то, наверняка, она имела бы не такую скверную развязку. Впрочем, десятью годами позднее любой дурной поступок был бы вполне извинителен и для несчастной маркизы, — философски добавил г-н де Монгла.
— Если бы только она была жива! — воскликнул Луи де Фонтаньё. — Понимаете ли, эта мысль, что она лишила себя жизни из-за меня, будет отравлять остаток моих дней.
— Я сто раз говорил вам, что она жива; уж если такой старый безбожник, как я, и такой молодой дурак, как вы, и могли бы решиться пустить себе пулю в лоб — осмысленно или от отчаяния, то не думайте, что женщина, подобная вашей Эмме, женщина любящая и верующая, бросится в воду словно какая-нибудь влюбленная прачка; она не сделает этого, пока у нее остается на этом свете любовь и вера, пусть даже только в Бога. Я сто раз вам это говорил и сегодня же подтвержу свои слова.
— Как? Монгла, неужели вы видели ее?
— Да нет же; но с неделю назад ко мне явился совершенно незнакомый человек, весьма ловко уклонившийся от всех расспросов, и вручил мне четыре тысячи франков, которые я был счастлив одолжить маркизе д’Эскоман несколько месяцев тому назад.
— Но нужно было пойти за ним, Монгла; нужно было узнать, кто он!
— Нет, я дал ему слово ничего не предпринимать, чтобы выяснить это. Я даже обещал ничего не сообщать вам о нашем с ним разговоре; но поскольку вы сегодня удостоили меня своей откровенности и признались, что призрак маркизы терзает вас по ночам, то я хотел бы утешить вас и заверить, что это призрак ласковый и улыбающийся, какой она была прежде, а вовсе не призрак мертвеца. Она не умерла, и, возможно, когда-нибудь мы снова увидим ее. Кто знает, сегодня вы были на моей свадьбе, а я, вполне возможно, когда-нибудь приду на вашу.
Луи де Фонтаньё был так счастлив освободиться, наконец, от терзавшей его мысли о смерти Эммы, что не придал большого значения этим сказанным как бы между прочим словам, хотя старик намеренно сделал на них ударение; молодой человек бросился на шею своему старому другу, расцеловал его и простился с ним. Господин де Монгла направился к особняку Маргариты. Вид у него был такой, словно его менее всего на свете огорчила собственная прозорливость, позволившая ему все предугадать; он шел, довольно насвистывая старинный мотивчик, лихо заломив шляпу на седой шевелюре и искоса поглядывая на прохожих, позволивших себе улыбнуться при виде выразительной пантомимы, в которой его молодой друг рассыпался перед ним в благодарностях.
XXXVII ПЕРВАЯ БРАЧНАЯ НОЧЬ ГОСПОДИНА ДЕ МОНГЛА
Хотя г-жа де Монгла была огорчена и чуть ли не оскорблена внезапным уходом Луи де Фонтаньё, она была слишком спесива, чтобы показать это; у нее были слишком твердо установленные планы, касающиеся роли, которую ей хотелось предоставить своему нынешнему мужу в их супружеской жизни, чтобы она изменила собственное поведение, утратив того, кто должен был стать в ней главным действующим лицом. И Маргарита обратила на г-на д’Экомана всю благосклонность, которую с утра она приберегала для второго из своих официальных любовников.
Маргарита была так обворожительна в своих великолепных нарядах, что, невзирая на раны, нанесенные его самолюбию, маркиз, отбросив мысли об этом, весело принял дарованное ему наследство; он охотно согласился на то, что от него ждали, — немедленно занять предложенное ему место чичисбея.
Господин д’Эскоман разделил свадебный ужин с новой супружеской четой, во время которого он пускал в ход весь пыл присущей ему любезности и с помощью уместных в этих обстоятельствах шуточек заставлял хохотать новобрачную, чем, казалось, ничуть не обижал своего друга Монгла.
Ужин, хотя число его участников свелось к трем, затянулся далеко за полночь; г-н д’Эскоман проявлял к Маргарите предупредительность, вне всякого сомнения напоминавшую ей прежние счастливые дни; сама же Маргарита, казалось совершенно забыв о своих утренних предпочтениях, великодушно одаривала его своими взглядами, напоминавшими те, какими она пыталась одержать верх над решением, по-видимому принятым Луи де Фонтаньё по отношению к ней.
Господин де Монгла продолжал проявлять полное равнодушие ко всему происходящему вокруг него; он читал газету и, казалось, не прислушивался к разговору Маргариты и маркиза, который они вполголоса вели уже несколько минут. Они были так увлечены друг другом, что не заметили на губах старика ироничной складки, указывавшей на то, что старый дворянин не так уж настроен, как это могло показаться, исполнять пассивную роль, какую ему предназначали его жена и его друг.
Наконец наступил час, когда г-ну д’Эскоману следовало удалиться.
Господин де Монгла и его супруга проводили маркиза до дверей гостиной; старик сердечно пожимал ему руку, а Маргарита строила с ним превосходнейшие планы на то, чем занять завтрашний день.
Когда супруги остались одни, они уселись в кресла друг против друга; Маргарита сияла радостью, а граф был задумчив.
— Не правда ли, наш дорогой д’Эскоман — очаровательный кавалер? — спросил г-н де Монгла. — Я думаю, вы такого же мнения, графиня?
Госпожа де Монгла взглянула на мужа: тот говорил вполне серьезно.
— Да, — ответила она.
— Поистине жалко, что при столь привлекательном складе ума у него совсем неразумное сердце.
— Я не понимаю вас.
— В моих словах нет никакой загадки. Очевидно, предоставляя ему гостеприимство в моем доме, я поставил себя под охрану этого гостеприимства, а он в течение всего вечера ставил себе задачей доказать мне, будто для него это китайская грамота.
Графиня де Монгла громко рассмеялась.
— Значит, вы ревнуете? — спросила она.
Господин де Монгла расхохотался вслед за супругой; если бы кто-нибудь посторонний их услышал, он, должно быть, подумал, что молодые супруги весело начинают свой медовый месяц.
— Вы не великодушны, графиня. С вашей стороны жестоко напоминать мне о моей немощи. Чтобы ревновать, нужно быть влюбленным; сердце мое и хотело бы любить, но столько всего запрещает мне это!
— Но если вы не ревнуете, отчего тогда придаете такое значение нескольким заурядным любезностям, высказанным в мой адрес господином д’Эскоманом?
— Послушайте, графиня, давайте будем друг перед другом откровенны; ответьте честно на мои вопросы, и я в свою очередь открою вам свои намерения, тем самым избавив вас от настоящих неприятностей… Доверяете ли вы мне?.. В конце концов, вы прекрасно понимаете, о чем я хочу вас спросить.
— Но к чему этот вопрос?
— Вы отвечаете вопросом на вопрос; но на самом деле это я должен первым начать бой, коль скоро вызвал вас на него. Итак, я намереваюсь сказать вам, что если бы мы оба были молоды и оба были богаты, то ничто бы не преобладало над моим желанием быть вам во всем приятным, даже если бы вы относились не столь сурово к заурядным любезностям, о каких мы только что говорили… Вы отлично понимаете, что я подразумеваю… Следуя известным примерам, которые я уважаю и почитаю, и всем правилам хорошего тона, я мог бы выказать себя сдержанным и снисходительным; но мы находимся в совсем ином положении. Вы молоды, а я стар; вы богаты, а я беден; если я буду терпеливо сносить то, что несправедливая публика не преминет назвать вашей распущенностью, то она и не преминет утверждать, будто граф де Монгла увенчал свою… бурную жизнь самым гнусным расчетом!.. Достаточно того, что об этом подумают, но я не желаю, чтобы об этом еще и говорили.
— Но, — с высокомерием возразила Маргарита, — разве между нами не было договоренности, что мы заключаем сделку?
— Да, и это справедливо поскольку мы действовали словно два законника; я законник честный; такое бывает редко, но случается. Поэтому я и не хочу двусмысленности в создавшемся положении. Ваше прошлое сомнительно, как такое называется в делах. Но я принял его без всяких разбирательств; я предоставил вам право носить мое имя, и Маргарита Жели исчезла; я возложил на вас корону, которой будут оказывать почтение, не интересуясь тем, чью голову она покрывает; однако для всякого порядочного человека — а я таковым являюсь, как бы оно ни казалось, — было совершенно ясно, что я не для того сделал вас графиней де Монгла, чтобы вы бесчестили это имя, как вы обесчестили имя Маргариты Жели, и не для того, чтобы вы принуждали меня искать двенадцать жемчужин этой короны в сточной канаве; и я надеялся, что, сколь ни сильны ваши симпатии к господину д’Эскоману, в вас будет достаточно такта и деликатности и вы поймете, что слишком дорого было заплатить за свою жизнь ценой того, чтобы стать вашим мужем, и не захотите превратить меня в вашего… надеюсь, вы прекрасно понимаете, что я хочу этим сказать.
— И каким же способом вы намереваетесь помешать тому, чего вы так сильно боитесь? — с пылающим взором, с раздувающимися ноздрями, в бешенстве и с вызовом отвечала Маргарита.
— Спасибо за ваши слова; в них я читаю одновременно признание и объявление войны. А теперь извольте выслушать меня, дитя мое, — с полнейшим спокойствием продолжал г-н де Монгла. — Прежде, в добрые старые времена, когда дворянин получал одно из тех тяжких оскорблений, что может искупить одна лишь смерть, когда грубая рука наносила ему удар по лицу, этот дворянин брался за шпагу, в поединке пронзал грудь обидчика, окунал руку в кровь, бежавшую из его раны, и омывал ею свое лицо… Нет такого позорного пятна, которое нельзя смыть кровью, — запомните это, графиня де Монгла, и остерегайтесь, чтобы я не забрызгал ею ваше платье!
Старый дворянин говорил с совершенно несвойственной ему интонацией в голосе; она звучала угрожающе, как похоронный звон, и произвела на Маргариту сильное впечатление. Она ответила ему лишь взглядом, полным ненависти, а потом позвонила горничным, чтобы удалиться в свою спальню.
В присутствии слуг г-н де Монгла вернулся к присущему ему беспечному поведению, злословию и старомодным любезностям, причем с живостью, ужаснувшей Маргариту больше, чем это могли сделать его угрозы; она трепетала от страха, в то время как он желал ей доброй ночи и отпускал по поводу своего возраста точно такие же приятные шутки, как это делал вечером г-н д’Эскоман.
Маргарита поторопилась удалиться в свою спальню, а тем временем ее муж добрался до отведенных ему покоев, расположенных в антресолях; там его уже ждал таинственный незнакомец, частый посетитель его прежнего жилища; личность эта не вызвала никакого любопытства среди домашней прислуги, принявшей его за камердинера их нового господина.
Оставшись наедине с горничными, Маргарита совершенно не стала подражать выдержке, образец которой дал г-н де Монгла. Она дала полную волю своему гневу, рвала на себе муаровое платье, выдергивала из волос цветы, служившие украшением ее прически, и, когда камеристки отважились обратиться к ней с расспросами, грубо выгнала их, выведенная из терпения настойчивостью, какую некоторые из них проявляли, желая подготовить все необходимое для ее сна.
Едва они ушли, она побежала в кабинет, сообщавшийся со служебной лестницей, по которой можно было спуститься во двор; какое-то время она прислушалась, но все было тихо.
— Никого, — сказала она себе вполголоса. — Должно быть, он устал ждать и покинул дом, слава Богу!
Потом она вернулась в свою комнату и в гневе продолжала:
— А, господин де Монгла, вы намереваетесь угрожать мне пистолетом, который я не дала вам направить на ваш несчастный лоб? Ну что ж, посмотрим! Вы хотите сделать из меня свою жертву и свою рабыню, и это только потому, что я прониклась к вам жалостью из-за вашей бедности и вашего решения умереть; клянусь, что вы еще пожалеете о вашей бедности и, возможно, будете вынуждены вернуться к вашему решению.
И, откинувшись в огромном бархатном кресле, молодая женщина погрузилась в размышления, темой которых, вероятно, не были счастье и покой ее старого мужа.
Вдруг она услышала, как кто-то три раза довольно громко постучал в дверь кабинета; одним прыжком она преодолела расстояние от кресла до двери, открыла ее и лицом к лицу столкнулась с маркизом д’Эскоманом.
— Как? Вы здесь? — воскликнула она.
— Несомненно; прошу простить меня, что я не поднялся раньше; но я уснул в этой чертовой коляске, где вы мне приказали укрыться и ждать счастливой минуты, когда мне можно будет подняться по лестнице, ведущей к любовным утехам.
— Уходите! Уходите! Умоляю вас!
— Уйти? Покинуть вас в час ночи, вашей первой брачной ночи, когда мы с вами наедине? Не рассчитывайте на это.
— Вам необходимо уйти; ему вдруг взбрели в голову не знаю какие мысли о чести, деликатности, чувствах и прочем вздоре. Он говорил мне о своей короне, о крови, которой он хочет смыть все пятна позора, какими я могу заклеймить его герб; он способен убить вас! Уходите, умоляю вас!
— Послушай! Да он просто смеялся над тобой; Монгла не тот человек, чтобы принимать всерьез подобные глупости. Неужели ты думаешь, будто, решившись жениться на тебе, он не отдавал себе отчета, чем рискует! Да что бы он проявлял эти мещанские щепетильности? Ты глупа, он либо хотел завтра посмеяться над твоим страхом, либо заставить тебя удвоить ему пенсион.
— Но я повторяю вам, что он говорил вполне серьезно, столь серьезно, что, когда я слушала его, кровь стыла в моих жилах. Уходи же, прошу тебя. Завтра я увижусь с тобой здесь, у тебя, где ты только пожелаешь, но сегодня — уходи! Ах, Боже мой! — воскликнула Маргарита. — Я совсем забыла запереть двери!
Она побежала к главной двери, ведущей в ее комнату, и с ужасом заметила, что в двери не оказалось ни замочной личины, ни ключа; в страхе она воскликнула:
— Он все знает! Смотри, смотри, он лишил нас всякой возможности запереться в этой комнате. Послушай меня, уйдем! Я уйду вместе с тобой.
— Право, я останусь, — с полнейшим хладнокровием отвечал маркиз. — Твой замысел, мой прелестный демон, украсть у бедняги Монгла его первую брачную ночь показался мне чрезвычайно забавным, но гораздо веселее будет увидеть его в роли Отелло; я остаюсь.
И г-н д’Эскоман все с тем же хладнокровием достал из футляра сигару и прикурил ее от свечи.
В эту минуту тихо приоткрылась дверь и в проеме показалась насмешливая физиономия г-на де Монгла.
— Тьфу! — произнес он. — Теперешние дворяне ничего другого и не умеют, кроме как превратить спальню красивой женщины в конюшню!
Произнеся эти слова, он направился к окну, спокойно растворил его и закашлялся, подражая старикам, не переносящим табачного дыма.
Господин де Монгла выглядел так, будто он уже приготовился ко сну: на нем не было ни фрака, ни жилета. Оружия в руках он не держал, и было очевидно, что спрятать его под одеждой он не мог.
Ощутив серьезность положения, маркиз д’Эскоман поднялся. Что касается Маргариты, то, каким бы спокойным ни казался ее муж, его угрозы еще слишком внятно звучали в ее ушах, чтобы она могла сохранить самообладание; она бросилась к двери кабинета, пытаясь укрыться в темноте.
Но, не сделав и десяти шагов, она наткнулась на черный призрак, взбиравшийся по последним ступеням лестницы, и, ни жива ни мертва, отступила. Призрак двигался вперед по мере того, как Маргарита отступала, и, когда они очутились в полуосвещенном кабинете, она заметила, что при каждом шаге он низко кланялся.
Так вместе они вернулись в спальню, и там незнакомец отвесил поклон еще более почтительный, чем предыдущие.
Это был мужчина лет сорока, физиономия которого выдавала его происхождение; волосы его были черны как вороново крыло; широкие бакенбарды того же оттенка обрамляли смуглое лицо; взгляд его был жестким, но улыбка, любезная до раболепства, странным образом противоречила этому взгляду. Было очевидно, что это итальянец.
— Позвольте, графиня, представить вам синьора Фортини. Синьор Фортини — мастер в благородном искусстве фехтования. Маркиз, я вам рекомендую его уроки. Более того, он необычайно предан тому, кому служит: в данный момент он в моем распоряжении.
Пока г-н де Монгла расхваливал его, синьор Фортини не переставал кланяться, и во время одного из таких поклонов, более глубоких, чем другие, Маргарита заметила за спиной итальянца две шпаги, которые он тщательно пытался скрыть.
— Вы хотите нас убить! — воскликнула она и бросилась в сторону, где стоял ее супруг.
— Убить вас, графиня? Вам следовало бы избавить меня от подобного оскорбления; я бедный Отелло, который не убивает даже тех, кто злоупотребляет его благородным доверием; я уничтожаю их… если могу. Вот и все.
При этих словах г-н де Монгла пристально взглянул на маркиза.
— Ну что ж, граф, — отвечал тот, продолжая выпускать клубы табачного дыма, — завтра мои секунданты условятся обо всем с вашими.
— Нет. Случай особый, и месть должна быть особой. Завтра дуэль наделает много шуму и много чести как герою, так и героине; она увеличит число побед одного и другой, я же вовсе не желаю этого. Напротив, пусть все узнают, что на пути в постель графини они рискуют поскользнуться в крови; возможно, это отвратит любителей похождений; мы будем драться здесь и немедленно.
— Но вы не подумали, что у нас нет секундантов.
— Ах, вот что! В моем распоряжении мой преданный синьор Фортини — он никогда не покинет друга в подобных обстоятельствах; для вас секундантом может послужить графиня — она будет целиком занята своей ролью и, будьте уверены, не окажется снисходительна к вашему противнику. В серьезных обстоятельствах правила дуэли допускают присутствие только двух секундантов.
Маргарита, не сумевшая справиться с волнением и упавшая в кресло несколькими мгновениями раньше, теперь поднялась и воскликнула:
— Не заставляйте меня присутствовать при этом поединке! Я стану кричать, звать прохожих, меня услышат! На помощь!
— Ни слова более! — сказал шевалье, хватая ее за руку и останавливая. — Не вынуждайте меня обкрадывать Шекспира; не забывайте, что в первую же ночь после нашей свадьбы я застал вас в два часа ночи в вашей спальне наедине с господином маркизом, казалось давно уже покинувшим этот особняк; не забывайте, что у меня есть полное право убить вас обоих, как вы только что сами говорили об этом, и это не повлечет для меня никаких серьезных последствий.
Обезумев от ужаса, графиня де Монгла сделала шаг в сторону двери, ведущей в кабинет. Но синьор Фортини, не покидая своего места, показал ей, что он закрыл дверь, и сопроводил свой жест самой обворожительной улыбкой.
Маргарита упала на колени, спрятала лицо в подушку кресла, чтобы ничего не видеть, и закрыла руками уши, чтобы ничего не слышать.
— Приступим, синьор Фортини, — произнес г-н де Монгла. — Предъявите ваши шпаги маркизу, пусть он сделает выбор.
— Но эта дуэль нелепа.
— Самое главное, не щадите меня, маркиз. Сначала я пообещал себе, что расквитаюсь с первым любовником графини, ранив его, но вскоре я переменил свою точку зрения и пообещал себе сражаться до конца. Держитесь!
— Отчего же вы изменили свое намерение, граф? — спросил г-н д’Эскоман, снимая с себя одежду, как это уже сделал его противник.
— Из желания кого-то осчастливить; я становлюсь филантропом.
— Я не понимаю вас.
— Черт возьми! Неужели вы думаете, будто несчастная маркиза станет долго оплакивать вас и ваша кончина не станет для нее великолепным предлогом примириться с храбрецом Фонтаньё, который и займет ваше место, как сегодня вы рассчитывали занять мое? Случится это в третий раз, маркиз, и, как всегда, удачно.
В то время как г-н де Монгла продолжал говорить, шпаги скрестились. Маркиз рассвирепел от насмешек своего противника и с яростью набросился на него; с быстротой молнии, сверкнувшей из-за туч, он отбил удар г-на де Монгла и принялся наступать, но старый дворянин отразил его в первой позиции, прыгнул на два шага вправо от своего начального положения и, прежде чем г-н д’Эскоман смог коснуться клинком своего противника, страшным ударом шпаги насквозь пронзил маркизу грудь.
Маркиз распростер руки, издал сдавленный крик, захлебываясь тотчас же подступившей к горлу кровью, и с глухим шумом, заставившим зазвенеть всю фарфоровую посуду на полках, лицом упал на ковер.
Такой странный звук заставил Маргариту изменить принятое ею решение не видеть эту страшную сцену; она обернулась и увидела, как г-н д’Эскоман забился в последних конвульсиях.
Она хотела кричать — но крик застрял в ее горле, она хотела бежать — но ее оцепеневшие члены не позволяли ей сделать ни одного движения; немая, неподвижная, с бледными губами и широко раскрытыми глазами, она казалась статуей, олицетворяющей ужас.
Тем временем синьор Фортини нарушил сохранявшуюся им до сих пор неподвижность и подошел к маркизу д’Эскоману, присел возле него, разорвал на его груди рубашку и оголил рану, откуда потоком лилась пенистая кровь, заливая ковер; он внимательно осмотрел рану, пощупал пульс, как бы желая удостовериться, что помощь еще не бесполезна; но, произведя осмотр, он приблизился к г-ну де Монгла, и лицо его сияло радостью учителя, довольного своим учеником.
— Браво, синьор! — заговорил он с сильным итальянским акцентом. — Вы прекрасно воспользовались уроками вашего наставника! Вы проткнули ему сердце так, словно порвали манишку.
Старый дворянин улыбнулся.
— Графиня, — обратился он к своей супруге. — Я убежден, что, если только ваш выбор не падет на моего учителя Фортини, эфес моей шпаги послужит пластырем каждому, кого вы изберете себе в любовники, как он послужил им для бедняги д’Эскомана, столько раз смеявшегося над моей манерой выражаться. Будьте же благоразумны, ибо вам нельзя поступать иначе; а черт примет во внимание ваши добрые намерения.
И, послав предупредить полицию, шевалье направился в свою комнату, чтобы провести в постели остаток своей первой брачной ночи.
ЭПИЛОГ
ПИСЬМО ЭММЫ Д’ЭСКОМАН,В МОНАШЕСТВЕ СЕСТРЫ МАРТЫ,К ГОСПОЖЕ ГРАФИНЕ ДЕ ФОНТАНЬЁ
"Монастырь урсулинок, Кан. 23 октября 1840 года.
Госпожа графиня,
со вчерашнего дня я принадлежу Богу. В своем милосердии он сжалился над недостойной грешницей, и не отверг протянутых к нему с мольбой рук. В своей всемогущественной доброте он сотворил большее и удостоил меня быть принятой в число его земных невест. В этой новой моей жизни, а она есть всего лишь подготовка к жизни небесной, к которой устремлены мои желания, все земное видится мне совершенно в новом свете. Осознание человеческих приличий подсказывало мне, что непреодолимая пропасть разделяет священную особу матери и женщину, поправшую божественные законы, не посчитавшуюся с общественным порицанием и не пожелавшую слушать ничего, кроме своих исступленных страстей, и что ей запрещено совершать любой поступок, даже продиктованный покорностью и раскаянием. Однако ныне, когда камень гробницы уже готов сомкнуться над моей головой в ту минуту, когда Господь призовет меня к себе; ныне, когда я стою у порога могилы, куда не замедлю спуститься, и душа моя мало-помалу освобождается от оков плоти, державшей ее в плену; ныне, когда я вижу в том, с кем разделяла свои ошибки, лишь одного из моих братьев во Христе и люблю его любовью, несомненно более горячей, но и не менее чистой, чем других моих братьев, — мне кажется, что, каковы бы ни были мои прегрешения, каково бы ни было мое участие в тех печалях, что омрачили закат Вашей жизни, Вас не оскорбит, госпожа графиня, если я осмелюсь преклонить перед Вами колени и умолять Вас присоединить Ваше прощение к тому, на какое мне позволяет уповать наш Всемогущий судия.
Я не буду, моля Вас о прощении, госпожа графиня, мысленно переноситься к тому, что мне пришлось выстрадать. Что значат эти страдания по сравнению с моими грехами? Что они будут значить по сравнению с теми страданиями, какие ожидают меня, возможно, на том свете? Я обращаюсь лишь к Вашему сердцу. Наши два сердца соединяют узы нежности, которые, быть может, вопреки доводам Вашего рассудка, побудили Вас сжалиться над той, что умоляет Вас простить ее. Любовь, с какой мы обе произносили одно и то же имя, при том, что выражаем ее столь различно, служит мне защитой, и я надеюсь, сударыня, что Вы обратитесь к Господу с просьбой, чтобы слезы, пролитые Вами по моей вине, не засчитывались мне до тех пор, пока я не предстану перед Небесным судом.
Трагическая смерть господина маркиза д ’Эскомана вернула в мои руки состояние, от которого я отказалась задолго до того, как мне стали известны истинные богатства, каких следует желать на этом свете, те богатства, какими Иисус Христос обещал наделить нас в царствии своем. Теперь, когда я возлагаю все свои надежды на нашего Отца Небесного, я ощущаю себя слишком богатой, чтобы не испытывать презрение к тому, что привязывало меня к земле; поэтому, отказываясь от своего состояния, я вовсе не совершаю никакой жертвы: никто из тех, кому достанется та или иная его часть, не должен быть мне признателен.
Согласно дарственной, составленной метром Бурнисьеном, канским нотариусом, я разделила свое состояние на две части. Одну из них я оставляю шатодёнским беднякам, которые будут молиться за меня и за тех, кого я любила на этом свете; другой частью я осмелилась распорядиться в пользу мадемуазель Октавии де Фонтаньё, Вашей племянницы, и я прошу Вас, сударыня: соблаговолите принять от ее имени эту часть моего состояния. Стоит ли мне, сударыня, приводить Вам доводы, по каким Вы не должны, наверное, отвергать этот дар бедной монахини? Я знаю, что он непременно будет способствовать счастью человека, которым Вы дорожите более всего на свете и при мысли о котором, чтобы я ни делала, мне не удается сдержать трепет моего сердца.
Вам будет казаться все более и более странным, когда из глубины своей монастырской кельи я стану раскрывать перед Вами то, что происходит в сердцах людей, живущих подле Вас, но, тем не менее, я уверена в том, о чем говорю.
Полгода назад, доверившись тому, что написал один наш общий друг, я позволила своему сердцу снова поддаться обманчивым надеждам, какие он во мне вызвал. Я полагала, что уже достаточно страдала, достаточно плакала, достаточно молилась, чтобы утишить Божий гнев. Я была свободна; чтобы принадлежать мне, ему уже не нужно было бросать вызов обществу и его законам и сносить страшную борьбу, в которой его любовь потерпела поражение. Я отправилась в Сен-Жермен; какое-то предчувствие подсказывало мне не отдаваться тайным желаниям своей все еще пылкой страсти и, перед тем как дать ему знать о моем приезде, удостовериться в том, что он на самом деле еще думает о той, с которой оказался в разлуке. В течение трех дней, сударыня, я следила за Вашим домом. Наконец, его дверь распахнулась; мое сердце билось, как в те дни, когда я встречала Вашего сына в Шатодёне; и при воспоминании об этом оно все еще трепещет! Он вышел, подав руку своей кузине; она была такая миниатюрная, такая хрупкая, такая нежная, что показалась мне ребенком и мое взволнованное сердце немного успокоилось. Я последовала за Вами. Вы шли позади них, держа в руках книгу; они бегали по тропинкам, по лесной чаще, гонялись за косулями, выбегавшими из кустов, пугали птиц, летавших в ветвях деревьев, и он становился таким же молодым, как она, чтобы понравиться ей. Наконец, они удалились от Вас на несколько сотен шагов. Я видела, как он время от времени нагибался, чтобы сорвать цветок, росший во мху среди лесной поросли; она, теперь уже задумчивая, шла по узкой дорожке; он приблизился к ней, держа в руках букет ландышей и лесных фиалок; она взяла букет, однако, перед тем как положить его себе на грудь, вынула оттуда другой букет — увядший и поблекший, хранившийся там, наверное, со времени их последней прогулки, и отдала его в обмен на тот, что был ей предложен; он поднес этот увядший букет к своим губам с пылкой страстью, с какой когда-то… Я не могла этого больше выносить и убежала, но была так взволнована, что заблудилась и опять оказалась на их пути. Они шли бок о бок, сплетя руки, и молчали, но взгляды их были красноречивее любых слов. По глазам той, что показалась мне ребенком, я поняла, что это уже взрослая девушка, и крик сердца, никогда нас не обманывающий, подсказал мне: "Они любят друг друга!"
Да, сударыня, они любят друг друга, и я ручаюсь Вам в этом долго кровоточащей раной, которую оставила в моей душе последняя обманутая надежда, слезами, которые я еще проливаю, печалями, которые я возлагаю к стопам Господа. Ныне, когда я ничего не желаю на этом свете, кроме их счастья, ныне, когда я из-за него люблю ту, с кем он должен разделить судьбу, мне остается лишь одно утешение — в мысли, что богатство, предлагаемое мною Вашей племяннице, будет способствовать союзу, который представляется Вам невозможным из-за их бедности.
Ваш сын добр; его заботы о несчастной Сюзанне во время ее ужасной болезни, благочестие, с каким он взял на себя все заботы о ее погребении, доказывают это, если в таком есть необходимость; однако слабость его состоит в его чрезмерной мягкости, и слабость эта тем больше, чем больше его восторженность; он настолько не сдержан в своих порывах, что последствия их могут быть непредсказуемыми! Остерегайтесь его изменчивой восторженности; пусть он живет где-нибудь в деревне вместе со своей избранницей. Спокойствие упорядоченной жизни и удовлетворение, которое он найдет в исполнении своего долга, умерят понемногу беспокойство его характера, заглушат волнение его страстей. О! Если бы мы не покидали Кло-бени!
Я хотела зачеркнуть эту последнюю фразу, но подумала и оставила ее. Она доказывает мне, что для меня искупление лишь началось, ибо, хотя я и пыталась до сего дня изгладить из своей души эти стойкие воспоминания о прошлом, они восторжествовали над моим раскаянием, над сожалением о совершенных мною проступках, над страхом Божьего правосудия. Молите Бога, сударыня, чтобы он меня покарал; молите его, чтобы меня очистила скорбь и стерла все следы моей испорченности; молите его, чтобы он поскорее призвал меня к себе. Быть может, там, наверху, я смогу любить его, не совершая преступления; я трепещу, произнося такое богохульство, но из всех райских блаженств это кажется мне самым драгоценным.
Прощайте, сударыня, и соблаговолите принять уверения в почтительной преданности Вашей сестры во Христе монахини Марты".
Три месяца спустя по получении этого письма адресатом Луи де Фонтаньё женился на своей кузине Октавии, и г-н де Монгла был его свидетелем на свадьбе, хотя и произошло некоторое изменение в планах, начертанных старым дворянином касательно женитьбы его юного друга.
Мать Луи де Фонтаньё до последнего дыхания считала своим долгом скрывать от сына источник неожиданного богатства, принятого ею от имени племянницы. Она справедливо опасалась непостоянства характера своего сына и задавала себе вопрос: не будет ли он способен в случае внезапного возвращения г-жи д’Эскоман ворваться в убежище, где искупала свою любовь несчастная женщина.
Но ничего такого не случилось. Госпожа д’Эскоман умерла в 1846 году, а Луи де Фонтаньё, который превратился в поместного дворянина и занялся усовершенствованиями в области земледелия, принял известие о смерти маркизы с таким равнодушием, что напугал этим свою мать.
Любовь у некоторых людей напоминает те цветы, что, высыхая, не сохраняют ничего из своих красок и благоухания.
Бывший шевалье, а затем граф де Монгла дожил до весьма преклонного возраста. Он намеревался дотянуть до ста лет с единственной целью позлить госпожу графиню, что и стало в течение двадцати лет его основной заботой. Но подагра распорядилась так, что Маргарита первой надела траур, и, хотя черный цвет уже не так шел ей, как в то время, когда она пребывала в своем незаконном вдовстве, ей не оставалось ничего, кроме как достойнейшим образом исполнять свой долг.
КОММЕНТАРИИ
БЛЕК
Действие романа "Блек" ("Black"), названного по имени одного из его главных персонажей — загадочного черного спаниеля, — происходит в атмосфере таинственного, которую Дюма нередко и с большим мастерством воссоздавал в своих произведениях. Вместе с тем в романе дан тончайший психологический портрет человека, жизнь которого в детстве была сломлена неправильным воспитанием, в молодости искалечена предательством любимой женщины и ближайших друзей, а в зрелые годы погружена в бездну себялюбия и который в конце концов нашел в себе силы стряхнуть свое нравственное оцепенение и проявить подлинную человеческую доброту и настоящее мужество.
События романа разворачиваются в 1842–1843 гг. (с ретроспективой начиная от 1793 г.).
Впервые это произведение публиковалось в выходившей в Париже ежедневной газете "Конституционалист" ("Le Constitutionnel) с 24.12.1857 по 13.02.1858; первое отдельное его издание во Франции: Paris, Cadot, 8vo, 4 v., 1858.
Сверка перевода с оригиналом была выполнена по изданию: Paris, Calmann-Levy, 12то.
7 Шевалье (фр. chevalier — "рыцарь", "кавалер") — низший дворянский титул в королевской Франции.
… в каком из восьмидесяти шести департаментов Франции расположен город … — Департамент — основная территориально-административная единица Франции, введенная во время Великой французской революции вместо прежних провинций; получал название по имени гор, рек и других ландшафтных объектов на его территории; приблизительно соответствует нашей области.
Число департаментов во Франции довольно часто менялось в зависимости от территориальных переделов, а также завоеваний новых земель и их утрат. В октябре 1789 г. Франция была разделена на 83 департамента, почти равных по своей территории. Позднее, во время наполеоновских войн, их стало 132. Во время Реставрации восстановилось их довоенное число.
В годы, когда происходит основное действие романа, Франция была разделена на 86 департаментов.
… под воздействием тумана, которым я надышался во время своего недавнего пребывания в Англии … — Весной 1857 г. Дюма дважды побывал в Англии. Первая его поездка продолжалась с 27 марта по 8 мая; писатель приезжал сюда по заданию газеты "Пресса", чтобы написать отчет об английских выборах. Вторая его поездка была более короткой — с 25 по 31 мая; главной ее целью было посещение скачек в городе Эпсом (графство Суррей) под Лондоном, которые проходят там ежегодно в мае-июне.
… действие происходит в 1842 году в городе Шартран-Бос… — Шартр — главный город департамента Эр-и-Луара; расположен в 90 км юго-западнее Парижа, на равнине Бос; известен еще до римского завоевания как Автрик, столица племени карнутов; в средние века был столицей самостоятельного графства, ставшего в кон. XIII в. владением французских королей и возведенного в нач. XVI в. в достоинство герцогства; с нач. XVII в. — владение герцогов Орлеанских, удел старших сыновей этого дома, носивших титул герцогов Шартрских; известен построенным в XII–XIII вв. собором — шедевром готической архитектуры.
… вокруг старинных укреплений древней столицы племени карнутов… — Карнуты — одно из галльских племен, живших на территории нынешней Центральной Франции, между Сеной и Луарой; в I в. до н. э. оказали ожесточенное сопротивление римскому завоеванию; после своего поражения частично рассеялись, частично переселились в Италию; главными их городами были Кенаб (соврем. Орлеан) и Автрик (соврем. Шартр)
… аллее, в течение двух веков служившей… одновременно и Елисейскими полями, и Маленьким Провансом. — Елисейские поля — одна из главных и красивейших магистралей Парижа; идет от сада Тюильри в западном направлении.
Маленьким Провансом называли одну из террас в северо-восточной части сада Тюильри; солнечная и зеленая, она была излюбленным местом прогулок детей и стариков.
8… служил в мушкетерах… — Мушкетеры — в XVI–XVII вв. отборные солдаты, вооруженные мушкетами (крупнокалиберными ружьями с фитильным замком). Здесь имеются в виду королевские мушкетеры, в XVII–XVIII вв. — часть французской гвардейской кавалерии, военная свита короля; набирались исключительно из дворян. Две роты королевских мушкетеров назывались "черная" и "серая" по масти их коней. Во время Реставрации, в 1814–1815 гг., роты мушкетеров были воссозданы, но вслед за Июльской революцией окончательно уничтожены.
9… толстые и чувственные губы, причем нижняя слегка отвисала на австрийский лад… — У принцев австрийского дома Габсбургов, правившего в Священной Римской (затем Австрийской и Австро-Венгерской) империи в 1273–1918 гг. (с перерывами) и в Испании (1516–1700), отличительным семейным признаком была несколько оттопыренная нижняя губа.
… туловище облегал жилет из белого пике… — Пике — плотная хлопчатобумажная ткань в рубчик, иногда с вышитым узором.
… нижняя часть тела была засунута в нанковые панталоны… —
Нанка — прочная хлопчатобумажная ткань (как правило, буровато-желтого цвета).
… расположился бы в партере Комеди Франсез… — Комеди Франсез (театр Французской комедии; официальное название — Французский театр) — старейший драматический театр Франции, основанный в 1680 г.; известен исполнением классического репертуара, главным образом комедий Мольера.
… стал ждать, когда звук трубы заменит три удара театрального постановщика. — Во французском театре начало спектаклей объявляют тремя ударами жезла по дереву.
… это были все те же кавалеристы в сабо… — Сабо — грубые башмаки, вырезанные из цельного куска дерева; обувь крестьян и городской бедноты.
… Два величественных шпиля, возвышавшихся над огромным собором… — Шартрский собор, выдающийся образец готической архитектуры, был воздвигнут неизвестным мастером в 1194–1220 гг. на месте нескольких церквей, последовательно сооружавшихся там с III в. (в них помещалась весьма почитаемая статуя Богоматери). Фасад его украшен двумя высокими остроконечными башнями разной высоты: южная башня осталась без изменений со времени своей постройки, а северная была надстроена в XVI в.
… что росли по берегам реки Эр … — Эр — небольшая река в Центральной Франции, левый приток Сены; длина 225 км; в ее верхнем течении стоит Шартр.
… шевалье никоим образом не принадлежал к романтической школе и ему ни разу не пришла в голову мысль прочитать "Поэтические раздумья" Ламартина или "Осенние листья" Виктора Гюго … — Ламартин, Альфонс Мари Луи де (1790–1869) — французский поэт-романтик, историк, публицист и политический деятель, республиканец; в 1848 г. министр иностранных дел Второй французской республики. "Поэтические раздумья" ("Les Meditations poetiques") — сборник лирических стихотворений Ламартина, опубликованный в 1820 г. в Париже и принесший его автору всемирную известность. Эти произведения, главным мотивом которых было отрицание современной поэту цивилизации, стали вершиной романтической литературы Франции. В 1823 г. появился второй сборник Ламартина — "Новые поэтические раздумья".
Гюго, Виктор Мари (1802–1885) — знаменитый французский поэт, драматург и романист демократического направления; один из основоположников прогрессивного течения в романтизме; имел титул виконта и в этом качестве при Июльской монархии в 1845—
1848 гг. был членом Палаты пэров, где выступал как либерал; при Второй республике в 1849 г. был избран членом Законодательного собрания; после переворота 1851 г. жил до 1870 г. в эмиграции. "Осенние листья" ("Les Feuilles d’automne") — лирический сборник Гюго, опубликованный в 1831 г.
… левый карман его редингота. — Редингот — длинный сюртук особого покроя; первоначально — одежда для верховой езды.
… принадлежало к той обширной породе спаниелей, что пришла к нам из Шотландии… — Спаниели (англ, spaniel — "испанский") — группа пород собак, используемых для охоты на пернатую дичь; родиной их принято считать Испанию; английское название (оно восходит к XI–XII вв.) закрепилось за ними в связи с большими заслугами английских охотников и селекционеров, создавших высококлассные породы этих собак.
Шотландия — страна, занимающая северную часть Великобритании и близлежащие острова; населена потомками древних племен кельтов, скоттов и др. В XI в. в Шотландии сложилось независимое королевство, которое в течение всего средневековья вело борьбу (часто в союзе с Францией) против попыток английских королей завоевать ее. В нач. XVII в. между королевствами Англия и Шотландия была установлена личная уния. В 1707 г. Шотландия лишилась самостоятельности и вошла в состав Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.
… одновременно с помощью, которую Яков I отправил своему кузену Карлу VH. — Яков I (1394–1437) — шотландский король с 1406 г. (фактически с 1424 г.) из династии Стюартов; в 1406–1424 гг. находился в плену в Англии, но, доказав свои дружеские к ней чувства, был отпущен на свободу; восстановил в своей стране порядок, боролся со своеволием аристократии и был убит в результате заговора дворян; его считают первым шотландским поэтом.
Карл VII Победоносный (1403–1461) — французский король с 1422 г. из династии Валуа; смог занять престол только в 1429 г. благодаря помощи народной героини Жанны д’Арк; успешно завершил т. н. Столетнюю войну (1337–1453) с Англией; провел ряд реформ, ограничивших влияние крупных феодалов и укрепивших королевскую власть; организовал регулярную армию.
Яков I и Карл VII заключили между собой в 1428 г. союзный договор, по которому дочь Якова I, Маргарита Стюарт (ей тогда было всего два года), была объявлена невестой сына Карла VII, будущего Людовика XI (см. примеч. к с. 39). В приданое она получила войско в 6 000 солдат. Однако еще раньше, в 1420 г., Яков I послал во Францию отряд в 5 000-7 000 человек. Шотландские части сыграли значительную роль в войне Франции против англичан.
Дюма называет Якова и Карла кузенами, по-видимому исходя из обычая европейских монархов, продержавшегося до XIX в., называть друг друга братьями. Родство их было весьма далеким.
… нечто вроде жабо … — Жабо — здесь: кружевные или кисейные оборки на вороте или груди верхней мужской рубашки; были модны в XVIII в.
… проникла в столицу Боса… — Бос — историческая область в Центральной Франции, расположенная между Сеной и Луарой; в древности была населена галльским племенем карнутов; в I в. до н. э. была завоевана Римом; в X в. вошла в домен (личные владения) французского королевского дома; ныне на ее территории располагаются департаменты Луаре, Эр-и-Луар, Луар-и-Шер.
12… по-олимпийски нахмурив брови … — Олимп — гора в Северной
Греции; в религии древних греков — местопребывание двенадцати основных богов. По преданию, когда верховный бог Зевс (рим. Юпитер) хмурил брови, Олимп содрогался (см., например, "Илиаду" Гомера: I, 528–530).
14… он даже не дошел до моста Ла-Куртий … — Имеется в виду мост через реку Эр, расположенный в юго-восточной части Шартра.
… жителям всего кантона … — Кантон — низовая административно-территориальная единица во Франции.
… подошел к воротам Морар… — Эти ворота в старых городских укреплениях Шартра расположены в его юго-восточной части.
… внезапное появление… дилижанса с упряжкой из пяти лошадей… — Дилижанс — большой крытый экипаж XVI–XIX вв., служивший для регулярной перевозки по определенному маршруту пассажиров, почты и багажа.
15 … Пошел же прочь, Медор! — Шевалье называет собаку именем одного из героев поэмы итальянского поэта Ариосто (1474–1533) "Неистовый Роланд".
… исповедовал ту почтенную религию, богом которой является Тимон, а мессией — Альцест и которая называется мизантропией. — Тимон Афинский (V в. до н. э.) — греческий философ; резко осуждал современников, считая их безнравственными, и постепенно стал избегать всяких сношений с людьми; его имя стало синонимом угрюмости, нелюдимости, а сам он — объектом насмешек; упоминается в сочинениях греческого писателя-сатирика Лукиана (ок. 120-ок. 190), на основе которых была написана трагедия Шекспира "Тимон Афинский" (1607). Ее заглавный герой, разорившийся богач Тимон, встретив неблагодарность бывших друзей, возненавидел род людской и удалился от мира.
Мессия ("помазанник") — в традиции иудаизма идеальный царь, посредник между Богом и людьми. В христианстве мессия — посланец Бога на землю, искупитель грехов человечества; по христианскому вероучению, он явился в мир в образе Иисуса Христа. Альцест — персонаж пьесы Мольера "Мизантроп" (1666), пятиактной комедии в стихах; страстный правдоискатель, восстающий против пороков аристократического общества; резкий в своей критике, он желчен и непримирим.
16… награждая ее поочередно мифологическими именами: Пирам, Морфей, Юпитер, Кастор, Поллукс, Актеон, Вулкан … — Пирам — герой легенды восточного происхождения, изложенной в четвертой книге мифологического эпоса "Метаморфозы" древнегреческого поэта Публия Овидия Назона (43 до н. э. — 18 н. э.). Пирам и Тисба, юные влюбленные, которым отцы запретили вступить в брак, разговаривали друг с другом через узкую щель в стене, разделявшей их дома. Судьба их была трагичной, оба покончили с собой: Пирам — потому что по ошибке решил, будто Тисба растерзана львом, а Тисба — при виде мертвого Пирама.
Морфей — в греческой мифологии крылатый бог сновидений, сын бога сна Гипноса; иногда изображался в виде старца.
Юпитер (гр. Зевс) — верховный бог в античной мифологии, повелитель грома и молний, владыка богов и людей.
Кастор и Поллукс (Полидевк), по прозвищу Диоскуры — в греческой мифологии близнецы, сыновья Леды и Зевса, прославившиеся своими подвигами и братской любовью.
Актеон — в греческой мифологии царевич из города Фивы, страстный охотник; он нечаянно увидел богиню охоты и живой природы Артемиду (рим. Диану) во время купания; в наказание та превратила юношу в оленя, и Актеон был растерзан своими собаками. Вулкан (гр. Гефест) — в античной мифологии бог огня, покровитель кузнечного ремесла.
… потом последовали имена античной истории: Цезарь, Нестор, Ромул, Тарквиний, Аякс… — Цезарь, Гай Юлий (102/100-44 до н. э.) — древнеримский государственный деятель, полководец и писатель, диктатор.
Нестор — старейший из греческих героев Троянской войны, похода греков на город Трою в Малой Азии в XIII в. до н. э.; мудрец, царь Пил оса.
Ромул — в древнеримской мифологии сын бога войны Марса и Реи Сильвии, дочери правителя города Альба Лонга; вместе с братом Ремом по приказанию деда был брошен в реку, но братья-близнецы чудесным образом спаслись и впоследствии основали Рим. Тарквиний Гордый — седьмой и последний царь Древнего Рима (534/533-510/509 до н. э.); был изгнан после того, как его сын учинил насилие над одной из знатных жительниц Города.
Аякс — в греческой мифологии это имя носили два участника Троянской войны.
… затем прозвучали имена скандинавских героев: Оссиан, Один, Фингал, Тор, Фёрис … — Оссиан — легендарный воин и бард (поэт-пе-вец) древних кельтов, живший, согласно преданиям, в III в. в Ирландии и воспевавший подвиги своего отца Финна (Фингала) и его дружинников. Сказания Оссиана хранились в устной традиции в Ирландии и Шотландии и частично были записаны в XII в. В 1761 г. шотландский поэт и собиратель местного фольклора (по профессии учитель) Джеймс Макферсон (1736–1796) издал книгу "Сочинения Оссиана, сына Фингала", включавшую 30 поэм древнего барда, якобы обнаруженных и переведенных на английский язык издателем. Эта талантливая литературная мистификация сразу приобрела огромную популярность, была переведена на многие европейские языки, оказала большое влияние на литературу кон. XVIII — нач. XIX в. и вдохновила живописцев.
Один (древнегерманский Вотан) — в мифологии древних скандинавов первоначально верховное божество, повелитель ветра и бурь; затем почитавшийся главным образом знатью бог войны, покровитель торговли, мореплавания и поэтов-певцов.
Тор — в скандинавской мифологии бог-громовержец, сын Одина и Земли, борец со злом, покровитель крестьян-земледельцев.
Фёрис (Feuris) — возможно, здесь имеется в виду Фрейр (Freyr), бог древних скандинавов, олицетворяющий растительность, урожай, богатство и мир.
… исчерпал все, что мог ему дать собачий мартиролог… — Мартиролог (гр. martyros — "мученик", logos — "слово") — список имен пострадавших от каких-либо гонений; здесь: просто перечень имен.
… решился прибегнуть к ultima ratio для собак… — Ultima ratio (лат. "последний довод") — крайняя мера; в дипломатии — разрыв дипломатических отношений и война.
17… перед воротами Гийом… — Это ворота старинных городских укреплений Шартра расположены в его восточной части; состоят из двух круглых башен, между которыми находится мост, перекинутый через крепостной ров.
… напротив зала для игры в мяч… — Игра в мяч — род тенниса; известна в Западной Европе со средних веков.
… чья лавка расположилась у подножия вала Угольщиков… — Этот крепостной вал прикрывает старую часть Шартра с северо-западной стороны.
… подошли к дому № 9 по улице Лис… — Улица Лис расположена в западной части Шартра; ведет от собора в северо-западном направлении и выходит к валу Угольщиков.
18… из дома по-прежнему не доносилось ни звука, как если бы шевалье позвонил у ворот замка Спящей красавицы… — Спящая красавица — принцесса Аврора, персонаж одноименной сказки французского поэта и критика Шарля Перро (1628–1703); была заколдована и проспала вместе со своим двором сто лет.
19… как будто городу грозило новое вторжение норманнов или казаков… — Норманны (от франкского nortman — "северный человек") — западноевропейское название германских племен, населявших в раннем средневековье Ютландский и Скандинавский полуострова. Норманнская родовая знать в кон. VIII–XI в. предпринимала многочисленные грабительские и завоевательные походы по европейским морям, терроризируя не только жителей прибрежной полосы, но и проникая в глубь континента. Норманнские завоеватели (их называли также викингами, а на Руси — варягами) захватили ряд европейских территорий. Во Франции в X в. они образовали герцогство Нормандия.
Шартр норманны захватили и предали огню в 858 г.
В 1814 г., когда войска шестой анти наполеоновской коалиции (Австрия, Англия, Россия, Пруссия, Швеция и др.) вторглись во Францию, в составе русской армии были многочисленные казачьи части. Они сыграли в войне большую роль и произвели на европейцев сильное впечатление своим внешним видом.
21… Отвратительная мегера… — Мегера — в греческой мифологии одна из трех эриний — богинь-мстительниц (рим. фурии), карающих людей за совершенные ими преступления. В переносном смысле — ужасная, отвратительная женщина.
… она сопровождает меня… от казармы драгунов… — Драгуны — род кавалерии в европейских армиях в XVII — нач. XX в., предназначенный для действия как в конном, так и пешем строю.
… лавина воды, подобная Рейнскому или Ниагарскому водопаду… — Рейнский водопад находится в верхнем течении Рейна, в Швейцарии, ниже города Шафхаузена; высота его около 20 м.
Ниагарский водопад находится в Северной Америке, на границе США и Канады, на реке Ниагара, вытекающей из озера Эри и впадающей в озеро Онтарио; обусловлен разницей в уровне этих озер (100 м); высота его около 50 м.
22… девственные леса Нового Света. — Новый Свет — название, дан ное европейцами Америке после ее открытия (в отличие от Старого Света — Европы).
… не был ни игроком в шахматы, ни игроком в шашки и никогда не помышлял извлечь выгоду из данного обстоятельства, которое составляло счастье Мери и г-на Лабурдоне. — Мери, Жозеф (1798–1866) — французский журналист и писатель, пользовавшийся при жизни большой популярностью, автор романов, пьес и сатирических стихотворений; друг Дюма. Об интересе Ж.Мери к шахматам свидетельствует его книга "L’Arbitre des Jeux" ("Знаток игр"), в которой дано описание правил шахматной игры, а также карточных игр; она была издана в Париже в 1847 г.
Лабурдоне, Луи (1797–1840) — известный французский шахматист, автор трактата о шахматах (1833); положил начало шахматной периодике во Франции (с 1836 г.).
24… Шесть деревянных стульев… в стиле ампир… — Во время цар ствования императора Наполеона 1 (см. примеч. к с. 37) во Франции был создан особый художественный стиль (главным образом в архитектуре и прикладном искусстве), распространившийся в первой четверти XIX в. в Германии и Италии и оказавший влияние на русское искусство. Этот стиль получил название ампир (фр. empire — "империя") и был модификацией искусства классицизма, ориентированной на образцы Древней Греции, Рима и Египта. Здания и изделия прикладного искусства в этом стиле отличались монументальностью, величественностью и элегантностью.
… дерзко узурпировало место и название канапе … — Канапе — небольшой диван с приподнятым изголовьем.
… прямо туда привела бы нас из кухни нить клубка, если бы у лабиринта на улице Лис была своя Ариадна. — Ариадна — в греческой мифологии дочь Миноса, царя Крита; она помогла герою Тесею выбраться из лабиринта при помощи клубка нити, конец которой был привязан у входа.
… считалось, что он вышел из мастерской самого Буля … — Буль, Андре Шарль (1642–1732) — французский художник-столяр, искусный резчик, гравер и рисовальщик, придворный мастер Людовика XIV; создатель особого стиля дорогой дворцовой мебели.
… часы, изображающие Аврору на колеснице… — Аврора — в древнеримской мифологии богиня утренней зари, соответствующая древнегреческой Эос.
… с элегантностью, уместной и в будуаре на Шоссе д’Антен… — Шоссе д’Антен — аристократическая улица Парижа; расположена в северной части города; известна с XVII в.; с 1793 г. по 1816 г. называлась улицей Монблан по имени вновь присоединенного к Франции департамента; в 1816 г. ей было возвращено первоначальное название.
25… на толстом, шириною во всю комнату ковре, который заглушал любой шум, подобно коврам из Смирны. — Смирна (соврем. Измир) — древнегреческий город в Измирском заливе Эгейского моря, крупный порт; во время действия романа (как и в настоящее время) принадлежал Турции.
… ее родиной был даже не Китай, а Коромандель. — Коромандель (или Коромандельский берег) — юго-восточное побережье полуострова Индостан.
26… красный и белый богемский хрусталь… — Богемский хрусталь производился в Богемии (так на ряде европейских языков называют Чехию), которая издавна была крупным центром стекольного производства. В 1609 г. Гаспар Леман, работавший в Праге, изобрел гравировку по стеклу, и изделия, украшенные такой гравировкой, долгое время называли "богемскими", даже если они были произведены в других местах. Позднее выражение "богемский хрусталь" приобрело и другое значение: так называли стекло, в производстве которого для получения большего блеска употребляли калиевую щелочь вместо более дешевой натриевой.
… паштеты из Нерака, колбасы из Арля и Лиона, абрикосовый мармелад из Оверни, яблонное желе из Руана, конфитюры из Бара, сухие варенья из Ле-Мана, горшки с имбирем из Китая … — Нерак — небольшой город в Южной Франции, в департаменте Ло-и-Гаронна; во второй пол. XVI в. — резиденция Генриха IV, когда он был еще королем Наварры.
Арль — город на юге Франции, в исторической провинции Прованс. Лион — один из крупнейших городов Франции; расположен при слиянии рек Роны и Соны; административный центр департамента Рона, главный город исторической области Лионне.
Овернь — историческая провинция в Центральной Франции; в древности — область поселения галльского племени арвернов, в I в. до н. э. покоренных Римом; в VI в. была завоевана франками; в IX–XIII вв. фактически самостоятельное графство; во второй пол. XIII в. вошла во владения французских королей; во время действия романа — отсталый земледельческий район.
Руан — промышленный город и порт на Сене, в Северной Франции; известен с глубокой древности; в I в. до н. э. завоеван римлянами, в кон. V в. — франками; с нач. X в. столица герцогства Нормандия; в 1204 г. присоединен к Франции; играл большую роль в политической жизни Французского государства.
Барле-Дюк — небольшой город в Восточной Франции, в департаменте Мёз; лежит на пути в Париж из Страсбург; славится производством варенья, сиропов, соков.
Ле-Ман — город в Западной Франции, на реке Сарта, административный центр департамента Сарта; древняя столица галльского племени авлерков-ценоманов.
Имбирь — сухое корневище многолетнего тропического растения того же названия (произрастает также в Южном Китае); употребляется как пряность в кулинарии и пищевой промышленности.
… пикули… анчоусы, сардины, кайеннский перец… — Пикули — мелко нарезанные маринованные овощи с пряностями; приправа к мясу и рыбе.
Анчоусы (или хамса) — мелкая морская рыба из отряда сельдеобразных, важный объект промысла.
Сардины — общее название нескольких родов морских промысловых рыб из отряда сельдевых; водятся в прибрежных водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов.
Кайенна — главный город колонии Французская Гвиана в Южной Америке, основанный в 1634 г.; с кон. XVIII в. до 1946 г. место ссылки политических заключенных.
… все то, что милейший мудрец Дюфуйю определяет и обозначает двумя словами… оснастка застолья. — Сведений о Дюфуйю (Dufouillous) найти не удалось.
… находился в тюрьме Безансона … — Безансон — город и крепость в Восточной Франции, главный город графства Франш-Конте, а ныне департамента Ду; известен до римского завоевания Галлии; с XI в. входил в состав Священной Римской империи, а с сер. XVII в. — Испании, в 1678 г. возвращен Франции; важный стратегический пункт на ее восточной границе.
… под двойным обвинением: в отсутствии гражданских чувств… — То есть отец шевалье подпадал под действие декрета Конвента о подозрительных от 17 сентября 1793 г., согласно которому объявлялись подозрительными все лица, не имевшие возможности представить сведения об источниках существования и о выполнении своих гражданских обязанностей; не получившие свидетельства о гражданской благонадежности и проявившие себя речами или поведением как враги свободы; чиновники, отрешенные от должности Конвентом или его комиссарами; эмигранты, а также поддерживавшие с ними сношения дворяне. По решению местных властей все они должны были подвергаться аресту или полицейскому надзору. Фактически чрезвычайно широкое толкование понятия "подозрительный" позволяло подвергнуть аресту от имени любого местного революционного комитета любого человека на любом основании.
… и в переписке с эмцгрантами. — Великая французская революция с ее политической борьбой и насильственной ломкой старых социальных отношений вызвала массовую эмиграцию из страны. В основном эмигрировали активные противники Революции и Республики: дворяне и духовные лица, объявленные ее врагами.
… отказавшемуся принести присягу священнику, которого один из его друзей прятал у себя в подвале… — В июле-ноябре 1790 г. во Франции была проведена церковная реформа, в результате которой французская католическая церковь выходила из подчинения папе римскому и попадала под контроль правительства, а земли ее конфисковывались; священники должны были получать жалованье от государства и избираться верующими; у них были отняты функции регистрации актов гражданского состояния. В стране была установлена полная свобода вероисповедования. Все служители культа обязаны были присягнуть на верность конституции, неприсягнувшие священники лишались права служить и подвергались преследованиям. Церковная реформа и решение о присяге вызвали раскол среди французского духовенства и усилили контрреволюционную агитацию церковников.
… над всеми головами возвышался красный силуэт гильотины… — Гильотина — орудие для совершения смертной казни путем отсечения головы; введено во Франции во время Революции; получило свое название по имени французского врача, профессора анатомии Жозефа Игнаца Гильотена (Гийотена; 1738–1814), предложившего ее введение.
… подвергнуться риску выдать себя, обнаружить в себе аристократку … — В массовом сознании периода Революции "аристократы", т. е. все дворяне, считались врагами. Принадлежность к аристократии была тяжелым политическим обвинением.
29… как горит подожженный пороховой привод … — Пороховой привод — принятый от XIV до XIX в. способ поджигать взрывной заряд: от заряда насыпается дорожка пороха на расстояние нескольких метров; порох поджигается, огонь бежит по указанной дорожке, а подрывник должен успеть спрятаться, пока огонь не дойдет до основного заряда.
… немало свирепых санкюлотов… — Санкюлоты (от фр. sans — "без" и culotte — бархатные панталоны до колен, которые носили только дворяне и буржуа; букв.: "не имеющие штанов") — презрительное прозвище, данное аристократией простолюдинам, принимавшим участие во Французской революции, поскольку они носили длинные брюки из грубой ткани навыпуск. Прозвище это было с гордостью принято, вошло в международный обиход и стало синонимом слов "патриот" и "революционер".
30… канонисса … взяла на себя заботу о маленьком бедном сироте … — Канонисса — звание монахинь женского католического монастыря, преимущественно заведующих какой-либо частью монастырского хозяйства, уходом за больными, обучением в монастырских школах и раздачей милостыни.
31… закормленный сладостями и напичканный конфетами, подобно Вер-Веру… — Вер-Вер — герой одноименной стихотворной новеллы ("Vert-Vert"); (1734) французского иезуита и поэта-сатирика Жана Батиста Луи Грессе (1709–1777), высмеивывавшего монастырские нравы; в ней описываются приключения попугая, воспитанного в женском монастыре. За эту новеллу автор был исключен из ордена иезуитов, но к концу жизни покаялся и отрекся от своих произведений.
… отправился к иезуитам во Фрейбург и там завершил свое образование… — Иезуиты — члены Общества Иисуса, важнейшего католического монашеского ордена, основанного в XVI в. Орден ставил своей целью борьбу любыми способами за укрепление церкви против еретиков и протестантов. Имя иезуитов стало символом лицемерия и неразборчивости в средствах для достижения цели. Иезуиты придавали большое значение воспитанию юношества в духе воинствующего католицизма; для этой цели они содержали (и содержат доныне) большое количество средних и высших учебных заведений. Фрейбургим-Брайсгау (Фрайбург) — город на юго-западе Германии, близ французской и швейцарской границ, в земле Баден-Вюртемберг; основан в нач. XII в.
… из-за волнений, отклики которых ребенок, подобно Якову I, испытал в утробе матери. — Яков I (1566–1625) — с 1567 г. король Шотландии под именем Якова VI, а с 1603 г. король Англии, первый из династии Стюартов; сын шотландской королевы Марии Стюарт (1542–1587; правила в 1561–1567 гг.), которая была изгнана из страны мятежными лордами; был превосходно образован, но некоторые странности характера делали его смешным в глазах окружающих: так, он не переносил вида обнаженного меча, что во времена, когда воинская доблесть считалась главной добродетелью дворянина, производило неблагоприятное впечатление. Современники пытались объяснить это шоком, пережитым будущим королем в чреве матери, когда почти на глазах у Марии Стюарт шотландские дворяне-заговорщики убили ее фаворита и секретаря итальянца Давида Риччо (9 марта 1566 г.).
… исполняя…ту роль, что с таким отвращением играл Аман при Мардохее. — Имеется в виду эпизод истории древних евреев во времена их Вавилонского пленения в VI в. до н. э. (насильственного переселения в Вавилон знати, чиновников и ремесленников из Иерусалима после взятия и разгрома его в 586 г. до н. э. царем Навуходоносором), описанный в библейской книге Есфирь.
Согласно Библии, Мардохей — иудей из числа пленников, живший в Сузах, престольном городе персидского царя Артаксеркса, — узнав о заговоре против царя, донсс об этом ему через свою воспитанницу и двоюродную сестру Есфирь, ставшую женой Артаксеркса, и был возвеличен им: ему не надо было кланяться никому из царедворцев, в том числе и Аману, всесильному министру Артаксеркса; тогда разгневанный Аман замыслил уничтожить не только Мардохея, но и вообще всех иудеев и добился от царя указа, который повелевал уничтожить "народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства" (Есфирь, 3: 8). Однако прекрасной и мудрой Есфири удалось разрушить козни Амана, и он был вынужден по приказу царя оказать Мардохею царские почести: "И взял Аман одеяние и коня и облек Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь и провозгласил пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью!" (Есфирь, 6: 11). После этого Аман был предан казни на той самой виселице, на которой он собирался повесить Мардохея; тот же стал могущественным министром царя, а иудеям было разрешено защищать свою жизнь и истребить всех своих притеснителей, что они и сделали, умертвив семьдесят пять тысяч человек. В память об этих событиях был установлен иудейский праздник Пурим.
32… геройские безумства, перед которыми бледнеют деяния
шиллеровского ныряльщика. — Шиллер, Иоганн Фридрих (1759–1805) — выдающийся немецкий поэт, драматург, историк и теоретик искусства; один из основоположников немецкой классической литературы. Его творчеству свойственны бунтарский пафос, утверждение человеческого достоинства, романтический порыв, напряженный драматизм.
Здесь имеется в виду стихотворение поэта "Кубок", известное русскому читателю в переводе В.А.Жуковского о короле, швырнувшем золотой кубок со скалы в ревущую морскую бездну и бросившем вызов окружающим — кто из них осмелится нырнуть за кубком, получив его в награду? Отважный паж ныряет и возвращается с кубком, но он потрясен видом ужасных морских чудовищ, таящихся в глубинах и едва его не погубивших. Тем не менее, когда король, не принимая во внимание этот страшный рассказ, снова бросает в море драгоценность, обещая тому, кто ее достанет, руку дочери, молодой человек ныряет вторично — и на этот раз уже не возвращается.
… воспитание шевалье мало чем отличалось от воспитания Ахилла… — Ахилл, сын героя Лелея и морской богини Фетиды, последний великий герой древнегреческой мифологии, участник Троянской войны, главный персонаж эпической поэмы Гомера "Илиада". Ахилл, выросший в лесах и воспитанный мудрым кентавром Хироном, лесным демоном, получеловеком-полуконсм, с детства стал смелым охотником, научился владению оружием, а также врачеванию, музыке и пению. Однако Фетида, зная, что Ахиллу предопределено судьбою погибнуть под Троей, стремилась спасти сына и с этой целью спрятала его во дворце царя Ликомеда на острове Скирос, и там он жил одетый в женские одежды среди дочерей Ликомеда (от тайного брака Ахилла с царской дочерью Деидамией у нее родился сын Пирр). На этот период жизни юного Ахилла и намекает здесь Дюма.
… если бы среди милых дам… появился бы новый Улисс, обнажающий меч, то… вместо того чтобы броситься к мечу, как поступил сын Фетиды и Пелея, Дьёдонне… спасался бы в самом глубоком подвале общины. — Улисс — латинский вариант имени Одиссея, царя легендарного острова Итаки, сына Лаэрта и Антиклеи, участника похода греков на Трою, хитроумного и отважного героя поэм "Илиада" и "Одиссея" Гомера.
Когда греческие вожди узнали предсказание жреца Калхаса о том, что без участия Ахилла поход на Трою обречен на неудачу, они отправили на Скирос посольство во главе с изобретательным Одиссеем. Тот прибыл на остров под видом купца и разложил перед собравшимися девушками женские украшения вперемежку с оружием (мечом, щитом и др.). Во время торга спутники Одиссея затрубили тревогу. Царевны разбежались, а Ахилл схватил меч и ринулся навстречу врагу. Таким образом Одиссей узнал юношу, а затем уговорил его отправиться под Трою.
Пелей — мифический царь Фтии в Фессалии, отец Ахилла (поэтому героя по родителю называют Пелидом).
Фетида — морская нимфа, дочь морского бога Нерея, супруга смертного Пелея; застигнутая мужем при попытке сделать своего сына Ахилла бессмертным, она оставила мужа и вернулась в дом своего отца, но продолжала заботиться о сыне.
… он сочинял трогательные элегии по случаю кончины майского жука… — Элегия — лирическое стихотворение, проникнутое грустью; расцвет этого жанра лирической поэзии, возникшего еще в Древней Греции, пришелся на эпоху прсдромантизма и романтизма.
33… одетый, как пастушок Ватто… — Ватто, Антуан (1684–1721) —
французский художник, автор картин на бытовые, галантные и военные сюжеты; один из предшественников реализма во французской живописи.
… садилась за спинет и исполняла менуэт Экэоде… — Спинет — клавишный струнный музыкальный инструмент, род клавесина. Менуэт — французский бальный танец, с кон. XVII в. весьма распространенный в придворных и буржуазных кругах; произошел от народного хороводного танца провинции Пуату.
Здесь имеется в виду знаменитый менуэт, названный по имени его автора, французского музыканта и композитора Антуана Экзоде (1710–1763).
35… если бы ему пришлось представляться великой герцогине Стефании Баденской или королеве Луизе Прусской… — Стефания Луиза Адриснна де Богарне (1789–1860) — родственница Жозефины Богарне, первой жены Наполеона; с 1806 г. жена наследника баденского престола принца Карла, великого герцога в 1811–1816 пг. (так что в 1809 т., о котором здесь идет речь, она еще не была великой герцогиней). Луиза Августа Вильгельмина Амалия (1776–1810) — принцесса карликового германского государства герцогства Мскленбург-Стрслиц, с 1797 г. королева Прусская; была ярой противницей Наполеона, инициатором антифранцузского союза с Россией в 1805 г. и окончившейся позорным поражением войны с Францией в 1806–1807 пг.; во время переговоров в Тильзите безуспешно пыталась добиться от Наполеона смягчения условий мира, используя свое женское обаяние; после войны поддерживала проведение в Пруссии прогрессивных реформ.
36… недостаточно лишь чести породниться с одной из самых прославленных фамилий Баварии… — Бавария — историческая область в Южной Германии, в бассейне Дуная; герцогство немецкого племени баваров, входившее в империю Карла Великого; с XII в. герцогство, а затем курфюршество в составе Священной Римской империи; с 1806 г. королевство; в 1871 г. вошла в Германскую империю, сохранив некоторые свои особые права.
37… путешествие в Мюнхен наедине с юной подругой… — Мюнхен — крупный город в Южной Германии, на реке Изар; основанный в XII в., был столицей герцогства, а в 1806–1918 гг. — столицей королевства Бавария; ныне — центр земли Бавария в ФРГ.
38… Из катехизиса он узнал названия страстей… — Катехизис — изложение основ какого-либо учения (первоначально устное) в форме вопросов и ответов. Здесь речь идет о наставлении в католическом вероисповедании, скорее всего о т. н. "римском Катехизисе", в первый раз изданном в 1566 г.
… не омрачали их существование, достойное золотого века. — Золотой век — распространенное в античном мире и сохранившееся в новое время мифологическое представление о счастливом и беззаботном состоянии первобытного человечества, когда земля давала урожай сама, когда не было распрей между людьми, не было горя, бед и болезней, когда люди жили долго, а умирали во сне и когда даже бытовые предметы делали из золота.
… До него едва донесся отзвук от первого падения трона Наполеона, и он совершенно ничего не слышал о его втором падении. — Наполеон Бонапарт (1769–1821) — французский государственный деятель и полководец, реформатор военного искусства; во время Революции — генерал Республики; в ноябре 1799 г. совершил государственный переворот и, формально сохраняя республиканский образ правления, получил всю полноту личной власти, установив т. н. режим Консульства; в 1804 г. стал императором под именем Наполеона I; в апреле 1814 г., потерпев поражение в войне против коалиции европейских держав, отрекся от престола и был сослан на остров Эльба в Средиземном море; весной 1815 г. ненадолго вернул себе власть (в истории этот период называется "Сто дней"), но, потерпев окончательное поражение, был сослан на остров Святой Елены в Атлантическом океане, где он и умер.
… Разгромленная французская армия отступала по всей территории Германии; немецкая, австрийская и русская армии преследовали ее… — Осенью 1813 г., во время войны с шестой коалицией европейских держав, наполеоновская армия после поражения при Лейпциге (16–19 октября) вынуждена была покинуть Германию (в руках французов оставалось лишь несколько крепостей) и с боями пробивалась на французскую территорию.
… Реставрация вернула во Францию принцев королевского дома Бурбонов… — Реставрация — период монархии Бурбонов, восстановленной с помощью иностранных армий после падения империи Наполеона I в 1814–1815 пг. (Первая реставрация) ив 1815–1830 гг. (Вторая реставрация). Политика режима Реставрации, стремившегося ликвидировать результаты Великой французской революции, вызывала сильное недовольство в стране. В 1830 г. этот режим был свергнут в результате новой революции — Июльской.
Бурбоны — королевская династия во Франции, отпрыски династии Капетингов; ее старшая ветвь правила с перерывами в 1589–1830 пг.
… проклинал Людовика XI вовсе не за то, что тот приказал казнить Немура и Сен-Поля, не за то, что тот велел убить графа д \Арманьяка, и не за то, что тот внушал смертельный ужас своему отцу, бедному Карлу VII, и он предпочел умереть от голода из боязни быть отравленным… — Людовик XI (1423–1483) — король Франции с 1461 г.; отличался хитростью, коварством и деспотизмом; окружал себя людьми, способными на любые низости, но верными ему; будучи блестящим политиком и умело управляя людьми, он многого добился в деле централизации государства, присоединив к королевским владениям Анжу, Бургундию, Бретань и другие провинции; будучи наследным принцем, конфликтовал со своим отцом Карлом VII и участвовал в восстаниях против него.
Немур, Жак д’Арманьяк, герцог де (1437–1477) — французский феодал из рода, игравшего видную роль в средневековой Франции; предназначался семьей к духовному званию, но стал приближенным Людовика XI; в 1465 г. участвовал в восстании крупных феодалов против королевской власти; однако вскоре примирился с королем и стал губернатором Парижа и Иль-де-Франса; затем снова выступил против Людовика XI, за что был казнен по приговору Парламента.
Сен-Поль — имеется в виду Людовик Люксембургский, граф де Сен-Поль (1418–1475), представитель младшей ветви герцогов (до 1353 г. — графов) Люксембургских, ловко лавировавший между двумя непримиримыми врагами — Людовиком XI, который стремился подчинить всю Францию королевской власти, и герцогом Бургундским Карлом Смелым (1433–1477; герцоге 1467 г.), мечтой которого было создать совершенно независимое от Франции государство; коннетабль Франции (1465); был обвинен в государственной измене, судим, приговорен к смерти и казнен.
Арманьяк, Жан, граф д’ (1420–1473) — владетель области Арманьяк (в соврем, департаменте Жер) в Южной Франции; последний в своем роду; в молодости вел безнравственный образ жизни (жил и обвенчался с родной сестрой) и был вынужден бежать из Франции; получив прощение от палы, вернулся во Францию и в 1465 г. примкнул к восстанию крупных феодалов против Людовика XI; был убит. Карл VII — см. примеч. к с. 11. Конец его жизни был омрачен распрями с дофином, будущим Людовиком XI; ходили слухи, что король, боясь быть отравленным сыном, уморил себя голодом.
… за то, что тот изобрел почту! — Имеется в виду организация ок. 1470 г. во Франции государственной службы передвижения с использованием сменных лошадей, которые содержались на промежуточных почтовых станциях.
… он путал езду на почтовых с легкой почтой… — Легкая почта — в средневековой Европе перевозка верховыми гонцами государственных сообщений, а позже и частных писем (но не багажа).
… не родился на острове Робинзона Крузо! — Робинзон Крузо — герой знаменитого романа английского писателя Даниеля Дефо (ок. 1660–1731) "Жизнь и странные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка", вышедшего в 1719 г. В первой части этой книги герой, потерпевший кораблекрушение, проводит несколько лет на необитаемом острове в обществе собаки и кошки.
… передал ей письмо с тем же видом, с которым Манлий — Тальма вручал письмо, раскрывавшее его измену, Сервилию — Дамасу. — Имеется в виду эпизод из пьесы французского поэта и писателя Антуана де Лафоса (1653–1708) "Манлий", которая была создана по мотивам пьесы английского автора Т.Отуэя (1652–1685) "Спасенная Венеция, или Раскрытый заговор" (1681), посвященной теме конфликта любви и долга. Лафос, написавший свою пьесу в 1698 г., перенес ее действие в Древний Рим. Первая ее постановка успеха не имела; вторая постановка была осуществлена в 1806 г. и, несмотря на участие в ней Тальм£, тоже провалилась.
В упомянутом эпизоде участник заговора против сената Манлий Капитолийский в исполнении Тальмй передавал, по отзывам современников, в разговоре с предателем Сервилием, своим бывшим другом, множество оттенков чувств. Прототипом героя Лафоса, возможно, был римский военачальник IV в. до н. э. Манлий Капитолийский, выступивший в защиту плебеев против патрициев и убитый последними.
Тальмй, Франсуа Жозеф (1763–1826) — французский актер, реформатор театрального костюма и грима; в 1787 г. дебютировал в Комеди Франсез; в 1791 г. возглавил труппу революционно настроенных артистов, покинувших этот театр и основавших театр Республики; в 1799 г. вернулся в Комеди Франсез; прославился как актер классической трагедии, играл героев шекспировских пьес.
Дамас, Опост Александр Мирсиапь (1772–1834) — французский актер, сын парикмахера; сценическую деятельность начинал в провинции, затем был партнером Тальмй; в 1793 г. ушел вместе с ним из Комеди Франсез в театр Республики; играл главные роли в комедиях и трагедиях.
… подобно тому, как жители Аргоса повиновались Дельфийскому оракулу. — Аргос — в древности главный город греческой области Аргол ид а на полуострове Пелопоннес; до V в. до н. э. сохранял монархический образ правления; во II в. до н. э. был подчинен Римом; в средние века попеременно входил во владения Византии, Венеции и Франции, а с нач. XVIII в. — Турции; после 1821 г. неоднократно опустошался во время войны Греции за свою независимость. Дельфы — город в Средней Греции, у подножия горы Парнас, где в античную эпоху находился храм и оракул Аполлона. Дельфийский оракул пользовался в Древней Греции большим уважением, и к его предсказаниям прислушивались жители и правители всей страны.
Оракул (лат. oraculum, от огаге — "говорить") — у греков, римлян и народов Востока в древности пророчество, совет или ответ на вопрос, которые жрецы давали от имени божества; так же называлось и место (обычно храмы), где давались подобные прорицания.
… подлинным аристократом, обосновавшимся в предместье Сен-Жермен, на улице Варенн, № 4. — Сен-Жерменское предместье — в XVIII–XIX вв. аристократический район на левом берегу Сены. Улица Варенн — одна из улиц Сен-Жерменского предместья, проложена в 1605 г.; в XVIII в. была сплошь застроена аристократическими особняками.
… Он родился во времена монархии, в тот самый год, когда на трон вступил Людовик XVI. — Людовик XVI (1754–1793) — король Франции в 1774–1792 гг.; был казнен во время Революции.
… В 1784 году он представил доказательства, что его род берет свое начало не позднее 1399 года… — В кон. 70-нач. 80-х гг. XVIII в. во Франции были проведены мероприятия, усиливавшие общественную реакцию в вооруженных силах. В частности, в 1779 и 1781 гг. были изданы королевские указы, разрешавшие занимать офицерские должности только потомственным дворянам; возможно, в связи с этим здесь и упомянут 1784 год.
Что касается второго упомянутого здесь года, то, вероятно, он связан с тем, что рубежной датой для родовитого французского дворянства, принимавшегося при королевском дворе, считался XV в.
… В 1789году после взятия Бастилии он эмигрировал вместе со своим дядей. — Бастилия — крепость, построенная в 1370–1382 гг. у Сент-Антуанских ворот Парижа для его защиты и ставшая позднее государственной тюрьмой; взята восставшим народом 14 июля 1789 г., в начале Великой французской революции, а затем разрушена.
… Если бы этот младший брат стал мальтийским рыцарем, как повелевал ему долг… тогда, возможно, старший брат и простил бы ему то, что он называл похищением наследства. — Действовавшее в Западной Европе майоратное право оставляло родовое наследство и титул только за старшими сыновьями дворянских семей. Поэтому многие младшие отпрыски этих семей вступали в военно-монашеские ордена, что обеспечивало их материально.
Мальтийский орден — старейший из военно-монашеских орденов; под названием ордена святого Иоанна Иерусалимского был основан в 1099 г. в Палестине крестоносцами для обороны их владений от мусульман. Рыцари его приносили обеты послушания, бедности и целомудрия; они обязывались ухаживать за больными, для чего устроили в Иерусалиме госпиталь (отсюда второе название ордена — ♦госпитальеры"). Изгнанный из Палестины, орден обосновался сначала на острове Родос, а с XVI в. — на острове Мальта (отсюда его третье название, указанное выше). После изгнания ордена с Мальты в 1798 г. французами центр его переместился в Россию, а в нач. XIX в. — в Италию, где к концу столетия орден превратился в благотворительную организацию.
Если бы шевалье стал мальтийским рыцарем, то, согласно уставу ордена, он не мог бы жениться и его имущество в конечном счете перешло бы к детям барона.
41… не желавшая следовать примеру святого Мартина и довольствоваться половиной плаща… — Святой Мартин (ок. 316-ок. 397) — епископ города Тур во Франции (с 371 г.), славившийся своей добротой. Согласно легенде, еще будучи простым солдатом, он встретил зимой полуокоченевшего нагого нищего и, разорвав свой плащ, отдал ему половину. На следующую ночь к нему во сне явился Иисус Христос и сказал, что это его Мартин согрел плащом; после этого Мартин принял крещение и оставил войско.
42… служил в серых мушкетерах… — См. примеч. к с. 8.
… бумага… была подписана шевалье и парафирована им внизу каждой страницы… — Парафирование (от фр. paraphe — "росчерк", "сокращенная подпись") — здесь: подтверждение верности каждой страницы документа инициалами подписавшего.
… патент, подписанный Людовиком… — Имеется в виду Людовик XVIII (1755–1824) — французский король в 1814–1815 и 1815–1824 гг.; до восшествия на престол носил титул графа Прованского; в начале Великой французской революции эмигрировал из страны; после казни в 1793 г. старшего брата, Людовика XVI, провозгласил себя регентом при малолетнем племяннике, считавшемся роялистами законным королем Людовиком XVII, а после сообшения о его смерти в тюрьме (1795) — французским королем; взойдя на престол, сумел осознать невозможность полного возвращения к дореволюционным порядкам и старался несколько уравновесить влияние ультрароялистов.
43… в противоположность д'Артаньяну, своему знаменитому предшественнику, он не испытывал никакого влечения к мушкетерскому плащу. — Д’Артаньян — герой знаменитой мушкетерской трилогии романов Дюма: "Три мушкетера", "Двадцать лет спустя" и "Виконт де Бражелон"; молодой дворянин, прибывший в Париж с мечтой стать королевским мушкетером и дослужившийся до чина их капитана. Прототипом его был гасконский дворянин Шарль де Бац, сеньор д’Артаньян (ок. 1611–1673), приближенный кардинала Мазарини и Людовика XIV, храбрый воин и разведчик, командир одной из мушкетерских рот, погибший в войне с Голландией.
… видела в Дьёдонне Антиноя девятнадцатого века… — Анти ной (?— 130) — прекрасный греческий юноша, любимец императора Адриана; после смерти был объявлен богом; в его честь был основан город Антинополь, сооружен храм, изваяны статуи, чеканились монеты; в древности считался идеалом красоты молодого человека.
44… состоял в подчинении у маршала Рагузского, командующего военной свитой короля… — Имеется в виду Мармон, Опост Фредерик Луи Вьсс де (1774–1852) — французский военачальник и военный писатель, маршал Франции (1809); прикрепленный к Бонапарту во время осады Тулона, он стал адъютантом генерала в Италии и сопровождал его в Египет; с 1798 г. — генерал; в 1806 г. стал наместником Далмации; в 1808 г. пожалован титулом герцога Рагузского за успешную оборону в 1806 г. города Рагузы (соврем. Дубровник) от русских и черногорцев; воевал в Португалии (1811); в 1814 г. сражался у стен Парижа с наступавшими союзными войсками и подписал капитуляцию города, а затем сдался со своим корпусом, лишив Наполеона возможности вести дальнейшие переговоры, за что был заклеймен императором как предатель, и это закрепилось в сознании современников; получил от Людовика XVIII звание пэра и во время "Ста дней" последовал за королем в Гент; стоял во главе войск, сражавшихся с участниками Июльской революции 1830 года, и сопровождал Карла X в изгнание; оставил мемуары.
… кираса с блестящим позолоченным крестом. — Кираса — вид защитного вооружения, предназначенный для предохранения груди и спины воина, в основном всадника; выделывалась из плотного войлока, кожи, металла; в XVIII-нач. XX вв. — вооружение тяжелой кавалерии.
Крест был обязательной принадлежностью формы королевских мушкетеров и украшал их плащи и кирасы.
… с красным лицом, лишенным всякой раститительности, как у каноника ордена Святой Женевьевы… — Каноник — в католической и англиканской церквах священник, являющийся членом капитула (коллегии при епископе или настоятеле кафедрального собора). Святая Женевьева (ок. 422 — ок. 502; по другим источникам 419/420—512) — особо почитаемая во Франции святая католической церкви, небесная покровительница Парижа, по преданию, отвратившая в V в. нашествие на город гуннов; во время осады города франками организовала снабжение его продовольствием; положила начало монастырю Сен-Дени под Парижем.
Здесь речь идет о канониках аббатства святой Женевьевы, весьма почитаемого монастыря, построенного в 508 г. королем франков Хлодвигом (ок. 466–511; правил с 481 г.) на холме, названном в честь святой, в левобережной части Парижа; это аббатство славилось своей архитектурой и богатой библиотекой.
В 1634 г. орден Святой Женевьевы (его называли еще Французской конгрегацией) был преобразован, и в 1637 г. с ним соединилась конгрегация ученых богословов Парижского университета; с тех пор каноники ордена стали составлять самую многочисленную и самую значительную часть этого знаменитого учебного заведения: большая часть университетских профессоров выходила из их рядов; они руководили также всеми столичными больницами.
… выглядел бы прехорошеньким в стихаремальчика-певчего… — Стихарь — длинное платье с широкими рукавами, обычно парчовое, облачение дьяконов и певчих; также нижняя одежда священников и архиереев.
… словно палка бильбоке, исходящая из его шара. — Бильбоке — старинная французская игра, в которой привязанный на шнурок шарик подбрасывается и ловится в чашечку или на заостренную палочку.
… сравнивали его с морской птицей, которая, лишившись этих столь полезных конечностей, была окрещена "безрукой", то есть с пингвином… — По-французски пингвин — manchot ("безрукий").
45… Взгромоздившись на Баярда — таково было имя, которым барон счел уместным наградить лошадь своего брата в память о коне четырех сыновей Эмона… — Сыновья графа Эмона (или Эймона, или АЙмона) Алар (нем. Адельгарт), Ришард (Ритард), Гишар (Витсар) и Рено де Монтобан (Рейнальд из Монтальбана) — непокорные вассалы Карла Великого, храбрые рыцари, герои саги, первоначально, по-видимому, сложенной в раннем средневековье во Франции, а потом проникшей в Германию. Около 1200 г. сага была обработана в роман "История четырех сыновей" и в поэму "Рено де Монтобан". В виде книги для народного чтения сага была издана в 1493 г. в Лионе; в 1535 г. появился ее немецкий перевод.
Согласно легенде, братья-рыцари обычно ездили вчетвером на одном коне, прославившемся под именем Баярд.
46… Его распорядок изо дня в день оставался неизменным, и это сильно упростило бы задачу современного Данжо, если бы у Людовика XVIII, так же как у его прославленного предшественника и предка, Людовика XIV, был свой Данжо. — Данжо, Филипп де Курсийон, маркиз де (1638–1720) — придворный Людовика XIV, адъютант короля во всех военных кампаниях; был известен своим остроумием; автор весьма ценных мемуаров "Дневник двора короля Людовика XIV" ("Journal de la cour de Louis XIV"), полностью опубликованных лишь в 1854–1860 гг.
Людовик XIV (1638–1715) — король Франции с 1643 г., прозванный придворными льстецами "Король Солнце", так как солнце было его эмблемой; время его правления — период расцвета абсолютизма и французского влияния в Европе.
Людовик XVIII был прямой потомок Людовика XIV в пятом колене.
… со дня своего возвращения в Париж Змая 1814 года… — В этот день Людовик XVIII после первого отречения Наполеона и взятия Парижа союзниками въехал в Париж.
… до 25 декабря 1824 года, дня его смерти… — Людовик XVIII умер 16 сентября 1824 г. от гангрены обеих ступней.
… у меня нет под рукой "Искусства выверять даты*. — "Искусство выверять даты" ("L’Art de vdrifier les dates") — руководство по исчислению мировой хронологии, составленное монахами-бенедик-тинцами в XVIII в. на основании большого числа источников; выпущено в Париже в 1750 г.; во второй пол. XVIII в. и первой пол. XIX в. во Франции вышло еще несколько изданий.
… в восемь принимал первого дворянина королевских покоев или г-на Блакаса… — Первый дворянин королевских покоев — высокий придворный чин во Франции, один из ближайших приближенных монарха.
Блакас д’Ольп, Пьер Жан Казимир, герцог де (1771–1839) — французский государственный деятель, роялист, фаворит и министр Людовика XVIII; последовал за Карлом X в изгнание после Июльской революции 1830 года.
… на нем всегда присутствовала герцогиня Ангулемская с одной или двумя своими фрейлинами… — Имеется в виду принцесса Мария Тереза Шарлотта Французская (1778–1851), более известная в истории как герцогиня Ангулемская, старшая дочь Людовика XVI и Марии Антуанетты; с 1792 г. находилась вместе с родителями в заключении; в 1795 г. была обменена на попавших в австрийский плен французских политических деятелей; в 1799 г. вышла замуж за своего двоюродного брата — герцога Ангулеме кого, сына графа д’Артуа; была активной деятельницей роялистского движения; после Июльской революции жила в эмиграции; автор мемуаров о годах Революции.
… в громадной берлине с несущейся во весь опор упряжкой… — Берлина — большая дорожная карета; была изобретена в Берлине, чем и объясняется ее название.
… Без десяти шесть он возвращался в Тюильри… — Тюильри — королевский дворец в Париже, на берегу Сены, примыкавший к дворцу Лувр; построен во второй пол. XVI в. на месте находившихся здесь черепичных (или кирпичных) заводов, с чем и связано его название (tuilerie — "черепичный завод"); с октября 1789 г. главная резиденция французских монархов; в 1871 г. уничтожен пожаром.
… либо составлял комментарии к Горацию, либо читал Вергилия или Расина… — Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65-8 до н. э.) — древнеримский поэт; в числе его произведений несколько книг од. Вергилий (Публий Вергилий Марон; 70–19 до н. э.) — знаменитый римский поэт, автор героического эпоса "Энеида", а также т. н. "сельских поэм" "Буколики" и "Георгики"; приобрел большую популярность в средние века, когда ему поклонялись как волшебнику и оракулу.
Расин, Жан (1639–1699) — французский поэт и драматург; автор пьес на библейские и исторические сюжеты.
… когда г-жа дю Кэла и г-н Деказ стали пользоваться милостью короля… — Кэла (Кайла), Зоэ Таллон, графиня дю (1784–1830) — фаворитка и доверенное лицо Людовика XV11I.
Деказ, Эли, герцог (1780–1860) — французский государственный деятель и предприниматель, приближенный Людовика XVIII, умеренный роялист, стоявший за соглашение с либеральной оппозицией; в 1815–1817 гг. министр полиции, в 1817–1819 гг. — министр внутренних дел, в 1819–1821 гг. — глава правительства.
48… прогулка было длинной: король обогнул половину Парижа; выехав через заставу Звезды, он вернулся через заставу Трона. — Застава Звезды (застава Эту ал ь) была построена для взимания ввозных городских пошлин в 1788 г. у окончания проспекта Елисейские поля рядом с современной площадью Звезды (по-французски Этуапь), т. е. на западной границе города; существовала до 1860 г.
Застава Трона находилась на восточной окраине Парижа, в Сент-Антуанском предместье, по дороге в Вен сен; современное название этого места — площадь Нации.
… был раздавлен до такой степени, как будто его сняли с колеса. — Имеется в виду колесование — казнь, при которой, предварительно раздробив приговоренному конечности, с помощью особого колеса сгибали его тело так, чтобы оно представляло собой окружность, а пятки упирались в затылок. В таком положении приговоренный умирал в течение десяти — двенадцати часов.
… словно он купался в Сене. — Сена — река во Франции, длиной 776 км; течет преимущественно по Парижскому бассейну и впадает в пролив Ла-Манш; на ней стоит Париж.
… через несколько секунд был уже на Университетской улице, № 10. — Университетская улица расположена на левом берегу Сены и идет параллельно реке.
49… мечтая о тихой совместной старости, как у Филемона и Бавкиды… — Филемон и Бавкида — в греческой мифологии чета благочестивых и любящих супругов, с почетом принявших в своем бедном доме верховного бога Зевса и его вестника Гермеса (Меркурия). В награду домик Филемона и Бавкиды обратился в храм, а они испросили себе одновременную смерть по достижении глубокой старости, что и было им даровано. Их имена стали символами идеального супружества.
50… подобно дамоклову мечу, висевший у него над головой… — Дамоклов меч — выражение, означающее постоянную опасность; возникло на основе древнегреческого предания. Приближенный сиракузского тирана Дионисия Старшего (ок. 432–367 до н. э.) Дамокл завидовал счастью своего господина. Тогда тиран, чтобы показать непрочность своего положения, во время пира посадил Дамокла на свое место, подвесив сверху на конском волосе меч. Дамокл понял тщету своей зависти и просил отпустить его из дворца.
51… читал газеты, в частности "Монитёр"… — "Монитёр" ("Le Moniteur universe!" — "Всеобщий вестник") — французская ежедневная газета; была основана в 1789 г. в Париже как орган либералов; в 1799–1869 гг. — официальная правительственная газета; выходила до 1901 г.
52… выслушав доклад нашего любезного и верного канцлера Франции, съёра Данбре, командора наших орденов… — Канцлер Франции — глава судебного ведомства страны.
Данбре, Шарль Анри (1760–1829) — французский политический деятель, умеренный роялист, сторонник либеральной политики; происходил из старинной судейской семьи; был приближенным Людовика XVI и находился при нем до его казни, после чего эмигрировал; возвратился в дни Первой реставрации и получил должность хранителя печатей; во время "Ста дней" бежал в Англию; после возвращения был председателем Палаты пэров.
Командор — кавалер высокой степени какого-либо ордена; однако здесь, вероятно, имеется в виду канцлер орденов, т. е. глава орденской администрации.
… Палата пэров и Палата депутатов от департаментов созываются в обычном месте проведения их заседаний. — Имеется в виду высший законодательный орган страны, перед которым были ответственны министры; согласно действовавшей тогда во Франции конституционной хартии, состоял из двух палат — Палаты пэров и Палаты депутатов (первую их них иногда называли Верхней палатой, а вторую — Нижней). Пэры назначались королем пожизненно с правом наследования или только пожизненно; Палата пэров, кроме решения дел управления, обладала правом суда по делам о государственных и должностных преступлениях депутатов и министров. Депутаты избирались путем двухстепенных выборов, при высоком возрастном и имущественном цензе; первоначально их избирали на пять лет с ежегодным переизбранием одной пятой состава Палаты, а с 1824 г. был установлен семилетний срок депутатских полномочий с полным переизбранием состава Палаты каждые семь лет. Законы считались принятыми, если их одобрили обе Палаты. Палаты Франции обычно заседали в Париже: Палата депутатов — в Бурбонском дворце, построенном на левом берегу Сены принцами Конде в сер. XVIII в., а Палата пэров — в бывшем королевском Люксембургском дворце, построенном в нач. XVII в.
Незадолго до 5 марта 1815 г., дня, когда король узнал о высадке Наполеона, заседания Палат были прерваны до 1 мая. После получения этого чрезвычайного известия королю пришлось принять указ об их созыве. Палаты собрались, и 16 марта на их заседании присутствовал король, приветствуемый депутатами. Однако 20 марта Наполеон вступил в Париж, и никаких решений Палаты принять не успели.
… 6 марта 1815 года, в двадцатое лето нашего царствования. — То есть Людовик XVIII ведет отсчет лет своего правления с 1795 г. (см. примеч. к с. 42), а не с 1814 г., когда он реально занял престол. Ордонанс — особо важный указ короля.
… Наполеон Бонапарт объявляется предателем и бунтовщиком за вооруженное вторжение в департамент Вар. — Имеется в виду бегство Наполеона с острова Эльба, где он находился с весны 1814 г. до 26 февраля 1815 г., и высадка его 1 марта на побережье Южной Франции, в бухте Жуан, недалеко от мыса Антиб.
Вар — департамент в Юго-Восточной Франции, у Средиземного моря; включает также несколько мелких островов; административный центр — Драгиньян.
53… Но разве же они его не упрятали на какой-то остров?…На остров
Эльбу. — Эльба — остров в Тирренском море (Тосканский архипелаг), у западных берегов Апеннинского полуострова; принадлежит Италии, главный порт — Портоферрайо; место первой ссылки Наполеона I (4 мая 1814 г. — 26 февраля 1815 г.).
… был экипирован и вооружен, будто г-н Мальбрук, собравшийся на войну. — Намек на сатирическую французскую песню нач. XVIII в. "Мальбрук в поход собрался".
Мальбрук — герой популярной народной песни о воине, собравшемся на войну, известной во Франции (а в местных вариантах и в некоторых соседних странах), по крайней мере, с сер. XVI в., если не ранее. Специалисты считают, что прообразом се героя был, возможно, некий рыцарь, участвовавший в крестовых походах; однако с нач. XVIII в. этот герой стал ассоциироваться с английским полководцем Джоном Черчиллем, герцогом Мальборо (1650–1722), неоднократно и успешно воевавшим с французами. Непосредственным поводом для возникновения широко распространившейся "классической" редакции этой песни было ложное известие о гибели Мальборо в победоносной для него и неудачной для французов битве при Мапьплаке (1709).
… Корсиканский людоед покинул свой остров и высадился в заливе Жуан. — "Корсиканский людоед" — бранное прозвище Наполеона, данное ему врагами-со временниками за огромное число жертв его войн. Залив Жуан — бухта на юго-западе средиземноморского побережья департамента Приморские Альпы, расположенная западнее Антиба.
… Это небольшой порт в двух льё от Антиба. — Антиб — город и порт воФранции, на Средиземном море, в департаменте Приморские Альпы.
Льё — старинная французская мера длины: земельное льё равнялось 4,444 км, почтовое — 3,898 км, морское — 5,556 км.
55… граф д \Артуа отправляется в Лион, а герцог Бурбонский — в Ван дею. — Д’Артуа, Шарль, граф (1757–1836) — младший внук Людовика XV, брат Людовика XVI и Людовика XVIII; в 1824–1830 гг. король Франции под именем Карла X, последний из династии Бурбонов; летом 1830 г. предпринял попытку ликвидировать конституционные гарантии, установленные Хартией 1814 года, что вызвало восстание в Париже, вынудившее его отречься от престола и эмигрировать.
Граф д’Артуа действительно прибыл в Лион (см. примеч. к с. 26), чтобы воодушевить войска, выдвинутые туда против наступающего с юга Наполеона. Однако во время смотра солдаты ответили молчанием на речь командовавшего в Лионе маршала Макдональда, призвавшего их подтвердить верность Бурбонам криком "Да здравствует король!". После этого брат Людовика XVHI быстро покинул город. 10 марта войска Макдональда перешли на сторону императора, а сам маршал бежал в Париж.
Герцог Бурбонский — Луи Анри Жозеф де Бурбон (1756–1830), с 1818 г. принц Кондс; после начала Революции эмигрант, в 1792–1801 гг. служил в корпусе дворян-эмигрантов, сражавшихся против Республики; затем жил в Англии; весной 1815 г., после высадки Наполеона, Людовик XVIII назначил его главнокомандующим в западных департаментах, но он был вынужден капитулировать; покончил жизнь самоубийством при невыясненных обстоятельствах. Вандея — область на западе Франции, у побережья Атлантического океана; в прошлом составляла северную часть исторической провинции Пуату; в кон. XVIII-нач. XIX в. — центр контрреволюционных крестьянских мятежей, возглавлявшихся дворянами-роялистам и и католическим духовенством.
… Принадлежал ли он к школе стоиков? — Стоик — последователь философии стоицизма, учившей стойко и мужественно переносить жизненные испытания и послушно следовать природе и року.
… Ларошфуко как-то сказал, что в несчастьях даже нашего самого близкого друга всегда есть нечто доставляющее нам приятные мгновения. — Ларошфуко, Франсуа VI, герцог де (1613–1680) — знаменитый французский писатель-моралист, автор книги "Максимы и моральные размышления" ("Reflexions ou Sentences et Maximes morales"; 1665), представляющей собой сборник изречений; активный участник Фронды — восстания против королевского абсолютизма во Франции в 1648–1652 гг., события и атмосферу которой он изобразил в своих мемуарах (1662).
Упомянутый здесь афоризм (в переводе ЭЛинецкой: "В невзгодах наших лучших друзей мы всегда находим нечто даже приятное для себя") содержится в первом издании "Максим" (1665) под номером 99, а в современных русских изданиях — под номером 583.
56… Наполеон, вероятно, 10-го вечером войдет в Лион… — Наполеон вошел в Лион 10 марта; город пребывал в состоянии сильнейшего революционного возбуждения, повсюду раздавались крики: "Долой священников! Смерть роялистам! Бывших — на фонари! Бурбонов — на эшафот!"
… из Лиона в Париж ведут две дороги: одна через Бургундию, а другая — через Ниверне… — Бургундия — историческая провинция в Восточной Франции; территория ее в основном соответствует соврем. департаментам Кот-д’Ор, Йонна, Сона-и-Луар, Эн; развитой экономический район, знаменитый производством высококлассных вин; в средние века входила в состав феодальных владений герцогства и графства Бургундских, которые в кон. XV и в XVII вв. вошли во Французское королевство.
Ниверне — историческая провинция в Центральной Франции (соврем. департамент Ньевр), главный город Невер; в средние века графство, входившее в состав нескольких более крупных феодальных владений; с сер. XVI в. французское герцогство.
Из Лиона в Париж действительно можно добраться двумя дорогами: западной — Лион, Роанн, Мулен, Невер, Монтаржи, Фонтенбло, Париж; и восточной — Лион, Вильфранш, Турню, Шалон-сюр-Сон, Аваллон, Осер, Пон, Фонтенбло, Париж. Наполеон шел на Париж восточным путем.
57… Наполеон 17-го вошел в Осер и продолжает свой марш на столицу. — Осер — главный город департамента Йонт; расположен на пол пути от города Шалон-сюр-Сон к Парижу, примерно в 170 км от столицы. Наполеон вошел в Осер 17 марта, а 18-го к нему присоединился там маршал Ней со своими войсками.
58… Прибыв в Ипр, король увидел шевалье… — И пр — небольшой город на западе Бельгии, известный с VIII в.; последовательно входил в состав нескольких государств, а в 1830 г. окончательно остался за Бельгией.
Во время "Ста дней" резиденция Людовика XVIII находилась в городе Генте на северо-западе Бельгии, при слиянии рек Лис и Шельды; этот старинный город, с раннего средневековья ставший промышленным, торговым и культурным центром, расположен в 65 км к востоку от Ипра, в котором король мог оказаться по пути туда из Франции.
… Король приказал принести три креста Святого Людовика… — Орден Людовика Святого был основан Людовиком XIV в 1693 г. для награждения офицеров за боевые заслуги и назван в честь Людовика Святого. В отличие от других французских орденов, этот орден не имел сословных ограничений для награждения и жаловался людям всех званий.
Людовик IX Святой (1214–1270) — король Франции с 1226 г.; возглавил седьмой (1248) и восьмой (1270) крестовые походы; канонизирован в 1297 г.; день его памяти — 25 августа.
… "Сто дней" не причинили ему ни малейшего волнения. — "Сто дней" — 20 марта — 22 июня 1815 г., период второго правления Наполеона I. Против вернувшегося с Эльбы императора выступила седьмая анти французская коалиция европейских держав; в битве при Ватерлоо (18 июня) Наполеон потерпел поражение от английских, нидерландских и прусских войск, в результате чего 22 июня 1815 г. он вторично отрекся от престола.
… Настала пора Второй реставрации… — См. примеч. к с. 38.
59… познакомился там с капитаном конных гренадеров… — Конные гренадеры — вид тяжелой кавалерии, предназначавшейся для нанесения решающих ударов в бою; комплектовались из людей крупного телосложения и сидели на крупных конях.
60… напоминала природу: она приходила в ужас от пустоты. — Имеется в виду принцип средневековой физики "природа боится пустоты", которым объяснялось, например, заполнение водой всасывающего трубопровода насосной установки; он был опровергнут в XVII в. опытами итальянского физика и математика Э.Торричелли (1608–1647), доказавшего, напротив, существование безвоздушного пространства над свободной поверхностью жидкости в закрытом сверху сосуде (т. н. "торричеллиевой пустоты") и объяснившего это явление давлением атмосферы.
… представил своей невестке молодого лейтенанта гусарского полка… — Гусары — род легкой кавалерии, впервые появившийся в сер. XV в. в Венгрии как дворянское ополчение. Во Франции первые гусарские полки, сформированные в кон. XVII в., были затем распущены. Вторично гусарские части были введены в состав французской армии накануне Революции.
61… демонстрировать в лучах солнца блеск золотых галунов доломана или лихо носить ташку. — Доломан — один из видов военного мундира первоначально у гусар, а затем у других родов войск; был в ходу до кон. XIX-нач. XX в.; имел различную форму, но отличительным его признаком была отделка шнурами; другое его название — "венгерка".
Ташка — кожаная гусарская сумка для патронов и мелкого снаряжения (ее носили за спиной слева).
62… стал тем ангелом с пылающим мечом, который изгнал трех блаженных из их рая. — Согласно библейской легенде, Бог сам изгнал из рая первых людей Адама и Еву, которые вели там блаженную жизнь; он наказал их за то, что они вкусили плоды от заповедного дерева добра и зла. "И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни" (Бытие, 3: 23–24).
64… миновав мост Согласия и Бургундскую улицу, оказались на улице
Варенн… — Мост Согласия пересекает Сену у одноименной площади, примыкающей к саду Тюильри; построен в 1788–1791 гг. и сначала (до 1792 г.) назывался мостом Людовика XVI; это же название носил в 1814–1830 гг.
Бургундская улица — аристократическая улица в Сен-Жерменском предместье, проложенная в 1707 г. и названная в честь герцога Бургундского (1682–1712), внука Людовика XVI; выходит на улицу Варенн.
72 …не обязательно быть красивым, как Адонис, и смелым, как Роланд… —
Адонис — в Древней Греции божество, олицетворяющее умирающую осенью и возрождающуюся весной природу; прекрасный юноша, возлюбленный богини любви и красоты Афродиты. По одним мифам, Адонис был воспитан царицей подземного царства Персефоной, но, когда он вырос, та не пожелала отпустить его на землю. И тогда, пожаловавшись верховному богу Зевсу, Афродита добилась, чтобы Адонис проводил часть года с ней, а на остальное время возвращался к Персефоне. По другим сказаниям, Адонис был убит на охоте кабаном, и Зевс, тронутый горем Афродиты, разрешил юноше каждую весну возвращаться из царства мертвых на землю.
Роланд — храбрый рыцарь, племянник императора Карла Великого, героически погибший в битве с маврами; герой средневекового французского эпоса "Песнь о Роланде".
73… не стал уподобляться Антони или Вертеру… — Антони — заглав ный персонаж драмы Дюма "Антони" ("Antony"), одной из первых романтических пьес на современную тему; премьера ее состоялась в театре Порт-Сен-Мартен 3 мая 1831 г.; постановка имела большой успех у публики благодаря драматургическому таланту автора и блестящей игре актеров.
Антони — подкидыш, хотя и вступивший впоследствии в высшее общество, но все время страдающий от своих детских воспоминаний; его страсть к замужней женщине Адель д’Эрве приводит к трагической развязке: любовники, не имея возможности соединить свои жизни, готовы умереть вместе, но Адель боится при этом оставить своей дочери запятнанное имя, поэтому Антони по просьбе возлюбленной убивает ее кинжалом, а появившемуся тем временем мужу говорит, что убил ее, так как она не пожелала уступить его домогательствам, — тем самым была спасена честь Адель, а Антони ждал смертный приговор.
Вертер — герой романа немецкого поэта и мыслителя Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832) "Страдания молодого Вертера"; молодой человек, покончивший с собой от несчастной любви.
78… Отбойным ударом шпаги, нанесенным из четвертой позиции… — Четвертая позиция (кварта) — стойка фехтовальщика, в которой его корпус находится в полуобороте к противнику, его почти прямая правая рука слегка опущена, а острие шпаги приподнято до уровня глаз; левая рука согнута в локте; ноги согнуты и широко расставлены, ступни развернуты под углом в 45 градусов.
… он пил неразбавленный абсент… — Абсент — зеленоватого цвета настойка на полыни, широко распространенная во Франции в XIX в.; обычно ее пили перед едой, разбавляя водой; в настоящее время запрещена к употреблению из-за ее токсичности.
… Для человека, проделававшего почти все военные кампании времен Империи, это был не такой уж утомительный бивак. — Империя — время царствования Наполеона в 1804–1814 и в 1815 гг. Почти все это время Франция находилась в состоянии войны с государствами Европы.
Бивак (бивуак) — расположение войск на отдых вне населенных пунктов под открытым небом, без предварительной подготовки и с использованием лишь подручных средств; вошло в обиход военного искусства во время войн Французской революции и Наполеона.
79… отправиться вместе с ним в Гавр… — Гавр — крупный город и порт на северо-западе Франции, на берегу пролива Ла-Манш.
… они посетили пакетбот… — Пакетбот — в XVII–XIX в. название небольшого морского парусного почтово-пассажирского судна; в дальнейшем это наименование перешло на паровые суда, ходившие на регулярных межконтинентальных линиях.
80… они прибыли в Нью-Йорк. — Нью-Йорк — многолюдный город и крупнейший порт мира, важнейший хозяйственный, политический, культурный центр и транспортный узел США; находится на Атлантическом побережье; основан голландцами в нач. XVII в.; захвачен англичанами в 1664 г.; один из центров борьбы американских колоний Англии за независимость; в 1785–1790 гг. временная столица США.
… прогулки по Гудзону, посещение Ниагары… — Гудзон — река на востоке США, впадает в Атлантический океан, в нижнем течении судоходна; на ней стоит Нью-Йорк.
Ниагара, т. е. Ниагарский водопад — см. примеч. к с. 21.
… поднялся с ним по реке Святого Лаврентия до Верхнего озера, по Миссисипи отплыл из Чикаго, спустился по реке до Сент-Луиса, поднялся по Миссури до форта Мандан и там, присоединившись к каравану, следовавшему вдоль русла реки Йеллоустон, пересек вместе с ним Сьерру деЛос Мембрес и достиг Санта-Круса; затем по Рио Колорадо спустился до Калифорнийского залива… — Река Святого Лаврентия находится на востоке Канадо! (частично составляет границу с США); вытекает из озера Онтарио и дает системе Великих озер сток в Атлантический океан; протяженность ее 1 200 км от Верхнего озера и 1 200 км от Онтарио; впадает в залив Святого Лаврентия Атлантического океана, с чем и связано ее название.
Верхнее озеро — самое большое пресное озеро в мире; входит в систему Великих озер США и Канады; его воды текут в озеро Гурон через пороги Сент-Мэрис; площадь водной поверхности 82 тыс. кв. км; максимальная глубина 393 м.
Миссисипи — крупнейшая река США и одна из величайших в мире; имеет длину 3 780 км; начинается в районе Великих озер, в штате Миннесота, пересекает страну с севера на юг и впадает в Мексиканский залив; в нее впадают реки Миссури, Огайо, Арканзас, Ред-Ривер; на ней стоят города Сент-Пол, Миннеаполис, Сент-Луис, Мемфис, Виксберг, Батон-Руж, а у устья ее расположен Новый Орлеан. Чикаго — один из крупнейших промышленных городов на севере США (штат Иллинойс), на юго-западном берегу озера Мичиган, входящего в систему Великих озер, крупный порт; ведет начало от пункта торговли американских колонистов с индейцами, основанного в 70-х гг. XVIII в.; лежит в 200 км к востоку от Миссисипи и во время действия романа не имел с ней прямой водной связи. Сент-Луис — крупный город в центральной части США (штат Миссури), на реке Миссисипи, у места впадения в нее Миссури. Миссури — одна из крупнейших рек США (длина ее 4 370 км), правый приток Миссисипи; начинается на северо-западе страны, в районе Скалистых гор, течет вначале на восток, затем меняет направление на юго-восточное и впадает в Миссисипи несколько выше Сент-Луиса; на ней стоят города Бисмарк, Пирр, Омаха, Канзас-Сити; в верхнем течении Миссури вбирает в себя воды реки Йеллоустон. Мандан — небольшой город на севере США (штат Северная Дакота), в верховьях реки Миссури.
Йеллоустон — река на Среднем западе США, правый приток Миссури, длина 1 600 км; начинается в Скалистых горах, течет в каньонах, пересекая штат Монтану с юго-запада на северо-восток; в верховьях ее расположен знаменитый Йеллоустонский национальный парк. Сьерра де Лос Мембрес (sierra de los Membres) — этот топоним идентифицировать не удалось; возможно, имеется в виду один из хребтов Скалистых гор на Среднем западе США.
Сьерра (от исп. sierra — "горная цепь", букв, "пила") — составная часть названия многих горных хребтов в Испании и испаноязычных странах.
Санта-Крус (Santa-Cruz) — трудно понять, что за топоним здесь имеется в виду. Во всяком случае, это не может быть город Санта-Крус на тихоокеанском побережье США, в 90 км к югу от Сан-Франциско, поскольку он расположен в 1 000 км к западу от верховий Колорадо. Рио Колорадо — здесь: река на Дальнем западе США и в Мексике; длина 2 740 км; берет начало в Скалистых горах, протекает по полупустынным и пустынным районам, глубоким каньонам и впадает в Калифорнийский залив Тихого океана, образуя дельту; в низовьях судоходна.
Калифорнийский залив — глубокий залив Тихого океана на побережье Северной Америки; берега его принадлежат Мексике.
… В ту пору Калифорния еще принадлежала Мексике… — Калифорния — территория на тихоокеанском побережье Северной Америки; начала заселяться испанскими колонизаторами в XVIII в.; после Американо-мексиканской войны 1846–1848 гг. ее северная часть (Верхняя Калифорния) отошла к США, и в 1850 г. образованный на ее территории штат был включен в США. Южная часть Калифорнии (Нижняя Калифорния) осталась в составе Мексики. Мексика (Мексиканские Соединенные Штаты) — государство в южной части Северной Америки, расположенное между Тихим океаном и Мексиканским заливом Атлантического океана; эта территория в XVI в. была завоевана Испанией; в 1821 г. страна добилась независимости.
… где сегодня находится театр Сан-Франциско, — в бараке, в ту пору почти одиноко смотревшемся в воды Алого моря. — Конечная часть маршрута капитана и шевалье в США явно описана с ошибками, и не очень ясно, о чем здесь идет речь.
Сан-Франциско — один из крупнейших городов США, порт на тихоокеанском побережье в штате Калифорния; возник из духовной миссии и торговой стоянки Йерба-Буэна, основанной испанцами в 70-х гг. XVIII в.; это поселение отошло к США после Американо-мексиканской войны 1846–1848 гг.; в 1848 г. после открытия в его окрестностях золотых приисков стало городом и тогда же получило современное название (напомним, что описанное Дюма путешествие двух друзей происходит в 20-х гг. XIX в., когда этого города еще не существовало).
Алым (Вермейским) морем в XIX в. часто называли Калифорнийский залив, с востока омывающий Калифорнийский полуостров; такое название этого залива связано с тем, что на закате и восходе солнца его воды приобретают красный оттенок. Однако город Сан-
Франциско лежит на 1 000 км севернее Калифорнийского залива и омывается с запада водами Тихого океана, а с востока — заливом Сан-Франциско.
О каком театре здесь может идти речь, тоже сказать невозможно. Театры в Сан-Франциско появились лишь в нач. 50-х гг. XIX в., когда эта торговая стоянка превратилась в город, который стал быстро расти в связи с "золотой лихорадкой". В конце того же столетия Сан-Франциско стал одним из "театральных" городов США: в нем было 11 театров.
81… воспользоваться первым же судном, отплывающим на Таити… — Таити — остров в Южной части Тихого океана, в архипелаге островов Общества (или Товарищества), открытых английскими мореплавателями в сер. XVIII в; в первой пол. XIX в. — туземное королевство, на котором развернули свою деятельность английские миссионеры, постепенно подчинившие себе остров; в 1842 г. королевство перешло под протекторат Франции; ныне — ее владение.
… в этом цветнике Полинезии. — Полинезия — одна из основных островных групп в центральной части Тихого океана, простирающаяся от Гавайских островов до Новой Зеландии; в настоящее время часть островов Полинезии — независимые государства, часть — владения Великобритании, США, Франции, Новой Зеландии и Чили.
… они высадились на берег в Папеэте. — Папеэте — город и порт на северо-западной оконечности Таити, ныне — административный центр Французской Полинезии.
82… Кирос, первый побывавший здесь, назвал ее Саиттария; Бугенвиль, как истинный француз восемнадцатого века, — Новой Киферой; Кук — островом Друзей… — Кирос (Кирош), Педро Фернадес (1560–1614) — португальский мореплаватель на испанской службе; открыл ряд островов в Тихом океане; в 1762 г. материалы его экспедиций были захвачены англичанами и послужили основой для инструкций английским путешественникам.
Бугенвиль, Луи Антуан де (1729–1811) — французский мореплаватель, математик, член Лондонского Королевского общества и Парижской академии, дипломат; в 1766–1768 гг. совершил кругосветное путешествие, подробно описанное им в книге "Кругосветное путешествие на королевском фрегате "Будёз" и флейте "Этуаль" в 1766–1767, 1768 и 1769 годах".
Кифера (или Цитера; соврем. Китира) — греческий остров в Средиземном море, к югу от полуострова Пелопоннес. Согласно некоторым древнегреческим мифам, Кифера — первая земля, к которой приплыла богиня любви и красоты Афродита, родившаяся из морской пены; поэтому остров в древности был одним из центров ее культа. Во Франции в XVIII в. было распространено увлечение античностью, и для представителя галантного дворянства Бугенвиля было естественно назвать остров в честь богини любви.
Кук, Джеймс (1728–1779) — английский мореплаватель; во время первой возглавляемой им экспедиции 1768–1771 гг., посланной в южную часть Тихого океана, чтобы наблюдать прохождение Венеры через солнечный диск, проплыл вдоль берегов Новой Зеландии;
составил ее подробную карту, открыл пролив, разделяющий обе части Новой Зеландии (пролив Кука); руководил еще двумя экспедициями (в 1772–1775 гг. и 1776–1780 гг.) и был убит туземцами на Гавайских островах; его экспедиции имели огромное значение в области астрономии, а также открытия, исследования и картографирования островов Т ихого океана.
… Множество канакских пирог приплыло за пассажирами; эти пироги, как и подобные им в Новой Зеландии, на Сандвичевых островах и на острове Пен, были выдолблены из целого ствола дерева. — Канаки — европейское название туземцев многих островов Полинезии в XIX в.; в точном смысле слова — самоназвание коренных жителей Гавайских островов.
Пирога — название, данное европейцами в период колонизации различным типам лодок туземцев Америки и Африки и распространенное на сходные по типу лодки Океании; корпус пироги выжигали или выдалбливали из цельного ствола дерева, борта ее иногда надставляли досками, а движителями ее служили паруса и весла. Новая Зеландия — архипелаг в юго-западной части Тихого океана, состоящий главным образом из двух больших островов — Северного и Южного — и нескольких мелких; открыт в декабре 1642 г. голландскими мореплавателями и назван Землей Штатов; позднее получил современное название, поскольку его открыватели происходили из нидерландской провинции Зеландия; с 30-х гг. XIX в. колония Великобритании; ныне самостоятельное государство. Сандвичевы острова (соврем. Гавайские) — архипелаг в центральной части Тихого океана; посещались испанскими мореплавателями еще в XVI в., но официально открыты Куком в 1778 г.; были названы в честь первого лорда адмиралтейства Сандвича; в 1795 г. один из вождей местных племен, Камехамеха I (ум. в 1819 г.), объединил острова в государство; однако в первой пол. XIX в. началась их интенсивная колонизация, а затем произошло и подчинение Гавайев американцами; в 1898 г. острова были присоединены к США. Пен — остров в западной части Тихого океана (в Коралловом море), в 50 км к юго-востоку от Новой Каледонии; владение Франции.
83… около дюжины женщин, обнаженных, как античные нереиды… — Нереиды — в древнегреческой мифологии 50 дочерей морского бога старца Нерея, благожелательные к людям морские нимфы.
… гигантские мадрепоры, имеющие форму громадных губок… — Мадрепоры (мадрепоровые кораллы) — отряд неподвижных морских кишечнополостных животных, колонии которых прикрепляются ко дну; обладают мощным известковым скелетом.
… плавали женщины-нимфы… — Нимфы (гр. nymphe — "девы") — в древнегреческой мифологии долголетние, но смертные божества живительных и плодоносящих сил дикой природы.
… сел вместе с шевалье под цветущим панданом. — Пандан — род древовидных растений с воздушными корнями; растут главным образом в тропиках Восточного полушария.
84… с такой же точностью, с какой в прошлом это делали парижане по часам Пале-Рояля. — Пале-Рояль ("Королевский дворец") — резиденция кардинала Ришелье, построенная в 1624–1629 гг. и завещанная им королю Людовику XIII; дворец, сохранившйся до сих пор, расположен напротив Лувра, на современной площади Пале-Рояль; ныне там располагается высший контрольно-административный орган Французской республики — Государственный совет.
86… сел за стол, съел гуайяву… — Гуайява (гуаява, гуава) — деревья и крупные кустарники семейства миртовых, возделываемые повсеместно в тропиках, а также название их вкусных кисло-сладких плодов.
… обмакнул в чашку с кокосовым молоком клубни маниоки… — Кокосовое молоко — жидкость, содержащаяся в недозрелых плодах кокосовой пальмы, которая растет в тропиках на островах и побережьях южных морей.
Маниока — растение из семейства молочайных, родом из Бразилии, кустарник высотой в 2–3 м; корни его крупные, богаты крахмалом, синильной кислотой, ядовиты, но после удаления ядовитого вещества (с помощью промывания и высушивания) идут на приготовление питательной съедобной массы, которая легко переваривается и служит в тропических странах Америки и Африки важным пищевым продуктом.
87… в этом полинезийском Эдеме женщины и мужчины спят обнаженными… — Эдем — в библейских легендах земной рай, местопребывание первых людей до грехопадения; в переносном смысле благодатный уголок земли.
… соловей Океании, птица любви, великолепный туи… — Океания — общее название островов в центральной и юго-западной части Тихого океана, расположенных в тропических и субтропических широтах. Туи — лесная новозеландская птица из семейства медоедов.
88… казалось, что оно было выполнено не из бледного каррарского или паросского мрамора, а из флорентийской бронзы. — Каррарский мрамор — высококачественный белый мрамор, добываемый в каменоломнях в окрестностях города Каррара в Северо-Западной Италии. Паросский мрамор добывается с древнейших времен на острове Парос в группе Кикладских островов в Эгейском море, ныне принадлежащих Греции; этот мрамор имеет снежно-белый цвет.
Оба эти сорта мрамора и в древности, и в новое время служили ценным материалом для скульпторов.
Флоренция — город в Центральной Италии, центр области Тоскана; основан около 200 г. до н. э.; с XI в. фактически добился независимости; в средние века — один из крупнейших торговых, ремесленных, финансовых и культурных центров Европы; в 1861 г. вошел в единое Итальянское королевство, а в 1865–1871 гг. был его столицей. Во флорентийском ремесле большое место занимало производство шерстяных и шелковых тканей, а в искусстве — литье бронзы.
89… вокруг бедер был обмотан кусок фуляра… — Фуляр — ткань из шелковых некрученых нитей различного переплетения; отличается особой мягкостью и легкостью; самый тонкий из его многочисленных сортов, луизин, предназначается только для изготовления шейных платков.
… как будто приветствовал парижанку на бульваре Капуцинок. — Бульвар Капуцинок — часть кольцевой магистрали Бульваров, проложенных в кон. XVII-нач. XVIII вв. на месте старых крепостных стен Парижа; продолжает бульвар Итальянцев в юго-западном направлении; проложен в 1685–1705 гг.; наименование получил от находившегося неподалеку монастыря женского ответвления нищенствующего монашеского ордена капуцинов.
90… подобно Тарквинию, срубал макушки у слишком высоких трав… — Согласно рассказу древнеримского историка Тита Ливия (59 до н. э. — 17 н. э.), Тарквиний Гордый (см. примеч. к с. 16) вел войну против латинского города Габии, расположенного примерно в 18 км к востоку от Рима. Выяснив, что взять город приступом он не в силах, Тарквиний послал в Габии своего младшего сына Секста, заявившего там, что он бежал от непереносимой жестокости отца. Со временем, когда Секст стал играть в Габиях ведущую роль, он послал к отцу одного из своих людей, чтобы узнать, каких действий тот хотел бы от него. Не вполне доверяя посланцу сына, Тарквиний "на словах никакого ответа не дал, но, как будто прикидывая в уме, прошел, сопровождаемый вестником, в садик при доме и там, как передают, расхаживал в молчании, сшибая палкой головки самых высоких маков". Секст понял намек и постепенно истребил в Габиях всех старейшин, что сделало город легкой добычей для завоевателя ("История Рима от основания Города", I, 53–54).
Папайя (или дынное дерево) — плодовое тропическое дерево; приносит сочные и сладкие плоды, похожие на дыни.
… среди них высилось железное дерево… — Железное дерево — название ряда деревьев (главным образом тропических) и их древесины, отличающейся большой твердостью и нередко большим удельным весом; из нее изготовляют музыкальные духовые инструменты и некоторые части точных инструментов.
… нечто напоминающее английский сад… — Английский сад — тип свободно распланированного пейзажного парка, возникший в сер. XVIII в.; в основе его композиции лежат мотивы живой природы.
91… могло бы привлечь внимание даже самого Рассеянного — персонажа Детуша. — Детуш — прозвище французского драматурга Филиппа Нерико (1680–1754), члена Французской академии (1723), автора комедий, в которых он осмеивал дворянское тщеславие и выступал против сословных предрассудков.
Однако здесь, вероятно, имеется в виду заглавный персонаж пятиактной комедии в стихах "Рассеянный" ("La Distrait"; 1697) французского писателя-комедиографа Жана Франсуа Реньяра (1655–1709).
… китайские розы и гардении широко использовались для этого туалета. — Китайская роза — имеется в виду чайная роза, многие разновидности которой произрастают в Китае.
Гардения (китайский жасмин) — род вечнозеленых кустарников семейства мареновых, имеет душистые, чаше всего крупные цветы; европейцы носили эти цветы в XIX — нач. XX в. в петличках выходных костюмов.
92… подобно Венере — Лстарте, выходящей из моря… — Астарта — женское божество плодородия, почитавшееся в Финикии: покровительница оплодотворяющей силы природы, богиня брака и любви; в античной мифологии нередко отождествлялась с Афродитой — Венерой. В некоторых областях Греции и Рима Венера — Астарта считалась богиней грубой чувственности.
… закрутила вокруг бедер парео… — Парео — таитянская набедренная повязка.
93… им подали часть плода хлебного дерева… — Хлебное дерево — название двух видов деревьев из семейства тутовых, произрастающих в Юго-Восточной Азии; имеют плоды, богатые крахмалом и употребляемые в пищу.
… Он состоял из полудюжины фиг… — Фиги — плоды фигового дерева (инжира, или смоковницы) из семейства тутовых; произрастает в Средиземноморье и Азии.
95… у них, как у сирен с мыса Цирцеи, были рыбьи хвосты… — Сире ны — в древнегреческой мифологии сказочные существа с головой и грудью женщины и телом птицы (в более поздних мифах — с хвостом рыбы), заманивавшие своим пением мореходов на опасные места и губившие их там; жили на острове, который древние греки помещали на западе известного им мира, где-то возле Сицилии. Некоторые легенды называли местом жительства сирен скалы, близкие к острову, где обитала Цирцея, или остров Капри, или островки при входе в Салернский залив Тирренского моря, лежащие южнее Неаполитанского залива.
Цирцея (Кирка) — волшебница с острова Эя, лежащего на Крайнем западе Земли, дочь бога Солнца; ей удалось превратить в свиней половину спутников Одиссея, и та же участь едва не постигла его самого; Одиссей заставил Цирцею вернуть человеческий облик его пострадавшим товарищам, но вынужден был провести на ее острове целый год.
… одна из них держала в руках лиру, другая — систру… — Лира — струнный щипковый инструмент, распространенный с древнейших времен среди средиземноморских народов; в средние века лирами называли несколько видов одно- или многострунных смычковых европейских инструментов.
Систра — старинный струнный музыкальный инструмент, напоминающий мандалину; в нач. XIX в. в Европе был вытеснен гитарой.
… подобно Улиссу, затыкал себе уши. — Проплывая мимо побережья, где обитали сирены, Улисс (см примеч. к с. 32) заткнул своим спутникам уши воском, а его самого велел привязать к мачте и не отвязывать ни при каких обстоятельствах. Таким образом он услышал пение сирен и в то же время избежал смерти.
… вероятно, в Фивах или Мемфисе… — Фивы — греческое название древнего египетского города Уасет на Ниле, известного с сер. III тыс. до н. э. и разрушенного в 88 г. до н. э.; некоторое время Уасет был столицей Египта, одним из центров культа бога солнца Амона. Мемфис — древнеегипетский город, находившийся близ соврем.
Каира; в III тыс. до н. э. был столицей страны; затем, уступив свое первенствующее положение Фивам, все же оставался крупным экономическим и культурным центром.
… чудовищ с телом льва, но с головой и грудью женщины, символов богини мудрости Нейт, в античности названных сфинксами… — Нейт — древнеегипетская богиня мудрости, заимствованная египтянами у ливийцев; ее символами были скрещенные стрелы или лук; возможно, в глубокой древности она была богиней огня и света; изображалась с головой женщины, коршуна или льва; отождествлялась также с греческой Афиной — богиней-девственницей, покровительницей справедливой войны, мудрости и женских ремесел. Сфинкс — в Древнем Египте фантастическое существо, дух-охра-нитель и воплощение царской власти; имело тело льва и голову человека, обычно царствовавшего фараона; изображения сфинксов ставились вдоль дорог к храмам.
96… тело Ириды, посланницы богов, способное, как и она, пересекать пространство… — Ирида — в греческой мифологии вестница богов, символом которой была радуга; она сидит у ног богини-покровительницы семьи и брака Геры, жены верховного бога Зевса, и большей частью исполняет ее повеления.
97… грот, высеченный, казалось, по образцу грота Калипсо. — Калипсо — в греческой мифологии нимфа, владелица острова Огигия на Крайнем западе Земли, жившая среди прекрасной природы, в гроте, увитом виноградными лозами. Она держала у себя семь лет Одиссея, желая, чтобы он стал ее мужем, и отпустила его лишь по воле Зевса.
98… затем эти дочери Амфитриты, как сказал бы древнегреческий поэт, предались своей любимой забаве — нырянию. — Амфитрита — в греческой мифологии богиня-владычица морей, дочь морского старца Нерея и супруга бога морей Посейдона (рим. Нептуна); обычно изображалась рядом с Посейдоном на колеснице, запряженной тритонами, и с трезубцем в руках.
99… они не были похожи на богинь, готовых наказать его, словно Актеона. — Актеон — см. примеч. к с. 16.
100… Положение шевалье точь-в-точь напоминало положение Виргинии на палубе "Сен-Жерана"… — Виргиния — героиня романа французского писателя Ж.А. Бернарде на де Сен-Пьера (1737–1814) "Поль и Виргиния" (1787), девушка-дворянка, полюбившая простолюдина. Роман повествует о счастье жить по законам природы вдали от сословных предрассудков. Действие происходит во французской колонии, на острове Иль-де-Франс.
"Сен-Жеран" — французский корабль под командованием капитана Обена, перевозивший оборудование для сахарного завода, а также пассажиров; 18 августа 1774 г. он сел на рифы у острова Амбры вблизи Иль-де-Франса. Упавшая мачта разбила шлюпки; из двухсот человек экипажа и пассажиров в живых осталось лишь семь моряков и один пассажир. Берег Иль-де-Франса в районе кораблекрушения был в то время необитаем, и прошло два дня, прежде чем спасшихся на острове Амбры обнаружили охотники. Это подлинное событие, видоизменив его, изобразил в своем романе Бернарден де Сен-Пьер. Согласно сюжету романа, юная Виргиния возвращалась на этом судне из Франции, где она воспитывалась в пансионе, и погибла во время кораблекрушения. Один из матросов хотел спасти Виргинию, но она оттолкнула его, ибо он был обнажен.
… ему в голову пришла целомудренная мысль умереть подобно девственнице с Иль-де-Франса. — Речь идет о Виргинии.
Иль-де-Франс — так в 1715–1810 гг. назывался остров Маврикий, расположенный в юго-западной части Индийского океана и входящий в группу Маскаренских островов, которые лежат на морском пути из Восточной Африки в Австралию; в июле 1500 г. был открыт португальскими мореплавателями; в 1598 г. был занят голландцами, назвавшими его Маврикий по имени нидерландского принца Морица (Маврикия) Оранского (1567–1625); в 1715 г. перешел в руки французов, в 1810 г. завоеван англичанами; с марта 1968 г. независимое государство.
Название Иль-де-Франс, в 1715 г. данное острову французами, восходит к наименованию исторической провинции во Франции, прилегающей к Парижу.
101… здесь такие учителя плавания, которые стоят тех, какие были у Делиньи? — Делиньи — содержатель школы плавания в Париже в 30-х гг. XIX в., знакомый Дюма.
… Человек предполагает, а Бог располагает. — Эта старинная пословица употребляется с XVI в. в значении: непредвиденные обстоятельства могут изменить планы и намерения человека. Источник этого выражения — средневековая религиозная книга "Подражание Иисусу Христу" (I, 19, 2); оно представляет собой отголосок текста из библейской Книги Притчей Соломоновых (16: 9): "Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его".
102… обладавший геркулесовым здоровьем… — Геркулес — латинский вариант имени величайшего героя древнегреческой мифологии Геракла, известного своей атлетической мощью и богатырскими подвигами.
… В эту пору, предшествующую английскому вторжению и французскому протекторату… — Под английским вторжением на Таити здесь подразумевается проникновение на остров с 1797 г. английских миссионеров, которые к 30-м гг. XIX в. фактически захватили там власть. В 1842 г. на остров прибыли французские миссионеры, однако англичане не пустили их туда. Тогда французский адмирал А.Дюпти-Туар (1793–1864) решил выступить в защиту своих соотечественников и, воспользовавшись отсутствием на острове английского консула Причарда, добился установления над Таити французского протектората. Однако вскоре после отплытия адмирала и возвращения Причарда английское влияние на острове было восстановлено. В ответ французские корабли в конце 1842 г. вернулись на Таити, после чего была объявлена аннексия острова французской короной. Восстание, поднятое Причардом, было подавлено (1846), а сам он арестован. В 1847 г. на Таити была восстановлена власть королевской династии Помаре, но уже под протекторатом Франции.
103… с быстротой дорады подплыла к кораблю, трехцветный флаг которого свидетельствовал о его французском происхождении. — Дорада — золотистая или серебристая рыба из семейства сомовых; водится в водах Атлантического океана.
До Революции флаг королевской Франции был белым; с 1789 г. был принят трехцветный сине-бело-красный флаг, состоящий из белого королевского цвета и синего и красного цветов революционного Парижа, и он сохранился при Республике (с 1792 г.) и при Империи. В периоды Первой и Второй реставрации белый флаг был восстановлен, но Июльская революция 1830 года, свергнувшая монархию Бурбонов, снова приняла трехцветный флаг Республики и Империи.
… произошла революция 1830 года… — То есть Июльская революция 1830 года, в результате которой была окончательно свергнута монархия Бурбонов; поводом к ней послужила серия ордонансов, подписанных 25 июля королем Карлом X и опубликованных на следующий день. Этими актами во Франции фактически восстанавливалась дореволюционная абсолютная монархия. В ответ 27 июля в Париже началось восстание против королевской власти, в течение трех дней одержавшее полную победу. 1 августа Карл X отрекся от престола.
… таково было название французского брига… — Бриг — в XVIII–XIX вв. небольшой двухмачтовый корабль, применявшийся для разведывательной и сторожевой службы и крейсерских операций, а также для торговых целей.
… подумал, что заболела королева Помаре… — Помаре IV (1813—
1877) — королева Таити с 1827 г., принадлежавшая к правившей на Таити в 1762–1880 гг. королевской династии Помаре; до своего воцарения носила имя Аимата; в 1843 г. согласилась на французский протекторат и способствовала французской колонизации острова; в 1852 г. была свергнута, затем восстановлена на троне французами и вскоре отреклась от него в пользу свого сына.
104… немедленно доставить ему лауданум, эфир, мятную настойку… — Лауданум — лекарственное вещество, препарат опия или шафраноопийная настойка.
Эфир — бесцветная легколетучая жидкость с резким запахом; в медицине применяется для ингаляций и наркозов.
Мята — род многолетних трав, содержащих эфирное масло с сильным пряным запахом; масло мяты перечной употребляется в успокоительных лекарствах.
105… Он дал луидор… — Луидор (или луи, "золотой Людовика") — чеканившаяся с 1640 г. французская золотая монета крупного достоинства; стоила 20 ливров, а с нач. XVIII в. — 24 ливра; в 1795 г. луидор был заменен двадцатифранковой монетой.
… траву, которую называют речной горец. — Горец (гречишка) — род трав семейства гречишных; растут в умеренном поясе и субтропиках; некоторые их виды — лекарственные растения.
… на корабле желтая лихорадка… — Желтая лихорадка — тяжелая инфекционная болезнь, поражающая кровеносные сосуды и внутренние органы человека; часто смертельна; вирус ее переносится кровососущими насекомыми; очаги этой болезни находятся в тропической зоне Центральной и Южной Америки и Западной Африки, но она может возникнуть всюду, куда занесены переносчики инфекции.
112… на стоянке в Маниле на борт и была занесена желтая лихорадка… — Манила — крупнейший город и порт Филиппинских островов; расположен на острове Лусон; в 1571 г. был основан испанцами и стал административным центром их колонии на Филиппинах; в 1898 г. был захвачен США и стал центром их колониальной администрации.
… обогнуть мыс Горн… — Имется в виду мыс на одноименном острове в архипелаге Огненная Земля, крайняя южная точка Южной Америки; открыт в 1615 г. голландским мореплавателем В.К.Схаутеном (Схоутеном; 15807-1625) и назван в честь его родного города Горна (Хорна).
113… будь он магометанином, вполне еще мог бы иметь, согласно завету пророка, четырех законных жен. — Магометане (мусульмане) — последователи учения пророка Мухаммеда.
Мухаммед (Магомет, Муххамад; араб. "Восхваляемый"; ок. 570–632) — арабский религиозный и политический деятель, основатель религии ислама и первой общины мусульман; по мусульманским представлениям, посланник Аллаха, пророк, через которого людям был передан текст священной книги — Корана; незаурядная личность, вдохновенный и преданный своему делу проповедник, умный и гибкий политик, он добился того, что ислам превратился в одну из самых влиятельных мировых религий.
О возможном количестве жен у магометанина говорится в четвертой суре Корана ("Женщины", 3): "А если вы боитесь, что не будете справедливы с сиротами, то женитесь на тех, что приятны вам, женщинах — и двух, и трех, и четырех. А если боитесь, что не будете справедливы, то — на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы".
114… чтобы наши читатели не предавались чрезмерному умилению по поводу таитянской Ариадны. — Поверив обещанию Тесея жениться на ней, Ариадна (см. примеч. к с. 24) тайно бежала с ним с Крита. Однако Тесей, застигнутый бурей у острова Наксос, не желая везти Ариадну в Афины, покинул ее, когда она спала.
115… взяли курс на Вальпараисо… — Вальпараисо — город и порт в Чили; расположен в одноименной бухте на побережье Тихого океана; служит выходом к морю для Сантьяго, столицы страны, и всего прилегающего к ней района; основан испанцами в 1536 г.
… во время плавания из Гавра в Нью-Йорк и из Сан-Франциско на Таити… — Напомним, что город Сан-Франциско был основан только в 1849 г., т. е. значительно позднее описанных здесь событий.
116… он увидит побережье Чили… — Чили — страна на западном побережье Южной Америки; с древнейших времен ее территория была населена индейцами; открыта европейцами в 1520 г.; после ожесточенной борьбы покорена к нач. XVII в. испанцами;* в 1818 г. добилась независимости.
117… через два месяца пришвартовался в Бресте. — Брест — город и военный порт на западе Франции, на полуострове Бретань; главная французская военно-морская база на атлантическом побережье.
121… на следующий день уезжал в Лилль… — Лилль — город в Северной Франции, административный центр департамента Нор; известен с XI в.; в средние века им попеременно владели Фландрия, Бургундия, Франция, Испания, Австрия; с 1713 г. входит в состав Франции.
122… если цепляющиеся атомы его рассудка или его сердца грозили соединиться с такими же атомами женщины… — Представление о механическом сцеплении атомов различного рода и формы как основе образования всего разнообразия видов материи, сформулированное древнегреческими мыслителями начиная от Демокрита и Лукреция, при всех трансформациях удержалось вплоть до XVIII в.; однако в светских беседах упоминание о цепляющихся атомах превратилось в расхожий образ зарождения необъяснимой симпатии и притяжения между несходными характерами.
… под благовидным предлогом мести одному улану, изменившему ей… — Уланы — вид легкой кавалерии, вооруженной пиками; впервые появились в XIII–XIV вв. в монголо-татарском войске, в XVI в. — в Литве и Польше, в XVIII в. — в армиях Австрии и Пруссии; носили особые головные уборы: на конической шапке, покрывавшей голову, была укреплена основанием вверх трех- или четырехугольная пирамидка, иногда увенчанная небольшим султаном.
124… Первым порывом… порывом, которого великий дипломат советовал остерегаться, так как он всегда бывает добрым… — Имеется в виду князь Талейран-Перигор, Шарль Морис (1754–1838) — выдающийся французский дипломат, происходивший из старинной аристократической семьи; в 1788–1791 гг. епископ; член Учредительного собрания, присоединившийся к депутатам от буржуазии; в 1792 г. ездил с дипломатическим поручением в Англию; министр иностранных дел в 1797–1799, 1799–1807, 1814–1815 гг.; получил от Наполеона титул князя Беневентского; посол в Лондоне в 1830—
1834 гг.; был известен крайней политической беспринципностью и корыстолюбием, а также необычайным остроумием.
126… из той системы, которой учил Пифагор… — Пифагор (ок. 580-500 до н. э.) — древнегреческий философ и математик, политический и религиозный деятель, основатель пифагорейской школы, которая была одновременно научной группой и политической партией. Сочинений Пифагора, по-видимому, никогда не существовало, и его мысли дошли до нас в позднейших изложениях записей его учеников другими философами. Реконструкция оригинального учения Пифагора весьма затруднительна. В его основные надежно зафиксированные положения входят: учение о бессмертии души и переселении душ; зачаток учения о воспоминаниях души о том, что она видела в потустороннем мире, и требование очищения души и тела человека через познание космоса и вегетарианство, отрицание живых жертвоприношений.
… узнал под внешностью собаки одного из своих друзей, Клеомена с Тасоса, через восемь или десять лет после его смерти. — Каких-либо сведений об этом друге Пифагора найти не удалось.
Тасос — греческий остров в Эгейском море, лежащий около полуострова Халкидики.
128… отменная пулярка из Ле-Мана. — Пулярка — хорошо откормлен ная стерилизованная курица мясной породы.
Ле-Ман — см. примем, к с. 26.
… фрикасе под маринадом, под байонезом или майонезом… — Фрикасе — мелкие кусочки жареного или вареного мяса с приправой. Байонез — известный еще в XVIII в. соус, название которого связано с городом Байонна на юго-западе Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи; одной из его модификаций стал майонез. Майонез — соус из яичного желтка, растительного масла, уксуса и различных приправ; название его происходит от города Маон на острове Менорка в Средиземном море.
132… от своего виста по два лиарда за фишку? — Вист — коммерческая карточная игра, появившаяся в Англии и весьма популярная в XIX в.; видоизменившись, дала начало нескольким карточным играм, в том числе преферансу. В вист играют двое надвое. Название игры произошло от англ, whist — "молчать", так как основное правило в ней — играть молча.
Лиард — старинная французская медная монета стоимостью в четверть су.
… такие же большие, как шестифранковые экю. — Экю — старинная французская монета с изображением геральдического щита; с XIII в. по 1653 г. чеканились золотые экю; с 1641 г. по 1793 г. — серебряные; экю равнялся 60 су, или 3 ливрам; с нач. XVIII в. в обращении также находились экю, стоившие 6 ливров ("большие экю" — они здесь и имеются в виду); в XIX в. название "экю" сохранялось за пятифранковой монетой.
135… на каждом шагу, как перед рыцарем в садах Армиды, перед ним воз никали новые монстры, драконы, гиппогрифы, химеры… — Армида — действующее лицо поэмы "Освобожденный Иерусалим" итальянского поэта Торквато Тассо (1544–1595), владетельница роскошных волшебных садов, название которых стало нарицательным; красавица, увлекшая многих рыцарей.
Гиппогриф — сказочное животное, наполовину лошадь, наполовину хищная птица гриф.
Химера — в древнегреческой мифологии сказочное чудовище с телом льва, головой козы и хвостом-драконом.
142… прошел через площадь Эпар, поднялся на вал Сен-Мишель… — Площадь Эпар расположена у юго-западной границы старой части Шартра; одно из мест прогулок горожан.
Вал Сен-Мишель — вероятно, имеется в виду южная часть старинных городских укреплений Шартра, заключенная между площадью Эпар и площадью Сен-Мишель.
143… как сестрица Анна, он так и не увидел никого… — Имеется в виду персонаж сказки "Синяя Борода" Шарля Перро (см. примеч. к с. 18). Когда Синяя Борода готовится убить свою последнюю жену, ее сестра Анна из окна высматривает скачущих на помощь братьев и отвечает на вопросы о том, что она видит на дороге; долгое время Анна отвечает, что не видит братьев.
144… Как Вильгельм Нормандский… пожелал сжечь свои корабли… — Имеется в виду Вильгельм Завоеватель (1027–1087) — герцог Нормандии с 1033 г.; в 1066 г. во главе большого войска из европейских авантюристов высадился в Великобритании и захватил английский престол, заявив на него довольно сомнительные права; нормандское завоевание способствовало тому, чтобы в Англии завершилось формирование феодализма.
Согласно легенде, Вильгельм Завоеватель, высадившись 27 сентября 1066 г. в заливе Певенси на юге Англии, приказал сжечь свои корабли, тем самым отрезав себе путь к отступлению.
145… куда более мокрым, чем злосчастный Дюфавель, когда его вытащили из колодца. — В сентябре 1836 г. некто Дюфавель, рабочий, нанятый для рытья колодца в деревне близ Лиона, оказался заваленным грунтом на дне колодца глубиной в 20 м; однако корзина, предназначавшаяся для подъема выбранного грунта, послужила своеобразным перекрытием и сохранила для несчастного небольшое жизненное пространство высотой около двух метров. Дюфавелю удалось с помощью веревки дать знать, что он жив, своему напарнику, после чего немедленно начались спасательные работы, к которым были привлечены опытные саперы. К месту происшествия потянулись сотни любопытных, в церквах Лиона устраивались молебны во спасение Дюфавеля; обстановка становилась все более угрожающей, поскольку грунт продолжал опускаться. И лишь на двенадцатый день с помощью горизонтальной галерии саперам удалось пробиться к Дюфавелю и освободить его. Эта история получила широкую известность во Франции и за ее пределами.
… как факир, погруженный в созерцание своего пупа… — Факир (или дервиш) — нищенствующий мусульманский монах, а также бродячий восточный фокусник.
… начиная с турецких собачек и кончая сенбернарами. — Турецкая собачка — порода маленьких охотничьих собак южноамериканского происхождения, похожих на шпицев; долгое время считалось, что они родом из Турции, с чем и связано их название.
Сенбернар — порода очень крупных служебных и декоративных собак, выведенная в XIII–XIV вв. в Швейцарских Альпах; название породы происходит от монастыря Сен-Бернар (основан ок. 982 г.), который расположен на вершине одноименного альпийского перевала, где этих собак использовали для розыска людей, заблудившихся в горах или попавших под снежные лавины.
146… Если это был мопс, то он желал заполучить также и его даму сердца, чтобы, как он говорил, продолжить род… — Мопс — небольшая бульдогообразная декоративная собака, имеющая вместе с тем качества сторожевых собак; потомок старинных травильных псов; порода сформировалась около 300 лет назад; одно время почти вывелась, но снова стала весьма популярна в XIX в.
… борзым… он не мог простить их глупых физиономий. — Борзые — группа пород крупных ловчих собак, предназначенных для безружейной охоты на диких зверей; известны с глубокой древности.
… легавые заискивают перед всеми подряд… — Легавые — группа пород подружейных собак, используемых преимущественно для охоты на пернатую дичь.
… взрывы смеха доносились из-под украшенных яркими лентами чепчиков гризеток… — Гризетка — молодая девушка-работница (швея, шляпница, продавщица и т. п.). Это прозвище произошло от названия легкой и недорогой ткани гризет — в платья, сшитые из нее, чаще всего одевались такие девушки. Во французской литературе XIX в. возник тип гризетки как девушки веселой, кокетливой и доступной.
… эпикурейцы… наслаждались этим последним чудным деньком… — Эпикурейцы — последователи учения древнегреческого философа-материалиста Эпикура (341–270 до н. э.), утверждавшего, что цель философии состоит в том, чтобы обеспечить безмятежность духа и освободиться от страха перед смертью. Понятие "эпикурейство" часто употребляется и в переносном смысле — как стремление к личным удовольствиям и чувственным наслаждениям.
148… вовсе не какая-то фантастическая собакаf как пудель Фауста. — Фауст — герой средневековой немецкой легенды и немецких народных книг, ученый-алхимик, продавший душу дьяволу ради вечной молодости, знаний, богатства и мирских наслаждений. Легенда о Фаусте стала в различных странах материалом для множества литературных произведений, из которых наиболее известна трагедия Гёте "Фауст".
Здесь имеются в виду сцены из этой трагедии: "У ворот" и "Рабочая комната Фауста", в которых соблазнитель Фауста, дьявол Мефистофель, проникает к нему под видом черного пуделя.
… произвел почти полный осмотр всего собачьего рода с целью найти своего феникса… — Феникс — символ вечного возрождения; сказочная птица, которая, согласно древним легендам, в старости сжигала себя на костре, после чего юной возрождалась из пепла.
149… платьице из мериносовой ткани… — Имеется в виду шерстяная ткань, производимая из высококачественной шерсти овец породы мериносов.
150… Если шевалье и не имел дело с Лталантой, то ему уж точно попалась ее сестра. — Аталанта — в древнегреческой мифологии дочь героя Иаса, славившаяся быстротой ног. Не желая выходить замуж, она заявила, что отдаст руку тому, кто победит ее в беге. Это удалось Гиппомену (вариант: Меланиону), который на бегу разбрасывал золотые яблоки, подаренные ему Афродитой; Аталанта замедляла бег, подбирая их, и проиграла состязание.
151… ленты из шотландки, украшавшие ее соломенную шляпку… — Шотландка — клетчатая ткань из цветных ниток.
152… досуг, который Марс оставляет своим питомцам. — Марс — первоначально италийский бог, отождествленный затем в Риме с греческим богом войны Ареем (Аресом), сыном Зевса и Геры.
… отбивали хлеб у редакторов "Военного ежегодника"… — "Военный ежегодник" ("Annuaire militaire") — справочник, содержавший сведения о французской армии; был создан королевским указом в конце 1819 г.; публиковал списки офицерского состава.
153… можно было бы подумать, что под них подложен кринолин, если бы кринолин был уже изобретен в эту пору. — Кринолин — широкая юбка на тонких стальных обручах; была в моде в сер. XIX в.; в таком значении слово crinoline вошло во французский язык только в 1856 г. (т. е. фактически в то время, когда создавался этот роман).
154… которых его величество король Луи Филипп дал нам в сотоварищи. — Луи Филипп I (1773–1850) — король Франции в 1830–1848 гг.; происходил из младшей ветви Бурбонов — герцогов Орлеанских; вступил на престол после Июльской революции (см. примеч. к с. 103); был свергнут с него в 1848 г. и умер в эмиграции.
155… совершила чудо умножения, но не хлебов и рыб, а своих любовников. — Здесь намек на евангельский эпизод: Иисус Христос накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, не считая женщин и детей, и при этом осталось еще двенадцать полных коробов несъеденных кусков хлеба (Матфей, 14: 15–21; Иоанн, 6: 5-14).
156… Дракон Гесперид воскрес весьма кстати… — Геспериды — в греческой мифологии три или четыре нимфы, обитавшие на краю мира у берегов реки Океан; в саду их росло дерево с золотыми яблоками, которое охранял дракон Ладон (он был убит величайшим героем Гераклом).
157… разве мы не читали у Мантуанского лебедя, как называл его наш преподаватель, что где-то была булочная, в которой готовили пироги для Цербера? — Имеется в виду римский поэт Вергилий (см. примеч. к с. 47), который родился близ города Мантуя в Северной Италии. Цербер (или Кербер) — в древнегреческой мифологии трехглавый пес, стороживший вход в подземное царство мертвых. Согласно поверьям древних греков, для того чтобы Цербер пропустил душу умершего в подземное царство, его надо было угостить сладкой лепешкой, которую клали в погребальный костер.
Описывая в "Энеиде" нисхождение своего героя в подземное царство и его встречу с Цербером, Вергилий говорит, что вожатая Энея, вещая жрица Сивилла, угощает адского пса сладкой лепешкой со снотворной травой, которая усыпляет его (VI, 417–424).
159… обойдется с вами, как с буржуа из Сен-Мало. — Сен-Мало — ста ринный укрепленный город в Северо-Западной Франции на берегу одноименной бухты, департамент Ильи-Вилен; порт, служивший в XVII в. одной из главных баз корсаров, нападавших на суда враждебных Франции стран.
Здесь возможно, имеется в виду французская поговорка: "II a ete а Saint-Malo, les chiens lui ont mang6 les os" ("Дело было в Сен-Мало, собаки сгрызли до костей его") — так говорят о крайне худом человеке.
161… к военным хитростям Натти Кожаного Чулка и Коста-индейца… — Разведчик Натаниэль (Натти) Бумпо по прозвищу Кожаный Чулок — герой серии романов о Кожаном Чулке ("Зверобой", "Следопыт", "Последний из могикан", "Пионеры", "Прерия") американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789–1851). Эти романы посвящены борьбе англичан и французов за колонии в Северной Америке и освоению ее европейскими колонистами. Коста-индеец (Costa-ГIndien) — сведений о таком персонаже найти не удалось.
162… Подобно Мальчику с пальчик, разбрасывавшему камешки, которые должны были потом привести его обратно к дому… — Заглавный герой сказки Ш.Перро (см. примем, к с. 18) спасает себя и братьев, которых родители хотят завести в лес: он бросает по пути камешки и по ним находит дорогу домой.
164… приняла позу гренадера старой гвардии, защищающего свой очаг. —
Гренадеры — солдаты, обученные бросанию ручных гранат; появились в европейских армиях в нам. XVII в.; уже в середине этого столетия составляли отборные подразделения, назначавшиеся в бою в самые ответственные места.
Старая гвардия — отборные полки наполеоновской армии; обычно использовались для нанесения главного удара в сражении; стали так называться в 1807 г. после того как были сформированы новые гвардейские части, получившие название "молодая гвардия".
167… к своему великому изумлению… увидел кирасира… — Кирасиры —
род тяжелой кавалерии в европейских армиях в кон. XVI в. — нач. XX в.; имели в качестве защитного вооружения кирасы и каски; в бою предназначались для нанесения решающего удара.
170… шел так быстро… в направлении Осла, Играющего на Виоле… — Имеется в виду одна из самых знаменитых скульптур Шартрского собора, украшающая его северо-восточный угол.
… точно как собака Жана де Нивеля… — Жан II де Монморанси, сеньор де Нивель (1402–1477) — французский феодал, преданный королю Людовику XI; пытался отговорить своего сына от союза с герцогом Бургундским Карлом Смелым, а когда тот не подчинился ему, лишил его наследства и проклял. Этими событиями объясняют французское выражение "C’est le chien de Jean de Nivelle, qui s’enfuit, quand on ГарреНе" — "Это собака Жана де Нивеля, которая убегает, когда ее зовут".
… свернул на улицу Менял… — Эта улица расположена в старой части Шартра, к юго-востоку от собора; на ней сохранилось много интересных средневековых строений.
… заметил его лишь около предместья Ла-Грапп… — Предместье Ла-Грапп, ныне вошедшее в черту города, находилось к юго-востоку от него.
171… подобно женщинам Вергилия, у которых тело заканчивалось рыбьим хвостом… — Вергилий — см. примеч. к с. 47.
Однако здесь, возможно, имеется в виду образ Горация из "Науки поэзии" (см. примеч. к с. 47):
Если художник решит приписать к голове человечьей Шею коня, а потом облечет в разноцветные перья
Тело, которое он соберет по куску отовсюду —
Лик от красавицы девы, а хвост от чешуйчатой рыбы,
Кто бы, по-вашему, мог, поглядев, удержаться от смеха?
(1–5; пер. М.Гаспарова.)
173… пальцы нащупали фосфорную зажигалку. — До кон. XVIII в. огонь в Европе добывали путем высекания, используя кресало, огниво и трут. С нач. XIX в. во многих европейских странах делались попытки, иногда достаточно успешные, добывать огонь химическим путем. Ряд изобретений сделал возможным появление в 30-х гг. XIX в. в Австрии первой фабрики, производившей химические спички, напоминающие современные. До этого использовались более сложные приспособления; одно из них и имеет в виду Дюма: в плотно закрытой свинцовой бутылочке держали флакон с особо подготовленным разведенным фосфором; серной спичкой доставали немного фосфора и тотчас же добывали огонь трением о кусочек пробки, плотной материи или о другой подходящий материал.
175… Это холера-морбус, настоящая холера-морбус, азиатская холера… — Холера — тяжелая азиатская остроинфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения и вызывающая общее отравление организма человека; происходит из Индии; до нач. XIX в. в Европе была малоизвестна; в 1817–1824 гг. и в 1826–1837 гг., а также несколько раз позднее пандемия азиатской холеры захватила многие страны и вызвала многомиллионные жертвы.
Латинское слово "морбус" (morbus) означает "болезнь".
176… В вашей петлице я вижу красную ленту… — То есть ленту ордена Святого Людовика (см. примеч. к с. 58).
… захватил с собой из аптечки… чемеричную воду… — Чемеричная вода — лекарство, полученное из корней ядовитой многолетней травы из семейства лилейных — чемерицы Лобеля; применялась для лечения гипертонии и главным образом в ветеринарии для борьбы с паразитами.
192… поиграть под каштанами в серсо… — Серсо — детская игра, в которой обруч ловят на палочку с крестовиной.
… у дверей какого-нибудь трактира у заставы Вожирар… — Застава Вожирар располагалась в юго-западной (левобережной) части Парижа; название ей было дано по имени находящейся неподалеку улицы; представляла собой два небольших здания с колоннами и с навесом между ними.
193… меня определили к хозяйке одного из самых известных магазинов белья на улице Сент-Оноре. — Улица Сент-Оноре — одна из центральных улиц Парижа; ведет от дворцов Лувр и Пале-Рояль к западным предместьям города.
195… гуляли вместе по Булонскому лесу… — Булонский лес расположен к западу от Парижа; в средние века — место королевских охот; ныне общественный лесопарк в черте города; наименование получил по названию селения Булонь, находящегося неподалеку от него.
197
… где-то недалеко от Нёйи… — Нёйи (Нёйи-сюр-Сен) — в нач.
XIX в. селение у западных окраин Парижа; там находился замок герцога Орлеанского; ныне один из городских районов.
… каждое человеческое существо должно нести свой крест… — Имеется в виду тот путь, что прошел Иисус от римского судилища до Голгофы, изнемогая под тяжестью креста, на котором его должны были распять. Отсюда возникло выражение "нести свой крест" — т. е. подчиниться своей судьбе.
205… занимала на улице Гран-Сер маленькую комнатку… — Улица Гран-
Сер (Большого Оленя) расположена в старой части Шартра; на ней сохранилось много средневековых зданий.
209 Улица Сен-Мишель — большая улица в южной части Шартра, выходящая к старинным крепостным валам.
213… прожить на двадцать пять су в день, при этом зарабатывая по три франка. — Су — мелкая французская монета, одна двадцатая часть франка.
221… так и не заказавший себе места в мальпосте… — Мальпост — государственная почтовая карета, перевозившая пассажиров и почту до появления железных дорог.
222… прогулка вокруг города привела его на улицу Белой Лошади. — Ул и ца Белой Лошади расположена в западной части старого Шартра, к западу от кафедрального собора.
… Выходя с этой улицы на Соборную площадь… — Соборная площадь находится перед фасадом кафедрального собора Шартра.
224… двухколесная тележка, въезжавшая в ворота Шатле… — Ворота
Шатле находились на месте современной площади Шатле, в западной части старого Шартра, между валами Угольщиков и Сент-Фуа.
… через четверть льё отсюда, на выезде из предместья Лев… — Имеется в виду селение Лев, лежащее в километре от Шартра, в северном направлении, на дороге в Париж.
227… мог бы подобно Дон Кихоту вызвать на бой ветряные мельницы. — Имеется в виду эпизод из романа "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" испанского писателя Мигеля Сервантеса де Сааведра (1547–1616). Его герой — обедневший дворянин, вообразивший себя странствующим рыцарем, человек, чьи стремления к справедливости и жажда подвигов приходят в непримиримое противоречие с действительностью; этот образ приобрел нарицательное значение. Подъезжая к ущелью Пуэрто Лаписе, Дон Кихот видит несколько огромных мельниц, которые он принимает за великанов, и вступает с ними в бой (I, VIII).
228… вы высадитесь в Ментеноне, а оттуда уж вас заберет обратно утренний мальпост. — Ментенон — городок в 15 км к северу от Шартра, на дороге в Париж; известен прекрасным замком, который был построен в основном в XVI в., а в конце XVII в. пожалован Людовиком XIV своей фаворитке Франсуазе Скаррон (см. примеч. к с. 348), получившей титул маркизы Ментенон.
238… уж не покойный ли вы господин Сен-Жорж… — Сен-Жорж (1745–1801) — капитан гвардии герцога Орлеанского; по другим сведениям — королевский мушкетер; мулат с острова Гваделупа, сын местного откупщика и рабыни-негритянки; спортсмен и музыкант, участник войн Французской революции.
239… На улицу Сен-Гийом, предместье Сен-Жермен… — Улица Сен-
Гийом расположена в Сен-Жерменском предместье; пересекается нынешним бульваром Сен-Жермен; известна с нач. XVI в.
241… Что случилось с кохинхинками господина барона? — Кохинхин ки — порода кур, названная по имени южной провинции Вьетнама, которая во время колониального владычества Франции называлась Кохинхина (современное ее название — Намбо).
… одни были в Мадрасе, другие в домашнем колпаке… — Мадрас — женский головной убор: платок из одноименной ткани (ярких цветов, из шелковых и хлопчатобумажных нитей), повязанный на голове.
243 …На камине возвышалась медная лампа Карселя… — Карсель, Бертран Гийом (ок. 1750–1812) — французский часовщик, изобретатель масляной лампы с колесным механизмом и поршнем (1800).
… висели разнообразные медальоны с портретами короля Людовика XVII/, Карла X и монсеньера дофина. — Людовик XVIII — см. примем, к с. 42.
Карл X — см. примем, к с. 55.
Дофин — титул наследника монарха в королевской Франции; произведен от названия провинции Дофине, традиционно считавшейся его уделом.
В царствование Карла X дофином до 1830 г. (последним законным дофином) был его сын — Луи Антуан Бурбон, герцог Ангулемский (1775–1844); в 1830 г. он вслед за отцом отрекся от престола в пользу своего малолетнего племянника, графа Шамбора (1820–1883). Этот набор портретов в спальне барона свидетельствует о его легитимистских настроениях (т. е. он был сторонником т. н. легитимной — законной — монархии Бурбонов).
244… вы проживаете, по-моему, в Шартреан-Бос или в Моан-Бри… — Моан-Бри — город в 40 км к северо-востоку от Парижа, в департаменте Сена-и-Марна.
… Многочисленны ли сторонники Филиппа Орлеанского? — То есть короля Луи Филиппа I Орлеанского (см. примем, к с. 154).
… "Французская газета" несет околесицу… — "Французская газета" ("La Gazette de France" — "Газетт де Франс") — старейшая газета страны; выходила в Париже с 1631 по 1914 гг.; с 1792 г. стала ежедневной; в XIX в. была одной из главных легитимистских газет.
… Шатобриан и Фиц-Джеймс заделались либералами… — Шатобриан, Франсуа Рене, виконт де (1768–1848) — французский писатель, политический деятель и дипломат; представитель течения консервативного романтизма, автор философских и исторических сочинений, романов и повестей; сторонник монархии Бурбонов; с 1793 г. — эмигрант; сражался против революционной Франции; в 1822—
1824 гг. был министром иностранных дел и проводил реакционную внешнюю политику; Июльскую монархию встретил враждебно и отказался от звания пэра Франции.
Фиц-Джеймс Эдуар, герцог де (1776–1838) — французский политический деятель крайне правого толка; во время Французской революции вместе с членами своей семьи эмигрировал, позднее вступил в армию принца Конде; в период Консульства вернулся во Францию, но при Наполеоне нигде не служил; был активным деятелем Первой и Второй реставраций, неизменно проявляя себя как самый решительный ультрароялист; после Июльской революции 1830 года демонстративно отказался от пэрства и, будучи в 1834 г. избранным в Палату депутатов, играл там заметную роль как член праволегитимистской оппозиции.
… "Ежедневная газета" опубликовала имена знатных вельмож, настоящих знатных вельмож, людей, отцы и деды которых ездили в каретах короля и которые не постыдились стать промышленниками! — "Ежедневная газета" ("La Quotidienne" — "Котидьен") — французская газета, выходившая в Париже с 1792 по 1847 гг. (с некоторыми перерывами в годы Империи); в периоды Реставрации и Июльской монархии была одним из органов ультрароялистов.
В королевских каретах имело право ездить только старое дворянство, люди, чей род восходил по меньшей мере к XV в.
245… он обошелся мне ни много ни мало в двенадцать пистолей… —
Пистоль — испанская золотая монета с содержанием золота в 7,65 г, имевшая хождение и во Франции, а также счетная денежная единица во Франции XVII–XVIII вв., составлявшая 10 ливров.
248 "Pater est quern nuptiae demonstrant" (лат. "Отец ребенка тот, кто состоит в браке с его матерью") — положение, сформулированное в законодательстве византийского императора Юстиниана; было закреплено в статье 312 Гражданского кодекса, действовавшего во Франции во времена, описанные в романе; согласно ему, отцом ребенка, рожденного в браке, являлся муж и установление фактического отцовства запрещалось.
249… этот Орест, чьим Пиладом вы были! — Орест — герой древнегреческой мифологии и античных трагедий, сын царя Агамемнона, предводителя греческого войска, осаждавшего Трою; мстя за вероломное убийство отца, убил свою мать Клитемнестру.
Пилад — в древнегреческой мифологии и античных трагедиях верный друг Ореста и сотоварищ в его приключениях. Содружество Ореста и Пил ад а стало одним из нарицательных примеров мужской дружбы.
… Христос сказал: "Кто из вас без греха, первый брось на нее камень". — Согласно Евангелию (Иоанн, 8: 7), этими словами Иисус предотвратил расправу над женщиной, которую уличили в прелюбодеянии и по иудейскому закону должны были побить камнями.
251… пираты с бульвара Итальянцев рубят швартовы… — Бульвар
Итальянцев — часть Больших бульваров; расположен в северной их части, на правом берегу Сены; неоднократно переименовывался; настоящее свое название получил от театра Итальянцев, находившегося неподалеку.
252… улица Предместья Сент-Оноре, № 42. — Улица Предместья Сент-Оноре проходит в северо-западной части старого Парижа; проложена на месте бывшей дороги в селение Руль, вошедшее в нач. XVIII в. в число городских предместий; застраивалась преимущественно дворянскими особняками.
… нашел такую гостиницу на улице Риволи. — Улица Риволи находится в центре Парижа; пролегает у королевских дворцов Пале-Рояль, Лувр и сада Тюильри и выходит на площадь Согласия; названа в честь победы Наполеона Бонапарта над австрийской армией у селения Риволи в Северной Италии в 1797 г., в период войн Французской революции.
… с канапе, обитого утрехтским бархатом… — Имеется в виду бархат, произведенный в нидерландском городе Утрехте, известном выделкой ткани такого рода.
253… это были омнибусы, изобретение совершенно новое… — Омнибус — многоместный конный экипаж для перевозки пассажиров по определенному маршруту (первый вид общественного транспорта). Первые омнибусы на 8 человек появились в Париже в 1662 г., но этот опыт оказался неудачным. Постоянная омнибусная линия, по образцу которой подобные экипажи были введены затем по всей Европе, установилась в Париже в 1828 г.
254… как новоявленный Христофор Колумб, он, казалось, шел от открытия к открытию. — Колумб, Христофор (1451–1506) — испанский мореплаватель, по происхождению итальянец; руководитель нескольких экспедиций, пытавшихся найти морской путь в Индию с запада; во время своих плаваний открыл ряд островов Карибского моря и часть побережья Южной и Центральной Америки.
… отправиться с этой целью либо к "Вери", либо к "Провансальским братьям", либо в "Канкальский утес"… — Вери — известный парижский ресторан, который располагался вначале на террасе Фейянов в саду Тюильри, а затем, в 1808 г., разместился в одной из галерей, построенных в конце предыдущего столетия вокруг сада дворца Пале-Рояль (помещения №№ 83–86).
"Провансальские братья" — известный парижский ресторан, открытый в 1786 г. тремя молодыми людьми родом из Прованса (друзьями, а не родственниками); находился сначала по соседству с Пале-Роялем, но вскоре переместился в одну из его галерей (помещение № 88); быстро завоевал признание благодаря прекрасным винам и отличной кухне; в 1836 г. перешел в другие руки и несколько раз менял владельцев, но сохранил репутацию одного из лучших ресторанов Парижа.
"Канкальский утес" (точнее: "У Канкальского утеса") — известный парижский ресторан; в 1794–1845 гг. располагался в центре старого Парижа, на улице Монторгей, № 59 — неподалеку от королевских дворцов; своим названием был обязан приморскому городку Канкаль на северо-западе Франции, где добывали знаменитых устриц сорта "канкаль".
… фрикандо должно быть обжарено со всех сторон… — Фрикандо — блюдо из нашпигованной телятины.
… раки должны быть сварены в бордо, ведь оно не скисает на огне подобно шабли… — Бордо — название группы высокосортных вин, в основном красных столовых, получаемых из винограда, который произрастает в юго-западных районах Франции, главным образом близ Бордо — крупного французского города и порта.
Шабли — высококлассный сорт столовых белых бургундских вин.
… опустошил бутылку первоклассного шамбертена и полбутылку шато-лаффита, вернувшегося из Индии. — Шамбертен — сорт бургундских вин.
Бутылка — мера жидкости во Франции, равная 0,75 л. Шато-лаффит — одно из лучших бордосских вин; производится в замке Шато-Лаффит, в департаменте Жиронда. Здесь имеется в виду вино, которое для лучшей выдержки специально отправляли в длительное плавание.
256… он подошел к газовому фонарю… — Газовый фонарь — прибор для газового освещения, широко распространившийся в Европе в нач. XIX в., когда было освоено производство специального светильного газа; газ с заводов подавался по трубам к местам потребления; фонари и лампы, оснащенные горелками различных конструкций, устанавливались на улицах, в промышленных и общественных помещениях и в жилых домах и давали яркое и ровное пламя.
… эта личность вела собаку в сторону улицы Вивьен. — Улица Вивьен ведет от Больших бульваров на юг прямо к тыльной части сада Пале-Рояль; проложена в 1634 г.
257… Я не такой, как те флибустьеры… — Флибустьеры (от гол. vribuiter — "пират") — морские разбойники разных национальностей, грабившие главным образом испанские суда и колонии в Америке в XVII–XVIII вв. В XIX в. флибустьерами называли американских авантюристов, совершавших нападения на государства Южной и Центральной Америки.
259… Он обследовал, но безрезультатно, весь квартал Сен-Марсо… — Подразумевается предместье Сен-Марсо (точнее: Сен-Марсель), расположенное на левом берегу Сены, на юго-восточной окраине Парижа; один из рабочих районов города.
260… Две колонны коринфского ордера… — Имеется в виду один из трех классических архитектурных ордеров (дорический, ионический, коринфский), возникших в Древней Греции; получил название от города Коринф на полуострове Пелопоннес, где он возник; характеризуется высокими колоннами, стволы которых прорезаны каннелюрами и увенчаны пышной узорной главой (капителью).
… сплошь покрытых арабесками и каннелюрами… — Арабески (от фр. arabesques) — вид сложного орнамента из геометрических фигур или цветов и листьев; получил распространение в Европе под влиянием искусства Востока.
Каннелюры — вертикальные желобки на стволе колонны.
266… со времен собаки Монтаржи такого больше никто не видывал… —
Монтаржи — город в Западной Франции, административный центр департамента Луаре.
Здесь имеется в виду необыкновенная история, которая, по мнению многих историков, действительно имела место в средние века во Франции. Некий дворянин Обри де Мондидье был убит неизвестными. Через некоторое время его собака, присутствовавшая при этом, стала преследовать рыцаря де Маккера, врага убитого, чем навлекла на него подозрения. Согласно средневековым процессуальным правилам, для выяснения истины был назначен "Божий суд" — поединок, который состоялся в октябре 1371 г. в Париже. Собака победила Маккера, и потрясенный рыцарь признался в совершенном им преступлении. Собака Мондидье получила имя "пес из Монтаржи", поскольку в замке этого города, не имевшего никакого отношения к вышеизложенным событиям, находилась скульптурная группа, изображавшая схватку человека с собакой.
… под позолоченной лепниной вакхического заведения. — То есть места, где предавались разгулу. Слово "вакхический" происходит от имени древнегреческого бога вина и виноделия Вакха (рим. Бахуса); празднества в его честь отличались безудержным весельем.
… подобно тому, как свидания актеров проходили в саду Пале-Рояля. — Позади дворца Пале-Рояль (см. примеч. к с. 84) был разбит сад, окруженный в кон. XVIII в. флигелями, в которых располагались кафе, рестораны, модные лавки и игорные дома; этот сад долгие годы был одним из наиболее популярных центров общественной жизни Парижа.
… Офицер, покидая свой лагерь и отправляясь в Алжир… — Во время действия романа Франция (с 1830 г.) вела колониальную войну в Алжире, закончившуюся покорением этой страны в конце 40-нач. 50-х гг. XIX в.
267… если только пули кабилов или дизентерия не решали все иначе… —
Кабилы — древнейшее оседлое коренное население Северной Африки, обитающее в горных районах Восточного Алжира; в XIX в. принимало активное участие в национально-освободительной борьбе против французских колонизаторов.
… За исключением форменной одежды учащихся Политехнической школы или воспитанников Сен-Сирского военного училища… — Политехническая школа — основанное во время Французской революции военизированное высшее учебное заведение для подготовки артиллерийских офицеров, а также военных и гражданских инженеров. Сен-Сирская военная школа (точное название: "Специальная военная школа Сен-Сира") — одно из старейших привилегированных военных училищ Франции; основанное в 1802 г. (по другим источникам, в 1803 г.) в городе Фонтенбло, оно было переведено в 1808 г. в город Сен-Сир неподалеку от Версаля, в помещение бывшего пансиона для дочерей бедных дворян, основанного еще при Людовике XIV. Школа готовила офицеров для пехоты и кавалерии и существовала там до 1940 г., когда ее здание было разрушено немецкой авиацией; в 1946 г. было вновь открыто в другом городе.
… не видно было ни киверов, ни красных панталон… — Красные брюки были частью формы французской армии в XIX — нач. XX в.
… ничем ни примечательный шапокляк. — Шапокляк — складная шляпа-цилиндр на пружинках.
… что представляли собой в прошлом турки и во что они превратились с тех пор у как, следуя законам прогресса, Махмуд облачил их в голубой редингот и красные брюки. — Имеется в виду Махмуд II (1785–1839) — турецкий султан с 1808 г.; пытался создать в Турции централизованную империю, проведя ряд административных реформ; боролся с сепаратизмом местных правителей, жестоко подавлял национально-освободительное движение. Махмуд провел военную реформу: он распустил старую иррегулярную армию, уничтожил янычаров и организовал постоянную армию, введя в ней военную форму, напоминавшую европейскую (до этого турецкие солдаты носили восточную одежду).
268… да здравствует Тур в Турене… — Турен (Турень) — историческая область по среднему течению Луары, с центром в городе Тур, ныне — приблизительно территория департамента Эндри-Луара.
… я все же предпочитаю Нор… — Нор — департамент на севере Франции, у границ с Бельгией; главный город — Лилль.
… А Понтиви, господа? — Понтиви — небольшой город в Западной Франции, в Бретани, административный центр департамента Морбиан; в 1805–1814 и 1848–1871 гг., во времена Первой и Второй империй, назывался Наполеонвиль.
… в этом ужасном городе Шартре, Автрике карнутов… — См. примеч. к с. 7.
… подлинное похождение Ловеласа… — Ловелас — герой романа "Кларисса, или История молодой леди" английского писателя Самюэла Ричардсона (1689–1761), бессовестный соблазнитель женщин, чье имя стало нарицательным. В образе Ловеласа типизированы черты вольнодумной, циничной и развратной английской аристократии.
269… наш ветреник Людовика Пятнадцатого… — Людовик XV (1710–1774) — король Франции с 1715 г.; был известен своим аморальным образом жизни.
… какой-нибудь беглец, служивший в полку Королевских кроатов… — Кроатами до XVII в. назывались легкие (пешие и конные) войска в составе австрийской и венгерской армий; рекрутировались из числа югославянского народа хорватов, населявших северо-западную часть Балканского полуострова. В конце средних веков хорваты часто служили наемниками в других европейских армиях. Королевскими кроатами в дореволюционной французской армии назывался полк легкой кавалерии, набиравшийся из иностранных наемников.
270… Стакан лимонада, бутылочку оршада или смородиновки? А быть может, баварской? — Оршад — прохладительный напиток; в XVIII в. его изготавливали из миндального молока, дынных семечек и воды. Баварская — сладкая настойка из растительного сиропа с молоком; в XX в. была вытеснена кофе и шоколадом.
271… ценными бумагами Тара? — Гарй — французский государственный деятель, барон; с 1818 г. был директором Французского банка, и его подпись стояла на выпускаемых банком деньгах.
274… в Тюильри, на террасе Фейянов, напротив гостиницы "Лондон"… — Терраса Фейянов располагалась вдоль северной стороны сада Тюильри.
Фейяны — члены католического монашеского ордена с очень строгим уставом, основанного на юге Франции в кон. XVI в. и упраздненного во время Французской революции.
Своим названием эта терраса сада Тюильри обязана монастырю фейянов, который был основан королем Генрихом III около 1588 г. и помещался в густо застроенном квартале (через него в нач. XIX в. была проложена улица Риволи) между улицей Сент-Оноре и садом Тюильри; в конце 1789 г. монастырь был закрыт.
275… будет пускать в небо подобно новоявленному Каку огромные клубы дыма… — Как (Какус) — в римской мифологии огнедышащее чудовище, опустошавшее поля в окрестностях Рима, сын Вулкана, бога разрушительного и очистительного огня; по другой версии — разбойник, похитивший коров у Геракла и убитый им.
278… двигается в сторону заставы Фонтенбло. — Застава Фонтенбло располагалась у южной окраины Парижа, на его таможенной границе; была устроена в 1789 г. и состояла из пары двухэтажных домов с аркадами и решетками между ними; ликвидирована в 1877 г.; неоднократно переименовывалась и одно время называлась Итальянской заставой; ныне на ее месте располагается площадь Италии.
… Два художника — Альфонс Жиру, покинувший нас в расцвете сил, и Роза Бонёр, женщина с нежным именем и мощным талантом, — создали из этого спектакля две картины… — Жиру, Андре (1801 — ?) — французский художник, работавший во многих жанрах.
Бонёр, Роза (1822–1899) — французская художница-анималистка; упомянутая здесь Дюма картина "Конная ярмарка" (1853) — одна из самых значительных ее работ; находится в лондонской Национальной галерее. (Ее фамилия Bonheuг означает "Счастье".)
… за исключением нескольких першеронов и нескольких булонских тяжеловозов… — Першероны — порода крупных лошадей-тяжелово-зов, выведенных в нач. XIX в. в области Перш во Франции. Булонские тяжеловозы — одна из основных пород рабочих упряжных лошадей, разводимых во Франции.
… посредством Монкофонской живодерни отправить их в небытие. — Монфокон — восточный пригород Парижа; в средние века там была построена виселица и совершались казни; ныне находится в черте города.
Большая Монфоконская живодерня (ныне на этом месте стоит дом № 46 по улице Мо) была устроена в кон. XVIII в.; там забивали больных, увечных и старых лошадей; в 1837 г. из-за распространяемой от нее инфекции было принято решение о ее переносе.
279… так же, как это делают у Кремьё или Дрейка с полукровками ценою в тысячу экю…на Елисейских полях. — Кремьё — известная еврейская семья потомственных торговцев лошадьми, происходившая из графства Венесен на юге Франции.
Дрейк, Стивен — известный в первой пол. XIX в. парижский торговец лошадьми.
… располагался в боковых аллеях Госпитального бульвара… — Госпитальный бульвар — магистраль в левобережной части Парижа; проходит от Сены в юго-западном направлении через предместья Сен-Виктор и Сен-Марсель к площади Италии; решение о его создании было принято еще в 1704 г., но застроен он был лишь в 1760–1768 гг.; назван в честь крупнейшей в Париже больницы Сальпетриер, основанной в XVI в. и существующей доныне.
… примыкающего к заставе Фонтенбло, или к Итальянской заставе. — См. примеч. к с. 278.
280… Есть пиренейские собаки рыжеватой масти… — Пиренейские собаки (точнее: пиренейские овчарки, пиренейские мастифы) — пастушьи крупные пуделеобразные собаки, выведенные овцеводами на Пиренейском полуострове (территория соврем. Испании) и положившие начало многим породам овчарок.
… остерегайтесь их, даже если их клинка будет Мутон, как у той, что однажды изгрызла мне руку. — Кличка Мутон (фр. Mouton) означает "Баран". Историю о принадлежавшей Дюма пиренейской собаке по кличке Мутон, напавшей на своего хозяина и покалечившей ему руку, см. в "Истории моих животных", XXX.
… Есть бульдоги с приплюснутыми носами… — Бульдоги — группа пород сторожевых и бойцовых собак средней и небольшой величины; были выведены для средневекового зрелища — боев с быками; их отличительный признак — мертвая хватка; часто злобны.
… Есть террьеры, сторожевые псы, легавые, бракки и пойнтеры… — Террьеры (от лат. terra — "земля") — многочисленная группа пород средних и небольших охотничьих и декоративных собак; были выведены как бойцовые для охоты и собачьих боев; некоторые породы могут преследовать животных в норах, с чем и связано их название. Легавые — см. примеч. к с. 145.
Бракки — порода охотничьих собак, разновидность легавых. Пойнтеры — весьма ценимая охотниками старинная порода легавых охотничьих собак; выведена в Англии.
… представлены также овчарки и кингчарлзы. — Кингчарлз — мелкая декоративная пушистая собака, в XIX в. еще сохранившая свои охотничьи инстинкты; порода названа в честь английского короля Карла (Чарлза) II (1630–1685; правил с 1660 г.).
… Все породы гончих, от таксы до борзых… — Гончие — группа пород (до 40) охотничьих собак древнего происхождения, предназначенных для того, чтобы находить и преследовать зверя.
Таксы — очень старая порода охотничьих собак для добывания норного зверя; современные таксы выведены в XIX в. в Германии.
… турецкие собаки, словно сбросившие свои шубы… — См. примеч. к с. 145.
… гаванские собаки, которых лишь с большим трудом можно обнаружить под длинными шелковистыми прядями шерсти. — Гаванская собака — порода небольших длинношерстных собак преимущественно белого цвета, распространенная на Кубе.
… мопсы — эта знаменитая, если не сказать прославленная, порода собак, которая считалась вымершей, словно мамонты… — Мопс — см. примеч. к с. 145.
… Анри Моннье гордился тем, что спас память о ней от полного забвения… — Моннье, Анри (1799–1877) — французский писатель, рисовальщик и актер, мастер социально-бытовой карикатуры; создал в своих пьесах образ учителя чистописания Жозефа Прюдома, ставшего воплощением буржуазной пошлости и самодовольства.
… увидев ее, Бюффон несомненно разорвал бы в клочки свой перечень собачьих видов и родословную, которую он составил для каждой породы… — Бюффон, Жорж Луи Леклерк, граф (1707–1788) — французский математик, физик, геолог и естествоиспытатель, автор трудов по описательному естествознанию, которые подвергались жестокому преследованию со стороны духовенства; выдвинул представления о развитии земного шара и его поверхности, о единстве плана строения органического мира, отстаивал идею изменяемости видов под влиянием условий среды.
Основной труд его жизни (в сотрудничестве с другими авторами) "Всеобщая и частная естественная история" ("Histoire naturelle, generate et particuliere"). При жизни Бюффона, в течение 1749—
1788 гг., вышло 36 томов.
… На углу улицы Иври, напротив которой он стоял… — Улица Иври (соврем, улица Титьен), в XIX в. находившаяся на юго-восточной окраине Парижа, начиналась от Госпитального бульвара.
283 Улица Трех Братьев — расположена в северной части Парижа, за пределами Бульваров; названа по имени братьев Дюфур, владевших домами на ней.
285… насквозь пропитанный гастрономической моралью Бершу, проповедовавшего, что ничто не должно беспокоить достойного человека в то время, когда он принимает пищу… — Бершу, Жозеф (1765–1839) — французский поэт, автор сочинения "Гастрономия" ("La Gastronomie").
… на борту корвета "Дофин"? — Корвет (фр. corvette от лат. согbata — "грузовое судно") — в XVII–XIX вв. трехмачтовый парусный (с середины последнего столетия — парусно-паровой) военный корабль с вооружением до 32 орудий, предназначенный для разведки, посыльной службы и крейсерских операций.
Отметим, что выше этот корабль был назван бригом. Корвет занимает промежуточное положение между бригом и фрегатом.
286… отправить вас в Шарантон. — Шарантон-ле-Пон — город у юго-восточных окраин Парижа; там располагалась известная во Франции больница для умалишенных, основанная в 1644 г.
287… сел на корабль, который, выполняя кругосветное плавание, шел в
Капстад. — Капстад (английское название — Кейптаун) — город и порт, основанный в 1652 г. голландцами на юго-западе Африки, близ мыса Доброй Надежды, как главный промежуточный пункт на пути из Европы в Индию; в 1806 г. был захвачен Англией; ныне административный центр Капской провинции ЮАР.
293… кюре церкви святой Елизаветы выдаст завтра нечто потряса ющее… — Церковь святой Елизаветы Венгерской находится в северо-восточной части старого Парижа, на улице Тампль; служила церковью одного из монастырей столицы, основанного в нач. XVII в.; построена в 1615–1630 гг.; во время Революции монастырь был закрыт, а церковь превращена в склад; вновь открылась в 1802 г., и в 1829 г. была отреставрирована.
Елизавета Венгерская (1207–1231) — благотворительница и мученица; дочь короля Венгрии Андрея II, с 1221 г. ландграфиня Тюрингская, овдовевшая в двадцатилетием возрасте; была изгнана из своих владений, жила своим трудом и мучилась от тяжелых испытаний, которым подвергал ее изувер-духовник; канонизирована в 30-х гг. XIII в.
… за ним было послано на улицу Кастильо не… — Улица Кастил ьоне находится в центре старого Парижа, между улицами Риволи и Сент-Оноре; проложена в 1802 г. через несколько монастырских владений; названа в честь победы Бонапарта над австрийской армией у города Кастильоне в Северной Италии 5 августа 1796 г., во время войны революционной Франции с первой коалицией европейских государств (1792–1797).
297 Шату — небольшой город на правом берегу Сены, в окрестности Парижа, к западу от столицы.
… остановился напротив острова Буживаль. — Бужи вал ь — длинный и узкий остров в излучине Сены, южнее Шату; назван, по-видимому, по небольшому городу Буживаль, расположенному напротив него на левом берегу реки.
298… футляры из зеленой саржи… — Саржа — хлопчатобумажная или шелковая ткань с мелким диагональным переплетением; употребляется главным образом для подкладки.
300… Я лично взял их напрокат у Лепажа. — Лепаж — известная бель гийская оружейная фирма, продававшая свои изделия во многих странах Европы; ее славившиеся дуэльные пистолеты многократно упоминаются в литературе. Во Франции фирма была известна с 1716 г. и являлась поставщиком Наполеона I, Людовика XVIII и Карла X. Оружейная лавка Лепажа в Париже находилась в центре города, на улице Ришелье, № 13.
307… отвел ее на скамейку на валуЛа-Куртий… — Этот вал расположен в юго-восточной части старого Шартра.
308… трюфели больше не поступают, омаров также не найти… — Трюфели — грибы с клубневидным съедобным плодовым телом, развивающимся под землей.
Омары — морские раки из семейства беспозвоночных животных; считаются деликатесом; объект промысла и разведения.
Роман Дюма "Маркиза д’Эскоман" ("La Marquise d’Escoman"), носящий подзаголовок "Любовные драмы" ("Les Drames galants"), впервые публиковался в газете "Конституционалист" ("Le Constitutionnel) с 13.04 по 09.06.1860; первое отдельное его издание во Франции: Paris, Bourdilliat и С°, 12шо, 2 v., 1860.
Редакция перевода проведена по изданию: Bruxelles, Meline, Cans et C°, 18mo, 5 v., 1860. Роман впервые выходит на русском языке в полном объёме, без каких бы то ни было пропусков.
311… просим… позволения сопроводить их в Шатодён. — Шатодён —
небольшой город примерно в 135 км к юго-западу от Парижа; административный центр департамента Эр-и-Луар, известен с XII в.; бывшая столица владений графа Дюнуа.
… это древняя столица графства Дюнуа в Босе… — Дюнуа — графство, феодальное владение в области Бос (см. примеч. к с. 11); в XV в. принадлежало графу Жану Дюнуа (ок. 1403–1468), прозванному Бастардом Орлеанским, незаконнорожденному отпрыску французского королевского дома Валуа. Граф Дюнуа был одним из способнейших полководцев Франции периода Столетней войны с Англией (1337–1453), успешно ее завершившим; он принимал также участие в мятежах крупных феодалов против короля Людовика XI (см. примеч. к с. 39).
… Бос, включающий области Шартрен, Дюнуа и Вандомуа… — Шартрен — местность, лежащая к северо-востоку от Шатодёна и прилегающая к городу Шартру (см. примеч. к с. 7).
Вандомуа — историческая область к юго-западу от Шатодёна, прилегающая к городу Вандому; старинное феодальное владение родственников королевского дома Капетингов — дома Бурбонов; с первой пол. XVI в. — герцогство, с конца того же столетия принадлежавшее младшей ветви Бурбонов — Вандомам, которая пресеклась в нач. XVIII в.
… всем видам Швейцарии, Тироля и Пиренеев предпочитает зрелище плодородных почв… — Швейцария — горная страна в Центральной Европе, граничащая с Италией, Австрией, Германией и Францией; в древности входила в состав нескольких государств; в 1291 г. швейцарские области (кантоны) образовали независимое государство — Швейцарскую конфедерацию.
Тироль — историческая область в Альпах; с XII–XIII вв. — графство, включенное в 1363 г. в состав монархии австрийских Габсбургов; в 1796–1797 гг. ее территория входила в театр военных действий Итальянской кампании Бонапарта; в 1805 г. присоединена к Баварии, затем поделена между ней, Итальянским королевством и Иллирийскими провинциями; возвращена Австрийской империи решениями Венского конгресса 1814–1815 гг.; по Сен-Жермене кому мирному договору 1919 г., одному из закончивших Первую мировую войну, разделена между Австрией и Италией.
Пиренеи — горная цепь в Южной Европе, простирающаяся от Средиземного моря до Атлантического океана и отделяющая Францию от Испании.
Все упомянутые здесь края отличаются своей живописностью и издавна привлекают к себе туристов.
… тополей, растущих по берегам реки Луар… — Луар — река в Центральной Франции, протекающая в области Бос (левый приток Сарты, впадающей в Луару); в ее верхнем течении стоит Шатодён; длина ее 311 км.
… древний, восхитительный замок Монморанси. — Вероятно, имеется в виду замок Шатодён, сооруженный в XII в. (по другим сведениям, в X в.) и перестроенный в XVII в.
Монморанси — один из знатнейших французских аристократических родов; известен с X в.; его представители играли в XVI— нач. XIX в. видную роль в истории Франции.
312… в начале царствования Луи Филиппа… — Луи Филипп — см. примеч. к с. 154.
… в 1832году вступало в свет через двери, стремительно распахнутые перед ним революцией. — Имеется в виду Июльская революция 1830 года (см. примеч. к с. 103).
.. рожденное, подобно солдатам Кадма, из вырванных зубов дракона… — Кадм — герой древнегреческой мифологии, царевич из азиатского города Сидона, основатель и первый царь города Фивы в Средней Греции. Во время закладки города Кадм убил дракона, охранявшего местный источник и погубившего спутников героя. По совету богини мудрости Афины он посеял зубы дракона, и из них выросли воины. Кадм бросил в них камень, и они стали бороться друг с другом, а Кадм убил их всех, за исключением пяти человек. Эти оставшиеся в живых воины — спарты — стали его соратниками при основании Фив и родоначальниками знатнейших семейств города.
… поколение… зачатое между двумя сражениями в редкие минуты шаткого мира… — В годы Великой французской революции и правления Наполеона, с 1792 по 1815 гг., Франция вела фактически беспрерывные войны — как колониальные, так и против многочисленных коалиций европейских государств. Эти войны, начавшиеся со стороны Франции как оборонительные, уже через три-четыре года переросли в захватнические, превратившись в борьбу за мировое первенство (торговое, колониальное, морское), которую Директория и Наполеон вели в интересах крупной французской буржуазии. Некоторые историки считают их одной большой войной, охватившей почти весь западный мир. Редкие перерывы между кампаниями длились всего по нескольку месяцев, причем мир между воюющими державами большей частью не заключался.
… воспитанное под бой барабанов, оно в том возрасте, когда дети прыгают через скакалку и играют в мяч, встало однажды с ружьем в руках, и не в солдатских мундирах, а в школьных куртках, чтобы защищать Париж. — 30 марта 1814 г. войска союзников (преимущественно русские), обшим числом около 110 тысяч человек, подошли к столице Франции, начали атаку ее окрестностей и к вечеру пробились непосредственно к городским укреплениям; ночью фран-
23-9438 цузы капитулировали. Среди 42 тысяч защитников Парижа, кроме регулярных войск, значительную часть составляли национальные гвардейцы, а также добровольцы, инвалиды и учащиеся Политехнической школы и других учебных заведений.
… Это поколение едва знало своих отцов; бедные сироты славы видели, как те… приезжали иногда по утрам, подобно дону Родриго, явившемуся на свидание с Хименой… — Родриго и его возлюбленная Химена — герои трагедии французского драматурга П.Корнеля (1606–1684)"Сид" (1637), сюжет которой связан с темой конфликта любви и долга. Прототипом Родриго был испанский военачальник, рыцарь Родриго Диас де Бивар (1040–1099), прозванный Сидом (по-арабски — "господин") и прославившийся в борьбе с маврами. Здесь имеется в виду сцена (V, 1) трагедии: Родриго, убивший отца Химены, должен вступить в поединок с человеком, вызвавшимся отомстить за эту смерть; перед поединком Родриго является к Химене и объявляет ей, что готов умереть и идет на бой как на казнь; в ответ Химена убеждает его храбро сражаться.
… человек, чей гений стал душою всех этих отцов, был унесен ураганом, подобно Ромулу… — Имеется в виду Наполеон Бонапарт (см. примеч. к с. 38), который пользовался любовью французской армии и сохранившейся до наших дней необыкновенной популярностью во Франции.
Ромул — легендарный сын италийского бога войны Марса, основатель и первый царь Рима (753–716 до н. э.); устроитель римского государства; согласно преданиям, во время солнечного затмения был живым унесен вихрем на небо.
… Молодое же поколение спотыкалось об обломки Империи… — Империя — см. примеч. к с. 78.
… ночами грезило о песках Египта и снегах России… — Подразумеваются два исторических события: Египетская экспедиция Бонапарта — вторжение французских войск в Египет и небольшой район Юго-Западной Азии в 1798–1801 гг. (сам генерал оставался там до 1799 г.) с целью завоевания новых колоний и создания базы для действий против главной английской колонии — Индии, а также Русская кампания 1812 г. — поход Наполеона I в Россию, начавшийся переправой через Неман в ночь с 23 на 24 июня 1812 г. и отмеченный Бородинской битвой, вступлением французов в Москву, а затем уходом из Москвы, сражениями под Тарутином, Малоярославцем, Красным и на Березине, выигранными Кутузовым, гибелью Великой армии и возвращением Наполеона в Париж в декабре 1812 г. (Уничтожение Великой армии в России предопределило гибель через полтора года империи Наполеона и судьбу его самого.)
… вместо этого бога войны, этого исполина бурь — Адамастора, Антея, Гериона, — промелькнувшего, как молния, на бледном коне Смерти… — Адамастор — морское чудовище, дух бури, персонаж поэмы португальского поэта Луиса ди Камоэнса (Камоинш; 1524/1525—
1580) "Лузиады" (1572), посвященной поискам морского пути в Индию. В пятой песне поэмы Адамастор появляется из вод у мыса
Доброй Надежды и предрекает плывущему флоту всякие бедствия и конечную гибель.
Антей — в греческой мифологии великан, сын бога моря Посейдона и богини Геи-Земли; жил в Ливии, как древние греки называли известную им часть Африки, и заставлял всех людей, приходивших в его владения, бороться с ним. Антей был непобедим в единоборстве, пока касался матери-земли, от которой он получал все новые силы. Геракл победил Антея, подняв его в воздух и задушив. Герион — в греческой мифологии трехглавый великан, живший на западном краю земли, на острове Эрифейя; туда прибыл Геракл, убил Гериона и похитил принадлежавшие ему стада.
"Бледный конь Смерти" — образ из Нового Завета. В одной из его книг, Откровении Святого Иоанна Богослова (Апокалипсисе), при описании конца света и Страшного суда фигурирует "конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"" (6, 8).
… и старого короля-подагрика, сменившего прежние мантии, с которых соскоблили пчел, на новые, усеянные геральдическими лилиями. — Король-подагрик — Людовик XVIII (см. примеч. к с. 42).
Подагра (гр. podagra — букв, "капкан для ног") — хроническое заболевание, вызванное нарушением обмена веществ; проявляется в виде деформации суставов и нарушением их функций.
Пчелы были геральдическими знаками Наполеона и его династии. Лилии — геральдические знаки династии Бурбонов.
… мир прошлого, восходивший ко времени Людовика Святого… — Людовик IX Святой — см. примеч. к с. 58.
… богиня, избравшая на три года в качестве трона эшафот и в страшных муках родившая на свет свободу! — Имеется в виду Великая французская революция, которая началась 14 июля 1789 г. и привела к свержению монархии Бурбонов 10 августа 1792 г. Однако время ее наивысшего подъема — это период с лета 1792 г. по лето 1794 г.; именно в эти месяцы больше всего свирепствовал террор и больше всего было казнено людей.
313… не настал еще тот час, когда пэр Франции мог, не опасаясь скан дала, пожать руку закулисному биржевому маклеру. — Пэры — см. примеч. к с. 52.
Французская аристократия до нач. XIX в., когда стало создаваться дворянство Империи, была довольно замкнутым сословием. Она гордилась своей знатностью и привилегиями (часто совершенно формальными) и к буржуазии относилась с презрением. Но во второй пол. XIX в., когда создавался этот роман, французское дворянство уже начало сливаться в единый класс с буржуазией (через участие в ее предприятиях, брачные союзы и т. д.), отказавшись при этом от своего былого высокомерия.
… застала его в звании младшего лейтенанта гвардейских драгунов. — Драгуны — см. примеч. к с. 21.
… обещали ему при старшей ветви Бурбонов достойную карьеру… — Старшая ветвь королевской династии Бурбонов правила во Франции в 1589–1830 гг. (с перерывами). Здесь имеется в виду период Реставрации (1814–1815 и 1815–1830 гг.).
23*
Король Луи Филипп Орлеанский был представителем младшей линии Бурбонов.
… он слишком хорошего происхождения, чтобы служить королю-гражданину… — Король Луи Филипп I, который имеется здесь в виду, несмотря на свое аристократическое происхождение, боевое прошлое и огромное личное богатство, вел подчеркнуто буржуазный образ жизни (например, он ходил по Парижу в штатском костюме и с зонтиком в руках).
Словосочетание "король-гражданин" впервые появилось в воззвании от 29 июля 1830 г., в котором орлеанисты призывали избрать королем французов Луи Филиппа. Таким образом, он получал трон не по божественному праву, а был приглашен на него гражданским обществом.
… раскланивался и пел "Марсельезу". — "Марсельеза" — революционная песня, первоначально называвшаяся "Боевая песнь Рейнской армии"; с кон. XIX в. — государственный гимн Франции; была написана в апреле 1792 г. поэтом и композитором, военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лилем (1760–1836); под названием "Гимн марсельцев" (сокращенно "Марсельеза") была принесена в Париж батальоном добровольцев из Марселя и быстро стала популярнейшей песней Революции.
314… спустя месяц после вступления на престол нового короля… 5 сен тября… — Луи Филипп был призван Палатой депутатов на престол 7 августа 1830 г.; 9 августа он присягнул на верность конституционной хартии и был провозглашен королем французов.
… кавалеров ордена Святого Людовика, явившихся из прошлого столетия… — Орден Святого Людовика — см. примеч. к с. 58.
… и раскованных учеников коллежа… — Коллеж — среднее учебное заведение во Франции, часто закрытое.
… у него было не больше склонности к Ариману, чем к Ормузду… — В древнеперсидской религии зороастризма признается существование двух верховных богов: благого Ахурамазды (гр. Ормузда) и злого Анхра-Майнью (гр. Аримана). Вся мировая история есть столкновение этих высших сил; в итоге силы добра победят, чему будет способствовать явившийся перед концом мира спаситель Саошь-янт (это имя являет собой древнеперсидское причастие будущего времени от глагола "спасать").
… развлечься теми забавами, какие, как у пастуха Титира, превращали его в бога. — Титир — пастух, персонаж "Буколик" Вергилия (см. примеч. кс. 47). Здесь, вероятно, имеются в виду слова Титира:… нам бог спокойствие это доставил —
Ибо он бог для меня, и навек…
(Эклога I, 6–7; пер. С.Шервинского.)
По мнению античных комментаторов "Буколик", эти строки адресованы Октавиану Августу, проявившему милость к поэту. Как известно, Октавиану после победы над Антонием начали оказывать божеские почести.
… не будучи уже куртизанкой, она не превратилась еще в лоретку… —
Куртизанка — женщина легкого поведения, содержанка, занимающая достаточно высокое положение в обществе; здесь: проститутка. Лоретка — элегантная женщина легкого поведения; это слово, происходящее от церкви Лоретской Богоматери в Париже, в квартале близ которой селились такие женщины, вошло в моду в 1840 г., т. е. позднее описанных здесь событий.
… на службе у его величества Карла X… — Карл X — см. примем, к с. 55.
315… пойти на уступку, которую Людовик XVсделал своему врачу, дру гими словами — остепениться. — По-видимому, речь идет об эпизоде, связанном с тяжелой болезнью короля в августе 1744 г. Под влиянием проповеди епископа Суасонского Людовик XV отослал от себя свою любовницу — герцогиню Шатору.
… выгодную партию с сорока пятью тысячами ливров ренты. — Ливр — старинная французская серебряная монета и основная счетная единица во Франции; во время Революции была заменена почти равным ей по стоимости франком. Здесь, конечно, имеются в виду франки и ливр упомянут по традиции.
Рента — доход с капитала или имущества, не требующий от получателя предпринимательской деятельности. Относительная величина ее очень сильно варьируется в зависимости от вида и качества приносящего доход имущества (земля, деньги, государственные процентные бумаги и т. д.), а также политической и экономической конъюнктуры и т. п. В данном случае, поскольку капитал в один миллион франков приносит доход в 45 тысяч ливров, курс ренты составляет 4,5 %.
… на древе превосходного семейства из Блезуа. — Блезуа (или Блуа) — историческая область в провинции Турен по среднему течению Луары; главный город — Блуа.
317… умерла от приступа крупа… — Круп — воспаление слизистой оболочки гортани, вызывающее отек и затруднение дыхания; может быть самостоятельным заболеванием или симптомом некоторых инфекционных болезней.
319… полковник кирасиров… участвовал в победах Империи… и в ее поражениях, предшествовавших падению Наполеона. — Кирасиры — см. примеч. к с. 167.
Во время своих войн Наполеон дал больше сражений, чем все другие великие полководцы мировой истории. Большинство из них, особенно во время успешных кампаний периода Империи (1805 и 1809 гг. — против России и Австрии, 1806–1807 гг. — против России и^ Пруссии), закончились его блестящими победами (Аустерлиц, Йена-Ауэрштедт и др.). Даже во время проигранных императором кампаний 1812–1815 гг. большая часть данных им сражений также закончились его победами, однако основные битвы этих лет (Бородино, Лейпциг, Ватерлоо) были им проиграны. Впрочем, ряд поражений его войска потерпели и во время успешных кампаний (Амштеттен, Асперн и др.).
… был ранен на Москве-реке, ранен при Лейпциге, ранен при Монмирае и убит при Ватерлоо. — Сражением на Москве-реке французы называют сражение при Бородине, которое произошло 7 сентября
1812 г. Французской 135-тысячной армии под командованием Наполеона противостояла несколько уступавшая ей по численности русская армия под командованием Кутузова. Хотя Кутузов понимал, что силы французов неуклонно уменьшались по мере их продвижения в глубь страны, он, уступая требованиям армии, общества и императорского двора, был вынужден принять здесь бой. В кровопролитном сражении французы потеряли 58 тысяч человек, а русские — 44 тысячи, однако оно окончилось без решительного результата. Наполеону не удалось выполнить свой план прорыва фронта и окружения русской армии. После боя французские войска, занявшие ключевые пункты русской обороны, были отведены на исходные позиции. Русская армия не допустила своего разгрома, но ввиду больших потерь вынуждена была отступить. Обе стороны объявили Бородино своей победой.
Битва при Лейпциге ("Битва народов") происходила 16–19 октября
1813 г. Наполеон во главе 185-тысячной французской армии (в нее входили также итальянские, польские, голландские и бельгийские контингенты, а также войска немецких союзников) удерживал Лейпциг; против него действовали силы коалиции — 160 тысяч австрийцев и русских под командованием князя Шварценберга и 60 тысяч пруссаков под командованием Блюхера. 16 октября Шварценберг предпринял атаку. Упорный бой длился до ночи, и французы добились некоторого успеха. Обе стороны ночью получили подкрепление, и к утру 17 октября Наполеон располагал 150-тысячной армией, а союзники — 300-тысячной, включая шведов во главе с Бернадотом, однако в этот день военных действий не было. 18 октября Наполеон выступил с целью оттеснить союзников и освободить дорогу для своего отступления, но был отброшен на всех направлениях и вернулся в Лейпциг. В этот день вся саксонская армия, сражавшаяся в рядах французов, перешла на сторону союзников. В ночь на 19 октября французы отошли из Лейпцига по единственному сохранившемуся мосту. Французы потеряли 60 тысяч убитыми и ранеными, 11 тысяч их было взято в плен; союзники потеряли свыше 50 тысяч павшими.
Монмирай — город в Северо-Восточной Франции, около которого 11 февраля 1814 г. Наполеон нанес поражение русским и прусским войскам, пытавшимся наступать на Париж.
В битве при Ватерлоо (населенный пункт в Бельгии, в провинции Брабант, к югу от Брюсселя) 18 июня 1815 г. армия Наполеона была разгромлена войсками Англии, Нидерландов и Пруссии. После этого поражения Наполеон окончательно отрекся от престола и вскоре был сослан на остров Святой Елены.
… придерживавшийся роялистских убеждений… — То есть стоявший на стороне монархии Бурбонов.
320… похож ли он на Синюю Бороду. — Синяя Борода — заглавный персонаж сказки Ш.Перро (см. примеч. к с. 18), жестокий феодал, убивавший своих жен.
321… были поглощены бесконечными толкованиями статей из "Французской газеты" и "Ежедневной газеты". — См. примеч. к с. 244.
… к тому, что составляет одновременно и доблести дворянина, и пороки Арлекина: к картам, вину и женщинам. — Арлекин — традиционный персонаж итальянской комедии масок, перешедший в кон. XVII в. во Францию; первоначально простак, затем слуга-хитрец; ловко выходит из затруднительных положений, в которые он часто попадает.
323… украшала ее с благоговением брамина к своему идолу… — Брамин (брахман) — здесь: жрец одной из древнейших индийских религий — брахманизма, возникшей еще в рабовладельческом обществе. Брамины руководили жертвоприношениями и с образованием в Индии сословий составили в ней высшую касту, более широкую, чем собственно жреческую. Помимо выполнения религиозных ритуалов, брамины служили в государственном аппарате, занимались науками и искусствами, торговлей, земледелием.
324… Супрефект округа позволил себе роскошь взять… секретаря… — Супрефект — чиновник высокого ранга, руководитель государственной администрации в округе (следующей после департамента территориальной единицы во Франции).
… и принадлежал этот секретарь к одной из самых именитых нормандских фамилий. — Нормандия — историческая провинция в Северо-Западной Франции, на территории которой располагаются современные департаменты Манш, Кальвадос, Нижняя Сена и частично департаменты Орн и Эр; название этой области связано с норманнами — скандинавами-викингами, завоевавшими в нач. X в. территорию в устье Сены; с этого периода и до сер. XV в. Нормандия пользовалась относительной политической самостоятельностью; в 1468 г. была окончательно включена в королевские владения.
… не мог подобрать заклинания "Сезам, откройся!". — Это слова из сказки "Али-Баба и сорок разбойников", традиционно считающейся частью памятника средневековой арабской литературы "Тысяча и одна ночь", однако на самом деле в этот сборник не входящей, а включенной туда переводчиком "Тысячи и одной ночи" на французский язык (в 1704–1708 гг.) А.Галланом (1646–1717), который взял ее из другой рукописи.
Этим заклинанием открывался вход в заколдованную пещеру, где хранились сокровища.
326… Воспитанник Сен-Сирской школы… — См. примеч. к с. 267.
327… В полную противоположность тому коронованному чудовищу, которое желало, чтобы весь народ имел лишь одну голову, дабы отсечь ее одним ударом… — Имеется в виду третий римский император из династии Юлиев-Клавдиев Гай Цезарь, по прозвищу Калигула (12–41, правил с 37 г.), отличавшийся необузданной жестокостью. Однажды в театре, разгневавшись на зрителей, в обиду ему рукоплескавших другим возницам, он воскликнул: "О если бы у римского народа была только одна шея!" (Светоний, "Жизнь 12 цезарей", "Гай Калигула", 30).
328… кобылы, которую грум… держал под уздцы. — Грум (англ, groom) — слуга, сопровождающий своего господина верхом, а также находясь на козлах или на запятках кареты.
329… Ученик Вестриса I, сохранивший своеобразное почитание бога танца… — Имеется в виду Вестрис, Гаэтано Аполлино Бальтазаре (1729–1808) — французский артист, балетмейстер и педагог; по происхождению итальянец; ведущий танцовщик Королевской академии музыки (театра Гранд-опера), в 1770–1776 гг. ее балетмейстер; достиг высшего уровня танца и пантомимы балетного классицизма; заслужил прозвище Бог танца.
Его часто называли Вестрисом I, поскольку знаменитым танцовщиком Гранд-опера и театральным педагогом был и его сын — Вестрис, Опост (настоящее имя — Мари Жан Огюстен; 1760–1842), носивший также прозвище Вестр’Аллар (его матерью была танцовщица Мари Аллар).
… имел в своем репертуаре и флик-фляки, и жете-баттю, и па-де-зефир, и антраша. — Флик-фляк (фр. flic-flac — "шлёп-шлёп" или "хлоп-хлоп") — тренировочное балетное движение ног, развивающее ловкость и поворотливость.
Жете (от фр. jeter — "бросать", "кидать") — название нескольких балетных движений, исполняемых броском ноги вперед, в сторону или вверх, а также прыжок с ноги на ногу.
Баттю (battu, от фр. battre — ибить") — прыжковые движения в танце, усложненные ударами одной ноги о другую, а также ряд быстрых и коротких ударов носком движущейся ноги по ноге опорной. Па-де-зефир (фр. pas de Zephire) — фигура в балете, которую исполняют, держась на одной ноге и размахивая другой.
Антраша (фр. entrechat от ит. intrecciata — "переплетенный", "скрещенный") — виртуозный балетный прыжок вверх, во время которого ноги танцовщика несколько раз быстро скрещиваются в воздухе, касаясь друг друга.
… выделывал батманы… — Батманы (фр. battement — "удар", "биение") — в балете группа движений и упражнений для ног: вытягивание, резкое или плавное поднимание ноги и т. п.
330 Луидор — см. примеч. к с. 105.
331… отражая удар в первой позиции… — Первая позиция (ангард) — основная поза фехтовальщика, в которой он стоит правым боком к противнику, вытянув шпагу горизонтально на уровне плеча; левая рука его приподнята и согнута в локте; ноги расставлены и слегка согнуты, а ступни развернуты под прямым углом.
… он наступает в четвертой позиции… — См. примеч. к с. 78.
332… горделиво и простодушно изображающего Лескюра или Боншана. — Здесь упомянуты два известных участника Вандейского восстания. Лескюр, Луи Мари де Сальг, маркиз де (1766–1793) — до Революции офицер королевской армии, затем генерал вандейских войск; был смертельно ранен в битве при Трамбле и умер при отступлении его войск в сторону Шоле.
Боншан, Шарль, маркиз де (ок. 1760–1793) — французский офицер, ставший главнокомандующим вандейцев; принимал участие во многих сражениях, был смертельно ранен в сражении под Шоле 17 октября 1793 г.; его перенесли в Сен-Флоран, и он успел предотвратить расстрел нескольких тысяч собранных там пленных республиканцев.
347… напоминало ему печальные слова Священного писания: "Ибо прах ты и в прах возвратишься". — Священное писание — божественная книга, священная история иудеев и христиан; состоит из Ветхого Завета, признаваемого обеими религиями, и Нового Завета, признаваемого только христианами.
Приведенные здесь слова Бог сказал Адаму, изгоняя его из рая (Бытие, 3: 19).
… рапирой я всегда действовал довольно ловко. — Рапира — колющее холодное оружие, известное в Европе со второй пол. XVII в.; служила также спортивным и учебным оружием (в этом случае имела для безопасности утолщение на конце).
348… этой военной школы, основанной г-жой де Ментенон вначале как пансион для девиц. — Ментенон, маркиза де (в девичестве Франсуаза д’Обинье, по мужу Скаррон; 1635–1719) — последняя фаворитка Людовика XIV, на которой он тайно женился после смерти своей жены королевы Марии Терезы.
353… талисман, который отныне вы должны носить на шее, словно это "Agnus Dei". — Agnus Dei (лат. Агнец Божий) — одно из прозваний Христа, связанное со словами из евангелия от Иоанна: "На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира" (1: 29). С кон. VI в. эти слова вошли в молитву, которая читается священниками в конце службы. В ранней церкви все принявшие крещение получали в виде амулета восковое изображение агнца с крестом.
Название "Agnus Dei" носили также таблички, выполненные из различного рода материалов и изображающие агнца с крестом или Иоанна Крестителя; с XIX в. эти таблички освящались папами и раздавались важным лицам.
354 …вы несколько опрометчиво забываете заповедь Писания: "Тот, кто ищет опасности, от нее и погибает". — Неясно, какой библейский текст имеется здесь в виду. Ближайшие по смыслу стихи из Ветхого Завета: "Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю" (Осия, 8: 7), а из Нового Завета: "Все, взявшие меч, мечом погибнут" (Матфей, 26: 52).
… Ученик Эскулапа объявил… — Эскулап — римская транскрипция греческого бога врачевания Асклепия, сына Аполлона и одной из нимф. Асклепий достиг такого искусства во врачевании, что даже воскрешал мертвых, нарушая законы судьбы. За это верховный бог Зевс испепелил его своей молнией, но, правда, затем взял его на небо и сделал богом. В европейской традиции имя Эскулапа закрепилось как прозвище врачей, часто ироническое.
355… Благие намерения, которыми вымощен ад. — Здесь перефразировано выражение "Благими намерениями вымощен ад", приписываемое английскому писателю Б.Джонсону (1709–1784).
358… Его воображение, как Пигмалион, создало женщину! — Пигмали он — в греческой мифологии царь Кипра, знаменитый скульптор, влюбившийся в изваянную им статую девушки Галатеи; по просьбе художника богиня любви и красоты Афродита оживила ее.
361… Он пошлет, как сделал это для слепого Товита, одного из своих ангелов… — Когда благочестивый Товит, герой ветхозаветной Книги Товита, обеднел, ибо потратил все имущество на дела милосердия, и ослеп, ибо заболел, погребая тела казненных ассирийским царем Салманасаром, он отправил своего юного сына Товию за серебром, которое им было оставлено некогда в Мидии (область на Иранском нагорье). В сопровождении некоего Азарии (на самом деле, это был посланный Богом в помощь ему ангел Рафаил) Товия отправляется в путь, преодолевает множество препятствий, добывает серебро, жену и чудодейственное лекарство и возвращается в родной дом, где исцеляет Товита.
368… не имея в своем распоряжении облака, как у отважного Юпитера,
вы не были бы раздосадованы, если бы сдержанность друга заместила вам его. — Возможно, здесь имеется в виду эпизод из "Илиады" Гомера: находясь на вершине горы, верховная богиня Гера, чтобы отвлечь своего супруга Зевса от битвы греков с троянцами, обольщает его и склоняет к соитию, и тогда пылающий от страсти Зевс, дабы скрыть их любовное ложе от взоров смертных и богов, распростирает над ним золотое облако (XIV, 342–351).
… Вот за это я и люблю тебя, моя толстая гуронка, моя свирепая алгонкинка! — Гуроны (от фр. hure — "срезанная голова") — презрительное прозвище, которое дали французские колонизаторы в Северной Америке группе индейских племен виандотов. Виандоты создали свой военный союз и сражались против англичан и союзных им племен, а позднее и против американцев. В ходе этих войн они были вытеснены с родных мест и почти полностью уничтожены. Алгонкины — группа многочисленных родственных племен североамериканских индейцев, живших на территории современных США и Канады. В XVII–XVIII вв. они были вовлечены французами в войны против англичан и союзных им племен, а позднее — англичанами против американцев. В итоге алгонкины были вытеснены из своих владений колонизаторами и значительно истреблены.
370… Злая волшебница Карабосса и вас коснулась своей палочкой. — Карабосса — персонаж французских сказок: злая фея, уродливая горбатая старуха.
371… поглощающей трюфели… — Трюфели — см. примеч. к с. 308.
… проникся глубоким презрением к волованам… — Волованы — пироги из слоеного теста.
… Как и сир де Фрамбуази, г-н Бертран женился, но в своем выборе он оказался счастливее, чем этот благородный крестоносец. — Сир де Фрамбуази — заглавный персонаж старинной французской шуточной песенки, старик, который женится на юной красавице и вскоре в этом раскаивается: отправившись на войну и вернувшись оттуда через пять с половиной лет, он обнаруживает свой дом пустым, безуспешно ищет повсюду жену, отправляется в Париж, находит ее танцующей на балу, привозит в свое поместье, дает ей яду, хоронит и на могиле сажает петрушку (так!). Мораль песенки такая: "У молодой женщины должен быть молодой муж".
372… был исполненным рвения солдатом национальной гвардии. — Наци ональная гвардия — часть вооруженных сил Франции, гражданская добровольческая милиция, возникшая в первые месяцы Великой французской революции (летом 1789 г.) в противовес королевской армии и просуществовавшая до 1872 г. Национальные гвардейцы, сохраняя при себе оружие, продолжали жить дома, заниматься своей основной профессией и время от времени призывались для несения сторожевой службы (обычно в порядке очередности, а в чрезвычайных ситуациях — поголовно). Формировавшаяся вначале на весьма демократических принципах (некоторые из них, например выборность практически всего офицерского состава, сохранились до ее ликвидации), национальная гвардия очень быстро стала подвергаться преобразованиям, придававшим ей все более буржуазный характер и закрывавшим доступ в нее малосостоятельным людям.
К описываемому в романе времени национальная гвардия состояла в значительной мере из представителей средней городской буржуазии и была проникнута умеренно-либеральными настроениями.
374… Служанка родом из Перша… — Перш — историческая область во Франции, на западе Парижского бассейна, на границе с Нормандией; охватывает западную часть департамента Эр-и-Луар и восточную часть департамента Орн.
375… Шатодёнский Бери, застигнутый врасплох, мог предложить… лишь самые простые блюда… — Вери — см. при меч. к с. 254.
… потягивал из бокала мадеру. — Мадера — вино, изготовляемое на острове Мадейра (у западного берега Африки, территория Португалии) из особых сортов местного винограда; вина, похожие на мадеру, производятся во Франции, в Италии, Германии и Крыму.
380… Как же велик господин Талейран, говоривший, что следует остерегаться первого впечатления! — См. примеч. к с. 124.
… чтобы сказать, как Цезарь: "Пришел, увидел, победил". — Этими словами ("Veni, vidi, vici") Цезарь (см. примеч. к с. 16) сообщил в 47 г. до н. э. сенату о своей быстрой победе над царем Фарнаком (?—47 до н. э.), с 63 г. до н. э. правителем Боспорского государства, располагавшегося на восточных берегах Черного моря.
381… Так она сирена… — Сирены — см. примеч. к с. 95.
… Именно сирена! Formosa supeme! — Здесь использованы слова из четвертой строки "Науки поэзии" Горация (см. примеч. к с. 171) "Desinit in piscem mulier formosa supeme" (лат. букв. "Заканчивается рыбьим хвостом прекрасная сверху женщина").
382… дворянин повержен на землю вместе с донжонами своих предков… — Донжон — главная башня феодального замка, служившая последним убежищем при нападении неприятеля.
383… так же смешны на вашем челе, как таз брадобрея на голове Дон Кихота. — В главе XXI первой части романа Дон Кихот (см. примем. к с. 227) отнимает у цирюльника медный таз для бритья, принимая его за чудесный шлем Мамбрина, героя рыцарских романов.
… словно я вижу перед собой одного из семи греческих мудрецов. — Семь мудрецов Греции — имеются в виду выдающиеся политические деятели и философы Древней Греции, которым приписываются афоризмы житейской мудрости. Список этих мудрецов варьируется, включая до семнадцати имен.
… Вы стали для меня deus ex machina. — Deus ex machina (лат. "Бог из машины") — драматургический прием в древнегреческой трагедии, когда развязка (кара или вознаграждение героя) исходила от божества: бог предотвращал катастрофу, разъяснял запутавшееся действие, определял судьбу героев; актер, игравший бога, появлялся над сценой при помощи особой подъемной машины; отсюда и возникло выражение "бог из машины", означающее неожиданное (обычно счастливое) решение сложной ситуации благодаря непредвиденному событию или чьему-то внезапному вмешательству.
384… подобно господину де Конде при Рокруа, я бросаю свой жезл во вражеские ряды… — Конде, Луи И, принц (1621–1686) — знаменитый французский полководец, прозванный Великим Конде; одержал много побед в войнах середины и второй пол. XVII в.
Рокруа — город в Северо-Западной Франции, близ которого 19 мая 1643 г. французская армия (22 тысячи человек) под командованием принца Конде (тогда он носил титул герцога Энгиенского) одержала в кровопролитном сражении победу над испанской армией (26 тысяч человек) под командованием дона Франсиско де Мело.
385… девиз великого короля: "Nec pluribus impar". — Этот надменный девиз (лат. "Первенствующий над всеми") Людовика XIV (см. примеч. к с. 45), избравшего своей эмблемой Солнце, сам король пояснял в своих мемуарах так: "Я был готов управлять другими державами, как Солнце — освещать другие миры".
… две растушеванные скверные батальные литографии в рамках из папье-маше: "Мазепа" и "Избиение мамлюков". — Мазепа-Каледин — ский, Иван Степанович (1644–1709) — русский политический и военный деятель; происходил из украинского дворянства, воспитывался при польском королевском дворе в Варшаве; затем служил в казачьем войске той части Украины, которая воссоединилась в сер. XVII в. с Россией, и быстро выдвинулся; вошел в доверие к московскому правительству и с его помощью в 1687 г. был избран малороссийским гетманом; стремился отделить управляемые им земли от России, для чего с нач. XVIII в. вступил в переговоры с Польшей и Швецией; в 1708 г. при вторжении шведских войск на Украину изменил Петру I и с небольшой частью казаков присоединился к Карлу XII; после разгрома шведской армии летом 1709 г. под Полтавой бежал в турецкие владения, где и умер.
Мамлюки (мамелюки) — воины личной охраны египетских султанов, набиравшиеся с XIII в. из рабов тюркского и кавказского происхождения; в 1250 г. захватили власть в Египте и самостоятельно правили до завоевания его турками (1517); фактически сохраняли господство в Египте до 1811 г., когда их власть была ликвидирована турецким пашой Мухаммедом Али (1769–1849; правиле 1805 г.). Во время Египетской экспедиции Бонапарта мамлюки оказали ожесточенное сопротивление французам, но были разбиты. Часть мамлюков покинула Египет вместе с завоевателями и из них во Франции был сформирован эскадрон гвардии, с отличием участвовавший в наполеоновских войнах. После падения Наполеона мамлюки были перебиты в Марселе, где находилась их база, фанатичной роялистской чернью.
… часы из позолоченной бронзы, изображавшие Психею… — Психея — в древнегреческой мифологии олицетворение человеческой души; обычно изображалась в виде бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки. Согласно позднейшим сказаниям, возникшим накануне новой эры, Психея была возлюбленной бога Амура (Эрота), но она нарушила запрет встречаться с ним только в темноте, и любовник ее покинул. Чтобы вновь обрести его, Психее пришлось пройти через множество испытаний, в том числе преследования матери своего возлюбленного — Венеры — Афродиты.
386… запоздавшая праздность бывшей гризетки… — Гризетка — см.
примеч. к с. 145.
388… Чтобы выручить сотню су… — Су — см. примеч. к с. 213.
390… безумные пароли оборачивались в его пользу… — Пароли — двой ная ставка в карточной игре.
… уже исчерпала себя в талии. — Талия (талья) — круг карточной игры до окончания колоды у банкомета или до срыва банка.
397 …по своей решимости они напоминали мышей из басни: приключение г-на де Гискара слегка придавало старому дворянину облик Родила — ра. — Родилар — прозвище, придуманное Франсуа Рабле (произведено от фр. Rongelard — "Грызожир") для кота и использованное Лафонтеном в его басне "Le Chat et un vieux Rat" (III, XVIII; "Кот и старая крыса"). По сюжету этой басни, встречающемуся и у античных авторов (Эзопа, Федра и др.), Кот пытается изловить мышей, сначала притворяясь повешенным, а затем спрятавшись в мешке с мукой, но они разгадывают его хитрости.
398… заветный альков, который в данную минуту обладал в глазах молодого человека святостью скинии… — Скиния — место общественного богослужения евреев, походный храм, построенный по образцу, который был описан Богом Моисею на Синае; служила внешним свидетельством духовного пребывания Бога среди своего народа и местом откровений Божьих; была разделена внутренней завесой на два отделения: первое, восточное, называлось "святое", а второе, меньшее, западное — "святое святых".
404… обучил ее… правилам игры в ландскнехт… — Ландскнехт — азарт ная карточная игра, с кон. XVI в. вошедшая в моду во Франции в армии и при дворе; после ряда скандалов, связанных с ней, была запрещена во второй пол. XVII в. специальным указом; однако, несмотря на запрет, продолжала существовать и была вытеснена только появившимися новыми играми, более азартными; названа по имени ландскнехтов — средневековой наемной немецкой пехоты.
405… решать гамлетовский вопрос "Быть или не быть"… — Это началь ные слова знаменитого монолога заглавного героя трагедии Шекспира "Гамлет, принц Датский" (III, 1).
407… разыграть Маргариту на семь фишек в империалы — Империаль — карточная игра, в которой обычно играют вдвоем колодой из 32 карт; цель игры — собрать т. н. "империальскую серию": четыре старшие карты одной масти (туза, короля, даму и валета).
408… ваша мысль, весьма спорного вкуса, отдает временами Регентства. — Регентство — период 1715–1723 гг., время правления во Франции герцога Филиппа Орлеанского (1674–1723), регента в годы малолетства короля Людовика XV (см. примеч. к с. 269); ознаменовалось грандиозными финансовыми аферами, безнравственным поведением знати, усилением кризиса французского абсолютизма, но вместе с тем и развитием экономики страны.
415… он… вернулся ко мне, этот блудный сын! — Блудный сын — герой евангельской притчи (Лука, 15: 11–32) о молодом человеке, который в распутстве расточил выделенное ему отцом имение, но затем вернулся, попросил прощение и был радостно встречен родителем.
416… карета будет ждать на дороге в Шартр. — Шартр — см. примеч. к с. 7.
417… воздух в комнате был наполнен острым запахом амбры… — Амбра — воскоподобное вещество, образующееся в пищевом тракте кашалота; употребляется в парфюмерии с целью придать стойкость запаху духов.
418… в роли Курция было нечто прельщавшее его воображение. — Курций, Марк — герой древнеримской легенды. По преданию, на форуме в Риме образовалась пропасть, которую не удавалось засыпать; жрецы объявили, что это предвещает опасность для отечества, которую можно предотвратить, пожертвовав лучшим достоянием Рима. И тогда Курций, заявив, что лучшее достояние Рима — это доблесть и оружие его сынов, в полном вооружении и на коне кинулся в пропасть, после чего она закрылась.
419… Варфоломеевская ночь, которую она учинила фарфору, платьям и шалям… — Варфоломеевская ночь — ночь на 24 августа 1572 г. (то был канун праздника святого Варфоломея), в которую французское правительство и воинствующие католики устроили массовое избиение протестантов — гугенотов. В переносном смысле Варфоломеевская ночь — уничтожение, истребление кого-либо или чего-либо.
420… это своего рода философский камень… — Философский камень — в учении средневековых алхимиков вещество, способное превращать неблагородные металлы в золото; универсальное лекарство, исцеляющее все болезни и омолаживающее стариков.
… вы еще расскажете мне, что Генрих Четвертый любил прекрасную Габриель! Это для меня станет почти такой же новостью… — Генрих IV (1553–1610) — король Франции с 1589 г. (до воцарения —
Генрих Бурбон, король Наваррский с 1572 г.); выдающийся государственный деятель, главной заслугой которого было прекращение кровопролитных и разорительных Религиозных войн (1562–1598) и восстановление экономической и политической мощи страны; убит фанатиком-католиком Равальяком накануне возобновления военного конфликта с Габсбургами.
Габриель д’Эстре (1573–1599) — любовница Генриха IV, получившая от него титул герцогини де Бофор; была близка к тому, чтобы стать его женой, но этому помешала ее скоропостижная смерть. В массовом сознании французов и в том, что в историографии называют "легендой Генриха IV", имя Габриели неразрывно связано с именем популярного монарха. Культ "доброго короля Генриха", существовавший в дореволюционной Франции и в начальный период Великой французской революции и с новой силой возобновившийся в период Реставрации Бурбонов, обязательно вмещал в себя культ "прекрасной Габриели".
421 …остановите дилижанс, расплатитесь с кондуктором… — Дилижанс — см. примеч. к с. 14.
422… В нем решительно не было силы блаженного Робера д ’Арбрисселя… — Арбриссель, Робер д’ (ок. 1045–1117) — французский религиозный деятель, основатель женского монашеского ордена с очень строгим уставом, один из монастырей которого, построенный около селения Фонтевро в Центральной Франции (в 1099 г.), дал название всему ордену. Монастыри ордена Фонтевро (даже мужские) управлялись аббатиссами как наместницами Богоматери. Орден состоял из четырех отделений: для девушек и вдов, для больных, для кающихся женщин, для священников; он получил довольно широкое распространение во Франции, но во время Революции был упразднен.
… испытал все отвращение Иосифа… Поскольку у него не было плаща, чтобы оставить его в руках супруги Потифара, последствия визита совсем не напоминали те, что некогда проистекли от страсти египтянки с сыну Иакова. — Иосиф — герой Библии, сын патриарха Иакова, прародителя древних евреев; был продан братьями в рабство в Египет, где ему удалось возвыситься до положения первого советника фараона, и, не помня зла, он переселил в Египет свой род и покровительствовал ему и всему своему народу.
Когда Иосиф был рабом в Египте, жена его хозяина Потифара, царедворца фараонов, начальника телохранителей, домогалась его любви, но Иосиф убежал от нее, оставив в ее руках свою одежду; на этом основании хозяйка обвинила юношу в попытке насилия над ней и добилась заключения его в темницу (Бытие, 39: 7—20).
423… не окажется ли шатодёнская красавица в положении Буриданова осла… — Буриданов осел — животное, находящееся на равном расстоянии от одинаковых вязанок сена и неспособное решить, в какую сторону ему двинуться, поскольку его воля не получает толчка извне. Этот парадокс приписывается французскому философу XIV в. Буридану, однако в его сочинениях он не встречается.
427… приобрела… манеры поведения, присущие кармелиткам. — Карме литы — нищенствующий католический монашеский орден, получивший свое название от горы Кармель (в Палестине), где в XII в. была основана первая мужская община этого ордена. Горный кряж Кармель (в русской традиции — Кармил) является местом многих описанных в Библии событий.
Кармелитки — женское ответвление ордена кармелитов, основанное во Франции в XV в.; правила поведения кармелиток были очень строги: монахини должны были жить в отдельных кельях, ходить босыми, скудно питаться и т. д.
428… играя в вист по два су за фишку. — Вист — см. примеч. к с. 132.
431… задобрить дракона Ггсперид, охранявшего сокровища… — Геспериды — см. примеч. к с. 156.
432… смирился с необходимостью пройти под кавдинским ярмом… — В 321 г. до н. э. во время войны с южноиталийским племенем самнитов (327–304 до н. э.) римская армия, окруженная в Кавдинском ущелье, вынуждена была сдаться. Пленных принудили к позорной церемонии — безоружными пройти "под ярмом" (или "под игом") — т. е. под копьем, которое лежало на двух других копьях, воткнутых в землю.
437… открыв зонтик, укрылась за ним, как солдат за фашиной. — Фа шины — связки хвороста, тростника или соломы, применявшиеся при форсировании рвов и рек, строительстве дорог и полевых оборонительных сооружений.
447… на третьем этаже находились три мансарды… — Мансарда —
чердачное помещение под крутым скатом крыши; получило свое название по фамилии французского архитектора Франсуа Мансара (1598–1666), охотно прибегавшего к этой архитектурной находке для достижения декоративного эффекта.
450… в подметки не годятся нам, ветреникам Людовика Пятнадцатого… — См. примеч. к с. 269.
451… словно солдат швейцарской королевской гвардии… — Выходцы из Швейцарии начиная со средних веков служили наемниками во многих европейских армиях (в том числе и во французской) и были известны высокими боевыми качествами. Здесь речь идет о солдатах из роты швейцарцев французской королевской гвардии.
457… с выражением Архимеда, решившего свою великую задачу. — Архи мед (287–212 до н. э.) — знаменитый древнегреческий физик, математик, изобретатель и военный инженер; уроженец греческой колонии Сиракузы в Сицилии; погиб при взятии города римлянами. По преданию, идея одного из главных открытий Архимеда — закона о действии жидкости на погруженное в нее тело (этот закон назван его именем) — пришла ученому в ванне. И тогда он выскочил из нее с криком "Эврика!" (гр. "Нашел!").
463… как рухнули башни Иерихона от звуков трубы Иисуса Навина. —
Иерихон — город в долине реки Иордан, в 8 км от Иерусалима; преграждал путь древним евреям при их вторжении в Палестину; его стены были чудесным образом разрушены звуками священных труб (Книга Иисуса Навина, 6: 2-19).
Иисус Навин — древнеиудейский полководец, сподвижник и преемник Моисея в управлении еврейским народом; руководил завоеванием Палестины. Его деяния описаны в библейской Книге Иисуса Навина.
468… словно от сильного удара, какой испытывают, прикасаясь к гальва ническому столбу… — Гальванический (или вольтов) столб — первая форма электрической батареи, изобретенная итальянским физиком А.Вольта (1745–1827) в 1799 г.; состоял из вертикально расположенных медных или серебряных кружков с прокладками из картона, сукна или кожи, которые пропитывались слабым раствором кислоты (обычно серной); в металлических кружках этого столба возникал электрический ток, достигавший значительного напряжения.
476… сунул ему в руку несколько экю… — Экю — здесь: пятифранковая монета.
480… роль Ментора, а она очень трудна, когда имеешь дело с Телемахом, проявляющим такое упорство в своих глупостях. — Ментор — персонаж поэмы Гомера "Одиссея", друг Одиссея, принявший попечение над его малолетним сыном Телемахом (Телемаком) и другими домочадцами отправившегося под Трою царя; в нарицательном смысле (с оттенком одиозности) — наставник юношества.
Имя Ментора стало популярно во Франции после выхода в 1699 г. романа "Приключения Телемака" французского писателя и педагога, епископа города Камбре Франсуа де Салиньяка Фенелона (1651–1715).
481… мальпост отходит в полночь. — Мальпост — см. примеч. к с. 221.
485… Кто мне подсунул… такого Амадиса? — Амадис Галльский (по прозвищу Рыцарь Льва) — герой знаменитого французского рыцарского романа XV в., написанного несколькими авторами на основе испанского источника; постоянный и преданный любовник, храбрый воин.
486… веду себя подобно царю Кандавлу… — Согласно преданию, рассказанному историком Геродотом, полулегендарный царь Лидии (государства, расположенного в древности в Малой Азии) Кандавл был убежден, что женат на самой красивой женщине в мире. Чтобы доказать это, он показал ее своему телохранителю и любимцу Г игесу обнаженной. Разгневанная царица предложила Гигесу выбор: или он будет тотчас же задушен, или убьет Кандавла и станет царем и ее мужем. Гигес предпочел второе.
490… укроется в монастыре на улице Гренель. — Улица Гренель нахо дится на левом берегу Сены, в предместье Сен-Жермен (см. примеч. к с. 40), недалеко от реки; известна с XIV в. как дорога от Сен-Жерменского аббатства в юго-западные пригороды.
… В семь часов вечера он был в Лонжюмо. — Лонжюмо — городок в департаменте Эсон, к югу от Парижа; ныне пригород столицы.
498… предоставляя путешественникам легкие тильбюри… — Тилъбюри —
открытая двухколесная коляска, в которую запрягают одну лошадь.
499… ознакомившись… с письмом королевского прокурора… — Королевский (республиканский, императорский) прокурор — во Франции XIX в. государственный обвинитель при суде первой инстанции.
… мстит за оскорбление своей чести совсем иначе, чем сир де Куси. — Куси — старинный и весьма амбициозный феодальный род в Северной Франции. С ним связана легенда XIV в. о рыцаре-крестоносце, влюбленном в жену одного из Куси и завещавшем передать возлюбленной свое сердце после того, как он погибнет. Однако муж перехватил посылку с этим сердцем и обманом заставил жену съесть его.
500… прекрасного, как изображение античного Антиноя. — Анти ной — см. примем, к с. 43.
502… выражение презрения, казавшееся ему столь же уместным в данных обстоятельствах, как и опоясывающая его перевязь. — В XIX в. знаком официального достоинства французских чиновников была перевязь национальных цветов (при Реставрации — белая, а при Империи, Июльской монархии и республике — сине-бело-красная); при исполнении своих служебных обязанностей они надевали ее через плечо или вместо пояса.
504 …Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подума ет! — Это девиз высшего английского ордена Святого Георгия (небесного покровителя Англии), учрежденного королем Эдуардом III 19 января 1350 г., в день памяти этого святого, и в просторечии именуемого доныне орденом Подвязки.
Согласно легенде, оспариваемой историками, король подобрал на балу подвязку своей возлюбленной, графини Солсбери (об имени дамы ученые также спорят), и, в ответ на раздавшийся смех придворных, прикрепил подвязку к своей ноге, сердито произнеся: "Honni soit qui mal у pense". Фраза эта французская, поскольку в Англии XIV в. французский язык был языком знати и двора.
Знаки ордена: лента синего цвета с вышитым на ней девизом, которую носят под левым коленом, нагрудный медальон, который носят на синей ленте, и нагрудная серебряная звезда. Первоначально этот орден состоял из 25 рыцарей во главе с королем, объединившихся для совершения добрых дел и поддержания вой некого духа; позднее его знаки стали государственной наградой.
507… вызвался сопровождать ее в Версаль… — Версаль — здесь: адми нистративный центр департамента Сена-и-Уаза, близ которого расположен одноименный грандиозный дворцово-парковый ансамбль близ Парижа, с последней трети XVII в. и до Великой французской революции являвшийся главной резиденцией французских королей.
509… Они воображают себя в театреЖимназ… — Жимназ Драматик — драматический театр, находящийся в центре Парижа, на бульваре Бон-Нувель; возник в 1820 г.; ставил в основном пьесы легкого содержания известных драматургов (Дюма, Скриба, Сарду и др.); в нем играли многие известные актеры.
510… Затем идут уравнители… прямые потомки лиса, которому обрубили хвост. — Имеется в виду персонаж басни Ж Лафонтена "Лис с обрубленным хвостом" ("Le Renard ayant queue соирёе", V, 5). Сюжет ее таков: старый хитрый Лис попадает в капкан, теряет в нем свой хвост, и, поскольку ему стыдно быть не таким, как все его собратья, он начинает уговаривать их обрубить себе хвосты, ибо, по его словам, от них нет никакой пользы; однако те высмеивают его, и новая мода не приживается.
511… повторяет им божественные слова: "Кто из вас без греха, первым брось на меня камень/" — См. примем, к с. 249.
… не принуждайте всех этих фарисеев склонять голову. — Фарисеи — члены религиозно-политической секты в древней Иудее, выражавшие интересы зажиточных слоев общества; отличались лицемерием и показным благочестием; в переносном смысле — лицемеры, ханжи.
513… он брал за образец Данте, опирался на заповеди Моисея и римские законы Двенадцати таблиц. — Данте Алигьери (1265–1321) — итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка; автор знаменитой поэмы "Божественная комедия" (1307–1321, иэд. 1472). Моисей — древнееврейский пророк, герой и предводитель иудеев, выведший их из египетского плена, основатель иудейской религии; у горы Хорив получил откровение от бога Яхве и миссию освободить народ Израиля, находящийся в египетском рабстве; спустя три месяца после исхода из Египта и скитаний по пустыне со своим народом прибыл к горе Синай, где Бог громогласно провозгласил заповеди народу Израилеву и заключил с ним союз (завет); после чего пророк взошел на гору, чтобы встретиться с Яхве, провел там в одиночестве сорок дней и сорок ночей и получил от Бога каменные скрижали, на которых были записаны законы и заповеди для еврейского народа.
Законы Двенадцати таблиц (лат. Leges XII Tabularum) — древнейшая письменная фиксация римского права, осуществленная в 451–450 гг. до н. э. специально избранной для этого коллегией, состоящей из десяти мужей; этот свод законов вырабатывался в весьма напряженной политической обстановке и стал результатом классовой борьбы полноправных граждан Рима (патрициев) и простого народа (плебса). Содержание законов касалось главным образом гражданского, уголовного и процессуального права. Законы были записаны на 12 досках (таблицах), отчего и получили такое название; оригинал их не сохранился.
… измыслил нагой, как Мессалина, и, как Мессалина, утомленной, но не удовлетворенной сладострастием… — Мессалина, Валерия (25–48) — третья жена римского императора Клавдия (10 до н. э.-54 н. э.; правил с 41 г.); отличалась жестокостью, развращенностью и ненасытной похотью, что сделало ее имя нарицательным.
514… вздумали представить господина маркиза д ’Эскомана неким Катоном… — Катон — здесь имеется в виду Марк Порций Катон Цензор, прозванный Старшим (234–149 до н. э.), римский политический и военный деятель, писатель; защитник староримских добродетелей; содействовал проведению завоевательной политики Рима;
автор ряда исторических сочинений и трактата "О земледелии", содержащего многочисленные сведения об экономике и сельском хозяйстве того времени; ему приписывается слава основоположника латинской прозы.
516… подобно Минерве, рожденной из головы Юпитера. — Минерва —
римская богиня искусств и талантов, отождествляемая с греческой Афиной Паладой; воительница и девственница, покровительница мудрости и ремесел; по преданию, родилась из головы верховного бога-громовержца Юпитера-Зевса, когда тот, страдая от боли, велел расколоть ему голову.
521… Во Франции родятся галантными… а на берегах Зёйдер-Зе —
флегматиками… — Зёйдер-Зе (гол. букв. "Южное озеро") — залив Северного моря, глубоко вдающийся в территорию Северных Нидерландов; ныне отделен от моря плотинами, опреснился и частично осушен; современное его название — Эйсселмер.
525… В долине Марны, в четырех льё от Парижа, на пути от деревни
Шампиньи к мельнице Боннёй, немного не доходя до переправы Сент-Илер, у подножия холма, на котором раскинулся городок Шенвьер… — Марна — река в Северной Франции, длиной в 525 км, правый приток Сены; в XIX в. впадала в нее выше Парижа, ныне — в его черте; судоходна, соединена каналами с бассейнами Рейна и Соны. Шампиньи (Шампиньи-сюр-Марн) — город к востоку от Парижа, в департаменте Валь-де-Марн; стоит на левом берегу Марны, в ее излучине.
Боннёй (Боннёйсюр-Марн) — селение на левом берегу Марны, южнее Шампиньи; относится к департаменту Валь-де-Марн. Переправа Сент-Илер — вероятно, имеется в виду переправа в излучине Марны, соединяющая селения Ормесон-сюр-Марн на левом берегу реки и Ла-Варенн-Сент-Илер на правом берегу реки. Шснвьер-сюр-Марн — городок на левом берегу Марны, южнее Шампиньи; относится к департаменту Валь-де-Марн.
Весь упомянутый здесь район в XIX в. был местом загородных прогулок парижан.
528… с мебелью розового дерева… — Розовое дерево — древесина неко торых тропических и субтропических деревьев, имеющая розовый или розовато-красный цвет; идет на изготовление дорогой мебели и музыкальных инструментов, отделку комнат и т. д.
… видневшийся на горизонте Венсенский донжон, аювно встававший из массы зелени вокруг него и черневший на фоне лазурного неба… — Здесь имеется в виду мощная и высокая башня Венсенского замка, расположенного к югу от города Венсен (департамент Валь-де-Марн), ныне юго-восточного пригорода Парижа. Существовавший на этом месте замок, выстроенный при короле Филиппе II Августе (1 165—1223; правил с 1180 г.), не сохранился. Ныне существующий замок датируется XIV в., а его часовня — началом XVI в. Венсен был королевской резиденцией, а также (со второй пол. XV в. до 1784 г.) тюрьмой; сейчас там находится музей военной истории.
… признательность Богу, сотворившему природу в Бри столь прекрасной и столь величественной… — Бри — лесистая местность к востоку от Парижа, на левом берегу Марны.
530… радующими взор далями холма Сюси… — Имеется в виду городок
Сюсиан-Бри в департаменте Валь-де-Марн, южнее Шенвьера.
536… в безлюдном тогда квартале неподалеку от церкви святой Магда лины… — То есть в квартале, который прилегает к площади Ла-Мадлен, расположенной на западном отрезке Больших бульваров Парижа и названной по имени находящейся на ней церкви святой Магдалины (по-французски — Мадлен). Эта церковь до Революции принадлежала монастырю Дочерей успения Богоматери, основанному в нач. XVII в. в центре Парижа, на улице Сент-Оноре. После закрытия монастыря церковь стала приходской и была названа во имя святой Магдалины. Первоначально ее построили ок. 1283 г.; в 1764–1806 гг. на ее месте возвели новое здание, превращенное Наполеоном в храм Славы, а в 1814–1842 гг. вновь преобразованное в церковь. В 1850 г. церковь святой Магдалины была передана польской католической парижской общине.
… сообщить…об этой революции, которая, как новый 93-й год, должна была перевернуть все твердо установленные… понятия… — Подразумевается 1793-й год — время наивысшего подъема Великой французской революции.
538… что происходило в магазине на улице Сез. — Улица Сез берет на чало на площади Ла-Мадлен у заднего фасада церкви и выходит на Большие бульвары; открыта в 1824 г.; названа в честь графа Ромена де Сеза (1748–1828), одного из защитников короля Людовика XVI на его судебном процессе.
543… как в церкви терпят общую службу мученикам… — Имеется в виду церковная служба всем мученикам и апостолам христианства.
545… была очаровательна в жаконетовом платье… — Жаконет — лег кая хлопчатобумажная ткань, нечто среднее между муслином и перкалем.
… со стороны бечевой послышался шум… — Бечевая (бечевник) — полоса берега реки, предназначенная для людей или лошадей, тянущих судно на бечеве.
547… часовщица, дававшая отчет о пьесе "Нельская башня", увиденной ею накануне, оставила незавершенным изложение сцены в тюрьме. — "Нельская башня" ("La Tour de Nesle") — романтическая драма Дюма, основанная на скандальных легендах о королевском дворе Франции нач. XIV в.; впервые была поставлена в Комеди Франсез в мае 1832 г. и имела большой успех.
Здесь имеется в виду шестая картина из третьего действия пьесы. В подземелье замка Большой Шатле в Париже, ставшего тюрьмой, герои драмы капитан Буридан и королева Маргарита составляют заговор, чтобы скрыть грех и преступление своей юности.
550… никогда не фигурируют в "Судебной хронике". — "Судебная хроника"
("Gazette de Tribunaux") — французская ежедневная газета консервативного направления, выходившая в Париже с 1826 по 1955 гг.; публиковала судебные материалы, в том числе официальные протоколы судебных заседаний.
553… рассеяв их по мостовой на манер Мальчика с пальчик… — См.
примем, к с. 162.
556… отправился в Оперу, где играли "Бога и баядерку". — Опера —
парижский государственный музыкальный театр Гранд-опера, основанный в кон. XVII в.
Здесь, возможно, имеется в виду опера французского композитора Ш.Кателя (1773–1830) "Баядеры", впервые поставленная в Грандопера в 1810 г.
Баядера (баядерка) — в Индии танцовщица в храме, иногда занимавшаяся в его пользу проституцией.
Название "Бог и баядера" носит известная баллада Гёте (1797), которая во Франции иногда называлась просто "Баядера".
558… Отправившись в Сен-Жерменское предместье, она пересекала пло щадь Согласия… — Площадь Согласия лежит примерно на полпути от улицы Сез в Сен-Жерменское предместье (см. примем, к с. 40).
562… в великолепном особняке по улице Эльдер… — Улица Эльдер находится в богатом квартале к северу от Больших бульваров; проложена в кон. XVIII в., названа в честь успешной обороны форта Эльдер от англичан в 1799 г.
563… это тайнобрачное растение… — Тайнобрачные растения (криптогамы) — предложенное шведским ботаником КЛиннеем (1707–1778) название растений, которые не имеют цветов; в настоящее время имеет лишь историческое значение: эти растения по способу размножения называются споровыми.
… имеет на своей конюшне пару караковых лошадей, весьма примечательных тем, что такие же тогда были и у Стивена Дрейка… — Караковая — темно-гнедая, почти вороная с подпалинами масть лошадей.
Дрейк — см. примем, к с. 279.
… самые затейливые фигуры котильона. — Котильон — французский бальный танец, известный с XVIII в. и получивший большое распространение в XIX в.; объединяет в себе несколько самостоятельных танцев; исполняется многими парами под руководством ведущего.
… каждый надеялся добраться до Коринфа. — Здесь перефразирована популярная во Франции древнегреческая пословица "Не каждому дано добраться до Коринфа" (лат. "Non licet omnibus adire Corinthum").
566… сопровождать ее на прогулках в Булонском лесу… — Булонский лес — см. примем, к с. 195.
… отправиться в Сен-Жермен… — Сен-Жермен-ан-Ле — небольшой старинный город в департаменте Ивелин, в 21 км к западу от Парижа; известен замком XII в., в XVI в. перестроенным и окруженным большим парком и служившим до сер. XVII в. загородной резиденцией французских королей.
567… Дойдя до улицы Риволи… — Улица Риволи — см. примем, к с. 252.
… голос, от природы громкий, словно у Стентора… — Стентор — персонаж "Илиады" Гомера, греческий воин, способный кричать столь же громко, как кричат одновременно пятьдесят человек (V, 785–786).
568… одевать не в красное дерево, не в палисандровое… — Красное дерево — древесина некоторых тропических деревьев Америки, Африки и Юго-Восточной Азии; имеет красный и коричневый цвет, прочна, хорошо полируется; используется для изготовления дорогой мебели. Иногда красным деревом также называется древесина деревьев умеренного пояса — тиса, черной ольхи и др. Палисандровое дерево — окрашенная древесина некоторых южноамериканских деревьев; используется для производства мебели.
575… хотела вымолить отсрочку у индоссата… — Индоссат — лицо, в пользу которого переводится по передаточной надписи вексель.
580… расправил свой галстук движением, сохранившимся у него еще со времен Директории. — Директория — правительство Французской республики, действовавшее с 4 ноября 1795 до 10 ноября 1799 г.; состояло из пяти директоров, выбиравшихся палатами парламента — Советом пятисот и Советом старейшин; конец режиму Директории положил государственный переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), совершенный Наполеоном Бонапартом.
582… Я обещал им только гусарскую любовь… — В литературе XIX в. сложился образ гусарского офицера: рубаки, игрока и повесы, неразборчивого в отношениях с женшинами.
… вы рассыпались перед ней в громогласных клятвах, напоминающих "Dies irae". — Dies irae (лат. День гнева) — первые слова и название молитвы в заупокойной католической службе.
583… напомнить вам заповедь из Писания: "Если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось в огонь"… — Речь идет о поучении Христа апостолам: "Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя" (Матфей, 18: 8). В евангелии от Марка оно звучит иначе: "И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее" (Марк, 9: 43).
… Согласно закону тяготения, скорость падающего тела увеличивается пропорционально квадрату пройденного им пути. — Имеется в виду закон всемирного тяготения, или закон Ньютона, определяющий взаимное притяжение материальных тел.
Однако скорость падающего тела, если пренебречь сопротивлением воздуха, пропорциональна квадратному корню пройденного им пути.
584… скромный дом, нанятый ими на улице Пепиньер… — Улица Пепиньер находится в северо-западной части Парижа, в предместье Сент-Оноре; проложена в кон. XVIII в.; название получила от королевского питомника растений (p6piniere), находившегося неподалеку.
590… умерла, срывая цветы, как шекспировская Офелия… — Офелия — персонаж трагедии Шекспира "Гамлет, принц Датский", возлюбленная заглавного героя, сошедшая с ума от любви; Офелия собирала цветы на берегу реки и вешала венки из них на дерево, держась за его сучья. Но один из них обломился, девушка упала в поток и утонула (4, 7).
596… На голове… был безобразный Мадрас… — Мадрас — см. примем, к с. 241.
… луидор с изображением Карла Десятого… — Карл X — см. примем, к с. 55.
597… Женщина предполагает… — Перефразировка пословицы "Человек предполагает, а Бог располагает" (см. примем, к с. 101).
… Эгерии стали встречаться в нынешнее время невероятно часто. — Эгерия — согласно легенде, нимфа, возлюбленная второго царя Рима, Нумы Помпилия (правил в 715–673 гг. до н. э.), своими мудрыми советами помогавшая ему в управлении Городом.
598… в семейных делах они стали тем же, чем была государственная инквизиция в Венеции. — Венеция — город в Северной Италии; расположен на островах Венецианской лагуны в Адриатическом море; в средние века купеческая республика, занимавшая одно из ведущих мест в европейской торговле, в том числе в торговле с Турцией и со всем Востоком.
Здесь имеются в виду учреждения политического сыска, игравшие в Венецианской республике большую роль и действовавшие с чрезвычайной жестокостью. Руководители ведомств, на которых были возложены обязанности бороться с политическими преступлениями, назывались в Венеции государственными инквизиторами, т. е. сыщиками.
599… вызывавшее злобу повсюду — от улицы Шерш-Миди до улицы Шоссе-д’Антен. — То есть во всем Париже — с юга на север.
Улица Шерш-Миди — одна из старейших улиц левобережной части Парижа; возникла в XIV–XVI вв. из дорог, ведущих из Парижа в пригородные селения; в XVII–XVIII вв. стала аристократическим районом (на ней сохранилось много старинных зданий). Шоссе-д’Антен — см. примем, к с. 24.
604… единственным средством к существованию у меня был солдатский мушкет… — Мушкет — крупнокалиберное ружье XVI–XVII вв. с фитильным замком; в кон. XVII в. был заменен в европейских армиях кремневым ружьем, и в нач. XIX в. такое ружье по традиции иногда называли мушкетом.
607… поила своими шербетами и кормила своими петифурами. — Шербет — здесь, вероятно, имеется в виду сладкое кушанье: густая масса из фруктов, кофе, шоколада и сахара (часто с орехами); так же называют и напиток из фруктового сока и сахара.
Петифур (фр. petit-four — "маленькое печенье") — сорт десертного хрустящего печенья.
608… Феникс сжигал себя, чтобы восстать из пепла… — Феникс — см. примем, к с. 148.
… сколь ни легко подсчитать все, что такие дамы теряют, окунувшись в этот источник Ювенты, никто не утверждает, будто столь же легко оценить, что они там приобретают. — Источник Ювенты — в древнеримской мифологии источник, который принадлежал одной из италийских нимф, возлюбленной Юпитера, и содержал "живую" воду, дарующую героям молодость и силу. В средние века этот сюжет был популярен в литературе и живописи.
… его видели в Сен-Жерменском лесу… — Сен-Жерменский лес — массив, прилегающий с севера к городу Сен-Жермен-ан-Ле ^см. примеч. к с. 566); в средние века место королевских охот.
… Она несколько раз выбирала целью своих прогулок павильон Генриха IV… — Павильон Генриха IV — единственная сохранившаяся часть нового Сен-Жерменского замка, построенного в сер. XVI в. королем Генрихом II (1519–1559; правиле 1547 г.) рядом со старым Сен-Жерменским замком; ныне в этом павильоне размещается знаменитый ресторан.
… и на террасе выставляла напоказ свои вдовьи наряды… — Сен-Жерменский замок и парк расположены на возвышенности на левом берегу Сены; с нависающей над рекой террасы открывается живописный вид на окрестности и Париж.
609… обратилась в опасный подводный камень и расценивалась как тако вой на карте Нежности парижских любовных приключений. — Имеется в виду карта "Страны нежных чувств", придуманная французской писательницей Мадлен де Скюдери (1607–1701) и приложенная к ее роману "Клслия" (1654–1661). Этот псевдоисторический галантный роман стал как бы руководством галантного обхождения и салонной любви, а упомянутая карта — путеводителем по стране "Любви и галантности".
614… пошел в направлении улицы Сент-Оноре… — См. примеч. к с. 193.
618… согласился… немедленно занять предложенное ему место чичис бея. — Чичисбей — в Италии XVIII в. постоянный спутник состоятельной замужней женщины.
620… не для того, чтобы вы принуждали меня искать двенадцать жем чужин этой короны в сточной канаве… — Графская корона была украшена зубцами различной формы и жемчужинами; число жемчужин в разных странах варьировалось от 8 до 23; 12 жемчужин, располагавшихся вдоль обруча, имела бельгийская графская корона.
622… гораздо веселее будет увидеть его в роли Отелло… — Отелло —
герой одноименной трагедии У.Шекспира, мавр, генерал на службе Венеции; общеизвестный литературный тип ревнивца.
624… Не вынуждайте меня обкрадывать Шекспира… — Шекспир,
Уильям (1564–1616) — великий английский драматург и поэт, автор трагедий, комедий, поэм и сонетов.
626… Монастырь урсулинок, Кан. — Урсулинки — монахини ордена святой Урсулы, который был основан в 1537 г. Анжелой Меричи из Брешии как конгрегация девушек и вдов, посвятивших себя религиозному воспитанию девочек. Конгрегация была провозглашена монашеским орденом в 1572 г. папой Григорием XIII (1502–1585; папа с 1572 г.), однако часть сестер предпочла остаться в прежнем менее строгом послушании. Во Франции урсулинки появились в нач. XVII в. стараниями Мадлены Люилье графини де Сент-Бёв. До Революции орден владел в одном только Париже четырнадцатью монастырями, по всей же Франции число их доходило до трехсот. Кан — старинный город в Нормандии, административный центр департамента Кальвадос.
Примечания
1
Последний довод (лат.).
(обратно)2
Существующее положение (лат.).
(обратно)3
Движимый гневом (лат.).
(обратно)4
Отец ребенка тот, кто состоит в браке с его матерью (лат.).
(обратно)5
В четыре руки (англ.).
(обратно)6
"Агнец Божий" (лат.).
(обратно)7
Солнце светит всем (лат.).
(обратно)8
В предсмертный час (лат.).
(обратно)9
"День гнева" (лат.).
(обратно)10
В минуту любви (лат.).
(обратно)
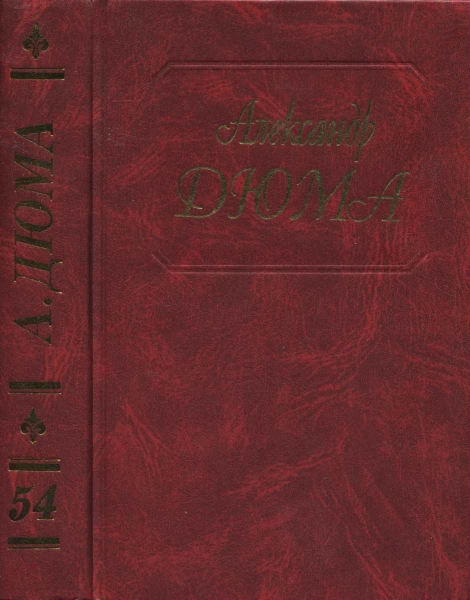



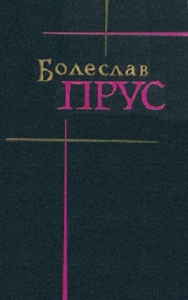
Комментарии к книге «Блек. Маркиза д'Эскоман», Александр Дюма
Всего 0 комментариев