Джон Голсуорси. Собрание сочинений в 16 томах. Том 6
УСАДЬБА
ЧАСТЬ I
ГЛАВА I ГОСТИ В УОРСТЕД СКАЙНЕСЕ
Тысяча восемьсот девяносто первый год, октябрь месяц, понедельник. Вся площадь перед станцией Уорстед Скайнес заставлена в этот час экипажами мистера Пендайса: карета, коляска, фургон для багажа. Одинокий станционный фонарь бросает свой свет на кучера мистера Пендайса. Его обдуваемая восточным ветром розовая физиономия в густых, коротко подстриженных бачках, с презрительно поджатыми губами, царит над всем, как символ феодальных устоев.
На платформе первый лакей и второй грум мистера Хорэса Пендайса в длинных ливреях с серебряными пуговицами и в лихо заломленных цилиндрах, несколько нарушающих их чопорный вид, ожидают прибытия шестичасового поезда.
Лакей вынул из кармана листок с гербом и монограммой, исписанный мелким, аккуратным почерком мистера Хорэса Пендайса, и стал читать, насмешливо выговаривая слова в нос:
— «Высокородный Джеф Уинлоу и миссис Уинлоу. — голубая комната и гардеробная, горничная — маленькая коричневая. Мистер Джордж — белая комната. Миссис Джаспер Белью — золотая. Капитан — красная. Генерал Пендайс — розовая, его слуга — мансарда, окнами во двор». Вот и все.
Грум, краснощекий парень, не слышал.
— Если жеребец мистера Джорджа в среду придет первым, — сказал он, пять фунтов у меня в кармане. Кто прислуживает мистеру Джорджу?
— Джеймс, как всегда.
Грум свистнул.
— Надо у него узнать, какие шансы. А ты играешь?
Лакей продолжал свое:
— Вот еще один, на другой стороне. Фоксли — зеленая комната, правое крыло. Дрянь-человек. Себе — все, другим — ничего. Но стреляет что надо. За то его и приглашают.
Из-за темной стены деревьев вырвался поезд.
На платформу вышли первые пассажиры: два фермера с длинными палками, во фризовых балахонах, сутулясь, распространяя запах скотного двора и крепкого табака; за ними молодой человек с дамой, потом одинокие фигуры, держащиеся друг от друга поодаль, — гости мистера Пендайса. Не спеша покидая вагоны, они останавливались в их неясной тени и глядели прямо перед собой, точно боялись невзначай увидеть кого-нибудь из знакомых.
Высокий мужчина в меховом пальто (его жена, высокая стройная женщина, шла рядом, неся в руках маленькую шагреневую сумку, оправленную в серебро) обратился к кучеру:
— Здравствуйте, Бенсон. Мистер Джордж говорит, что капитан Пендайс будет с поездом в 9.30. Так что нам, пожалуй, лучше…
Вдруг, будто ветерок, ворвавшийся в холодное оцепенение тумана, прозвучал высокий, чистый голос:
— Благодарю, я поеду в коляске.
В сопровождении несущего плед лакея прошла дама под белой вуалью, сквозь которую ленивый взгляд высокородного Джефри Уинлоу уловил блеск зеленоватых глаз; обернувшись на миг, она исчезла в коляске. И сейчас же в окне появилась ее головка за колышущимся шелком.
— Здесь хватит места, Джордж.
Джордж Пендайс вышел из тени и прыгнул вслед за ней. Скрипнул гравий, коляска укатила.
Джефри Уинлоу обратился к кучеру, задрав голову: — Кто это, Бенсон?
Кучер нагнулся, конфиденциально поднеся толстую, обтянутую белой перчаткой руку к уху Джефри:
— Миссис Джаспер Белью, сэр. Жена капитана Белью из Сосен.
— Я думал, они все еще…
— Так оно и есть, сэр!
— А-а!
Спокойный, холодный голос донесся из-за дверцы кареты:
— Джеф!
Джефри Уинлоу вслед за мистером Фоксли и генералом Пендайсом поднялся в карету, и снова раздался голос миссис Уинлоу:
— Вас не стеснит моя горничная? Подите сюда, Туксон!
Дом мистера Хорэса Пендайса, белый, вытянутый в длину, невысокий, занимающий удобное месторасположение в усадьбе, стал собственностью его прапрапрадеда благодаря союзу с последней представительницей рода Уорстедов. Первоначально прекрасные угодья сдавались небольшими участками арендаторам, которым никто не докучал особым вниманием и которые, получая поэтому хороший доход, исправно платили арендную плату; теперь хозяйство ведется по-новому, и с некоторым убытком. Время от времени мистер Пендайс покупает коров новой породы, птиц, пристраивает новый флигель к зданию школы. К счастью, его доходы не зависят от этого имения. Он правит в своих владениях при полном одобрении священника и местных властей и все-таки нередко жалуется, что его арендаторы почему-то не остаются на земле. Его жена — урожденная Тоттеридж. В его поместье прекрасная охота. И он — об этом можно и не упоминать старший сын. Его индивидуальное мнение такое, что индивидуализм погубил Англию, и он поставил себе целью искоренить этот порок в характерах своих фермеров. Заменяя их индивидуалистические наклонности собственными вкусами, намерениями, представлениями, пожалуй, можно сказать и собственным индивидуализмом, и теряя попутно немало денег, он с успехом доказывает на практике свою излюбленную мысль, что чем сильнее проявление индивидуализма, тем беднее жизнь общества. Если, однако, изложить ему дело подобным образом, он разразится гневными протестами, ибо считает себя не индивидуалистом, а «тори-коммунистом», как он выражается. Будучи сельским хозяином, он верит, что благополучие Англии зависит от налогов на ввозимый хлеб. Он частенько говорит: «Три-четыре шиллинга на хлеб — и мое поместье станет доходным».
Мистер Пендайс имеет и другие особенности, о которых нельзя сказать, что они индивидуальны. Он противник всяких перемен в существующем порядке вещей, любит все заносить в списки и бывает на верху блаженства, когда удается завести разговор о себе или своей усадьбе. У него есть черный спаньель, которого зовут Джон, с длинной мордой и еще более длинными ушами. Мистер Пендайс собственноручно выкормил его, и теперь Джон не может прожить без хозяина ни минуты.
Наружность мистера Пендайса весьма старомодна, он строен и быстр, лицо в жиденьких бакенбардах; несколько лет назад он отпустил усы, которые теперь висят, подернутые сединой. Носит фрак. Любит большие галстуки. Не курит.
Мистер Пендайс сидел во главе стола, уставленного цветами и серебром, между высокородной миссис Уинлоу и миссис Джэспер Белью, и, пожалуй, трудно было бы сыскать более блестящих и более непохожих друг на друга соседок. Этих двух женщин, одинаково красивых, стройных и высоких, по прихоти природы разделяла пропасть, которую поджарый мистер Пендайс тщетно пытался заполнить. Невозмутимость, свойственная бледной расе английских аристократов, стыла круглый год в чертах миссис Уинлоу, холодных и прекрасных, как ясный морозный день. Безмятежное спокойствие ее лица тотчас убеждало, что эта женщина получила отменное воспитание. Невозможно представить себе эти черты, возмущенные хотя бы мимолетным чувством. Миссис Уинлоу впитала в кровь наставления своей няни: «Мисс Труда, не гримасничайте! Останетесь такой на всю жизнь!» И с того самого дня, когда были сказаны эти слова, лицо миссис Уинлоу, высокородной по собственному праву и по праву, полученному от мужа, ни разу не исказилось гримасой, даже и тогда, надо думать, когда на свет рождался Уинлоу-младший. По другую руку от мистера Пендайса сидела загадочная, восхитительная миссис Белью, на чьи зеленые глаза лучшие представительницы ее пола взирали с инстинктивным неодобрением. Женщина в ее положении должна быть как можно незаметнее, а природа наделила ее такой яркой наружностью. Говорят, что она рассталась со своим мужем капитаном Белью и уехала из его поместья — это случилось в позапрошлом году — только потому, что они надоели друг другу. Ходят слухи к тому же, что она поощряет ухаживания Джорджа, старшего сына мистера Пендайса.
Леди Молден говорила миссис Уинлоу в гостиной перед обедом:
— И что находят в этой миссис Белью? Мне она всегда не нравилась. Женщина в ее положении должна быть осторожнее! Не понимаю, зачем ее пригласили сюда! Капитан Белью, ее муж, сейчас в Соснах, в двух шагах отсюда. Ведь ни гроша за душой. И не скрывает этого. Чуть только не авантюристка.
— Она приходится чем-то вроде кузины миссис Пендайс, — отвечала миссис Уинлоу, — Пендайсы в родстве решительно со всеми. Это так неудобно. Вечно кого-нибудь встречаешь…
Леди Молден продолжала:
— Вы были с ней знакомы, когда она еще жила здесь? Терпеть не могу этих любительниц верховой езды. Она и ее муж были отчаянная пара. Только и слышишь: ах, какой я взяла барьер, ах, какая горячая лошадь! Представьте, бывает на скачках, играет! По-моему, Джордж Пендайс влюблен в нее. В Лондоне их часто стали видеть вместе. Возле таких женщин вечно увиваются мужчины.
Сидя во главе стола, на котором у каждого прибора лежал листок меню, написанный аккуратным почерком старшей дочери, мистер Пендайс ел суп.
— Этот суп, — говорил он, обращаясь к миссис Белью, — напомнил мне о вашем дорогом отце; такой был охотник до него! Я очень его любил, замечательный был человек! По твердости характера он уступал только моему отцу, а мой отец был самым упрямым человеком во всех трех королевствах.
С уст мистера Пендайса нередко срывалось это «во всех трех королевствах», и даже когда он рассказывал о том, что бабка его по прямой линии происходит от Ричарда III, а дед-потомок известных корнуэльских великанов, один из которых — тут мистер Пендайс снисходительно улыбался однажды быка через забор перебросил.
— Ваш отец, миссис Белью, был в высшей степени индивидуалист. Занимаясь сельским хозяйством, я не раз сталкивался с проявлениями индивидуализма и пришел к выводу, что человек с индивидуалистическими наклонностями всегда недоволен. У моих арендаторов есть все, что душе угодно, а все плохо, все не так. Вот возьмите фермера Пикока. Упрям, как осел, и дальше своего носа не видит. Само собой разумеется, я ему не потворствую. Только прояви слабость, начнет хозяйничать по старинке. Он хочет выкупить у меня ферму. Так и тянет их к этой порочной системе свободных йоменов. Говорит, еще дед мой пахал эту землю. Какая косность! Ненавижу индивидуализм; он губит Англию. Вам нигде не найти более крепких домов или хозяйственных построек, чем у меня. Я стою за централизацию. Вы, верно, слыхали, что я называю себя «тори-коммунистом». Вот, по-моему, какой должна быть партия будущего. А девиз вашего отца был: «Каждый за себя!» Имея дело с землей, с таким девизом далеко не уедешь. Хозяин и арендатор должны трудиться сообща… Вы едете с нами в Ньюмаркет в среду? У Джорджа отличный жеребец, будет бежать в Ратлендширском заезде! Он не играет, чему я очень рад. Больше всего на свете ненавижу игроков!
Миссис Белью искоса поглядела на хозяина дома, и на ее ярких, полных губах заиграла чуть заметная насмешливая улыбка. Но мистер Пендайс уже занялся супом. Когда он снова ощутил потребность говорить, миссис Белью беседовала с его сыном, и сквайр, чуть нахмурившись, повернулся к высокородной миссис Уинлоу. Ее внимание было само собой разумеющимся, полным и немногословным; она не утруждала себя горячим сочувствием, не поддакивала заискивающе. Мистер Пендайс нашел в ней собеседницу по своему вкусу.
— Страна меняется, — говорил он, — меняется с каждым днем. Дворянские усадьбы теперь уж не те, что раньше. Огромная ответственность падает на нас, землевладельцев. Если мы погибнем, погибнет все.
В самом деле, что могло быть восхитительней, чем мирная сельская жизнь, которую вел в своей усадьбе Пендайс, ее хлопотливая бездеятельность, чистота, свежий воздух, тепло, благодатные запахи, полное отдохновение для ума, отсутствие всякого страдания — и этот суп — символ благоденствия, суп, сваренный из лучших кусков специально откормленных животных.
Мистер Пендайс считал эту жизнь единственно правильной жизнью, а тех, кто ее вел, единственно правильными людьми. Он видел свой долг в том, чтобы жить этой простой, здоровой, но и роскошной жизнью, когда рядом тучнеет для твоего блага всякая тварь, когда буквально купаешься в супе. Мысль о том, что в городах скучены миллионы людей, топчущих друг друга и вечно теряющих работу, и вообще вся эта городская скверна приводила его в расстройство. Не любил он и жизнь в пригородах, в этих домиках под шиферными крышами, своим плачевным однообразием навевающих тоску на человека с индивидуальным вкусом. И все же, несмотря на то, что все симпатии мистера Пендайса были на стороне сельской жизни, он вовсе не был богатым человеком, доход его чуть превышал десять тысяч в год.
Первая охота в этом сезоне — охота на фазанов — приурочивалась, как обычно, к ньюмаркетским скачкам, поскольку до Ньюмаркета было, к несчастью, рукой подать; и хотя мистер Пендайс не терпел азарта, он ездил на скачки и был не прочь прослыть за человека, любящего спорт ради самого спорта; немало он гордился и тем, что его сын так дешево купил прекрасного жеребца Эмблера и участвует в скачках спортивного интереса ради.
Состав гостей был тщательно обдуман. Справа от миссис Уинлоу сидел Томас Брэндуайт (фирма Браун и Брэндуайт), занимавший видное положение в финансовом мире и к тому же имевший два поместья и яхту. Его продолговатое, изрезанное морщинами лицо, в густых усах, не меняло своего постоянного брюзгливого выражения. Он удалился от дел, но оставался членом правления нескольких компаний. Рядом с ним — миссис Хассел Бартер; на ее лице было трогательно-жалкое выражение, свойственное многим английским дамам, вся жизнь которых — постоянное служение долгу, и долгу нелегкому; их глаза тревожно блестят, щеки, когда-то цветущие, теперь буроватого оттенка от действия непогоды, их речь проста, ласкова, немного застенчива, немного пессимистична и в конечном итоге всегда полна оптимизма; вечно на их попечении дети, больные родственники, старики; они никогда не позволяют себе проявить усталость. К таким именно женщинам, и принадлежала миссис Хассел Бартер, жена преподобного Хассела Бартера, который примет участие в завтрашней охоте, но на скачки в среду не поедет. По ее другую руку сидел Гилберт Фоксли, высокий мужчина с тонкой талией, узким, длинным лицом, крепкими, белыми зубами и глубоко посаженными колючими глазами. Он был одним из шести братьев Фоксли, обитающих в этом графстве. Они были желанными гостями всюду, где имелись изобилующие дичью заросли или необъезженные лошади, теперь, когда, по словам одного из них же: «Мало кто умеет стрелять и держаться в седле».
Не было зверя, птицы или рыбы, которую бы Фоксли не мог убить или поймать с одинаковым искусством и удовольствием. В упрек ему можно было поставить только одно — его весьма скромный доход. Он сидел подле миссис Брэндуайт, но не сказал с ней почти ни слова, предоставив ее вниманию генерала Пендайса, другого ее соседа.
Если бы Чарлз Пендайс родился годом раньше брата, а не годом позже, как случилось в действительности, он, естественно, был бы владельцем поместья Уорстед Скайнес, а Хорэс стал бы военным. Но Чарльз был младшим сыном, и в один прекрасный день он вдруг увидел себя генерал-майором. Теперь он был в отставке и жил на пенсию. Третий брат, вздумай он появиться на свет, стал бы служителем церкви, получив наследственный приход, но он рассудил иначе, и приход достался отпрыску младшей линии. Хорэса и Чарлза нетрудно и спутать, если смотреть сзади. Оба худощавые, прямые, с немного покатыми плечами, только Чарлз Пендайс расчесывал волосы на прямой пробор через всю голову и в коленках его еще легких ног было заметно дрожание. Если взглянуть на братьев спереди, разница более бросалась в глаза. Генерал носил бакенбарды, расширявшиеся к усам, и в его лице и манерах была та внешне подчеркнутая, досадливая отчужденность, какая бывает у индивидуалиста, всю жизнь считавшего себя частью системы и под конец оказавшегося вне ее; утрата не была им осознана, но глухая обида шевелилась в душе. Он остался холостяком, не видя в браке для себя смысла, раз уж Хорэс опередил его на год; жил он со своим слугой на Пэл-Мэл неподалеку от своего клуба.
По другую руку от генерала сидела леди Молден; прекрасная женщина, и своего рода выдающаяся личность, прославившаяся чаями для рабочих, которые она устраивала в Лондоне во время сезона. Ни один рабочий не ушел с чая леди Молден, не проникшись к их устроительнице глубочайшим уважением. Леди Молден была из тех женщин, по отношению к которым невозможна никакая вольность, где бы они ни оказались. Она была дочерью деревенского священника. Имела прекрасный цвет лица, довольно крупный рот с плотно сжатыми губами, изящной формы нос, темные волосы. Эффектнее всего выглядела сидя, ибо ее ноги были коротковаты. Говорила громко, решительно и гордилась своей прямолинейностью. Своими реакционными взглядами на женщин ее супруг, сэр Джеймс, был обязан ей.
На другом конце стола высокородный Джефри Уинлоу занимал хозяйку рассказами о Балканских провинциях, откуда только что воротился. Его лицо норманского типа, с правильными, красивыми чертами носило умное и ленивое выражение. Он держал себя просто и любезно и лишь изредка давал понять, что сам все знает и ни в чьих поучениях не нуждается. Родовое поместье его отца, лорда Монтроссора, находилось в шести милях от Уорстед Скайнеса; и ему предстояло рано или поздно занять место своего отца в Палате Лордов.
Рядом с ним сидела миссис Пендайс. В глубине столовой, над столиком с закусками висел ее портрет, и хотя писал его модный художник, ему удалось схватить неуловимое очарование, какое и теперь, двадцать лет спустя, было в ее лице. Миссис Пендайс уже немолода, ее темные волосы тронуты сединой, но до старости еще далеко: она вышла замуж девятнадцати лет, и теперь ей пятьдесят два года. У нее узкое, длинное лицо, очень бледное, темные брови дугой всегда чуть приподняты. Глаза темно-серые, порой совсем черные, оттого что зрачки от волнения расширяются, ее верхняя губка чуть коротка, а в выражении рта и глаз трогательная мягкость и доверчивое ожидание чего-то. Но не это составляло ее особое очарование. На всем ее облике лежала печать внутреннего убеждения, что ей никогда ни о чем не надо просить, печать интуитивной веры, что весь мир в ее распоряжении. Эта особенность выражения и длинные прозрачные пальцы напоминали вам, что она урожденная Тоттеридж. Плавная, неторопливая речь с небольшим, но приятным дефектом, манера глядеть чуть прищурившись подкрепляли общее впечатление. На ее груди, в которой билось сердце истинной леди, вздымались и опадали прекрасные старинные кружева.
На другой стороне стола сэр Джеймс Молден и Би Пендайс, старшая дочь, говорили о лошадях и охоте — Би редко по собственному выбору заводила разговор о чем-нибудь ином. Ее личико было приветливо и приятно, но не красиво. Сознание этого стало ее второй натурой, делало ее застенчивой и всегда готовой помочь другим.
У сэра Джеймса были небольшие седые бачки, живое морщинистое лицо. Он происходил из старинного кентского рода, переселившегося в свое время в Кембриджшир, его рощи изобиловали дичью, он был мировой судья, полковник территориальных войск, ревностный христианин и гроза браконьеров. Держался отсталых взглядов по некоторым вопросам, как уже упоминалось, и побаивался жены.
Слева от мисс Пендайс — преподобный Хассел Бартер, который будет принимать участие в завтрашней охоте, но на скачки в среду не поедет.
Священник Уорстед Скайнеса был невысок ростом, начавшая лысеть голова выдавала наклонность к размышлениям. Широкое, гладко выбритое лицо, с квадратным лбом и подбородком отличалось свежестью — лицо с портрета восемнадцатого века. Щеки обвисшие, нижняя губа выпячена, брови выступают над выпуклыми блестящими глазами. Манеры властные, разговаривает голосом, которому многолетняя привычка проповедовать с кафедры придала замечательную звучность, так что даже и частный его разговор слышали все, кто был поблизости. Впрочем, по всей вероятности, мистер Бартер считал, что каждое его слово несет в себе добрые семена. Неуверенность, нерешительность, терпимость к инакомыслию (когда дело касалось других) были ему несвойственны. Воображение он считал предосудительным. Свой долг в жизни он видел ясно, еще более ясным представлялся ему долг других людей. В своих прихожанах он не поощрял независимый образ мысли. Эта привычка казалась ему опасной. Свои взгляды он высказывал открыто, и если случалось ему уличать кого-нибудь в дурном поступке, то он с такой убежденностью расписывал глубину падения грешника, что слушающие не могли усомниться в его полной безнравственности. Говорил он с шутливо-грубоватой простотой, в приходе его любили: он прекрасно играл в крикет, еще лучше ловил рыбу, был отличный охотник, хотя и говорил, что у него нет времени на эту забаву. Утверждая, что не касается мирских дел, он следил, однако, чтобы среди его паствы не было заблуждающихся, и особенно поощрял ее поддерживать Британскую империю и англиканскую церковь. Его приход был наследственный. Семья у священника была большая, но он располагал и независимыми средствами. Рядом с ним сидела Нора, младшая дочь Пендайса; у нее было круглое открытое личико и более решительные манеры, чем у сестры.
Ее брат Джордж, старший сын дома, сидел по правую руку. Джордж был среднего роста, с загорелым до красноты, гладко выбритым лицом. Массивная челюсть, серые глаза, твердо очерченный рот, темные, гладко причесанные волосы, редкие на макушке, но еще блестевшие тем особым глянцем, какой бывает только у светских молодых людей. Его костюм был безупречного покроя.
Таких, как он, можно встретить на Пикадилли в любой час дня и ночи. Он хотел поступить в гвардию, но не выдержал экзамена, в чем виноват был не он, а его врожденная неспособность писать грамотно. Будь он своим младшим братом Джералдом, он, вероятно, как и полагается Пендайсу, пошел бы в армию. А Джералд (который сейчас капитан Пендайс), пожалуй, также провалился бы на экзамене, будь он старшим сыном. Джордж жил в Лондоне, получая от отца шестьсот фунтов в год, и большую часть времени проводил в клубе за чтением «Руководства для любителей скачек» Руффа, расположившись в гостиной у окна.
Джордж оторвал глаза от меню и украдкой огляделся. Элин Белью говорила с его отцом, повернув к нему белое плечо. Джордж гордился своим умением владеть собой, но сейчас в его лице было заметно какое-то, странное беспокойное томление. Да, у людей были основания считать, что миссис Белью слишком красива для своего положения. Ее пышная, высокая, полная неизъяснимой грации фигура стала еще пышнее с тех пор, как она бросила верховую езду. Ее волосы, поднятые высоко надо лбом, имели особый нежный блеск. В изгибе рта проглядывала чувственность. Лицо широко в скулах, и лоб широк и невысок, но глаза изумительные — серовато-зеленые, как льдинки, в темных ресницах, они временами становились совсем зелеными, почти светились. Джордж смотрел на нее, как будто против воли, и было в его взгляде что-то жалкое.
Это тянулось с самого лета, а он все еще не знал, на что он может надеяться. Порой она бывала ласкова, порой отталкивала его. То, что вначале было для него игрой, стало слишком серьезным. В этом и состояла трагедия. То удобное состояние душевного покоя, которое единственно составляет прелесть жизни, было утрачено. Ни о чем другом он не мог думать, только о ней. Быть может, она из тех женщин, что упиваются восхищением мужчин, ничего не давая взамен? Или оттягивает время, чтобы победа была вернее? Он искал ответа в ее прекрасном лице во мраке бессонных ночей. Для Джорджа Пендайса, аристократа по крови и образу жизни, не привыкшего обуздывать свои желания, следующего девизу «Наслаждайся жизнью!», страсть к этой женщине, страсть, которая не оставляла его ни на миг и которой он не мог управлять, как не мог управлять чувством голода, была нестерпимым мучением, и конца ему не было видно. Он был знаком с ней, еще когда она жила в Соснах, встречался с ней на охоте, но страсть вспыхнула лишь этим летом. Она родилась внезапно из простого флирта, затеянного во время танца.
Светские люди не склонны к самоанализу; они принимают свое состояние с трогательной наивностью. Голоден — значит, надо поесть. Мучает жажда — надо ее утолить. Отчего они голодны, когда пришел голод, — эти вопросы не имеют для них смысла. Этическая сторона не беспокоила Джорджа: добиться расположения замужней женщины, живущей с мужем врозь, — подобное приключение не шло вразрез с его принципами. Что будет после, он предоставил решать времени, хотя и понимал, что ситуация чревата самыми неприятными последствиями. Его терзали куда более близкие, куда более примитивные и простые горести: и он чувствовал, что беспомощно барахтается в стремительном потоке и нет сил сопротивляться ему.
— Да, скверная история. Страшный удар для Суитенхемов! Их сын должен был расстаться с мундиром. Что только думал старый Суитенхем! Он-то видел, что сын совсем потерял голову. Один Бетани ничего не понимал. Нет, во всем, во всем виновата одна леди Роза! — услышал он голос отца.
Миссис Белью улыбнулась.
— Я решительно на стороне леди Розы. А что вы скажете на этот счет, Джордж?
Джордж нахмурился.
— Бетани, по-моему, просто осел.
— Джордж, — проговорил мистер Пендайс, — аморален. Нынче все молодые люди таковы. Я все больше утверждаюсь в этой мысли. Говорят, вы перестали охотиться?
Миссис Белью вздохнула:
— Беднякам какая охота!
— Ах, да, ведь вы теперь живете в Лондоне, в этом пагубном месте. Люди забывают там землю, охоту, все, что прежде составляло их жизнь. Возьмите Джорджа, он и носа к нам не кажет. Пожалуйста, не подумайте, что я за то, чтобы дети до седых волос ходили на помочах. Молодость должна взять свое, что бы там ни говорили.
Разделавшись таким образом с законом природы, старый сквайр взялся за нож и вилку.
Ни миссис Белью, ни Джордж не последовали его примеру; она сидела, глядя себе в тарелку, и легкая усмешка чуть шевелила ее губы; он не улыбался и переводил глаза, горевшие обидой и страстью, с отца на миссис Белью, потом на мать. И как будто ток пробежал по этому ряду лиц, фруктов, цветов: миссис Пендайс ласково кивнула сыну.
ГЛАВА II ОХОТА НА ФАЗАНОВ
Мистер Пендайс сидел во главе стола и деловито ел завтрак. Он был несколько молчаливей, чем обычно, как и подобает человеку, только что закончившему чтение семейной молитвы. Это молчание, как и стопка наполовину вскрытых писем по его правую руку, с несомненностью указывало, что мистер Пендайс был хозяином в доме.
«Не стесняйте себя, делайте, что хотите, одевайтесь, как нравится, садитесь, куда вздумается, ешьте, что больше по вкусу, пейте чай или кофе, но…» В каждом взгляде, в каждом предложении его коротких, сдержанно-радушных фраз чувствовалось это «но».
В конце стола сидела миссис Пендайс, перед ней попыхивал тоненькой струйкой пара серебряный кофейник на спиртовке. Ее руки беспрерывно сновали среди чашек, и она то и дело что-то спрашивала, отвечала, но ни слова не говорила о себе. На белой тарелочке в стороне лежал забытый ломтик поджаренного хлеба. Дважды она брала его, мазала маслом и откладывала. На минуту оторвавшись от обязанностей хозяйки, она взглянула на миссис Белью, как будто желая сказать: «Как вы прекрасны, милочка!» Затем, вооружившись сахарными щипчиками, опять принялась передавать чашки.
Длинный буфетный столик, покрытый белой скатертью, был уставлен яствами, какие встретишь только там, где откармливают тварей себе на потребу. Ряд кушаний начинался огромным пирогом из дичи, уже лишившимся бока, заканчивали его два овальных блюда с четырьмя холодными, наполовину растерзанными куропатками. За ними стояла плетеная серебряная корзиночка с виноградом: одна белая и три черные грозди; подле красовался тупой фруктовый нож, никогда не употреблявшийся, но принадлежавший кому-то из Тоттериджей и носивший их фамильный герб.
За с голом прислуги не было, но боковая дверь то и дело отворялась, вносились новые кушания, и тогда казалось, что за дверью целая армия слуг. Как будто мистер Пендайс предупредил гостей: «Конечно, я мог бы позвать хотя бы двух лакеев и дворецкого, но уж не обессудьте, вы в простой деревенской усадьбе!»
Время от времени кто-нибудь из мужчин вставал с салфеткой в руке и осведомлялся у своей дамы, не подать ли ей чего-нибудь из закусок. Получив отрицательный ответ, он тем не менее выходил из-за стола и наполнял новой снедью свою тарелку. Три собаки — два фокстерьера и старый-престарый скай без устали ходили вокруг, нюхая салфетки гостей. Стоял умеренный гул голосов, в котором можно было различить восклицания, вроде: «Отличный лаз на опушке!», «Помните, Джефри, того вальдшнепа, что вы подстрелили в прошлом году?», «А наш дорогой сквайр тогда остался ни с чем!», «Дик! Дик! Негодная собака! Поди сюда, покажи, что ты умеешь. Служить! Служить! Молодец! Правда, какой душка?»
То на ноге мистера Пендайса, то возле его стула, словом, там, откуда было видно, что едят, сидел спаньель Джон, и мистер Пендайс, не раз беря двумя пальцами какой-нибудь лакомый кусочек, говорил: «Джон, возьми! Завтракайте поплотнее, сэр Джеймс. Человек, плохо поевший с утра, ни на что не годится!»
А миссис Пендайс, подняв брови, заботливо оглядывала стол, обращаясь то к одной, то к другой гостье: «Еще чашку, дорогая. Вам с сахаром?»
Когда все насытились, каждый задумчиво устремил взор прочь от стола, точно устыдившись своего участия в недостойном деле и желая поскорее заняться чем-нибудь другим; мистер же Пендайс, доев последнюю виноградинку и вытерев рот, сказал:
— Господа, в вашем распоряжении пятнадцать минут, отправляемся в четверть одиннадцатого.
Миссис Пендайс осталась за столом, чуть насмешливо улыбаясь, надкусила гренку с маслом, успевшую засохнуть, и отдала ее «милым собачкам».
— Джордж, — позвала она сына, — тебе нужен новый охотничий галстук, зеленый совсем выцвел. Все собираюсь купить шелку. Что слышно о твоем жеребце?
— Блэксмит пишет, что Эмблер в прекрасной форме.
— Я не сомневаюсь, что он придет первым. Твой дядя Губерт проиграл однажды на скачках четыре тысячи фунтов в Ратлендширском заезде. Прекрасно помню, как будто это случилось вчера. Платил твой дед. Я так рада, что ты не играешь, мой мальчик!
— Я играю, мама.
— О, Джордж. Но ты, наверно, ставишь не так много! Только, ради бога, не говори отцу; он, как все Пендайсы, боится риска.
— И не собираюсь, мама. Да ведь и риск небольшой. Я выиграю очень много, поставив пустяки.
— И в этом нет ничего дурного, Джордж?
— Конечно!
— Не понимаю… — Миссис Пендайс опустила глаза, ее бледные щеки порозовели; она снова взглянула на сына и торопливо проговорила:
— Джордж, я хотела бы поставить немного на Эмблера, хотя бы… соверен.
Выказывать чувства было не в правилах Джорджа. Он улыбнулся.
— Хорошо, мама. Я поставлю за тебя. Выплата один к восьми.
— Значит, если Эмблер придет первым, я получу восемь соверенов?
Миссис Пендайс рассеянно взглянула на его галстук. Джордж кивнул.
— Пожалуй, поставь два. Один — слишком ничтожный риск; а я так хочу, чтобы он пришел первым! Как прелестна сегодня Элин Белью! Приятно, когда женщина и утром красива.
Джордж отвернулся, чтобы мать не заметила, как он покраснел.
— Да, вид у нее свежий.
Миссис Пендайс взглянула на сына, чуть насмешливо приподняв правую бровь.
— Ну, не задерживаю тебя больше, иди, а то опоздаешь.
Мистер Пендайс, охотник старой закваски, все еще державший пойнтеров, хотя и не охотившийся с ними ввиду модных веяний, был решительным противником охоты с двумя ружьями.
— Кто хочет охотиться в Уорстед Скайнесе, — говаривал он, — пусть довольствуется одним ружьем, как было при моем покойном отце. Зато это будет настоящий спорт. Дичь у меня поменьше страуса (мистер Пендайс не подкармливал фазанов, чтобы проворней взлетали), и устраивать бойню в моем поместье, — на это не рассчитывайте.
Мистер Пендайс был страстный любитель птиц, и у него под стеклом хранилось множество чучел тех представителей пернатых, которым грозило исчезновение; он верил, как и подобает Пендайсу, что, занимаясь коллекционированием птиц, оказывает им добрую услугу, сохраняя для потомства тех из них, которых в скором времени только и найдешь, что в его собрании. Еще он мечтал, что его коллекция станет ценной частью родового имения и перейдет к его старшему сыну и к сыну его сына.
— Возьмите хотя бы пеночку, — говорил он, — прелестная пташка, но все реже и реже ее слышишь. Каких трудов мне стоило ее раздобыть. Вы не поверите, сколько я за нее отдал!
Одних птиц он подстрелил сам: в молодые годы мистер Пендайс предпринял несколько путешествий за границу, только с этой целью; но большая часть коллекции была куплена. В его библиотеке не одна полка была аккуратно заставлена томиками, посвященными этому увлекательному предмету; его коллекция яичек исчезающих пород птиц была одной из богатейших «во всех трех королевствах». С особой гордостью он показывал яичко, снесенное последней представительницей данного семейства. «Его достал, — рассказывал он, — мой старый, верный егерь Ангус. Вынул прямо из гнезда. Там было всего одно, последнее. Этот вид, — прибавлял он, бережно держа в смуглой, покрытой темным пушком руке хрупкое, славно фарфоровое, яичко, — вымер». Он любил пернатых и обрушивался на бездельников-простолюдинов, которые убивали зимородков и других редких птиц из баловства или по глупости, а не для составления коллекций. «Их следует сечь!» — говорил он, ибо считал, что убить редкую птицу можно, лишь имея на то веские основания (не считая, конечно, совсем уж исключительных случаев, как с пеночкой) и только в чужих странах или в отдаленнейших частях Британских островов. И если в его усадьбу вдруг залетала прекрасная пернатая незнакомка, начинался переполох, принимались всевозможные меры, чтобы удержать ее у себя в надежде на потомство и присоединение к коллекции нового экземпляра; но если с достоверностью становилось известно, что птица принадлежит мистеру Фуллеру или лорду Куорримену, чьи поместья граничили с Уорстед Скайнесом, и появлялась серьезная и неотвратимая опасность, что редкий гость вернется в свои пределы, его подстреливали и превращали в чучело, чтобы сохранить для будущих поколений. Это было вполне в духе мистера Пендайса. Повстречав знакомого помещика, обуреваемого той же страстью (коих было несколько в тех местах), мистер Пендайс приходил в уныние, терял покой на неделю и немедленно удваивал старания, пока не находил новую жемчужину.
Церемония охоты была тщательно продумана во всех деталях. В шляпу поместили записочки с фамилиями, которые мистер Пендайс собственноручно вынимал одну за другой, определяя номер охотника, затем был произведен осмотр загонщиков, проходивших мимо мистера Пендайса с бесстрастными лицами и палками в руках. Пять минут наставлений старшему егерю, и охотники двинулись в путь, каждый захватив ружье и запас дроби на первый гон, как полагалось по обычаю доброго, старого времени.
Тяжелые капли росы испарялись на солнце, и над травой повисло туманное сияние, дрозды вприпрыжку убегали в кусты, галдели грачи в ветвях старых вязов.
Откуда-то сбоку выехала охотничья тележка, построенная по рисунку самого мистера Пендайса, запряженная ломовой лошадью, которой правил немолодых лет возница, и медленно покатилась в сторону леса, где должен был начаться гон.
Джордж шел последним, глубоко засунув руки в карманы, наслаждаясь тихой прелестью дня, нежным щебетанием птиц, этой чистой и приветной песней природы. Пахнуло лесом, и он радостно подумал: «Какой денек для охоты!»
Сквайр, в охотничьем костюме, в котором он сливался с деревьями и кустами, чтобы не отпугивать птиц, в кожаных крагах, суконном шлеме собственного покроя, со множеством) дырок, чтобы голова не потела, подошел к сыну; за ним бежал спаньель Джон, чья страсть к птицам не уступала хозяйской.
— У тебя последний номер, Джордж, будешь бить высоко влет!
Джордж нашел ногой упор, сдул пылинку с одного из стволов, и запах ружейного масла вызвал у него дрожь. Он забыл все, даже Элин Белью.
Но вот тишину нарушил отдаленный шум; из золотисто-зеленых зарослей вынырнул фазан, летя низко-низко; блеснув на солнце атласным оперением, он свернул вправо и исчез в траве. Высоко в небе пролетели голуби. Забухали палки по деревьям, и вдруг прямо на Джорджа с шумом стремительно метнулся еще один фазан. Джордж вскинул ружье и дернул спуск. Птица на секунду повисла в воздухе, судорожно трепыхнулась и с глухим стуком упала на зеленый мох. Мертвая птица лежала, залитая солнечным светом, и губы Джорджа расползлись в блаженной улыбке. Он упивался радостью бытия.
Во время охоты сквайр, по обыкновению, заносил в книгу памяти свои впечатления. Он брал на заметку тех, кто часто мазал, попадал в хвост или начинял птицу свинцом, снижая ее рыночную стоимость, или же ранил зайца, отчего тот кричал, как ребенок, а это некоторые не любят; запоминал того, кто в погоне за славой приписывал себе убитую другими дичь, или недопустимо часто бил по фазану, облюбованному соседом, или попадал по ногам загонщиков. Но все эти промахи искупались отчасти в его глазах более существенными качествами, такими, как титул отца Джефри Уинлоу; богатые дичью угодья сэра Джеймса Молдена, в которых ему вскоре предстояло охотиться; положение Томаса Брэндуайта в финансовом мире, родство генерала Пендайса с ним, Хорэсом Пендайсом, значение англиканской церкви. Только один Фоксли был безгрешен. С непревзойденным искусством он убивал все, что попадало под выстрел. Это имело свой смысл, ибо у Фоксли не было ни титулов, ни угодий, ни финансового положения, ни духовного сана. И еще замечал мистер Пендайс одно: ту радость, которую доставлял всем своей охотой, ибо он был добрый человек.
Солнце уже садилось за лесом, когда охотники заняли свои места в ожидании последнего гона.
Из трубы домика лесничего в лощине, где последние алые нити заходящего солнца цеплялись за побуревшие побеги дикого винограда, потянулся дымок, уносимый ветром, запахло топившейся печью. Было совсем тихо, лишь слышались вдалеке извечные шумы деревенского вечера: голоса людей, крики птицы, мычание скота. Высоко над лесом еще кружили вспугнутые голуби, а кругом покой; только луч солнца скользнет между ветвей, играя на глянцевитой поверхности листьев, и кажется тогда, что лес наполнен волшебным трепетом.
Из этого сказочного леса выполз подраненный кролик. Он лежал, умирая, на травяной кочке. Его задние лапки вытянулись, передние были подняты, как руки молящегося ребенка. Он лежал недвижимо, будто дыхание уже отлетело от крохотного тельца, — жили только черные влажные глаза. Покорно, не жалуясь, не понимая, что случилось, поводя страдающими, влажными глазами, он возвращался в лоно своей матери-земли. Так и Фоксли однажды соберется в последний путь и станет недоуменно спрашивать природу, за что она убила его.
ГЛАВА III БЛАЖЕННЫЙ ЧАС
Час между чаем и ужином; вся усадьба, наполненная сознанием своих добродетелей, отдыхает, погрузившись, в полудрему.
Приняв ванну и переодевшись, Джордж Пендайс, захватив с собой книжку, где записаны ставки, спустился в курительную. Пройдя в уголок, отведенный для любителей чтения и защищенный от сквозняков и постороннего взгляда высокой кожаной ширмой, Джордж удобно расположился в кресле и задремал. Он сидел, склонив голову на руку, скрестив вытянутые ноги, от него исходил нежный запах дорогого мыла, как будто его душа, вкусив наконец покоя, заблагоухала своим естественным благоуханием…
Его сознание, находившееся на грани сна и бодрствования, волновалось возвышенными и благородными чувствами, как бывает после целого дня на свежем воздухе, когда все мрачное, чреватое опасностью отступает на задний план. Он очнулся, услыхав голоса:
— А Джордж недурной стрелок!
— Только во время последнего гона непростительно мазал. С ним была тогда миссис Белью. Птицы тучей летели на него, а он хоть бы в одну попал. Это говорил Уинлоу. После минутного молчания раздался голос Томаса Брэндуайта:
— Женщинам нечего делать на охоте. Вот бы никогда не брал их с собой! Что вы думаете на этот счет, сэр Джеймс?
— Плохое обыкновение, плохое!
Томас Брэндуайт смеется, по смеху чувствуется, что этот человек всегда неуверен в себе.
— Этот Белью совсем сумасшедший. Тут он прослыл «отчаянным». Пьет, как лошадь, а на лошади — сам дьявол. Миссис Белью по части верховой езды не уступит супругу. Я заметил, что в местах, где любят охоту, всегда найдется подобная пара. Худой, плечи подняты, лицо бледное, рыжие усы, глазки маленькие, черные.
— Она молода?
— Года тридцать два.
— Как же это они не поладили?
Чиркнула спичка.
— Два медведя в одной берлоге.
— Сейчас видно, что миссис Белью любит вздыхателей. А погоня за поклонением играет порой скверную шутку с женщинами!
Снова ленивый голос Уинлоу:
— Помнится, был ребенок, но умер. Потом какая-то история; что произошло, так никто и не знает. Но Белью пришлось оставить полк. Говорят, у миссис Белью бывают минуты, когда она жить не может без острых ощущений. Выбирает ледок потоньше и манит к себе мужчину. Горе тому, кто бросится вслед за ней и окажется слишком тяжел: ко дну пойдет, только его и видели!
— Вся в отца, старого Шеритона. Я встречал его в своем клубе — сквайр старой закалки; женился второй раз в шестьдесят, в восемьдесят похоронил бедняжку. «Старый Кларет-Пикет» называли его; имел на стороне детей, как никто другой в Девоншире. Я видел, как он за неделю до смерти играл в пикет по полкроны за очко. Такая кровь. А интересно знать, не слишком ли тяжел Джордж? Ха-ха!..
— Тут, Брэндуайт, смешного мало! До обеда еще есть время. Не сыграть ли нам партию в бильярд, Уинлоу?
Задвигали стульями, зашаркали ноги, хлопнула дверь. Джордж остался один; на щеках пылали красные пятна. Ощущение приподнятости и счастья исчезло вместе с сознанием заслуженного отдыха. Он вышел из своего укромного уголка и стал прохаживаться взад и вперед по тигровой шкуре у камина. Закурил папиросу, бросил, закурил другую.
Катание по тонкому льду! Этим его не остановишь! Вся их вздорная болтовня, насмешки не удержат его. Только раззадоривают!
Бросил и эту папиросу. Было непривычно идти в этот час в гостиную, но он все-таки пошел.
Тихонько отворил дверь: длинная, уютная комната, освещенная керосиновыми лампами. У рояля миссис Белью, поет. Чай уже не пьют, но со стола еще не убрано. В оконной нише играют в шахматы генерал Пендайс и Би. В центре комнаты, у одной из ламп, леди Молден, миссис Уинлоу и миссис Брэндуайт, лица обращены к роялю, и каждая как будто говорит: «Мы славно беседовали, как бестактно было мешать нам!» У камина, расставив длинные ноги, стоит Джералд Пендайс; немного поодаль, устремив темные глаза на Элин Белью, миссис Пендайс с работой в руках; у самых ее ног, на краешке юбки, дремлет дряхлый скайтерьер Рой.
Когда бы я, целуя, знал, Что не сулит любовь добра, Я б сердце скрыл в ларце златом, Замкнул ключом из серебра. Увы, увы, любовь мила Лишь миг, покуда молода. Но минет год, она пройдет Росой исчезнет навсегда [1].Вот что услышал Джордж. Звуки песни трепетали и сливались с аккордами прекрасного, но немного разбитого рояля; сердце Джорджа дрогнуло и заныло. Он смотрел на миссис Белью, и, хотя не был любителем музыки, в глазах его появилось выражение, которое он поспешил скрыть.
В центре комнаты что-то сказали. Стоявший у камина Джералд воскликнул:
— Благодарю, чудесно!
У окна раздался громкий голос генерала Пендайса: — Шах!
Миссис Пендайс, уронив слезу на вышивание, взялась за иглу и ласково проговорила:
— Спасибо, дорогая, вы поете восхитительно! Миссис Белью встала из-за рояля и села подле нее.
Джордж подошел к сестре. Он, вообще говоря, не терпел шахмат, но отсюда, не привлекая внимания, мог смотреть на миссис Белью.
В гостиной царил сонный покой, в камине, распространяя приятный смолистый запах, потрескивало только что подброшенное кедровое полено.
Голоса его матери и миссис Белью (Джордж не слышал, о чем они говорят), шушуканье леди Молден, миссис Брэндуайт и Джералда, перемывающих косточки соседям, бесстрастный голос миссис Уинлоу, то соглашающейся, то возражающей, — все это слилось в один монотонный, усыпляющий гул, время от времени нарушаемый возгласами генерала Пендайса «Шах!» и восклицаниями Би «Ах, дядюшка!».
В душе Джорджа закипал гнев. Почему все они так счастливы, довольны, когда его пожирает неугасимый огонь? И он устремил свой тоскующий взор на ту, в чьих силках он безнадежно запутался.
Неловко двинувшись вперед, он задел столик с шахматами. Генерал за его спиной пробурчал:
— Осторожнее, Джордж… А если пойти вот так…
Джордж подошел к матери.
— Покажи, что ты вышиваешь, мама?
Миссис Пендайс откинулась на стуле, протянула ему свою работу и улыбнулась удивленно и радостно:
— Дорогой, ты в этом ничего не поймешь. Это вставка к моему новому платью.
Джордж взял вышивание. Он и в самом деле ничего не понимал, но вертел его в руках так и этак, вдыхая теплый аромат женщины, которая сидела рядом с его матерью и которую он любил.
Нагнувшись над вышиванием, он коснулся плеча миссис Белью; она не отодвинулась и чуть прижалась к его руке, отвечая на его прикосновение. Голос матери вернул Джорджа из небытия.
— Осторожней, дорогой, здесь иголка! Так мило с твоей стороны, но, право…
Джордж отдал работу. Глаза миссис Пендайс светились благодарностью. Первый раз сына заинтересовало ее занятие.
Миссис Белью веером из пальмовых листьев прикрыла лицо, как будто от огня камина. И тихо произнесла:
— Если мы завтра выиграем, Джордж, я вам вышью что-нибудь.
— А если проиграем?
Миссис Белью подняла голову, и Джордж невольно встал так, чтобы заслонить от матери ее глаза: такая колдовская сила струилась из них.
— Если мы проиграем, — повторила она, — тогда все будет кончено, Джордж. Мы должны выиграть.
Он невесело усмехнулся и быстро перевел глаза на мать. Миссис Пендайс делала стежок за стежком, но лицо у нее было печальное и чуть испуганное.
— Грустная была песенка, дорогая, — проговорила она.
Миссис Белью ответила:
— Но в ней правда, не так ли?
Джордж чувствовал на себе ее взгляд, хотел было ответить взглядом и не мог: ее глаза, смеющиеся, угрожающие, мяли его, вертели во все стороны, как он сам только что вертел вышивание своей матери. И снова по лицу миссис Пендайс скользнул испуг.
Громкий голос генерала всколыхнул тишину:
— Пат? Чепуха, Би… Ах, черт возьми, ты, кажется, права!
Усилившееся гудение в середине комнаты заглушило слова генерала; Джералд, подойдя к камину, подбросил в огонь еще одно полено. Клубом вырвался дым.
Миссис Пендайс, откинувшись на спинку стула, улыбалась, морща тонкий, изящный нос.
— Как хорошо, — сказала она, но глаза ее не отрывались от лица сына, и в их глубине притаилась тревога.
ГЛАВА IV ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
Из всех мест, где с помощью разумной смеси хлыста и шпор, овса и виски лошадей заставляют перебирать ногами с быстротой, практически бесполезной, затем только, чтобы люди могли обменяться кружочками металла, минуя более сложные способы обмена, Ньюмаркет — самое лучшее, веселое и оживленное место.
Этот паноптикум, наглядно убеждающий, что все в мире течет, ибо тайная причина всех скачек — продемонстрировать вечное движение (ни один истинный любитель скачек не относился еще к своему проигрышу или выигрышу как к чему-то окончательному), этот паноптикум изменчивости обладает непревзойденными климатическими условиями для формирования английского характера.
Здесь, на этом пятачке, имеется и наиболее значительный фактор в создании характера: свирепый восточный ветер, и палящее солнце, и жесточайшие метели, и обильнейшие дожди, как нигде в другом месте во всех трех королевствах. Ньюмаркет обогнал даже Лондон, выпестовывая породу индивидуалистов, чье излюбленное состояние духа, выражаемое словами: «Подите к черту, я все знаю сам!» — желанная цель всякого англичанина, а тем более деревенского помещика. И Ньюмаркет, колыбель той самоуверенной замкнутости, которая составляет существеннейшую черту английского христианства в нашей стране, стал поистине землей обетованной для класса землевладельцев.
Возле конюшен ипподрома за полчаса до начала Ратлендширского гандикапа по двое, по трое собирались завсегдатаи, расписывая на все лады достоинства лошадей, на которых они не ставили, и недостатки тех, на которых ставили, а также обсуждая последние промахи жокеев и тренеров. В стороне беседовали вполголоса Джордж Пендайс, его тренер Блексмит и Жокей Суелс. Многими с удивлением отмечалось, что людям, имеющим дело со скаковыми лошадьми, свойственна замечательная скрытность. А дело простое. Лошадь — существо чуткое и несколько беззаботное, и если сначала не выказать твердости, она может подвести. В высшей степени важно иметь непроницаемое лицо, иначе она не поймет, чего от нее хотят. Чем больше возлагается надежд на лошадь, тем непроницаемее должны быть лица всех, имеющих к ней отношение, а не то можно потерпеть жестокое фиаско.
Именно поэтому лицо Джорджа было сегодня еще более невозмутимо, чем всегда, а настороженные и решительные лица тренера и жокея казались совершенно непроницаемыми. У маленького Блексмита был в руке короткий с насечкой хлыст, которым он вопреки устоявшемуся представлению не хлопал себя по ногам. Из-под полуопущенных век на гладко выбритой физиономии поблескивали умные глаза, верхняя губа была опущена на нижнюю. Испещренное морщинами лицо жокея с выступающими надбровными дугами и впадинами вместо щек было темноватого оттенка, какой бывает у старинной мебели, на голове жокейская шапочка «синего павлиньего» цвета.
Эмблер, жеребец Джорджа Пендайса, был куплен на заводе полковника Доркинга, принципиального противника скачек с участием двухлеток, и поэтому до трех лет ни разу не выступал. После многообещающих прикидок он пришел вторым в Фейн Стейксе, но с тех пор как-то исчез из поля зрения любителей.
«Конюшня» с самого начала возлагала надежды на Ратлендширский гандикап, и не успели закончиться скачки в Гудвуде, как букмекерам Барни, известным своим умением расположить публику в нужный момент в пользу намеченной лошади, было дано соответствующее распоряжение. Тут же выяснилось, что публика согласна ставить на Эмблера из расчета один к семи и не ниже. Букмекеры Барни тут же начали весьма тонко ставить деньги «конюшни», после чего оказалось, что Джордж, не ставя ни пенса, мог выиграть чистых четыре тысячи фунтов. Если бы он теперь решил поставить эту сумму против своей лошади, то при сложившихся условиях он мог наверняка обеспечить себе пятьсот фунтов, даже если бы Эмблер не сделал и шагу. Но Джордж, который был бы рад этим деньгам, считал недостойными подобные махинации. Это было против его принципов. Кроме того, он верил в своего жеребца, а в жилах его текло достаточно крови Тоттериджей, чтобы любить скачки ради скачек. Даже в самом поражении он находил радость оттого, что принимал это поражение хладнокровно, и от сознания своего превосходства над теми, в ком было так мало от истинных спортсменов.
— Пойдем посмотрим, как седлают, — сказал он своему брату Джералду.
В одном из денников, выходящем в длинный коридор, Эмблер дожидался, когда его начнут готовить к выходу; это был гнедой жеребец с красивыми плечами, тонкими бабками, небольшой, изящной головой и редким хвостом. Самое замечательное в нем были глаза. Бархатные, выпуклые, они светились из глубины каким-то таинственным огнем, а когда Эмблер скашивал их на стоящего рядом, открывая полумесяц белка, и глядел своим странным проникновенным взглядом, верилось, что его пониманию доступно все происходящее вокруг. Ему было всего три года, и он еще не достиг возраста, в котором у людей их действиями начинает управлять сознание; но трудно было сомневаться, что со временем он осудит систему, позволяющую людям наживаться за его счет. Глаза, обведенные белым серпом, глянули на Джорджа, Джордж молча посмотрел в ответ, и его странно поразил этот пристальный, ласковый и неукротимый взгляд жеребца. От сердца, которое билось глубоко под этой теплой темной атласной кожей, от этой души, проглядывающей в ласковом неукротимом взгляде, зависело слишком много, и Джордж отвернулся.
— Жокеи! По седлам!
И, разваливая надвое толпу одетых в шляпы и пальто двуногих существ с пустыми, холодными глазами, красуясь своей атласной наготой, гнедой, пегой, рыжей, гордо и спокойно, как на смерть, проплыли четвероногие существа, прекраснее которых нет в мире. И как только исчезла в воротах последняя лошадь, толпа разошлась.
Джордж стоял один у барьера в укромном углу, откуда видел через бинокль пестрое подвижное колесо на расстоянии мили и большую часть дорожки. В эти минуты, от которых зависела его судьба, он не мог оставаться с людьми.
— Пустили!
Джордж отнял бинокль от глаз, поднял плечи, напряг локти; никто не должен знать, что с ним сейчас происходит. Позади него кто-то сказал:
— Фаворит отстает. Кто же это в синем, на дальней дорожке?
Совсем один, на последней дорожке, совсем один несся во весь опор Эмблер, как птица, завидевшая родные места. Сердце Джорджа готово было выскочить из груди, как выскакивает летней ночью рыба из темного озера.
— Им не догнать! Эмблер первый! Выиграл шутя! Эмблер!
Джордж один молчал в этой орущей толпе и повторял про себя: «Моя лошадь! Моя лошадь!» Слезы радости подступили к его глазам. Минуту он стоял, словно окаменев, потом привычным движением поправил шляпу и галстук и неторопливо зашагал к конюшне. Подождав, пока тренер отвел жеребца, он прошел за ним в весовую.
Маленький жокей сидел, держа на коленях седло, с мрачно безучастным видом, ожидая слов: «Все в порядке!»
Но Блексмит сказал тихо:
— Мы выиграли, сэр. Обошли на четыре корпуса. Я уже предупредил Суелса. Больше на моих лошадях он скакать не будет. Выдать такой секрет! Так далеко оторваться! Я готов плакать с досады.
Взглянув на тренера, Джордж увидел, что губы у него дрожат.
В своем деннике, полосатый от струек пота, Эмблер, вытянув задние ноги, нетерпеливо косился на старательного грума; перестав мотать головой, на миг устремил на Джорджа свой пристальный, гордый, ласковый взгляд. Джордж опустил затянутую перчаткой руку на шею жеребца, всю в мыле. Эмблер вскинул голову и отвернулся.
Джордж вышел из конюшни и направился к трибуне. Слова тренера «Выдать такой секрет» были как ложка дегтя в чаше его счастья. Он подошел к Суелсу. На языке вертелись слова: «Зачем было раскрывать карты?» Но он ничего не сказал, ибо где-то в глубине души сознавал, что не приличествует ему спрашивать своего жокея, почему тот не схитрил и не выиграл всего одной длиной. Но жокей понял его и без слов.
— Мистер Блексмит задал мне головомойку. Но, сэр, этот жеребец — умная тварь. Я решил дать ему волю. Попомните мое слово, он понимает, что к чему. Если попадается такая лошадь, лучше ей не перечить.
Сзади кто-то проговорил:
— Поздравляю, Джордж! Хотя сам я повел бы скачки не так. Надо было точнее рассчитать расстояние. Ну и быстр этот жеребец, как ветер! Да, а все-таки теперь скачки не те.
Это подошли его отец и генерал Пендайс. Оба худощавые, подтянутые; такие разные и вместе такие похожие друг на друга; их глаза, казалось, говорили: «Я не буду таким, как ты. Вот возьму и не буду таким, как ты!»
За ними стояла миссис Белью. Ее глаза под полуопущенными ресницами ежесекундно меняли цвет и то меркли, то вспыхивали огнем. Джордж медленно подошел к ней. Вся она дышала торжеством и нежностью, щеки ее пылали, тонкий стан изгибался. Она и Джордж не глядели друг на друга.
Возле изгороди стоял мужчина в костюме для верховой езды, поджарый, с узкими, приподнятыми плечами наездника и худыми, длинными, чуть кривыми ногами. Узкое, с тонкими губами веснушчатое лицо мертвенно бледно; рыжеусый; соломенного цвета волосы коротко подстрижены. Он проводил Джорджа и его спутницу пронзительным взглядом маленьких темно-карих, жгучих глаз, в которых, казалось, плясали черти. Кто-то хлопнул его по плечу:
— Белью, здорово! Как скачки?
— Плохо, черт бы их побрал! Идем выпьем. По-прежнему не глядя друг на друга, миссис Белью и Джордж шли к выходу.
— Не хочу больше смотреть, — проговорила миссис Белью, — я бы, пожалуй, сейчас уехала.
— Еще только один заезд. В последнем ничего интересного.
В самом конце трибуны, посреди кипящей толпы, он остановился.
— Элин?
Миссис Белью повернула голову и первый раз прямо взглянула в его глаза.
Путь от станции Ройстон до Уорстед Скайнес был дальний, по проселкам. Джорджу Пендайсу, рядом с которым в двуколке сидела Элин Белью, он показался одной минутой — той редкой минутой, когда растворяются небеса и взору предстает дивное видение. Одним эта минута выпадает раз в жизни, другим часто. Она случается и после долгой зимы, когда сады зацветают, и после душного лета, когда начинают желтеть листья; а какими красками расписано это видение: снежная ли в нем белизна и пламя, винный багрянец и нежные тона альпийских цветов, или осенняя зелень глубокого покойного пруда, — это знает лишь тот, кому оно открывается. Одно бесспорно: оно заставляет забыть все образы окружающего, понятие о порядке, законе, все прошлое и настоящее. Это — видение будущего, благоухающее, исполненное дивной мелодией, унизанное перлами. Так является усталому путнику в расщелине скал цветущая яблоневая ветка, дрожащая на ветру, звенящая от пчел.
Джордж Пендайс, глядя поверх серой спины лошади, упивался своим видением, а та, что сидела подле, закутанная в меха, нежно касалась его руки своей. Позади, на запятках, на вершок от дороги, уносящейся прочь, дремал грум и видел иные сны: он выиграл пять фунтов. А серая кобыла видела свою теплую, светлую конюшню, слышала шорох овса, засыпаемого в ясли, и неслась, едва касаясь копытами земли; впереди нее бежали два светлых пятна от фонарей, вырывая из тьмы живую стену буков, звонко шелестевших листьями на ветру. Она часто фыркала, радуясь, что близок дом; и пена, закипавшая на ее губах, осыпала брызгами сидящих сзади. Они сидели молча, трепеща от каждого прикосновения рук, их щеки пылали от ветра, горящие глаза были устремлены вперед, в темноту.
Неожиданно грум очнулся от дремы: «Будь у меня жеребец, как у мистера Джорджа, да сиди со мной такая красотка, как миссис Белью, я бы не молчал, набрав в рот воды».
ГЛАВА V БАЛ У МИССИС ПЕНДАЙС
Миссис Пендайс любила собирать местное общество и устраивать танцевальные вечера — нелегкое предприятие в местах, где души, а кстати, и ноги привыкли к менее воздушным занятиям. Больше всего хлопот ей было с мужчинами: ведь, несмотря на общенациональное неодобрительное отношение к танцам, во всей Англии не сыскать девушки, которая не любила бы танцевать.
— Ах, как я любила танцевать! Бедняжка Сесил Тарп! — Она показала на долговязого, краснощекого юношу, танцующего с ее дочерью. — Каждую секунду сбивается с такта и ухватился за Би так, будто вот-вот упадет. Ах господи, какой увалень! Хорошо, что девочка танцует легко и уверенно. И все-таки он мне очень нравится. А вот и Джордж с Элин. Бедненький Джордж, в нем нет такого блеска, как в ней, но он лучше других. Как она прелестна сегодня!
Леди Молден поднесла к глазам лорнет в черепаховой оправе.
— Да, только она из тех женщин, на которых смотришь и замечаешь, что у них есть э… э… тело. Она слишком… как бы это сказать? Она почти… почти француженка!
Миссис Белью прошла так близко, что край ее платья цвета морской воды задел их ноги со свистящим шелестом и обдал ароматом, какой бывает в саду весной. Миссис Пендайс сморщила нос и сказала:
— Нет, она куда приятней. Такая стройность, грация.
Леди Молден, помолчав немного, заметила:
— Опасная женщина. И Джеймс того же мнения. Брови миссис Пендайс поднялись — в этом легком движении сквозила едва заметная насмешка.
— Миссис Белью — моя дальняя родственница, — сказала она. — Отец ее был человек замечательный. Старинная девонширская семья… Я люблю смотреть, как веселится молодежь.
Мягкая улыбка озарила морщинки у ее глаз. Под атласным лиловым лифом, отделанным рядами черной бархатной тесьмы, ее сердце билось сегодня сильнее, чем обычно. Она вспомнила далекий бал в юности, когда друг ее детских игр, молодой лейб-гвардеец Трефэн, танцевал с ней одной весь вечер и как после, встречая у окна своей спальни восход солнца, она тихо плакала, потому что была женою Хорэса Пендайса.
— Мне всегда жалко женщин, так хорошо танцующих. Я думала пригласить кого-нибудь из Лондона, но Хорэс и слышать не захотел. А девочкам скучно. И не в том дело, как местные кавалеры танцуют, — послушайте, о чем они говорят: первый выезд в поле, вчерашняя травля лисицы, завтрашняя охота на фазанов, фокстерьеры (хоть я и сама люблю собак) и, конечно, новое поле для гольфа. Меня порой это очень огорчает.
Миссис Пендайс опять взглянула на танцующих и улыбнулась своей доброй улыбкой. Две тонкие морщинки легли рядом между ровными дугами бровей, все еще темных. — Не умеют они веселиться. Да, впрочем, никто о веселье и не думает. Не дождутся завтрашнего утра: им бы только в лес, на охоту. Даже Би.
Миссис Пендайс не преувеличивала. Среди гостей Уорстед Скайнеса в этот вечер после скачек в Ньюмаркете были только соседи, начиная от Гертруды Уинлоу, напоминавшей слегка подкрашенную статую, и кончая молодым Тарном, у которого круглая голова и честное лицо и который танцует с Би, как будто продирается верхом через кусты. В нише у окна лорд Куорримен, хозяин Гаддесдона, беседовал с сэром Джеймсом и преподобным Хасселом Бартером.
— Ваш муж и лорд Куорримен говорят сейчас о браконьерах, — сказала миссис Пендайс, — тотчас видно по движениям рук. И я невольно начинаю сочувствовать бедным браконьерам.
Леди Молден опустила лорнет.
— Джеймс в отношении браконьеров придерживается правильных взглядов, проговорила она. — Это такое подлое преступление. А чем подлее проступок, тем более важно его предупредить. Конечно, неприятно наказывать человека, если он украл булку или немного репы, и все-таки укравший должен быть наказан. Но к браконьерам у меня нет ни капли жалости. Многие занимаются браконьерством ради забавы!
А миссис Пендайс говорила:
— Теперь с ней танцует капитан Мейдью. Вот он прекрасно вальсирует. Как хорошо они понимают друг друга и как довольны! Я так люблю, когда людям весело. В мире столько скорби, которой могло и не быть, столько страданий. Я думаю, это все оттого, что мы недостаточно терпимы друг к другу.
Леди Молден взглянула на хозяйку, неодобрительно поджав губы; но миссис Пендайс, урожденная Тоттеридж, ласково улыбалась. У нее был природный дар не замечать косых взглядов своих соседей.
— Элин Белью, — продолжала она, — была очаровательной девушкой. Ее дед приходится двоюродным братом моей матери. Так кем же она приходится мне? Во всяком случае, Грегори Виджил, мой кузен, — ее двоюродный дядя по отцу. Хэмширские Виджилы. Вы знаете его?
— Грегори Виджил? — переспросила леди Молден. — У него такая пышная седая шевелюра? Мне приходилось встречаться с ним по делам ОСДЖ.
Но миссис Пендайс видела себя танцующей.
— Прекрасной души человек! А что это за… за…?
Леди Молден строго посмотрела на миссис Пендайс.
— Общество Спасения Детей и Женщин! Разумеется, вы слышали о нем?
Миссис Пендайс все улыбалась,
— Ах да, слыхала, полезное общество! А какая фигура! Так приятно смотреть на нее! Я завидую женщинам с таким сложением, они никогда не старятся. Так вы говорите, Общество возрождения женщин? Грегори просто незаменим в подобных случаях. Но заметили вы, как редко он добивается успеха? Помню, этой весной он исправлял одну женщину. Она, кажется, пила.
— Они все пьют, — изрекла леди Молден. — В этом проклятие нашего времени.
Миссис Пендайс наморщила лоб.
— Многие из Тоттериджей пили, — сказала она. — Это очень вредно для здоровья! Вы знакомы с Джэспером Белью?
— Нет.
— Как жаль, что он пьет. Однажды он обедал у нас; по-моему, он приехал к нам нетрезвый. Я сидела с ним рядом, и его черные небольшие глаза так и буравили меня. На обратном пути домой он угодил со своей двуколкой в канаву. Это очень распространенный порок. Такая жалость. А ведь он интересный человек! Хорэс его терпеть не может.
Музыка вальса умолкла. Леди Молден поднесла лорнет к глазам. Мимо прошли Джордж и миссис Белью. Миссис Белью обмахивалась веером — челка леди Молден и волосы на ее верхней губе зашевелились.
— Почему она рассталась с мужем? — вдруг спросила леди Молден.
Миссис Пендайс подняла брови. «Как можно задавать вопросы, которые воспитанная женщина должна оставить без ответа?», — говорило выражение ее лица, и щеки ее порозовели.
Леди Молден поморщилась, и как будто слова вырвались из ее души помимо воли, проговорила:
— Стоит только взглянуть на нее, чтобы увидеть, как она опасна!
Миссис Пендайс залилась румянцем, как девочка.
— Все мужчины, — сказала она, — влюблены в Элин Белью. В ней столько огня. Мой кузен Грегори без ума от нее вот уже много лет, хотя он и опекун ей, или попечитель, или как это теперь называют… Так романтично. Будь я мужчиной, я непременно влюбилась бы в Элин! — Краска сбежала с ее лица, и оно приняло обычный тон — увядающей розы.
И опять слышался ей голос молодого Трефэна: «Ах, Марджори, я люблю вас!» — и слова, которые она прошептала ему: «Мой бедный мальчик!» Опять видела она прошлое сквозь лес, которым представлялась ей ее жизнь, лес, в котором она так долго блуждала и где каждое дерево было Хорэсом Пендайсом.
— Как жаль, что нельзя быть вечно молодым! — сказала она.
Сквозь широко раскрытые двери, ведущие в оранжерею, глядела огромная луна, наполнявшая воздух бледным! золотистым светом, и черные ветви кедра казались отпечатанными на голубовато-серой бумаге неба; все застыло в колдовском сне; где-то неподалеку ухал филин.
Преподобный Хассел Бартер решил подышать воздухом, но остановился на пороге оранжереи, увидав две фигуры, наполовину скрытые каким-то растением. Прижавшись друг к другу, они любовались луной, и он тотчас узнал в них миссис Белью и Джорджа Пендайса. И не успел он сделать и шага, чтобы ретироваться в комнаты или выйти в сад, как миссис Белью оказалась в объятиях Джорджа. Она закинула голову и приблизила свое лицо к самому лицу Джорджа. Лунный свет озарил лицо, белоснежный изгиб шеи. Священник Уорстед Скайнеса увидел, как ее губы приоткрылись и смежились веки.
ГЛАВА VI ВЛИЯНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ХАССЕЛА БАРТЕРА
Вдоль стен курительной, над кожаной панелью развешаны гравюры всадников в ночных рубашках и колпаках, всадников в красных мундирах и шляпах, под ними охотничьи стихи и шутки.
Две пары оленьих рогов висят над камином: — память о любимом Стрэжбегэли, о проданном лесе, где водились олени. Там вместе со своим любимым старым егерем Ангусом добыл он головы этих владык ущелий. Между рогами картина, на которой изображен улыбающийся мужчина с ружьем под мышкой, две огромные гончие, бросающиеся на раненого оленя и дама на маленькой лошади.
Сквайр и Джеймс Молден удалились на покой, оставшиеся расселись у камина. Джералд Пендайс стоит у столика, где на подносе графины с вином, минеральная вода и бокалы.
— Кто хочет вина? Всего один глоток… Бартер, вам налить? Джордж, что ты скажешь о капле…
Джордж покачал головой. На его губах бродила улыбка, странная своей чужеродностью, словно она принадлежала человеку иного склада и прокралась на лицо Джорджа, светского человека, помимо его воли. Он пытался согнать ее, надеть на лицо привычную маску, но эта улыбка, как будто наделенная таинственной силой, выступала снова.
Он со своими принципами, привычными взглядами был бессилен против нее; светскость с него сошла, и он остался наг, как человек, сбросивший одежды, чтобы окунуться жарким полднем в прохладный источник, и не думающий о том, сумеет ли он выбраться на берег.
Эта улыбка на лице Джорджа занимала внимание присутствующих не потому, что была притягательна сама по себе, а лишь благодаря своей чужеродности так в толпе внимание всех устремляется на иностранца.
Преподобный Хассел Бартер хмуро наблюдал эту улыбку, и необычные мысли приходили ему в голову.
— Дядя Чарлз, выпьете?
Генерал Пендайс погладил бакенбарды.
— Самую малость, самую малость! Я слыхал, что наш друг сэр Персиваль собирается и в этот раз выставлять свою кандидатуру в парламент?
Мистер Бартер поднялся и подошел к камину, подставив спину теплу.
— Невероятно! Надо предупредить его немедленно, что мы не можем его поддерживать.
Джефри Уинлоу отозвался со своего места:
— Если он выставит свою кандидатуру, то пройдет. Он слишком ценный человек!
И, лениво попыхивая сигарой, добавил:
— Должен признаться, господа, я не понимаю, какое отношение имеет это к его общественной деятельности.
Мистер Бартер выпятил нижнюю губу.
— Он запятнан.
— Но зато какая женщина! Кто устоит против таких чар?
— Помню, в Галифаксе, — заметил генерал Пендайс, — сна считалась первой красавицей.
Мистер Бартер снова выпятил губу.
— Не стоит говорить об этой… дряни! — И неожиданно повернулся к Джорджу: — А что вы думаете на этот счет, Джордж? Грезите о своих победах, а? — Тон его был странным.
Джордж встал.
— Пойду спать, — сказал он, — спокойной ночи. — И, быстро кивнув, вышел из комнаты.
За дверью на столике мореного дуба стояли серебряные подсвечники, но горела только одна свеча, бросая в бархатную черноту слабый золотистый свет. Джордж зажег от нее свою свечу — впереди него легла золотистая дорожка, и он стал подниматься по ней наверх. Джордж нес свечу на уровне груди. Огонь озарял белую манишку и красивое бульдожье лицо. Он отражался в серых глазах, налитых кровью, словно от с трудом сдерживаемых чувств. На площадке он остановился. В темноте наверху и внизу было тихо: дневная жизнь, ее легкие шумы, суета приездов и отъездов, самое ее дыхание — все как будто забылось сном. Жизнь дома, казалось, сосредоточилась сейчас в этом светлом пятне, где Джордж стоял, прислушиваясь. Он слышал только стук собственного сердца, этот слабый стук был единственным пульсом огромного спящего пространства. Так он стоял долго, как завороженный, слушая биение своего сердца. Вдруг снизу из темноты донесся смех. Джордж вздрогнул. «Черт бы побрал этого Бартера!» прошептал он и пошел дальше; в его движениях сказывалась решимость. Он поднял свечу повыше, чтобы темнота отступила. Прошел свою комнату и замер у соседней двери. Кровь прилила к голове и тяжелыми ударами билась в висках, губы дрожали. Он коснулся неверными пальцами ручки двери и снова замер, как изваяние, боясь услышать смех. Поднял свечу над головой так, что осветились самые дальние уголки, и с трудом глотнул…
На другой день в купе первого класса трехчасового лондонского поезда в Бернард Скролз (на следующей станции после Уорстед Скайнеса) вошел молодой чело-1 век. На нем было длинное, узкое пальто, щегольские белые перчатки. У молодого человека был прекрасный цвет лица, аккуратно расчесанные темные усики, и его голубые глаза — в одном монокль, — казалось, говорили; «Вот он я, нет на свете более красивого и здорового человека». На его саквояже из самой лучшей кожи и картонке для шляпы стояло: «Е. Мейдью, 8 уланский полк».
В углу купе, закутавшись в меховую накидку, сидела дама; вошедший, посмотрев в ее сторону, встретил холодный, иронический взгляд, уронил монокль и протянул руку.
— Миссис Белью? Счастлив видеть вас так скоро! Вы в Лондон? Что за прекрасный образец старого английского джентльмена этот сквайр. Славный был вчера бал! А миссис Пендайс такая милая женщина.
Миссис Белью пожала протянутую руку и откинулась на спинку сиденья. Она была бледнее, чем обычно, но бледность была ей к лицу, и капитан Мейдью решил, что более очаровательной женщины он не встречал.
— Я, благодарение богу, получил недельный отпуск. Унылая пора — осень. Охота на лисят кончилась. И теперь надо ждать до первого числа.
Он поглядел в окно. Там, озаренные солнечным светом, красные и желтые полосы живой изгороди убегали от клубов дыма, тянувшегося за поездом. Мейдью, окинув взглядом всю эту красоту, покачал головой.
— В этой пестроте трудно разглядеть зверя. Какая жалость, что вы больше не охотитесь!
Миссис Белью не отвечала, и эта самоуверенность, это холодное превосходство женщины, знающей свет, ее спокойный, почти пренебрежительный взгляд — все это действовало неотразимо на капитана Мейдью. И он ощутил робость.
«Вероятно, ты станешь моим рабом, — казалось, говорили ее глаза. — Но, право, я ничем не могу помочь тебе!»
— Вы ставили на Эмблера? Удачные были для меня скачки. Мы с Джорджем школьные приятели. Славный малый этот Джордж!
В самой глубине зеленоватых глаз миссис Белью что-то шевельнулось, но Мейдью был занят в тот миг своей перчаткой. Он обнаружил на ней след, оставленный ручкой двери, и это огорчило его.
— Вы хорошо знаете Джорджа?
— О да!
— Другие ни за что не открыли бы своих шансов перед скачками. Вы любите скачки?
— Страстно.
— И я. — А глаза говорили: «Счастье любить то, что любите вы»; ибо эти глаза были сейчас околдованы. Капитан Мейдью не мог оторвать взгляда от полных губ, ясных, чуть насмешливых глаз, от лица молочной белизны, опушенного белым мехом воротника.
На вокзале миссис Белью отказалась от его услуг, — он долго смотрел ей вслед, приподняв шляпу, и чувствовал себя несчастным. Но в кэбе очень скоро к нему вернулось его обычное расположение духа, и глаза приняли свойственное им выражение: «Вот он я. На свете нет более здорового и красивого человека».
ГЛАВА VII ДЕНЬ СУББОТНИЙ В УОРСТЕД СКАЙНЕСЕ
В белом будуаре сидела у окна миссис Пендайс, держа на коленях распечатанное письмо. Она любила проводить здесь час перед тем, как идти в церковь. Для нее было особенным удовольствием ничего не делать, а только сидеть у окна, открытого в хорошую погоду, глядеть на лужайку перед домом и на короткий шпиль деревенской церкви за рощей вязов. Неизвестно, о чем она думала все эти воскресные утра, сидя, положив руки на колени, ожидая, чтобы без четверти одиннадцать вошел сквайр со словами: «Пора, дорогая, не опаздывай!» Волосы ее за эти годы подернулись сединой. Они побелеют совсем, а она будет все так же сидеть по утрам в воскресенья, положив на колени руки. Настанет день, когда место ее опустеет, и может статься, что мистер Пендайс, все еще прекрасно сохранившийся, войдет, забывшись, в ее комнату и скажет, как всегда: «Пора, дорогая, не опаздывай!»
Этого не минуешь, всему свой черед; то же происходит и в сотнях других усадеб во «всех трех королевствах»; женщины так же сидят у окна своей комнаты по воскресным утрам, пока их волосы не оденет иней, те женщины, что когда-то давным-давно в фешенебельной церкви навек простились со своими мечтами, со всеми возможными превратностями и неожиданностями земной жизни.
Возле ее стула лежали «милые собачки» — так они проводили свои воскресные утра, и время от времени скай (бедняжка совсем одряхлел) высовывал длинный язык и лизал узконосый ботинок своей госпожи — миссис Пендайс когда-то славилась красотой, и ножка у «ее была маленькая.
Возле нее на столике стояла фарфоровая ваза, полная сухих розовых лепестков, сбрызнутых эссенцией, пахнущей цветом шиповника. Рецепт этой эссенции миссис Пендайс узнала от своей матери, живя еще в старом уорикширском поместье Тоттериджей, давно проданном мистеру Абрахэму Брайтмену. У миссис Пендайс, родившейся в 1840 году, была слабость к благовониям, и она не стыдилась ее. Осеннее солнце светило мягко и ясно, и таким же мягким и ясным был взгляд миссис Пендайс, задумчиво устремленный на письмо. Она перевернула его и принялась читать во второй раз. Морщинка набежала на лоб. Не часто случалось, чтобы письмо, требующее принятия решений и налагающее ответственность, попадало в руки миссис Пендайс, минуя справедливую и беспристрастную цензуру мистера Пендайса. В ведении миссис Пендайс было множество дел, но все они, как правило, не выходили за пределы усадьбы. В письме было вот что:
«ОСДЖ, Ганновер-сквер.
1 ноября 1891 г.
Дорогая Марджори!
Мне надо повидать вас по одному очень важному делу. Я буду в Уорстед Скайнесе в воскресенье днем. В эти часы есть какой-то поезд. Ночевать я могу в любой каморке, если ваш дом, как обычно в эту пору, полон гостей. Пожалуй, я изложу вкратце суть дела. Вам известно, что с тех пор, как умер отец Элин Белью, я ее единственный опекун. И я считаю, что настоящее ее положение невозможно и надобно положить ему конец. Этот Белью не заслуживает того, чтобы думать о нем. Я не могу писать о кем хладнокровно, поэтому вовсе не буду о нем писать. Вот уже два года, как они живут врозь, и только по его вине. Все это время она волею закона была поставлена в ужасное, безвыходное положение; но теперь, благодарение богу, можно будет, кажется, получить развод. Вы хорошо меня знаете и сможете понять, чего стоило мне это решение. Бог свидетель, если была бы иная возможность обеспечить будущее Элин, я не преминул бы ею воспользоваться — что угодно, только не это. Но иной возможности нет. Марджори, вы единственная женщина, которая, я знаю, сочувственно отнесется к Элин; к тому же я должен повидать Белью.
Пусть честный толстяк Бенсон не утруждает своих драгоценных лошадей ради моей персоны; я приду со станции пешком и свою зубную щетку донесу сам.
Ваш любящий кузен Грегори Виджил».
Миссис Пендайс улыбнулась. Ей не было смешно, но она оценила старание Грегори пошутить и потому улыбнулась, и так, улыбаясь и хмуря лоб, миссис Пендайс задумалась над письмом. Недавний скандал — развод леди Розы Бетани с мужем — наделал шуму во всем графстве, и даже сейчас говорить об этом надо было осторожно. Хорэсу, несомненно, будет неприятен новый бракоразводный процесс, да еще так близко от Уорстед Скайнеса. Когда в четверг Элин уехала, он сказал:
— Я рад, что Элин Белью уехала. Ее положение двусмысленно. Это шокирует многих. Молдены были очень, очень…
И миссис Пендайс вспомнила с радостно забившимся сердцем, как остановила мужа на полуслове:
— Эллен Молден слишком буржуазна!
Неодобрительный взгляд мистера Пендайса не уменьшил удовольствия, какое она получила, произнося это слово.
Бедный Хорэс! И дети пошли в него, все, кроме Джорджа; Джордж — точная копия брата Губерта. Дорогой мальчик, он уехал в Лондон в пятницу, на следующий день, как уехали Элин и все остальные. А ей так хотелось, чтобы он остался подольше. Так хотелось. Морщинка на лбу залегла глубже. Лондон плохо действует на него! Воображение перенесло ее в Лондон, она бывала там теперь всего три недели, в июне и июле: вывозили девочек. Как раз когда сад был в самом цветении; и эти три недели пролетали в суете, как один день…
Она помнит другой Лондон: Лондон под весенним небом; в свете фонарей, в долгие зимние вечера, когда каждый прохожий возбуждает любопытство своей неведомой деятельной жизнью, своими неведомыми острыми радостями, своей незащищенностью от всяких превратностей, порой бездомный, порой без куска хлеба; так захватывающе, так непохоже…
— Пора, дорогая, не опаздывай!
Мистер Пендайс в свободной домашней куртке, которую полагалось сменить на черный сюртук, проходил через будуар миссис Пендайс, сопровождаемый своим любимцем Джоном. У двери он обернулся, Джон тоже.
— Надеюсь, что Бартер не будет сегодня слишком многословен. Я должен переговорить со старым Фоксом о новой соломорезке.
Лежавшие возле своей госпожи терьеры подняли головы, древний скай тихонько заворчал. Миссис Пендайс нагнулась и погладила его нос.
— Рой, Рой, как не стыдно, хорошая собака
— Совсем одряхлел, — сказал мистер Пендайс, — скоро последние зубы выпадут. Придется расстаться с ним.
Миссис Пендайс заволновалась, покраснела:
— Нет, нет, Хорэс, как можно!
Сквайр кашлянул.
— Надо думать и о животном!
Миссис Пендайс поднялась, нервно комкая письмо, и вышла вслед за мужем.
К церкви вела неширокая дорога через приусадебный луг, и по ней цепочкой растянулись обитатели Уорстед Скайнеса. Сперва шли нарядные горничные по двое и трое, за ними важный дворецкий, следом лакей с грумом, распространяя запах помады. Затем вышагивал генерал Пендайс в шляпе с квадратной тульей, толстая трость в одной руке, молитвенник — в другой, рядом с ним шли Нора и Би тоже с молитвенниками и в сопровождении терьеров. И, наконец, сквайр в цилиндре, а шагах в шести-семи за ним — миссис Пендайс в маленькой черной шляпке.
Грачи не кружили над церковью, не было слышно их криков, и только низкие холодные удары колокола, возвещавшего начало службы, нарушали тишину воскресного утра. Старая лошадь, которую все еще выводили пастись, стояла неподвижно, повернув голову к дороге. За церковной оградой священник, плотный, квадратный, в надвинутой на лоб шляпе с низкой тульей, беседовал с глуховатым крестьянином.
Увидав семейство Пендайсов, он снял шляпу, кивком приветствовал дам и, не окончив фразы, исчез в ризнице. Миссис Бартер выдвигала регистры органа, готовясь заиграть при появлении мужа, и ее восторженно-беспокойный взгляд был устремлен на дверь ризницы.
Сквайр и миссис Пендайс, идя теперь почти бок о бок, прошли в глубь церкви и заняли свои места рядом с дочерьми и генералом на первой скамье с левой стороны. Скамья была высокая, с мягким сиденьем. Семейство опустилось на колени, на толстые красные подушки. Миссис Пендайс минуту оставалась погруженной в размышления. Мистер Пендайс поднялся с колен раньше, жены, глянул вниз и подвинул ногой подушку, слишком близко лежавшую у скамьи. Водрузив на нос очки, он заглянул в пухлую библию, затем подошел к аналою и стал искать тексты сегодняшней службы. Колокол отзвонил, заворчали раздуваемые меха. Миссис Бартер начала играть. Вышел священник в белом стихаре. Мистер Пендайс, все еще спиной к алтарю, перелистывал библию. Служба началась.
Сквозь простое стекло высокого окна правого придела на скамью Пендайсов падал косой луч. Потихоньку он перебрался на лицо миссис Бартер, осветив ее нежные, в сетке морщинок, лихорадочно горевшие щеки, бороздки на лбу и сияющие глаза, радостно-тревожные, которые она то и дело переводила с нот на мужа. Едва по лицу мистера Бартера пробегала тень или его брови хмурились, мелодия начинала трепетать, как будто вторила состоянию души той, из-под чьих пальцев лилась. Дочери мистера Пендайса пели громко и приятно. Мистер Пендайс тоже пел, и один или два раза удивленно обернулся на брата, негодуя, почему он жалеет голос.
Миссис Пендайс не пела, хотя губы ее шевелились. Она следила глазами, как пляшут в длинном косом луче тысячи крохотных пылинок. Золотистая полоса медленно отодвигалась от нее и вдруг пропала. Миссис Пендайс опустила глаза — что-то исчезло из ее души вместе с лучом солнца, губы ее больше не шевелились.
Сквайр громко пропел две фразы, проговорил три, опять пропел две. Псалом был окончен. Мистер Пендайс покинул свое место, положил руки на аналой, чуть подался вперед и стал питать библию. Он читал об Аврааме и Лоте — о том, как Лот ходил с Авраамом и был у них мелкий и крупный скот, о том, как они не могли жить вместе. Читая, он подпал под гипнотизирующее действие собственного голоса и машинально повторял про себя:
«Это читаю я, Хорэс Пендайс, и читаю хорошо. Я — Хорэс Пендайс. Аминь, Хорэс Пендайс!»
А миссис Пендайс, сидя на первой скамье слева и устремив по привычке взгляд на мужа, думала, что, когда снова придет весна, она поедет в Лондон, остановится в гостинице Грина, где всегда останавливалась с отцом, еще будучи ребенком. Джордж обещал поухаживать за ней, походить с ней в театры. И, позабыв, что мечтала так каждую осень уже десять лет, она тихо улыбалась, качая головой. A мистер Пендайс читал: «И я сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в ширину ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник. Господу».
Солнце, подкравшееся ко второму окну, опять бросило косой сноп света через всю церковь, и опять заплясали в нем миллионы пылинок, а служба все продолжалась.
Затем стало тихо. Снаружи спаньель Джон, припав почти к самой земле, просунул свой узкий черный нос под кладбищенские ворота; фокстерьеры, терпеливо дожидавшиеся в траве, навострили уши. Голос, бубнивший что-то на одной ноте, прервал тишину. Спаньель Джон вздохнул, фоксы опустили уши и улеглись один подле другого. Священник начал проповедь. Он говорил об умножении рода человеческого, и шестеро меньших Бартеров на передней скамье с правого края беспокойно заерзали. Миссис Бартер, сидевшая у органа, выпрямившись, не сводила лучистых глаз с лица мужа; морщинка недоумения прорезала ее лоб. Время от времени она шевелила плечами, как будто у нее уставала спина. Взгляд священника метал молнии на прихожан, дабы никто из них не заснул в храме. Он говорил громким, как труба, голосом.
Бог, говорил он, захотел, чтобы человек размножался. Бог решил, что так будет. Бог повелел, чтобы так было. Бог создал человека и сотворил землю. Бог создал человека, чтобы он наполнял землю. Он создал человека не для того, чтобы тот сомневался, спрашивал, или оспаривал. Он создал человека, чтобы человек плодился и обрабатывал землю. В прекрасном поучении, которое они слушали сегодня, говорится, что бог наложил на человека узы — брачные узы; в этих узах человек должен умножаться, исполнить свой долг — плодиться, как плодился Авраам. В наши дни человека подстерегают многие опасности, западни, ловушки, в наши дни люди, презрев стыд, открыто отстаивают самые позорные воззрения. Пусть же они остерегаются. Его священный долг — изгонять кощунствующих за пределы прихода, вверенного его попечению самим богом. Говоря словами нашего великого поэта: «Эти люди опасны» — опасны для христианства, опасны для Англии, для всей нации. Люди рождаются не за тем, чтобы поддаваться греховным побуждениям, потакать своим слабостям. Бог требует жертв от человека. Любовь к родине требует жертв от человека, требует, чтобы человек умел обуздывать свои желания и прихоти. Любовь к своей стране требует выполнения первого долга христианина и человека: плодиться и размножаться, чтобы, как говорил господь, обрабатывать эту щедрую землю не только для себя и своего блага. Она требует от людей умножаться, чтобы они и их дети могли поразить врагов королевы и страны, не посрамить дорогое каждому англичанину слово «Англия», если какой-нибудь ее враг решится безрассудно втоптать в грязь ее стяг.
Сквайр открыл глаза и взглянул на часы. Сложив руки на груди, он кашлянул — он думал сейчас о соломорезке. Подле него миссис Пендайс, устремив взгляд на алтарь, улыбалась, как во сне. Она думала: «У Милуорда, на Бонд-стрит, бывает отличное кружево. Может быть, весной я… Или нет — у Гоблина, их венецианские кружева…» А через четыре ряда от них сидела старуха крестьянка, стройная, как молоденькая девушка; ее старчески сморщенное лицо светилось восторгом и умилением. Всю службу она не шелохнулась; взгляд ее не отрывался от движущихся губ священника, она упивалась его словами. Правда, тусклые глаза различали лишь какое-то смутное пятно, а уши не слыхали ни слова, но она сидела на той самой скамейке, где сидела всю жизнь, и ни одной мысли не было у нее в голове. Пожалуй, так оно было и лучше, уж недалек был ее конец.
За церковной оградой, на согретой солнцем траве, лежали фокстерьеры, прижавшись друг к другу, словно им было зябко; их маленькие зоркие глазки, не отрываясь, следили за церковными дверями, а резиновый нос спаньеля Джона еще более усердно подкапывался под кладбищенскую калитку.
ГЛАВА VIII ГРЕГОРИ ВИДЖИЛ ПРЕДПОЛАГАЕТ…
Около трех часов пополудни мужчина высокого роста шагал по аллее Уорстед Скайнеса, в одной руке неся шляпу, в другой маленький коричневый саквояж. Порой он останавливался, дыша полной грудью, и ноздри его прямого носа расширялись. У него была красивой формы голова и длинные, разметавшиеся крыльями волосы. Он носил свободное платье, шаг его был пружинист. Он остановился посреди аллеи и вздохнул глубоко, глядя в небо голубыми блестящими глазами, и любопытная малиновка вспорхнула с куста рододендрона, а когда он двинулся дальше, засвистела. Грегори Виджил обернулся, вытянул дудочкой губы, готовые в любую минуту сложиться в улыбку, и, если отвлечься от его сухощавости, стал очень похож на эту птичку, считающуюся особенно английской.
Высоким тихим голосом, приятным для слуха, он спросил миссис Пендайс, и его тут же проводили в белый будуар.
Миссис Пендайс встретила его ласково: как многие женщины, ежедневно слышащие от своих мужей ироническое: «А, твоя семья!» — она любила своих родственников.
— Знаете, Григ, — сказала она, когда кузен уселся, — ваше письмо смутило меня. Уход Элин от мужа вызвал столько пересудов. Я понимаю, так уж вышло, но Хорэс, вы ведь знаете его… Сквайры, священники и вообще все в графстве думают на этот счет одинаково. Мне-то она очень нравится — она очень хороша собой, но, Грегори, мне и муж ее симпатичен. Он отчаянная натура — это так необычно, и, знаете, мне кажется, что Элин немножко походит на него.
У Грегори Виджила на висках вздулись жилы и, прижав руку ко лбу, он воскликнул:
— Походит? Походит на него? Может ли роза походить на артишок?
Миссис Пендайс продолжала:
— Я так была рада видеть ее в нашем доме. Это первый раз, как она покинула Сосны. Когда же это случилось? Два года назад? Но, видите ли, Григ, Молдены были очень недовольны. Так вы считаете, что развод необходим?
Грегори Виджил ответил:
— Боюсь, что необходим.
Миссис Пендайс невозмутимо выдержала взгляд кузена, разве что брови приподнялись выше, чем обычно: но пальцы ее, выдавая затаенное беспокойство, сплетались и расплетались. Она вдруг представила себе Джорджа и рядом с ним Элин. В ней говорила невнятная материнская тревога, инстинктивное предчувствие опасности. Она уняла пальцы, опустила глаза и сказала:
— Конечно, Григ, я помогу, если понадобится, только Хорэс очень не любит, когда что-нибудь попадает в газеты.
Грегори Виджил задохнулся.
— Газеты! — воскликнул он. — Как это гнусно! Подумать, что в нашем обществе допускают такое глумление над женщиной! Поймите, Марджори, я думаю только об Элин, в этом деле меня заботит только ее судьба и ничто другое.
Миссис Пендайс проговорила:
— Конечно, дорогой Григ, я понимаю.
— Ее положение невыносимо. Как можно, чтобы всякий мог распускать о ней грязную клевету!
— Но, Григ, дорогой, мне кажется, ее это вовсе не волнует, она была весела и довольна.
Грегори провел ладонью по волосам.
— Никто не понимает ее, — сказал он. — Она мужественная женщина.
Миссис Пендайс украдкой взглянула на кузена, и чуть насмешливая улыбка промелькнула на ее губах.
— Всякий, кто знает Элин, знает, какая сильная у нее душа. Но, Григ, быть может, и вы не совсем понимаете ее!
Грегори Виджил прижал руку ко лбу.
— Можно, я на минутку открою окно? — сказал он. Снова пальцы миссис Пендайс стали нервно теребить друг друга, и снова она уняла их.
— На прошлой неделе у нас было много гостей, а теперь один Чарлз. Джордж и тот уехал; он будет жалеть, что не видел вас.
Грегори не повернул головы и не отвечал, на лице миссис Пендайс появилось беспокойство.
— Я так рада, что лошадь Джорджа пришла первой! Боюсь только, что он играет крупно. Хорошо, что Хорэс ничего не знает.
Грегори молчал.
Беспокойство на лице миссис Пендайс сменилось ласковым восхищением.
— Григ, дорогой, как вы ухаживаете за своими волосами? Они такие красивые, длинные и вьются.
Грегори повернулся, порозовев.
— Тысячу лет собираюсь постричься. Вы уверены, Марджори, что ваш муж не в состоянии понять, в какое она поставлена положение?
Миссис Пендайс сидела, устремив взгляд на свои колени.
— Дело в том, Григ, — проговорила она, — что Элин прежде часто бывала у нас, до того как покинуть Сосны, и к тому же она моя родственница, хоть и дальняя. А эти отвратительные бракоразводные дела иной раз приводят бог знает к чему. Хорэс, я уверена, скажет, что она должна вернуться к мужу; или, если это невозможно, он скажет, что она должна помнить свой долг перед обществом. Процесс леди Розы Бетани всех неприятно поразил. И Хорэс нервничает. Не знаю отчего, но в деревне решительно все настроены против женщин, отстаивающих свое право жить, как им хочется. Вы бы послушали мистера Бартера или сэра Джеймса Молдена и других; но занятнее всего, что и женщины на их стороне. Мне это, разумеется, кажется странным. Потому что ведь в нашем роду многие венчались тайно и вообще вели себя иногда не так, как все. Да, я понимаю и жалею Элин, но я еще должна думать и о… о… Знаете, как в деревне, еще и не сделал ничего, а уже все говорят. Сплетни и охота — вот и все деревенские развлечения.
Грегори Виджил обхватил руками голову.
— Ну, если от рыцарского благородства осталось только это, то хорошо, что я не сквайр.
Глаза миссис Пендайс блеснули.
— Ах, — сказала она, — как часто я думала об этом!
Оба долго молчали. Наконец Грегори сказал:
— Я не могу переделать взгляды общества. Но мне ясен мой долг. У нее в целом мире нет никого, кроме меня.
Вздохнув, миссис Пендайс поднялась со стула и сказала:
— Ну и прекрасно, Грегори, а теперь идем пить чай.
По воскресеньям чай в Уорстед Скайнесе накрывался в большой гостиной. К чаю обычно приходили мистер Бартер с женой. Молодой Сесил Тарп явился сегодня со своей собакой, и теперь она скулила под дверью.
Генерал Пендайс, заложив ногу на ногу и соединив кончики пальцев, откинулся на спинку стула и смотрел в стену. Сквайр, держа в руке свое последнее приобретение — яичко, показывал его рябинки Бартеру.
В углу, у фисгармонии, на которой никто никогда не играл, Нора болтала о местном хоккейном клубе с миссис Бартер, не сводившей глаз с мужа. Возле камина Би и молодой Тарп, чьи стулья были сдвинуты, пожалуй, слишком близко, вполголоса разговаривали о лошадях, порой бросая один на другого застенчивые взгляды. Свечи горели тускло, дрова в камине потрескивали, то и дело в гостиной воцарялось дремотное молчание, безмолвие тепла и покоя, родственное безмолвию спаньеля Джона, мирно спящего у хозяйских ног.
— Что ж, — сказал Грегори тихо, — я должен повидать этого человека.
— А надо ли вам с ним встречаться? Я имею в виду…
Грегори провел ладонью по волосам.
— Этого требует справедливость. — И, пройдя через гостиную, он неслышно отворил дверь и вышел вон, так, что никто и не заметил.
А спустя полтора часа мистер Пендайс и его дочь Би шли неподалеку от станции по дороге, ведущей из деревни в Уорстед Скайнес: они возвращались домой после воскресного визита к их старому дворецкому Бигсону. Сквайр говорил:
— Стареет, стареет Бигсон, шамкает, не поймешь, что хочет сказать, и забывчив стал. Подумай, Би, не помнит, что я учился в Оксфорде. Но таких слуг в наше время не найти. Теперешний наш ленив. Ленив и нерасторопен! Он… Кто это там? Безобразие — нестись сломя голову! Да кто же это? Не разберу!
Навстречу по середине дороги со страшной быстротой мчалась двуколка. Би схватила отца за руку и оттащила его на обочину: от негодования мистер Пендайс потерял способность двигаться. Двуколка пролетела в двух шагах от них и исчезла за поворотом к станции. Мистер Пендайс круто повернулся, не сходя с места.
— Кто это? Неслыханно! И еще в воскресенье! Должно быть, пьян, он чуть не отдавил мне ноги! Ты видела, Би, он чуть не сшиб меня…
Би ответила:
— Это капитан Белью, папа; я узнала его.
— Белью? Этот вечно пьяный негодяй? Я подам! на него в суд. Ты видела, Би, он чуть не переехал меня…
— Он, верно, получил неприятные известия. Скоро отходит поезд. Хоть бы он поспел!
— Неприятные известия! Значит, он должен давить меня? Хоть бы он поспел? Хоть бы он свалился в канаву! Мерзавец! Хоть бы он сломал себе шею!
Мистер Пендайс продолжал в том же духе, пока они не вошли в церковь. В одном из приделов Грегори Виджил стоял, облокотившись на аналой, ладонями закрыв лицо.
Вечером того же дня, около одиннадцати часов, в Челси у дверей миссис Белью стоял мужчина и бешено звонил в колокольчик. Его лицо покрывала смертельная бледность, но его узкие темные глаза сверкали. Дверь отворилась, на пороге со свечкой в руке, в вечернем платье появилась Элин Белью.
— Кто здесь? Что вам надо?
Человек шагнул вперед, и свет упал ему на лицо.
— Джэспер! Ты? Что тебя привело сюда?
— Я должен поговорить с тобой.
— Поговорить? Да ведь время позднее…
— Время? А что это такое? Ты могла бы и поцеловать меня после двухлетней разлуки. Я пил сегодня, но я не пьян.
Миссис Белью не поцеловала мужа, но и не отстранила своего лица. В ее глазах, серых, как лед, не мелькнуло и тени беспокойства.
— Я впущу тебя, — проговорила она, — если ты обещаешь все рассказать поскорее и уйти.
Коричневые чертики заплясали на лице мистера Белью. Он кивнул. Муж и жена остановились в гостиной возле камина, на их лицах появилась и пропала особенная усмешка.
Трудно совсем серьезно принимать человека, с которым прожил не один год, делил страсть, прошел сквозь все ступени близости и охлаждения, который знает все твои черточки и привычки после многих лет под одной крышей и с которым в конце концов расстаешься не из ненависти, а из-за несходства характеров. Им нечего было прибавить к знанию друг о друге, и они улыбнулись, и эта улыбка была — само знание.
— Зачем ты пришел? — снова спросила Элин. Лицо капитана Белью мгновенно изменилось. Оно стало хитрым, губы дрогнули, между бровей легла глубокая морщинка.
— Как ты поживаешь? — наконец проговорил он хрипло, запинаясь на каждом слове.
— Послушай, Джэспер, что тебе надо? — спокойно сказала миссис Белью.
Коричневые черти опять заплясали на его лице.
— Ты очень хороша сегодня!
Губы Элин презрительно искривились.
— Такая, как всегда.
Вдруг его затрясло. Взгляд его устремился вниз чуть левее ее ног, потом он внезапно поднял глаза. Жизнь в них потухла.
— Я не пьян, — глухо пробормотал он, и снова его глаза засверкали; в этом внезапном переходе было что-то жуткое. Он шагнул к ней.
— Ты моя жена!
Миссис Белью улыбнулась:
— Опомнись, Джэспер. Тебе надо уходить. — Она протянула обнаженную руку, чтобы оттолкнуть его. Но он отступил сам и снова уставился в пол левее ее ног.
— Что там? — прошептал он прерывающимся голосом. — Что это… черное? Наглость, насмешка, восхищение, неловкость — все исчезло с его лица, оно было белое, застывшее, спокойное и несчастное.
— Не прогоняй меня, — проговорил он нетвердо, — не прогоняй.
Миссис Белью внимательно поглядела на мужа, в ее глазах пренебрежение сменилось жалостью. Она решительно подошла к нему и положила руку ему на плечо.
— Успокойся, Джэспер, успокойся! Там ничего нет!
ГЛАВА IX МИСТЕР ПАРАМОР РАСПОЛАГАЕТ
Миссис Пендайс, все еще спавшая с мужем в одной спальне (он так хотел), поведала ему о планах Грегори утром, когда сквайр был еще в постели. Момент был благоприятный, ибо сквайр еще не вполне проснулся.
— Хорэс, — начала миссис Пендайс, ее взволнованное лицо казалось совсем молодым, — Григ говорит, что Элин не может дольше оставаться в таком положении.
Я объяснила ему, что ты будешь недоволен, но Григ говорит, что так дальше продолжаться не может, что она должна развестись с капитаном Белью. Мистер Пендайс лежал на спине.
— Что, что? — пробормотал он. Миссис Пендайс говорила дальше:
— Я знаю, это расстроит тебя, но в самом деле, — она посмотрела в потолок, — мы в первую очередь должны думать об Элин.
Сквайр сел.
— Ты что-то говорила о Белью?
Миссис Пендайс продолжала бесстрастным голосом и не сводя глаз с потолка:
— Только, дорогой, не выходи из себя; это так неприятно. Раз Григ говорит, что Элин должна разойтись с капитаном Белью, — значит так нужно.
Хорэс Пендайс резко откинулся на подушку и теперь лежал, как и жена, устремив взгляд в потолок.
— Разойтись с Белью? — воскликнул он. — Давно пора! По нем веревка плачет. Я ведь говорил тебе, как он чуть не переехал меня вчера вечером. Забулдыга — какую жизнь он ведет! Хороший пример для всей округи! Если бы не мое присутствие духа, он бы сшиб меня, как кеглю, и Би в придачу.
Миссис Пендайс вздохнула.
— Ты был на волосок от смерти, — сказала она.
— Развестись с ним! — продолжал мистер Пендайс. — Еще бы, давным-давно надо было развестись с ним. И как я жив остался; еще дюйм, и лошадь сбила бы меня!
Миссис Пендайс отвела взгляд от потолка.
— Сперва я подумала, — начала она, — вполне ли это… но я очень, очень рада, что ты так отнесся к решению Грегори!
— Так отнесся! Я должен сказать тебе, Марджори, что вчерашний случай из тех, что заставляет задуматься. Когда Бартер читал вчера свою проповедь, я все думал, что сталось бы с усадьбой, если бы… — И он поглядел кругом, нахмурившись. — Сейчас и мне не так-то легко сводить концы с концами. А что касается Джорджа, он не более тебя пригоден вести хозяйство; он будет нести тысячные убытки.
— Боюсь, что Джордж чересчур много времени проводит в Лондоне. Уж не потому ли, я думаю… Боюсь, он часто стал видеться с…
Миссис Пендайс замолчала, больно ущипнув себя под одеялом!. Краска залила ей щеки.
— У Джорджа, — говорил мистер Пендайс, развивая свою мысль, — нет практической сметки. Где ему справиться с такими людьми, как Пикок, — а ты еще его балуешь! Ему пора подыскать себе жену, пора остепениться!
Щеки миссис Пендайс остыли, она сказала:
— Джордж очень похож на бедного Губерта. Хорэс Пендайс вынул из-под подушки часы.
— О! — воскликнул он, но воздержался и не прибавил: «А, твоя семья!»: еще не истек и год, как умер Губерт Тоттеридж.
— Без десяти восемь! А ты все занимаешь меня своими разговорами; пора принимать ванну.
В пижаме в широкую голубую полоску, сероглазый, с седеющими усами, тонкий и прямой, он помедлил у двери:
— У девочек нет ни капли воображения. Ты знаешь, что сказала Би? «Хоть бы он поспел на поезд!» Поспел на поезд! Боже мой! Я-то чуть было… чуть было…, — сквайр не кончил; по его мнению, только самые яркие и выразительные слова могли дать понятие об опасности, которой он чудом избежал, а ему с его воспитанием и характером не пристало в таком тоне говорить об этом.
За завтраком он был любезнее, чем обычно, с Грегори, уезжавшим с первым поездом. Как правило, мистер Пендайс относился к нему с опаской: ведь Виджил был кузеном его жены, да к тому же имел чувство юмора.
— Прекрасный человек, — говаривал он, — но только отпетый радикал. Другого названия для странностей Грегори мистер Пендайс не мог придумать.
Грегори уехал, не обмолвившись больше ни словом о деле, приведшем его в Уорстед Скайнес. На станцию его отвез старший грум. Грегори сидел в коляске, сняв шляпу; его голова приходилась в уровень с открытым окном: он, видимо, хотел, чтобы мысли его хорошенько продуло ветром,
И до самого Лондона он все сидел у окна, и лицо его выражало то растерянность, то добродушную усмешку. Перед ним, как медленно разворачивающаяся панорама, проплывали одна за одной затопленные неярким осенним солнцем церкви, усадьбы, обсаженные деревьями дороги, рощи, все в золотом и красном уборе, а далеко на горизонте, по гребню холма медленно двигалась фигура пахаря, четко вырисовываясь на светлом фоне неба.
На вокзале он нанял кэб и поехал в Линкольнс-ИннФилдс к своему поверенному. Его провели в комнату, в которой ничто не говорило о занятии ее хозяина, если не считать нескольких томов «Вестника юстиции»; на столе в стакане с чистейшей водой стоял букетик ночных фиалок. Эдмунд Парамор, старший партнер фирмы «Парамор и Херринг», гладко выбритый мужчина, лет около шестидесяти, с черными, подернутыми сединой, зачесанными вверх волосами, встретил входившего приветливой улыбкой.
— Здравствуйте, Виджил! Откуда-нибудь из деревни?
— Только что из Уорстед Скайнеса.
— Хорэс Пендайс — мой клиент. Чем могу служить? Какие-нибудь неприятности с вашим Обществом?
Грегори Виджил, усевшись в мягкое кожаное кресло, в котором сиживало так много людей, искавших совета и помощи, с минуту молчал; мистер Парамор, бросив внимательный взгляд на своего клиента, шедший, казалось, из самой глубины его души, сидел, не двигаясь. Было сейчас что-то общее в лицах этих двух столь разных людей: их глаза светились энергией, честностью.
Грегори наконец заговорил:
— Мне тяжело говорить о деле, ради которого я здесь.
Мистер Парамор нарисовал физиономию на промокательной бумаге.
— Я пришел к вам, — говорил Грегори, — чтобы посоветоваться о разводе моей подопечной.
— Миссис Джэспер Белью?
— Да. Ее положение невыносимо.
Мистер Парамор посмотрел на Грегори, соображая что-то.
— Как мне известно, она и ее муж живут врозь.
— Да, вот уже два года.
— Вы действуете с ее согласия?
— Я говорил с ней.
— Вы хорошо знаете закон о разводе?
Грегори отвечал, страдальчески улыбаясь:
— Не очень; я никогда не читаю газетных отчетов о подобных делах. Мне все это отвратительно.
Мистер Парамор опять улыбнулся, но тут же его лицо омрачилось.
— Необходимо иметь некоторые доказательства. У вас они есть?
Грегори провел ладонью по волосам.
— Я не думаю, что будет много затруднений, — сказал он. — Белью согласен, они оба согласны!
Мистер Парамор удивленно поглядел на него.
— Ну и что?
Грегори удивился в свою очередь:
— Как что? Но если обе стороны только этого и хотят, если никто не ставит препятствий, какие могут быть трудности?
— Боже мой! — воскликнул мистер Парамор.
— Да ведь я видел Белью только вчера. Я уверен, что уговорю его признать все, что окажется необходимым.
Мистер Парамор вздохнул.
— Вы слыхали когда-нибудь, — спросил он деловито, — что такое тайный сговор, имеющий целью ввести суд в заблуждение?
Грегори вскочил и зашагал по комнате.
— Я вообще в этом не разбираюсь, — сказал он. — И все это в высшей степени гадко. Для меня узы брака священны, и если они вдруг оказываются не таковыми, то вникать во все эти формальности невыносимо Мы живем в христианской стране, и среди нас нет непогрешимых. На какую грязь вы намекаете, Парамор?
Окончив свою гневную тираду, Грегори опустился кресло и подпер рукой голову. И, как ни странно, мистер Парамор не улыбнулся, а посмотрел на Грегори с состраданием.
— Если оба супруга несчастны в браке, — сказал он, — им не полагается обоим желать его расторжения. Одному из них необходимо делать вид, что он против этого и считает себя пострадавшей стороной. Нужны доказательства измены, а в данном случае — доказательства либо жестокого обращения, либо оставления без средств к существованию. И доказательства эти должны быть объективны. Таков закон.
Грегори проговорил, не поднимая взгляда:
— Но почему?
Мистер Парамор вынул из воды фиалки и понюхал их.
— Как это почему?
— Я хочу сказать, зачем нужен весь этот обходный маневр?
С удивительной быстротой сострадание на лице мистера Парамора сменилось улыбкой, и он проговорил:
— Для того, чтобы не так легко было расшатать моральные устои общества. А как же иначе?
— И вы считаете это высокоморальным? То, что на людей надевают цепи, от которых они могут освободиться только ценой преступления?
Мистер Парамор замазал лицо, нарисованное на промокательной бумаге.
— Куда девалось ваше чувство юмора?
— В этом нет ничего смешного, Парамор.
Мистер Парамор подался вперед.
— Друг мой, — сказал он серьезно, — я вовсе не собираюсь утверждать, что наши законы неповинны в огромном количестве никому не нужных страданий; я не буду говорить, что наша законодательная система не нуждается в преобразовании. Большинство юристов и почти каждый мыслящий человек скажет вам, что очень нуждается. Но это вопрос отвлеченный, и нам сейчас его обсуждение поможет мало. Мы постараемся добиться успеха в вашем деле, если это возможно. Вы не с того конца начали, вот и все. Первое, что мы должны сделать, — это написать миссис Белью и пригласить ее к нам. Затем надо начать слежку за капитаном Белью.
Грегори перебил его:
— Какая гадость! Нельзя ли обойтись без этого?
Мистер Парамор прикусил указательный палец.
— Опасно. Но вы не беспокойтесь, мы все устроим. Грегори поднялся с кресла и подошел к окну. Помолчав с минуту, воскликнул:
— Мне все это противно! Мистер Парамор улыбнулся.
— Всякий честный человек почувствовал бы то же. Но дело в том, что этого требует закон.
Грегори снова разразился тирадой:
— Выходит, никто не может развестись, не став при этом либо сыщиком, либо негодяем.
Мистер Парамор сказал серьезно:
— Очень трудно избежать этого, почти невозможно. Видите ли, в основе закона лежат определенные принципы.
— Принципы?
Мистер Парамор улыбнулся, но улыбка тотчас же сошла с его лица.
— Принципы, основанные на христианской этике. Согласно им, человек, решившийся на развод, ipso facto [2] ставит себя вне общества. А будет ли он при этом негодяем, не так уж важно.
Грегори отошел от окна, сел и снова закрыл лицо ладонями.
— Не шутите, Парамор, — сказал он, — все это мне очень тяжело.
Мистер Парамор с сожалением смотрел на склоненную голову Грегори.
— Я не шучу, — сказал он. — Боже упаси. Вы любите стихи?
И, выдвинув ящик стола, он вынул томик, переплетенный в красный сафьян.
— Мой любимый поэт.
Жизнь — как пена на воде, Но одно лишь твердо в ней: Добрым будь в чужой беде, Мужественным будь в своей [3].Это, по-моему, квинтэссенция всякой философии.
— Парамор, — начал Грегори, — моя подопечная очень дорога мне; она дороже для меня всех женщин на свете. Передо мной сейчас мучительная дилемма: с одной стороны, этот ужасный процесс и неизбежная огласка; с другой — ее положение: красивая женщина, Любящая светские удовольствия, живет одна в этом Лондоне, где так трудно уберечься от посягательств мужчин и от женских языков. Недавно мне пришлось это понять со всей остротой. Господь да простит меня! Я даже советовал ей вернуться к мужу, но это абсолютно невозможно. Что мне теперь делать?
Мистер Парамор встал.
— Я знаю, — сказал он, — я знаю. Друг мой, я знаю! — Минуту он стоял не двигаясь, отвернувшись от Грегори.
— Будет лучше всего, — вдруг заговорил он, — если она расстанется с ним. Я поеду к ней и сам поговорю обо всем. Мы ей поможем. Я сегодня же еду к ней и дам вам знать о результатах моего посещения.
И, словно повинуясь одному и тому же инстинкту, они протянули руки и пожали их, не глядя друг на друга. Затем Грегори схватил шляпу и вышел.
Он отправился прямо в свое Общество, занимавшее помещение на Ганновер-сквер. Оно располагалось в самом верхнем этаже, выше, чем все другие Общества, населившие этот дом, — так высоко, что из его окон, начинавшихся в пяти футах от пола, было видно только небо.
В углу на машинке работала девушка, краснощекая, темноглазая, с покатыми плечами, а за бюро, на котором в беспорядке были разбросаны конверты с адресами, дожидающиеся ответа письма и номера газеты, издаваемой Обществом, боком к кусочку неба в окне, сидела женщина с седыми волосами, узким, длинным обветренным лицом и горящими глазами и, нахмурившись, изучала страницу рукописи.
— А, мистер Виджил, — заговорила она, увидев Грегори, — как хорошо, что вы пришли. Нельзя пускать этот абзац в его настоящем виде. Ни в коем случае!
Грегори взял рукопись и прочитал отмеченный абзац:
«История Евы Невилл так потрясает, что мы позволили себе спросить наших уважаемых читательниц, живущих под надежным кровом своих усадеб, в тиши, в довольстве, а быть может, и в роскоши, что бы стали делать они на месте этой несчастной, которая очутилась в большом городе без друзей, без денег, разутая и раздетая, где на каждом шагу ее подстерегали демоны в образе человеческом, промышляющие несчастьем женщины. Пусть каждая из вас спросит себя: устояла бы я там, где Ева Невилл пала?»
— Ни в коем случае нельзя оставить в таком виде, — повторила дама с седыми волосами.
— А что, по-вашему, здесь плохо, миссис Шортмэн?
— Это оскорбляет. Подумайте о леди Молден и других наших подписчицах. Вряд ли им будет приятно даже мысленно поставить себя на место бедной Евы. Я уверена, что им это придется не по вкусу.
Грегори провел ладонью по волосам.
— Неужели это их шокирует?
— Все потому, что вы привели столько ужасных подробностей того, что случилось с бедной Евой.
Грегори поднялся и зашагал по комнате. Миссис Шортмэн продолжала:
— Вы давно не живали в деревне, мистер Виджил, и вы уже все забыли. А я помню. Люди не любят читать неприятное. К тому же им нелегко вообразить себя в подобном положении. Это шокирует их, а мы лишимся подписчиц.
Грегори протянул страничку девушке, сидевшей в углу за машинкой.
— Пожалуйста, прочитайте это, мисс Мэллоу. Девушка читала, не поднимая глаз.
— Ну как, вы согласны с миссис Шортмэн? Мисс Мэллоу, залившись румянцем, вернула листок Грегори.
— Конечно, это прекрасно, только все-таки, по-моему, миссис Шортмэн права. Многим это покажется оскорбительным.
Грегори быстро подошел к окну, распахнул его и стал смотреть в небо. Обе женщины смотрели ему в спину. Миссис Шортмэн проговорила мягко:
— Только немного изменить после слова «роскошь», — ну хотя бы так: разве не простили бы они и не пожалели бы эту несчастную, очутившуюся в большом городе, без друзей, без денег, разутой и раздетой, где на каждом шагу ее подстерегают демоны в образе человеческом, промышляющие на несчастье женщины. На этом и остановиться.
Грегори вернулся к столу.
— Только не «простили», только не «простили», — сказал он.
Миссис Шортмэн взялась за перо.
— Вы не представляете себе, какое действие может оказать эта статья. Ведь среди наших подписчиков много священников, мистер Виджил. А нашим принципом всегда была деликатность. Вы слишком ярко описали этот случай, а ведь никакая порядочная женщина не сумеет вообразить себя в положении Евы, даже если бы и захотела. Ни одна из ста, особенно среди живущих в деревне и не знающих жизни. Я сама дочь сквайра.
— А я — сын деревенского священника, — сказал Грегори, улыбаясь.
Миссис Шортмэн посмотрела на него укоризненно.
— Не шутите, мистер Виджил, речь идет о существовании нашей газеты, мы просто не можем позволить себе написать подобное. Последнее время я получаю десятки писем, где наши читатели жалуются, что мы слишком уж живо описываем подобные трагедии. Вот одно из них:
«Бурнфилд, дом священника,
1 ноября
Сударыня,
Сочувствуя Вашей плодотворной деятельности, я тем не менее боюсь, что не смогу дольше оставаться подписчиком Вашей газеты, пока она выходит в своем теперешнем виде, ибо ее не всегда можно дать почитать моим дочерям. Я считаю неправильным и неразумным, чтобы они знакомились с подобными ужасными сторонами жизни, пусть это и правда.
С глубоким почтением
Уинфред Туденем.
P. S. Кроме того, газета может попасть горничным и оказать на них дурное влияние».
— Это письмо я получила сегодня утром.
Грегори, закрыв лицо руками, сидел с таким видом, будто молился, миссис Шортмэн и мисс Мэллоу не решились нарушить молчания. Но когда он поднял голову, он сказал твердо:
— Только не «простили», только не «простили», миссис Шортмэн.
Миссис Шортмэн зачеркнула это слово.
— Хорошо, хорошо, мистер Виджил, — сказала она, — но это рискованно.
В углу снова затрещала машинка.
— Теперь еще одно. И, мистер Виджил, опять эта Миллисент Портер, боюсь, нет никакой надежды спасти ее.
Грегори спросил:
— Что с ней?
— Снова запила. Это уже пятый раз.
Грегори повернулся к окну и взглянул на небо.
— Я навещу ее. Дайте мне адрес.
Миссис Шортмэн прочитала в зеленой книжечке:
— Миссис Портер, Блумсбери, Билкок Билдингс, 2. Мистер Виджил!
— Что?
— Мистер Виджил, мне иной раз хочется, чтобы вы поменьше нянчились с этими безнадежными субъектами. Толку все равно не будет, а вы только убиваете свое драгоценное время.
— Но разве можно бросить их на произвол судьбы! Так что ничего не поделаешь.
— Почему? Надо поставить себе какой-то предел. Простите меня, но мне кажется иной раз, что вы зря тратите время.
Грегори повернулся к девушке за машинкой:
— Мисс Мэллоу, как, по-вашему, права миссис Шортмэн? Я зря трачу свое время?
— Не знаю, мистер Виджил. Но мы так беспокоимся о вас.
Добродушная и немного недоуменная улыбка появилась на губах Грегори.
— А я верю, что я спасу ее, — сказал он. — Значит, Билкок Билдингс, 2. — И, продолжая глядеть на небо, спросил: — Как ваша невралгия, миссис Шортмэн?
Миссис Шортмэн улыбнулась.
— Ужасно!
Грегори тотчас обернулся.
— Ведь вам вредно открытое окно. Простите меня!
Миссис Шортмэн покачала головой.
— Мне нет. А вот разве что Молли?
Девушка за машинкой проговорила:
— Нет, нет, мистер Виджил. Пожалуйста, не закрывайте окна только из-за меня.
— Честное слово?
— Честное слово! — ответили женщины в один голос. И все трое секунду смотрели на небо. Потом миссис Шортмэн прибавила:
— Дело в том, что вам не добраться до корня зла — до ее мужа.
Грегори посмотрел на нее:
— А, этот негодяй! Если бы только она могла избавиться от него! Ей надо было бы давно уйти от него, пока он не научил ее пить. Почему она не ушла от него? Почему, миссис Шортмэн, почему?
Миссис Шортмэн подняла глаза, горевшие одухотворением.
— У нее, наверное, не на что было жить, — сказала она. — И она была тогда вполне порядочной женщиной. А какой же порядочной женщине приятен развод… — Взгляд Грегори заставил ее умолкнуть на полуслове.
— Как, миссис Шортмэн, и вы на стороне фарисеев?
Миссис Шортмэн покраснела.
— Бедная женщина, видно, хотела спасти его, — сказала она, — должна была хотеть спасти его.
— Значит, мы с вами… — начал было Грегори, но снова уставился в небо.
Миссис Шортмэн закусила губу и тоже устремила блестящий взгляд вверх.
Пальцы мисс Мэллоу летали над клавишами быстрее, чем всегда, лицо у нее было испуганное.
Грегори заговорил первый.
— Прошу вас, простите меня, — сказал он тихо, почти ласково. — Меня это близко касается. Я забылся.
Миссис Шортмэн отвела взгляд от окна.
— О, мистер Виджил, если бы я могла предполагать! Грегори улыбнулся.
— Ну, полно, полно, — говорил он. — Мы совсем напугали бедную мисс Мэллоу.
Мисс Мэллоу обернулась, глянула на Грегори. Грегори глянул на нее, и все принялись рассматривать кусок неба в окошке — что было главным развлечением этого маленького общества.
Грегори занимался делами до трех, затем отправился в кафе и выпил чашку кофе с булочкой. В омнибусе, шедшем в Вест-Энд, он сидел наверху, держа шляпу в руках и улыбаясь. Он думал об Элин Белью. Думать о ней как о самой прекрасной и доброй представительнице ее пола стало его привычкой; и пока он о ней думал, волосы его успели поседеть, так что теперь уже ему с этой привычкой не расстаться. А женщины на улице, глядя на его улыбку и непокрытую голову, говорили себе: «Какой красивый мужчина!»
Джордж Пендайс, увидев Грегори из окна своего клуба, тоже улыбнулся; только улыбка его была иного свойства: вид Грегори был всегда немного неприятен Джорджу.
Природа, создавшая Грегори Виджила мужчиной, давно заметила, что он вовсе отбился от ее рук, живет в безбрачии, бежит общества даже тех несчастных созданий, которых его Общество наставляло на путь истинный. И природа, которая не терпит ослушания, выместила свое недовольство на характере Грегори: нервы его были самые деликатные, а кровь то и дело бросалась в голову: темперамент у него был горячий (что нередко в нашем туманном климате), и как человек не может по своему хотению прибавить к своему росту ни вершка, так и Грегори не мог укротить свой нрав. Встретив горбатого, Грегори стал бы мучиться мыслью, что тот до могилы обречен носить горб. Он был убежден, что если окружить горбуна заботой и вниманием, то в один прекрасный день он станет стройным. Нет на земле двух индивидуумов, имеющих одни и те же убеждения, как нет двух людей с одинаковыми лицами, но Грегори свято верил, что люди, на свою беду имеющие собственную точку зрения, рано или поздно разделят его взгляды, если он не поленится достаточно часто напоминать им, что они заблуждаются. Грегори Виджил был не единственный человек на Британских островах с подобными понятиями.
Источником постоянных огорчений Грегори было то обстоятельство, что его преобразовательный инстинкт то и дело вступал в противоречие с его чувствительными нервами. Его природная деликатность обязательно восставала и сводила на нет все его благородные усилия. Этим, пожалуй, можно объяснить его постоянные неудачи, о которых с прискорбием упомянула миссис Пендайс в разговоре с леди Молден на балу в Уорстед Скайнес.
Он слез с омнибуса неподалеку от дома, где жила миссис Белью, с благоговением прошел мимо него и вернулся обратно. Давным-давно он взял за правило видеться с ней лишь раз в две недели, но под ее окнами он проходил чуть ли не каждый день, какой бы крюк ни приходилось делать. Окончив эту прогулку и не подозревая, что действия его могли бы показаться смешными, он, все еще улыбаясь, ехал назад в Ист-Энд. Шляпа его опять покоилась у него на коленях, и, вероятно, он не был бы счастливее, если бы повидал миссис Белью. Когда они проезжали мимо Клуба стоиков, из окна клуба его опять увидел Джордж Пендайс, и опять на губах Джорджа мелькнула насмешливая улыбка.
Спустя полчаса он уже был у себя дома на Букингем-стрит; вскоре явился рассыльный из клуба и вручил ему письмо, обещанное мистером Парамором. Он поспешно вскрыл его.
«Нельсоновский клуб.
Трафальгар-сквер.
Дорогой Виджил!
Я только что вернулся от вашей подопечной. Дело приняло неожиданный оборот. Вчера вечером произошло следующее. После вашего визита в Сосны капитан Белью приехал в Лондон и в одиннадцать часов ночи постучал в квартиру своей жены. Он был почти в бреду, и миссис Белью должна была оставить его у себя. «Я собаку не выгнала бы в таком состоянии», — объяснила она мне. Он пробыл у нее до следующего полудня, — ушел перед самым моим приходом. Такова ирония судьбы, значение которой я вам сейчас объясню. Помнится, я говорил вам, что закон о разводе исходит из определенных принципов. Один из них подразумевает, что сторона, начавшая дело о разводе, отказывается простить нанесенные ей оскорбления. На языке закона это прощение, или снисходительность, называется «примирением» и представляет собой решительное препятствие для дальнейшего ведения дела. Суд ревностно следит за соблюдением этого принципа и с большим недоверием относится к таким поступкам обиженной стороны, которые можно истолковать как «примирение». То, что сообщила мне ваша подопечная, ставит ее в такое положение, при котором, боюсь, невозможно затевать дело о разводе, основываясь на проступках ее мужа, совершенных до его злополучного посещения. Слишком рискованно. Иными словами, суд почти наверняка постановит, что действия истицы должны рассматриваться как «примирение». Если же в дальнейшем ответчиком) будет совершен поступок, расценивающийся как оскорбление, то, говоря языком закона, «прошлые деяния возымеют силу», и только тогда, но ни в коем случае не сейчас можно будет надеяться на благоприятный исход дела. Повидав вашу подопечную, я понял, почему вы так озабочены ее теперешним положением, хотя должен сказать, я отнюдь не уверен, что вы делаете правильно, советуя ей развестись с мужем. Если вы не перемените своего намерения продолжать дело, я займусь им лично, и мой вам дружеский совет, поменьше принимайте все к сердцу. Бракоразводное дело не тот предмет, которым может без вреда для себя заниматься частный человек, а тем более человек, который, подобно вам, видит вещи не такими, какие они есть, а такими, какими он бы хотел, чтобы они были.
Искренне преданный вам, дорогой Виджил,
Эдмунд Парамор.
Если захотите повидать меня, я буду вечером у себя в клубе».
Прочитав письмо, Грегори подошел к окну и стал глядеть на огни на реке. Сердце бешено колотилось, на висках выступили красные пятна. Он спустился вниз и поехал в Нельсоновский клуб.
Мистер Парамор собрался отужинать и пригласил своего гостя разделить с ним трапезу,
Грегори покачал головой.
— Нет, мне не хочется есть, — сказал он. — Что же это такое, Парамор? Быть может, какая-то ошибка? Ведь не можете же вы мне сказать, что, поскольку она поступила как добрая христианка, она должна быть наказана таким образом.
Мистер Парамор прикусил палец.
— Не впутывайте сюда еще и христианства. Христианство не имеет никакого отношения к закону.
— Но вы говорили о принципах, — продолжал Грегори, — основанных на христианской этике.
— Да, да, я имел в виду принципы, взятые от старого церковного представления о браке, по которому развод вообще невозможен. Эта концепция законом отброшена, а принцип остался.
— Я не понимаю.
Мистер Парамор произнес медленно:
— Думаю, что этого никто не понимает. Обычная юридическая бестолковщина. Я понимаю только одно, Виджил: в случае, подобном этому, мы должны быть чрезвычайно осторожны. Мы должны «сохранить лицо», как говорят китайцы. Мы должны притвориться, что очень не хотим развода, но что оскорбление столь тяжко, что мы вынуждены обратиться в суд. Если Белью не будет возражать, судья должен будет принять то, что мы ему сообщим. Но, к сожалению, в подобных делах участвует прокурор. Вы что-нибудь знаете о его роли в бракоразводном процессе?
— Нет, — ответил Грегори, — не знаю.
— Если есть что-нибудь такое, что может помешать разводу, то он обязательно узнает. Я веду только те дела, в которых комар носу не подточит.
— Это значит…
— Это значит, что миссис Белью не может просить суд о разводе просто потому, что она несчастна или находится в таком положении, в каком ни одна женщина не может и не должна находиться, но только тогда, когда она оскорблена действиями, предусмотренными законом. И если каким-нибудь поступком она даст суду повод отказать ей в разводе, суд ей откажет. Чтобы получить развод, Виджил, надо быть крепким, как гвоздь, и хитрым, как кошка. Теперь вы понимаете?
Грегори не отвечал.
Мистер Парамор глядел на него внимательно и сочувственно.
— Сейчас не годится начинать дело, — прибавил он. — Вы все настаиваете на разводе? Я написал вам, что не совсем уверен, что вы правы.
— Как вы можете говорить об этом, Парамор? После того, что случилось вчера ночью, я больше, чем когда-либо, уверен в необходимости развода.
— Тогда, — ответил Парамор, — надо установить слежку за Белью и уповать на счастливый случай.
Грегори протянул ему руку.
— Вы говорили о моральной стороне, — сказал он. — Вы не представляете себе, как невыразимо мерзко для меня все в этом деле. До свидания.
И, круто повернувшись, Грегори вышел вон.
Его мысли путались, сердце разрывалось. Он видел Элин Белью, самую дорогую для него женщину, задыхающейся в кольцах огромной липкой змеи; и сознание, что всякий мужчина и всякая женщина, не нашедшие счастья в браке, по своей ли вине, по вине своего спутника жизни или безо всякой вины с обеих сторон, задыхаются в тех же объятиях, не утоляло его боли. Он долго бродил по улицам, обдуваемый ветром, и вернулся домой поздно.
ГЛАВА X РЕСТОРАН БЛЭФАРДА
То и дело на поверхность нашей цивилизации всплывают гении, которые, подобно всем гениям, не сумев осознать всего величия и всей пользы дела рук своих, но оставив после себя на земле прочный след, исчезают в небытие.
Так было и с основателем Клуба стоиков.
Он всплыл в Лондоне в 187… году, не имея за душой ничего, кроме одного костюма и одной идеи. За какой-то год основал Клуб стоиков, нажил десять тысяч фунтов, прожил более того, разорился и исчез.
Клуб стоиков не лопнул после его исчезновения, а продолжал существовать силой бессмертной идеи его основателя. В 1891 году это было процветающее заведение, быть может, с менее ограниченным доступом, чем в прежние времена, но все такое же элегантное и в полном смысле аристократическое, как любой другой клуб в Лондоне, не считая одного-двух, особо фешенебельных, доступ в которые запрещается для всех. Идея, которая послужила фундаментом этому прекрасному сооружению, была, подобно всем великим идеям, красива, проста и нетленна, так что казалось удивительным, как это она так долго никому не приходила в голову. Она записана пунктом первым в уставе клуба:
«Член клуба не должен нигде служить».
Отсюда и название клуба, известного всему Лондону своими превосходными винами и кухней.
Клуб находится на Пикадилли, выходит фасадом на Грин-парк, и прохожие сквозь нижние окна имеют удовольствие в течение всего дня наблюдать в курительной комнате стоиков, занятых в разнообразных позах чтением газет или пялящих глаза на улицу.
Некоторые из стоиков, те, что не были директорами компании, занимались садоводством, увлекались яхтами, писали книги, были завзятыми театралами. Большинство проводили свои дня на скачках, держа собственных лошадей, охотились на лисиц, перепелов, фазанов, куропаток. Кое-кто, однако, поигрывал на рояле, а кое-кто был католиком. Многие из года в год уезжали во время сезона на континент, все в одни и те же места. Эти были причислены к территориальным войскам, другие — к коллегии адвокатов; порой кто-нибудь писал картину или начинал заниматься благотворительностью. Словом, в Клубе стоиков собрались люди самых разнообразных вкусов и наклонностей, но с одной общей чертой: независимым доходом; и судьба была так милостива, что иной раз они, сколько бы ни старались, не могли от него избавиться.
Хотя обязательство нигде не служить стирало все классовые различия, стоики пополняли свои ряды главным образом за счет сельского дворянства; во время избрания нового члена они руководствовались сознанием, что дух клуба будет в большей безопасности, если посвящаемый принадлежит к их касте; старшие сыновья, непременные члены этого клуба, спешили представить туда своих младших братьев, сохраняя, таким образом, букет в его первозданной чистоте и заботясь о поддержании того тонкого аромата старинных сельских усадеб, который нигде не ценится так высоко, как в Лондоне.
Полюбовавшись проезжавшим мимо наверху омнибуса Грегори Виджилом, Джордж Пендайс прошел в игорную комнату. Там никого еще не было, и он принялся разглядывать развешанные по стенам картины. Это все были изображения тех «стоиков», кто удостоился обратить на себя внимание известного карикатуриста, помещавшего свои рисунки в фешенебельной газете. Стоило только «стоику» появиться на ее страницах, как его тут же вырезали, вставляли под стекло в рамку и в этой комнате вешали рядом с его собратьями. Джордж переходил от одного портрета к другому и остановился, на конец, перед свежей вырезкой. Это был он сам. Художник представил его в безупречном костюме, с чуть округленными руками. На груди бинокль, на голове непомерно большая шляпа с плоскими полями. Художник, видно, долго и тщательно обдумывал лицо. Губам, щекам и подбородку было придано выражение, свойственное человеку, наслаждающемуся жизнью. И вместе с тем их форма и цвет выдавали упрямство и раздражительность. Глаза смотрели тускло, между ними намечалась морщинка, как будто человек на портрете думал:
«Да, нелегко, нелегко! Положение обязывает. Я должен всегда быть на высоте».
Внизу была подпись: «Эмблер».
Джордж долго стоял перед этим изображением, знаменующим собой вершину его славы. Звезда его вознеслась высоко. Мысленно он видел длинную вереницу своих побед на беговой дорожке, длинную вереницу дней, вечеров, ночей, и в них, вокруг них, за ними парил образ Элин Белью; и по странному совпадению глаза его приняли тусклый взгляд, воспроизведенный художником, и между ними пролегла морщинка.
Услыхав голоса, он отошел от карикатуры и опустился в кресло: не хватает только, чтобы его застали за разглядыванием! собственного изображения! По его понятиям это было неприлично.
Было двадцать минут восьмого, когда он, одетый во фрак, покинул клуб и нанял кэб до Букингемских ворот. Здесь он отпустил извозчика и высоко поднял большой меховой воротник. В щели между полями его цилиндра и поднятым воротником были видны только глаза. Он ждал, покусывая губы, оглядывая каждый проезжающий мимо экипаж. В неясном свете быстро приближающегося кэба он увидел в окне поднятую руку. Кэб остановился; Джордж выступил из тени и вскочил внутрь. Кэб тронулся, он почувствовал рядом с собой плечо миссис Белью.
Этот простой способ они придумали, чтобы приезжать в ресторан вместе.
Пройдя в третий, небольших размеров зал, где свет был затенен, они заняли столик в углу, усевшись спиной к посетителям, и ножка миссис Белью неслышно скользнула по полу и коснулась ботинка Джорджа. В их взглядах, хотя они и старались соблюдать осторожность, тлел огонь, который невозможно было загасить. Завсегдатай ресторана, потягивавший кларет за столиком в другом конце зала, наблюдал за ними в зеркало, и на сердце этого старого человека потеплело, он сочувствовал и завидовал им; понимающая улыбка обозначала морщинки в уголках глаз. Мало-помалу сочувствие исчезло с этою гладко выбритого лица, и осталась лишь легкая усмешка на губах. За аркой в смежной комнате два официанта взглянули друг на друга, и в их лицах и в кивках друг другу было то же неосознанное доброжелательство и сознательная насмешка. Старик, отпивая свой кларет, подумал: «Сколько еще у них это продлится?»
А вслух сказал:
— Кофе и счет.
Он хотел ехать отсюда в театр, но торопиться не стал: залюбовался любезно отраженными в зеркале белыми плечами миссис Белью и ее сияющим взглядом. Он шептал про себя: «Молодые годы… молодые годы!..» И снова сказал громко:
— Один бенедиктин!
Сжалось его старое сердце, когда он услыхал ее смех. И он опять подумал: «Больше никто никогда не засмеется так для меня!..»
— В чем дело? Вы поставили мне в счет мороженое.
А когда официант ушел, он еще раз взглянул в зеркало: их бокалы, наполненные пенящимся золотым вином, соприкоснулись, и он пожелал им мысленно: «Будьте счастливы! За блеск твоих зубок я бы отдал…» Вдруг его взгляд упал на букетик искусственных цветов на столике: желтые, красные и зеленые, они мертво топорщились, оскорбляя глаз своими красками. Он увидел все кругом в настоящем свете: себя, недопитое вино в бокале, пятна соуса на скатерти, эти жалкие цветы, скорлупки от орехов. Тяжело вздохнув и закашлявшись, подумал: «Нет, этот ресторан уже не тот. Сегодня я здесь последний раз».
С трудом натягивая пальто, он еще раз глянул в зеркало, и глаза его поймали взгляд тех двоих. В нем он прочел беззаботное сострадание молодости, когда она видит старость. И глаза его ответили: «Погодите! Погодите! У вас пока еще вешние дни! Но я все-таки желаю вам всего хорошего, мои милые!» и, припадая на одну ногу, — он был хром — поплелся прочь.
А Джордж и его дама все сидели в этой уютной комнате, и с каждым бокалом вина огонь в их глазах разгорался ярче. Кого им было опасаться здесь? Ни одной живой души рядом! Только высокий смуглый официант, чуть косивший, болезненного вида. Только маленький лакей, разносящий вина, с бледным, страдальческим лицом и таким взглядом, будто его вечно что-то гложет.
Весь мир казался им окрашенным тем же цветом, что и вино в их бокалах; но болтали они о ничего не значащих пустяках, только глаза, блестящие, изумленные, говорили то, что было у них в сердце. Смуглый молодой официант стоял поодаль не двигаясь; его чуть косящий взгляд был прикован к ее ослепительным плечам, и в этом взгляде сквозило неосознанное томление, словно в глазах святого с какой-нибудь старой картины. За ширмами, невидимый для окружающих, маленький лакей наливал себе вино из недопитой бутылки. В щели красных штор мелькнули чьи-то широко раскрытые, любопытствующие глаза и тут же исчезли, — их обладатель прошел мимо.
Они встали из-за стола уже в десятом часу. Смуглолицый молодой официант восхищенными руками надел на миссис Белью ее шубу. Она взглянула на него, и в глазах ее он прочел бесконечную милость. «Бог свидетель, — казалось, говорил ее взгляд, — если бы только я могла дать и тебе счастье, я была бы рада. Зачем надо, чтобы человек страдал? Жизнь прекрасна и беспредельна!»
Чуть косые глаза молодого официанта потупились, он склонился в благодарности, ощутив в руке монету. А впереди них уже спешил к двери маленький лакей, чтобы успеть распахнуть ее, его страдальческое личико все сморщилось в улыбке.
— До свидания, до свидания. Благодарю вас.
И он точно так же благодарно склонился над собственной рукой, зажавшей монету, а улыбка за ненадобностью уже исчезла с его лица.
В кэбе рука Джорджа скользнула под шубку миссис Белью, он обнял ее гибкую талию; и они влились в общий поток кэбов; в каждом мчалась куда-то такая же пара, надежно укрытая от посторонних глаз, от постороннего прикосновения; и, устремив друг на друга в полумраке взгляд, они тихонько разговаривали.
ЧАСТЬ II
ГЛАВА I ГРЕГОРИ НАЧИНАЕТ КАМПАНИЮ
В одном из уголков обнесенного стеной сада, который мистер Пендайс создал по образцу сада в Страджбегали, росли на свободе, в девственной нетронутости груши и вишни. Они зацветали рано, и к концу третьей недели апреля уже распустилось последнее вишневое деревце. В высокой траве под деревьями каждую весну расцветали во множестве нарциссы и жонкили, подставляя желтые звездочки солнцу, пятнами падавшему на землю.
Сюда каждый день приходила миссис Пендайс в коричневых перчатках, порозовев оттого, что приходилось работать согнувшись, и оставалась здесь подолгу, словно это цветение успокаивало. Только благодаря ей эти старые деревья избежали садовых ножниц мистера Пендайса, чей пытливый ум склонен был ко всевозможным нововведениям. С детских лет она впитала в себя мудрость Тоттериджей, что фруктовые деревья лучше предоставлять самим себе и природе, тогда как ее муж, и в садоводстве не отстававший от времени, ратовал за новые методы. Миссис Пендайс боролась за эти деревья. Это было единственное, за что она боролась всю свою супружескую жизнь, и Хорэс Пендайс до сих пор вспоминал с неприятным чувством, которого время лишило остроты, как много лет назад его жена, прислонившись к двери их спальни, говорила ему: «Если ты обрежешь ветки на этих деревьях, Хорэс, я не останусь здесь ни одной секунды!» Он тут же высказал твердое намерение немедленно заняться садом, да как-то сразу не дошли руки и вот уж тридцать три года не доходят, и стоят эти деревья нетронутыми. А он даже мало-помалу начал гордиться, что они все плодоносят, и говаривал так: «Странная фантазия моей жены; ни разу не подрезаны. И, представьте себе, удивительное дело — прекрасный дают урожай, лучше, чем весь остальной сад».
Этой весной, в самую пору цветения, когда кукушка уже куковала в роще, когда в Новом парке, разбитом в год рождения Джорджа, лимоном пахли молодые лиственницы, миссис Пендайс приходила в свой сад чаще, чем в прежние годы; душа ее волновалась, в груди рождалось смутное томление, как бывало в первые годы жизни в Уорстед Скайнесе. И, сидя здесь на зеленой скамейке под старой вишней, она думала о Джордже; теперь она думала о нем! гораздо больше, чем обыкновенно, как будто душа ее сына, потрясенная первой истинной страстью, тянулась к ней за утешением.
Он так редко бывал дома этой зимой: два раза охотился пару деньков, однажды провел субботу и воскресенье — ей он показался тогда похудевшим и измученным. Первый раз он не был в усадьбе в рождество. С величайшей осторожностью она спросила его один раз как будто случайно, не видится ли он с Элин Белью, а он ответил ей: «Да, изредка».
Всю зиму тайно от всех она листала номера «Таймса», ища имя лошади Джорджа, и бывала огорчена, не найдя его. Однажды уже в феврале оно попалось ей; Эмблер возглавлял почти все столбцы, в которых против имени лошади стояла какая-то цифра. И, радуясь всем сердцем за сына, она села писать ему. Только в одном столбце из пяти Эмблер стоял вторым. Приблизительно через неделю пришел ответ. Джордж писал:
«Дорогая мама.
Это была оценка шансов перед весенними скачками. Положение просто отчаянное. Я сейчас очень занят.
Твой любящий сын
Джордж Пендайс».
С приближением весны мечта о поездке в Лондон одной, без мужа и дочерей, скрашивавшая долгие зимние месяцы, становилась все призрачнее и, наконец, исполнив свое назначение, растаяла вовсе. Миссис Пендайс перестала и думать о Лондоне, как будто никогда туда не собиралась; Джордж тоже ни разу не напомнил о своем обещании, и, как бывало и раньше, она перестала ждать его приглашения. Мысли ее все чаще занимал предстоящий летний сезон, визиты, суета вечеров; она думала о них не без некоторого удовольствия. Ибо Уорстед Скайнес и все с ним связанное, словно всадник в тяжелых доспехах, железной рукой направлял ее по узкой лесной тропе, и она мечтала сбросить его на опушке и умчаться на волю, но опушка никогда не открывалась.
Она просыпалась в семь часов и выпивала в постели чашку чая, а с семи до восьми делала заметки в записной книжке, покуда мистер Пендайс еще спал, лежа на спине и слегка похрапывая. Вставала в восемь. В девять пила кофе. С половины десятого до десяти отдавала распоряжения экономке и кормила птиц. С десяти до одиннадцати говорила с садовником и занималась своим туалетом. До двенадцати писала приглашения знакомым, до которых ей не было дела, и отвечала согласием на приглашения знакомых, которым, в свою очередь, не было дела до нее; а кроме того, выписывала и располагала: в строгой последовательности чеки, на которых мистер Пендайс должен был расписаться. В это время обычно приходила с визитом миссис Хассел Бартер. С двенадцати до часу вместе с гостьей и «милыми собачками» она шла в деревню, где нерешительно заходила в дома к фермерам, смущая их своим приходом!. С половины второго до двух — завтрак. До трех отдыхала на софе в белой комнате, пытаясь читать о дебатах в парламенте и думая о своем. В три шла к своим милым цветам — оттуда ее могли позвать каждую секунду принимать гостей, — или же ехала с визитом к кому-нибудь из соседей и, отсидев в гостях полчаса, возвращалась домой. В половине пятого разливала чай. В пять принималась за вязанье — шарф или носки для сыновей — и прислушивалась с мягкой улыбкой ко всему, что происходило в доме. С шести до семи сквайр делился с женой своими соображениями о действиях парламента и положении дел вообще. Полчаса миссис Пендайс занималась своим туалетом и в половине восьмого выходила к столу в черном платье с глубоким вырезом и старинными кружевами вокруг шеи. В четверть девятого садилась слушать, как Нора играет два вальса Шопена и пьесу «Серенада весны» Баффа, или как Би поет «Микадо» или «Шалунью». С девяти до половины одиннадцатого, когда случались партнеры, играла в игру, называемую пикет, в которую обучил ее играть отец, но это бывало редко, и тогда она раскладывала пасьянс. В половине одиннадцатого шла спать. В одиннадцать тридцать приходил сквайр и будил ее. Окончательно она засыпала в час ночи. По понедельникам она отчетливым почерком Тоттериджей, красивыми, ровными буквами составляла список книг для библиотеки, выписывая подряд все, что рекомендовала газета для женщин, которую раз в неделю получали в Уорстед Скайнесе. Время от времени мистер Пендайс давал ей свой список, составленный им в кабинетной тиши по совету «Таймса» и «Филда»; этот список миссис Пендайс тоже отсылала.
Таким образом, в дом Пендайсов попадала только та литература, что была по вкусу его обитателям, — всякой иной книге доступ был надежно прегражден, — впрочем, для миссис Пендайс это не имело большого значения, ибо, как она часто говорила с кротким сожалением, у нее для чтения просто времени не хватало.
В этот день было так тепло, что пчелы облепили цветущие ветви; два дрозда, свившие гнездо на тиссе, возвышавшемся над шотландским садиком, были в страшном волнении: один из птенцов выпал из гнезда. Птичка-мать, усевшись на куст, смотрела на своего детеныша молча, взглядом требуя, чтобы и он перестал пищать: а то вдруг услышит человек.
И миссис Пендайс, отдыхавшая под старой вишней, услыхала, пошла на писк и подняла птенца, а так как она знала в своем саду каждое гнездо, то и опустила трепещущий комок обратно в его колыбельку под жалобно-истошные крики родителей. Потом вернулась к своей скамейке и села.
В ее душе поселился в последнее время страх, сродни страху, только что перенесенному маленькой птичкой-матерью. Молдены недавно были с визитом в Уорстед Скайнесе перед своим обычным весенним переселением в город, и на щеках миссис Пендайс еще тлел румянец, который леди Молден столь ловко умела вызвать. Утешала одна мысль: «Элин Молден так буржуазна!» Но сегодня и это соображение не помогало.
В сопровождении бледной дочери и двух унылых собак, бежавших всю дорогу до Уорстед Скайнеса, леди Молден приехала с визитом и пробыла в гостиной миссис Пендайс все положенное для визита время. Три четверти этого времени она мучилась от сознания невыполненного долга, а одну четверть страдала бедная миссис Пендайс, после того как гостья исполнила свой долг.
— Дорогая, — начала леди Молден, приказав своей бледной дочери удалиться в оранжерею, — вы знаете, я не из тех, кто разносит сплетни; но я — считаю, что поступлю правильно, если расскажу вам то, о чем говорят люди. Мой мальчик Фред (ему со временем предстояло стать сэром' Фредериком Молденом) — член того же клуба, что и ваш сын, — Клуба стоиков. Все молодые люди хорошего происхождения — члены этого клуба. Мне очень грустно, но я должна сказать, что вашего сына видели обедающим у Блэфарда в обществе миссис Белью, и это абсолютно достоверно. Вы, вероятно, не знаете, что такое ресторан Блэфарда? Так вот, в этом ресторане много кабинетов — туда ездят за тем, чтобы избежать посторонних глаз. Я, конечно, там не бывала, но могу себе представить… И к тому же не один раз, а постоянно. Я решила поговорить с вами: я считаю, что в ее положении так вести себя — скандально.
Между хозяйкой и гостьей стояла азалия в голубой с белым вазе, миссис Пендайс спрятала в цветке глаза и вспыхнувшие щеки, но когда она подняла лицо, брови у нее были высоко подняты, а губы дрожали от гнева:
— Неужели вы не знаете? В этом нет ничего особенного. Это сейчас модно.
На мгновение леди Молден растерялась, потом густо покраснела, но ее природная добродетель и усвоенные принципы помогли ей взять себя в руки.
— Если это модно, — проговорила она с достоинством, — то нам давно уже пора вернуться в город.
Она встала — и таково уж было ее сложение, что миссис Пендайс не могла не сказать себе:
«И чего я боюсь? Она всего-навсего… — и тут же перебила себя: — Бедняжка, ну чем она виновата, что у нее такие коротенькие ноги».
Но когда леди Молден удалилась вместе со своей бледной дочерью и унылыми собаками, пустившимися в обратный путь за каретой, миссис Пендайс схватилась за сердце.
И теперь среди цветов и пчел, где пение дроздов с каждой новой трелью становилось все более сложным, где воздух, напоенный ароматами, дурманил, сердце ее все не успокаивалось: оно билось болезненно, как перед бедой. Она вдруг увидела сына маленьким мальчиком; полотняный костюм в грязи, за спиной соломенная шляпа, лицо красное, с упрямо сжатыми губами — таким он возвращался после своих мальчишеских приключений.
И внезапно под влиянием этого весеннего дня и своих горестей ей стало нестерпимо тяжело от мысли, что ее дорогой мальчик оторван от нее могучей, беспощадной силой. Она вынула крошечный вышитый платочек и заплакала. Со стороны фермы донеслось мычание: стали доить коров, издалека прилетел тоненький звук дудки, необъяснимый в этом строго налаженном хозяйстве…
— Мама, ма-а-ма!
Миссис Пендайс осушила платочком глаза и, инстинктивно покоряясь требованиям хорошего тона, согнала с лица всякий след волнения. Она ждала, комкая одетой в перчатку рукой платок.
— Мама! Вот ты где! Грегори Виджил приехал!
Нора шла по дорожке в сопровождении фокстерьеров, за ней показалась живая характерная физиономия Грегори. Он был, как всегда, с непокрытой головой, и его длинные седые волосы относило назад.
— Вы, конечно, хотите поговорить. Ухожу к миссис Бартер. Пока!
Нора удалилась вместе со своими фокстерьерами. Миссис Пендайс протянула руку.
— Здравствуйте, Григ. Так неожиданно! Грегори сел рядом на скамью.
— Я привез письмо, — начал он, — от мистера Парамора. Я не могу ответить, не посоветовавшись с вами,
Миссис Пендайс, смутно понимавшая, что Грегори хочет заставить ее смотреть на дело его глазами, с упавшим сердцем взяла у него из рук письмо.
Грегори Виджилу, эсквайру. Линкольнс-Инн-Филдс
Лично. 21 апреля, 1892 г.
Дорогой Виджил!
В моем распоряжении теперь достаточно фактов, позволяющих начать дело. Я написал миссис Белью и теперь жду ответа. К сожалению, у нас нет доказательств жестокого обращения, и я был обязан поставить миссис Белью в известность, что если ее супруг решит защищаться, то будет нелегко доказать суду, что разрыв произошел по его вине, тем более, что и не защищайся он, это доказать сложно. В бракоразводных процессах часто наибольшее значение имеет то, о чем не говорится, а не то, что фигурирует в материалах дела, поэтому необходимо знать заранее намерения противной стороны. Я не советовал бы спрашивать его об этом напрямик, но если вам что-нибудь станет известно, дайте мне знать. Я не люблю обмана, шпионства, но развод — грязное дело, и пока закон остается прежним и свое грязное белье приходится мыть у всех на виду, невозможно ни правому, ни виноватому, ни даже нашему брату, юристу, связавшись с разводом, не запачкать рук. Все это очень прискорбно для меня так же, как и для вас.
В «Тершиари» появилось новое имя. Некоторые стихи первоклассны. Те, что в последнем номере. Сад в этом году цветет превосходно.
Искренне преданный вам
Эдмунд Парамор.
Миссис Пендайс положила письмо на колени и взглянула на кузена:
— Парамор учился в Хэрроу вместе с Хорэсом. Я очень люблю его. Один из самых приятных людей, кого я знаю.
Было ясно, что миссис Пендайс тянет время.
Грегори поднялся со скамейки и стал шагать взад и вперед.
— Я с глубочайшим уважением отношусь к Парамору. На него можно положиться, как ни на кого другого.
Было ясно, что и Грегори тянет время.
— Мои нарциссы! Осторожнее, Григ.
Грегори опустился на колени, поднял цветок, ело* манный его ногой, и протянул его миссис Пендайс. Это было для нее так непривычно, что показалось смешным.
— Григ, дорогой, у вас сделается ревматизм, и вы испортите свой превосходный костюм; пятна от травы так трудно сходят!
Грегори поднялся и смущенно глянул на свои колени.
— Колени у меня теперь не такие гибкие, как прежде, — сказал он.
Миссис Пендайс улыбнулась. — Поберегите колени для Элин Белью, Григ. Помните, я всегда была старше вас пятью годами. Грегори взъерошил волосы.
— Коленопреклонение вышло из моды, но я подумал, что здесь, в деревне, вы отнесетесь к этому благосклонно!
— Вы отстали от времени, Григ! В деревне оно еще больше устарело. Нет ни одной женщины на расстоянии тридцати миль, которая захотела бы видеть мужчину перед собой на коленях. Мы отвыкли от этого. Она еще подумает, что над ней смеются. Да, как скоро слетело с нас тщеславие!
— Говорят, — заметил Грегори, — все женщины в Лондоне хотят быть мужчинами, но в деревне, я думал…
— В деревне, дорогой Григ, все женщины тоже хотят быть мужчинами, да только не смеют признаться в этом и всегда идут позади.
И, как будто сказав что-то непристойное, миссис Пендайс покраснела. А Грегори выпалил:
— Я не могу так думать о женщинах!
Миссис Пендайс снова улыбнулась.
— Это потому, что вы не женаты.
— Мне противно верить, что брак меняет убеждения.
— Григ, осторожней с нарциссами! — воскликнула миссис Пендайс.
А в голосе ее билась мысль: «Ужасное письмо! Что делать?»
И словно прочитав эту мысль, Грегори сказал:
— Я полагаю, что Белью не станет защищаться. Если в нем есть хоть капля благородства, он будет рад дать ей свободу. Никогда не поверю, что человек способен насильно удерживать женщину. Я не понимаю законов, но считаю, что в подобных обстоятельствах для благородного человека возможен только один образ действия, а Белью все-таки джентльмен. Вот увидите, он будет вести себя как подобает джентльмену.
Миссис Пендайс рассматривала лежащий на ее коленях нарцисс.
— Я встречала его лишь три-четыре раза, но мне кажется, Григ, что он из тех людей, которые сегодня ведут себя так, а завтра иначе. Он не похож на других мужчин в наших краях.
— Когда дело касается самых важных сторон жизни, — сказал Грегори, все люди действуют, в общем, одинаково. Назовите мне хоть одного человека, в котором было бы так мало благородства, что он не дал бы свободы жене в подобных обстоятельствах.
Миссис Пендайс взглянула на Грегори со сложным чувством: в ее глазах были изумление, насмешка, восхищение и даже страх.
— Сколько угодно, — ответила она.
Грегори прижал ладонь ко лбу.
— Марджори, мне неприятен ваш цинизм. Не понимаю, откуда он.
— Простите меня, Григ. Я не хотела быть циничной. Мои слова основаны только на собственных наблюдениях.
— На собственных наблюдениях? Да если бы я, занимаясь делами Общества, основывался на собственных наблюдениях, черпаемых ежедневно, ежечасно из лондонской жизни, я не выдержал бы и недели, я бы повесился.
— Но чем же еще руководствоваться, как не тем, что видишь?
Не отвечая, Грегори прошел в конец садика миссис Пендайс и остановился, разглядывая деревья шотландского сада — его лицо было обращено к небу. Миссис Пендайс поняла, что ее кузен огорчился, не сумев открыть ей глаза на то, что так хорошо видел сам, и тоже огорчилась. Он вернулся и сказал:
— Больше не будем говорить об этом.
Миссис Пендайс отнеслась с недоверием к этим словам, а поскольку выразить свою тревогу и одолевавшие ее сомнения она не могла, то и позвала Грегори пить чай. Но Виджилу хотелось еще побыть на солнце.
В гостиной Би уже поила чаем молодого Тарпа и преподобного Хассела Бартера. Знакомые голоса вернули миссис Пендайс частицу утраченного душевного спокойствия. Мистер Бартер тут же подошел к ней с чашкой чая в руках.
— У жены разболелась голова, — сказал он. — Она собиралась со мной, но я велел ей лечь — это лучше всего помогает при головной боли. Мы, знаете ли, ожидаем в июне. Позвольте, я подам вам чаю.
Миссис Пендайс, давно уже знавшая, чего ожидают в июне и даже в какой именно день, села и посмотрела на мистера Бартера с легким удивлением. Да ведь он прекрасный человек: такой заботливый, уложил жену в постель! Его лицо, широкое, загорелое до красноты, с добродушно выдающейся нижней губой, показалось ей вдруг особенно располагающим к себе. Рой, лежавший у ее ног, обнюхал ноги священника и лениво завилял хвостом.
— Рой обожает меня, — сказал Бартер, — собаки тотчас распознают тех, кто их любит, — удивительные создания, право! Я иной раз готов даже думать, что у них есть душа!
Миссис Пендайс ответила:
— Хорэс считает, что он совсем одряхлел.
Рой посмотрел ей в лицо, и губы у нее дрогнули. Священник рассмеялся.
— Ну, об этом рано беспокоиться: пес полон жизни. — И неожиданно прибавил: — Собака — друг человека, и убить ее ужасно! Пусть об этом позаботится природа.
У рояля Би и молодой Тарп листали ноты «Шалуньи». Благоухали азалии, а мистер Бартер, сидевший верхом на позолоченном стуле, казался почти добрым, ласково поглядывая на старого терьера.
И миссис Пендайс вдруг испытала острое желание раскрыть душу, выслушать мужской совет.
— Мистер Бартер, — начала она, — мой кузен Грегори Виджил сообщил мне сейчас новость… только это между нами. Элин Белью начинает дело о разводе. И я бы хотела посоветоваться с вами: не могли бы вы… — Но, взглянув на лицо священника, остановилась.
— Развод! Гм… Неужели?
У миссис Пендайс побежали мурашки по коже.
— Вы, конечно, не станете говорить об этом никому, даже Хорэсу. Нас ведь это не касается.
Мистер Бартер наклонил голову: такое лицо у него бывало по воскресным утрам в школе.
— Гм! — процедил он опять.
И миссис Пендайс внезапно показалось, будто этот человек с тяжелой челюстью и карающим взглядом, сидевший так плотно на легком стулике, знает что-то такое, чего не знала она. Как будто он хотел сказать:
«Это не женское дело. Будьте добры предоставить все мне, и не вмешивайтесь».
Если не считать тех нескольких слов леди Молден и особенного выражения лица Джорджа, когда он ответил ей зимой «да, изредка», у миссис Пендайс не было ни одного доказательства, ни одного факта, — ничего, что могло бы подкрепить ее сомнения, и все-таки она почему-то твердо знала, что ее сын любовник миссис Белью. И теперь со страхом и непонятной надеждой смотрела она на Грегори, входящего в комнату. «Быть может, — подумала она, — мистер Бартер образумит Грига». Налив ему чашку чая, она вслед за Би и Сесилом Тарном прошла в оранжерею, оставив священника и Виджила в обществе друг друга.
ГЛАВА II ЕЩЕ О ВЛИЯНИИ ПРЕПОДОБНОГО ХАССЕЛА БАРТЕРА
Чтобы понять и не осудить действия и мысли священника Уорстед Скайнеса, надо познакомиться с обстоятельствами его жизни от появления его на свет до момента повествования.
Второй сын в старинной суффолкской семье, он, по семейной традиции в двадцать четыре года выдержав экзамен в Оксфорд, получил диплом, давший ему право наставлять на путь истинный лиц обоего пола, тщетно искавших этот путь в течение сорока и даже шестидесяти лет. Его характер, и прежде чуждый нерешительности, приобрел благодаря такому счастливому обороту алмазную чистоту и твердость: ему более не угрожали рефлексия, томление духа, свойственные иным его ближним. Поскольку он был человеком вполне заурядным, ему не приходило в голову задуматься над общественным устройством, существовавшим столетия и давшим ему так много; а тем более вставать в оппозицию к этому устройству. Он верил в благость власти как все заурядные люди, тем более, что и сам был облечен властью в немалой степени. Было бы неразумно ожидать от человека его происхождения, воспитания и образования, чтобы он усомнился в совершенстве механизма, частицей которого был сам.
По смерти своего дяди он, само собой разумеется, получил в двадцать шесть лет фамильный приход в Уорстед Скайнесе. С тех пор он там и жил. Источником его постоянного и вполне понятного огорчения была мысль, что приход после его смерти не достанется ни первому, ни второму его сыну, а перейдет ко второму сыну его старшего брата, сквайра. В двадцать семь лет он женился на мисс Розе Туайнинг, пятой дочери хантингдонширского священника. И за восемнадцать лет супружеской жизни родил десятерых детей. Все его потомство было, подобно отцу, здорово духом и телом, а теперь в семействе ожидался одиннадцатый. Над камином в кабинете мистера Бартера висел семейный портрет, а над ним, в рамке под стеклом, изречение «не судите, да несудимы будете»; эти слова Бартер избрал девизом своей жизни еще в первый год на пастырской стезе и ни разу об этом не пожалел.
На семейном портрете мистер Бартер сидел в центре с собакой у ног; позади него стояла жена, а по обе стороны веером, словно крылья бабочки, расположилось младшее поколение Бартеров. Плата за обучение уже давала о себе знать, и мистер Бартер не раз жаловался, но по-прежнему не отступал от своих правил, миссис же Бартер никогда ни на что не жаловалась.
Кабинет был обставлен с подчеркнутой простотой. Не один мальчишка отведал здесь благодетельной трости мистера Бартера, так что и сам хозяин не мог сказать, отчего поблек ковер в одном из углов: от колен провинившихся или от их слез. В шкафу по одну сторону камина хранились книги религиозного содержания, многие имели весьма потрепанный вид; в шкафу по другую сторону мистер Бартер держал крикетные биты, которые регулярно протирал маслом>; удочка и ружье в чехле скромно стояли в углу. Между тумбочками письменного стола на полу был постлан тюфячок для бульдога, получившего немало призов; бульдог этот, как правило, лежал на страже хозяйских ног, пока мистер Бартер писал проповеди.
Как и у бульдога, лучшими чертами характера мистера Бартера были старые английские добродетели: упрямство, бесстрашие, нетерпимость и юмор; его дурные стороны благодаря его положению были ему неведомы.
Оставшись наедине с Грегори Виджилом, он немедленно приступил к делу.
— Немало времени прошло с тех пор, как я имел удовольствие видать вас, — начал он. — Миссис Пендайс рассказала мне под секретом новость, с которой вы приехали. Я должен признаться, я поражен.
Грегори поморщился: такая неделикатность была ему неприятна.
— В самом деле! — произнес он холодно с дрожью в голосе.
Священник, почуяв сопротивление Грегори, повторил многозначительно:
— Более чем поражен! Должно быть, тут все-таки какое-то недоразумение.
— В самом деле? — повторил Грегори.
Лицо мистера Бартера мгновенно изменилось: до этой минуты оно было серьезным, но теперь помрачнело и стало угрожающим.
— Я должен предупредить вас, — сказал он, — что этот развод нельзя… нельзя допустить.
Грегори густо покраснел.
— Какое вы имеете право? Я не слыхал, чтобы миссис Белью была вашей прихожанкой, мистер Бартер, но и в этом случае…
Священник подвинулся к нему, выставил голову, выпятил нижнюю губу:
— Если бы она не забыла свой долг, она была бы моей прихожанкой. Но я сейчас думаю не о ней, я думаю о ее муже. Он-то принадлежит к моему приходу, и, я повторяю, эта затея с разводом должна быть оставлена.
Грегори больше не сдерживался.
— По какому праву вы вмешиваетесь? — снова повторил он, дрожа всем телом.
— Я бы не хотел вдаваться в подробности, — ответил мистер Бартер, — но если вы настаиваете, я готов объяснить.
— Да, настаиваю, как ни прискорбно, — отвечал Грегори.
— Так вот, не называя имен, миссис Белью не та женщина, чтобы иметь право просить о разводе.
— И вы смеете это говорить? — воскликнул Грегори. — Вы…
Голос у него прервался.
— Вам не переубедить меня, мистер Виджил, — проговорил священник, угрюмо улыбаясь, — я исполняю мой долг.
Грегори с трудом подавил в себе бешенство.
— Сказанные вами слова могут сойти безнаказанно только духовному лицу, — произнес он ледяным тоном. — Объясните, что вы имели в виду.
— Это нетрудно, — отвечал Бартер, — я говорю только о том, что видел собственными глазами.
И он поднял на Грегори эти глаза. Их зрачки сузились до размера булавочной головки, светло-серые ободки блестели, белки налились кровью.
— Если вы настаиваете, пожалуйста: своими глазами я видел, как здесь, в этой самой оранжерее, ее целовал мужчина.
Грегори взмахнул рукой.
— Как вы смеете! — прошептал он.
Снова выпятилась вперед нижняя губа Бартера, говорящая о наличии чувства юмора у ее владельца.
— Я смею гораздо больше, чем вы думаете, мистер Виджил, — проговорил он. — И вы в этом скоро убедитесь. Повторяю, забудьте о разводе, или вмешаюсь я! Грегори отошел к окну. Когда он вернулся, лицо его было спокойно.
— Вы поступили непорядочно, — тихо сказал он. — Что ж, упорствуйте в своем заблуждении, думайте, что хотите, действуйте, как находите нужным. Дело пойдет своим чередом. До свидания, сэр!
И, повернувшись на каблуках, Грегори вышел вон из комнаты.
Мистер Бартер шагнул вперед. Слова «поступили непорядочно» жгли его мозг; сосуды в лице и на шее налились так, что казалось, вот-вот лопнут. С придушенным стоном, как раненый зверь, он бросился вдогонку за Грегори. Но тот захлопнул дверь перед самым его носом. Приняв духовный сан, мистер Бартер перестал употреблять ругательства, и сейчас его чуть удар не хватил. Но тут он перехватил взгляд миссис Пендайс, устремленный на него из-за дверей оранжереи. Ее лицо было бледно, брови высоко подняты. Ее взгляд вернул ему самообладание.
— Что случилось, мистер Бартер?
Священник мрачно усмехнулся.
— Ничего, ничего, — проговорил он. — Прошу простить меня, мне пора. Дела приходские ждут.
Он шел по аллее: головокружение и приступ удушья прошли, но легче не стало. Он пережил сейчас тот момент, когда оголяется истинная природа человека. Он частенько говорил о себе с грубоватым добродушием; «Да, да, я человек горячий, но отходчивый», — и ни разу ему не случалось — благодаря своему положению — убедиться в своей злопамятности. Он так привык за долгие годы сразу давать волю своему неудовольствию, что и не подозревал, как крепка в нем старая английская закваска, не знал, насколько сильно может им овладевать злоба. Он и сейчас, в эту минуту, не осознал всего этого; он испытывал только гневное изумление: как можно было столь чудовищно оскорбить человека его сана, человека, который всего только исполняет свой долг! И чем больше он размышлял, тем возмутительнее казалось ему поведение миссис Белью, потерявшей всякий стыд. Подумать только, она, эта женщина, которую он застал в объятиях Джорджа Пендайса, осмеливается обращаться за помощью к закону. Если бы мистеру Бартеру объяснили, что было что-то жалкое в его возмущении, в том, как его малюсенькая душа ратовала за свои малюсенькие убеждения, как она пыжилась на своем малюсеньком пути, уверенная в своей абсолютной непогрешимости, тогда как над ней простирались бездонные небеса, а вокруг роились миллионы живых организмов, не менее значительных перед лицом природы, чем сам преподобный мистер Бартер, то он бы несказанно удивился. С каждым шагом его возмущение становилось яростней и все более укреплялась решимость не допустить подобного попрания нравственного принципа и подобного неуважения к нему, Хасселу Бартеру. «Поступили непорядочно!» Это обвинение пустило жало в его сердце, действие яда ничуть не ослабло оттого, что мистер Бартер никак не мог понять, в чем» заключалась его непорядочность. Да он и не ломал голову над этим. Несообразность обвинения, брошенного ему, служителю церкви и джентльмену, была очевидна. Дело шло о незыблемости моральных устоев. На Джорджа он не сердился. Его праведный гнев возбуждала миссис Белью. До сих пор его слово было для женщин единственной и абсолютной истиной, словно он имел власть над жизнью и смертью. Нет, это вопиющая безнравственность! Он и раньше не одобрял ее разрыва с мужем, он вообще не одобрял миссис Белью! И преподобный Бартер направил свои стопы прямехонько в Сосны.
За изгородью виднелись сонные морды коров, где-то вдали крикнул дятел, в кленах, распустившихся нынешний год раньше срока, деловито гудели пчелы. Этим радостным весенним днем многоголосая жизнь полей беззаботно текла, не замечая черной квадратной фигуры в широкополой шляпе, надвинутой на самые глаза, медленно двигающейся по проселку.
Джордж Пендайс, увидев священника, откинулся в глубь пролетки, запряженной древней серой кобылой — на станции Уорстед Скайнес был всего один извозчик. Он не забыл тона, каким говорил мистер Бартер в курительной в памятный день бала. Джордж долго не забывал обид. Он сидел, забившись в угол старенькой пролетки, трясущейся и поскрипывающей на неровностях дороги, пропахшей конюшней и крепким табаком, и его тревожный взгляд был устремлен поверх извозчика на кончики ушей кобылы. Он не шелохнулся всю дорогу, пока пролетка не остановилась у самых дверей дома.
Джордж тотчас же прошел в свою комнату, послав сказать матери, что останется ночевать. Миссис Пендайс услыхала о приезде сына с радостью и тайным трепетом и принялась поспешно переодеваться к обеду, чтобы поскорее увидеть его. Сквайр вошел к ней в комнату, как раз когда она собралась спуститься вниз. Он весь день провел в суде и был сейчас в том своем настроении страха перед будущим, которое посещало его довольно редко.
— Почему ты не оставила Виджила обедать? — спросил он у жены. — Я одолжил бы ему фрак. Я хотел поговорить с ним о своем намерении застраховать жизнь. Он в этом разбирается. Налог на наследство непомерно велик. И я не удивлюсь, если радикалы, буде они придут к власти, увеличат его вдвое.
— Я хотела оставить его, но он уехал, не простившись.
— Уж эти его чудачества!
Минуту мистер Пендайс порицал подобное нарушение правил хорошего тона. Сам он был педантом в соблюдении светских приличий.
— Опять у меня недоразумение с этим Пикоком. Такого упрямца свет не видывал… Что такое, Марджори, куда ты торопишься?
— Джордж приехал.
— Джордж? Так ты же увидишься с ним за обедом. Я должен о многом рассказать тебе. Сегодня разбиралось дело о поджоге. Старик Куорримен в отъезде. Вместо него председательствовал я. Опять этот Вудфорд, который был осужден за браконьерство. Только выпустили, а он на тебе, пожалуйста. Защитник пытался было доказать невменяемость. А он это из мести, негодяй. Разумеется, мы признали его виновным. Его приговорят к повешению, вот увидишь. Из всех тягчайших преступлений поджог — самое… самое…
Мистер Пендайс не мог найти слова, чтобы высказать свой взгляд на это злодеяние, и, тяжело вздохнув, прошел к себе в гардеробную. Миссис Пендайс тихонько вышла за дверь и поспешила в комнату сына. Джордж, без фрака, вдевал запонку в манжету.
— Позволь, я помогу тебе, дорогой. Как гадко крахмалят в Лондоне! Так приятно хоть чем-нибудь услужить тебе, мой мальчик.
— Как ты себя чувствуешь, мама?
На лице матери появилась улыбка, немного печальная, немного лукавая и вместе с тем жалкая. «Как? Уже? Не отталкивай меня, мой мальчик!» казалось, говорила она.
— Прекрасно, милый. А как у тебя дела?
Джордж ответил, стараясь не глядеть ей в глаза:
— Так себе. На прошлой неделе я много потерял на «Сити».
— Это скачки? — спросила миссис Пендайс. Таинственным чутьем матери она угадала, что
Джордж поспешил сообщить ей это неприятное известие, чтобы отвлечь ее внимание от главного: Джордж никогда не любил хныкать и жаловаться.
Она опустилась на краешек софы и, хотя гонг к обеду должен был вот-вот ударить, заговорила о пустяках, чтобы подольше побыть с сыном.
— Какие еще новости? Ты так давно у нас не был. О наших делах я подробно тебе писала. А у мистера Бартера ожидается прибавление семейства.
— Еще? Я встретил Бартера на пути сюда. Вид у него был хмурый.
В глазах миссис Пендайс мелькнуло беспокойство.
— О, я не думаю, чтобы причиной было предстоящее событие. — Она умолкла, но чтобы заглушить поднимающийся страх, снова заговорила: — Если бы я знала, что ты будешь, я не отпустила бы Сесила Тарпа. А каких хорошеньких щенят принесла Вик! Хочешь взять одного? У них вокруг глаз такие милые черные пятна.
Она наблюдала за сыном, как только может мать: любовно, украдкой, не упуская ни одной мелочи, ни одного движения мускулов в лице, стараясь прочитать состояние его души.
«Что-то тревожит его, — думала она. — Как он изменился за то время, что мы не видались! Что с ним? Я чувствую, что он так далек от меня, так далек!»
Но она знала также, что он приехал домой, потому что был одинок и несчастен, и бессознательно потянулся к матери.
И в то же время она понимала, что если станет надоедать ему любопытством, он еще дальше уйдет от нее. А это было бы нестерпимо; вот почему она ничего не спрашивала и только изо всех сил старалась скрыть свою боль.
Она спускалась в столовую, опираясь на руку сына, прижимаясь к нему плотнее, позабыв, как всю зиму мучилась его отчужденностью, замкнутостью и неподступностью.
В гостиной уже собрались мистер Пендайс и девочки.
— А, Джордж, — сухо приветствовал сына сквайр, — рад тебя видеть. Как можно терпеть Лондон в это время года! Но раз уж ты приехал, останься хотя бы на два дня. Я хочу показать тебе имение. Ты ведь ничего в хозяйстве не смыслишь. А я могу каждую минуту умереть. Так что подумай и оставайся!
Джордж мрачно поглядел на отца:
— К сожалению, меня в Лондоне ждут дела. Мистер Пендайс подошел и камину и стал к нему спиной.
— Так всегда: я прошу его сделать простую вещь ради его же блага, а у него дела. А мать ему потакает во всем. Би, поди сыграй мне что-нибудь.
Сквайр терпеть не мог, когда ему играли. Но это было единственным пришедшим ему в голову распоряжением, которое — он знал — будет выполнено беспрекословно.
Отсутствие гостей мало чем изменило церемонию обеда, который в Уорстед Скайнесе считался событием, венчающим день. Было, правда, всего семь перемен блюд и не подавалось шампанское. Сквайр пил рюмку-другую кларету и при этом говаривал: «Мой отец всю жизнь выпивал вечером бутылку портвейна, и хоть бы что. Последуй я его примеру, меня это в год свело бы в могилу».
Би и Нора пили воду. Миссис Пендайс, в душе отдавая предпочтение шампанскому, пила понемножку испанское бургундское, выписываемое для нее мистером Пендайсом за весьма умеренную цену; от обеда к обеду оно хранилось закупоренным особой пробкой. Миссис Пендайс угощала сына:
— Выпей моего бургундского, милый, оно превосходно.
Джордж отказался и потребовал виски с содой, взглянув в упор на дворецкого, ибо напиток был чересчур желт.
Под действием еды к мистеру Пендайсу вернулось его обычное благодушие, хотя будущее еще представлялось ему в печальном свете.
— Вы, молодые люди, — говорил он, снисходительно поглядывая на Джорджа, — все такие индивидуалисты. Развлечение вы превращаете в дело. Во что превратят вас к пятидесяти годам ваши скачки, бильярд, пикет! Воображение ваше спит. Чем прожигать жизнь, подумали бы лучше, каково вам придется в старости. Да-с! — Мистер Пендайс поглядел на дочерей, и обе воскликнули:
— О, папа! Что ты говоришь!
Нора, отличавшаяся большей силой характера, чем сестра, прибавила:
— Мама, правда, папа ужас что говорит?!
А миссис Пендайс, не отрываясь, смотрела на сына. Сколько вечеров она тосковала, глядя на его пустое место за столом!
— Сегодня вечером поиграем в пикет, Джордж?
Джордж взглянул на мать и кивнул, невесело улыбнувшись.
Вокруг стола по толстому, мягкому ковру неслышно двигались дворецкий с лакеем. Огонь восковых свечей мягко поблескивал на серебре, фруктах и цветах, на белых девичьих шеях, на румяном лице Джорджа, на белом глянце его манишки, горел в бриллиантах, унизывающих тонкие, нежные пальцы его матери, освещал прямую и все еще бодрую фигуру сквайра, в комнате томительно-сладко пахло азалиями и нарциссами. Би с мечтательным взором вспоминала молодого Тарпа (он сказал сегодня, что любит ее) и гадала, даст ли отец согласие. Ее мать думала о Джордже, украдкой поглядывая на его расстроенное лицо. Было тихо, только позвякивали вилки и слышались голоса сквайра и Норы, беседующих о пустяках.
Снаружи за высокими распахнутыми окнами спала мирная земля; луна, оранжевая и круглая, как монета, тяжело висела над самыми верхушками кедров; озаренные ее светом шепчущие полосы безлюдных полей лежали в полузабытьи, а за этим светлым кругом царила бездонная и таинственная тьма — великая тьма, укрывающая от их глаз весь неугомонный мир.
ГЛАВА III ЗЛОВЕЩИЙ ВЕЧЕР
В день больших скачек в Кемптон-парке, где Эмблер, считавшийся фаворитом, проиграл у самого финиша, Джордж Пендайс стоял перед входом в свою квартиру, которую он снял неподалеку от миссис Белью: в ту минуту, когда он вкладывал ключ в замочную скважину, кто-то, подойдя сзади быстрым шагом, спросил:
— Мистер Джордж Пендайс?
Джордж обернулся.
— Что вам угодно?
Человек протянул Джорджу длинный конверт.
— От фирмы Фрост и Таккет.
Джордж распечатал конверт, вынул листок бумаги и прочитал:
«Судейская коллегия, завещания и разводы.
Ходатайство Джэспера Белью…»
Джордж поднял глаза — в них стояло такое непритворное безразличие, беззлобие, побитость и упрямство, что рассыльный отвел глаза, как будто он ударил лежачего.
— Благодарю вас. До свидания!
Он захлопнул дверь и прочел бумагу от первого слова до последнего. Несколько подробностей, и в конце требование о возмещении ущерба; Джордж улыбнулся.
Если бы он получил эту бумагу три месяца назад, он отнесся бы к ней по-иному. Три месяца назад он почувствовал бы ярость, что пойман. Первая его мысль была бы: «Я впутался в эту историю, впутался сам. Никогда не думал, что может случиться такое. Черт возьми! Надо кого-то повидать, прекратить все это! Должен быть выход!» У Джорджа было скудное воображение. Мысли его завертелись бы по этому кругу, и он сразу принялся бы действовать. Но то было три месяца назад, а теперь…
Он закурил папиросу и сел на диван. В его сердце была странная надежда, нечто вроде неожиданной радости на похоронах. Он может сейчас же пойти к нему него есть предлог… Не надо будет сидеть дома и ждать… ждать… ждать, вдруг ей вздумается прийти.
Он встал, выпил рюмку виски, снова сел на диван.
«Если она не придет до восьми, — подумал он, — я зайду к ней».
Напротив дивана было большое зеркало, и Джордж отвернулся к стене, чтобы не видеть своего лица. На нем была мрачная решительность, как будто он хотел сказать: «Я покажу им всем, что рано еще считать меня побитым!»
Услыхав звяканье ключа, Джордж соскочил с дивана, и лицо его закрыла привычная маска. Она вошла, как обычно, скинула мантилью и осталась стоять перед ним с обнаженными плечами. Глядя на нее, Джордж попытался понять, знает она или нет.
— Я решила, что лучше всего приехать, — сказала она. — Вижу, и ты получил этот очаровательный сюрприз.
Джордж кивнул. Минуту оба молчали.
— Это довольно забавно, но мне жаль тебя, Джордж.
Джордж тоже улыбнулся, но улыбка вышла кривая.
— Я сделаю все, что могу.
Миссис Белью подошла совсем близко к нему.
— Я читала о кемтонских скачках. Какое невезение! Ты, верно, много проиграл. Бедный мой! Беда никогда не приходит одна.
Джордж опустил глаза.
— Это не страшно. Была бы ты со мной.
Ее руки обвили его шею, но они были холодны, как мрамор; он заглянул ей в глаза и прочел в них насмешку и жалость.
Их кэб, выехав на широкую улицу, влился в поток, мчавшийся к центру, мимо Хайд-парка, где зазеленевшие ветви взметывались на ветру, как юбки балерин, мимо Клуба стоиков, мимо других клубов, гремя, звеня, чуть не сталкиваясь, обгоняя омнибусы, такие уютные, неповоротливые, с двумя рядами пассажиров, чинно сидящих друг против друга в тусклом свете фонаря.
В ресторане Блэфарда высокий смуглый молодой официант почтительно подхватил ее мантилью, маленький лакей улыбнулся своими страдальческими глазами. Тот же красноватый отблеск упал на ее руки и плечи, желтые и зеленые цветы так же вызывающе топорщились в голубых вазах. Те же названия в меню. Тот же взгляд праздного любопытства, мелькнувший в щели между красными шторами. То и дело за ужином Джордж украдкой поглядывал на лицо своей спутницы и диву давался, так было оно беспечно. К тому же последнее время миссис Белью все чаще бывала мрачна и раздражительна, а сегодня в ней чувствовалась какая-то отчаянная веселость.
Посетители за соседними столиками — сезон начался, и зал был полон поглядывали в их сторону: так заразительно она смеялась, — но Джердж начинал испытывать нечто похожее на ненависть. Какой бес сидит в этой женщине, отчего она может смеяться, когда ему так тяжело! Но он не сказал ни слова, не смел даже взглянуть на нее, чтобы не выдать своих чувств.
«Мы должны объясниться, — думал он, — надо смотреть правде в глаза. Надо что-то делать, а она сидит тут и хохочет, и все оглядываются на нас». Делать? Что делать, когда почва уходит из-под ног?
Соседние столики пустели один за другим.
— Джордж, поедем куда-нибудь, где можно будет танцевать.
Джордж удивленно поднял брови.
— Куда, дорогая? Нам некуда ехать!
— Ну хоть в эту вашу «Богему».
— Тебе неприлично показываться в подобном месте.
— Почему? Кому какое дело, куда мы ездим, что делаем!
— Мне до этого дело!
— Ах, мой друг, ты жив только наполовину.
Джордж раздраженно ответил:
— Ты, кажется, принимаешь меня за подлеца!
А в душе ни капли злобы, только страх потерять ее.
— Хорошо, едем тогда в Ист-Энд. Ну, давай сделаем что-нибудь такое, что не принято.
Они взяли извозчика и отправились в Ист-Энд. И он и она еще ни разу не были в этой неведомой земле.
— Запахни мантилью, дорогая, здесь это покажется странным.
Миссис Белью рассмеялась.
— В шестьдесят лет ты будешь вылитый отец.
И еще больше распахнула мантилью. Вокруг шарманки на углу улицы плясали девочки в ярких платьях. Миссис Белью приказала извозчику остановиться.
— Хочу посмотреть на этих детей.
— Не ставь нас в глупое положение.
Миссис Белью приоткрыла дверцу кэба.
— Пожалуй, я пойду плясать с ними!
— Ты сошла с ума! — воскликнул Джордж. — Сиди спокойно!
Он протянул руку и загородил ей путь. Прохожие с интересом смотрели на происходящее. Уже начинала собираться толпа.
— Пошел! — крикнул Джордж.
Кое-кто из зевак засмеялся, извозчик стегнул лошадь, кэб покатил.
Пробило двенадцать, когда кэб остановился у старой церкви на набережной Челси; за последний час не было сказано ни слова.
Весь этот час Джордж думал:
«И ради этой женщины я пожертвовал всем. Это женщина, к которой я буду привязан на всю жизнь. Мне с ней не порвать!.. Если бы только я мог расстаться с ней! Но я жить без нее не могу. Мука, когда она со мной, еще большая мука, когда ее нет. Одному богу ведомо, чем все это кончится».
Он нашел в темноте ее руку: безучастная и холодная, как из мрамора. Глянул ей в лицо и ничего не прочел в ее зеленоватых глазах, блестевших в темноте, как глаза кошки.
Кэб отъехал, они стояли, освещенные уличным фонарем, глядя друг на друга. Джордж думал: «Я сейчас расстанусь с ней, а что же дальше?»
Она вынула ключ, вложила его в скважину и обернулась. На этой пустой, тихой улице, где ветер посвистывал и подвывал, огибая углы домов, и раскачивались огни фонарей, ее лицо, ее фигура были неподвижны, непроницаемы, как у сфинкса. Только в глазах, устремленных на него, играла жизнь.
— Спокойной ночи! — наконец прошептал он.
Она поманила его.
— Сегодня я твоя, Джордж! — сказала она
ГЛАВА IV ГОЛОВА МИСТЕРА ПЕНДАЙСА
Голова мистера Пендайса, если смотреть на нее сзади, когда мистер Пендайс сидит за своим бюро в библиотеке — там обычно он проводит утра с половины десятого до одиннадцати, а то и до двенадцати, — проливала немалый свет на его характер и на характер класса, к которому он принадлежал.
Это был английский тип головы. Почти национальный. С выпуклым затылком, круто спускающимся к шее, суженная в висках и скулах, с выдающимся подбородком — линия, проведенная от наиболее выступающей точки затылка к подбородку, оказалась бы чересчур длинной. Внимательный наблюдатель заключил бы, что излишняя вытянутость этого черепа указывает на характер решительный, склонный к действиям; а его суженность — на своенравие, доходящее порой до тупого упрямства; тонкая жилистая шея, поросшая редкими волосами, и умные уши усиливали это впечатление. Когда вы видели это лицо с сухим румянцем, которому ветры и непогода добавили желтизны, а солнце смуглости, коротко подстриженные волосы, серые недовольные глаза, сомнения не оставалось: перед вами англичанин, землевладелец и, вопреки мнению мистера Пендайса о самом себе, индивидуалист. Его голова более всего напоминала адмиралтейскую башню в Дувре — это страннее, длинное сооружение с закруглением на конце, которое смущает своим видом впервые вступившего на английские берега чужестранца, изумляет его и поражает страхом.
Он сидел за своим бюро недвижно, слегка нагнувшись над бумагами, с видом человека, не отличающегося быстротой соображения; время от времени он откладывал перо, чтобы справиться в календаре, лежащем по левую руку, или заглянуть в один из документов, заполняющих многочисленные отделения бюро. Поодаль лежала раскрытая старая подшивка «Пэнча»; мистер Пендайс, будучи землевладельцем, знал этот журнал, как свои пять пальцев.
В минуты отдыха лучшим развлечением для него были эти иллюстрированные страницы, и, дойдя до изображения Джона Буля, он всякий раз говорил себе:
«Надо же было изобразить англичанина таким толстяком!»
Как будто художник нанес ему смертельную обиду, изобразив представителем английской нации не его тип, а тот, который теперь быстро выходил из моды. Мистер Бартер, слыша подобные рассуждения из уст мистера Пендайса, всякий раз решительно протестовал, ибо сам был крепкого сложения, полноват и продолжал полнеть.
Каждый из них, считая себя типичным англичанином, вместе с тем полагал, что стоит гораздо выше старинного типа англичанина георгианской и ранней викторианской эпохи, любителя ростбифа и портвейна, пива и верховой езды. Они были светскими людьми, шли в ногу с веком, аристократическая школа и Оксфорд научили их хорошим манерам, знанию людей и умению вести дела, привили им образ мысли, не нуждавшийся ни в каком усовершенствовании. Оба они, особенно мистер Пендайс, шесть, семь, а то и все восемь раз в году посещали столицу, чтобы не закоснеть у себя в глуши. Они редко брали с собой жен, ибо почти всегда им предстояло много дел: встречи со старыми друзьями, банкеты с партийными единомышленниками — консерваторами и духовными лицами, — театр комедии, а для мистера Бартера — Лицеум. Оба состояли членами клуба; мистер Бартер — покойного, старомодного, где можно сыграть роббер-другой в вист по маленькой, мистер Пендайс — «Храма незыблемого порядка вещей», как и подобает человеку, подвергшему анализу все социальные явления и понявшему, что нет ничего более прочного в этом мире, чем традиция.
Всякий раз, уезжая в Лондон, тот и другой недовольно ворчали, что было уместно, поскольку жены оставались дома, и возвращались ворча: расшаливалась печень; но сельская жизнь оказывала свое целительное действие, и к следующей поездке от недуга не оставалось и следа. Таким образом они счищали с себя окалину провинциализма.
Спаньель Джон, чья голова была узка и вытянута, как у хозяина, лежал в тиши кабинета, уткнувшись мордой в лапы, и изнывал от скуки; так что когда мистер Пендайс кашлянул, он радостно завилял хвостом и, не поворачивая головы, скосил глаз, блеснув белым полумесяцем.
В глубине узкого, длинного кабинета тикали часы; солнечный свет падал сквозь узкие, длинные окна на узкие, длинные корешки книг, рядами теснившихся под стеклом на полках вдоль одной из стен; и вся эта комната, чуть пахнувшая кожей, удивительно подходила для тех узких и длинных идеалов, которые доводились здесь мистером Пендайсом до их логического конца, узкого и длинного.
Впрочем, мистер Пендайс презрительно отмахнулся бы от мысли, что идеалам, коренившимся в наследственном принципе, может наступить конец.
«Пусть я исполню свой долг, пусть сохраню свое имение, как сохранил мой отец, и передам его сыну своему по возможности увеличенным», — вот что иногда он высказывал, о чем постоянно думал и нередко молился. «Большего я не желаю».
Времена были тяжелые, опасные. Очень возможно, что радикалы придут к власти, и тогда страна полетит ко всем чертям. Было естественно, что он молился за незыблемость тех форм жизни, в которые верил, зная только их, которые были завещаны ему предками, и лучшим воплощением которых были слова «Хорэс Пендайс». Он был противником! новых идей. И если какая-то новая идея пыталась вторгнуться в пределы пендайсовского мозга, все население этой страны поднималось на врага и либо отражало его, либо брало в плен. С течением времени несчастное существо, чьи вопли и стенания проникали сквозь тюремные стены, освобождалось из-под стражи исключительно из человеколюбия и стремления к покою и даже получало некоторые права гражданства, хотя и оставалось в глазах коренных обитателей «несчастным чужеземцем».
Затем в один прекрасный день чужеземцу по недосмотру позволяли вступить в брак; или же вдруг у него обнаруживался целый выводок незаконнорожденных детей. Но уважение к свершившемуся факту, к тому, что уже стало прошлым, не позволяло им расторгнуть этот брак или вернуть детей в состояние небытия, и мало-помалу они примирялись с непрошеным потомством. Таковы были процессы, протекавшие в мозгу мистера Пендайса. В сущности, он походил на спаньеля Джона, у которого были консервативные наклонности. Увидев что-нибудь непонятное, мистер Пендайс тоже бросался вперед, загораживая дорогу этому непонятному, скалил зубы и тявкал; порой ему становилось страшно за мир, что настанет день, когда Хорэса Пендайса не будет больше, чтобы скалить зубы и тявкать. Но грустил он редко. У него было мало воображения.
Все утро мистер Пендайс занимался старым, запутанным вопросом о праве владения Уорстед Скоттоном; эти земли огородил еще его отец, и он с детства привык считать их неотъемлемой частью Уорстед Скайнеса, Дело было почти бесспорное, ибо фермеры, озабоченные в момент огораживания ценами на хлеб, отнеслись к совершившемуся равнодушно и только в последний год, после которого права сквайра получили бы законную силу, отец нынешнего Пикока вдруг разломал забор и выпустил на огороженное пастбище свое стадо; и тем самым все началось сначала. Это случилось в 1865 году, и с тех пор не прекращались недоразумения, грозившие перейти в судебную тяжбу. Мистер Пендайс ни на минуту не забывал, что этот несчастный спор возник по вине Пикоков; ибо свойство его ума было таково, что он не задумывался над побуждениями других людей; он видел только факты и факты; иное дело, конечно, если действовал он сам, тогда он даже с некоторой гордостью говорил: «Я поступил так из принципа». Он никогда не размышлял и не вел бесед на отвлеченные темы; отчасти потому, что его отец не делал этого, отчасти потому, что это не поощрялось в школе, но главным образом, конечно, оттого, что все, не имеющее практической ценности, было ему чуждо.
И он, разумеется, не переставал удивляться неблагодарности своих арендаторов. Он выполнял свой долг по отношению к ним: мистер Бартер, их духовный наставник, мог бы засвидетельствовать это; об этом же красноречиво говорили и хозяйственные книги: средний ежегодный доход был равен тысяче шестистам фунтам, а чистые убытки (минус расходы на содержание усадьбы Уорстед Скайнес) равнялись тремстам фунтам.
Что касается дел менее земных: непосещения церкви, случаев браконьерства, моральной распущенности, — то и тут совесть мистера Пендайса была чиста: он не забывал своего долга и всячески помогал священнику. Не далее как в прошлом месяце произошел случай, подтверждающий это: его младший лесник, прекрасный работник, завел шашни с женой почтальона, и мистер Пендайс уволил его и приказал освободить домик, который тот у него арендовал.
Он встал и подошел к висевшему на стене свернутому в трубочку плану поместья; дернув зеленый шелковый шнур, он принялся сосредоточенно изучать его, водя по нему пальцем. Спаньель тоже поднялся и неслышно переместился к ногам хозяина. Мистер Пендайс шагнул к столу и наступил на него. Пес взвизгнул.
— Черт бы побрал этого пса! — воскликнул мистер Пендайс и тут же прибавил: — Бедненький ты мой Джон!
Он сел было за стол, но оказалось, что он нашел не то место, и надо было снова идти к плану. Спаньель Джон, думая, что чем-то провинился перед хозяином, описав полукруг и виляя хвостом, опять подвинулся к его ногам. Едва он улегся, отворилась дверь и вошел слуга, неся на серебряном подносе письмо.
Мистер Пендайс взял письмо, прочел, вернулся к бюро и сказал:
— Ответа не будет.
Он сидел в тиши кабинета, уставив взгляд на листок бумаги, и на лице его чередовались гнев, тревога, сомнение, растерянность. Он не умел рассуждать, не высказывая мыслей вслух, и стал тихонько говорить сам с собой. Спаньель Джон, все еще уверенный, что чем-то прогневал хозяина, лег совсем близко у хозяйских ног.
Мистер Пендайс никогда глубоко не задумывался о нравственном принципе своего времени, и тем легче он принимал его.
Ему на протяжении жизни ни разу не представилась возможность совершить что-нибудь безнравственное, и это еще укрепляло его позиции. В сущности, он был добродетелен не вследствие своих убеждений и принципов, а по привычке и традиции.
И вот теперь, вновь и вновь перечитывая полученное письмо, он чувствовал, как к горлу подступила тошнота. В письме говорилось:
«Сосны, 20 мая.
Милостивый государь,
Не знаю, известно ли Вам, что я начал дело о разводе с женой, назвав в качестве соответчика Вашего сына. Ни ради него, ни ради Вас, а только ради миссис Пендайс, единственной женщины в округе, которую я уважаю, я готов прекратить дело, если Ваш сын даст слово не видеться больше с моей женой. Пожалуйста, ответьте скорее.
Остаюсь Ваш покорный слуга
Джэспер Белью».
Приятие традиций (а это было в духе мистера Пендайса) порой оборачивается против честного человека и его душевного спокойствия самым неприятным образом. В среде Пендайсов исстари повелось смотреть на шалости молодых людей снисходительно. «Молодость должна перебеситься, — любил говорить он. — На то и молодые годы!» Такова была его точка зрения. И неудобство происходило теперь оттого, что надо было с этой точки зрения взглянуть на случившееся, — неудобство, которое не раз испытывали люди в прошлом и будут испытывать в будущем. Но поскольку мистер Пендайс не был философом, то и не видел несообразности между своими принципами и своим теперешним расстройством. Он чувствовал, что мир его пошатнулся, а он не принадлежал к людям, покорно переносящим несчастье, он считал, что и другие должны страдать. Чудовищно, что этот Белью, этот пьяница, отъявленный негодяй, чуть не задавивший насмерть его, мистера Пендайса, получил право нарушить спокойствие Уорстед Скайнеса! Какая беспримерная наглость — бросать подобное обвинение его сыну! Какое бесстыдство! И мистер Пендайс метнулся к колокольчику, наступив на ухо псу.
— Черт бы побрал этого пса! Бедненький ты мой Джон!
Но спаньель теперь уже твердо знал, что провинился перед хозяином, — он убрался в дальний угол, чтобы ничего не видеть, и лег, прижав морду к полу.
— Скажите миссис Пендайс, что я ее жду.
Сквайр стоял возле камина: его лицо еще больше вытянулось, шея пошла красными пятнами, глаза, как у рассерженного лебедя, метали молнии.
Миссис Пендайс нередко призывалась в кабинет мужа, где он говорил ей. «Я хочу с тобой посоветоваться. Такой-то сделал то-то. А я решил вот что».
Не прошло и нескольких минут, как она была в кабинете. Повинуясь словам мужа: «Марджори, прочти это», — прочла письмо и устремила на мужа глаза, полные страдания; в его глазах стоял гнев. Это была катастрофа.
Не каждому дана широта взгляда; не всем открываются далекие прозрачные потоки, сиреневая дымка вереска, озаренные лунным светом озера, где темными островами стоит на закате камыш и слышится далекий крик вальдшнепа, не все могут любоваться с крутых скал темными, как вино, волнами моря в сумерках, или с горных троп нагромождением вершин, дымящихся туманом и ярко-золотых на солнце.
Большинство из окна своей комнаты всю жизнь видит только ряд домов, или задний дворик, или, как мистер и миссис Пендайс, зеленые поля, опрятные рощи или шотландский сад в усадьбе. И на этом фоне бракоразводный процесс, в котором был замешан их сын, представлялся им бурей, несущей уничтожение. Для обитателя Уорстед Скайнеса (а у них воображение не отличалось живостью) это событие означало гибель прекрасного сооружения из идей, предрассудков и надежд. На этот раз нельзя было отделаться фразами: «Ну и что? Пусть люди думают, что хотят!»
Для Уорстед Скайнеса (а всякая английская усадьба, как две капли воды, похожа на Уорстед Скайнес) существовало только одно общество, одна церковь, одна свора гончих. Честь Уорстед Скайнеса должна оставаться незапятнанной. И эти два человека, прожившие вместе тридцать четыре года, теперь смотрели друг на друга с новым выражением: первый раз за все время их грудь волновалась одним чувством. Только мистер Пендайс (у мужчин чувство чести развито больше) думал: «Никогда не поверю! Опозорить нас всех!» А миссис Пендайс думала: «Мой бедный мальчик!»
Миссис Пендайс первая нарушила молчание.
— Ах, Хорэс! — воскликнула она.
Звук ее голоса вернул силы мистеру Пендайсу.
— Что ты, Марджори! Неужели ты веришь тому, что он здесь написал? Он заслуживает хлыста! Он знает, что я о нем думаю. Это его очередная наглая выходка! Тогда он чуть не убил меня, теперь…
Миссис Пендайс прервала мужа:
— Но, Хорэс, я боюсь, что это правда. Эллен Молден…
— Эллен Молден! — вскричал мистер Пендайс. — Какое отношение имеет она… — И он замолчал, вперив взор в план Уорстед Скайнеса, еще висевший развернутым, как символ всего, что готово было рухнуть. — Если Джордж и в самом деле… — крикнул он, — то, значит, он еще больший дура», чем я его считал! Дурак? Нет, хуже! Негодяй!
И он опять замолчал.
Миссис Пендайс вспыхнула и прикусила губу.
— Джордж не может быть негодяем, — сказала она.
Мистер Пендайс ответил, делая ударение на каждом слове:
— Опозорить свое имя!
Миссис Пендайс еще сильнее прикусила губу.
— Что бы ни сделал Джордж, — сказала она, — я уверена, что он вел себя, как подобает джентльмену.
Злая улыбка искривила губы сквайра.
— Как это похоже на женщину!
Но улыбка тут же пропала. И оба лица опять выражали беспомощность и растерянность. Как люди, прожившие вместе век и не любящие друг друга истинной любовью, хотя они давно перестали это замечать, они испытали даже нечто вроде удивления, когда их интересы совпали. Пускаться в пререкания не было смысла. Это не спасет их сына.
— Я буду писать Джорджу, — проговорил наконец мистер Пендайс. — Я ничему не поверю, пока не получу от него ответа. Я полагаю, что он расскажет нам всю правду.
Голос его дрожал.
Миссис Пендайс поспешно сказала:
— Только ради бога, Хорэс, будь деликатен. Мальчик и без того страдает!
Ее кроткая душа, рожденная для мирного счастья, сейчас тоже страдала. В глазах стояли слезы. Но мистер Пендайс по дальнозоркости не замечал их. За время супружеской жизни этот дефект зрения все прогрессировал.
— Я напишу ему, что сочту нужным, — сказал он. — Понадобится срок, чтобы все обдумать, и пусть этот мерзавец не тешит себя мыслью, что я буду спешить.
Миссис Пендайс вытерла губы кружевным платочком.
— Ты дашь мне прочитать свое письмо? — спросила она.
Сквайр взглянул на жену: она вся дрожала, ее лицо было белее полотна. Это еще больше раздосадовало его, но он ответил почти мягко:
— Это не женское дело, дорогая.
Миссис Пендайс шагнула к мужу, ее кроткое лицо выражало не свойственную ей решимость.
— Он мой сын, Хорэс, так же, как и твой.
Мистер Пендайс, поморщившись, отвернулся.
— Тебе незачем так расстраиваться, Марджори, я изберу самый правильный путь. Вы, женщины, легко теряете головы. Этот мерзавец лжет! Если же он не…
При этих словах спаньель Джон вышел из своего угла и замер на середине комнаты. Он стоял выгнувшись и печально поглядывал на хозяина.
— Это… это, — сказал мистер Пендайс, — это черт знает что!
И, как будто высказывая сочувствие от имени всех, чья судьба была связана с Уорстед Скайнесом, Джон завилял тем, что оставили ему от хвоста.
Миссис Пендайс подошла еще ближе.
— А если Джордж не согласится обещать то, что от него требуют в письме, как тогда, Хорэс?
Мистер Пендайс воззрился на жену.
— Не согласится обещать? Что обещать?
Миссис Пендайс протянула письмо.
— Обещать не видеться с ней.
Мистер Пендайс отвел ее руку с письмом в сторону.
— Я, во всяком случае, не стану плясать под дудку этого Белью! — Затем, передумав, он добавил: — Но и нельзя давать ему повода. Джордж должен обещать мне это.
Миссис Пендайс сжала губы.
— Ты думаешь, он согласится?
— Кто, я думаю, согласится? На что согласится? Почему ты не можешь выражаться яснее, Марджори? Если Джордж и в самом деле впутал нас в эту историю, он должен и вызволить нас.
Миссис Пендайс покраснела.
— Он не покинет ее в беде.
Сквайр рассердился:
— Покинет! Беда! Кто об этом говорит? Это все из-за нее одной. Как ее можно жалеть, если она такое позволила себе! Не хочешь ли ты сказать, что он не согласится порвать с ней? Не такой уж он осел!
Миссис Пендайс сделала легкий жест, означавший для нее мольбу.
— О, Хорэс! Ты не понимаешь. Он любит ее!
Нижняя губа мистера Пендайса задрожала, что являлось признаком сильного душевного волнения.
Вся консервативная косность его характера, вся огромная, упорная вера в установленный порядок вещей, вся упрямая ненависть к новому и страх перед ним, беспредельная способность не понимать, которая с незапамятных времен сделала Хорэса Пендайса вершителем судеб своей страны, — все это разом поднялось на дыбы в измученной душе мистера Пендайса.
— При чем тут это? — гневно кричал он. — Вы женщины! В вас нет ни капли здравого смысла! Романтичность, глупость, безнравственность я бог знает что еще! Ради всего святого перестань ты вбивать ему в голову свои дурацкие идеи!
Во время этой вспышки лицо миссис Пендайс оставалось неподвижным, только по дрожи ресниц можно было догадаться, как напряжен в ней каждый нерв. Вдруг миссис Пендайс зажала уши руками.
— О Хорэс! — воскликнула она — Осторожно!.. Бедный Джон!
Сквайр сгоряча всей тяжестью тела наступил на лапу спаньеля. Пес отчаянно завизжал. Мистер Пендайс присел на колени, взял отдавленную лапу.
— Черт бы побрал этого пса! Бедненький ты мой Джон! — пробормотал он.
И две узкие, длинные головы на секунду приблизились одна к другой.
ГЛАВА V СВЯЩЕННИК И СКВАЙР
Усилия цивилизованного человека, с незапамятных времен направляемые на достижение устойчивого равновесия, завершились созданием усадьбы Уорстед Скайнес.
Если отвлечься от соображений чисто коммерческих, поскольку поместье не давало больше дохода, и не думать о его дальнейшем расширении, ибо это было невозможно, то Уорстед Скайнес с его верностью традициям и национальному духу был настоящим сокровищем. В его недрах пестовались те наследственные институты, которыми Англия гордилась больше всего; и мистер Пендайс лелеял мечту, что наступит день, когда он благодаря заслугам перед своей партией назовет себя лордом Уорстедом, а в образе своего сына даже и после смерти будет присутствовать на заседаниях палаты лордов. Но в сердце сквайра обитало и еще одно чувство: воздух, леса, поля — все это вошло в кровь мистера Пендайса любовью к деревенской природе, своему дому и к дому своих отцов.
И вот теперь, после письма Джэспера Белью, все в этом доме расстроилось. Никому не было сказано ни слова, но каждый понимал, что что-то произошло; и все, включая собак, старались на собственный лад выразить сочувствие хозяину и хозяйке.
Девочки день-деньской катали мяч на новом поле для гольфа: что еще оставалось делать? Заскучал даже Сесил Тарп, получивший согласие Би, правда, не окончательное, что было естественно при данных обстоятельствах. В конюшне, где он лечил правую переднюю ногу кобылы по новому способу, он сказал Би, что ему показалось, будто ее батюшка «нервничает» и что лучше его пока не беспокоить. Би, гладя шею лошади, взглянула на юношу застенчиво и несколько уныло.
— Все из-за Джорджа! — сказала она. — Я знаю, это все из-за Джорджа. Ах, Сесил, лучше бы я родилась мужчиной!
Молодой Тарп выпалил простодушно:
— Да, по-моему, просто ужасно быть женщиной!
Би слегка покраснела. Ее немного обидело, что Сесил согласился с ней. Но Сесил в эту минуту ощупывал голень кобылы и ничего не заметил.
— Папа очень не в духе, — сказала она. — Я бы хотела, чтобы Джордж поскорее женился.
Сесил Тарп поднял свою большую круглую голову; его открытое, честное лицо налилось кровью от неудобной позы.
— Гладкая, как стакан, — сказал он, — нога в порядке, Би. По-моему, Джорджу слишком весело живется,
Би отвернулась и прошептала:
— Я ни за что не согласилась бы жить в Лондоне. — И тоже нагнулась, чтобы потрогать ногу кобылы.
Часы тянулись теперь для миссис Пендайс с непостижимой медлительностью. Больше тридцати лет она чего-то ждала, хотя и знала, что ждать нечего; в сущности, у нее было все, что можно пожелать, и не было ничего; так что самое ожидание не имело ни горечи, ни остроты. Но ждать так, в темной неизвестности, ждать не вообще, а чего-то вполне определенного было невыносимо. Не проходило минуты, чтобы ее воображению не рисовался образ Джорджа, одинокого, терзаемого противоречивыми чувствами. Ибо миссис Пендайс, загипнотизированной Уорстед Скайнесом и находившейся в неведении о событиях в Лондоне, борьба а душе ее сына представлялась титанической: инстинктом матери она чувствовала глубину страсти, поразившей ее сына. Со странным, противоречивым настроением ожидала она известия от Джорджа: то она думала: «Это — безумие, он должен дать обещание, ужасно, если он не согласится!», то говорила себе: «Нет, он не может этого сделать, он так ее любит! Да, это невозможно, и ведь она тоже… Ах! Как все ужасно!»
Может быть, как заметил мистер Пендайс, у нее была романтическая душа, а может, ее просто мучила сейчас мысль о том, как плохо приходится ее мальчику. Слишком велик зуб, думала она. И как в далекие годы, когда, привозя сына в Корнмаркет, чтобы ему вырвали больной зуб, она садилась с ним рядом, держа его руку в своей, пока кругленький дантист тянул, и чувствовала, будто зуб рвут у нее, так и сейчас ей хотелось разделить с ним его боль, такую страшную, такую мучительную.
К миссис Белью она испытывала только легкую ревность; это казалось странным даже ей самой, но, может быть, и впрямь у нее был романтический характер.
Вот когда она оценила преимущество размеренной жизни! Ее дни были так тесно заполнены, что в дневные часы тревога оказывалась глубоко под спудом. Зато ночи были страшные: она не только страдала сама, но и должна была, как и полагается жене, разделять терзания мистера Пендайса. Час перед сном был единственным временем, когда сквайр мог дать отдых своим исстрадавшимся нервам, он даже стал по этой причине раньше ложиться спать. Снова и снова переживая на словах весь ужас случившегося, высказывая десятки предположений и догадок, он в конце концов обретал какое-то подобие душевного спокойствия. Почему Джордж не пишет? Что собирается предпринять этот негодяй Белью? И все в том же духе, пока бесконечные повторения одного и того же не нагоняли на него самого сон. Его жена не смыкала глаз всю ночь. Только когда первое сонное щебетание птиц сменялось веселым утренним гомоном, бедная женщина осторожно, чтобы не разбудить мужа, поворачивалась на другой бок и засыпала. Ибо Джордж все не отвечал.
Во время своих утренних прогулок в деревню миссис Пендайс обнаружила, что теперь, когда ее постигло горе, ей первый раз за все время удалось преодолеть ту недоверчивую отчужденность, которая стояла между ней и ее соседями победнее. Она изумлялась собственной смелости, когда, побуждаемая тайным желанием отвлечься, расспрашивала их обо всем, входила во все их заботы, ее удивляло и то, как охотно они отвечали ей, им даже как будто нравилось посвящать ее в свои дела, точно они знали, что помогают ей.
А однажды к ней даже обратились с просьбой в доме, где она еще раньше приметила бледную черноглазую девушку, сторонящуюся всех и вызывавшую у нее смешанное чувство любопытства и участия. Девушка отвела миссис Пендайс на задний двор и там, подальше от миссис Бартер, поверила ей под страшным секретом свою тайну:
— Сударыня! Помогите мне уехать отсюда! Я попала в беду, и скоро все откроется. Что мне делать?
Миссис Пендайс содрогнулась; и всю дорогу домой повторяя про себя: «Бедняжка, бедняжка!», — она ломала голову над тем, кому бы довериться, у кого искать помощи; и страх, который испытывала бледная черноглазая девушка, поселился и в ее душе, ибо обратиться было не к кому — даже и к миссис Бартер, чье сердце, хотя и отзывчивое, было собственностью ее мужа, преподобного Хассела Бартера. Вдруг ее словно осенило: она вспомнила о Грегори.
«Но как я напишу ему об этом, — колебалась она, когда мой сын…»
И все-таки она написала, ибо инстинкт Тоттериджей говорил ей, что никто и никогда не сможет отказать ей в просьбе; к тому же она хотела коснуться в письме, как бы между прочим, и того, что не давало ей покоя. На листке бумаги с гербом и девизом Пендайсов «Strenuus aureaque penna» [4] она написала:
«Дорогой Григ!
Не могли бы Вы помочь одной бедной девушке, которая «попала в беду», Вы понимаете, что я хочу сказать. В наших краях это — такое страшное преступление, а она так жалка и несчастна, бедняжка. Ей всего двадцать лет. Хорошо бы где-нибудь укрыть ее на это время и подыскать место, куда бы она могла уехать потом. Она говорит, что все от нее отвернутся, когда узнают… Я уже давно заметила, какая она бледная, несчастная, с такими огромными черными испуганными глазами. Я не хочу обращаться к мистеру Бартеру, он прекрасный человек во многих отношениях, но слишком уж строгий, а Хорэс, разумеется, тоже ничего не станет делать. Я очень хочу ей помочь: я смогу ей дать денег, но куда ей сейчас деться, не представляю себе — в этом вся трагедия. Ее гложет мысль, что куда бы она ни уехала, все равно все откроется. Ужасно, не правда ли? Очень, очень прошу, помогите ей.
Я немного беспокоюсь о Джордже. Надеюсь, что он здоров. Если будете проезжать мимо его клуба, загляните туда и спросите о нем. Он иной раз ленится писать. Будем! рады видеть Вас в Уорстед Скайнесе, милый Григ. В деревне сейчас прелестно, особенно хороши дубы, и яблони еще цветут, но у Вас, верно, все дела. Как Элин Белью? Она в городе?
Любящая Вас кузина
Марджори Пендайс».
В тот же день, в четыре часа пополудни, грум, едва переводя дыхание, сообщил дворецкому, что на ферме Пикока пожар. Дворецкий тотчас проследовал в библиотеку. Мистер Пендайс, усталый и мрачный, все утро проведший на лошади, стоял в костюме для верховой езды перед планом Уорстед Скайнеса.
— Что вам, Бестер?
— На ферме Пикока пожар, сэр.
Мистер Пендайс широко раскрыл глаза.
— Что? — вскричал он. — Пожар среди бела дня? Чепуха!
— С переднего крыльца видно пламя, сэр.
Усталость и раздражение мгновенно слетели с лица мистера Пендайса.
— Немедленно ударить в колокол! Всех с ведрами и лестницами на пожар! Пошлите Хидсона верхом в Корнмаркет. Надо дать знать Бартеру и поднять всю деревню! Да что вы стоите здесь, прости меня господи! Идите звонить!
Схватив шляпу и хлыст, сквайр бросился вон, спаньель Джон — за ним.
Перескочив через перелаз, он тяжело побежал по тропке через ячменное поле, а впереди него, не разобрав, в чем дело, весело мчался слегка удивленный спаньель. Сквайр скоро стал задыхаться: последний раз он бежал четверть мили двадцать лет назад. Однако не сбавил ходу. На некотором расстоянии впереди маячила спина грума, позади бежали работник с лакеем. Забил колокол на конюшне Уорстед Скайнеса. Мистер Пендайс перескочил через второй перелаз и на дороге носом к носу столкнулся с мистером Бартером, лицо которого от быстрого бега сделалось пунцовым, как помидор. Оба затрусили рядом.
— Бегите, не ждите меня, — наконец, едва переводя дух, проговорил мистер Пендайс, — и скажите там, что я сейчас буду!
Священник был этим не очень доволен — он тоже изрядно устал, — однако, отдуваясь, побежал дальше. Сквайр, держа руку на боку, с трудом подвигался вперед; он совсем выбился из сил. Вдруг на повороте в проеме между деревьями он увидел бледные в ярком солнечном свете языки пламени.
— Господи помилуй! — воскликнул он и в ужасе снова пустился бежать. Зловещие красные языки плясали над амбаром, стогами, крышами конюшен, над коровником. Возле суетились фигурки — человек пять-шесть, — передавая друг другу ведра. Тщетность их усилий не дошла до сознания мистера Пендайса. Дрожа всем телом, с сосущей болью в легких, он сбросил сюртук, вырвал из рук здоровенного батрака ведро, которое тот выпустил из рук с почтительным страхом, и присоединился к цепочке заливавших пожар. Мимо него пробежал Пикок, хозяин фермы; его лицо и рыжая борода были одного цвета с пламенем, которое он силился загасить, слезы то и дело скатывались по его багровым щекам. Его жена, маленькая смуглая женщина с перекосившимися губами, яростно качала воду. Мистер Пендайс крикнул ей прерывающимся голосом:
— Какой ужас, миссис Пикок, какой ужас!
Выделяясь из всех своим черным сюртуком и белыми манжетами, священник рубил топором стену коровника: дверь уже была объята огнем. Перекрывая общий шум, слышался его голос: он объяснял, где лучше рубить, но никто не обращал на него внимания.
— Что в коровнике? — задыхаясь, прокричал мистер Пендайс.
Миссис Пикок голосом, охрипшим от напряжения и горя, ответила:
— Старая лошадь и две коровы!
— Господи, спаси и помилуй! — проговорил сквайр, бросаясь вперед с ведром.
Подбежали несколько крестьян, он что-то крикнул им, — что, ни он сам, ни они не могли разобрать. Ржание и фырканье лошади, мычание коров, ровное гудение пламени — все это поглощало остальные звуки. Из голосов был различим только голос священника в перерывах между ударами топора по дереву.
Мистер Пендайс поскользнулся и упал, ведро покатилось в сторону. Он лежал и не мог подняться. В ушах его звучали глухие удары топора и команды священника. Кто-то помог ему встать, и, едва держась на ногах от охватившей его дрожи, он вырвал из рук высокого молодого парня, только что подоспевшего на помощь, топор и, встав рядом со священником, принялся нетвердой рукой рубить стену. Внутри коровника бушевало пламя, из дыры, которая с каждой минутой становилась шире, валил дым. Сквайр и священник не сдавались. Яростным ударом мистер Бартер развалил стену. Сзади раздались возгласы одобрения, но из коровника никто не появился: лошадь и коровы задохнулись в огне.
Сквайр, которому была видна внутренность сарая, выронил топор и закрыл лицо руками. Священник издал возглас вроде глухого проклятия и тоже бросил топор.
Через два часа в изодранной, вымазанной сажей одежде сквайр стоял возле обгорелых остатков амбара. Огонь унялся, но головни еще тлели. Спаньель Джон, взволнованный, запыхавшийся, лизал башмаки хозяина, как будто вымаливая прощение за свою трусость: он все время держался подальше от огня, а глаза его словно говорили:
«Нельзя ли обходиться без такого большого огня, хозяин?»
Черная рука схватила руку сквайра, хриплый голос проговорил:
— Я никогда этого не забуду, мистер Пендайс.
— Ну, полно, Пикок, — ответил сквайр, — пустое! Надеюсь, вы застрахованы?
— Застрахован-то застрахован; да только как вспомню про бедную скотину…
— Ужасно! — с содроганием ответил сквайр. Домой он возвращался в карете вместе с мистером
Бартером. У ног хозяев, свернувшись, лежали собаки, тихонько рыча друг на друга. Отбытие сквайра со священником сопровождалось приветственными возгласами.
Оба молчали в крайнем изнеможении. Вдруг мистер Пендайс сказал:
— Не идут у меня из головы эти несчастные животные, Бартер!
Священник поднес руку к глазам.
— Господи, не приведи мне еще раз увидеть подобное! Бедные твари, бедные твари!
Священник незаметно нащупал морду своего пса, тот ткнулся ему в ладонь мягким, теплым резиновым носом и потом долго лизал ее.
В своем углу мистер Пендайс незаметно проделал то же самое.
Карета завернула сперва к дому священника, где на пороге его ожидали жена и дети. Соскочивши на землю, мистер Бартер просунул голову в карету:
— До свидания, Пендайс! Боюсь, что вы завтра спины не разогнете. Меня жена разотрет хорошенько бальзамом Эллимана.
Мистер Пендайс кивнул, приподняв шляпу, и карета покатила. Откинувшись на спинку сиденья, он закрыл глаза в приятном изнеможении. Да, завтра ему не разогнуть спины, но он выполнил свой долг. Он показал им всем, что такое кровь, прибавил еще один кирпичик к той системе, олицетворением? которой был он сам, Хорэс Пендайс. И к Пикоку он питал теперь новое, доброе чувство. Нет ничего лучше небольшой опасности для сближения людей. Именно в такие минуты низшие классы начинают сознавать, что им нужен вожатый!
Над его коленями появилась голова Джона: зрачки смотрят вверх, и под ними розовое.
«Хозяин, — как будто говорил он. — Я чувствую, что становлюсь стар. Я знаю, что мне недоступно многое, но ты, понимающий все, устрой так, чтобы мы не расставались и после смерти».
У въезда в аллею карета остановилась, и мысли Пендайса потекли в ином направлении. Двадцать лет назад он бы обогнал Бартера. Бартеру сейчас сорок пять. Прибавить ему его пендайсовские четырнадцать, и еще неизвестно, кто бы прибежал первый. Он почувствовал странное раздражение против Бартера. Отлично вел себя на пожаре. Ну да и он сам был молодцом. Но эллимановский бальзам, пожалуй, — слишком сильное средство. Гомосея лучше. Марджори придется хорошенько растереть его. И вдруг, по ассоциации назвав имя жены, он тут же вспомнил сына, и от душевного покоя не осталось и следа. Спаньель Джон, давно почуяв близость дома, тихонько скулил, беспечно ударяя остатком! своего хвоста по сапогам хозяина.
Нахмурив брови и с трясущейся нижней губой, сквайр с трудом выбрался из кареты и, тяжело ступая, стал медленно подниматься по лестнице в комнату жены.
ГЛАВА VI ХАЙД-ПАРК
Каждый год в мае выпадает день, когда в Хайд-парке все необычно. Прохладный ветерок шевелит листву, горячее солнце блещет на воде Серпантайна, на каждом кустике, на каждой травинке. Птицы заливаются на разные голоса, оркестр играет самые веселые мелодии, белые облака плывут высоко в синем небе. Чем, почему этот день отличается от вереницы подобных ему, уже бывших и поджидающих еще свой черед, сказать невозможно; но как будто весь парк решил: «Я живу сегодня. Прошлое прошлым, а до будущего мне дела нет!»
И всякий, кто забредет в Хайд-парк в такой денек, не избежит действия его весенних чар. Шаг становится быстрее и легче, юбки колышутся веселее, трости взлетают выше, появляется даже блеск в глазах, в тех самых глазах, в которых всегда скука от вида улиц; и каждый, у кого есть любимая, мечтает о ней; а там» и сям в нарядной толпе видишь его вместе с ней. И весь парк и каждый встречный приветливо улыбаются и кивают им.
В такой-то день у леди Молден в ее квартире на Принс-Гейт собрались обсуждать положение женщин-работниц. Разгорелся спор после того как один из выступавших неопровержимо доказал, что женщины из рабочего класса не имеют ровным счетом никакого положения.
Грегори Виджил и миссис Шортмэн вышли от леди Молден вдвоем и, перейдя через Серпантайн, пошли прямо по траве.
— Миссис Шортмэн, — сказал Грегори, — не кажется ли вам, что мы все немного сошли с ума?
Шляпу он нес в руке, и его прекрасные седые волосы, растрепавшиеся в пылу спора у леди Молден, так и остались в беспорядке.
— Да, мистер Виджил. Только я что-то не…
— Мы все немного сошли с ума! Что, собственно, значат речи леди Молден? Мне она в высшей степени неприятна.
— О мистер Виджил! У леди Молден самые лучшие намерения!
— Лучшие намерения? Она мне отвратительна. И чего ради мы убили столько времени в этой душной гостиной! Взгляните на небо!
Миссис Шортмэн взглянула на небо.
— Но, мистер Виджил, — заговорила она, волнуясь, — мне кажется иногда, что вы видите вещи не такими, какие они есть, а какими они должны быть! Путь, по которому вы идете…
— Млечный Путь, — сказал вдруг Грегори.
Миссис Шортоэн поджала губы: она никак не могла привыкнуть к его манере шутить.
Остаток пути разговор у них не вязался. В редакции мисс Мэллоу, сидя за машинкой, читала роман.
— Для вас несколько писем, мистер Виджил.
— Миссис Шортмэн считает, что я не могу трезво судить о вещах, ответил Грегори, — а вы как думаете, мисс Мэллоу?
Румянец со щек мисс Мэллоу пополз на ее шею и покатые плечи.
— О, нет! Вы судите трезво, мистер Виджил, только… может, мне кажется… Я не знаю, вы хотите иногда добиться невозможного.
— Билкок Билдингс!
Минуту все молчали. Затем миссис Шортмэн, сидя за своим бюро, начала диктовать, и машинка затрещала.
Грегори, прочитав письмо, сидел неподвижно, опустив голову на руки. Миссис Шортмэн перестала диктовать, машинка утихла. Но Грегори не двигался. Обе женщины повернулись, посмотрели на него. Затем взглянули друг на друга и отвели глаза в стороны. Через несколько секунд обе опять устремили взгляды на Грегори. Грегори сидел все в той же позе, не двигаясь. В глазах женщин появилось беспокойство.
— Мистер Виджил, — наконец проговорила миссис Шортмэн, — мистер Виджил, как, по-вашему…
Грегори поднял голову, его лицо было красно до корней волос.
— Прочтите это, миссис Шортмэн.
Отдав ей письмо на голубоватом листке с орлом и девизом «Strenuus aureaque penna», он встал и принялся расхаживать по комнате. И пока он легкими, крупными шагами ходил взад и вперед, миссис Шортмэн, не отрываясь, читала, а девушка за машинкой сидела неподвижно. Лицо ее было красно от ревнивой зависти.
Миссис Шортмэн положила листок на верхнюю полку бюро и сказала, не поднимая глаз:
— Конечно, очень жаль бедную девушку, но, в сущности, мистер Виджил, так должно быть, чтобы сдерживать… сдерживать…
Грегори остановился; поймав его сверкающий взгляд, миссис Шортмэн сбилась с мысли, — этому взгляду, подумалось ей, не дано видеть вещи в их реальном свете. Повысив голос, она продолжала:
— Если бы не страх перед позором, числа не было бы подобным случаям. Я знаю деревню, мистер Виджил, лучше, чем вы.
Грегори зажал уши.
— Мы должны немедленно найти для нее приют.
Окно было раскрыто настежь, так что он не мог распахнуть его еще шире, и он стоял и смотрел в небо, будто отыскивая этот приют.
А небо, на которое он глядел, было голубое, и белые птицы-облака летели в его глубине.
Он вернулся к столу и принялся за следующее письмо…
«Линкольнс-Инн-Филдс
24 мая, 1892.
Дорогой Виджил!
Я вчера видел Вашу подопечную и узнал от нее одно обстоятельство, которое Вам еще не известно и которое, я боюсь, причинит Вам боль. Я спросил ее прямо, можно ли посвятить во все Вас, и она ответила: «Ему лучше узнать, только мне жаль его». Короче говоря, дело вот в чем: то ли Белью почуял, что за ним следят, то ли кто-то подсказал ему эту мысль, только он предвосхитил нас и начал дело против Вашей подопечной, назвав в качестве соответчика Джорджа Пендайса. Джордж был у меня и показал повестку из суда. Он сказал, что в случае необходимости готов показать под присягой, что между ними ничего не было. Словом, он занял обычную позицию «благородного человека».
Я тотчас поехал к миссис Белью. И она сказала мне, что обвинение справедливо. Я спросил, хочет ли она защищать себя в суде и предъявить встречный иск против мужа. Ответ был таков: «Мне решительно все равно». Больше я ничего от нее не добился, и, как ни странно, я верю, что так оно и есть. Мне показалось, что она настроена весьма беспечно и не питает к мужу недоброжелательства.
Мне нужно повидать Вас, но после того, как Вы обдумаете все хорошенько. Я обязан высказать Вам свои соображения. Дело, если будет разбираться, доставит большие неприятности Джорджу, но еще больше его близким — даже может оказаться губительным для них. В подобных случаях почти всегда больше всех страдают невинные. Если подать встречный иск, то, принимая во внимание положение Пендайсов в обществе, можно с уверенностью сказать, мы будем свидетелями еще одного cause celebre [5], рассмотрение дела займет дня три, а быть может, и неделю, и об этом будут кричать все газеты; а вы знаете, что это значит. С другой стороны, отказ от встречного иска, при том, что нам известно о капитане Белью, помимо чисто этических соображений, неприятен мне как старому бойцу. Мой совет поэтому: сделайте все возможное, чтобы не допустить дело до рассмотрения в суде.
Я старше Вас на тринадцать лет. Я питаю к Вам искреннее уважение и очень хочу уберечь Вас от ненужных страданий. Во время моих встреч с Вашей подопечной я имел возможность наблюдать ее; и, рискуя обидеть Вас, я все-таки выскажу свое о ней мнение. Миссис Белью замечательная женщина в своем роде. Но два-три замечания о ней, сделанные Вами в моем присутствии, убедили меня, что миссис Белью совсем не то, что Вы себе представляете. Она, на мой взгляд, принадлежит к тем энергическим натурам, для которых наша мораль, наше одобрение или неодобрение ровно ничего не значат. Когда подобная женщина, происходящая к тому же из старинного рода, попадает в свет, она всегда обращает на себя внимание. Если Вы поймете это, то убережете себя от ненужной боли. Другими словами, я прошу Вас, не принимайте ее и ее обстоятельства слишком серьезно. Таких женщин и мужчин, как она и ее муж, сколько угодно. Там, где другой утонет, миссис Белью выплывет просто потому, что иначе она не может. И еще прошу Вас, постарайтесь видеть вещи в их истинном свете.
Простите, Виджил, то, что я пишу Вам все это, и поверьте: моя единственная цель уберечь Вас от страданий.
Приезжайте ко мне, как только все обдумаете.
Искренне Ваш
Эдмунд Парамор».
Грегори пошатнулся, словно внезапно ослеп. Обе женщины вскочили со своих мест.
— Что с вами, мистер Виджил? Чем-нибудь помочь?
— Спасибо, ничего не надо. Я получил неприятное известие. Пойду подышать свежим воздухом. Сегодня я больше не вернусь.
Он взял шляпу и вышел.
Он зашагал к Хайд-парку, бессознательно устремляясь туда, где больше простору, где самый чистый воздух; он шел, заложив руки за спину, опустив голову. А поскольку природа, как известно, — дама иронического склада, то и случилось так, что Грегори отправился за утешением в парк именно в этот день, когда все там ликовало. Уйдя подальше, он лег на траву. Долгое время он лежал, не двигаясь, закрыв глаза руками и, несмотря на совет Парамора не страдать, предавался самому отчаянному страданию.
Он страдал от горького чувства одиночества; в сущности, он был очень одинок, а теперь потерял то единственное, что, как думал, у него было. Невозможно определить, отчего он страдал больше: оттого ли, что, любя ее, он втайне лелеял мечту, что и она его хоть немного любит, или оттого, что ее портрет, который он создал для себя, оказался безжалостно искромсанным. И он лежал так, сперва ничком, потом на спине, не отнимая рук от глаз. Вокруг него лежали на траве люди, и одинокие, и, быть может, голодные, одни спали, другие наслаждались праздностью, третьи просто нежились под горячим солнцем; рядом с некоторыми были их подружки, их вид был нестерпим Грегори, ибо его собственные чувства, его душа были растоптаны. Рядом, на деревьях, ни на секунду не умолкая, ворковали голуби, беспрерывно звенела любовная песенка дроздов, солнце лило свой ласковый, горячий свет, не замедляли бега гонимые весенним томлением облака. Это был день, не имеющий прошлого, не заботящийся о будущем, день, когда человеку не благо быть одному. Мужчины не смотрели на Грегори — им не было до него дела, но женщины порой поглядывали с любопытством на его длинную фигуру, облаченную в костюм из твида, на руку, прячущую лицо, и, должно быть, гадали, что скрыто у него в глазах. А если бы они увидели, то улыбнулись бы (как умеют улыбаться женщины), что он так ошибся в одной из представительниц их пола.
Грегори лежал без движения, и лицо его было устремлено в небо; он был рыцарски предан ей и не винил ее, а его душа, как струна, натянутая до предела, мало-помалу возвращалась к своему обычному состоянию: поскольку ему невыносимо было видеть вещи в их собственном свете, он снова стал видеть их такими, какими хотел их видеть. «Ее против воли вовлекли в это. Во всем виноват Джордж Пендайс. Для меня она все та же».
Он опять лег ничком. Какая-то заблудившаяся собачонка обнюхала его башмак и села рядом, дожидаясь, когда этот человек отведет ее к хозяину; потому что нос подсказал ей, что это именно тот человек, к которому можно обратиться за помощью.
ГЛАВА VII ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО В УОРСТЕД СКАЙНЕСЕ
Когда наконец пришел ответ от Джорджа, в шотландском саду Уорстед Скайнеса уже буйно цвели ирисы. Они были всевозможных оттенков, от густо-лилового до бледно-голубого, и их аромат, нежный и сильный, разносился ветром.
Дожидаясь письма, мистер Пендайс взял за привычку прохаживаться между клумбами, заложив руку за спину, которая все еще с трудом разгибалась. За ним следом трусил спаньель Джон, черный, как жук, недовольно крутя своим резиновым носом.
Оба проводили таким образом время с двенадцати до часу каждый день. И оба не могли бы сказать, что заставляет их бродить здесь, ибо мистер Пендайс ненавидел безделье, а спаньель Джон терпеть не мог запаха ирисов; видимо, оба повиновались той части своего «я», которая не подвластна рассудку. Следуя внушению той же частицы своего «я», миссис Пендайс, томившаяся без своих цветов, не выходила в сад в этот час.
И вот наконец ответ от Джорджа пришел.
«Клуб стоиков.
Дорогой папа!
Да, Белью начал дело. Я принимаю свои меры. Что же касается обещания, которого вы ждете от меня, я его дать не могу. А Белью скажите от меня, чтобы он убирался ко всем чертям.
Ваш любящий сын Джордж».
Мистер Пендайс получил письмо за завтраком, и пока он его читал, стояла глубокая тишина: все узнали почерк на конверте.
Мистер Пендайс прочитал его раз, прочитал другой, сперва в очках, потом сняв очки; окончив читать второй раз, он свернул его и положил в жилетный карман. При этом он не произнес ни слова. И только раздраженно посмотрел провалившимися за эти несколько дней глазами на бледное лицо жены. Би и Нора нагнули головы пониже; и даже собаки, словно все понимая, прекратили возню. Мистер Пендайс отодвинул тарелку, встал и вышел из комнаты.
Нора подняла голову:
— Что случилось, дама?
Миссис Пендайс секунду не знала, что сказать. Потом спокойно проговорила:
— Ничего, дорогая. Жарко сегодня с утра, не правда ли? Надо взять нюхательной соли.
И она пошла к двери, дряхлый Рой следовал за ней по пятам. Спаньель Джон, перед самым носом которого хозяин захлопнул дверь, воспользовался случаем и выбежал первый. Нора и Би отодвинули тарелки.
— Я не могу есть, — сказала Би. — Ужасно, когда не знаешь, что происходит.
Нора ответила:
— Просто невыносимо! Ну почему мы не родились мужчинами? Что фокстерьеры, что мы с тобой: хоть умри, никто ничего нам не расскажет!
Миссис Пендайс пошла не к себе в комнату, а в библиотеку. Ее муж сидел за столом, глядя на письмо Джорджа. В руке у него было перо, но он не писал.
— Хорэс, — тихо окликнула его жена, — Джон пришел к тебе!
Мистер Пендайс ничего не ответил, но опустил вниз левую руку. Спаньель Джон ткнулся в нее носом и принялся лизать ее.
— Позволь мне прочесть письмо.
Мистер Пендайс протянул письмо, не сказав ни слова. Миссис Пендайс благодарно положила руку ему на плечо. Его необычное молчание тронуло ее. Он ничего не заметил, уставившись на перо, будто удивляясь, почему оно само не пишет ответа. Затем отшвырнул его в сторону, а взгляд его говорил: «Ты родила на свет этого молодца, полюбуйся, что получилось!»
Он все эти дни думал и точно определил слабые стороны в характере своего сына. За эту неделю он утвердился в мысли, что, если бы не жена, Джордж был бы весь в него. С его уст были готовы сорваться слова упрека, но замерли. Неуверенность, что жена согласится с ним, сознание того, что она жалеет сына, тайная гордость, которую он испытал, читая слова: «А Белью скажите от меня, чтобы он убирался ко всем чертям», — все это вместе с мыслью, никогда не покидавшей его: «Честь семьи, усадьба», заставило его промолчать. Он повернулся к столу и взялся за перо.
Миссис Пендайс успела три раза перечитать письмо и невольно спрятала его у себя на груди. Оно было адресовано не ей, но Хорэс, несомненно, знал его наизусть, а в гневе мог и порвать. Письмо, которое они так ждали, не сказало ей ничего нового. Рука ее соскользнула с плеча мужа, и она больше не подняла ее. Она стояла, сплетая и расплетая пальцы, а солнечный свет, падая сквозь узкое окно, ласкал всю ее фигуру, искрился в волосах. Солнечный луч зажигал крохотные озерца то в ее глазах, отчего в них яснее виднелись тревога и печаль, то на изящном медальоне из стали, который носили еще ее мать и бабка — но теперь в нем хранился локон Джорджа, а не их сыновей; на бриллиантовых перстнях и браслете из аметистов и жемчуга (миссис Пендайс носила украшения, потому что любила красивые вещи). Ее платье, руки, волосы, согретые солнцем, источали тонкий аромат лаванды. Кто-то скребся за дверью библиотеки — «милые собачки» догадались, что хозяйка не у себя. Лавандовый запах коснулся и обоняния мистера Пендайса, еще усилив его раздраженность. Раздражало его и молчание жены. Однако ему не приходило в голову, что его собственное молчание угнетающе действует на миссис Пендайс. Он отложил перо.
— Я не могу писать, когда ты стоишь у маня над душой, Марджори!
Миссис Пендайс отошла, так что солнечный свет больше не падал на нее.
— Джордж пишет, что он принимает меры. Что это означает, Хорэс, как ты думаешь?
Услыхав от жены вопрос, который занимал и его, он наконец не выдержал:
— Я не желаю больше оставаться в неведении! Я сам поеду в Лондон и поговорю с ним!
Он уехал с поездом в 10.20, обещав вернуться с шестичасовым.
В восьмом часу того же вечера двуколка, запряженная пегой кобылой с белой звездой на лбу, подъехала к станции Уорстед Скайнес, и мальчишка-грум осадил лошадь у кассы. Коляска мистера Пендайса, подъехавшая чуть позже, заняла место позади двуколки. За минуту до поезда подкатил шарабан лорда Куорримена, запряженный парой вороных, объехал коляску мистера Пендайса и двуколку и встал впереди. Поодаль от этого ряда нарядных экипажей ждали поезд станционный извозчик и две фермерские повозки. В этой расстановке был свой смысл и целесообразность, как будто само провидение определяло места. Провидение только в одном ошиблось — поместив напротив кассы двуколку капитана Белью, а не шарабан лорда Куорримена, так чтобы соседом мистера Пендайса оказался именно он.
Первым из вагона вышел мистер Пендайс и, раздраженно глянув на двуколку, проследовал к своему экипажу. Лорд Куорримен появился вторым. Его массивная голова с загорелым, покрытым редкими волосами затылком, незаметно переходящим в шею, была увенчана серым цилиндром. Полы его серого сюртука были квадратные, и такими же квадратными были носки его сапог.
— Здравствуйте, Пендайс! — крикнул он дружески. — Я не видел вас на перроне. Как поживает миссис Пендайс?
Мистер Пендайс обернулся, чтобы ответить, и встретил взгляд маленьких горящих глаз капитана Белью, подошедшего третьим. Они не поздоровались, и Белью, вскочив в свою двуколку, резко дернул вожжи, объехал повозки фермеров и понесся с бешеной быстротой. Его грум бросился со всех ног вдогонку, уцепился и вспрыгнул на запятки. Шарабан лорда Куорримена подвинулся на освободившееся место, и недосмотр провидения был исправлен.
— Этот Белью совсем сумасшедший. Вы видаетесь с ним?
— Нет, и не имею особого желания, — ответил мистер Пендайс. — По мне пусть он лучше уберется куда-нибудь из наших мест.
Лорд Куорримен улыбнулся.
— Там, где есть охота, подобные субъекты не редкость. На всякую свору непременно находится один такой. Где сейчас его жена? Красивая женщина. Много огня, а?
Мистеру Пендайсу показалось, что лорд Куорримен смотрит на него понимающим взглядом, и, пробормотав: «Может быть!», — он полез в коляску.
Лорд Куорримен ласково глядел на своих лошадей. Он не принадлежал к тем людям, что ломают головы над вечными вопросами бытия: как? отчего? зачем? Всеблагой господь создал его лордом Куоррименом, создал его старшего сына лордом Куонтоком; всеблагой господь создал гаддесдонских гончих — помилуйте, чего же еще?
Воротившись домой, мистер Пендайс прошел в свою туалетную. В углу возле ванны лежал спаньель Джон в окружении целого полчища домашних туфель хозяина, — так ему легче было переносить разлуку. Его темно-коричневые глаза глядели на дверь, поблескивая серпом белка. Он подбежал к сквайру, виляя хвостом, с туфлей в зубах, и взгляд его ясно говорил: «О хозяин! Где ты пропадал? Почему тебя так долго не было? Я жду тебя весь день с половины одиннадцатого!»
От сердца мистера Пендайса на секунду отлегло.
— Джон! — ласково позвал он собаку и принялся переодеваться к обеду.
Миссис Пендайс вошла, когда ее муж завязывал свой белый галстук. Она срезала в сврем саду первый розовый бутон; она сделала это потому, что ей было жалко мужа и хотелось сделать ему приятное, но главное потому, что это позволило ей тотчас же пойти к нему в туалетную.
— Вот тебе бутоньерка, Хорэс. Ты видел его?
— Нет.
Этого ответа она боялась больше всего. Она не верила, что их встреча чему-нибудь поможет — весь день ее пробирала дрожь, когда она воображала себе эту встречу; но теперь, когда она узнала, что Хорэс не видел сына, она поняла по тому, как сжалось сердце, что любой исход был бы лучше, чем неизвестность. Она долго ждала, чтобы он заговорил, и, наконец, не выдержав, воскликнула:
— Расскажи мне, Хорэс, что было в Лондоне? Мистер Пендайс желчно взглянул на жену.
— Рассказывать нечего. Я поехал к нему в клуб. Он больше не живет на старой квартире. Прождал его весь день. Наконец оставил записку, чтобы он завтра приехал сюда. Послал за Парамором, пригласил и его в Уорстед Скайнес. Я положу этому конец!
Миссис Пендайс посмотрела в окно: все та же заросшая кустами ограда, те же рощи, шпиль над церковью, кровли фермерских домиков — все, что столько лет составляло ее мир.
— Джордж не приедет, — сказала она.
— Джордж сделает то, что я ему велю.
Миссис Пендайс покачала головой: материнским чутьем она знала, что права.
Мистер Пендайс бросил застегивать жилет.
— Пусть Джордж не забывается. Он в полной зависимости от меня.
И он перестал хмуриться, как будто в этих словах открылась ему вся суть создавшегося положения, весь смысл системы, управляющей жизнью его сына. На миссис Пендайс эти слова оказали странное действие. Они поразили ее ужасом. Точно она увидела хлыст, занесенный над голой спиной ее сына, точно перед ним в холодную ночь захлопнули дверь. Но, кроме ужаса, было еще более мучительное и горькое чувство, как будто пригрозили хлыстом ей самой, осмелились выказать непочтение тому в ее душе, что было для нее дороже жизни, что было в ее крови, что накапливалось столетиями и вошло в самую ее плоть, что никто еще никогда не оскорблял. В ту же секунду в ее голове молнией пронеслась до смешного практическая мысль: «У меня есть собственные триста фунтов в год». Потом это сложное чувство пропало, как пропадают во сне внезапно возникшие кошмарные видения, оставляя после себя глухую боль в душе, причина которой исчезла из памяти.
— Гонг, Хорэс! — сказала миссис Пендайс. — У нас сегодня обедает Сесил Тарп. Я пригласила Бартеров, но бедняжка Роза чувствует себя неважно. Теперь уже совсем скоро. Ожидают 15 июня.
Мистер Пендайс взял у жены свой фрак и сунул руки в рукава на атласной подкладке.
— Если бы я мог заставить своих фермеров обзаводиться такими большими семьями, — сказал он, — у меня бы не было нехватки рабочих рук. Но эти люди очень упрямы, все делают по-своему. Подай мне одеколон, Марджори!
Миссис Пендайс побрызгала из флакончика в плетеном футляре на платок мужа.
— У тебя усталые глаза, дорогой, — сказала она, — голова болит?
ГЛАВА VIII ВОЕННЫЙ СОВЕТ В УОРСТЕД СКАЙНЕСЕ
На следующий вечер, когда ожидался приезд сына и мистера Парамора, сквайр, облокотившись на обеденный стол и подавшись вперед, говорил:
— Что вы на это скажете, Бартер? Я сейчас обращаюсь к вам» как к человеку, знающему жизнь.
Священник, нагнувшись к рюмке с портвейном и пригубив, ответил:
— Эту женщину ничто не может оправдать. Я всегда считал, что у нее дурные наклонности.
Мистер Пендайс продолжал:
— Наша семья не знала скандалов. При мысли об этом меня бросает в дрожь, Бартер.
Священник что-то промычал в, ответ. Он столько лет был знаком со сквайром, что чувствовал к нему какую-то привязанность.
Мистер Пендайс говорил:
— Наш род — от отца к сыну, от отца к сыну — насчитывает сотни лет. Для меня это такой удар, Бартер!
Священник опять издал звук, похожий на мычание.
— Что будут думать соседи? — продолжал сквайр, — и особенно фермеры. Это беспокоит меня больше всего. Многие еще помнят моего дорогого отца, хотя нельзя сказать, чтобы они его очень любили. Нет, это невыносимо.
Наконец священник заговорил:
— Полно, Пендайс, может быть, до этого не дойдет. — Он казался несколько смущенным, а в глубине его светлых глаз притаилось даже нечто вроде раскаяния. — Как отнеслась к этому миссис Пендайс?
Сквайр первый раз за весь вечер поднял глаза на Бартера.
— От женщин разве добьешься толку? Чем ждать от женщины дельного совета, так уж лучше разом! выпить всю эту бутыль, чтобы разыгралась подагра.
Священник допил свою рюмку.
— Я вызвал сюда Джорджа и своего поверенного, — продолжал сквайр. — Они вот-вот будут.
Мистер Бартер отодвинул стул, заложив ногу на ногу, обхватил руками правое колено, а затем, подавшись вперед, устремил взгляд из-под нависших бровей на мистера Пендайса. В этой позе ему лучше всего думалось.
А мистер Пендайс все говорил:
— Сколько труда я вложил в эту усадьбу с тех пор, как она перешла ко мне! Я, как мог, старался следовать традициям отцов; возможно, я не всегда был таким рачительным хозяином, каким бы хотел, но я всегда помнил слова отца: «Я уже стар, Хорри, теперь усадьба на твоих руках».
Он закашлялся.
Минуту оба молчали, только тикали часы. Спаньель Джон неслышно выполз из-под буфета и привалился к хозяйским ногам, глубоко вздохнув от удовольствия. Мистер Пендайс глянул вниз.
— Отяжелел мой Джон, отяжелел.
Тон его голоса давал понять, что он хотел бы, чтобы его приступ откровенности был предан забвению. И священник всей душой одобрил это желание.
— Превосходный портвейн, — сказал он.
Мистер Пендайс опять наполнил рюмку священника.
— Запамятовал, знакомы ли вы с Парамором. Он старше вас. В Хэрроу учился со мной.
Священник долго не отрывался от рюмки.
— Я боюсь быть лишним, — наконец проговорил он, — пожалуй, мне лучше пойти домой.
Сквайр протянул руку, протестуя:
— Нет, нет, Бартер, останьтесь. Вы для нас свой человек. Я решил действовать. Я не могу больше выносить эту неопределенность. Сегодня будет и кузен Марджори — Виджил, ее опекун. Я послал ему телеграмму. Вы знаете Виджила? Он был в Хэрроу одновременно с вами.
Священник покраснел, нижняя губа выпятилась. Он почуял врага, и ничто теперь не заставило бы его покинуть Уорстед Скайнес. И убеждение в том, что он поступил правильно, слегка поколебленное исповедью Хорэса, укрепилось мгновенно, как только уха его коснулось это имя.
— Да, я знаю его.
— Мы сегодня все и обсудим, — сказал мистер Пендайс, — здесь, за этим портвейном. А вот уже и подъехал кто-то. Джон, встань!
Спаньель Джон тяжело поднялся, взглянул презрительно на мистера Бартера и снова лег на ногу хозяина.
— Вставай, Джон! — приказал опять мистер Пендайс.
Спаньель Джон вздохнул.
«Если я встану, ты уйдешь, и снова для меня начнется неопределенность», — казалось, говорил он.
Мистер Пендайс освободил ногу, встал и пошел к двери. Не дойдя, оборотился и вернулся к столу.
— Бартер, — проговорил он, — я не о себе думаю, не о себе… Наш род из поколения в поколение живет на этой земле. Это мой долг. — В его лице была чуть заметная перекошенность, как будто она, отражала некоторую непоследовательность его философии; глаза его смотрели печально, и покоя в них не было.
Священник, не спуская глаз с двери — оттуда каждую минуту мог появиться его враг, — тоже подумал:
«И я не думаю о себе! Я уверен, что я поступил правильно. Я пастырь этого прихода. Это мой долг».
Спаньель Джон пролаял три раза — по числу вошедших. Это были миссис Пендайс, мистер Парамор и Грегори Виджил.
— А где Джордж? — спросил сквайр, но никто не ответил.
Священник, вернувшийся на свое место, рассматривал золотой крестик, который вынул из жилетного кармана. Мистер Парамор взял вазочку и стал нюхать розу. Грегори подошел к окну.
Когда до сознания мастера Пендайса дошло, что сын его не приехал, он подошел к двери и отворил ее.
— Марджори, будь добра, уведи Джона, — сказал он. — Джон!
Спаньель, увидев распахнутую дверь и поняв, что это означает, лег на спину.
Миссис Пендайс посмотрела на мужа, и в глазах ее были слова, которые она, как истинная леди, не умела произнести.
«Я должна остаться. Позволь мне не уходить. Это мое право. Не отсылай меня прочь». Вот что говорили ее глаза, и то же самое говорили глаза спаньеля, лежавшего на спине (он знал: так его трудно сдвинуть с места).
Мистер Пендайс ногой перевернул его.
— Вставай, Джон! Марджори, будь добра, уведи отсюда Джона.
Миссис Пендайс вспыхнула, но не сделала ни шагу.
— Джон, иди со своей хозяйкой, — сказал мистер Пендайс. Спаньель завилял опущенным хвостом. Мистер Пендайс ногой чуть-чуть придавил его хвост. — Это не женское дело.
Миссис Пендайс наклонилась к спаньелю.
— Идем, Джон, — сказала она.
Спаньель Джон, показывая белки глаз, упирался, так что ошейник налезал ему на морду; наконец его вывели. Мистер Пендайс затворил дверь.
— Хотите портвейну, Виджил? Вино сорок седьмого года. Мой отец заложил его в пятьдесят шестом, за год перед своей смертью. Сам я пить его не могу и я, знаете ли, заложил две бочки в год Юбилея [6]. Наливайте себе, Парамор. Виджил, садитесь рядом с Парамором. Вы знакомы с мистером Бартером?
Лица Грегори и священника стали очень красными.
— Мы все здесь бывшие воспитанники Хэрроу, — продолжал мистер Пендайс, и, неожиданно повернувшись к мистеру Парамору, добавил:
— Ну, так что же?
Точно так же, как вокруг наследственного принципа стоят Государство, Церковь, Закон, Филантропия, вокруг обеденного стола в Уорстед Скайнесе расположились сейчас сквайр, священник, мистер Парамор и Грегори Виджил, и никто из них не хотел начать разговор первым. Наконец мистер Парамор, вынув из кармана письмо Белью и ответ Джорджа, сколотые вместе и мирно терпящие соседство друг друга, вернул их сквайру:
— Дело, как я понимаю, обстоит следующим образом: Джордж отказывается с ней порвать, но он готов защищаться и отрицать все. Он ожидает, что я буду действовать именно в этом духе.
Взяв со стола вазочку, мистер Парамор опять принялся нюхать розу.
Мистер Пендайс нарушил молчание.
— Как джентльмен, — начал он резким от волнения голосом, — он, я полагаю, должен…
Грегори, натянуто улыбаясь, докончил:
— Лгать.
Мистер Пендайс мгновенно возразил:
— Дело не в этом, Виджил. Джордж вел себя возмутительно. Я не защищаю его, но если эта женщина хочет все отрицать, Джордж не может вести себя подло, — во всяком случае, меня воспитали в таких правилах.
Грегори подпер рукой голову.
— Вся система никуда не годится… — начал он.
Мистер Парамор вмешался:
— Давайте придерживаться фактов. Они и без системы достаточно неприятны.
Первый раз открыл рот священник:
— Я не знаю, что вы имеете в виду под системой, но, по-моему, оба они, и этот мужчина и эта женщина, виноваты в том…
Грегори перебил его дрожащим от гнева голосом:
— Будьте так добры не называть миссис Белью «эта женщина»…
Священник вспыхнул:
— Как же прикажете называть ее?..
Мистер Пендайс голосом, которому несчастье придавало некоторое достоинство, проговорил:
— Господа, дело идет о чести моего дома.
Наступило еще более долгое молчание — глаза мистера Парамора переходили с одного лица на другое, и губы, над розой, растянулись в улыбку.
— Я полагаю, Пендайс, — наконец начал он, — вы пригласили меня сюда, чтобы выслушать мое мнение. Так вот, не доводите дела до суда. Если в вашей власти что-нибудь сделать, делайте. Если в вас говорит гордость, заставьте ее замолчать. Если вам мешает честность, забудьте ее. Между деликатностью и законом о разводе нет ни одной точки соприкосновения; между правдой и нашим законом о разводе нет ничего общего. Я повторяю: не доводите дела до суда. Пострадают все: и безвинный и виноватый; только безвинный пострадает больше, и никто не выиграет. Я пришел к такому выводу по зрелому размышлению. В иных обстоятельствах я, возможно, и посоветовал бы что-нибудь иное. Но в этом случае, я повторяю, никто не выиграет. Надо сделать так, чтобы дело не дошло до суда. Не давайте пищи праздным языкам. Послушайтесь моего совета, напишите еще раз Джорджу, потребуйте с него обещание. Если он опять откажется, что ж, возьмемся тогда за Белью, попытаемся его припугнуть.
Мистер Пендайс слушал, не проронив ни слова: у него с давних пор сложилась привычка не перебивать мистера Парамора. Когда же Парамор кончил, сквайр поднял голову и сказал:
— Это все козни рыжего негодяя! Не понимаю, Виджил, для чего вы затеяли все это. Вы, верно, и навели его как-нибудь на след.
Сквайр желчно поглядел на Грегори. Мистер Бартер тоже взглянул на него, — в его взгляде был вызов и вместе некоторая пристыженность.
Грегори, смотревший перед тем, на свою нетронутую рюмку, поднял голову, — лицо его было красно. Голосом, дрожащим от негодования и гнева, он заговорил, обращаясь к Парамору и стараясь избегать взгляда священника:
— Джордж не имеет права бросить женщину, которая доверилась ему; это будет подло, если хотите. Не мешайте им, пусть они живут вместе честно и открыто, пока не смогут стать мужем и женой. Почему вы все говорите так, будто вы озабочены только положением мужчины? Мы с вами должны защитить женщину!
Священник первый обрел дар речи.
— То, что вы говорите, сущая безнравственность, — произнес он почти добродушно.
Мистер Пендайс встал.
— Стать ее мужем! — воскликнул он. — Да как вы… ведь хуже, страшнее этого… мы только думаем, как избежать этого! Мы на этой земле… отец сын… отец — сын… из поколения в поколение.
— Тем более стыдно, — кричал Грегори, — что вы, потомок этого благородного рода, не можете встать на защиту женщины!
Мистер Парамор досадливо пожал плечами, взывая к его здравому смыслу:
— Во всем нужна золотая середина. Вы уверены, что миссис Белью нуждается в защите? Если нуждается, я с вами согласен. Только так ли это?
— Я даю слово, — ответил Грегори.
Минуту мистер Парамор сидел, подперев рукой голову.
— Мне очень жаль, — наконец сказал он, — но я руководствуюсь своим собственным впечатлением.
Сквайр поднял голову:
— Если дела обернутся наихудшим образом, могу ли я лишить Джорджа наследства — нашего родового поместья?
— Нет.
— Что? Нет… это… это… никуда не годится.
— Надо быть последовательным.
Сквайр глянул на него недоверчиво, затем быстро проговорил:
— Если я ничего не оставлю ему, кроме поместья, он скоро окажется нищим. Прошу прощения, господа. У вас у всех пустые рюмки! Я вовсе потерял голову.
Священник налил себе вина.
— До сих пор я не сказал ни слова, — начал он. — Я считал, что это не мое дело. Мое убеждение таково: слишком много разводов в наши дни. Пусть эта женщина возвращается к своему мужу, и пусть он объяснит ей, как она перед ним виновата. — Его голос и взгляд посуровели. — И пусть они, как подобает христианам, простят друг друга. Вы говорите, — обратился он к Грегори, — о защите женщины. Вот так в наши дни прокладывает себе дорогу безнравственность. Я решительно поднимаю свой голос против подобной сентиментальности. Поднимал и всегда буду поднимать.
Грегори вскочил на ноги.
— Я как-то сказал вам, что вы поступили непорядочно. Я повторяю это опять.
Мистер Бартер встал, наклонившись над столом, лицо его побагровело. Он в упор посмотрел на Грегори, не имея сил выговорить ни слова.
— Один из нас, — сказал он, заикаясь от волнения, — должен покинуть эту комнату!
Грегори хотел было что-то возразить, но, резко повернувшись, вышел на террасу и исчез.
— До свидания, Пендайс, я тоже ухожу, — сказал священник.
Сквайр пожал протянутую руку, на его лице было недоумение и грусть. Когда мистер Бартер вышел, в комнате воцарилось молчание. Сквайр вздохнул.
— Как бы мне хотелось быть сейчас в Оксенхэме, Парамор! Как я мог покинуть свое старое гнездо! Вот и пришла расплата. И зачем только было посылать Джорджа в Итон?
Мистер Парамор глубже уткнул нос в вазу. В этих словах его старого приятеля заключался его «символ веры»: «Верую в отца моего, и в его отца, и в отца его отца, собирателей и хранителей нашего поместья, и верую в себя, сына моего и сына моего сына. И верую, что им создали страну и сохранили ее такую, какая она есть. Верую в закрытые школы и особенно в ту школу, где я учился. Верую в равных мне по общественному положению, в мою усадьбу, верую в порядок, который есть и пребудет во веки веков. Аминь».
Мистер Пендайс продолжал:
— Я не пуританин, Парамор; я понимаю, что Джорджу есть какое-то оправдание; я даже и не против этой женщины; она, пожалуй, слишком хороша для Белью. Да, она, несомненно, слишком хороша для этого мерзавца! Но Джорджу жениться на ней — значит погубить себя. Вспомните леди Розу. Одни только чудаки, считающие звезды, вроде Виджила, не понимают этого. Это конец! Изгнание из общества! Только подумайте, подумайте о моем внуке! Нет, Парамор… нет… нет! Черт побери!
Сквайр закрыл глаза рукой.
Мистер Парамор, хоть у него и не было собственного сына, ответил с искренним сочувствием:
— Успокойтесь, успокойтесь, Пендайс. Увидите, до этого не дойдет.
— Одному богу известно, Парамор, до чего все это может дойти! Нервы мои сдают! Вы же знаете, если их разведут, Джордж будет обязан жениться на ней.
Мистер Парамор на это ничего не ответил и только сжал губы.
— Ваш бедный пес скулит, — сказал он. И, не дождавшись позволения, отворил дверь.
В комнату вошли миссис Пендайс и спаньель, Джон. Сквайр взглянул на них и нахмурился. Спаньель Джон, шумно дыша от радости, терся о его ноги. «Я испытал такие муки, хозяин, — казалось, говорил он, — мне не перенести еще одной разлуки в ближайшее время!»
Миссис Пендайс стояла молча, и мистер Парамор обратился к ней:
— Вы, миссис Пендайс, больше всех нас могли бы повлиять и на Джорджа и на этого Белью… мне кажется, даже на его жену!
Мистер Пендайс не выдержал:
— Не думайте, что я стану унижаться перед этим негодяем Белью!
Мистер Парамор посмотрел на него, как смотрит врач на больного, когда ставит диагноз. Но лицо сквайра в седых бакенбардах и усах, чуть перекошенное влево, с глазами, как у лебедя, решительным подбородком и покатым лбом выражало только то, что и должно было выражать лицо всякого сельского помещика, когда он высказывает подобную мысль.
Миссис Пендайс воскликнула:
— Ах, как бы мне хотелось увидеть сына!
Она так мечтала о встрече с ним, что ни о чем другом сейчас уже не могла и думать.
— Увидеть сына! — воскликнул сквайр. — Ты так и будешь его баловать, пока он не опозорит нас всех!
Миссис Пендайс перевела взгляд с мужа на его поверенного. Волнение окрасило ей щеки непривычным румянцем, губы подергивались, будто она вот-вот что-то скажет.
Но вместо нее сквайру ответил мистер Парамор:
— Нет, Пендайс, если Джордж избалован, так его избаловала система.
— Какая система, — вскричал сквайр, — я никогда не воспитывал его по системе! Я не верю ни в какие системы! Не понимаю, о чем вы говорите! Слава богу, у меня есть еще один сын!
Миссис Пендайс шагнула к мужу.
— Хорэс, — сказала она, — ты же не думаешь…
Мистер Пендайс отвернулся от жены и бросил резко:
— Парамор, вы уверены, что я не могу лишить Джорджа наследства?
— Абсолютно уверен, — ответил мистер Парамор.
ГЛАВА IX ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНДАЙСИЦИТА
Грегори долго бродил по шотландскому саду, созерцая звезды. Одна, самая яркая, висевшая над лиственницами, глядела на него насмешливо, потому что это была звезда любви. Прохаживаясь между тисами, которые росли на этой земле еще до того, как на ней поселились Пендайсы и будут долго жить после них, он остужал свое сердце в голубоватом свете этой большой звезды. Ирисы стояли безуханные, как будто боясь растревожить его чувства, и только иногда из тьмы пахло хвоей молодых лиственниц и далекими полями. Тот же филин, что кричал вечером, когда Элин поцеловала Джорджа в оранжерее, застонал и теперь, когда Грегори бродил здесь, погруженный в печальное раздумье о последствиях этого поцелуя.
Он думал о мистере Бартере и с несправедливостью человека, все принимающего близко к сердцу, рисовал его красками, куда чернее его черного сюртука.
«Вздорный, бестактный, — думал он. — Как он смел говорить о ней в таком тоне!»
Размышления его прервал голос мистера Парамора:
— Все еще остываете, Виджил? Скажите, зачем вы нам все испортили?
— Я ненавижу ложь, — сказал Грегори. — А это замужество моей подопечной — ложь, и больше ничего. Пусть лучше она честно живет с человеком, которого любит.
— Стало быть, таково ваше мнение? — ответил мистер Парамор. — И вы относите это ко всем без исключения?
— Да, ко всем.
— Так-так, — засмеялся Парамор. — Ну и путаники же вы, идеалисты! А помнится, вы говорили мне, что узы брака для вас священны.
— Священны для меня, Парамор. Таковы мои личные взгляды. Но перед нами уже совершенная несправедливость. Этот брак — ложь, гнусная ложь, ему надо положить конец.
— Все это прекрасно, — ответил мистер Парамор, — но если вы свой принцип станете широко применять на практике, то это приведет бог знает к чему. Ведь это значит изменить самый институт брака, так, чтобы он в корне отличался от того, что он есть сейчас. Брак на основе влечения сердец, а не на основе собственности. Вы готовы зайти так далеко?
— Да.
— Вы занимаете столь же крайнюю позицию, как и Бартер. Но ваши позиции противоположны. Из-за вас, экстремистов, и происходят все неприятности. Должна быть золотая середина, мой друг. Я согласен, что-то необходимо сделать. Но вы забываете одно: законы должны соответствовать людям, чье поведение они определяют. Вы слишком устремлены к звездам. Больному лекарство прописывают соответствующими дозами. Да где же ваше чувство юмора?.. Вообразите свою теорию брака примененной к мистеру Пендайсу, к его сыну, к его священнику, к его арендаторам или его батракам.
— Нет-нет, — упорствовал Грегори, — я не верю, что…
— Сельские жители, — спокойно объяснил мистер Парамор, — особенно косны в этих вопросах. В них сильны вскормленные на мясе инстинкты, а благодаря всем этим членам парламента от графств, епископам, пэрам, благодаря всей системе наследования титулов, усадеб, приходов они, сельские жители, задают тон в стране. Существует болезнь — назовем ее хотя бы (пусть это и плохая шутка) пендайсицитом, — которой заражены в провинции буквально все. Эти люди удивительно косны. Они что-то делают, только все наперекор здравому смыслу, ценой бездны ненужных страданий и труда! Такова дань наследственному принципу. Я недаром имел с ними дело в течение тридцати пяти лет.
Грегори отвернулся.
— Да, действительно плохая шутка, — сказал он. — Но я не верю, чтобы они все были такими, как вы говорите! Я не могу допустить этого. Если есть такая болезнь, наше дело — найти от нее лекарство.
— Здесь может помочь только оперативное вмешательство, — сказал мистер Парамор. — А к операции надо определенным образом подготовиться, как было открыто Листером [7].
Грегори ответил, не поворачиваясь:
— Парамор, я ненавижу ваш пессимизм.
Мистер Парамор, глядя в затылок Грегори, сказал:
— Я не пессимист. Отнюдь нет.
Когда фиалка голубая, И желтый дрок, и львиный зев, И маргаритка полевая Цветут, луга ковром одев, Тогда насмешливо кукушки… [8]Грегори повернулся к нему.
— Как можно любить поэзию и придерживаться подобных взглядов! Мы должны построить…
— Вы хотите строить, не заложив фундамента, — сказал Парамор. — Вы позволяете, Виджил, своим чувствам взять верх над рассудком. Закон о браке это всего только симптом. Именно эта болезнь, эта тупая косность делают необходимыми подобные законы. Плохие люди — плохие законы. Что вы хотите?
— Я никогда не поверю, чтобы люди были согласны жить в этом омуте… омуте…
— Провинциализма, — подсказал Парамор. — Вам следует заняться садоводством. Тогда вы поймете то, от чего вы, идеалисты, предпочитаете отмахиваться: что человек, подобно растениям, друг мой, — продукт наследственности и среды. И изменения происходят в нем чрезвычайно медленно. Виноградные гроздья на рябине или финики на чертополохе не вырастут во втором поколении, сколько бы вы ни бились и как бы вам ни хотелось есть.
— По вашей теории, все мы оказываемся чертополохом.
— Социальные законы тем сильнее, чем больше зла они могут причинить, а размеры этого зла зависят, в свою очередь, от идеалов человека, против которого это зло обращается. Если вы отвергнете брачные узы или раздадите свою собственность и пойдете в монастырь, а кругом будет один чертополох, то вас это не будет особенно огорчать, раз вы сами финик, а? Однако заметьте такую странность: чертополох, считающий себя фиником, очень скоро обнаруживает истинную свою природу. Я многое не люблю, Виджил. И среди прочего — безрассудство и самообман. Но Грегори глядел на небо.
— Мы, кажется, отвлеклись от предмета нашего разговора, — сказал Парамор. — Да, пожалуй, пора и в дом. Уже около одиннадцати.
Во всем длинном фасаде белого невысокого дома было освещено только три окна, три глаза, устремленных на серп луны — волшебную ладью, плывущую в ночном кебе. Аспидно-черные стояли кедры. Старый филин умолк. Мистер Парамор схватил Грегори за руку.
— Соловей! Вы слышали, как он засвистел в этой роще? Восхитительный уголок! Я не удивляюсь, что Пендайс так его любит. Вы не рыболов, Виджил? Вам не доводилось наблюдать стайки рыб у берега? Как послушно они следуют за своим вожатым! Так и мы, люди, ведем себя в своей стихии. Слепое стадо, Виджил! Мы ничего не видим дальше своего носа, мы жалкие провинциалы!
Грегори прижал руку ко лбу.
— Я все пытаюсь представить себе, — сказал он, — последствия этого развода для моей подопечной.
— Мой друг, я буду говорить с вами прямо. Ваша подопечная, ее муж и Джордж Пендайс — как раз те люди, для которых и ради которых создавались наши законы о браке. Все трое — люди смелые, легкомысленные, упрямые, и простите меня — кожа у них толстая. Слушание этого дела в суде, если мы станем защищаться, — это неделя ругани, выброшенные на ветер общественные деньги и время. Знаменитым адвокатам оно даст возможность блеснуть, публику снабдит интересным чтивом. Газеты, конечно, будут захлебываться. Словом, все получат огромное удовольствие. Я повторяю, это как раз те самые люди, для которых писан наш закон о разводе. В пользу огласки можно сказать много, но бесспорно одно, что выигрывает при этом бесчувственность, а люди, ни в чем не повинные, проходят через настоящую пытку. Я уже как-то говорил вам: чтобы добиться развода, даже если вы и заслуживаете его, вы должны обладать стальными нервами. Эти трое великолепно выдержат все, а вот на вас и на наших милых хозяевах живого места не останется — и в результате никто не выиграет. Так будет, если мы примем сражение; а сказать по правде, если колесо завертится, не представляю, как можно будет не защищаться, — это противно моему профессиональному инстинкту. Если же мы будем сидеть сложа руки, то попомните мои слова: не успеет еще закон разрешить им соединиться, как они надоедят друг другу; и Джордж окажется вынужденным во имя «морали», как говорил его отец, жениться на женщине, которая опостылела ему или которой он опостылел сам. Я сказал, что думаю. Засим иду спать. Какая обильная роса! Не забудьте запереть потом дверь.
Мистер Парамор вошел было в оранжерею, остановился и повернул обратно.
— Пендайс, — сказал он, — отлично понимает все, что я изложил вам сейчас. Он готов отдать что угодно, только бы избежать суда, но увидите, он все будет делать наперекор здравому смыслу; и будет чудо, если все кончится благополучно. А все «пендайсицит»! Мы все в какой-то степени заражены им. Спокойной ночи!
Грегори остался один под открытым небом, один со своей огромной звездой. А поскольку мысли его редко бывали отвлеченного свойства, он думал не о «пендайсиците», а об Элин Белью. И чем дольше он думал о ней, тем больше она представлялась ему такой, какой он хотел ее видеть, ибо такова была его натура. И все насмешливее становилось мерцание звезды над рощей, где пел соловей.
ГЛАВА Х ДЖОРДЖ ИДЕТ ВА-БАНК
В четверг, в день Эпсомских летних скачек, Джордж Пендайс сидел в углу вагона первого класса, складывая так и этак два и два, чтобы получить пять. На листке бумаги с эмблемой Клуба стоиков были выписаны до последнего пенса все его дол пи на скачках: тысяча сорок пять фунтов — неотложный долг; семьсот пятьдесят — проигрыш на последних скачках. Ниже остальные долги, округленные до тысячи фунтов. Эта цифра отражала кажущееся положение дел, ибо Джордж учел только имеющиеся на руках счета, а судьба, которая знает все, назвала бы, пожалуй, тысячу пятьсот фунтов. Таким образом, печальный итог составлял три тысячи двести девяносто пять фунтов.
А поскольку и на бирже и на скачках, где царствует вечное движение, принята доходящая до абсурда пунктуальность, когда дело касается уплаты сумм, которые ты неожиданно теряешь, то и надо было непременно где-то достать к следующему понедельнику тысячу семьсот девяносто пять фунтов.
Только из расположения к Джорджу, умевшему и выигрывать и проигрывать, а также из страха потерять выгодного клиента фирма букмекеров сквозь пальцы смотрела на то, что долг Джорджа в тысячу сорок пять фунтов не был уплачен до самых Эпсомских скачек.
Что же он мог противопоставить этой цифре, в которую не входили еще жалованье тренеру и расходы, связанные с предстоящим процессом? О том, каковы они будут, он не имел ни малейшего представления. Во-первых, он может рассчитывать еще на двадцать фунтов кредита в его банке, затем Эмблер и еще две кобылы, за которых, правда, много не дадут; и, в-третьих (наиболее важный источник), сумма х, которую может… нет, обязательно выиграет сегодня Эмблер.
Чем-чем, а мужеством Джордж обладал в полной мере. Это качество вошло в его кровь и плоть; и, очутившись в обстоятельствах, которые кому-нибудь другому, особенно тому, кто не был воспитан в духе наследственных традиций, могли бы показаться отчаянными, он не проявил ни малейшего признака беспокойства или уныния. Размышляя над своими затруднениями, он исходил из некоторых принципов: во-первых, нельзя было не заплатить долга чести; уж лучше пойти к ростовщикам, хотя они и сдерут с тебя три шкуры (занять у них он мог только под наследственное поместье), во-вторых, он не побоится доставить на свою лошадь все до последнего пенса; и, в-третьих, зачем думать о будущем, если и настоящее довольно скверно.
Вагон прыгал и качался, как будто плясал под музыку, а Джордж сидел невозмутимо в своем углу.
Среди пассажиров находился высокородный Джефри Уинлоу, который хотя и не был завсегдатаем скачек, но питал благожелательный интерес к английским скакунам и надеялся своими посещениями наиболее значительных состязаний оказать услугу этим благородным животным.
— Ваш жеребец участвует, Джордж?
Джордж кивнул.
— Я поставлю на него пять фунтов на счастье. Вообще-то игра мне не по карману. На той неделе я видел вашу матушку в Фоксхолме. Давно не были у своих?
Джордж кивнул и вдруг почувствовал, как защемило сердце.
— Вы слышали, что на ферме Пикока был пожар? Говорят, сквайр с Бартером творили прямо-таки чудеса. Мистер Пендайс еще молодец, хоть куда!
Джордж снова кивнул и снова ощутил ту же щемящую боль в сердце.
— Они собираются в Лондон в этом сезоне?
— Не знаю, — ответил Джордж. — Хотите сигару?
Уинлоу взял сигару и, обрезав кончик перочинным ножичком, вперил свой ленивый взгляд в квадратное лицо Джорджа. Надо было быть хорошим физиономистом, чтобы что-нибудь прочесть под этой маской непроницаемости. Уинлоу подумал: «Не буду удивлен, если то, что говорят о Джордже, правда…»
— Все пока идет удачно?
— Так себе.
Они расстались на ипподроме. Джордж сперва повидал тренера, потом направился прямо к букмекерам. Держа в голове свое уравнение с х, он нашел двух скромно одетых джентльменов. Один из них делал золотым карандашом какие-то пометки в книжечке. Они приветствовали его почтительно: это им он был должен львиную долю из тех тысячи семисот девяноста пяти фунтов.
— Сколько Вы поставите против Эмблера?
— Один к одному, мистер Пендайс, — ответил джентльмен с золотым карандашом, — пятьсот фунтов.
Джордж записал у себя в книжке сумму пари. Так он никогда не вел дела, но сегодня все казалось иным, — действовало нечто белее сильное, чем привычка.
«Иду ва-банк, — подумал он. — Ну и что ж, если ничего не получится, хуже все равно быть не может».
Он подошел еще к одному скромно одетому джентльмену, смахивающему на еврея, с бриллиантовой булавкой в галстуке. И пока он переходил от одного скромно одетого джентльмена к другому, некий незримый посланец опережал его, нашептывая на уши букмекерам слова: «Мистер Пендайс решил отыграться», — так что очередной джентльмен выказывал большую уверенность в Эмблере, чем предыдущий. Скоро Джордж уже обязывался, если Эмблер проиграет, уплатить букмекерам две тысячи фунтов, а почтенные, скромно одетые джентльмены обещали, в случае если Эмблер придет первым, уплатить его хозяину тысячу пятьсот фунтов. Поскольку ставки делались один к двум, то он уже не мог заключать пари еще и на первые три места, как делал обыкновенно.
«Какого дурака я свалял! — подумал он. — Не надо было самому предлагать пари, пусть бы Барни все осторожно сделал. А, ладно!»
В той сумме, которую надо было достать к понедельнику, еще не хватало трехсот фунтов, и он заключил последнее пари: семьсот фунтов против трехсот пятидесяти. Таким образом, не истратив и пенса, он решил уравнение с х.
Затем он отправился в бар и выпил виски. И только тогда пошел к конюшне.
Прозвучал колокол, начинающий второй забег, дворик был почти пуст, и только в дальнем конце мальчик прогуливал Эмблера. Джордж оглянулся по сторонам: знакомых поблизости никого — и присоединился к мальчику. Эмблер скосил свой черный, полный огня глаз, обведенный белым серпом, вскинул голову и стал смотреть вдаль.
«Если бы он мог понять!» — подумал Джордж.
Когда жеребца повели с дворика к столбу, Джордж вернулся на трибуну. У стойки выпил еще виски и услыхал чьи-то слова: — Я поставил шесть к четырем. Надо найти Пендайса. Говорят, он играет сегодня отчаянно…
Джордж поставил рюмку и, вместо того чтобы занять свое обычное место, не торопясь пошел на самый верх.
«Не хватает только их разговоров!» — подумал он.
На самом верху трибуны — этого национального монумента, видимого на расстоянии двадцати миль, — он был в безопасности. Сюда ходила самая разношерстная публика, и он, пробивая себе дорогу в этой разношерстной толпе, добрался до самой верхней площадки и, приладив бинокль на перилах, стал разглядывать цвета. Рядом с его синим, павлиньим виднелись желтый, голубой в белую полоску и красный с белыми звездами.
Говорят, что в сознании утопающего проносятся призраки прошлого. Не то происходило с Джорджем: его душа была словно пригвождена к маленькому синему пятнышку. Губы побледнели — так он их сжал, поминутно облизывая. Четыре маленьких цветных точки выровнялись в линию. Флаг упал.
«Пустили!» Этот вопль, напоминавший рев сказочного чудовища, потряс все кругом. Джордж поправил бинокль на перилах. Впереди — голубой с белыми полосами, Эмблер — последний. Так они прошли первый поворот. Судьба, заботясь о том, чтобы хоть кто-нибудь извлек пользу из этого отрешенного состояния Джорджа, заставила чью-то руку скользнуть под его локоть, вынуть булавку из галстука и убраться восвояси.
После следующего поворота Эмблер уже вел скачку. Так они и вышли на прямую: синий первым и совсем близко от него — желтый. Жокей Джорджа обернулся и поднял хлыст — и в тот же миг, как по волшебству, желтый поравнялся с синим. Жокей стегнул Эмблера, и снова, как по волшебству, желтый обошел синего. Слова его старого жокея молнией пронеслись в голове Джорджа: «Попомните мое слово: он понимает, что к чему. Если попадется такая лошадь, лучше ей не перечить».
— Оставь его в покое, болван! — прошептал Джордж.
Хлыст снова взвился — желтый оказался впереди уже на два корпуса.
Кто-то за спиной Джорджа проговорил:
— Фаворит сдал! Ах, нет, ей-богу, нет!
Жокей, словно шепот Джорджа долетел до его слуха, опустил хлыст. И Эмблер мгновенно рванулся вперед, Джордж видел, что он нагоняет желтого. Всеми силами души Джордж посылал его. Каждую из последующих пятнадцати секунд он то умирал, то рождался вновь; с каждым скачком все, что было в нем благородного, смелого, все ярче разгоралось, все низменное, мелочное исчезало, потому что это он сам несся сейчас по полю со своим жеребцом. У него на лбу проступил пот. Губы шептали что-то невнятное, но его никто не слышал, потому что все кругом тоже бормотали что-то.
Голова в голову Эмблер и желтый пришли к финишу. Затем наступила мертвая тишина: кто победил? Появились цифры: «Семь — два — пять».
— Фаворит пришел вторым! Проиграл полголовы! — крикнул чей-то голос.
Джордж поник, свет померк в его глазах. Он застегнул бинокль и стал спускаться с толпой вниз. Кто-то говорил сзади:
— Еще бы ярд, и он выиграл бы.
— Не лошадь, а дрянь. Испугался хлыста.
Джордж скрипнул зубами.
— Трущобная крыса, — чуть не простонал он. — Что ты понимаешь в лошадях?
Толпа заколыхалась, и говорившие исчезли из виду.
Долгий спуск с трибуны дал ему время опомниться. Когда Джордж вошел в конюшню, на его лице не осталось и следа волновавших его чувств. Тренер Блексмит стоял возле денника Эмблера.
— Мы проиграли из-за этого идиота Типпинга, — сказал он дрожащими губами. — Если бы дать Эмблеру волю, он бы выиграл шутя. Зачем только он брался за хлыст! За это стоит выгнать его из жокеев. Он…
Вся горечь поражения бросилась в голову Джорджу.
— Не вам бы упрекать его, Блексмит, — сказал он. — Это вы его нанимали. Зачем было ссориться с Суелсом?
У маленького тренера даже рот раскрылся от изумления.
Джордж отвернулся и подошел к жокею, но при виде этой несчастной юной физиономии злые слова замерли у него на губах.
— Ладно, ладно, Типпинг, я не собираюсь ругать вас. — И с вымученной улыбкой на лице прошел в денник к Эмблеру.
Грум только что окончил его туалет, и жеребец стоял, готовый покинуть место своего поражения. Грум отошел в сторонку, Джордж подвинулся к голове Эмблера. Нет такого уголка во всем ипподроме, где бы можно было дать волю сердцу. Джордж всего только коснулся лбом бархатистой щеки и постоял так одну коротенькую секунду. Эмблер дождался конца этой недолгой ласки, затем фыркнул, вскинул голову и глянул своим неукротимым влажным глазом, будто хотел сказать: «Вы, глупцы! Что знаете вы обо мне?» Джордж отошел.
— Уведите его, — сказал он и долго смотрел вслед удаляющемуся жеребцу.
Как только Джордж покинул дворик, к нему подошел завсегдатай бегов, крючконосый брюнет, с которым он был знаком и которого не любил.
— Я хотел спросить, — сказал он с акцентом, — не хотите ли вы продать вашего жеребца, Пендайс? Я дал бы вам за него пять тысяч фунтов. Он не должен был проиграть. Хлыст ни капельки не поможет такой лошади!
«Стервятник!» — подумал Джордж.
— Благодарю, но лошадь не продается.
Он вернулся в конюшню, но на каждом лице, куда бы он ни пошел, он видел новое уравнение, которое решалось теперь только с помощью х2. Трижды подходил он к стойке. И только на третий раз сказал себе: «Эмблера придется продать. Но такой лошади у меня никогда больше не будет».
На этом зеленом лугу, побуревшем от сотен тысяч подошв, усыпанном обрывками бумаги, окурками, остатками всякой снеди, на этих подступах к бранному полю, по которому катился поток то в сторону битвы, то от нее, все те, кто кормился у этого грандиозного предприятия — сошка помельче и совсем мелкая, — вопили, визжали, наскакивали на бойцов, возвращавшихся после сражения (победители — с пылающими лицами, их несчастливые соперники — с омраченными). По этому огромному зеленому лугу сквозь толпу всех этих безногих калек, игроков в кости, Шулеров, женщин с младенцами, сосущими грудь, оборванных акробаток шел Джордж Пендайс, стиснув зубы и опустив голову.
— Завтра повезет, капитан! Удачи тебе, капитан! Ради господа бога, ваше сиятельство!.. Не бойся, пытай счастье!
Солнце, выглянувшее после долгого отсутствия, припекало шею Джорджа, ветер, зловонный от сотен потных, нечистых человеческих тел, донес до его слуха рев чудовища: «Пустили!»
Кто-то окликнул его.
Джордж обернулся и увидел Уинлоу.
— А! Уинлоу! — вежливо сказал Джордж, улыбаясь ему и посылая в душе ко всем чертям.
Высокородный Джефри пошел рядом, неторопливо разглядывая лицо Джорджа.
— Неудачный для вас день сегодня, старина! Говорят, вы продали своего Эмблера этому Гильдерштейну.
Сердце Джорджа дрогнуло.
«Уже, — подумал он, — уже мерзавец расхвастался! И этому выскочке теперь моя лошадь… моя лошадь». И ответил спокойно:
— Мне нужны были деньги.
Уинлоу, отнюдь не лишенный такта, заговорил о другом.
Вечером того же дня Джордж сидел на своем месте в Клубе стоиков, глядя в окно на Пикадилли. Перед его глазами, прикрытыми рукой, как козырьком, катились экипажи в сторону Вест-Энда и обратно, в каждом мелькал светлый диск лица или два светлых диска, один возле другого. Приглушенный шум города доносился сюда вместе с потоками ночной прохлады. В свете фонарей в Грин-парке блестела, как лакированная, листва на фоне густого неподвижного мрака, а над всем — подернутые золотистой дымкой звезды и пепельное небо. По тротуарам сновали бесчисленные фигурки. Некоторые, взглянув на залитые светом окна, замечали мужчину во фраке, с белой накрахмаленной грудью и, вероятно, думали: «Хотел бы я быть на месте этого франта, которому только и дела, что ожидать отцовского наследства»; другие не думали ни о чем. Но, может, какой-нибудь прохожий и пробормотал себе под нос: «Сидит, бедный, один, скучно, должно быть».
Под взглядами проходящих людей губы Джорджа крепко сжались, и только время от времени пробегала по ним горькая усмешка, а лоб его все еще ощущал бархатистое прикосновение морды Эмблера, и его глаза, которых сейчас никто не видел, потемнели от боли.
ГЛАВА XI МИСТЕР БАРТЕР ВЫХОДИТ НА ПРОГУЛКУ
Событие в доме священника ожидалось с минуты на минуту. Мистер Бартер, в сущности, никогда не знавший страданий, не любил думать о страданиях других, а тем более быть их очевидцем. До сего дня, однако, ему не приходилось о них думать, ибо жена его на все вопросы отвечала только: «Все хорошо, дорогой, все хорошо, не волнуйся». Она всегда улыбалась при этих словах, хотя бы и побелевшими губами. Но в это утро, пытаясь ответить по обыкновению, она не нашла сил улыбнуться, ее глаза потеряли свой обычный блеск, и сквозь стиснутые зубы она прошептала:
— Пошли за доктором Уилсоном, Хассел!
Священник поцеловал жену, зажмурив глаза: ему невыносимо было видеть ее побелевшее лицо с закушенными губами. Через пять минут грум уже мчался верхом на чалой лошади в Корнмаркет за доктором, а священник стоял у себя в кабинете, переводя взгляд с одного домашнего божества на другое, будто призывал их на помощь. Наконец он взял крикетную биту и принялся протирать ее маслом. Шестнадцать лет назад, когда на свет появился первый сын, тоже Хассел, мистера Бартера застигли доносившиеся из жениной комнаты вопли, которые он помнил и по сей день. И ни за какие блага в мире он не согласился бы услыхать нечто подобное еще раз. С тех пор они больше не повторялись, ибо его жена, подобно многим женщинам, была сущей героиней, но с того первого раза — хотя священник имел возможность привыкнуть к подобного рода событиям — его неизменно обуревал панический страх. Как будто провидение откладывало на последнюю минуту все волнения и беспокойства, которые он должен был бы испытать на протяжении долгих месяцев ожидания, и тут разом их на него обрушивало. Он положил биту обратно в футляр, закрыл пробкой пузырек с маслом и снова воззрился на домашние божества. Ни одно из них не пришло к нему на помощь. А мысли его были теми же, что и все предыдущие девять раз. «Нельзя уходить. Мне следует дождаться Уилсона. А если что-нибудь не так… Там! акушерка, и я ничем не могу помочь. Бедняжка Роза, моя дорогая бедняжка! Мой долг… Что это? Нет, тут я буду только мешать!»
Неслышно, но не сознавая этого, он отворил дверь; неслышно подошел к вешалке, взял свою черную соломенную шляпу; неслышно вышел и быстро, решительно зашагал прочь от дома.
Через три минуты его фигура снова появилась на дороге, теперь он уже почти бежал к дому. Вошел в переднюю, поднялся по лестнице и вступил в комнату жены:
— Роза, дорогая Роза, чем тебе помочь?
Миссис Бартер протянула руку, злая искорка вспыхнула и погасла в ее глазах. Сквозь сведенные болью губы она едва слышно прошептала:
— Ничем, дорогой. Ступай лучше погулять.
Мистер Бартер прижал к губам ее дрожащие пальцы и попятился к двери. В коридоре он рассек кулаком воздух и, сбежав вниз, снова исчез за поворотом дороги. Он шел все быстрее и быстрее, деревня осталась позади, и среди мирных сельских картин, звуков и запахов нервы его мало-помалу успокаивались. Он снова был в состоянии думать о других предметах: о школьных успехах Сесила — совсем, совсем неудовлетворительно! — о старике Хермоне в деревне, который, как он подозревал, нарочно кашляет, чтобы полечиться винцом; о матч-реванше с крикетистами Колдингэма и о том, что их знаменитого левшу ничего не стоит «выбить»; о новом издании псалтыря; о жителях дальнего конца деревни, которые редко ходят в церковь: эти пять семей строптивее и хитрее, чем остальные прихожане, что-то в них есть чуждое, неанглийское, недаром все они смуглые. Думая обо всех этих важных делах, он забыл то, что хотел забыть; но, услыхав стук колес, сошел с дороги в поле, сделав вид, будто интересуется хлебами, и оставался там, пока коляска не проехала мимо. Это был не доктор Уилсон, но мог бы быть он; и на следующем же перекрестке он, сам того не сознавая, свернул прочь с корнмаркетской дороги.
Был полдень, когда он подошел к Колдингэму, отстоящему от Уорстед Скайнеса на шесть миль. Ему очень хотелось выпить сейчас кружку пива, но зайти в трактир не приличествовало сану, и он отправился на кладбище. Сел на скамью под кленом напротив усыпальницы семейства Уинлоу — ведь Колдингэм граничил с поместьем лорда Монтроссора, и здесь покоились все Уинлоу. Пчелы трудились над ними в цветущих ветвях, и мистер Бартер подумал: «Красивое место. У нас в Уорстед Скайнесе такого нет…»
Внезапно он почувствовал, что не может больше сидеть здесь и благодушествовать. А что, если его жена умерла? Так иногда бывает: жена Джона Тарпа из Блечингэма умерла, рожая своего десятого. Он вытер испарину со лба и, сердито посмотрев на надгробия Уинлоу, встал со скамьи.
Он свернул на другую дорожку и вышел к крикетному полю. Там шла игра, и вопреки собственной воле священник остановился — играла колдингамская команда, и он так увлекся, следя за игроками (да, так и есть, у этого левши надолго пороху не хватит), что не сразу узнал лорда Джефри Уинлоу в наколенниках и куртке в синюю и зеленую полоску, сидящего верхом на раскладном стуле.
— Добрый день, Уинлоу, сражаетесь с командой фермеров? Жаль, я не могу остаться посмотреть вас. Заходил по делу неподалеку и должен немедленно вернуться.
Необычная торжественность на его лице подстрекнула любопытство Уинлоу.
— Оставайтесь с нами завтракать.
— Нет, нет, моя жена, знаете ли… Надо быть дома!
Уинлоу сказал:
— Ах, да, конечно… — Его ленивые голубые глаза, всегда с превосходством глядевшие на собеседника, задержались на разгоряченном лице священника. — Между прочим, — сказал он, — боюсь, что дела у Джорджа Пендайса идут скверно. Вынужден был продать свою лошадь. Я видел его на Эпсомских скачках на позапрошлой неделе.
Лицо священника оживилось.
— Я знал, что игра на скачках ни до чего хорошего не доведет, — сказал он. — Мне очень, очень его жаль.
— Говорят, — продолжал Уинлоу, — он проиграл в среду четыре тысячи фунтов. А и без того был в стесненных обстоятельствах. Бедняга Джордж! Чертовски славный малый.
— Да, — повторил мистер Бартер, — мне очень, очень его жаль. Ему и без этого было нелегко.
В ленивых глазах лорда Джефри опять зажегся огонь любопытства.
— Вы имеете в виду миссис… гм… э? — спросил он. — Что поделаешь, от сплетен не убережешься. Жаль бедного сквайра и миссис Пендайс. Надеюсь, что-то можно будет сделать.
Священник нахмурил брови.
— Я сделал все, что было в моих силах, — сказал он. — Прекрасно бьет этот ваш игрок, сэр, но все-таки удар у него слабоват, слабоват. Однако мне пора, я и так уже замешкался.
И снова на лице мистера Бартера появилась торжественность.
— Так вы будете играть вместе с вашими колдинтэмцами против нас в четверг? До свидания!
Кивнув в ответ на кивок Уинлоу, он зашагал домой.
Не желая возвращаться кладбищем, он пошел через поле. Ему хотелось есть и пить. В одной из его проповедей было такое место: «Мы должны научиться обуздывать свои желания. Только воздерживаясь в повседневных, казалось бы, мелочах, можно достичь той духовной высоты, без которой нельзя приблизиться к богу». В его семье и в деревне знали, что дух мистера Бартера достигает весьма опасной высоты, если ему случится пропустить трапезу. Он был человек отменного здоровья, с прекрасным пищеварением, которое в подобных случаях настоятельно заявляло о себе. Прочитав эту проповедь, он нередко в течение недели, а то и больше отказывал себе во второй кружке эля за вторым завтраком или в послеобеденной сигаре, выкуривая вместо этого трубку. И он искренне верил, что достигал таким образом духовной высоты; впрочем, возможно, так оно и было. А если и не достигал, никому это не было заметно, ибо большая часть его паствы принимала его святость как нечто само собой разумеющееся, а из остальных лишь очень немногие не считались с тем фактом, что он их духовный отец силой обстоятельств и по воле той системы, что заставила его быть их пастырем, хотел он того или нет. В сущности, они уважали его за то, что его нельзя было лишить прихода, — не то что священник в Колдингэме, зависевший от воли и настроения других людей. Ибо, если не считать двух закоренелых негодяев и одного атеиста, весь его приход — и консерваторы и либералы (либералы появились, как только исчезли сомнения в том, что выборы и в самом деле тайные) — все были сторонниками наследственной системы.
Ноги сами понесли мистера Бартера в сторону Блечингэма, где имелся «приют трезвости». В глубине души он испытывал отвращение к лимонаду днем, ибо мысль о нем раздражала его чувство порядка, но он знал, что больше идти некуда. При виде блечингэмского шпиля дух его взыграл.
«Хлеб с сыром, — думал он. — Что может быть лучше хлеба с сыром и чашки кофе?»
В этой чашке кофе было что-то символическое, отвечавшее его состоянию. Кофе был крепкий, мутный, и шел от него тот особый аромат, которым обладает только деревенский кофе. Он выпил совсем немножко и опять отправился в путь. После первого поворота он миновал школу, откуда доносился нестройный гул, который напоминал глухой шум машины, отслужившей свое. Священник остановился, прислушиваясь. Прислонившись к ограде площадки для игр, он вслушивался, пытаясь разобрать слова, произносимые нараспев, подобно молитве. Ему послышалось что-то вроде: «Дважды два — четыре, дважды три шесть, дважды шесть — восемь»; и он пошел дальше, размышляя: «Прекрасно! Но если вовремя не принять мер, это может зайти слишком далеко; мы можем внушить им мысли, не подходящие их месту в жизни». И он нахмурился. Он оставил позади перелаз через изгородь и пошел по тропинке. Воздух звенел от пения жаворонков, шарики высокого клевера клонились под тяжестью пчел. В конце луга поблескивало озерцо в зарослях ивы. На открытом участке шагах в тридцати от озерца под палящим солнцем стояла привязанная к колышку старая лошадь. Оскалив желтые зубы, она вытянула морду к воде, которой не могла достать. Мистер Бартер остановился. Он не знал эту лошадь, до его прихода было еще три луга, но он видел, что бедная скотина хочет пить. Он подошел и стал развязывать узел, но только натрудил пальцы. Тогда, нагнувшись, он ухватился за колышек. Пока он, побагровев, тащил его и дергал, старая кляча стояла спокойно, поглядывая на него мутным глазом. Мистер Бартер рванул изо всех сил, колышек выскочил, и священник отлетел с ним в сторону. Кляча в испуге отпрянула.
— Не бойся, старушка! — сказал Бартер и прибавил сердито: — Это мерзость — оставлять скотину под палящим солнцем. Был бы здесь ее хозяин, я пристыдил бы его!
И он повел кобылу к воде. Старая кляча шла покорно. Но поскольку она мучилась безвинно, то и не испытывала благодарности к своему избавителю. Она вволю напилась и принялась щипать траву. Мистер Бартер почувствовал разочарование; он вбил колышек в мягкую землю у самых ив, поднялся и посмотрел с неприязнью на лошадь.
Она паслась как ни в чем не бывало. Священник вынул платок, отер пот со лба и насупился. Он не любил неблагодарности ни в людях, ни в животных.
Неожиданно он почувствовал, что очень устал.
— Теперь уж, наверное, все кончилось, — сказал он себе и быстрыми шагами пошел по полю.
Дверь его дома была распахнута. Пройдя в кабинет, он на минутку сел, чтобы собраться с мыслями. Наверху ходили; его слуха коснулся протяжный стон, и он ужаснулся.
Он вскочил и бросился к звонку, но не стал звонить, а побежал наверх. Возле комнаты жены он столкнулся со старой няней его детей. Она стояла на коврике перед дверью, зажав уши, и слезы катились по ее старому лицу.
— О сэр! — прошептала она. — О сэр!
Священник в испуге взглянул на нее.
— Что там? — закричал он. — Что там?
И, зажав уши, бросился опять вниз. В передней он увидел какую-то даму. Это была миссис Пендайс, и он подбежал к ней, как обиженный ребенок бежит к своей матери.
— Моя жена, — говорил он, — моя бедная жена! Один бог знает, что они там делают с ней, миссис Пендайс! — И он закрыл лицо руками.
Она, урожденная Тоттеридж, стояла, не двигаясь; затем, осторожно опустив затянутую перчаткой руку на его мощное плечо, где напружинились мышцы оттого, что были сжаты кулаки, сказала:
— Дорогой мистер Бартер, Уилсон — такой хороший врач. Пойдемте в гостиную.
Священник, спотыкаясь, как слепой, позволил увести себя. Од опустился на диван, а миссис Пендайс села подле, все еще не сняв руки с его плеча. Ее лицо чуть подергивалось, как будто она с трудом сдерживалась. Ласковым голосом она повторила:
— Все будет хорошо, все будет хорошо. Ну, успокойтесь.
В ее участии и заботе была заметна не то чтобы некоторая холодность, а легкое изумление, что вот она сидит здесь в этой гостиной и утешает мистера Бартера.
Священник отнял руки от лица.
— Если она умрет, я не вынесу этого, — проговорил он не своим голосом.
При этих словах, вырвавшихся у мистера Бартера под действием чего-то большего, чем привычка, рука миссис Пендайс соскользнула с плеча священника и легла на яркий ситец дивана, зеленый с алым. Ее испугала и оттолкнула страстность его тона.
— Подождите здесь, — сказала она, — я поднимусь, взгляну, что там.
Приказывать не было свойственно миссис Пендайс, но мистер Бартер с видом напроказничавшего и раскаивающегося в своих шалостях мальчика повиновался.
Когда миссис Пендайс вышла, он приблизился к Двери, прислушиваясь: хотя бы какой-нибудь звук донесся сюда, хотя бы шелест ее платья! Но все было тихо, нижние юбки миссис Пендайс были батистовые, и священник остался наедине с безмолвием, переносить которое было выше его сил. Он шагал по комнате в своих тяжелых сапогах, сцепив за спиной руки, лбом рассекая воздух, сжав губы — так бык, первый раз запертый в загоне, мечется из угла в угол, зло выкатывая глаза.
Страх, раздражение спутали его мысли, он не мог молиться. Слова, которые он так часто повторял, бежали от его сознания, как будто издеваясь. «Все мы в руках господних! Все мы в руках господних!» Вместо них в голову лезли слова мистера Парамора, сказанные тогда в гостиной Пендайсов: «Во всем нужна золотая середина». Эти слова, полные жестокой иронии, как будто кто напевал ему на ухо. «Во всем нужна золотая середина, во всем нужна золотая середина!» А его жена лежит сейчас там в муках, и это его вина… и…
Какой-то звук. Багрово-красное лицо священника не могло побледнеть, но кулаки его разжались. В дверях стояла миссис Пендайс и улыбалась странной, сострадательной и взволнованной улыбкой.
— Все хорошо: мальчик. Бедняжке было очень тяжело!
Священник глядел на нее, но не говорил ни слова; затем он вдруг рванулся мимо нее, побежал в кабинет и заперся на ключ. Тогда, и только тогда он опустился на колени я долго стоял так, ни о чем не думая.
ГЛАВА XII СКВАЙР ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
Вечером того же дня в девять часов, кончая свою пинту портвейна, мистер Бартер почувствовал неодолимое желание развлечься, побыть в обществе себе подобных.
Взяв шляпу и застегнув сюртук на все пуговицы — вечер был теплый, но восточный ветер приносил прохладу, — он зашагал к деревне.
Как воплощение дороги, ведущей к господу, о которой он говорил по воскресеньям! в своих проповедях, убегала вдаль проселочная дорога, обрамленная аккуратными изгородями, прошивая светлой ниткой тень вязов, на которых грачи уже смолкли. Запахло дымком, показались домики деревни кузница и лавки, обращенные фасадом к выгону. Огни в распахнутых дверях и окнах стали ярче; ветерок, едва колышущий листву каппана, резво играл трепетными листками осины. Дома — деревья, дома — деревья! Приют в прошлом и во все будущие дни!
Священник остановил первого, кто встретился ему.
— Прекрасные дни стоят для сена, Эйкен! Как дела у вашей жены? Значит, дочка! А-ха, мальчишек вам надо! Вы слышали о нашем событии? Могу смиренно…
От прихожанина к прихожанину, от порога к порогу он утолял свою жажду общения с людьми, восстанавливал утраченное было чувство собственного достоинства, необходимое для исцеления раны, нанесенной его чувствительности. А над его головой едва заметно вздыхали каштаны, осины нежно шелестели листвой и, наблюдая мирскую суету, как будто шептали: «О жалкие маленькие человечки!»
Луна на исходе первой четверти выплыла из-за темной кладбищенской рощи — та самая луна, что иронически взирала на Уорстед Скайнес, еще когда в приходской церкви возносил молитвы богу первый Бартер, и первый Пендайс хозяйничал в усадьбе; та самая луна, что так же тихо, равнодушно взойдет над этой рощей, когда навек уснут и последний Бартер и последний Пендайс, и на их надгробные камни будет литься сквозь лиловую тьму серебристый свет.
Священник подумал:
«Пожалуй, надо послать Стэдмена в этот угол. Кладбище становится тесновато; а здесь все старые могилы — лет по полтораста. Не разберешь на плитах ни слова. Вот с них и начнем».
Он пошел через луг по тропинке, ведущей к дому сквайра.
День давно угас, и только лунный свет озарял высокие стебли трав.
В доме стеклянные двери столовой были открыты настежь. Сквайр сидел один, в печальном раздумье доедая фрукты. По обеим сторонам от него на стенах висели портреты всех предыдущих Пендайсов, его молчаливых сотрапезников, а в самом конце над дубовым буфетом, уставленным серебром, глядела на них с портрета его жена, чуть удивленно вскинув брови. Сквайр поднял голову.
— А, Бартер! Что ваша жена?
— Ничего, спасибо.
— Рад это слышать! Прекрасное у нее здоровье, удивительная выносливость. Портвейну или кларет?
— Я выпил бы рюмку портвейну.
— Тяжеленько вам пришлось. Я-то знаю, что это значит. Мы не похожи на своих отцов, — они к этому относились просто. Когда родился Чарлз, отец охотился. А я так совсем измучился, когда появлялся на свет Джордж.
Сквайр на секунду умолк и тут же поспешно прибавил:
— Хотя вы-то уже могли и привыкнуть. Бартер нахмурился.
— Я был сегодня в Колдингэме, — сказал он, — и видел Уинлоу. Он оправлялся о вас.
— А, Уинлоу! Очень милая женщина его жена. У них, кажется, всего один сын.
Священник поморщился.
— Он говорил мне, — произнес он резко, — что Джордж продал своего жеребца!
Лицо сквайра изменилось. Он испытующе посмотрел на мистера Бартера, но священник наклонил голову над рюмкой.
— Продал жеребца? Что бы это значило? Он хоть объяснил вам, в чем дело?
Священник допил свой портвейн.
— Я никогда не ищу здравого смысла в поступках людей, играющих на скачках, — на мой взгляд, у них его меньше, чем у бессловесной скотины.
— Играющие на скачках — дело другое, — возразил мистер Пендайс. — Но Джордж ведь не играет.
В глубине глаз священника мелькнула усмешка. Он сжал губы.
Сквайр поднялся со своего места.
— На что вы намекаете, Бартер? — сказал он. Священник покраснел. Он ненавидел передавать сплетни, то есть когда они касались мужчины; женщины иное дело. И так же как и в тот раз, в разговоре с Белью, он старался не выдать Джорджа, так и теперь был начеку, чтобы не сказать лишнего.
— Мне ничего не известно, Пендайс!
Сквайр начал ходить по комнате. Что-то задело ноги Бартера: из-под стола в самом конце, там, где лежало пятно лунного света, выбрался спаньель Джон и, олицетворяя собой все, что было рабски преданно в этом поместье сквайру, уставил на своего хозяина полный тревоги взгляд. «Вот опять, — как будто хотел он сказать, — начинается что-то неприятное для меня!»
Сквайр прервал молчание.
— Я полагаюсь на вас, Бартер; я полагаюсь на вас, как на родного брата. Рассказывайте, рассказывайте, что вы слыхали о Джордже.
«В конце концов, — подумал священник, — он же его отец!»
— Я знаю только то, что слыхал от других, — начал он. — Говорят, что Джордж проиграл очень много. Может быть, все это выдумка, я не очень-то верю слухам. А если он и продал жеребца, тем лучше. Не будет искушения играть.
Хорэс Пендайс ничего не ответил на это. Им овладели гнев и растерянность. Одна мысль билась в его мозгу: «Мой сын — игрок! Уорстед Скайнес в руках игрока!»
Священник встал.
— Это всего-навсего слухи. Не придавайте им большого значения. Мне что-то не верится, чтобы Джордж был так глуп. Ну, мне пора к жене. До свидания.
И смущенно кивнув, мистер Бартер удалился через ту же дверь, через которую он вошел.
Сквайр окаменел.
Игрок!
Для мистера Пендайса, чье существование замкнулось в Уорстед Скайнесе, чьи помыслы были прямо или косвенно связаны только с поместьем, чей сын был всего лишь претендент на место, которое со временем покинет он, чья религия — почитание предков, для мистера Пендайса, которого при мысля о переменах бросало в дрожь, не было страшнее слова, чем слово «игрок»!
Он не понимал, что его система взглядов и была виновницей поведения Джорджа. Он говорил тогда Парамору: «У меня нет системы; я не верю ни в какие системы». Он просто растил сына джентльменом. Было бы лучше, если бы Джордж пошел в гвардию, но он провалился на экзамене; было бы лучше, если бы Джордж занялся поместьем, женился, родил сына, а не прожигал жизнь в Лондоне, — но Джордж оказался неспособным и на это! Он помог ему поступить в территориальный полк и в Клуб стоиков — что еще он мог дать сыну, чтобы уберечь его от беды? И вот он… игрок!..
Игравший один раз будет играть всегда!
И в лицо жене, глядевшей на него со стены, он зло бросил:
— Это в нем от тебя!
Но портрет ответил ему кротким взглядом.
Круто повернувшись, он вышел из комнаты. Спаньель Джон, не поспевший за хозяином, сел подле захлопнувшейся двери, стараясь носом уловить приближение кого-нибудь, кто вызволил бы его отсюда.
Мистер Пендайс прошел в кабинет, отперев ящик бюро, вынул какие-то документы и долго просматривал их. Это были: его завещание, список угодий Уорстед Скайнеса, с указанием размеров и получаемой арендной платы, затем копия документа, определявшего порядок наследования поместья. На этот последний документ, заключавший в себе самую горькую иронию, мистер Пендайс смотрел долее всего. Он не стал перечитывать бумагу, он думал: «И я не имею права уничтожить это! Так сказал мне Парамор! Игрок!»
Тупая косность, свойственная всем людям этого непонятного мира, а сквайру еще в большей степени, чем остальным, — это не качество характера, а скорее проявление инстинктивного страха перед тем, что тебе чуждо, инстинктивного отвращения к чужим взглядам, инстинктивной веры в силу традиции. А у сквайра к этому еще добавлялось самое его глубокое и достойное качество — умение принимать решения. Эти решения могли быть тупы и нелепы, могли доставлять ему и окружающим ненужные страдания, могли не иметь никакого нравственного и разумного оправдания, и тем не менее он умел принимать их и не отступать от них ни на йоту. Благодаря этому качеству он по-прежнему был тем, чем был столетия назад и чем надеялся остаться до скончания века. Это было в его крови. Единственно благодаря этому он мог противостоять разрушительной силе времени, ополчившейся против него, против его сословия, против наследственного принципа. Единственно благодаря этому он мог передать своему сыну все, что ему было самому завещано его предками. И теперь он глядел со злобой и негодованием на документ, который узаконивал эту передачу.
Люди, задумывающие великие дела, не всегда претворяют их в жизнь так легко и тайно, как этого им хотелось бы. Мистер Пендайс пошел в спальню с намерением не посвящать жену в свои планы. Миссис Пендайс спала. Появление сквайра разбудило ее, но она лежала, не шелохнувшись, с закрытыми глазами. Вид этого спокойствия, когда сам он был так расстроен, исторг из его груди слова:
— Ты знала, что Джордж — игрок?
Огонек свечи над серебряным подсвечником в руке Пендайса играл в темных, неожиданно оживших глазах его жены.
— Он ставил бог знает какие деньги! Он продал свою лошадь! Он никогда не расстался бы с ней, не будь его дела плохи. Не удивлюсь, если его имя вывешено на ипподроме в списке несостоятельных должников.
Одеяло зашевелилось, словно миссис Пендайс порывалась вскочить. Но затем раздался ее голос — спокойный и мягкий.
— Все молодые люди играют, Хорэс. Тебе должно быть это известно!
Сквайр, стоявший в ногах кровати, поднял свечу, пламя колыхнулось, и в этом движении было что-то зловещее, как будто он спрашивал:
— Ты защищаешь его? Бросаешь мне вызов?
Вцепившись в спинку кровати, он закричал:
— Я не потерплю в своей семье игрока и мота! Я не могу рисковать поместьем!
Миссис Пендайс села и несколько секунд смотрела на мужа, не отрываясь. Сердце ее бешено колотилось. Вот оно, началось! То, что она ожидала в тревоге все эти дни, началось! Ее побледневшие губы произнесли:
— О чем ты говоришь? Я не понимаю, Хорэс!
Глаза мистера Пендайса перебегали с предмета на предмет, как будто искали чего-то.
— Это последняя капля, — проговорил наконец он. — Полумерами здесь не поможешь. Покуда он не порвет с этой женщиной, покуда он не бросит играть, покуда… покуда не обрушатся небеса, он мне больше не сын!
Марджори Пендайс, у которой душа трепетала сейчас, как до предела натянутая струна, слова «покуда не обрушатся небеса» показались страшнее всего. В устах ее мужа, с которых не слетала ни одна метафора, которые никогда не произнесли того, что не было бы простым и понятным, никогда не преступали многочисленных табу его сословия, эти слова приобретали особенно грозный и чреватый последствиями смысл.
Он продолжал:
— Я воспитывал его так, как воспитывали меня. И я никогда не думал, что он вырастет негодяем!
Сердце у миссис Пендайс перестало трепетать.
— Как можешь ты так говорить, Хорэс! — воскликнула она.
Сквайр, отпустив спинку кровати, начал ходить по комнате. В абсолютной тишине, царившей в доме, его шаги звучали особенно зловеще.
— Я решил, — сказал он. — Поместье…
И тут миссис Пендайс перестала сдерживаться:
— Ты говоришь о том, как воспитывал Джорджа! Ты… ты никогда его не понимал. Ты никогда ни в чем не помог ему! Он просто рос себе и рос, как вы все росли здесь в этом… — Она не могла найти подходящего слова, потому что и сама не понимала, обо что слепо бились крылья ее души. — Ты никогда не любил его, как любила его я. Какое мне дело до твоего поместья? Я была бы рада, если бы его продали. Ты думаешь, мне нравится здесь жить? Ты думаешь, это мне когда-нибудь нравилось? Ты думаешь, я когда-нибудь… — Но она не докончила: «любила тебя»? Мой сын — негодяй? А сколько раз ты, посмеиваясь, качал головой и говорил: «Молодость должна перебеситься!» Ты думаешь, я не знаю, что бы вы все делали, если бы только смели! Ты думаешь, я не знаю, о чем вы, мужчины, говорите между собой! Играть… ты тоже играл бы, если бы не боялся. А теперь, когда Джорджу трудно…
Этот бурный поток слов так же внезапно прекратился, как и начался.
Мистер Пендайс вернулся к кровати и опять вцепился в спинку, и спокойное пламя свечи озарило лица, искаженные гневом до такой степени, что муж и жена не узнавали друг друга. На его худой коричневой шее, между разошедшихся кончиков туго накрахмаленного воротничка билась жилка. Он проговорил, запинаясь:
— Ты… ты совсем сошла с ума. Мой отец поступил бы так же, отец моего отца поступил бы так же! Ты что думаешь, я позволю пустить имение по ветру? Потерплю у себя в доме эту женщину? Ее сына-ублюдка — ведь он будет почти что ублюдок… Ты… ты еще не знаешь меня!
Последние слова он не сказал, а проворчал сквозь зубы, как рассерженный пес. Миссис Пендайс вся подобралась, будто готовилась к прыжку.
— Если ты откажешься от сына, я уйду к нему и никогда не вернусь!
Руки мистера Пендайса разжались. Спокойный, ровный, яркий огонь свечи озарял его лицо, и было видно, как поползла вниз нижняя челюсть. Он злобно стиснул зубы и, отвернувшись, резко сказал:
— Не болтай глупости!
Затем, схватив свечу, ушел к себе в туалетную.
Первое его ощущение было довольно простым: в нем возмутилось чувство благовоспитанности, как бывает при виде грубейшего нарушения приличий.
«Какой бес, — подумал он, — сидит в женщинах! Пожалуй, я лягу здесь, пусть это послужит ей хорошим уроком».
Он посмотрел вокруг себя. Спать было не на чем: не было даже дивана, и, взяв свечу, он пошел к двери. Но чувство неприкаянности и одиночества, взявшееся неизвестно откуда, заставило его в нерешительности остановиться у окна.
Молодой месяц, стоявший уже высоко, бросал бледный свет на его неподвижную, худую фигуру, и было страшно видеть, какой он весь серый серый от головы до ног; серый, печальный и постаревший: итог всех живших до него здесь сквайров, которые из этого же окна обозревали когда-то свои земли, подернутые лунным инеем. На лужайке он заметил своего старого охотничьего жеребца Боба, который стоял, повернув морду к дому. Сквайр тяжело вздохнул.
И, словно в ответ на этот вздох за дверью, как будто что-то упало. Сквайр отворил дверь, чтобы узнать, что там такое. Спаньель Джон, лежа на голубой подушке, головой к стене, сонно посмотрел на хозяина.
«Это я, хозяин, — казалось говорил он. — Уже поздно, и я совсем засыпал. Но все-таки я счастлив еще раз увидеть тебя, хозяин». — И, прикрыв глаза от света длинным черным ухом, он протяжно вздохнул. Мистер Пендайс затворил дверь. Он совсем забыл о своем псе. Но теперь, поглядев на своего преданного друга, он точно вновь обрел веру во все, чем жил, над чем простиралась его власть, что составляло его «я». Он отворил дверь спальни и лег подле жены. Скоро он уже спал.
ЧАСТЬ III
ГЛАВА I ОДИССЕЯ МИССИС ПЕНДАЙС
А миссис Пендайс не спала. Благодатное снотворное — долгий день, полный трудов на фермах и в поле, смежил веки ее мужа; но у нее не было этого спасительного снотворного. Глаза ее были раскрыты, и в них обнажилось все, что было в ее душе святого, заповедного, сокрытого от всех… Если бы кто-нибудь мог заглянуть в ее глаза этой ночью! Но будь ночной мрак светом, в ее взгляде нельзя было бы прочесть ничего, ибо еще более святым и могущественным был в ней инстинкт истинной леди. Этот тонкий, гибкий, сотканный из заботы о других и о себе, этот древний, очень древний инстинкт, подобно невидимой кольчуге, надежно охранял душу миссис Пендайс от чужих глаз. Какой густой должна быть ночная темь, чтобы она решилась сбросить эту кольчугу!
Чуть забрезжило утро, миссис Пендайс снова надела ее и, тихонько встав с постели, долго тайком отмывала холодной водой глаза, которые, казалось ей, всю ночь палило огнем. Затем подошла к открытому окну и выглянула. Только-только занялся рассвет, птицы пели свои утренние песни. В саду на цветах лежала сеть из сизых капель росы; деревья стояли сизые от тумана. Старый конь, призрачный, нереальный, положив морду на изгородь, досыпал последний, утренний сон.
Ласковый утренний ветерок обвевал ее лицо, бился в оборках белого пеньюара на груди, словно птица, принося с собой образы всего, что было дорого и ненавистно ее сердцу.
Птицы угомонились, и в наступившей тишине взошел золотой диск солнца, иронически оглядывая мир, и все вокруг вспыхнуло яркими красками. Слабый огонек затлел в душе миссис Пендайс, долгие часы изнывавшей под бременем! принятого решения, — для ее кроткой души, не привыкшей действовать, съеживающейся от грубого прикосновения, принятое решение было источником боли. Очень горькое, даже мучительное, поскольку обязывало ее действовать, оно, однако, не ослабело в ней, а сияло, подобно путеводной звезде, среди мрака и грозных туч. В жилах Марджори Пендайс (урожденной Тоттеридж) не было «и капли злопамятной и бурной «плебейской крови», ни капли пива или эля, будящих ярость и досаду; в них струился чистейший кларет. В ее душе не было ни злобы, ни гнева, которые укрепили бы ее решимость. Для выполнения задуманного ей могло помочь лишь легкое, чистое пламя, горевшее так глубоко в ее сердце, что оно почти не грело, хотя и задуть его было невозможно. Она не говорила себе: «Я не хочу, чтобы мной помыкали». Ее чувства можно было бы выразить словами: «Никому не дано помыкать мной, ибо, если это случится, вместе со мной погибнет и то, что есть во мне, что выше и важнее меня». И хотя она даже не подозревала, что это было такое, но это и был самый дух английской цивилизации, суть которого заключается в словах: «Кротость и душевное равновесие». Все грубое было настолько чуждо ей, что она не была способна ни ссориться из-за пустяков, ни делать из мухи слона, ни лгать, ни преувеличивать; и теперь она, сама того не сознавая, решилась действовать не раньше и не позже, чем было необходимо, — и ничто уже не могло заставить ее отступить. Сейчас в ней говорила уже не только материнская любовь, а самое глубокое в нас чувство — уважение к собственному «я», которое требует: «Поступи так-то, или ты предашь собственную душу».
И теперь, тихонько подойдя к постели, она глядела на спящего мужа, которого решила покинуть, без злобы, без укора, долгим, спокойным взглядом, значение которого и сама не могла бы объяснить.
И когда утро окончательно вступило в свои права и все в доме поднялись, она ни словом, ни поступком, ни жестом не выдала, что созрело в ее душе за эту ночь: Принятое решение исполнялось как нечто вполне обычное, как будто она поступала так всякий день Она не заставляла себя казаться спокойной, не гордилась втайне сознанием своей смелости; ею руководило инстинктивное желание избежать сцен и ненужных страданий, которое было у нее в крови.
Мистер Пендайс вышел из дому в половине одиннадцатого в сопровождении управляющего и спаньеля Джона. Он не мог и предположить, что его жена накануне ночью говорила серьезно. Одеваясь, он повторил ей, что больше знать не желает сына, что вымарает его имя из завещания, что самыми крутыми мерами сломит его упорство, — короче, он дал ей понять, что и не думает отступать от своего решения. С его стороны было бы просто глупо предполагать, что женщина, а тем более его жена, способна так же упорствовать в своих намерениях.
Первую половину утра миссис Пендайс провела в обычных занятиях. Через полчаса после ухода сквайра она приказала подать карету, снести в нее два чемодана, которые собственноручно уложила, и, держа в руке свою зеленую сумку, неторопливо села. Горничной, дворецкому Батлеру и кучеру Бексону она объяснила, что едет проведать мистера Джорджа. Нора и Би гостили у Тарпов, так что прощаться было не с кем, кроме старого скай-терьера Роя; и чтобы это расставание не было очень горьким, Роя она взяла с собой на станцию.
Мужу миссис Пендайс оставила коротенькое письмо, положив его туда, где, она знала, он тотчас увидит его, а другие не увидят совсем.
«Дорогой Хорэс!
Я уезжаю в Лондон, к Джорджу. Остановлюсь в гостинице Грина на Бонд-стрит. Ты, вероятно, помнишь мои вчерашние слова. Возможно, ты не понял, что я говорила серьезно. Присмотри, пожалуйста, за бедняжкой Роем и не позволяй давать ему слишком много мяса в такую жару… Джекмен лучше Эллиса знает, какого ухода в этом году требуют розы. Сообщи мне о здоровье Розы Бартер. Пожалуйста, не беспокойся обо мне. Джералду я напишу позже сама, но сейчас ни ему, ни девочкам писать не могу.
До свидания, дорогой Хорэс, мне очень жаль, если я огорчила тебя.
Твоя жена Марджори Пендайс.»
Как просто и спокойно миссис Пендайс оставила дом, так же просто и спокойно объяснила она себе этот шаг. Для нее это было не бегство из дому, не вызов мужу: она не скрывала адреса, не восклицала мелодраматически: «Я никогда больше не вернусь!» Подобный шантаж с наведенным пистолетом был не в ее духе. Практические детали, вроде того, какими средствами она теперь располагает, остались необдуманными; но и здесь, в ее точке зрения, вернее, в отсутствии всякой точки зрения на этот предмет, проявилась независимость ее взгляда. Хорэс не позволит, чтобы она голодала. Этого даже нельзя себе представить. К тому же у нее было своих триста фунтов в год. Правда, она не имела понятия, много это или мало и куда они помещены. Впрочем, это ее нимало не беспокоило, она говорила себе: «Я буду счастлива и в хижине с моими цветами и Роем», — и, хотя ей никогда не приходилось живать в хижине, возможно, она была права. Все, что другим доставалось за деньги, Тоттериджам шло само собой, а если и не шло, они великолепно умели обходиться малым это их качество, это умение черпать сокровища в собственной душе впитывалось в их кровь в течение столетий.
Однако из кареты на перрон миссис Пендайс прошла быстрым шагом, опустив голову. Старый скай-терьер, оставленный на сиденье в карете, смотрел из окна на хозяйку и, чувствуя в сердце какое-то щемление, а на носу слезы, капнувшие не из его глаз, понял, что это было не обычное расставание, и жалобно повизгивал за стеклом.
Миссис Пендайс велела извозчику отвезти себя в гостиницу Грина. И только войдя в свой номер, разместив вещи, умывшись и пообедав, она ощутила смущение и тоску по дому. Раньше новизна переживаний какое-то время отвлекала ее от мыслей о том, что делать дальше и как обернутся все ее мечты, надежды и чаяния. Захватив с собой зонтик от солнца, она вышла на Бонд-стрит. Проходивший мимо мужчина снял шляпу.
«Ах, боже мой, — подумала она, — кто бы это мог быть? А, верно, знакомый!»
У нее была плохая память на лица, но, хотя она не могла припомнить имени поздоровавшегося, она сразу почувствовала себя уверенней, не такой одинокой и брошенной на произвол судьбы. Скоро глаза ее оживленно заблестели при виде дамских туалетов, и витрины магазинов все больше и больше захватывали ее внимание. Марджори Пендайс охватила радость, подобная той, что наполняет сердце молоденькой девушки, впервые выехавшей на бал, или сердце моряка, вступившего на неведомую землю. Восхитительно открывать новое, бросать вызов неизвестному и знать, что эта прекрасная жизнь будет длиться всегда, — это радостное чувство несло ее как на крыльях в этот яркий июньский день среди веселой лондонской суеты. Она прошла мимо парфюмерной лавки и подумала: «Какой прелестный аромат!» У следующих дверей она остановилась, любуясь дивными кружевами, и, хотя мысленно твердила себе: «Я не должна ничего покупать. Все мои деньги принадлежат Джорджу», — радость ее не становилась меньше, и у нее было такое чувство, будто все эти прелестные вещи принадлежат ей.
В следующем окне она увидела афишу, театры, концерты, опера — и целую галерею портретов известных актеров и певцов. Она глядела с восторгом, который мог бы показаться смешным со стороны. Неужели все это каждый день и весь день можно смотреть и слушать за несколько шиллингов! Каждый год непременно — так было заведено — она один раз бывала в опере, два раза в театре и ни разу в концерте: ее муж не любил «классической» музыки. Пока она стояла у афиши, к ней подошла утомленная, измученная жарой нищая с ребенком на руках, сморщенным и совсем» крохотным Миссис Пендайс вынула из кошелька полкроны, подала, и вдруг ее охватила чуть ли не ярость.
«Бедный малютка! — думала она. — И, наверное, таких несчастных тысячи, а я-то жила и ничего не знала об их судьбе!»
Она улыбнулась женщине, та улыбнулась ей в ответ. И толстый юноша-еврей, стоявший в дверях магазина, заметив, как женщины улыбнулись друг другу, тоже улыбнулся, точно они ему чем-то понравились. Миссис Пендайс чувствовала себя так, будто весь город старается сделать ей приятное, и это было непривычно и радостно, ибо Уорстед Скайнес все тридцать лет ни разу не был любезен к ней. Она взглянула на витрину магазина шляп и порадовалась собственному отражению: светлый легкий костюм, отделанный узорами из черной бархатной тесьмы и гипюром, хотя и был сшит два года назад, выглядит очень мило, но и то сказать, в прошлом году она надевала его всего раз: она тогда носила траур по бедному Губерту. Оконное стекло польстило и ее щекам, и ласково блестевшим глазам, и ее темным, чуть посеребренным волосам. И она подумала: «Я совсем еще не старая!» Только ее шляпка, отраженная в стекле, вызвала у нее некоторое неудовольствие. Поля ее кругом загибались вниз, и, хотя миссис Пендайс любила этот фасон, теперь он показался ей старомодным. И она долго стояла у окна магазина, мысленно примеряя выставленные шляпки и стараясь убедить себя, что все они пойдут ей и что все они премиленькие, хотя они ей вовсе не нравились. Заглядывалась она и на окна других магазинов. Уже год она не видала лондонских улиц и за тридцать четыре года ни разу не ходила по этим улицам, мимо этих магазинов одна, а не в обществе мистера Пендайса или дочерей, которые не любили делать покупки.
И люди были другие, не такие, какими она видела их, идя с Хорэсом или девочками. Почти все были ей симпатичны, у всех была какая-то особая, интересная жизнь, к которой она, миссис Пендайс, оказалась странным, необъяснимым образом причастна. Как будто с каждым она могла в ту же секунду познакомиться, как будто эти люди тут же раскрыли бы ей свою душу и даже стали слушать прямо на улице с добрым интересом ее собственное повествование. Марджори Пендайс это было странно, и она приветливо улыбалась, так что все, кто видел эту улыбку, — продавщица из магазина, светская дама, извозчик, полицейский или завсегдатай клуба — ощущали вдруг тепло в сердце. Было приятно видеть, как улыбается эта уже немолодая женщина, у которой посеребренные, поднятые надо лбом волосы и шляпка с опущенными полями.
Миссис Пендайс вышла на Пикадилли и свернула направо, в сторону клуба Джорджа. Она хорошо знала этот дом, потому что всякий раз, проезжая мимо, не упускала случая взглянуть на окна, а в юбилей королевы Виктории провела в нем весь день, чтобы посмотреть процессию.
По мере того как она приближалась к клубу, ее все сильнее била лихорадка. Хотя она в отличие от Хорэса и не мучила себя предположениями, как все обернется, но тревога все-таки свила себе гнездо в ее сердце.
Джорджа в клубе не оказалось, и швейцар не знал его нового адреса. Миссис Пендайс стояла в растерянности. Она была матерью Джорджа, — как же могла она спросить его адрес? Швейцар почтительно ожидал: он с первого взгляда признал в этой женщине настоящую леди. Наконец миссис Пендайс проговорила спокойно:
— Нет ли у вас комнаты, где бы можно было написать ему письмо или, быть может…
— Конечно, есть, сударыня. Я провожу вас.
И, хотя к сыну пришла всего только его мать, швейцар держался с тем деликатно сочувствующим видом, как если бы он помогал влюбленным; и, возможно, он был прав в своей оценке относительной значимости любви, ибо он хорошо знал жизнь, вращаясь столько лет в самом лучшем обществе.
На листке бумаги, в верхней части которого белыми выпуклыми буквами стояло «Клуб стоиков», что было так знакомо по письмам Джорджа, миссис Пендайс написала то, что должна была ему сказать. В маленькой, полутемной комнате было очень тихо, только жужжала бившаяся о стекло большая муха, пригретая солнцем. Стены были темные, мебель старинная. Клуба стоиков не коснулось новое искусство, не было в нем и пышной роскоши, обязательной для буржуазных клубов. Комната, предназначенная для любителей писать, как будто вздыхала: «Мною так редко пользуются, но чувствуйте себя тут, как дома; в любой усадьбе есть такой же тихий уголок».
И все-таки немало стоиков сиживало здесь над письмами к своим возлюбленным. Возможно, на этом самом месте, этим самым пером писал Джордж Элин Белью, и сердце миссис Пендайс ревниво сжалось.
«Дорогой Джордж! (писала миссис Пендайс.)
Мне надо поговорить с тобой об очень важном деле. Приходи в гостиницу Грина, милый, и поскорее. Мне будет очень тоскливо и грустно, пока мы не увидимся.
Любящая тебя Марджори Пендайс.»
Такое письмо она послала бы своему возлюбленному, да оно и вышло таким потому, что у нее никогда не было возлюбленного, кому бы она могла написать так.
Она застенчиво улыбнулась, опустила письмо и полкроны в руку швейцара, отказалась от чашки чая и неторопливо пошла в сторону Хайд-парка.
Было пять часов пополудни; солнце ярко светило. Экипажи и пешеходы нескончаемым, ленивым потоком вливались в Хайд-парк. Миссис Пендайс тоже вошла в парк, немного робея: она не привыкла к такому стремительному движению, — перешла на другую сторону аллеи и села на скамью. Может быть, и Джордж был сейчас в парке, и она вдруг увидит его; может, здесь и Элин Белью, и она увидит сейчас и ее. Сердце миссис Пендайс заколотилось, а глаза под удивленно приподнятыми бровями ласково оглядывали каждую проходящую фигуру: старика, юношу, светскую даму, молоденьких румяных девушек. Как они все прелестны! Как мило одеты! Зависть смешалась с удовольствием, которое рождалось в ней всегда при виде прекрасного. И миссис Пендайс не подозревала, как прелестна была сейчас сама в этой старомодной шляпке с полями вниз.
Но покуда она сидела так, ее сердце наливалось тяжестью, и всякий раз, когда мимо нее проходил кто-нибудь из знакомых, ее охватывала нервная дрожь. Ответив на приветствие, она мучительно краснела, опускала голову, а слабая улыбка, казалось, говорила: «Я знаю, я веду себя непозволительно. Я не должна здесь сидеть одна».
Вдруг она почувствовала себя совсем старой; и в этой веселой толпе, в центре бурлящей жизни, в ярком солнечном блеске она испытала такое горькое одиночество, почти отчаяние, такую неприкаянность, как будто весь мир отрекся от нее; и она показалась себе деревцем из ее сада, вытащенным из родной почвы с голыми, жалкими корнями, жадно ищущими земли. Она поняла, что чересчур долго была привязана к месту, которое осталось для нее чужим, и была слишком стара, чтобы вынести пересадку. Привычка — это грузное, бескрылое чудовище, рожденное временем и местом, опутало ее своими щупальцами, сделало ее своей госпожой и не отпускало.
ГЛАВА II СЫН И МАТЬ
Стать членом Клуба стоиков труднее, чем верблюду пролезть сквозь игольное ушко, если человек не принадлежит к одному из древних английских родов; ибо если ему приходится в поте лица добывать хлеб, то он не может быть избранным; а поскольку первый параграф устава говорит, что члену клуба полагается пребывать в безделье, то и значит, что хлеб для него должен быть запасен его предками, и чем длиннее ряд этих предков, тем большая вероятность, что он не получит черных шаров.
А не будучи «стоиком», невозможно приобрести привычку внешнего самоконтроля, который прикрывает полнейшее отсутствие контроля внутреннего. Поистине этот клуб — замечательный пример того, как по милости природы лекарство в случае болезни оказывается всегда под рукой. Ибо, зная, что Джордж Пендайс и десятки подобных ему молодых людей никогда не сталкивались с тяготами и невзгодами жизни, и боясь, как бы они, если вдруг жизнь, верная своему легкомысленному и насмешливому нраву, заставит их соприкоснуться со своими сторонами, отдающими дурным тоном, не стали слишком уж докучать окружающие воплями изумления и ужаса. Природа придумала маску и самый лучший образец ее слепила под сводами Клуба стоиков. Она надела эту маску на лица тех молодых людей, в чьей душевной выносливости сомневалась, и назвала их джентльменами. И когда она слышала из-под масок их жалобные стоны, всякий раз, как они попадали под ноги неповоротливой и неразборчивой госпожи Жизни, она жалела их, ибо знала, что в этом нет их вины, а дело все в сложившейся без разумного вмешательства системе, которая и сделала их такими, какие они есть. И жалея их, наделяла большинство самодовольством, упрямством и толстой кожей, так, чтобы они, попав на проторенную дорогу своих отцов и дедов, до самой гробовой доски могли спокойно прозябать в тех самых стенах, где прозябали их отцы до своего смертного часа. Но иногда Природа (не будучи социалисткой) взмахивала крыльями и испускала вздох, боясь, как бы крайности и несообразности их систем не породили крайностей и несообразностей противоположного толка. Ибо всякие излишества были противны Природе, а то, что мистер Парамор так неизящно назвал «пендайсицитом», вызывало в ней просто ужас.
Может статься, что сходство между отцом и сыном будет долгие годы таиться под спудом, и только когда сила времени начнет угрожать звеньям связывающей их цепи, сходство это обнаружится и — такова уж ирония судьбы станет основным фактором, подрывающим основы наследственного принципа, являясь вместе с тем и самым веским его оправданием, хотя и не облеченным в слова.
Несомненно, ни Джордж, ни его отец не представляли себе, как глубоко пустил корни «пендайсицит» в душе каждого, не подозревали даже в самих себе этого бульдожьего упрямства, этой решимости не сворачивать с раз принятого пути, хотя бы он и был чреват множеством ненужных страданий. И причиняли бы они эти страдания вполне бессознательно. Они просто поступали, как подсказывала им привычка, укоренившаяся вследствие ослабленной деятельности разума, а также оттого, что на протяжении поколений в этом узком кругу, чей девиз: «Я владыка своей навозной кучи!», — браки заключались только в пределах этого круга. И вот Джордж, опровергая убеждения матери, что в жилах его течет кровь Тоттериджей, выступил на этот раз в доспехах отца. Ибо Тоттериджи — Джордж в этом отношении все больше и больше, стал приближаться к отцовской линии — имели более независимый и широкий взгляд на вещи. Что касается Пендайсов, то они исстари были «сельскими помещиками», и оставались такими всегда, без каких-либо романтических отклонений.
Подобно бесчисленному множеству семей, Пендайсы, замкнувшись в круг традиций, стали силой необходимости провинциалами до мозга костей.
Джордж — образец светского человека — поднял бы брови, если бы его назвали провинциалом, но сколько бы он ни поднимал бровей, своей природы ему не удалось бы переделать. Провинциализм проявился в нем, когда он, успев надоесть миссис Белью, стал удерживать ее, тогда как из уважения к ней и из чувства собственного достоинства он должен был бы дать ей свободу. А он более двух месяцев удерживал ее. Но все-таки он заслуживал снисхождения. Муки его сердца были нестерпимы; он был глубоко уязвлен страстью и доводящим до бешенства подозрением, что его, именно его, как старую перчатку, швырнули прочь за ненадобностью. Женщины надоедают мужчинам — это в порядке вещей. Но тут!.. Его природное упрямства сколько могло сопротивлялось истине, и даже теперь, когда сомнений уже быть не могло, он продолжал упорствовать. Он был стопроцентный Пендайс.
В обществе, однако, он вел себя как прежде. Приезжал в клуб к десяти, завтракал, читал спортивные газеты. В полдень извозчик отвозил его на вокзал, с которого шли поезда к месту очередных скачек, или же он ехал играть в крикет или в теннис. В половине седьмого он поднимался по лестнице своего клуба в ту карточную комнату, где все еще висел его портрет, говорящий, казалось: «Нелегко, нелегко, но положение обязывает!» В восемь он обедал, пил шампанское, остуженное льдом; его лицо было красным от целого дня на солнце, волосы и крахмальная манишка глянцевито сияли. Не было счастливее человека во всем Лондоне!
Но с наступлением сумерек вращающаяся дверь выпускала его на освещенные улицы, и до следующего утра общество больше его не видело. Вот когда он брал реванш за весь долгий день, приведенный в маске. Он ходил и ходил по улицам, стараясь довести себя до изнеможения, или сворачивал в Хайд-парк и садился на скамью где-нибудь в черной тени деревьев, и сидел так, сложив руки и опустив голову. В другой раз он заходил в какой-нибудь мюзик-холл и там в ярком свете, оглушенный вульгарным хохотом, запахами косметики, он силился на миг забыть образ, смех, аромат той, к которой его так властно влекло. И все время он ревновал глухой безотчетной ревностью к тому, другому, ибо не в его натуре было думать отвлеченно; к тому же он не мог представить себе, чтобы женщина ушла от него просто так, не найдя себе другого. Часто он подходил к ее дому и кружил, кружил возле, поглядывая украдкой на ее окно. Дважды он подходил к самой двери, но так и не решился позвонить. Как-то вечером, увидев в окне ее гостиной свет, он все-таки позвонил, но ему не открыли. Тогда словно злой дух вселился в него, и он бешено задергал колокольчик. Потом пошел к себе — он жил теперь в студии, которую снял неподалеку, — и сел писать к ней. Он долго мучился над письмом и порвал несколько листков. Джордж не любил высказывать свои чувства на бумаге. Он оттого только взялся за перо, что должен был излить свое сердце. В конце концов вот что у него получилось:
«Я знаю, сегодня вечером ты была дома. Это первый раз, когда я решил зайти к тебе. Почему ты не открыла мне? Ты не имеешь права так обходиться со мной. Ты обратила мою жизнь в ад.
Джордж»
Первый утренний свет подернул серебром мглу над рекой, и огни фонарей стали бледнеть, когда Джордж вышел из дому, чтобы опустить свое послание. Он пошел к реке, лег на пустую скамью под каштаном. Какой-то бродяга, не имеющий угла и ночующий здесь каждую ночь, приблизился неслышно и долго его разглядывал.
Но вот наступило утро и принесло с собой страх показаться смешным спасительное чувство для всех страдальцев. Джордж встал, боясь, как бы кто не увидел «стоика» лежащим здесь во фраке; а когда подошел обычный час, он надел на лицо привычную маску и отправился в клуб. Там ему отдали письмо матери, и он без промедления поехал к ней.
Миссис Пендайс еще не спускалась к завтраку и пригласила сына к себе. Когда он вошел, она стояла посреди комбаты в утреннем капотике с растерянным видом, как будто не зная, как вести себя. И только когда Джордж был уже совсем рядом, она бросилась к нему и обняла его. Джордж не видел ее лица, и его лицо было скрыто от нее, но сквозь легкую ткань он почувствовал, как все ее существо рвется к нему, а руки, оттягивавшие книзу его голову, дрожат, и горе, душившее его, вдруг ослабло. Но только на миг, ибо уже в следующую секунду эти судорожно сцепленные у него на шее руки возбудили в нем какое-то беспокойство. Хотя миссис Пендайс улыбалась, но в ее глазах блестели слезы, и это его оскорбило.
— Не надо, мама!
Миссис Пендайс в ответ только подняла на него глаза. Джордж не выдержал ее взгляда и отвернулся.
— Ну, — сказал он грубовато, — объясни мне, что заставило тебя…
Миссис Пендайс села на диван. Перед его приходом она расчесывала тронутые серебром волосы, — они все еще были густы и шелковисты. Эти волосы, раскинутые по плечам, поразили Джорджа. Ему как-то не приходило в голову, что волосы его матери не навсегда уложены в прическу.
Сидя рядом с ней на диване, он чувствовал, как ее пальцы гладят его руку, прося его не сердиться и не уходить. Чувствовал, что ее глаза ловят его взгляд, видел, как дрожат ее губы, но не мог согнать со своего лица почти злобной усмешки.
— Ну вот, дорогой, я и… — она запнулась, — я и сказала твоему отцу, что не могу примириться с его решением, и приехала к тебе.
Многие сыновья принимают как должное все, что их матери делают для них, считают материнскую преданность само собой разумеющейся и не чувствуют себя обязанными выказывать собственную любовь; и в то же время большинство сыновей глубоко возмущает, если их матери хотя бы на дюйм отступаются от светских правил, хотя бы на волосок отклоняются от норм поведения, подобающего матерям столь важных особ.
Так уж устроено, что родовые муки матери прекращаются только с ее смертью.
И Джордж был шокирован, услыхав из уст матери, что она ради него покинула его отца. Это признание уязвило его уважение к себе. Мысль, что его мать станет предметом всеобщих толков, оскорбляла его мужское достоинство и понятие о приличии. Происшедшее казалось невероятным, непостижимым и абсолютно недопустимым. Одновременно в его сознании возникла другая мысль: «Она хочет поставить на своем… чтобы я обещал…»
— Если ты думаешь, мама, — начал он, — что я откажусь от нее…
Пальцы миссис Пендайс судорожно сплелись.
— Нет, дорогой, — проговорила она с трудом, — если она так тебя любит, разве я могу просить об этом. Поэтому я и…
Джордж зло усмехнулся.
— Зачем же ты приехала? Чему ты можешь помочь? Как ты будешь жить здесь совсем одна? Я сам справлюсь со всем. Поезжай лучше домой.
Миссис Пендайс прервала его:
— О нет, Джордж, я не перенесу, чтобы ты был оторван от нас. Я должна быть с тобой!
Джордж чувствовал, что она вся дрожит. Он встал и подошел к окну. Голос миссис Пендайс говорил за его спиной:
— Я не стану требовать, чтобы ты расстался с ней, Джордж, я обещаю это, дорогой. Разве я могу, если вы так любите друг друга!
Опять Джордж зло усмехнулся. Сознание того, что он обманывает ее и вынужден обманывать дальше, еще больше его ожесточило.
— Возвращайся домой, мама! — сказал он. — Ты только все испортишь. Это не женское дело. Пусть отец поступает, как ему вздумается. Я сумею прожить один. Миссис Пендайс не отвечала, и он вынужден был обернуться. Она сидела без движения, опустив руки на колени, и то чисто мужское раздражение, которое вызывала в нем попавшая в двусмысленное положение женщина, усилилось во сто крат: ведь речь шла о его матери!
— Возвращайся, — повторил он, — пока не стали говорить! Ну чем ты можешь помочь? Ты не можешь покинуть отца — это нелепо! Ты должна вернуться домой!
— Но я не могу этого сделать, дорогой, — ответила миссис Пендайс.
Джордж даже простонал от гнева; но его мать сидела так неподвижно, была так бледна, что он вдруг смутно ощутил, как, должно быть, она страдает сейчас, и понял, что совсем не знал ту, что дала ему жизнь.
Наконец миссис Пендайс нарушила молчание:
— Но как же ты, Джордж, милый? Что будет с тобой дальше? Как ты будешь жить? — И вдруг, стиснув руки, она беспомощно воскликнула: — Чем все это кончится?
И Джордж не выдержал: в этих словах выразилось все, чем он терзался так долго. Он резко повернулся и пошел к двери.
— У меня сейчас нет времени, — проговорил он, — я зайду вечером.
Миссис Пендайс подняла глаза.
— О Джордж…
Но она уже давно привыкла подчинять свои желания желаниям других, и, не прибавив более ничего, она только улыбнулась.
Эта улыбка перевернула сердце Джорджа.
— Не расстраивайся так, мама. Все будет хорошо. Мы пойдем с тобой сегодня вечером в театр. Закажи билеты.
И, тоже пытаясь улыбнуться и не глядя на мать, чтобы окончательно не потерять самообладания, он вышел.
В вестибюле он увидел своего дядю, генерала Пендайса. Он стоял к нему спиной, но Джордж тотчас узнал его по слабому дрожанию в коленях, по покатым, но все еще не сутулым плечам, по тону голоса, сухому, недовольному и педантичному, какой бывает у человека, у которого отняли его дело. Генерал обернулся.
— А, Джордж! — сказал он. — Твоя мать остановилась здесь, не так ли? Взгляни, пожалуйста, что я получил от твоего отца.
Он трясущейся рукой протянул телеграмму: «Марджори в гостинице Грина. Немедленно поезжай к ней, Хорэс».
Пока Джордж читал, генерал Пендайс глядел на своего племянника; глаза генерала были обведены темными кругами, под ними набухли мешки, испещренные морщинками, — память о том, что он служил своему отечеству в тропических широтах.
— Что это значит? — спросил он. — «Немедленно поезжай к ней»? Разумеется, я поехал бы: всегда рад повидать твою мать. Только что за спешка?
Джордж хорошо понимал, что отец из гордости не станет писать матери, и хотя она уехала из дому ради него, Джорджа, он сочувствовал отцу. К счастью, генерал не стал долго ждать его ответа.
— Она приехала за новыми туалетами? Давненько я тебя не видал. Когда ты собираешься пообедать со мной? Я слыхал в Эпсоме, что ты продал своего жеребца. Что это ты вздумал? И почему вдруг твой отец стал посылать телеграммы? На него это не похоже. Ведь твоя мать не больна?
Джордж отрицательно покачал головой и, пробормотав что-то вроде: «Простите, пожалуйста! Деловое свидание, страшно спешу», — бросился прочь.
Так неожиданно покинутый, генерал подозвал мальчика-рассыльного, медленно вывел что-то карандашом на визитной карточке и стал ожидать, повернувшись спиной к тем, кто был в вестибюле, и опершись на свою трость. И, ожидая, он изо всех сил старался ни о чем не думать. Кончив служить отечеству, он теперь только и делал, что ожидал чего-нибудь; мысли же утомляли и расстраивали его, так как у него был однажды солнечный удар и несколько раз лихорадка. Своим безукоризненным воротничком, безукоризненными штиблетами, костюмом, выправкой, своей манерой откашливаться, необычной сухой желтизной лица между аккуратно расчесанными баками, неподвижностью восковых рук, обхвативших набалдашник трости, — всем этим он производил впечатление человека, досуха выжатого системой. И только глаза, беспокойные и упрямые, выдавали в нем истинного Пендайса.
Комкая в руке телеграмму, генерал прошел в дамскую гостиную. Телеграмма мучила его. Было в ней что-то особенное, а он не привык к утренним визитам. Он нашел свою невестку сидящей у окна. Ее лицо было против обыкновения розовое, глаза блестели, и был в них как будто вызов. Она поздоровалась с ним ласково, а генерал Пендайс был не из тех, кто видит дальше своего носа. К счастью, он никогда и не стремился к этому.
— Как поживаете, Марджори? — спросил он. — Рад видеть вас в Лондоне. Что Хорэс? Взгляните, что он прислал мне. — И он протянул ей телеграмму с таким видом, как будто отплачивал за оскорбление, затем, спохватившись, спросил: — Не могу ли я быть чем-нибудь полезен?
Миссис Пендайс прочла телеграмму и как и Джордж, пожалела ее составителя.
— Нет, Чарлз, благодарю, — произнесла она медленно. — Мне ничего не нужно. Хорэс стал волноваться из-за пустяков.
Генерал Пендайс взглянул на невестку, в его глазах что-то дрогнуло, но истинное положение дел было бы так неприемлемо для него и так чуждо его взглядам, что он принял это объяснение.
— Все же ему не следовало бы посылать такой телеграммы, — сказал он. Я было подумал, что вы больны. Это испортило мне завтрак!
Правда, телеграмма не помешала ему окончить обильный завтрак, но сейчас он искренне верил, что испытывает голод.
— Когда мы стояли в Галифаксе, был у нас один офицер, так он слал только телеграммы. Его прозвали Телеграфным Джо. Он командовал «блуботтами». Слыхали о нем? Если Хорэс и дальше поведет себя в том же духе, ему надо будет показаться специалисту: это может кончиться плохо. Вы, верно, приехали за туалетами? Когда переезжаете в город? Сезон уже начался.
Миссис Пендайс не испытывала страха или неудобства перед братом мужа; хотя он был педантом и привык к безоговорочной покорности подчиненных, людям одного с ним положения он не мог внушать страха. Стало быть, миссис Пендайс не сказала ему правды только потому, что всегда старалась не причинять ненужных страданий, и еще потому, что правду невозможно было высказать словами. Даже ей самой происшедшее казалось немного необычным, а как же ужасно это расстроило бы бедного генерала!
— Не знаю, будем ли мы этот сезон в Лондоне, Сад очень красив, а тут еще и помолвка Би. Девочка так счастлива.
Генерал погладил бакенбарды белой рукой.
— Ах, да, — сказал он, — молодой Тарп! Дайте-ка вспомнить, он ведь не старший сын: его старший брат служит в моем бывшем полку. А чем занимается этот молодой человек?
— Хозяйничает в усадьбе. Думаю, что доходы его невелики. Но он такой милый мальчик. Их помолвка будет долгой. Сельское хозяйство не очень прибыльное занятие, а Хорэс хочет, чтобы у них была тысяча фунтов в год. Многое зависит от мистера Тарпа. Мне кажется, можно прекрасно начинать и с семьюстами фунтами, как, по-вашему, Чарлз?
Ответные слова генерала Пендайса оказались, как всегда, некстати, ибо он отличался тем, что следовал в разговоре собственному ходу мыслей.
— Как поживает Джордж? — спросил он. — Я встретил его в вестибюле, но он мчался куда-то, как на пожар. Мне говорили в Эпсоме, что он проигрался.
Следя за мухой, которая раздражала его, он не заметил, как изменилось лицо его невестки.
— Много проиграл? — переспросила она.
— Говорят, огромную сумму. Это плохо, Марджори, очень плохо. Почему бы и не поставить фунт-другой? Но надо знать меру.
Миссис Пендайс ничего не ответила, ее лицо окаменело, как у женщины, с уст которой готово сорваться: «Не вынуждайте меня намекать, что вы надоели мне».
А генерал все не унимался:
— Сейчас в скачках принимает участие много новых лиц, о которых никто ничего не знает. Например, субъект, купивший у Джорджа его жеребца, В дни моей молодости его близко бы не подпустили к ипподрому. Я теперь не узнаю половины цветов. Это портит все удовольствие. Прежнего избранного круга уже не существует. Джордж должен быть осторожен. Не представляю себе, к чему мы идем!
Вот уже тридцать пять лет по всякому поводу и от многих людей слышала Марджори Пендайс эти слова: «Не представляю себе, к чему мы идем!» И она привыкла к тому, что люди ничего не могут представить себе, как привыкла к основательной еде, к основательному комфорту Уорстед Скайнеса или к утренним туманам и дождям. И только оттого, что нервы ее были натянуты до предела, а сердце разрывалось от боли, эти слова показались ей сегодня невыносимыми. Но привычка была слишком сильна в ней, и она промолчала.
Генерал, которому чужие соображения были не так уж важны, развивал свою мысль:
— Попомните мои слова, Марджори, выборы обернутся против нас. Страна на краю гибели.
Миссис Пендайс сказала:
— Ах, так вы думаете, что либералы победят и в самом деле?
По привычке в ее голосе звучала легкая обеспокоенность, которой она не чувствовала.
— Думаю? — переспросил генерал Пендайс. — Я каждую ночь молю бога, чтобы это им не удалось!
Сжав обеими руками серебряный набалдашник своей пальмовой трости, он вперил взор поверх их в пространство; в его застывшем взгляде было что-то отрешенное, какая-то растерянность и страх, но не только за себя. Под его эгоизмом крылось унаследованное от предков убеждение, что его благополучие является символом и залогом благополучия страны. Миссис Пендайс, видевшая не раз это выражение на лице у мужа, выглянула в окно, откуда доносился шум улицы.
Генерал встал.
— Что ж, Марджори, — сказал он, — если моя помощь вам не нужна, я, пожалуй, пойду. Вас, наверное, ждут ваши портнихи. Кланяйтесь Хорэсу да скажите ему, чтобы он впредь не посылал мне таких телеграмм.
И с трудом поклонившись, он пожал ей руку с искренним расположением и почтительностью, взял шляпу и вышел. Миссис Пендайс, наблюдая за тем, как он спускался по лестнице, глядя на его покатые плечи и прямую спину, его седые волосы с аккуратным пробором, на его старческие колени, приложила руку к сердцу я вздохнула. Ей почудилось, что вместе с ним уходит вся ее прежняя жизнь и все то, с чем нельзя расстаться без грусти.
ГЛАВА III МИССИС БЕЛЬЮ ПЛАТИТ ДОЛГИ
Миссис Белью сидела на кровати, разглаживая пальцами половинки письма. Возле нее стояла шкатулка с драгоценностями. Вынув оттуда аметистовое ожерелье, изумрудный кулон и бриллиантовое кольцо, она обернула их ватой и спрятала в большой конверт. Одну за другой выложила на колени остальные драгоценности и залюбовалась ими. Потом, вернув в шкатулку два кольца и два ожерелья, поместила остальное в маленькую зеленую коробку и, захватив конверт вместе с этой коробкой, вышла из дому. Подозвала извозчика, доехала до почты и отправила такую телеграмму:
«Клуб стоиков, Пендайсу.
Будьте в студии от шести до семи. Э.».
С почты отправилась в ювелирную лавку, и не один мужчина, завидев ее пылающие щеки и тлеющие отблески в глазах, будто в глубине ее души бушевал пожар, оглядывался на нее, горько сетуя, что не знает, кто она и куда едет. Ювелир взял драгоценности из зеленой коробки, взвесил одну за другой и принялся внимательно разглядывать их в лупу. Он был мал ростом, с желтым, морщинистым лицом и тощей короткой бородой; определив в уме цифру, которую он мог дать, посмотрел на клиентку, собираясь назвать меньшую цифру. Она сидела, подперев подбородок ладонью, устремив на ювелира внимательный взгляд, и он почему-то назвал ей настоящую цифру.
— Это все?
— Да, сударыня, больше я не могу дать.
— Хорошо! Но уплатите мне сейчас, и наличными.
Глаза ювелира замигали.
— Это большие деньги, — сказал он, — и не в наших правилах… Боюсь, у нас в кассе такой суммы не найдется.
— Тогда пошлите в банк, иначе мне придется обратиться к кому-нибудь еще.
Ювелир нервно потер руки.
— Одну минуточку, я должен посоветоваться с моим компаньоном.
Он ушел и из глубины лавки вместе с компаньоном с беспокойством поглядывал на миссис Белью. Потом вернулся, натянуто улыбаясь. Миссис Белью сидела все в той же позе.
— Вы зашли к нам в удачную минуту, сударыня. Мы сможем рассчитаться с вами сейчас.
— Будьте любезны банкнотами и дайте мне листок бумаги!
Ювелир принес и то и другое.
Миссис Белью черкнула записку, вложила ее и пачку денег в конверт с драгоценностями, заклеила и написала адрес.
— Найдите мне кэб, пожалуйста!
Ювелир нашел кэб.
— Набережная Челси!
И кэб с миссис Белью укатил.
И снова на этих запруженных улицах с таким бойким движением мужчины останавливались, чтобы посмотреть ей вслед. Извозчик, довезший ее до моста Альберта, с изумлением поглядывая то на полученные деньги, то на свою пассажирку, отъехал к стоянке. Миссис Белью быстрым шагом пошла по улице, свернула за угол и очутилась у небольшого садика, где в ряд стояли три тополя. Не замедляя шага, она отворила калитку, прошла по дорожке к дому и остановилась у первой из трех, выкрашенных в зеленую краску дверей. Юноша с бородкой, по виду художник, стоявший за последней дверью, наблюдал за ней с многозначительной улыбкой. Она вынула ключ, вложила в скважину, открыла дверь и вошла.
Ее лицо, казалось, навело художника на какую-то мысль. Он вынес мольберт, полотно и, расположившись так, чтобы видна была дверь, за которой только что скрылась миссис Белью, принялся делать набросок.
В том углу сада был старый, выложенный из камня фонтан с тремя каменными лягушками, над ним — смородиновый куст, а за всем этим виднелась ярко-зеленая дверь, на которую падал косой луч солнца. Он работал час, потом внес мольберт домой и ушел куда-то перекусить.
Вскоре после того, как он ушел, в саду появилась миссис Белью. Она закрыла за собой дверь и остановилась. Вынув из кармана пухлый конверт, опустила его в ящик для писем, затем наклонилась, подняла веточку и укрепила ее в щели, чтобы крышка ящика упала бесшумно. Окончив возиться с ящиком, она провела ладонями по лицу и груди, будто стряхнув с себя что-то, и пошла прочь. Выйдя из калитки, она свернула влево и направилась по той же улице к реке. Она шла медленно, посматривая по сторонам, видимо, наслаждаясь прогулкой. Раз-другой остановилась, вздохнула полной грудью, как будто ей не хватало воздуха. Вышла на набережную, остановилась, облокотившись на парапет. В ее пальцах был зажат какой-то маленький предмет, блестевший на солнце. Это был ключ. Медленно протянула руку над водой, разжала пальцы, и ключ упал в воду.
ГЛАВА IV ВДОХНОВЕНИЕ МИССИС ПЕНДАЙС
Джордж так и не пришел, чтобы свезти миссис Пендайс в театр, и она, весь день мечтавшая о вечере, провела его частью в гостиной, среди вещей, которые были ей чужими, частью в столовой, где ужинали по двое, по трое люди, на которых она смотрела, но с которыми не могла перемолвиться ни словом, да и не хотела: колесница жизни раздавила ее надежды, и они остались бездыханными в ее груди. И всю эту ночь, за исключением нескольких минут сна, ее грызла тоска одиночества и сознание бесплодности ее усилий, а еще более — горькая мысль: «Я не нужна Джорджу, я не могу ему помочь».
Ее сердце, жаждущее утешения, снова и снова возвращалось к тем дням, когда она была нужна сыну. Но время полотняных костюмчиков давно прошло время, когда только от нее одной зависело сделать его счастливым: дать ему ломтик ананаса, отыскать старый кнут Бенсона, почитать главу из книги «Школьные годы Тома Брауна», растереть бальзамом ушибленную крошечную лодыжку, подоткнуть одеяльце, когда он укладывался спать.
Этой ночью она с пророческой ясностью увидела, что с тех пор, как ее сын пошел в школу, она перестала быть ему нужна! Столько лет она каждый день внушала себе, что нужна ему по-прежнему, и это стало ей так же необходимо, как утренняя и вечерняя молитва. И вот теперь она поняла, что это был самообман. Но и сейчас, лежа во тьме ночи с открытыми глазами, она все еще пыталась верить, что нужна ему, ибо эта вера поселилась в ней в тот самый день, когда она дала жизнь своему первенцу. Второй сын, дочери — она любила их, но все это было не то, не так — она никогда не стремилась быть нужной им, ибо эта часть ее души раз и навсегда была отдана Джорджу.
Шум за окном наконец утих, и она уснула; но часа через два начавшееся движение разбудило ее. Она лежала, прислушиваясь. Уличные шумы и собственные мысли переплелись в ее утомленном мозгу в один огромный клубок усталости, сознания, что все это ненужно и бессмысленно, рождено взаимонепониманием и несговорчивостью и уничтожает для нее ту веру в умеренность, которая всегда была для нее священна. Рано пробудившаяся оса, привлеченная сладкими запахами туалетного столика, вылетела из своего укромного уголка, где провела ночь, и кружила над кроватью. Миссис Пендайс побаивалась ос и, улучив момент, когда назойливая гостья чем-то отвлеклась, соскользнула с постели и принялась осторожно махать конвертом из-под ночной сорочки, пока наконец оса, поняв, что нарушила покой истинное леди, не улетела прочь. Улегшись опять, миссис Пендайс думала: «Люди дразнят ос, пока те не пускают в ход жала, а тогда убивают их; как глупо», — не понимая, что в этих словах заключалось ее понятие о страдании.
Она позавтракала у себя в номере, так и не дождавшись вести от Джорджа. Потом, сама не зная, зачем, но движимая какой-то смутной надеждой, решила поехать к миссис Белью. Но прежде надо было повидать мистера Парамора. Не имея никакого представления о часе, когда деловые люди начинают свой день, она вышла из дому только в начале двенадцатого и попросила извозчика ехать медленно. Он повез ее поэтому быстрее, чем ездил обыкновенно. На Лейстер-сквере движение было остановлено: проезжала некая Важная особа, и на тротуарах собрался простой народ, с переполненным радостью сердцами и пустыми желудками, встречая Важную особу приветственными криками. Миссис Пендайс прильнула к окошку кэба; она тоже любила зрелища.
Наконец толпа разошлась, и кэб покатил дальше;
Впервые в жизни миссис Пендайс очутилась в деловой приемной, если не считать приемной зубного врача. Из этой маленькой комнатки, где ей дали «Тайме», который она не могла читать от волнения, она видела большие комнаты, заставленные до потолка книгами в кожаных переплетах и черными жестяными ящичками с буквой алфавита на каждом, и молодых людей, сидящих за стопками исписанных бумаг. Она слышала частый треск, заинтересовавший ее, и обоняла запах кожи и карболки, показавшийся ей отвратительным. Молодой человек с рыжеватыми волосами и пером в руке прошел мимо, посмотрел на нее с любопытством и тут же отвел взгляд. Ее вдруг кольнула жалость к этому молодому человеку и ко всем другим, сидевшим за стопками бумаг, и она подумала: «И это все из-за того, что люди не могут между собой договориться».
Наконец ее провели в кабинет мистера Парамора. Она сидела в кресле в этой обширной пустой комнате, навевавшей мысли о былом величии, разглядывала стоявшие в узкой вазе три розы, и чувствовала, что ни за что не решится заговорить.
У мистера Парамора были седые, стального цвета брови, нависающие пучками над гладко выбритым загорелым лицом, высокий лоб, зачесанные назад, тоже седые волосы. Миссис Пендайс спрашивала себя, почему мистер Парамор кажется пятью годами моложе Хорэса, которого он старше, и десятью годами моложе Чарлза, самого молодого из всех троих. Его глаза, обычно стального цвета, под действием некоего духовного процесса ставшие просто серыми, глядели молодо, хотя и серьезно, и улыбка, трогающая уголки губ, была молодая.
— Очень рад вас видеть, — сказал он.
Миссис Пендайс могла только улыбнуться в ответ. Мистер Парамор понюхал розы.
— Не так хороши, как ваши, не правда ли? — сказал он. — Но из моих самые лучшие.
Миссис Пендайс покраснела от удовольствия.
— Мой сад так прелестен сейчас, — начала было миссис Пендайс, но спохватилась, что у нее нет больше сада… Однако, вспомнив, что хотя у нее его и нет зато у мистера Парамора сад имеется по-прежнему, она быстро добавила: — У вас, мистер Парамор, должно быть, очаровательный сад.
Мистер Парамор, выдернув из пачки бумаг скрепку, напоминающую кинжал, нашел какое-то письмо и протянул его миссис Пендайс:
— Да, — ответил он, — мой сад не плох. Вам будет интересно взглянуть вот на это, я полагаю.
На конверте стояло: «Белью против Белью и Пендайса». Миссис Пендайс глядела на эти слова, как завороженная, долго не понимая их истинного значения. В первый раз весь страшный смысл происходящего, проникнув сквозь спасительную броню благовоспитанности, которую надевают смертные, чтобы не знать того, что знать не хочется, открылся ей целиком. Двое мужчин и женщина схватились между собой, ненавидят, топчут друг друга на глазах у всех. Женщина и двое мужчин, отбросив милосердие и душевное благородство, выдержанность и человеколюбие, отбросив все, что возвышает жизнь и делает ее прекрасной, вцепились друг в друга, как дикари, перед всем светом. Двое мужчин, один из которых ее сын, и женщина, которую они любят оба! «Белью против Белью и Пендайса!» Этот случай приобретет известность вместе с подобными же прискорбными случаями, о которых ей приходилось читать время от времени с интересом, который чем-то ее оскорблял: «Снукс против Снукса и Стайлса», «Хойреди против Хойреди», «Бетани против Бетани и Суитенхема». Вместе со всеми этими людьми, которые представлялись ей столь ужасными и в то же время будили в ней жалость, словно какой-то злобный и глупый дух пригвоздил их к позорному столбу, чтобы каждый, кому вздумается, мог подойти и посмеяться над ними. Ледяной ужас сковал ей сердце. Это было так гнусно, так вульгарно, так оскорбительно!
В этом письме некая адвокатская контора подтверждала в нескольких словах начатое дело и все. Миссис Пендайс подняла глаза на Парамора. Он перестал водить карандашом по промокательной бумаге и тотчас заговорил:
— Завтра во второй половине дня я повидаю этих людей. Приложу все силы, чтобы они здраво взглянули на дело.
В его глазах она прочла, что он видит ее страдания и страдает сам.
— А если… если они не захотят!
— Тогда мы возьмемся за дело с другой стороны, и пусть они пеняют на себя.
Миссис Пендайс откинулась в кресле, ей снова почудился запах кожи и карболки. Подступила дурнота, и, чтобы скрыть свою слабость, она спросила наугад:
— Что значит это «не официально» в письме?
Мистер Парамор улыбнулся.
— Так мы говорим, — сказал он, — когда утверждаем что-то и вместе с тем оставляем за собой право взять свои слова назад.
Слова Парамора ничего не объяснили миссис Пендайс, но она сказала:
— Понимаю. Но что они утверждают?
Мистер Парамор положил обе руки на стол и соединил кончики пальцев.
— Видите ли, — принялся объяснять он, — в подобных случаях мы, то есть другая сторона и я, все равно что кошка с собакой. Делаем вид, что не знаем о существовании друг друга, и менее всего хотим знать. И вот когда случается оказать услугу друг другу, мы, соблюдая достоинство, как бы заявляем': «Это вовсе не услуга». Вы понимаете?
И снова миссис Пендайс сказала:
— Да, понимаю.
— Это может показаться несколько провинциальным, но мы, юристы, только и существуем тем, что провинциально. Если в один прекрасный день люди начнут уважать чужую точку зрения, право, не знаю, что будет с нами.
Взгляд миссис Пендайс снова упал на слова «Белью против Белью и Пендайса», и снова, как завороженная, она не могла оторваться от них.
— Но, быть может, вас привело ко мне еще что-нибудь? — спросил мистер Парамор.
Ее вдруг охватил страх.
— О нет, больше ничего. Я просто зашла узнать, как обстоит дело. Я приехала в Лондон повидать Джорджа. Вы сказали тогда, что я…
Мистер Парамор поспешил ей на помощь.
— Да, конечно, конечно.
— Хорэс остался дома.
— Хорошо.
— Он и Джордж иной раз…
— Не ладят? Они слишком похожи друг на друга.
— Вы находите? Я как-то не замечала.
— Не лицом, конечно. Но их обоих отличает…
Мистер Парамор улыбнулся, не закончив фразы, и миссис Пендайс, не знавшая, что он хотел было сказать «пендайсицит», тоже в ответ чуть улыбнулась.
— Джордж очень решительно настроен, — сказала она. — Так вы полагаете, мистер Парамор, что сумеете договориться с адвокатами капитана Белью?
Мистер Парамор откинулся на спинку стула. Одна его рука лежала на столе, прикрыв написанное карандашом на промокательной бумаге.
— Да, — сказал он, — о да!
Но миссис Пендайс подняла это «да» по-своему. Она пришла, чтобы поговорить с ним о своем визите к Элин Белью, но теперь мозг ее сверлила одна мысль: «Ему не убедить их, нет, я чувствую. Мне надо уходить отсюда».
И снова ей как будто послышался несмолкаемый треск, почудился запах карболки и кожи, и перед глазами поплыли слова «Белью против Белью и Пендайса».
Она протянула руку.
Мистер Парамор пожал ее, глядя в пол.
— До свидания, — проговорил он. — Так где вы остановились? Гостиница Грина? Я буду у вас, расскажу, чем это все кончится. Я понимаю… понимаю…
Миссис Пендайс, которую это «я понимаю, понимаю» расстроило так, словно до сих пор никто ничего не понимал, вышла из кабинета с дрожащими губами. Но ведь среди окружавших ее никто в самом деле «не понимал». Не то, чтобы стоило горевать из-за подобного пустяка, но факт оставался. И в этот миг, как ни странно, она вспомнила мужа и подумала: «Что-то он сейчас поделывает?» — и ей стало жаль его.
А мистер Парамор вернулся к своему столу и стал читать написанное на промокательной бумаге:
То мы отстаиваем наши жалкие права. То соблюдаем наше глупое достоинство. Мы нетерпимы к их точке зрения. Они нетерпимы к нашей. Мы хватаем их за уши. Они вцепляются нам в волосы. И вот начинаются недоразумения, приводящие к неприятностям для всех.Увидев, что о этих строках нет ни рифмы, ни размера, он невозмутимо порвал их.
Опять миссис Пендайс велела извозчику ехать не спеша, и опять он повез ее быстрее, чем привык возить, и все-таки дорога до Челси показалась ей бесконечной. Они то и дело сворачивали за угол и с каждым разом все круче, как будто извозчик задался целью испытать, сколько может выдержать рот его кобылы.
«Бедная лошадка! — подумала миссис Пендайс. — У нее, наверное, поранены губы! И к чему столько поворотов!»
Она сказала извозчику:
— Пожалуйста, поезжайте прямо. Я не люблю поворотов.
Извозчик повиновался, но очень страдал, что вместо задуманных шести пришлось повернуть только один раз, и когда миссис Пендайс расплачивалась с ним, набросил шиллинг, чтобы возместить сэкономленное расстояние.
Миссис Пендайс уплатила, прибавив сверх того шесть пенсов, почему-то полагая, что облегчает участь лошади: извозчик, коснувшись шляпы, сказал:
— Благодарю, ваше сиятельство.
Он всегда говорил «ваше сиятельство», когда получал полтора шиллинга сверх обычной платы.
Миссис Пендайс с минуту стояла на мостовой, поглаживая бархатные ноздри лошади, и говорила себе: «Я должна зайти к ней; глупо проделать весь этот путь и не зайти!»
Но сердце ее так колотилось, что ей трудно было дышать.
Наконец она позвонила.
Миссис Белью сидела на диване в маленькой гостиной и подсвистывала канарейке в клетке, висящей на открытом окне. К делам людским постоянно примешивается ирония, касаясь самых сокровенных начал жизни. Надежды миссис Пендайс, предположения, от которых у нее всю дорогу боязливо замирало сердце, пропали втуне. Тысячу раз она представляла себе эту встречу, как только мысль о ней пришла ей в голову. Действительность оказалась совсем иной. Ни волнения, ни враждебности, только какой-то мучительный интерес и восхищение. Да и как могла эта или любая другая женщина не полюбить ее Джорджа!
Первый миг растерянности прошел, и глаза миссис Белью стали спокойными и любезными, как будто в ее поведении никто не мог усмотреть и тени предосудительного. А миссис Пендайс не могла не ответить любезностью на любезность.
— Не сердитесь на меня за мой визит, Джордж ничего не знает. Я почувствовала, что должна повидать вас. Боюсь, что вы оба не сознаете, что вы делаете. Это так страшно. И касается не только вас двоих.
Улыбка сошла с лица миссис Белью.
— Пожалуйста, не говорите «вы оба», — сказала она.
Миссис Пендайс, запинаясь, произнесла:
— Я… я не понимаю.
Миссис Белью твердо взглянула в лицо гостьи, усмехнулась и стала чуть-чуть вульгарной.
— Я думаю, вам давно следовало бы понять. Я не люблю вашего сына. Любила раньше, а теперь не люблю. Я сказала ему об этом вчера, бесповоротно.
Миссис Пендайс слушала эти слова, которые так решительно, так чудесно меняли все, — слова, которые должны были бы прозвучать как журчание источника в пустыне… и горячее негодование поднималось в ней, глаза запылали.
— Вы не любите его? — воскликнула она.
Она чувствовала только, что ей нанесли страшное оскорбление.
Этой женщине надоел Джордж! Ее сын! И она посмотрела на миссис Белью, на чьем лице проступило что-то вроде сочувствующего любопытства, взглядом, в котором никогда прежде не загоралась ненависть.
— Он надоел вам? Вы его бросили? Тогда я немедленно должна ехать к нему! Будьте добры сказать мне его адрес.
Элин Белью присела к бюро, набросала несколько слов на конверте изящество ее движений ножом полоснуло по сердцу миссис Пендайс.
Она взяла адрес. Ей было неведомо искусство наносить оскорбления, да и ни одно слово не могло бы выразить того, что кипело у нее в душе, и она просто повернулась и вышла.
Ей вслед прозвучали яростной скороговоркой слова:
— Как он мог не надоесть мне? Я не вы. Уходите!
Миссис Пендайс рывком распахнула дверь. Она спускалась, опираясь на перила. Ее охватила та мучительная слабость, близкая к обмороку, какая бывает у многих людей, столкнувшихся в себе или в других с разнузданным проявлением низменных сил.
ГЛАВА V МАТЬ И СЫН
Район Челси был для миссис Пендайс неведомой страной, и ей потребовалось бы немало времени, чтобы отыскать квартиру Джорджа, если бы она принадлежала к Пендайсам не только по имени, но и по характеру. Ведь Пендайсы никогда не спрашивали дороги и не верили ничьим объяснениям, а отыскивали путь самостоятельно, тратя при этом массу ненужных усилий, на что потом жаловались.
Дорогу ей объяснили: сперва полисмен, а затем молодой человек с бородкой, напоминающий художника. Этот последний стоял, прислонившись к калитке, и на вопрос миссис Пендайс отворил калитку и сказал:
— Сюда, дверь в углу, направо.
Миссис Пендайс прошла но дорожке мимо заброшенного фонтана с тремя каменными лягушками и остановилась у первой зеленой двери. В ее душе страх чередовался с радостью, ибо теперь, когда она была далеко от миссис Белью, она уже не чувствовала себя оскорбленной. Оскорбителен был самый облик миссис Белью — так субъективны в этом мире даже очень кроткие сердца.
Она отыскала среди виноградных лоз заржавленную ручку звонка и дернула. Звонок надтреснуто звякнул, но никто не отозвался, только за дверью как будто кто-то ходил взад и вперед. На всю улицу закричал разносчик, и его речитатив заглушил звук шагов за дверью. По дорожке в ее сторону шел молодой человек с бородкой, похожий на художника.
— Не можете вы мне сказать, сэр, мой сын дома?
— Мне кажется, он не выходил, я рисую здесь с самого утра.
Миссис Пендайс с некоторым недоумением! взглянула на мольберт, стоявший у соседней двери. Ей было странно, что ее сын живет в таком месте.
— Позвольте, я дерну. Все эти звонки никуда не годятся.
— Будьте так добры!
Художник дернул.
— Он должен быть дома. Я не спускал глаз с его двери: я ее рисую.
Миссис Пендайс посмотрела на дверь.
— И никак не получается, — сказал художник. — Сколько времени бьюсь.
— У него есть слуга?
— Конечно, нет, — ответил художник. — Это ведь мастерская. Свет и тень не ложатся. Не могли бы вы постоять так секунду, вы бы мне очень помогли!
Он попятился и приставил руку козырьком ко лбу; миссис Пендайс вдруг почувствовала легкий озноб. «Почему Джордж не открывает? — подумала она. — И что делает этот молодой человек?»
Художник опустил руку.
— Большое спасибо! — сказал он. — Попробую позвонить еще. Вот так! Это и мертвого разбудит.
И он засмеялся.
Необъяснимый ужас напал на миссис Пендайс.
— Я должна войти к нему, — прошептала она, — я должна войти!
Миссис Пендайс схватила ручку звонка и с силой задергала.
— Да, — сказал художник, — все-таки эти звонки никуда не годятся.
И он снова поднес руку ко лбу. Миссис Пендайс прислонилась к двери, колени у нее дрожали.
«Что с ним? — думала она. — Может, он просто спит, а может… О господи!»
Она ударила в звонок что есть силы. Дверь отворилась, на пороге стоял Джордж. Сдерживая рыдания, миссис Пендайс вошла. Джордж захлопнул за ней дверь.
Целую минуту она молчала: все еще не прошел ужас, и было немного стыдно. Она даже не могла смотреть на сына, а бросала робкие взгляды вокруг. Она видела комнату, переходящую в дальнем углу в галерею, конической формы потолок, до половины застекленный. Она видела портьеру, отделяющую галерею от комнаты, стол, на котором были чашки и графины с вином, круглую железную печку, циновку на полу и большое зеркало. В зеркале отражалась серебряная ваза с цветами. Миссис Пендайс видела, что они засохли; слабый запах гниения, исходивший от них, был ее первым отчетливым ощущением.
— Твои цветы завяли, дорогой! — сказала она. — Я поставлю тебе свежих!
И только тогда она взглянула первый раз на Джорджа. Под его глазами были круги, лицо пожелтело и осунулось. Его вид испугал ее, и она подумала: «Я должна быть спокойна. Нельзя, чтобы он догадался!»
Ее пугало выражение отчаяния на его лице, отчаяния и готовности очертя голову совершить что-нибудь, она опасалась его упрямства, его слепого, безрассудного упрямства, которое цепляется за прошлое только потому, что оно было, и не желает сдавать своих позиций, хотя эта позиции уже давно потеряли всякий смысл. В ней самой совсем не было этой черты, и поэтому она не могла себе представить, куда она его заведет, но она всю жизнь прожила бок о бок с подобным упрямством и понимала, что сейчас ее сыну грозит опасность.
Страх помог ей вернуть самообладание. Она усадила Джорджа на диван, сев рядом с ним. И вдруг подумала: «Сколько раз он сидел здесь, обнимая эту женщину!»
— Ты не заехал за мной вчера вечером, дорогой! А у меня были такие хорошие билеты.
Джордж улыбнулся.
— У меня были другие дела, мама.
От этой улыбки сердце Марджори Пендайс заколотилось, все поплыло перед глазами, но она нашла в себе силы улыбнуться.
— Как у тебя здесь мило, дорогой!
— Да, есть где размяться.
И миссис Пендайс вспомнила звук шагов за дверью. Из того, что он не спросил ее, откуда ей стал известен его новый адрес, она поняла, что он догадался, к кому она заходила, так что ни ему, ни ей не надо было ничего объяснять друг другу. Хотя это и облегчило положение, но еще усугубляло ее страх перед тем неведомым, что угрожало сейчас ее сыну. Различные картины из прошлых лет возникали перед ее взором. Вот Джордж в ее спальне после первой охоты с гончими; круглые щеки поцарапаны от висков до подбородка; окровавленная лапа лисенка в обтянутой перчаткой мальчишеской руке. Вот он входит к ней в будуар в последний день крикетного матча 1880 года: в помятом цилиндре, глаз подбит, в руке трость, украшенная голубой кисточкой. Еще она видела его бледное лицо в тот далекий день, когда он, еще не оправившись от ангины, тайком ушел на охоту, она вспомнила его упрямо сжатые губы и слова: «Но, мама, у меня не хватило сил терпеть; такая скука!»
А что если и сейчас у него не хватит сил терпеть! И он совершит какую-нибудь глупость! Миссис Пендайс вынула платок.
— Как здесь жарко, дорогой! У тебя лоб весь мокрый!
Она поймала на себе его недоверчивый взгляд и напрягла всю свою женскую хитрость, чтобы в ее глазах он прочел не беспокойство, а простую заботу.
— Это из-за стеклянной крыши, — сказал он, — солнце бьет сюда отвесно.
Миссис Пендайс взглянула вверх.
— Странно, что ты живешь здесь, дорогой, но тут очень мило, так необычно! Позволь, я займусь этими бедными цветами.
Она подошла к серебряной вазе и наклонилась над цветами.
— Дорогой, они совсем завяли! Надо их выбросить, увядшие цветы так гадко пахнут.
Она протянула сыну вазу, зажав нос платком.
Джордж взял вазу, а миссис Пендайс, точно кошка за мышью, следила за тем, как Джордж шел в сад.
Как только дверь захлопнулась, быстрее, бесшумнее кошки она проскользнула за портьеру. «Я знаю, у него есть револьвер», — думала она.
Через мгновение она была опять в комнате, ее руки и глаза искали повсюду, но ничего не находили; и от сердца у нее отлегло: она очень боялась этих опасных вещей.
«Страшны только первые часы», — думала она.
Когда Джордж вернулся, она стояла там же, где он оставил ее. Молча они сели на диван, и пока тянулось это бесконечное молчание, она пережила все, что было сейчас у него на сердце: беспросветное отчаяние, щемящую боль, горечь отвергнутой любви, тоску об утраченном счастье, обиду и отвращение ко всему. Ее собственное сердце в то же время переполнялось и своими чувствами; освобождением от страха, стыдом, состраданием, ревностью и горячей любовью. Молчание нарушалось дважды: первый раз Джордж спросил, завтракала ли она, и миссис Пендайс, не евшая весь день, ответила:
— Конечно, милый.
Второй раз он сказал:
— Ты не должна была бы приходить сегодня, мама. Я немного не в духе.
Она смотрела на его лицо, самое дорогое для нее лицо в мире, и ей так хотелось прижать к груди его поникшую голову, но она не могла этого сделать, и по ее щекам заструились слезы. Тишина этой комнаты, снятой из-за ее уединенности, была тишиной могилы, и так же, как из могилы, из нее нельзя было увидеть мир: стекла крыши были матовые. Эта мертвая тишина сдавила ее сердце; ее глаза смотрели вверх, как будто бы молили, чтобы крыша разверзлась и впустила шум жизни. Но она увидела лишь четыре темных перемещающихся точки лап и неясное пятно туловища: это с крыши на крышу брела кошка. И внезапно, не имея сил больше выносить безмолвие, она воскликнула:
— О Джордж! Не отталкивай меня! Скажи что-нибудь!
— Что ты хочешь, чтобы я сказал тебе, мама? — спросил Джордж.
— Ничего… только…
И, встав на колени, она притянула к себе его голову, молча все ближе подвигалась к сыну, пока не почувствовала, что ему удобно. Вот и держала она у своего сердца его голову и ни за что не хотела расстаться с ней. Ее коленям было больно на голом полу, ее спина я руки онемели; но ни за какие блага в мире она не согласилась бы шевельнуться: она верила, что приносит сыну утешение; и слезы ее закапали на его шею. Когда же наконец он высвободился из ее объятий, она соскользнула на пол и не могла подняться, а ее пальцы сказали ей, что грудь платья мокрая. Джордж проговорил охрипшим голосом:
— Это все пустяки, мама, не надо тревожиться!
Ни за что на свете не взглянула бы она в эту минуту на сына, и все-таки она была абсолютно убеждена, что сын ее спасен.
По наклонной крыше тихонько возвращалась кошка — четыре перемещающиеся темные точки лап и неясное пятно туловища.
Миссис Пендайс встала.
— Я пойду, дорогой. Можно взглянуть в твое зеркало?
Стоя у зеркала, поправляя волосы и вытирая платком глаза, щеки и губы, она думала: «Вот так же здесь стояла эта женщина! Она приводила в порядок свои волосы, глядясь в это зеркало, и стирала со щек следы его поцелуев! Пусть господь пошлет ей такие ж муки, какие она причинила моему сыну!»
Но, пожелав ей это, она содрогнулась.
У двери миссис Пендайс обернулась, улыбнувшись, как будто хотела оказать: «Я не могу плакать, не могу открыть, что у меня сейчас на сердце, поэтому, ты видишь, я улыбаюсь. Пожалуйста, и ты улыбнись, чтобы утешить меня немного!»
Джордж вложил ей в руку небольшой сверток и тоже улыбнулся.
Миссис Пендайс поспешно вышла; ослепленная ярким солнцем, она вспомнила про сверток, только когда вышла за калитку. В нем были аметистовое ожерелье, изумрудный кулон и бриллиантовое кольцо. В этом узком, старом переулке, куда выходил садик с тополями, заброшенным фонтаном! и зеленой калиткой, драгоценные камни сверкали и переливались так, точно вобрали в себя весь его свет и жизнь. Миссис Пендайс, любившая яркие цвета и блеск, почувствовала, что они были красивы.
Эта женщина взяла их, натешилась их блеском и красками, а затем швырнула обратно! Миссис Пендайс опять завернула драгоценности, обвязала пакет тесьмой и пошла к реке. Она шла не торопясь, глядя прямо перед собой. Подошла к парапету, остановилась, наклонившись над ним и протянув над водой руки. Ее пальцы разжались — белый сверток упал, секунду подержался на воде и исчез.
Миссис Пендайс испуганно оглянулась. Молодой человек с бородкой, чье лицо показалось ей знакомым, приподнял шляпу.
— Значит, ваш сын был дома, — сказал он, — я очень рад. Большое спасибо, что вы согласились тогда постоять минутку у двери. Я никак не мог схватить отношение между фигурой и дверью. До свидания!
Миссис Пендайс ответила «До свидания» и проводила художника испуганным взглядом, точно он застал ее на месте преступления. Перед ее глазами заиграли драгоценные камни. Бедняжки! Они лежат погребенные во мраке, в темном иле, навеки лишенные блеска и красок. И, как будто совершив грех перед своей кроткой и нежной душой, она поспешила прочь от этого места.
ГЛАВА VI ГРЕГОРИ СМОТРИТ НА НЕБО
Грегори Виджил называл мистера Парамора пессимистом, потому что, как и другие, не понимал значения этого слова, С присущей ему путаницей понятий он считал, что видеть вещи в их собственном свете — значит видеть их не такими, какие они есть, а гораздо хуже. У Грегори имелся собственный способ видеть вещи, который был ему так дорог, что он предпочитал совсем закрывать глаза, лишь бы не воспользоваться способом других людей. И хотя он видел совсем не так, как видел мистер Парамор, все-таки нельзя безоговорочно утверждать, что он совсем не видел вещи такими, какие они есть. Просто грязи на лице, которое он хотел бы видеть чистым, он не замечал: влага его голубых глаз растворяла ее, а самое лицо запечатлевалось на их сетчатке чистым. Этот процесс совершается бессознательно и зовется «идеализацией». Вот почему чем дольше он думал, тем с большим отчаянием утверждался в мысли, что его подопечная имеет право любить человека, которого выбрала, и имеет право соединять с ним свою жизнь. И он старательно загонял лезвие этой мысли все глубже и глубже в свою душу.
Часов около четырех в тот день, когда миссис Пендайс побывала у своего сына, мальчик-посыльный принес ему письме.
Гостиница Грина.
Четверг.
Дорогой Григ.
Я видела Элин Белью и только что вернулась от Джорджа. Мы все это время жили, как будто в страшном сне. Она не любит его, вероятнее всего, никогда не любила. Я не знаю, и не мне судить. Она бросила его. Я предпочитаю не — высказывать своего мнения о ней. Одно ясно: все это с начала и до конца было не нужно, бессмысленно и гадко. Я пишу вам это письмо, чтобы вы знали, как обстоят дела, и прошу вас, если выберется минутка, заглянуть в клуб к Джорджу сегодня вечером и сообщить потом мне, как он себя чувствует. Мне больше не к кому обратиться с такой просьбой.
Простите меня, если это письмо огорчит Вас.
Ваша любящая кузина
Марджори Пендайс.
Для тех, кто смотрит на мир одним глазом, кто оценивает все дела человеческие только со своей колокольни, кто не замечает иронии во всем, что творится вокруг, и не может ею насладиться, кто в простоте душевной встречает иронию самой теплой улыбкой и кто, будучи положенным иронией на обе лопатки, считает победителем себя, — для таких людей не имеют значения удары судьбы, грозящие перевернуть их взгляд на мир. Стрелы вонзаются, дрожат и падают наземь, как будто встретили на своем пути кольчугу; но вот последняя стрела скользнула под доспехи откуда-то сверху и затрепетала, вонзившись в самое сердце под восклицание бойца: «Как, это ты? Нет, нет, не может быть!»
Такие люди сделали на нашей древней земле многое из того, что стоило сделать, но, пожалуй, еще больше сделано ими того, чего вовсе делать не следовало.
Когда Грегори получил это письмо, он занимался бумагами женщины-морфинистки. Прочитав письмо, он спрятал его в карман и вернулся к своему делу — ни на что другое у него не хватило бы сил.
— Вот ходатайство, миссис Шортмэн. Пусть она побудет там шесть недель. Она выйдет оттуда другим человеком.
Миссис Шортмэн, подперев худой рукой худое лицо, устремила на Грегори горящие глаза.
— Боюсь, что моральные принципы для нее уже не существуют, — сказала она. — Признаться, мистер Виджил, я думаю, что моральные принципы для нее вовсе никогда и не существовали!
— Что вы хотите этим сказать?
Миссис Шортмэн отвела глаза в сторону.
— Иной раз я думаю, — сказала она, — что такие люди и в самом деле есть. И тогда я задаю себе вопрос, в достаточной ли степени мы учитываем это. Помню, когда я еще девушкой жила в деревне, у нашего священника была дочка, очень хорошенькая. О ней ходили самые ужасные слухи даже еще до того, как она вышла замуж. А потом мы узнали, что она развелась! Потом она приехала в Лондон и стала зарабатывать на жизнь игрой на рояле, пока не вышла замуж второй раз. Я не стану называть ее имени. Это очень известная особа. И никто никогда не замечал в ней ни малейшей капли стыда. Если существует хоть одна такая женщина, то можно предположить, что они есть еще, и я иногда думаю, не тратим ли мы зря…
Грегори сухо сказал:
— Я это уже слыхал от вас раньше.
Миссис Шортмэн прикусила губу.
— По-моему, — сказала она, — своего времени и своих усилий я не жалею.
Грегори вскочил со своего места и схватил ее за руку.
— О да, я знаю, я знаю это, — сказал он проникновенно.
В углу вдруг раздался яростный треск машинки мисс Мэлоу.
Грегори схватил с гвоздя шляпу.
— Мне пора, — сказал он. — До свидания.
Безо всякого предупреждения, как это обычно бывает с сердцами, сердце Грегори Виджила вдруг начало кровоточить, и он почувствовал, что ему необходимо подышать свежим! воздухом. Он не сел в омнибус, не взял кэба, а пошел пешком со всей быстротой, на какую был способен, пытаясь вдуматься, пытаясь понять. Но он мог только чувствовать, а чувства его были расстроены и взвинчены, и время от времени они перебивались вспышками радости, которой он стыдился. Знал ли он или нет, но ноги несли его в Челси, ибо хотя его глаза и были устремлены к звездам, ноги не могли доставить его туда, и набережная Челси показалась им самой подходящей заменой.
Он не был одинок: многие шли, так же, как он, в Челси, многие уже побывали там и спешили теперь обратно; и улицы в этот летний предвечерний час были сплошным живым потоком. Люди, которые проходили мимо Грегори, смотрели на него, он смотрел на них, но ни он, ни они не видели друг друга: человеку назначено как можно меньше уделять внимания чужим заботам. Солнце, припекавшее его лицо, бросало свои лучи на их спины, ветер, холодивший его спину, овевал их щеки. Ибо и беззаботная земля катилась сейчас по мостовой вселенной — одна из миллионов направляющихся в Челси и спешащих обратно.
— Миссис Белью дома?
Он вступил в комнату длиной футов в пятнадцать, а высотой около десяти, где увидел нахохленную канарейку в маленькой позолоченной клетке, пианино с раскрытой партитурой оперы, диван со множеством подушек и на диване женщину с покрасневшим и сердитым лицом; она сидела, опираясь локтями в колени, подперев кулачком подбородок, устремив взгляд в пространство. Такой именно была эта комнатка со всем, что в ней было, но Грегори внес с собой что-то такое, отчего она сразу преобразилась в его глазах. Он сел у окна, глядя в сторону, и заговорил мягким голосом, в котором прорывалось волнение. Он начал с рассказа о женщине-морфинистке; а потом объявил, что знает все. Сказав это, он посмотрел в окно, где строители случайно оставили полоску неба. И поэтому он не заметил выражения ее лица, презрительного и усталого, которое, казалось, говорило: «Вы славный человек, Грегори, но, ради бога, хоть раз в жизни постарайтесь увидеть вещи такими, какие они есть! Мне это надоело!» И он не заметил, как Элин, протянув руки, растопырила пальцы: так рассерженная кошка вытягивает, расправляя, лапки. Он сказал ей, что не хочет быть назойливым, но если он ей понадобится зачем-нибудь, пусть она немедленно пошлет за ним — он всегда к ее услугам. Грегори смотрел на ее ноги и не видел, как ее губы покривила усмешка. Он сказал ей, что она для него все та же и всегда останется такой; и он просил ее верить этому. Грегори не видел ее улыбки, которая не пропадала все время, пока он был у нее, и он не мог бы понять этой улыбки, потому что это улыбалась сама жизнь устами женщины, которую он не понимал. Он видел только прелестное существо, которое обожал многие годы. И он ушел, а миссис Белью стояла на пороге, закусив губы. А так как Грегори не мог, уходя, оставить в этой комнате свои глаза, то он и не видел, что она, вернувшись на свой диван, приняла ту же позу, в какой сидела до его прихода: уперевшись локтями в колени, подперев кулачком подбородок, устремив беспокойный, как у игрока, взгляд в пространство…
Со стороны Челси по улицам, уставленным высокими домами, шло юного людей; одни, подобно Грегори, тосковали по любви, другие — по куску хлеба; они шли по двое, по трое, группами, в одиночку; у одних глаза смотрели вниз, у других — прямо, взоры третьих были устремлены к звездам, но в каждом бедном сердце таились мужество и преданность самых разнообразных мастей. Ибо, как сказано, мужеством и преданностью должен быть жив человек, идет ли он в Челси или возвращается оттуда. И из всех попавшихся на пути Грегори каждый улыбнулся бы, услыхав, как Грегори говорил себе: «Она всегда будет для меня той же. Она всегда будет для меня той же!» И ни один не усмехнулся бы насмешливо…
Время приближалось к обеденному часу — тому, какой был принят в Клубе стоиков, — когда Грегори вышел на Пикадилли; «стоики» один за другим выскакивали из кэбов и устремлялись к дверям клуба. Бедняги, они так потрудились за день на скачках, на крикетном поле или в Хайд-парке, кое-кто вернулся из Академии художеств, и на лицах этих последних было одно довольное выражение: «Господь милостив, наконец-то можно отдохнуть!» Многие не ели днем, чтобы сбавить вес, многие ели, но не очень плотно, а были такие, что и слишком плотно, но во всех сердцах горела вера, что за обедом они возьмут свое, ибо их господь был и в самом деле милостив, и обитал он где-то между кухней и винными погребами клуба. И все — ведь у каждого из них в душе была поэтическая жилка — с волнением предвкушали те сладостные часы, когда, закурив сигару и полные истомы от хорошего вина, они погрузятся в обычные мечты, которые обходятся каждому «стояку» всего-навсего в пятнадцать шиллингов, а то и меньше.
Из убогой лачуги на задворках, в пяти шагах от обиталища бога «стоиков», вышли подышать воздухом две швеи; одна была больна чахоткой: она в свое время не соблаговолила зарабатывать столько, чтобы хорошо питаться; другая, казалось, тоже не сегодня-завтра закашляет кровью, и тоже по той же причине. Они стояли на тротуаре, разглядывая подъезжающих, некоторые «стоики» замечали их и думали: «Бедные девушки! Какой у них больной вид!» Трое или четверо сказали себе: «Это надо было бы запретить. Очень неприятно смотреть на них, но сделать, кажется, ничего нельзя. Они ведь не нищие!»
Но большинство «стоиков» вовсе на них не смотрело, имея слишком чувствительные сердца, которые не выдерживают подобного печального зрелища, боясь испортить себе аппетит; Грегори тоже их не заметил, ибо как раз в тот момент, когда он по обыкновению смотрел на небо, девушки сошли с тротуара, перешли улицу и смешались с толпой; ведь они не имели собачьего чутья, которое подсказало бы им, что он за человек.
— Мистер Пендайс в клубе; я пошлю сказать, что вы его ждете. — И, покачиваясь на ходу, словно фамилия Грегори была неимоверно тяжелой, швейцар передал ее рассыльному и тоже ушел.
Грегори стоял у холодного камина и ждал, и покуда он ждал, ничего особенного не поразило его, ибо «стоики» показались ему обыкновенными людьми, такими точно, как он сам, с такой только разницей, что Костюмы на них были получше, чем на нем, и он подумал: «Не хотел бы я быть членом этого клуба и каждый день переодеваться к обеду».
— Мистер Пендайс просит простить его: он сейчас занят.
Грегори прикусил губу.
— Благодарю вас, — сказал он и вышел на улицу. «Больше Марджори ничего и не нужно, — подумал он, — а все остальное меня мало трогает». — И, сев в кэб, он опять устремил взгляд к небу.
Но Джордж не был занят. Как раненый зверь спешит в берлогу зализывать раны, так и он уединился в свою любимую оконную нишу, выходящую на Пикадилли. Он сидел там, будто прощался с молодостью, неподвижно, ни разу не подняв глаза. В его упрямом мозгу, казалось, вертится колесо, в муку размалывающее воспоминания. И «стоики», которым было невыносимо видеть своего собрата в этот священный час погруженным в уныние, время от времени подходили к нему.
— Вы идете обедать, Пендайс?
Бессловесные животные молчат о своих ранах; тут молчание — закон. Так было и с Джорджем. Каждому подходящему «стоику» он отвечал, стиснув зубы:
— Конечно, старина. Сию минуту,
ГЛАВА VII ПРОГУЛКА СО СПАНЬЕЛЕМ ДЖОНОМ
Спаньель Джон, привыкший по утрам вдыхать запах вереска и свежих сухариков, был в тот четверг в немилости. Всякая новая мысль не скоро проникала в его узкую и длинную голову, и он окончательно осознал, что с его хозяином творится что-то неладное, только по прошествии двух дней с отъезда миссис Пендайс. В течение тех тревожных минут, когда это убеждение созревало у него в мозгу, он усердно трудился. Он утащил две с половиной пары хозяйских башмаков и спрятал их в самых неподходящих местах, по очереди посидел на каждом, а затем, предоставив птенцам вылупляться в одиночестве, вернулся под хозяйскую дверь. За это мистер Пендайс, сказав несколько раз «Джон!», пригрозил ему ремнем, на котором правил бритву. И отчасти потому, что Джон не выносил самой кратковременной разлуки с хозяином — нагоняи только укрепляли его любовь, — отчасти из-за этого нового соображения, которое совсем лишило его покоя, он лег в зале и стал ждать.
Однажды, еще в дни юности, он легкомысленно увязался за лошадью хозяина и с тех пор ни разу не отваживался на подобное предприятие. Ему пришлась не по вкусу эта тварь, непонятно для чего такая большая и быстрая, и к тому же он подозревал ее в коварных замыслах: стоило только хозяину очутиться на ее спине, как его и след простывал, не оставалось даже капельки того чудесного запаха, от которого так теплело на сердце. Поэтому, когда появлялась на сцену лошадь, он ложился на живот, прижимал передние лапы к носу, а нос к земле, и до тех пор, пока лошадь окончательно не исчезала, его ничем было нельзя вывести из этого положения, в котором он напоминал лежащего сфинкса.
Но сегодня он на приличном расстоянии опять поспешил за лошадью, поджав хвост, скаля зубы, вовсю работая лопатками и неодобрительно отвернув нос в сторону от этого смешного и ненужного добавления к хозяину. Точно так же вели себя фермеры, когда мистер Пендайс с мистером Бартером облагодетельствовали деревню первой и единственной сточной трубой.
Мистер Пендайс ехал медленно. Его ноги в начищенных до блеска черных башмаках, в темно-красных крагах, обтягивающих нервные икры, подпрыгивали в такт аллюру. Фалды сюртука свободно ниспадали по бедрам, на голове серая шляпа, спина и плечи согнуты, чтобы не так чувствовались толчки. Над белым, аккуратно повязанным шарфом его худощавое лицо в усах и седых бакенбардах было уныло и задумчиво, в глазах притаилась тревога. Лошадь, чистокровная гнедая кобыла, шла ленивой иноходью, вытянув морду и взмахивая коротким хвостом. Так, в этот солнечный июньский день, по затененному листвой проселку они втроем подвигались в сторону Уорстед Скоттона…
Во вторник, в тот день, когда миссис Пендайс noкинула усадьбу, сквайр вернулся домой позже, чем обычно, ибо полагал, что некоторая холодность с его стороны будет только полезна.
Первый час по прочтении письма жены прошел, как одна минута, в гневе и растерянности и кончился взрывом ярости и телеграммой генералу Пендайсу. Телеграмму на почту он понес сам и, возвращаясь из деревни, шел, низко опустив голову: он испытывал стыд — мучительное и странное чувство, незнакомое ему до сих пор что-то вроде страха перед людьми. Мистер Пендайс предпочел бы путь, скрытый от посторонних глаз, но такого не было, к усадьбе вели только проезжая дорога и тропинка через выгон, мимо кладбища. У перелаза стоял старик арендатор, и сквайр пошел на него, опустив голову, как бык идет на изгородь. Он хотел было пройти мимо, не сказав ни слова, но между ним и этим старым, отжившим свое фермером существовала связь, выкованная столетиями. Нет, даже под угрозой смерти мистер Пендайс не мог бы пройти мимо, не сказав слова приветствия, не кивнув дружески тому, чьи отцы трудились для его отцов, ели хлеб его отцов и умирали вместе с его отцами.
— Здравствуйте, сквайр. Погода-то, а! Только косить!
Голос был скрипучий и дрожащий. «Это мой сквайр, — слышалось в нем, — а там пусть он будет какой угодно!»
Рука мистера Пендайса потянулась к шляпе.
— Добрый вечер, Хермон. Да, прекрасная погода для сенокоса! Миссис Пендайс уехала в Лондон. Вот мы и холостяки с тобой!
И он пошел дальше.
Только отойдя на значительное расстояние, мистер Пендайс понял, почему он сказал это. Просто потому, что он сам должен был всем рассказать об ее отъезде, — тогда никто не будет удивляться.
Он заторопился домой, чтобы успеть переодеться к обеду и показать домашним, что ничего особенного не произошло. Семь блюд подавались за обедом, пусть хоть небо обрушилось бы, но поел он немного, а кларету выпил больше, чем всегда. Потом прошел к себе в кабинет и при смешанном свете сумерек и лампы еще раз перечитал письмо жены. Всякая новая мысль нескоро проникала в узкую и длинную голову мистера Пендайса — он в этом походил на своего спаньеля Джона.
Она была помешана на Джордже и сама не понимала, что делает, так что должна скоро образумиться. Он ни в коем случае не станет делать первого шага. Ведь это значит признать, что он, Хорэс Пендайс, зашел слишком далеко, что он, Хорэс Пендайс, не прав. Это было не в его привычках, а меняться он не собирался. Раз им нравится упорствовать, пусть пеняют на себя и живут, как хотят.
Сидя в тиши кабинета при свете лампы под зеленым абажуром, становившимся ярче по мере того, как сумерки сгущались, он тоскливо думал о прошлом. И, словно назло, видел только приятные картины и прекрасные образы. Он пытался думать о ней с ненавистью, рисовать ее самыми черными красками, но с упрямством, которое родилось вместе с ним и вместе с ним сойдет в могилу, он видел ее воплощением нежности и кротости. Он чувствовал тонкий аромат ее духов, слышал шелест ее шелковых юбок, звук ее голоса, кротко спрашивающего: «Да, милый?» — как будто ей не было скучно слушать его. Он вспоминал, как тридцать четыре года назад привез ее первый раз в Уорстед Скайнес; его старая няня еще сказала тогда: «Голубка, кроткая и нежная, как роза, но настоящая леди до кончиков пальцев!»
Он видел ее в тот день, когда родился Джордж; ее лицо было прозрачным и белым, как воск, глаза расширились, и слабая улыбка замерла на губах. Снова я снова представлялся его взору ее образ, и она ни разу не показалась ему увядшей, состарившейся женщиной, у которой все в прошлом. Теперь, когда он потерял ее, он в первый раз ясно осознал, что она и в самом деле не состарилась, что она по-прежнему «голубка, робкая и нежная, как роза, но настоящая леди до кончиков пальцев». И эта мысль была ему невыносимой, он чувствовал себя несчастным и одиноким в своем кабинете, где окна были распахнуты настежь, а вокруг лампы плясали серые мотыльки, и спаньель Джон спал у него на ноге.
Взяв свечу, он пошел в спальню. Дверь к прислуге была заперта. И на этой половине дома единственным пятном света была свеча в его руке, единственным звуком — его шаги. Он медленно поднялся наверх, как поднимался тысячу раз и как не поднимался ни разу, а за ним тенью брел спаньель Джон.
Но Она, читающая в сердцах и всех людей и всех собак, Праматерь всего живого, к которой все живое возвращается, как в родной дом, наблюдала за. ним», и как только они улеглись: один — в свою опустевшую постель, другой на голубую подстилку у двери, — она смежила их веки сном.
Наступил новый день — среда, а вместе с ним и дневные заботы. Тех, кто имеет обыкновение заглядывать в окна Клуба стоиков, преследует мысль о праздности, в которой проводит свои дни класс землевладельцев. Они теряют сон и из зависти не дают покоя языку, потому что ведь и сами они страстно мечтают о праздной жизни. Но хотя у нас, в стране туманов, любят иллюзии, ибо они позволяют думать дурно о ближнем и тем тешить себя, все же слово «праздный» здесь абсолютно неуместно.
Многочисленными и тяжкими заботами был обременен сквайр Уорстед Скайнеса. Надо было пойти в конюшню и решить, прижигать ли ногу Бельдейма или продать этого нового гнедого жеребца, оказавшегося тихоходом, после чего оставался неприятный вопрос: у кого покупать овес — у Бруггана или у Бэла? И его тоже надо было обсудить с Бенсоном, который походил в своей фланелевой блузе, подпоясанной кожаным ремнем, на толстого мальчишку в седых бачках. Потом с глубочайшим вниманием заняться у себя в кабинете счетами и другими деловыми бумагами, чтобы, боже упаси, не переплатить кому-нибудь или недоплатить. После этого порядочная прогулка до жилища лесничего Джервиса; надо было осведомиться о самочувствии новой венгерской птички, а также обсудить важный вопрос: как помешать фазанам, которых сквайр выкармливал у себя, улетать в рощи его приятеля лорда Куорримена, что не раз случалось во время последней охоты. Этот вопрос отнял немало времени; Джервис был так раздосадован и взволнован, что шесть раз повторил одно и то же: «Уж вы как хотите, мистер Пендайс, а по-моему, столько дичи терять нельзя!» На что мистер Пендайс отвечал: «Конечно, нет, Джервис. Но что же вы посоветуете?» И еще одна труднейшая задача: как сделать, чтобы множество фазанов и множество лисиц жило в мирном соседстве? Задача, обсуждавшаяся весьма оживленно, ибо, как говаривал сквайр, «Джервис любит лис», а он, сквайр, любил, чтобы в его рощах водилась дичь.
Затем мистер Пендайс шел завтракать, но почти ничего не ел, чтобы не потерять закалки, и снова отправлялся на лошади или пешком на ферму, в поле, если там требовалось его присутствие. И весь длинный день он только и видел, что ребра волов, ботву от брюквы, стены, изгороди, заборы.
Затем назад домой, где его ждали чай и свежий номер «Таймса», пока еще только наспех просмотренный. Теперь наконец можно было прочитать сообщения о действиях парламента, которые пусть и отдаленно, но угрожали существующему порядку вещей, если, конечно, не имелся в виду налог на пшеницу, столь необходимый для процветания Уорстед Скайнеса. Иногда к нему, как к мировому судье, приводили бродяг, ион говорил только: «Покажите руки, любезный!» И если ладони не носили следов честного труда, бродягу прямиком отправляли в тюрьму. Если же таковые обнаруживались, то мистер Пендайс бывал озадачен и, прохаживаясь взад и вперед, искренне старался понять, в чем же заключается его долг по отношению к таким людям. А бывали дни, когда приходилось заседать в суде и разбирать всякие беззакония, воздавая каждому по заслуг гам, в зависимости от совершенного преступления: самым тяжким считалось браконьерство, самым безобидным — нанесение побоев жене, ибо хотя мистер Пендайс и был вполне гуманным человеком, но в силу существующей традиции не считал эту забаву настоящим преступлением, во всяком случае в деревне.
Разумеется, молодой и получивший специальное образование ум все эти дела решил бы в мгновение ока, но это шло бы вразрез с обычаями, нанесло бы удар непоколебимой уверенности сквайра, что он исполняет свой долг, и дало бы пищу злым языкам, осуждающим праздность. И хотя все его дневные труды служили прямо или косвенно его же благу, он ведь всего лишь думал о пользе отечества и отстаивал право каждого англичанина быть провинциалом.
Но в эту среду мистер Пендайс не испытывал радости от сознания исполняемого долга. Быть одному, быть потерянным в этом хозяйстве, совсем одному, когда нет рядом никого, кто бы спросил, чем он сегодня занят, кому бы можно было рассказать о ноге Бельдейма, о том, что Пикок требует новых ворот, было свыше его сил. Он вызвал бы домой дочерей, но не знал, что им сказать. Джералд был в Гибралтаре, Джордж… Джордж больше не был ему сыном! А гордость не позволяла написать той, что покинула его на милость одиночества и стыда. Ибо где-то в глубине души мистера Пендайса таился придавленный упрямым гневом стыд: ему было стыдно, что он должен прятаться от соседей, чтобы не услыхать вопроса, на который он, движимый гордостью и боязнью за свое доброе имя, мог ответить только ложью; ему было стыдно больше не чувствовать себя хозяином в доме, тем более стыдно, что об этом могли узнать другие. Разумеется, он не сознавал этого стыда, поскольку не умел отдавать себе отчета в своих душевных движениях. Он всегда чувствовал и мыслил конкретно. Так, например, оторвав взгляд от тарелки за завтраком и увидев, что кофе разливает Бестер, а не Марджори, он подумал: «Дворецкий, наверное, обо всем догадывается!» И рассердился оттого, что приходилось так думать. Завидев на аллее фигуру Бартера, он подумал: «Черт возьми, о чем я буду с ним разговаривать!» — и поспешил украдкой ускользнуть из дому, вознегодовав, что ему приходится так поступать. Встретив в шотландском саду Джекмена, опрыскивающего деревья, сказал ему: «Миссис Пендайс уехала в Лондон» — и быстро ушел, сердясь, что какая-то непонятная сила заставила его произносить эти слова.
Так прошел этот долгий, унылый день. Был только один светлый миг, принесший ему облегчение, когда он вычеркивал из черновика своего завещания имя сына. Вот что он вставил на место вычеркнутого:
«Ввиду того, что мой старший сын Джордж Пендайс поведением, недостойным джентльмена и Пендайса, заслужил мое неодобрение, и ввиду того, что я, к сожалению, не могу лишить его права унаследовать наше поместье, я в силу всего вышеизложенного лишаю Джорджа Пендайса его доли во всем остальном принадлежащем мне имуществе, как движимом, так и недвижимом, считая, что это мой долг перед семьей и государством. Я заявляю об этом спокойно, не под влиянием гнева».
Ибо весь тот гнев, который он должен был питать к жене и которого не питал, потому что тосковал без нее, усугубил его гнев против сына.
С вечерней почтой пришло письмо от генерала Пендайса. Дрожащими руками, такими же, как рука, написавшая это письмо, он распечатал его и прочитал:
«Клуб армии и флота.
Дорогой Хорэс!
Что это тебе пришло в голову посылать мне такую телеграмму?! Я бросил завтрак и помчался к Марджори. И что же? Она, оказывается, прекрасно себя чувствует! Если бы она была больна, тогда другое дело. А то ведь ничего похожего. Занята нарядами и тому подобным. И еще решила, пожалуй, что я совсем с ума спятил, явившись к ней ни свет ни заря. Не привыкай, пожалуйста, посылать телеграммы. Телеграмма, так я по крайней мере до сих пор считал, посылается лишь в случае крайней необходимости. В гостинице я встретил Джорджа, который мчался куда-то сломя голову. Больше писать не могу, меня ждет обед.
Твой любящий брат
Чарлз Пендайс».
Она прекрасно себя чувствует! Она виделась с Джорджем! Сердце сквайра ожесточилось, и он пошел спать.
Среда кончилась.
А в четверг днем гнедая кобыла несла по проселку мистера Пендайса, и за ними, на приличном расстоянии, поспевал спаньель Джон. Миновали Сосны, где жил Белью, и дорога, повернув вправо, побежала вверх в сторону Уорстед Скоттона. И вместе с мистером Пендайсом на холм взбирался виновник всего случившегося, неотступно следовавший в эти дни за сквайром: узкоплечий, высокий призрак с горящими маленькими глазками, рыжие усы коротко пострижены, худые, кривые ноги. Черное пятно на той безукоризненной системе, которую мистер Пендайс боготворил, позорный, столб, к которому пригвоздили его наследственный принцип, бич божий, хуже Аттилы, дьявольская карикатура на то, каким должен быть сельский помещик с его пристрастием к охоте, к свежему воздуху, с его крепкой волей и смелостью, с его умением поставить на своем, умением пить, как подобает мужчине, с его вышедшим уже из моды рыцарским благородством. Да, отвратительное пугало, а не человек, привидение, мчащееся за сворой гончих; негодяй — в доброе старое время нашелся бы кто-нибудь, кто подстрелил бы его; пьяница, бледный дьявол, который презирал его, мистера Пендайса, и которого мистер Пендайс ненавидел, но почему-то презирать не мог. «Всегда найдется один такой на свору!» Черная овца в сословии Пендайсов. Post equitem sedet Gaspar Belleu [9].
Сквайр добрался до верхушки холма, и перед ним как на ладони открылся Уорстед Скоттон. Это был песчаный пустырь, поросший ракитником, дроком и вереском. Кое-где торчали шотландские ели. Земля не имела никакой ценности, но он страстно хотел быть ее владельцем, как только ребенок может хотеть отданную другому половину его яблока. Его удручал вид этой земли — она была его и не его, как жена, которая есть и которой нет — точно Судьба решила позабавиться его несчастьем. Он страдал оттого, что образ поместья, который он носил в своем воображении, был с изъяном, ибо для него, как и для всех людей, то, что он любил и чем владел, имело определенную форму. Как только Уорстед Скайнес приходил ему на ум — а это случалось постоянно, — перед ним возникал конкретный образ, описать который, однако, невозможно. Но каким бы этот образ ни являлся ему, в нем всегда было нечто, омрачавшее душу мистера Пендайса, и это нечто был Уорстед Скоттон. По правде говоря, мистер Пендайс не имел ни малейшего представления, какую пользу можно извлечь из этого пустыря. Но он твердо верил, что его фермеры заняли в этой истории позицию собаки на сене, а этого он стерпеть не мог. За два последних года никто ни разу не выпускал на эту бесплодную землю? скотину. Только три древних осла дотягивали на ее скудных кормах свои дни. Вязанки хвороста, охапка сухого папоротника да немного торфу — вот и все богатства, какими пользовались эгоистичные крестьяне. Но дело даже не в них — с ними еще можно было договориться. Все дело в этом Пикоке, которого ничем! не уломать, только потому, что именно его поле граничило с Уорстед Скоттоном и именно его отец и дед оказались людьми вздорными. Мистер Пендайс направил лошадь вдоль изгороди, которую поставил его отец, и доехал до того места, где изгородь была разломана отцом Пикока. И здесь по воле случая — как нередко бывало в истории — он нос к носу столкнулся с самим Пикоком, как будто Пикок нарочно ожидал здесь сквайра. Кобыла мистера Пендайса остановилась сама, спаньель Джон лег на траву на почтительном расстоянии и принялся думать (так шумно, что хозяин отлично его слышал, несмотря на разделявшие их ярды), время от времени тяжело вздыхая.
Пикок стоял, засунув руки в карманы штанов. На голове у него была старая соломенная шляпа, маленькие глазки смотрели в землю; его лошадь, привязанная к тому, что оставил от изгороди его отец, тоже смотрела в землю — она пощипывала траву. Образ мистера Пендайса, отстаивавшего от огня его конюшню, не давал Пикоку покоя. Он чувствовал, что с каждым днем этот образ тускнеет и, может быть, однажды растает совсем. Он чувствовал, что старая, освещенная неприязнь, завещанная ему его отцами, уже глухо шевелится в нем. И вот он пришел сюда проверить, что останется у него от чувства благодарности при виде этой разломанной изгороди. Когда перед ним вдруг возник сквайр, глаза его забегали, как у свиньи, получившей неожиданно удар сзади. Точно само Провидение, знающее все обо всем и обо всех, привело сюда в эту минуту мистера Пендайса.
— Здравствуйте, сквайр. Сушь какая, а! Дождя надо. Если дождей не будет, я останусь без сена.
Мистер Пендайс отвечал:
— Здравствуйте, Пикок. А по-моему, на ваши луга любо глядеть!
И оба отвели глаза в сторону: как-то неловко было смотреть друг на друга.
После некоторого молчания Пикок сказал:
— Как с моими воротами, сквайр? — Но в его голосе не было твердости, ибо благодарность в нем еще не угасла.
Сквайр желчно взглянул направо и налево, на пустое место, где прежде стояла изгородь, и вдруг его осенило: «Предположим, я поставлю ему новые ворота, согласится ли он… согласится ли он, чтобы я огородил Уорстед Скоттон?»
Он посмотрел на квадратную, обросшую бородой физиономию Пикока и отдался на волю того инстинкта, который был так зло охарактеризован мистером Парамором.
— А чем вам не нравятся ваши ворота, Пикок?
Пикок взглянул сквайру прямо в глаза и ответил уже твердым голосом, в котором слышалось грубоватое добродушие.
— Да как же, одна половина совсем сгнила. — И он с облегчением вздохнул, почувствовав, что от благодарности в его душе не осталось и следа.
— А мне помнится, что ваши ворота покрепче моих. Эй, Джон! — И, пришпорив кобылу, мистер Пендайс поехал было прочь, но тут же вернулся.
— Как здоровье миссис Пикок? А миссис Пендайс уехала в Лондон.
Коснувшись рукой шляпы и не дождавшись ответа Пикока, мистер Пендайс ускакал. Он проехал мимо фермы Пикока и через приусадебный луг выбрался к крикетному полю, устроенному на его земле. Матч-реванш с командой Колдингэма был в разгаре, и сквайр попридержал лошадь, чтобы посмотреть на игру. Через поле в его сторону не спеша подвигалась высокая фигура. Это был Джефри Уинлоу. Мистер Пендайс сделал над собой усилие и остался на месте.
— Мы вас побьем, сквайр! Как поживает миссис Пендайс? Передайте ей привет от моей жены.
Озаренное солнцем лицо сквайра покраснело, но не только от жарких лучей.
— Спасибо, — ответил он, — миссис Пендайс хорошо себя чувствует. Она сейчас в Лондоне.
— А вы туда собираетесь в этом году?
Взгляд сквайра скрестился с ленивым взглядом Джефри Уинлоу.
— Нет, пока не собираюсь, — проговорил он медленно.
Высокородный Уинлоу вернулся на свое место.
— Мы в одну секунду вышибли беднягу Бартера, — сказал он через плечо.
Сквайр увидел, что откуда-то сбоку к нему приближается и сам мистер Бартер.
— Нет, вы поглядите вон на того левшу, — сказал священник сердито. — Он играл не по правилам. Этот Лок — такой же судья, как…
Он замолчал: его вниманием снова завладела игра.
Сквайр, возвышавшийся на своей кобыле как изваяние, ничего не ответил. Вдруг в горле у него что-то булькнуло.
— Как ваша жена? — спросил он. — Миссис Пендайс собиралась навестить ее. Но, знаете ли, она сейчас в Лондоне.
Священник следил за игрой и, не поворачивая головы, ответил:
— Моя жена? Прекрасно! Ах, еще один! Нет, Уинлоу, это уже никуда не годится!
Послышался приятный голос высокородного Уинлоу:
— Будьте добры, не отвлекайте игроков.
Сквайр дернул поводья и поскакал дальше, а спаньель Джон, ждавший на почтительном расстоянии, затрусил следом, высунув язык.
Сквайр выехал сквозь ворота на аллею, ведущую к усадьбе, вдоль которой по обеим сторонам тянулись заросли, и спаньель Джон, чуя справа и слева дичь, без устали вертел носом и хвостом. Здесь царила прохлада. Июньская листва образовала над головой шатер, который прорезала голубая полоса неба. Среди дубов, буков и вязов там и сям виднелись сиявшие белизной березы, точно взятые в плен более мощными деревьями, толпившимися в восхищении вокруг своих пленниц и боявшимися теперь, как бы эти феи леса не вырвались на свободу. Они знали, эти мощные деревья, что если березы исчезнут, то лес потеряет свою красу, свое достоинство и перестанет быть лесом.
Мистер Пендайс спешился, привязал лошадь к дереву и сел под одну из берез на поваленный ствол вяза. Спаньель Джон тоже сел и уставился преданным взглядом на своего хозяина. Так они сидели оба и думали, но думали они о разном.
Под этой самой березой Хорэс Пендайс целовал Марджори, когда привез ее в первый раз в Уорстед Скайнес. И хотя он не видел никакого сходства между ней и этой березой (это пристало бы только какому-нибудь бездельнику-мечтателю), он вспоминал сейчас тот давно отошедший в прошлое полдень. Но спаньель Джон не думал об этом полдне, память отказала ему: ведь он родился спустя двадцать восемь лет после того дня.
Мистер Пендайс долго сидел так в обществе своего спаньеля и своей лошади, и время от времени, как верная звездочка, поглядывал на него блестящий собачий глаз. Солнце, тоже блестевшее ярко, вызолотило стволы березы. В кустах закопошились птицы и зверушки, встречая вечер. Кролики, метнув удивленный взгляд на спаньеля Джона, стремительно исчезали в траве. Они знали, что у человека, если с ним лошадь, не бывает ружья, но поверить в добрые намерения этого черного, мохнатого существа, чей нос вздрагивал, едва они приближались, они никак не могли. Заплясали в воздухе комары, и с их появлением все звуки, запахи, краски стали звуками, запахами, красками вечера. И на сердце сквайра тоже опустился вечер.
Медленно, с трудом он поднялся с бревна, сел на лошадь и поехал домой. И дома будет одиноко, но там все-таки легче, чем в лесу, где пляшут в воздухе комары, где шуршит, движется, гомонит всякая тварь, и длинные тени, и солнечный луч скользят по стволам деревьев, и все равнодушно к своему владыке — человеку.
Был уже восьмой час, когда он вошел к себе в кабинет. У окна стояла какая-то дама, и мистер Пендайс сказал:
— Прошу прощения.
Дама обернулась; это была его жена. Сквайр издал странный всхлипывающий звук и остался стоять молча, закрыв лицо руками.
ГЛАВА VIII ОСТРЫЙ ПРИСТУП… «ПЕНДАЙСИЦИТА»
Миссис Пендайс была совсем без сил, когда возвращалась из Челси. Она пережила часы сильнейшего душевного волнения и с утра ничего не ела.
Настроение человека переменчиво, как цвет закатного неба, как игра тонов в перламутре; сотканное из тысячи нитей, подобно рисунку ковра, непостоянное, как апрельский день, оно, однако, имеет собственный неуловимый ритм, с которого никогда не сбивается.
Всего одна чашка чаю по пути домой, и миссис Пендайс обрела душевную бодрость. Все происшедшее показалось ей бурей в стакане воды. Как будто кто-то, знающий, каким глупым может быть человек, сыграл фантазию на тему глупости. Но эта приподнятость прошла, как только миссис Пендайс подумала о том, что делать дальше.
Она дошла до гостиницы, так и не приняв никакого решения. Зашла в читальню написать к Грегори, и пока обдумывала, что писать, ею овладело сильнейшее искушение сказать ему много язвительных слов за то, что он, не видя людей такими, какие они есть, обрушил на них все эти несчастья. Но она не умела говорить язвительных слов, а те, что приходили ей в голову, были недостаточно деликатны, и в конце концов она отбросила эту мысль. Отправив письмо, она почувствовала некоторое облегчение. И вдруг подумала, что если начнет укладываться сейчас же, то поспеет на шестичасовой поезд в Уорстед Скайнес.
Как при уходе из дому, так и сейчас, возвращаясь домой, она инстинктивно вела себя так, чтобы избежать ненужных страданий и шума.
Старенькая пролетка, пропахшая конюшней, любовно везла ее в усадьбу. Старый извозчик с бритым, веселым лицом, в котором было что-то птичье, гнал свою лошаденку вовсю, он ничего не знал, но понимал, что два с половиной дня отсутствия — срок для нее немалый. У ворот усадьбы сидел дряхлый скай-терьер Рой; при виде его миссис Пендайс затрепетала, как будто только сейчас поняла, что возвращается домой.
Ее дом! Узкая, длинная, прямая аллея, туманы и покой, косые дожди и горячее яркое полуденное солнце, запах дыма, скошенной травы, аромат ее цветов; голос сквайра, сухой треск газонокосилки, лай собак, отдаленный звук молотьбы; вокресные шумы: колокольный звон и крики грачей, голос мистера Бартера, читающего молитву; и даже особый вкус кушаний! Звуки, запахи, прикосновение ветра к щекам — все это, казалось ей, существовало с незапамятных времен и будет существовать до скончания века.
Она то бледнела, то краснела и не испытывала сейчас ничего: ни радости, ни грусти — волной накатилась на нее вся ее прежняя жизнь. Никуда не заходя, она пошла прямо в кабинет мистера Пендайса и стала ждать его возвращения. Когда же услыхала она тот всхлипывающий звук, сердце у нее забилось чаще, а старый Рой и спаньель Джон тем временем тихонько ворчали друг на друга.
— Джон, — позвала она, — ты рад меня видеть, милый?
Спаньель Джон, не двинувшись с места, заколотил хвостом по ногам хозяина.
Сквайр наконец поднял голову.
— Ну как ты, Марджори? — только и сказал он.
И ее вдруг поразило, что он выглядел постаревшим и усталым.
Зазвучал гонг к обеду, и, словно привлеченная его монотонными ударами, через узкое окно влетела ласточка и закружила по комнате. Миссис Пендайс следила за ней.
Сквайр вдруг шагнул к жене и взял ее за руку.
— Не уезжай больше от меня, Марджори! — сказал он и, наклонившись, поцеловал ее руку.
Это было так не похоже на Хорэса Пендайса, что она вспыхнула, как девочка. В ее глазах, устремленных поверх его седых, коротко постриженных волос, светилась благодарность за то, что он не стал упрекать ее, и за его ласку.
— Я привезла новости Хорэс. Миссис Белью порвала с Джорджем!
Сквайр отпустил ее руку.
— Давно пора, — сказал он. — Джордж, верно, не хотел согласиться с отставкой. Он ведь упрям, как осел.
— Состояние его было ужасно.
Мистер Пендайс спросил, поморщась:
— Что? Что такое?
— Он был в отчаянии.
— В отчаянии? — переспросил сквайр испуганно и сердито.
Миссис Пендайс продолжала:
— На него было страшно смотреть. Я была у него сегодня…
Сквайр прервал ее:
— Он здоров?
— Это не болезнь, Хорэс. Разве ты не понимаешь? Я боялась, что он решится на какой-нибудь отчаянный шаг. Он был так… несчастен.
Сквайр принялся ходить из угла в угол.
— А сейчас… нет опасности?
Внезапно миссис Пендайс в изнеможении опустилась на ближайший стул.
— Нет, — произнесла она с трудом, — мне кажется, нет.
— Кажется? Ты не уверена в этом? Он… Тебе плохо, Марджори?
Миссис Пендайс, закрыв глаза, проговорила:
— Уже лучше, дорогой!
Мистер Пендайс подошел к ней, а поскольку ей сейчас больше всего требовался воздух и покой, то он принялся всячески теребить ее. А миссис Пендайс, которой надо было только одно, чтобы ее не трогали, не сердилась на мужа: ведь иначе он не мог. Несмотря на все его усилия, приступ слабости миновал, миссис Пендайс взяла мужа за руку и благодарно пожала ее.
— Что нам делать теперь, Хорэс?
— Что делать? — воскликнул сквайр. — Милостивый боже! А я почем знаю, что делать? Ты… в таком состоянии… и все из-за этого проклятого Белью и его жены! Знаю только, что сейчас тебе надо поесть.
Сказав это, он обнял жену за талию, и, поддерживая, повел ее к ней в комнату.
За обедом они говорили мало и только о незначительных вещах: о здоровье миссис Бартер, о Пикоке, о розах, о ноге Бельдейма. И только один раз чуть-чуть не коснулись того, о чем каждый подсознательно не хотел говорить, когда сквайр вдруг спросил:
— Ты видела эту женщину?
И миссис Пендайс ответила:
— Да.
Вскоре миссис Пендайс пошла в спальню; и не успела она лечь, как вошел сквайр и сказал, словно оправдываясь:
— Я сегодня очень рано…
Она не могла уснуть, а сквайр то и дело спрашивал ее: «Ты спишь, Марджори?» — надеясь все-таки, что усталость возьмет свое. Самому ему не спалось. Она знала, что он хочет быть ласков с ней, и еще она знала, что он ворочается с боку на бок и не может уснуть, потому что думает о том, что делать дальше. И потому, что его воображение преследует узкоплечий высокий призрак с маленькими горящими глазами, рыжий, с белым, в веснушках лицом. Ведь если не считать того, что Джордж стал несчастлив, все, в сущности, осталось, как было, и грозовые тучи все еще стоят над Уорстед Скайнесом. Словно выучивая скучный урок, она твердила себе: «Теперь Хорэс может ответить капитану Белью и написать ему, что Джордж не станет, вернее, не может больше видеть его жену. Он должен ответить. Только будет ли он отвечать?»
Она старалась заглянуть во все тайники души своего мужа, обдумывая, как вернее повлиять на него. И чувствовала, что вряд ли сумеет повлиять: за всеми внешними проявлениями его характера, которые казались ей «странными», но которые она понимала, было скрыто что-то для нее непостижимое, непроглядное, какая-то душевная сухость, твердость, какое-то дикое… Она не могла определить что. Вышивая, она иной раз натыкалась иголкой на утолщение, в холсте. Так и сейчас душа ее наткнулась на какую-то преграду в душе ее мужа, «Может быть, — думала она, — Хорэс вот так же хочет и не может понять меня». Но миссис Пендайс напрасно так думала, ибо сквайр никогда не занимался вышиванием, а душа его никогда не предпринимала никаких поисков.
На следующий день все утро миссис Пендайс не осмеливалась заговорить с мужем о том, что ее волновало. «Если я промолчу, он, быть может, сам напишет», — думала она.
И все утро, стараясь не привлекать его внимания, она следила за каждым его движением. Она видела, как он сидел за своим бюро, устремив взгляд на помятый листок бумаги, — она знала, что это было письмо Белью; она неслышно входила и выходила, занятая какими-то своими делами в доме или в саду. Но сквайр, углубленный в свои мысли, сидел неподвижно, как спаньель Джон, который лежал на полу, уткнувшись носом в лапы.
После второго завтрака миссис Пендайс не могла долее терпеть эту неизвестность.
— Хорэс, что ты думаешь предпринять теперь? Сквайр пристально посмотрел на нее.
— Если ты полагаешь, — сказал он наконец, — что я стану иметь дело с этим Белью, то ты ошибаешься.
Миссис Пендайс в это время ставила цветы в вазу, и руки ее задрожали так, что на скатерть плеснула вода. Она вынула носовой платок и смахнула капли.
— Ты так и не ответил на его письмо, милый, — сказала она.
Сквайр выпрямился; его сухая фигура, тонкая шея, разгневанный взгляд, сузившиеся до размеров булавочной головки зрачки — все говорило о том, что его достоинство возмущено.
— И ни за что не напишу! — сказал он голосом громким и резким, как будто выступая на защиту чего-то такого, что было важнее его самого. — Я все утро думал об этом, и, будь я проклят, если я сделаю это. Этот человек негодяй. И я не стану плясать под его дудку!
Миссис Пендайс сжала руки.
— О Хорэс, — сказала она, — ради всех нас! Дай ему это обещание.
— Чтобы он восторжествовал надо мной? Ни за что на свете!
— Но, Хорэс, ты же сам просил Джорджа сделать это. Ты писал ему, чтобы он дал обещание.
— Ты, Марджори, в этом ничего не понимаешь, — ответил сквайр, — ты не знаешь меня. Ты думаешь, я смогу написать этому мерзавцу, что его жена бросила моего сына? Позволить ему сперва вымотать мне всю душу, а потом посмеяться надо мной? Я не буду писать ему, даже если мне придется уехать отсюда навсегда, даже если…
И он умолк, как будто его глазам представилась самая большая из всех бед.
Миссис Пендайс, положив руки на лацканы его сюртука, стояла, опустив голову. Щеки ее порозовели, в глазах блестели слезы. Волнение молодило ее; от нее исходило тепло, аромат; она была прекрасна, как на том портрете, под которым они сейчас стояли.
— Даже если я тебя попрошу об этом, Хорэс?
Лицо сквайра потемнело; руки его вцепились одна в другую; в нем, казалось, шла борьба.
— Нет, Марджори, — сказал он наконец охрипшим голосом, — я не могу этого сделать. — И вышел из столовой.
Миссис Пендайс смотрела ему вслед. Ее пальцы, только что державшие лацканы его сюртука, сплетались и расплетались.
ГЛАВА IX БЕЛЬЮ СКЛОНЯЕТ ГОЛОВУ ПЕРЕД ИСТИННОЙ ЛЕДИ
В Соснах было тихо. В этом объятом безмолвием доме, где только пять комнат были жилыми, в буфетной на жестком стуле сидел старик слуга и читал «Сельскую жизнь». Ничто не мешало ему: хозяин спал, экономка еще не начинала готовить обед. Он читал медленно, с толком, водрузив на нос очки, и каждое слово на всю жизнь запечатлевалось у него в мозгу. Он читал о совах, об их строении и образе жизни. «У серой, или обыкновенной, неясыти, — говорилось в статье, — в верхней части грудной кости имеется отросток, ключицы не соединяются с килем и представляют собой вилочку, или дужку, грудная кость оканчивается двумя парными отростками с соответствующими выемками между ними». Старик оторвал глаза от журнала и посмотрел, прищурившись, на бледный солнечный свет, падающий сквозь переплет узкого окна; сидевшая на оконном выступе птичка, встретив его взгляд, тотчас вспорхнула и улетела.
Старик продолжал читать: «Оперение этого вида подробно не исследовано. Однако у подобных особей отсутствует рудимент малой берцовой кости, ключицы же их не срастаются в вилочку и не соединяются с килем; но в нижней части грудной кости имеются отростки и выемки такие же, как у неясыти». Он снова оторвался от книги. В его взгляде были спокойствие и удовлетворенность.
Наверху, в маленькой курительной, сидел в кожаном кресле хозяин усадьбы и спал, вытянув длинные ноги в запыленных сапогах. Его губы были сомкнуты, но через небольшое отверстие с одного боку вырывался легкий храп. На полу рядом с ним стоял пустой стакан, а между его ногами дремал испанский бульдог. На полке над его головой стояло несколько потрепанных, в желтых обложках книжек — все охотничьи романы, написанные их автором в минуту забывчивости. Над камином висела картина, изображающая мистера Джоррокса [10] верхом на своем коне, переправляющимся через поток.
Лицо спящего Джэспера Белью было лицом человека, который проделал огромный путь, чтобы только уйти от себя, и которому завтра предстоит проделать то же. Его песочного цвета брови вздрагивали от сновидений, его покрытое веснушками лицо с высокими скулами было мертвенно бледно, между бровями пролегли две глубокие бороздки. То и дело на этом лице появлялось выражение, как у всадника, готового взять барьер.
В конюшне позади дома кобыла, на которой он ездил сегодня, подобрав губами остатки зерна, задрала морду и просунула се сквозь решетку стойла, чтобы взглянуть на жеребца, на котором в этот душный день хозяин не ездил. Увидев, что жеребец не спит, она тихонько заржала, сообщая ему, что в воздухе чувствуется гроза. И снова конюшня погрузилась в мертвую тишину, кусты вокруг стояли недвижно, а в притихшем доме хозяин спал.
Старик слуга, сидя на своем жестком стуле в тиши буфетной, прочел: «Эти птицы страшно прожорливы». И оторвался от книги, беспокойно щуря глаза и двигая губами, — на этот раз он что-то понял.
Миссис Пендайс шла лугами. На ней было ее лучшее платье из дымчато-серого крепа, и она с беспокойством поглядывала на небо. Заходящая с запада туча поглощала солнечный свет. На ее лиловом фоне деревья казались черными. Все замерло, даже тополя не шевелились, а лиловая туча, казавшаяся неподвижной, росла со зловещей быстротой. Миссис Пендайс, подхватив обеими руками юбки, ускорила шаг; проходя пастбища, она заметила, что коровы сбились в кучу и жмутся к изгороди.
«Какая страшная туча! — подумала она. — Успею ли я прийти в Сосны до дождя?» И хотя она боялась за свое платье, но сердце ее так билось от волнения и страха, что она остановилась. «А вдруг он пьян?» Она вспомнила его маленькие, горящие глаза, которые так испугали ее в тот вечер, когда он обедал у них в Уорстед Скайнесе, а после, по дороге домой, вывалился из своей двуколки. Было в нем что-то от романтического злодея.
«А вдруг он будет груб со мной?» — подумала она.
Но отступать было поздно. А как ей хотелось — как хотелось! — чтобы все уже было позади. На перчатку шлепнулась первая капля дождя. Миссис Пендайс перешла дорогу и толкнула калитку. Бросив испуганный взгляд на небо, она почти побежала по аллее. Лиловая, подобно гробовому покрову, туча лежала на макушках деревьев, а они раскачивались и стонали, борясь с ветром и оплакивая свою судьбу. Уже падали редкие капли теплого дождя. Вспышка молнии прорезала небосвод.
Миссис Пендайс бросилась на крыльцо, зажав уши руками.
«Когда это кончится? — подумала она. — Мне так страшно…»
Дряхлый слуга, чье лицо было все в морщинах, приоткрыл дверь, чтобы поглядеть на тучу, но, увидев миссис Пендайс, стал смотреть на нее.
— Капитан Белью дома?
— Да, сударыня, капитан у себя в кабинете. Гостиная у нас теперь заперта. Страшная гроза надвигается, сударыня, страшная! Посидите здесь минутку, пока я доложу о вас капитану.
Прихожая была низкая и темная, и таким же низким и темным был весь дом, немного пахнувший гнилью. Миссис Пендайс осталась стоять под сооружением из трех лисьих голов, на которых были укреплены два хлыста. И вид этих голов заставил ее подумать: «Бедный капитан Белью! Как ему, должно быть, тут одиноко!»
Миссис Пендайс вздрогнула: что-то потерлось об ее ногу. Это был всего-навсего огромный бульдог. Она наклонилась погладить его и уже не могла остановиться: стоило ей отнять руку, как бульдог начинал жаться к ней, а миссис Пендайс боялась за свое платье.
— Бедная собачка, бедная собачка, — шептала миссис Пендайс. — Она хочет, чтобы кто-нибудь поиграл с ней!
Голос за ее спиной произнес:
— Пошел вон, Сэм! Простите, что заставил вас ждать. Пройдите, пожалуйста, сюда.
Миссис Пендайс, то заливаясь румянцем, то бледнея, вошла в низкую, маленькую, обшитую панелями комнату, в которой стоял запах сигар и виски. Сквозь частый переплет окна она видела косые струи дождя, видела мокрые, поникшие кусты.
— Присаживайтесь, пожалуйста.
Миссис Пендайс села. Сжала руки, подняла голову и взглянула на хозяина.
Она увидела худую узкоплечую фигуру: кривые чуть расставленные ноги, взъерошенные песочного цвета волосы, бледное лицо в веснушках, маленькие темные мигающие глаза.
— Простите за этот беспорядок. Я не так часто имею удовольствие видеть у себя в гостях дам. Я спал, в это время года я только и делаю, что сплю.
Его жесткие рыжие усы шевельнулись, как будто бы он улыбнулся.
Миссис Пендайс что-то тихо проговорила в ответ.
Все происходящее было подобно кошмарному сну. Ударил гром, и она зажала уши.
Белью подошел к окну, взглянул на небо и вернулся к камину. Его маленькие горящие глаза буравили ее. «Если я сейчас не заговорю, — подумала она, — то не заговорю совсем».
— Я пришла к вам, — начала она, и с этими словами весь ее страх прошел, ее голос, до этой минуты звучавший неуверенно, приобрел свой обычный тембр, ее глаза с расширившимися зрачками, потемневшие и кроткие, были устремлены на этого человека, в чьих руках была ее судьба, от которого зависело благополучие всех ее близких. — Я пришла, чтобы сказать вам одну важную вещь, капитан Белью!
Фигура у камина поклонилась, и страх, словно какая-то зловещая птица, снова вцепился в нее. Было ужасно, было дико, что ей, что вообще кому-то приходится говорить об этом; было ужасно, дико, что люди, мужчины и женщины, так могут не понимать друг друга, иметь друг к другу так мало жалости и сочувствия; было дико, что она, Марджори Пендайс, должна сейчас начать разговор о том, что ему и ей причинит столько боли. Все это было так грубо, гадко, вульгарно! Она вынула платок и провела им по губам.
— Простите, что мне приходится говорить об этом. Ваша жена, капитан Белью, порвала с моим сыном!
Белью не пошевелился.
— Она не любит его, она сама сказала мне это! Они больше никогда не увидятся!
Как мерзко, как отвратительно, как ужасно!
А Белью все стоял молча и буравил ее своими горящими глазками. И как долго это продолжалось, миссис Пендайс не могла бы сказать.
Вдруг он резко повернулся к ней спиной и оперся о каминную решетку.
Миссис Пендайс провела рукой по лбу, чтобы избавиться от чувства, что все происходящее нереально.
— Вот и все, — сказала она.
Ее собственный голос показался ей чужим.
«Если и в самом деле все, — подумала она, — то я должна сейчас встать и уйти!» И в голове промелькнуло: «Мое бедное платье погибло!»
Белью обернулся.
— Не хотите ли чаю?
Миссис Пендайс улыбнулась бледной, слабой улыбкой.
— Нет, благодарю, мне не хочется чаю,
— Я писал вашему мужу.
— Да.
— Он мне не ответил.
— Да, не ответил.
Миссис Пендайс видела его взгляд, устремленный на нее, и в ее душе поднялась отчаянная борьба. Должна ли она просить его сдержать свое обещание теперь, когда Джордж?.. Разве не затем она и пришла сюда? Должна ли она, ради них всех?
Белью подошел к столу, налил себе виски и выпил.
— Вы не просите меня прекратить дело, — сказал он.
Губы миссис Пендайс приоткрылись, но не произнесли ни звука. Ее глаза на побледневшем лице, темные, как сливы, не отрывались от его лица, но она не сказала ни слова.
Белью быстрым движением провел ладонью по лбу.
— Хорошо, ради вас, — сказал он, — я прекращаю дело. Вот вам моя рука. Я знаю только одну истинную леди. Это вы.
Он схватил ее руку, затянутую в перчатку, пожал и вышел вон из комнаты. Миссис Пендайс осталась одна.
Она вышла в прихожую, слезы струились по ее щекам. Она тихонько притворила за собой двери.
«Мое бедное платье! — подумала она. — Разве постоять здесь немного? Дождь уже кончается!»
Лиловая туча ушла, скрылась за дом, но с яркого, посветлевшего неба еще сыпались мелкие блестящие капли; за деревьями аллеи открылся голубой кусок чистого неба. Дрозды уже охотились за червями. Белка, прыгавшая по стволу, остановилась и посмотрела на миссис Пендайс. И миссис Пендайс рассеянно посмотрела на белку, вытирая платком слезы.
«Бедный капитан Белью! — подумала она. — Как ему одиноко! А вот и солнце!»
И ей показалось, что за все это жаркое, прекрасное лето солнце первый раз проглянуло на небе. Подхватив обеими руками юбки, она спустилась с крыльца и скоро уже опять шла лугом.
Каждый зеленый листок, каждая зеленая травинка сверкали на солнце, воздух был так промыт дождем, что все летние запахи исчезли перед этим кристальным запахом чистоты и свежести. Ботинки миссис Пендайс скоро промокли насквозь.
«Как я счастлива! — подумала она. — Как мне хорошо, как я счастлива!»
И чувство, менее определенное, чем ощущение счастья, вытеснило из ее груди все остальные чувства, когда она шла этими насыщенными влагой лугами.
Туча, которая так долго омрачала небо над Уорстед Скайнесом, пролилась дождем и ушла. Каждый звук казался музыкой, все, что могло двигаться, казалось, танцевало. Она спешила к своим розам, чтобы увидеть, как обошелся с ними ливень. Она перебралась через перелаз и на секунду остановилась, чтобы ловчее подхватить юбки. Она была уже на ближнем поле, и по правую руку от нее лежала усадьба. Вытянутый в длину, невысокий белый дом был окутан нежной вечерней дымкой, два окна, из которых бил отраженный закатный свет, как два глаза, обозревали свои владения, за домом слева виднелось окруженное вязами плотное широкое серое здание деревенской церкви. А вокруг всего и над всем царил покой — сонный, подернутый дымкой покой английского вечера.
Миссис Пендайс пошла в свой сад. Направо, невдалеке, она увидела сквайра и мистера Бартера. Они стояли рядом и разглядывали дерево, спаньель Джон, символ раболепного мира низших существ, сидел рядом и тоже смотрел на это дерево. Лица сквайра и мистера Бартера были подняты под одним углом, и при всей разнице этих лиц и этих фигур, знаменующей собой извечный антагонизм двух различных человеческих типов, они поразили ее своим внутренним сходством. Как будто некая душа в поисках приюта натолкнулась на эти два тела и, не зная, кому отдать предпочтение, раздвоилась и стала обитать и в том и в другом.
Миссис Пендайс не стала их окликать и, быстро пройдя между тисами, скрылась за калиткой. В ее саду с каждого листка скатывались наземь прозрачные капли, а в углублении лепестков дрожали водяные жемчужины. Впереди на дорожке она заметила стебель сорняка, подойдя поближе, увидела, что их несколько.
«Как ужасно! — подумала она. — Совсем запустили… Придется сделать замечание Джекмену!»
Розовый куст, который она сама посадила, чуть шевельнулся от ветерка, и с него посыпался дождь.
Миссис Пендайс наклонилась к белой розе, и, улыбаясь, поцеловала ее.
1907 г.
БРАТСТВО
ГЛАВА I ТЕНЬ
Стоял последний день апреля 190… года, над Хайстрит в Кенсингтоне далеко в вышине бурлило море рваных облачков. Воздушные пары, окутавшие почти весь небосвод, мягко клубились, надвигаясь на клочок голубого неба, по форме напоминающий звезду, — он сверкал, как одинокий цветок горечавки в гуще травы. Казалось, у каждого облачка — пара невидимых крыльев, и, как насекомые, летающие по твердо намеченным путям, облака упорно продвигались вперед, окружая цветок-звезду, который сиял ровным, ясным огнем из своего неподвижного далека. Справа они шли курчавыми стадами, тесня друг друга так, что очертания их стирались; слева они были выше, мощнее и, оторвавшись от своих собратьев, как будто вели атаку на уцелевший островок несказанного сверкания. Бесконечно было многообразие бесчисленных летящих облачков, неизменна и неподвижна была одинокая голубая звезда.
Внизу на улице, над которой шла эта вечная борьба мягкокрылых облаков с прозрачным эфиром, мужчины, женщины, дети и ближние их — лошади, собаки и кошки — с особым, весенним подъемом делали каждый свое обычное дело. Они двигались шумным потоком, и от их живой суеты поднимался ввысь неумолчный гул.
Пожалуй, теснее всего толпа была возле магазина Роза и Торна. Мимо нескончаемого ряда его дверей шли люди всех рангов, от высшего до низшего, а перед витриной с готовым платьем стояла довольно высокая, тонкая и стройная дама и думала: «Оно совсем голубое, цвета горечавки. Но, может, мне все же не следует покупать его, когда вокруг такая нужда…»
Глаза ее, зеленовато-серые и часто принимающие скептическое выражение, чтобы не выдать тайных движений души, тщательно перебирали одно за другим качества платья, разложенного в витрине во всей своей соблазнительности.
«А что, если Стивну я в нем не понравлюсь?» Сомнение заставило даму зажать пальцами одетой в перчатку руки складку на груди блузки. И этот нервный жест выразил всю ее душу: желание иметь и страх перед обладанием, жажду жить и страх перед жизнью; вуаль, спускаясь с нешироких полей шляпы, прикрывала чуть расплывчатые черты, слишком высокие скулы и слегка впалые щеки — как видно, время целовало их довольно крепко.
Стоявший на тротуаре старик с длинным лицом, глазами в красных ободках, как у попугая, и носом неестественного цвета заметил даму и вынул изо рта пустую трубку. Ему разрешалось продавать здесь «Вестминстерскую газету» при непременном условии, что он будет делать это только стоя.
Знать всех прохожих — это было частью его профессии, а также служило развлечением, так как помогало ему забывать о больных ногах. Высокая дама, с изящным лицом вызывала в нем недоумение. Она иногда покупала у него газету, продавать которую, вопреки своим политическим убеждениям, он был обречен судьбой. Такая особа, дама из общества, должна была бы, конечно, покупать газеты, выпускаемые тори. Настоящую леди он уж сразу отличит. Дело в том, что прежде чем жизнь вышвырнула его на улицу, наградив болезнью, на лечение которой ушли все его сбережения, он служил старшим лакеем и к людям «благородным» испытывал чувство почтительности, столь же неискоренимое, как и недоверие к тому сорту людей, «которые покупают себе вещи вот в этих вот огромных магазинах» и «устраивают танцульки по подписке — там вон, в этом… мунсипалитете». Он наблюдал за дамой с особым интересом, хотя вовсе не старался привлечь ее внимание, остро сознавая в то же время, что успел продать всего лишь пять газет утреннего выпуска. Он удивился и расстроился, когда дама вдруг скрылась, войдя в одну из многочисленных дверей магазина.
Соображения, побудившие даму войти в магазин Роза и Торна, были следующие: «Мне тридцать восемь, у меня семнадцатилетняя дочь. Я не должна терять привлекательности в глазах моего мужа, этого допускать нельзя. Подошло время, когда необходимо особенно тщательно заниматься своей внешностью».
Перед длинным трюмо, в сверкающей глубине которого ежегодно купались сотни полуобнаженных тел и на гладкой поверхности которого ежедневно отражался десяток душ, совершенно обнаженных, глаза дамы приобрели холодный блеск стали. Но когда выяснилось, что платье цвета горечавки придется сузить в груди на два дюйма, в талии на дюйм и в бедрах на три, а подол на дюйм отпустить, они снова затуманились сомнением, как если бы обладательница их уже готовя была отказаться от принятого решения. Вновь надевая блузку, она спросила:
— Когда я смогу его получить?
— В конце недели, мадам.
— Не раньше?
— Как раз сейчас у нас много спешной работы, мадам.
— Пожалуйста, постарайтесь непременно переделать его не позднее четверга.
Продавщица, примерявшая платье, вздохнула:
— Хорошо, я постараюсь.
— Я рассчитываю на вас. Мой адрес: Олд-сквер, дом семьдесят шесть. Миссис Стивн Даллисон.
Спускаясь по лестнице, она подумала: «У бедняжки такой усталый вид. Просто позор, что их заставляют работать по стольку часов», — и вышла на улицу.
Позади нее послышался робкий голос:
— «Вест-министерскую», мадам?
«Это тот бедняга старик с таким безобразным носом, — вспомнила Сесилия Даллисон. — Право, мне совершенно незачем…» — И она стала рыться в сумочке, ища мелкую монету. Рядом с «беднягой стариком» стояла женщина в опрятном черном платье и небольшой, очень поношенной шляпке, когда-то, очевидно, украшавшей более изящную голову; ее шею обвивала узкая, вся вытершаяся меховая горжетка. Несколько изможденное лицо женщины было не лишено тонкости, карие глаза смотрели ясно и кротко, гладкие черные волосы были стянуты в пучок. Рядом с ней стоял худенький мальчуган, на руках она держала младенца. Миссис Даллисон протянула два пенса за газету, глядя, однако, не на старика, а на женщину.
— А мы вас ждали, миссис Хьюз, — проговорила Сесилия. — Мы думали, вы придете подрубать портьеры.
Женщина прижала к себе младенца.
— Простите, мэм, я обещала, но… у меня такие неприятности…
Сесилия сдвинула брови.
— Вот как!
— Это все из-за мужа.
— Ах, боже мой! — пробормотала Сесилия. — Но почему вы все-таки не пришли к нам?
— Я не могла, мэм, право, не могла…
По щеке у нее скатилась слеза и задержалась в морщинке у рта,
— Да-да, разумеется, — торопливо проговорила миссис Даллисон. — Очень вам сочувствую.
— Вот этот старый джентльмен, мистер Крид, живет в том же доме, что и мы, он хочет поговорить с моим мужем.
Старик закивал головой, сидящей на длинной, тощей шее.
— Ему следовало бы вести себя приличнее, — сказал он.
Сесилия взглянула на него и пробормотала:
— Лично вам, надеюсь, он ничего не сделает.
Старик пошаркал ногами.
— Я ни с кем не хочу ссориться, ну, а если он вздумает со мной безобразничать, я мигом напущу на него полицию… «Вест-министерскую», сэр? — И, прикрыв от миссис Даллисон рот ладонью, произнес громким шепотом: Казнь убийцы из Шордитча!
Сесилию вдруг охватило неприятное ощущение, будто все вокруг прислушиваются к ее разговору с этими двумя малопрезентабельными людьми.
— Право, миссис Хьюз, не знаю, что я смогу для вас сделать. Я поговорю с мистером! Даллисоном и с мистером Хилери также.
— Да, мэм, спасибо, мэм.
С улыбкой, как будто самое себя осуждающей, Сесилия подобрала юбки и перешла через дорогу. «Надеюсь, я выразила достаточно сочувствия», подумала она, оглянувшись на три фигуры, стоявшие у обочины тротуара. Старик с газетами, вздернувший кверху свой безобразный нос под очками в железной оправе, швея в черном платье, худенький мальчуган… Не произнося ни слова, не шевелясь, они смотрели прямо перед собой на оживленную улицу, и вид их вызвал в душе Сесилии протест. Во всех троих было что-то безнадежное, жалкое, неэстетичное…
«Ну чем поможешь женщинам, которые всегда так вот выглядят? — думала она. — И этот бедняга старик… Наверно, мне все же не следовало покупать нового платья, но Стивну так надоело мое теперешнее…»
Она свернула с главной улицы, прошла по другой, доступной только для пешеходов и экипажей, и остановилась подле невысокого длинного дома, почти скрытого деревьями палисадника.
То был дом Хилери Даллисона, брата ее мужа, а также мужа Бианки, родной ее сестры.
Сесилии вдруг пришла в голову курьезная мысль: дом явно похож на самого Хилери! Добрый, неуверенный вид, светло-коричневый тон… Верхние наличники, брови окон, скорее прямые, чем изогнутые, и окна — глубоко сидящие глаза, гостеприимно поблескивают… Негустая вьющаяся зелень — словно бородка и усы, а пятна кое-где на стенах — морщины на лице тех, кто слишком много думает. Сбоку дома, отдельно от него, хотя и соединенное с ним крытым ходом, стояло оштукатуренное строение, покрашенное в лиловато-синий цвет и с черной дубовой дверью, — в целом оно производило впечатление чего-то жесткого, неподатливого, очень под стать Бианке, которая занималась там живописью. Студия, казалось, глядела на дом, откровенно заявляя, что не желает слишком тесного с ним) соседства и вообще не способна к какому бы то ни было сближению. Сесилии, которую постоянно тревожили отношения между сестрой и деверем, все это вдруг показалось весьма знаменательным и символичным.
Но, не желая поддаваться фантазиям, которые, как учил ее опыт, могут завести слишком далеко, она быстро зашагала по выложенной каменными плитами дорожке к дому. У входа, подле самой двери, лежал маленький серебристый бульдог — особа женского пола — из породы комнатных собачек; подняв агатовые глаза, собака деликатно завиляла хвостом, похожим на шнур сонетки, — так она встречала каждого, ибо предки ее от поколения к поколению становились все «породистее» и серебристее, так что в ней оказались уже вовсе утрачены достоинства, присущие настоящим бульдогам — собакам, которыми травили быков.
Миссис Даллисон позвала: «Миранда!» — и хотела было погладить эту четвероногую дочь дома, но собачонка уклонилась от ее ласк: она тоже предпочитала не заходить слишком далеко…
Понедельник был приемным днем Бианки, и Сесилия направилась к студии. Большое, с высокими потолками помещение было полным-полно народу.
У самой двери одиноко и неподвижно стоял очень худой, сильно сгорбленный старик с седыми волосами и негустой седой бородкой, которую он сгреб в горсть своими прозрачными пальцами. На нем был дымчато-серый, из грубого твида костюм, от которого попахивало золой, и свободного покроя рубашка — воротник ее, слишком низкий, выставлял напоказ тощую коричневую шею; брюки же были чересчур коротки, и из-под них виднелись светлые носки. В позе старика было нечто заставлявшее вспомнить терпеливое упорство мула. Он взглянул на подходящую к нему Сесилию. Сразу становилось понятным, почему в комнате, битком набитой народом, он стоит в стороне, один; его голубые глаза глядели так, будто он вот-вот начнет пророчествовать.
— Мне рассказали о казни, — проговорил он.
У Сесилии вырвался нервный жест.
— Ну и что, папа?
— Посягательство на жизнь ближнего было отличительной особенностью темного, бессмысленного варварства, все еще преобладавшего в те дни, продолжал старик, и хотя в голосе его чувствовалось подлинное волнение, казалось, будто он говорит сам с собой. — Оно явилось порождением самого нерелигиозного и фетишей — веры в бессмертие отдельной личности. Поклонение этому фетишу и породило все скорби человечества.
Сесилия сделала непроизвольное движение, и сумочка в ее руках дрогнула.
— Папа, ну как ты можешь?..
— Они уже не считали нужным любить друг друга в земной жизни, они были уверены, что для этого у них впереди вечность. Доктрину эту придумали для того, чтобы можно было вести себя подобно зверям и не испытывать угрызений совести. Любовь не могла дать настоящих плодов до тех пор, пока доктрина эта оставалась неопровергнутой.
Сесилия поспешно огляделась. Нет, никто не слышал. Она отошла немного в сторону и смешалась с группой гостей. Губы ее отца продолжали шевелиться. Он снова принял терпеливую позу, вызывающую смутное воспоминание о мулах.
Чей-то голос позади нее произнес:
— Нет, право, миссис Даллисон, ваш отец удивительно интересный человек!
Сесилия обернулась и увидела даму среднего роста с прической в духе раннего итальянского Возрождения и очень маленькими темными шустрыми глазками; они смотрели так, будто любовь этой дамы к жизни заставляла ее жадно поглощать и каждую минуту своего собственного времени и все те «минуты чужого времени, которыми ей удавалось завладеть.
— Ах, это вы, миссис Таллентс-Смолпис? Здравствуйте! Я все собираюсь заглянуть к вам, но вы ведь, конечно, всегда так заняты…
Сесилия смотрела на миссис Таллентс-Смолпис и приветливо и настороженно, своим заранее шутливым тоном как будто ограждая себя от шуток собеседницы. Миссис Таллентс-Смолпис, которую она уже несколько раз встречала у Бианкя, вдова известного знатока-коллекционера, состояла секретарем «Лиги воспитания круглых сирот», вице-президентом общества «Огонек надежды для девушек в затруднительном положении» и казначеем общества «Танцевальные четверги для девушек-тружениц». Она, по-видимому, знала всех, кого стоило знать, и еще многих других, успевала посетить все выставки, услышать всех музыкантов-исполнителей и побывать на всех премьерах. Что касается литературы, то миссис Таллентс-Смолпис не раз признавалась, что писатели нагоняют на нее скуку; впрочем, она всегда готова была оказать им дружескую услугу, устраивая им у себя встречи с издателями и критиками, а порой, хотя об этом мало кто знал, ссужала их и деньгами, чтобы вызволить из «затруднений», в которые они то и дело попадали, но уж после этого, по собственному ее признанию, она обычно их больше в глаза не видела.
Для миссис Стивн Даллисон эта дама была существом особым, она как бы являлась рубежом между теми из друзей Бианки, которых она была бы весьма рада принимать и у себя, и теми, которых ей принимать не хотелось, ибо Стивн, адвокат, занимающий видное служебное положение, больше всего боялся показаться смешным. Так как Хилери писал книги и был поэтом, а Бианка занималась живописью, все их друзья, естественно, были людьми или интересными, или странными, но, хотя ради Стивна было важно определить, к какой из этих категорий отнести то или иное лицо, чаще всего оно принадлежало к обеим. В небольшой дозе такие люди действовали приятно-возбуждающе, но из-за мужа и дочери Сесилия отнюдь не желала, чтобы они ходили к ней в дом толпами. Они вызывали в ней сладкое замирание сердца, похожее на то ощущение, с каким она покупала «Вестминстерскую газету», чтобы почувствовать биение пульса общественного прогресса: и приятно и немного страшно.
Темные глазки миссис Таллентс-Смолпис сверкнули.
— Я слышала, что мистер Стоун — ведь, кажется, так зовут вашего отца? пишет книгу, которая должна своим выходом в свет произвести настоящую сенсацию.
Сесилия прикусила губу. «Надеюсь, она никогда не увидит света», — чуть не сказала она вслух.
— Как называется его книга? — спросила миссис Таллентс-Смолпис. — Мне помнится, это что-то о всемирном братстве — так мило!
У Сесилии вырвался досадливый жест.
— Кто рассказывал вам об этом?
— Ах! — воскликнула миссис Таллентс-Смолпис. — Вашей сестре всегда удается залучить на свои понедельники таких милых, занимательных людей! Они так живо всем интересуются!
Удивляясь самой себе, Сесилия ответила:
— Даже слишком, по-моему.
Миссис Таллентс-Смолпис улыбнулась.
— Я имею в виду интерес к искусству и социальным вопросам. Я полагаю, тут не может быть ничего «слишком», не правда ли?
— Нет-нет, разумеется, нет, — поспешила ответить Сесилия.
Обе дамы огляделись. До ушей Сесилии доносился гул голосов:
— Вы видели «Последствия»? Чудесная вещь!
— Бедняга, у него такой отсталый вкус…
— Появился новый гений…
— Она так искренне сочувствует…
— Но положение неимущих классов…
— Кажется, это мистер Бэлидайс? Право же… — Это дает вам такое острое ощущение жизни…
— Буржуа!..
Голос миссис Таллентс-Смолпис врезался в этот многоголосый хор:
— Скажите мне, ради бога, кто это юное создание, рядом с молодым человеком — вон там, возле картины. Девочка совершенно очаровательна!
Щеки Сесилии приятно порозовели.
— Это моя дочурка.
— Да неужели? У вас такая взрослая дочь? Но ведь ей, должно быть, лет семнадцать?
— Скоро восемнадцать.
— Как ее зовут?
— Тайми, — ответила Сесилия, чуть улыбнувшись. Она ждала, что миссис Таллентс-Смолпис сейчас скажет: «Очаровательно!»
Миссис Таллентс-Смолпис заметила улыбку и сделала паузу.
— А кто этот юноша с ней?
— Мой племянник, Мартин Стоун.
— Сын вашего брата, который погиб вместе с женой во время того несчастного случая в Альпах? У молодого человека очень решительный вид. Вполне современен. Чем он занимается?
— Он уже почти врач. Не знаю толком, получил он диплом или еще нет.
— А я было подумала, что он имеет какое-то отношение к искусству.
— О нет, он презирает искусство.
— А ваша дочь тоже презирает искусство?
— Нет, она его изучает.
— Да что вы! Как интересно! Я нахожу, что подрастающее поколение чрезвычайно забавно, — как вы считаете? Они такие независимые!
Сесилия с некоторым беспокойством поглядела на «подрастающее поколение». Молодые люди стояли рядом возле большой картины, как-то ото всех в стороне; они обменивались взглядами и краткими замечаниями и с юношеской бесцеремонностью, даже почти враждебно, разглядывали циркулировавших по комнате людей, которые болтали, раскланивались, улыбались. У молодого человека было бледное, гладко выбритое лицо, волевой подбородок, длинный прямой нос, шишковатый лоб, ясные серые глаза; саркастически сложенные губы были тверды и подвижны. Он смотрел на гостей со смущающей прямотой. На девушке было голубовато-зеленое платье. Она была прелестна: живые серо-карие глаза, свежий цвет лица, пушистые волосы цвета спелого ореха.
— Та картина, возле которой они стоят, ведь это «Тень», работа вашей сестры? — спросила миссис Таллентс-Смолпис. — Я помню, я видела ее на рождество, помню и маленькую натурщицу, которая послужила моделью, — очень привлекательный типаж! Ваш деверь рассказывал мне, какое участие вы все в ней принимаете. Она, кажется, упала в обморок от недоедания, когда пришла в первый раз на сеанс, — как это романтично!
Сесилия ответила что-то невнятное. Руки ее нервно двигались, ей было не по себе.
Но все эти признаки беспокойства ускользнули от внимания миссис Таллентс-Смолпис: глаза ее были заняты другим.
— В нашем «Огоньке надежды» я, конечно, вижу много девушек, попавших в щекотливое положение, — буквально на краю… вы понимаете? Миссис Даллисон, вы непременно должны войти в наш «Огонек надежды». Это серьезная и увлекательная работа.
Сомнение в глазах Сесилии стало еще более очевидным.
— О, я в том уверена, — сказала она. — К сожалению, у меня так мало времени…
Но миссис Таллентс-Смолпис продолжала:
— Мы живем в чрезвычайно интересное время, не правда ли? Столько различных новых течений! Это так захватывает. Мы все чувствуем, что больше уже нельзя закрывать глаза на стоящие перед нами социальные проблемы. Взять хотя бы условия жизни бедноты — одного этого достаточно, чтобы вас по ночам преследовали кошмары!
— Да, — сказала Сесилия, — конечно, это ужасно.
— Политические деятели и чиновники — совершенно безнадежные люди, от них ждать нечего.
Сесилия выпрямилась.
— Вы так думаете?
— Я только что разговаривала с мистером Бэлидайсом. Он утверждает, что искусство и литература должны быть поставлены на совершенно новую основу.
— Вот как? Это вон тот забавный человечек?
— По-моему, он феноменально умен.
— Да-да, я знаю, знаю, — быстро ответила Сесилия. — Разумеется, необходимо что-то сделать.
— Все мы, по-видимому, так считаем, — сказала миссис Таллентс-Смолпис несколько рассеянно. — Ах да, я хочу спросить вас. Я тут побеседовала с восхитительным субъектом — знаете, из тех, каких видишь в Сити, — их там тысячи, и они все в таких добротных черных пальто. Познакомиться с подобным человеком в наши дни — редкость. Очень освежающе действует — у них такие простые, бесхитростные взгляды! Вот он, стоит как раз позади вашей сестры.
Нервный жест, вырвавшийся у Сесилии, подтвердил, что она узнала человека, на которого указывала миссис Таллентс-Смюлпис.
— А, это мистер Пэрси. Понять не могу, почему он у нас бывает.
— Он просто восхитителен, — проговорила миссис Таллентс-Смолпис мечтательно.
Ее темные глазки, словно пчелы, полетели снимать мед с этого нового цветка — широкоплечего мужчины среднего роста, одетого очень тщательно и чувствующего себя, как видно, не совсем в своей тарелке. На губах его, украшенных усами, застыла улыбка; жизнерадостная физиономия была румяна, лоб не отличался ни чрезмерной высотой, ни шириной, но челюсть была внушительная. Волосы у него были светлые и густые, глаза серые, маленькие и проницательные. Он рассматривал какую-то картину на стене.
— Нет, право же, он восхитителен, — повторила миссис Таллентс-Смолпис негромко. — Он, оказывается, даже не подозревает о существовании такой проблемы, как проблема неимущих классов.
— Он вам рассказывал, что купил картину? — спросила Сесилия мрачно.
— О да, работы Гарпиньи, с ударением на «пи». Картина стоит втрое дороже того, что он за нее отдал. Так приятно, когда тебя вдруг заставляют почувствовать, что еще существует множество людей, все на свете измеряющих деньгами.
— А он не цитировал вам изречение моего деда Карфэкса на процессе Бэнстока? — спросила Сесилия вполголоса.
— Ну как же: «Человека, который сам не знает, чего хочет, следовало бы силой парламентского закона объявить ирландцем». Мистер Пэрси добавил, что это «здорово сказано»,
— Это на него похоже.
— Он вас, кажется, несколько раздражает?
— Да нет, я считаю его вполне порядочным человеком. И мы обязаны быть с ними любезны: он оказал моему отцу услугу — так, во всяком случае, полагает он сам. Таким образом и завязалось наше знакомство. Только его аккуратные визиты несколько утомительны. Он все же действует на нервы.
— Ах, вот это в нем и забавно! Ему-то ведь никто и никогда не подействует на нервы. Мне кажется, у нас уж слишком много нервов, как вы считаете? А вот и ваш деверь. Какая интересная внешность! Мне бы хотелось поговорить с ним об этой маленькой натурщице. Она ведь, кажется, из деревни, да?
Миссис Таллентс-Смолпис повернула голову навстречу высокому, чуть сутулому мужчине с лицом худым и смуглым, с небольшой бородкой, — он только что вошел в комнату. Она не заметила, как Сесилия вдруг вспыхнула и поглядела на нее почти сердито. Высокий мужчина подошел к Сесилии, коснулся ее рукава и сказал мягко:
— Здравствуй, Сесси. Стивна еще нет?
Сесилия отрицательно покачала головой.
— Хилери, ты ведь знаком с миссис Таллентс-Смолпис?
Высокий мужчина поклонился. В его карих, глубоко сидящих глазах светились застенчивость и доброта; брови, почти все время находящиеся в движении, придавали лицу выражение и строгое и капризное. Темные волосы были тронуты сединой, на губах то и дело играла добрая улыбка. Держался он скромно, без тени позерства, — он почти стушевывался. Кисти рук у него были длинные, тонкие, смуглые. В костюме его не было ничего примечательного.
— Я оставлю вас одних, миссис Таллентс-Смолпис хочет побеседовать с тобой, Хилери.
Группа гостей, окруживших мистера Бэлидайса, не дала, однако, Сесилии отойти далеко, и голос миссис Таллентс-Смолпис долетал до ее ушей.
— Мы как раз говорили о маленькой натурщице, мистер Даллисон. С вашей стороны было так гуманно принять участие в девушке. Не могло бы и наше общество оказаться для нее чем-нибудь полезным?
У Сесилии был отличный слух, и она уловила тон, каким ответил Хилери:
— Благодарю вас, но думаю, что в этом нет необходимости.
— Мне просто пришло в голову, что, быть может, вы сочтете нужным, чтобы наше общество… Позировать художникам — не очень-то подходящая профессия для молодой девушки.
Сесилия увидела, что затылок и шея у Хилери побагровели. Она отвернулась.
— Конечно, многие натурщицы вполне порядочные девушки, — продолжала миссис Таллентс-Смолпис. — Я вовсе не хочу сказать, что все они непременно… если у них сильная воля и характер… и в особенности, если они не позируют обнаженными.
Сесилия услышала сухой, четкий ответ Хилери:
— Благодарю вас, вы очень любезны.
— Разумеется, если нет необходимости… В картине вашей жены, мистер Даллисон, столько тонкости, такой интересный типаж!
Сама не зная, как это произошло, Сесилия вдруг очутилась возле этой самой картины. Словно попав в немилость, холст стоял несколько повернутым к стене, а изображена была на нем девушка во весь рост, погруженная в глубокую тень, — она простирала руки вперед, как будто моля о чем-то. Глаза ее смотрели прямо на Сесилию, сквозь полуоткрытые губы, казалось, шло живое дыхание. Светло-голубой цвет глаз, светло-красный — полураскрытых губ и светло-коричневый цвет волос были единственными более или менее яркими пятнами во всей картине. Остальное уходило в тень. Передний план был освещен как бы светом от уличного фонаря.
«Глаза и рот этой девушки преследуют меня, — подумала Сесилия. — И что это Бианке вздумалось брать такой сюжет? Но, правда, вещь получилась тонкая — для такого человека, как Бианка».
ГЛАВА II СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР
Брак Сильвануса Стоуна, профессора естественных наук, с Анной, дочерью судьи Карфэкса из известного дворянского рода — Карфэксы из Спринг-Динз в Гемпшире, — был зарегистрирован в шестидесятых годах. В последующие три года в кенсингтонскую церковную книгу были занесены одна за другой записи о крещении Мартина, Сесилии и Бианки, сына и дочерей Сильвануса и Анны Стоун, как если бы лицо, причастное к их появлению на свет, упорно преследовало одну лишь эту цель. Дальнейших записей о крещении не было нигде, словно упорство это натолкнулось вдруг на препятствие. Но в той же церковной книге за восьмидесятые годы имеется запись о погребении «Анны, nee [11] Карфэкс, жены Сильвануса Стоуна». Для посвященных эти два слова «nee Карфэкс» таили в себе особый смысл. Они не только говорили все самое главное о матери Сесилии и Бианки, но каким-то особым, трудноуловимым образом также и все самое главное о них обеих, включая ускользающий, обороняющийся взгляд их ясных глаз: хотя в семье о них говорили как о «глазах Карфэксов», в действительности они были унаследованы ими отнюдь не от старого судьи Карфэкса. Такие глаза были у его жены, и они постоянно вызывали у него, человека твердого характера, чувство досады. Он всегда знал, чего добивается, и не забывал дать почувствовать это окружающим; жене он частенько напоминал, что она женщина непрактичная и сама не знает, чего хочет; все доходы, получаемые им на службе закону, судья сберегал для своего потомства. Если бы он дожил до того времени, в которое жили его внучки, он был бы неприятно поражен. Как очень многим способным людям его поколения, ему, человеку, в житейских делах дальновидному, и в голову не приходило, что у потомков таких вот людей, как он, скопивших богатства для детей своих детей, могут развиться совершенно новые качества: склонность медлить, без конца взвешивать «за» и «против», очень долго глядеть вперед и не становиться одной ногой на землю, прежде чем шагнуть другой. — Он никак не мог предвидеть, что топтание на месте станет искусством, что, прежде чем отважиться на какой-нибудь поступок, люди захотят полной гарантии его необходимости и что они будут считать совершенно немыслимым и даже глупым делать то, что могло бы полностью разрешить тот или иной вопрос. Будучи всю свою жизнь человеком действия, он не сумел предугадать, что у людей появится новый инстинкт: действовать — значит как-то связывать себя; если даже то, что ты имеешь, и не совсем то, чего бы ты хотел, — то, чего у тебя нет, будет столь же скверно (если оно тебе достанется). Он не знал, что такое неверие в себя, его поколению это было несвойственно, и, обладая лишь очень слабым воображением», не подозревал, что, готовя своим потомкам возможность обеспеченного досуга, он вместе с тем подготавливает основу для развития в них этих новых качеств.
Из всех, кто в тот вечер находился в студии его внучки, мистер Пэрси, эта приблудная овца, был, пожалуй, единственным, чьи суждения он счел бы здравыми. Никто не накапливал состояния для мистера Пэрси, он сам с двадцати лет наживал деньги.
Как знать, быть может, именно то обстоятельство, что он был здесь не совсем у места, и заставило этого гостя Бианки задержаться в студии, когда другие уже разошлись, а возможно, он просто думал, что чем больше будет вращаться в артистическом обществе, тем больше приобретет лоска. Вероятнее всего, причиной было это последнее соображение, ибо обладание картиной Гарпиньи, и довольно хорошей, которую он купил совершенно случайно и подлинную ценность которой так же случайно узнал, стало в жизни мистера Пэрси фактом, поставившим его в особое положение среди всех его друзей. Тех больше привлекали корректные пейзажи членов Королевской академии и портреты юных леди в костюмах восемнадцатого века — в пышном цветнике или верхом на лошади. Младший компаньон в одном довольно солидном банковском предприятии, он жил в Уимблдоне, откуда ежедневно приезжал в собственном автомобиле. Именно этому он и был обязан своим знакомством с семьей Даллисонов. Однажды, велев своему шоферу подождать у западных ворот Кенсингтонского сада, он шел по Роттен-Роу, как часто делал, возвращаясь домой, чтобы лишний раз встретиться с кем-нибудь из знакомых. В тот день прогулка оказалась почти безрезультатной. Никто из сколько-нибудь значительных лиц не попался ему на пути. Разочарованный и жаждущий хоть какого-нибудь развлечения, он, уже в Кенсингтонском саду, вдруг набрел на старика, который бросал птицам корм из бумажного пакета. Завидев мистера Пэрси, птицы улетели прочь, и он подошел к старику принести извинения.
— Простите, сэр, я, кажется, разогнал ваших птиц, — начал он.
Старик в дымчато-сером костюме, от которого исходил острый запах золы, взглянул на него, но ничего не ответил.
— Боюсь, что птицы увидели, как я подходил, — снова начал мистер Пэрси.
— В те дни птицы боялись людей, — ответил странный незнакомец.
Проницательный мистер Пэрси сразу сообразил, что перед ним чудак.
— А, ну да, конечно, — сказал он. — «В те дни» — это вы имеете в виду настоящее время. Забавно сказано. Ха-ха-ха!
Старик ответил:
— Чувство страха неразрывно связано с первобытным состоянием братоубийственного соперничества.
Заявление это заставило мистера Пэрси насторожиться.
«Старик немного того, — подумал он. — Совершенно очевидно, что одному ему разгуливать незачем». Он стал думать, что лучше: поторопиться обратно к своему автомобилю или остаться на случай, если вдруг окажется необходимой его помощь. Мистер Пэрси был человеком мягкосердечным и верил в свою способность «улаживать дела». Заметив некую тонкость, или, как он сам потом определил, «изысканность», в лице и во всем облике старика, он решил по мере сил помочь ему. Они продолжали прогулку вместе. Мистер Пэрси искоса поглядывал на своего нового знакомца и незаметно направлял путь туда, где поджидал его шофер.
— Вы, как я вижу, большой любитель птиц, — сказал мистер Пэрси осторожно.
— Птицы — наши братья.
Ответ этот окончательно убедил мистера Пэрси в правильности его диагноза.
— У меня тут неподалеку стоит автомобиль, — сказал он. — Давайте-ка я отвезу вас домой.
Новый, но старый годами знакомец, казалось, не слышал; губы его шевелились, будто он рассуждал сам с собой.
— В те дни поселения людей называли «грачевниками», — услышал вдруг мистер Пэрси. — Это едва ли справедливо в отношении грачей, таких красивых птиц.
Мистер Пэрси поспешно тронул его за рукав,
— Вон там моя машина, сэр. Я довезу вас до дому.
Впоследствии мистер Пэрси так передавал этот эпизод:
«Старик, надо сказать, отлично знал свой адрес, но, провались я на этом месте, если он заметил, что я усадил его в авто — в мой «Дэмайер А-прим» — и везу по этому адресу. Вот таким образом я и завел знакомство с Даллисонами. Хилери Даллисон — писатель, вы знаете, а она рисует в довольно современной манере. Она без ума от Гарпиньи. Ну так вот, когда я привез старика, Даллисон был в саду. Я, конечно, лишнего не сказал, чтоб зря чего не ляпнуть, только объяснил: «Этот джентльмен, говорю, плутал по парку, ну я и подвез его в своей машине». И, представьте себе, оказалось, старик-то — ее отец! Даллисоны были очень-очень мне признательны. Премилые люди, но уж очень, что называется, fin de siecle [12], как все эти профессора и художники-мазилы. Водятся с самой разношерстной публикой, с самыми что ни на есть передовыми и со всякими чудаками и вечно болтают о «неимущих классах», и разных там обществах, и о новых учениях, и о прочей такой материи».
Хотя после этого мистер Пэрси уже несколько раз заезжал к Даллисонам, они не захотели лишать его приятной иллюзии относительно совершенного им «доброго поступка», и он так и не узнал, что привез домой не помешанного, как он воображал, но всего лишь философа.
Входя в тот день в студию Бианки, он несколько оторопел, увидев у самых дверей мистера Стоуна. После того случая в Кенсингтонском саду мистер Пэрси неоднократно виделся с ним и знал, что старик пишет книгу, но он все же был склонен думать, что как-то странно встречать такого чудака в обществе. Он тотчас принялся рассказывать мистеру Стоуну о казни убийцы из Шордитча, все, что сам вычитал об этом в вечерних газетах. То, как мистер Стоун отнесся к его рассказу, еще больше укрепило первое впечатление мистера Пэрси. Когда гости разошлись и остались только мистер и миссис Стивн Даллисоны, мисс Даллисон, «эта прехорошенькая девица», да еще молодой человек, «тот, что за ней волочится», мистер Пэрси подошел к хозяйке дома, рассчитывая мирно с ней побеседовать. Она стояла и слушала его — весьма благовоспитанная дама, — и только в улыбке ее чуть мелькала обычная для нее острая насмешливость, что делало Бианку в глазах мистера Пэрси хотя и «очень-очень эффектной дамой, но немного…» Он недоговаривал, потому что требовался более тонкий, чем он, психолог, чтобы определить эту внутреннюю дисгармонию, несколько портившую красоту Бианки. И оттого, что в ней было слишком бурное скрещение разных кровей, и оттого, что среда была слишком мало для нее подходящей, и еще по многим другим причинам, дисгармония эта проступала особенно резко. Те, кто знал Бианку Даллисон лучше, чем мистер Пэрси, отлично понимали, какой неподатливый, гордый дух владеет ее красотой, которая иначе была бы бесспорной.
Она была несколько выше Сесилии, и чуть полнее, и более изящна. Волосы у нее были темнее, глаза также, и посажены глубже, скулы выше, цвет лица ярче. Вероятно, сам дух века — Дисгармония — стоял над ее колыбелью, если девочке с такой темной, живой окраской дали имя Бианка [13].
Мистер Пэрси был не из тех, кто лишает себя удовольствий из-за каких-то эмоциональных тонкостей. Она была «эффектной дамой», и благодаря картине Гарпиньи между ними существовал некий контакт.
— Мы с вашим отцом, миссис Даллисон, плохо понимаем друг друга, — начал он. — Взгляды на жизнь у нас, как видно, разные.
— Да что вы! — рассеянно проговорила Бианка. — А я полагала, что вы должны бы отлично ладить.
— Он немного… как бы это выразиться? От него, пожалуй, немного отдает библией, — заметил мистер Пэрси деликатно.
— Мы разве никогда не говорили вам, что мой отец до болезни был довольно известным ученым? — сказала Бианка негромко.
— Вот оно что! — проговорил мистер Пэрси, несколько озадаченный. Тогда понятно. А вы знаете, миссис Даллисон, мне думается, из всех ваших картин та, которую вы назвали «Тень», самая удачная. Что-то есть в ней такое, что хватает за душу. Я помню ту миленькую девицу, вашу натурщицу она была у вас на рождество, — очень она у вас на картине похожа вышла.
Выражение лица Бианки изменилось, но мистер Пэрси обычно не замечал подобных мелочей.
— Надеюсь, вы меня известите, если вздумаете расстаться с этой картиной, — продолжал он. — То есть я хочу сказать, что буду рад приобрести ее. Я думаю, со временем она будет стоить уйму денег.
Бианка промолчала, и мистер Пэрси вдруг почувствовал себя несколько неловко.
— Ну, мой авто ждет меня, — сказал он. — Мне пора. Да, в самом деле пора.
Пожав руку всем» по очереди, он ушел.
Когда дверь за ним закрылась, раздался всеобщий вздох облегчения. Некоторое время все молчали. Первым заговорил Хилери:
— Давай закурим, Стивн, если Сесси не возражает.
Стивн зажал папиросу губами; усов он не носил, а уголки его губ были приподняты в постоянной улыбке, готовой уничтожить в зародыше все, что могло бы заставить его почувствовать себя смешным.
— Уф! Наш приятель Пэрси становится несколько утомительным, — сказал он. — Кажется, что он носит с собой всю пошлость мира.
— Он очень славный, — заметил Хилери вполголоса.
— Но тяжеловат, право же.
У Стивн а Даллисона было такое же длинное и узкое лицо, как у Хилери, но сходство между братьями было небольшое. Глаза Стивна, хотя и не злые, смотрели гораздо более остро, пытливо и трезво, волосы были темнее и глаже.
Выпустив изо рта папиросный дым, он добавил:
— Вот кто мог бы дать тебе хороший здравый совет, Сесси. Самый подходящий для этого человек, тебе следовало бы обратиться к нему.
Сесилия нахмурясь, ответила:
— Перестань дразнить меня, Стивн. Я ведь это вполне серьезно, относительно миссис Хьюз.
— Право, дорогая, решительно не вижу, чем я могу помочь этой почтенной женщине. В подобного рода семейные дела лучше не вмешиваться.
— Но ведь это ужасно, что мы, на которых она работает, ничего не можем для нее сделать. Разве не так, Бианка?
— Я думаю, что если бы мы очень сильно захотели этого, мы бы придумали, что сделать.
Голос Бианки, в котором как будто слышалась нотка недоверия к самой себе, столь типичная для современной музыки, очень подходил ко всему ее облику.
Сесилия и Стивн переглянулись. «Узнаю Бианку, она вся тут», — как будто хотели они сказать друг другу.
— Хаунд-стрит, где они живут, ужасное место. Это сказала Тайми, и все посмотрели на нее.
— А ты откуда знаешь? — спросила Сесилия.
— Я ходила туда, чтобы увидеть все своими глазами.
— С кем ты ходила?
— С Мартином.
Губы молодого человека, чье имя она назвала, искривились в саркастической усмешке. Хилари спросил мягко:
— И что же ты там увидела, дорогая?
— Там почти все двери настежь, и…
— Это еще ничего не говорит нам, — заметила Бианка.
— Напротив, это говорит обо всем, — сказал вдруг Мартин глубоким басом. — Продолжай, Тайми.
— Хьюзы живут на верхнем этаже в доме номер один. Это самый лучший дом на всей улице. Внизу живет семья по фамилии Баджен. Он поденный рабочий, жена у него хромая. У них есть сын. Одну из комнат на втором этаже — ту, у которой окно на улицу, — Хьюзы сдают старику по имени Крид…
— Я знаю его, — прошептала Сесилия.
— Он продает газеты, зарабатывает один шиллинг и десять пенсов в день. Комнату с окном во двор они сдают, как вы знаете, тетя Бианка, молоденькой девушке, вашей натурщице.
— Она теперь уже не моя натурщица.
Все промолчали. Такое молчание наступает, когда никто не уверен, вполне ли безопасно развивать затронутую тему. А Тайми рассказывала дальше:
— Ее комната — самая лучшая во всем доме. И просторная и окно выходит в чей-то сад. Я думаю, девушка решила остаться там потому, что плата за комнату очень невелика. Комнаты Хьюзов…
Она не договорила и наморщила свой прямой носик.
— Итак, жильцы того дома — это один молодой человек, одна юная девушка, две семейных пары… — проговорил Хилери и вдруг обвел взглядом поочередно всех присутствующих: молодого человека, молодую девушку… — и один старик, — добавил он тихо.
— Я бы не сказал, что Хаунд-стрит — самое подходящее место для прогулок, — заметил Стивн иронически. — Как ты полагаешь, Мартин?
— А почему бы и нет?
Стивн поднял брови и взглянул на жену. Лицо Сесилии выражало недоумение, даже как будто испуг. Все молчали. И тогда Бианка вдруг спросила:
— И что же дальше?
Вопрос этот, как почти все, что она говорила, казалось, смутил всех.
— Значит, Хьюз скверно обращается с женой? — сказал Хилери.
— Она уверяет, что да, — ответила Сесилия. — Во всяком случае, так я ее поняла. Никаких подробностей я, конечно, не знаю.
— По-моему, ей следует порвать с ним, — сказала Бианка.
Среди наступившей тишины раздался звонкий голос Тайми:
— Развода она получить не сможет, в лучшем случае добьется разрешения разъехаться с ним.
Сесилия в замешательстве встала. Эти слова внезапно раскрыли ей все ее полуосознанные сомнения, касающиеся ее «дочурки». Вот что получилось оттого, что девочке позволяли слушать разговоры взрослых и водить дружбу с Мартином! Быть может, она даже слушает то, что говорит дед. Последнее предположение вызвало в Сесилии тревогу. Не зная, что хуже — отрицать свободу слова или одобрять преждевременное знакомство дочери с жизнью, — Сесилия взглянула на мужа.
Но Стивн помалкивал, чувствуя, что продолжать разговор значило бы либо выслушать назидание на тему о морали, что не очень приятно в присутствии третьих лиц, в особенности в присутствии жены и дочери; либо самому коснуться неприглядных фактов, что при данных обстоятельствах было бы столь же неуместным. Однако и он был смущен тем, что Тайми так широко осведомлена.
За окнами темнело; огонь в камине бросал мерцающий свет, освещая то одно, то другое лицо, делая их все, такие друг для друга привычные, новыми, таинственными.
Наконец Стивн нарушил молчание:
— Очень, разумеется, жаль бедную женщину, но все же лучше предоставить их самим себе: с людьми подобного сорта трудно предугадать, как все может обернуться. Никогда толком не поймешь, чего им, собственно, надо. Спокойнее не вмешиваться. Во всяком случае, этим должно заняться какое-нибудь общество.
— Но она у меня на совести, Стивн, — сказала Сесилия. — Все они у меня на совести, — пробормотал Хилери.
В первый раз за весь вечер Бианка подняла на него глаза. Затем, повернувшись к племяннику, спросила:
— А ты что скажешь, Мартин?
Молодой человек, лицу которого отсветы огня придали цвет светлого сыра, ничего не ответил.
И вдруг среди всеобщего молчания раздался голос:
— Мне кое-что пришло в голову.
Все обернулись. Из-за картины «Тень» показался мистер Стоун. Его хрупкая фигура в грубом сером костюме, белые волосы и бородка четко вырисовывались на фойе стены.
— Это ты, папа? — сказала Сесилия. — А мы и не знали, что ты здесь!
Мистер Стоун растерянно огляделся — казалось, он и сам не подозревал об этом.
— Так что же тебе пришло в голову?
Отблеск огня из камина упал на тонкую желтую руку мистера Стоуна.
— У каждого из нас есть своя тень в тех местах, на тех улицах, — сказал он.
Послышался легкий шум голосов и движений, как бывает всегда, когда какое-либо замечание не принимают всерьез, и затем стук закрываемой двери.
ГЛАВА III ХИЛЕРИ В РАЗДУМЬЕ
— А как ты действительно относишься к этому, дядя Хилери?
Хилери Даллисон, сидевший за письменным столом, повернул голову, чтобы взглянуть в лицо своей юной племяннице, и ответил:
— Дорогая моя, такое положение дел существует испокон веку. Насколько мне известно, нет ни одного химического процесса, который не давал бы отходов. То, что твой дед назвал нашими «тенями», — это отходы социального процесса. Несомненно, что наряду с одной пятидесятой частью счастливцев, вроде нас, имеется и одна десятая часть обездоленных. Кто, собственно, они, эти бедняки, откуда появляются, можно ли вывести их из жалкого состояния, в каком они находятся, — все это, я думаю, очень и очень неопределенно.
Тайми сидела в широком кресле, не двигаясь. Губы ее были презрительно надуты, на лбу пролегла морщинка.
— Мартин говорит, что невозможно только то, что мы считаем невозможным.
— Боюсь, что это старая мысль о горе, движимой верой.
Та ими резко двинула ногу вперед и чуть не задела Миранду, маленького бульдога.
— Ой, прости, малышка!..
Но маленький серебристый бульдог отодвинулся подальше.
— Дядя, я ненавижу эти трущобы, они просто ужасны!
Хилери опер лоб о свою тонкую руку — постоянный его жест.
— Они отвратительны, безобразны, невыносимы. И проблема от того не легче, не правда ли?
— Я считаю, мы сами создаем себе трудности тем, что придаем им такое значение.
Хилери улыбнулся.
— И Мартин тоже так считает?
— Конечно!
— Если брать вопрос шире, то основная трудность — это человеческая природа, — сказал Хилери задумчиво.
Тайми поднялась с кресла.
— По-моему, это очень гадко — быть такого низкого мнения о человеческой природе.
— Дорогая моя, не кажется ли тебе, что, быть может, люди, имеющие то, что называется «низкое» мнение о человеческой природе, в сущности, более терпимы к ней, больше любят ее, чем те, кто, идеализируя ее, невольно ненавидит подлинную человеческую природу, ту, что существует в реальности?
Хилери, по-видимому, встревожил взгляд, который Тайми устремила на его доброе, приятное, чуть улыбающееся лицо с острой бородкой и высоким лбом.
— Я не хочу, дорогая, чтобы у тебя сложилось обо мне чересчур уж низкое мнение. Я не принадлежу к тем, кто заявляет, что все на свете устроено правильно, на том основании, что у богатых тоже есть свои заботы. Совершенно очевидно, что человеку в первую очередь необходим какой-то минимальный достаток, без этого мы не в состоянии ничего для него сделать, кроме как только жалеть его. Но это еще не значит, что мы знаем, как обеспечить ему этот минимум, не правда ли?
— Мы обязаны это сделать, — сказала Тайми, — больше ждать нельзя.
— Дорогая моя, вспомни мистера Пэрси. Как ты думаешь, многие ли, принадлежащие к высшим классам, хотя бы сознают эту необходимость? Мы, у которых есть то, что я называю общественной совестью, в этом отношении стоим выше мистера Пэрси. Но мы всего-навсего горстка в несколько тысяч по отношению к десяткам тысяч таких, как Пэрси, а многие ли даже среди нас готовы или хотя бы способны поступать так, как подсказывает нам наша совесть? Что бы там ни провозглашал твой дед, боюсь, что мы слишком резко разделены на классы. Человек всегда поступал и поступает как член своего класса.
— «Классы»! Это, дядя Хилери, устаревший предрассудок и только.
— Ты так думаешь? А мне казалось, что всякий класс — это, быть может, все то же самое «я», но только сильно раздутое; его со счетов не сбросишь. Вот, например, мы, ты и я, с особыми, нам присущими предубеждениями, как мы должны поступить?
Тайми глянула на него с юношеской жестокостью, как бы желая сказать: «Ты мой дядя и очень милый человек, но ты вдвое меня старше. И это, я полагаю, факт решающий».
— Ну, как, надумали что-нибудь сделать для миссис Хьюз? — спросила она отрывисто.
— Что говорил твой отец сегодня утром?
Тайми взяла со стола свою папку с рисунками и пошла к двери.
— Папа безнадежен. Все, что он смог придумать, — это что нужно направить ее в «Общество по предотвращению нищенства».
Она ушла, и Хилери, вздохнув, взял перо, но так ничего и не написал.
Хилери и Стивн Даллисоны были внуками каноника Даллисона, хорошо известного как друга, а порой и советчика некоего викторианского романиста. Каноник происходил из старого оксфордширского рода, представители которого на протяжении по меньшей мере трех столетий служили церкви или государству, и сам был автором двухтомного сочинения «Сократовские диалоги». Своему сыну, чиновнику министерства иностранных дел, он передал если не свой литературный талант, то, во всяком случае, культурные традиции. И традиции эти были затем переданы Хилери и Стивну.
Получив образование в закрытой школе, а затем в Кембриджском университете, обладая если не крупными, то достаточными средствами и воспитанные в том понятии, что разговоров о деньгах следует по возможности избегать, оба молодых человека были как будто отлиты из одной и той же формы. Оба были мягкосердечны, любили развлечения на свежем воздухе и не были ленивы. Оба также были людьми цивилизованными, глубоко порядочными и питали отвращение к насилию — свойства, которые нигде так часто не наблюдаются, как среди высших классов страны, чьи законы и обычаи так же древни, как ее дороги или как стены, ограждающие ее парки. Но по мере того, как время шло, то ценное качество, которое наследственность, образование, окружение и достаток воспитали в них обоих — способность к самоанализу, проявлялось у братьев совершенно по-разному. Для Стивна оно служило чем-то предохраняющим, словно бы держало его во льду в жаркую погоду, предотвращая опасность разложения при первых же его признаках; в его натуре это качество было здоровым, почти химическим ингредиентом, связующим все составные части, позволяющим им действовать безопасно и слаженно. Для Хилери действие его оказалось иным: как тонкий, медленно действующий яд, это ценное качество способность к самоанализу — пропитало все его мысли и чувства, проникло в каждую щелочку его души, и он становился все менее способным к четкой, определенной мысли, к решительному поступку. Чаще всего это проявлялось в форме какого-то мягкого, скептического юмора.
Однажды он сказал Стивну:
— Удивительно, что, усваивая кусочки разрубленного животного, человек приобретает способность оформить ту мысль, что это удивительно.
Стивн секунду помедлил — они сидели за завтраком в ресторане при здании суда и ели ростбиф, — затем ответил:
— Надеюсь, ты не собираешься, как наш почтенный тесть, не употреблять больше в пищу мясо высших животных?
— Напротив, я собираюсь потреблять его и в дальнейшем. Но все-таки это и в самом деле удивительно. Ты не понял моей мысли, Стивн.
Уж если человек ухитряется видеть нечто удивительное в таком простом факте, он, несомненно, зашел довольно далеко, и Стивн сказал:
— У тебя, дорогой, развивается склонность к чрезмерной умозрительности.
Хилери бросил на брата свою странную, словно бы отдаляющую улыбку: он сказал ею не только «прости, если я тебе докучаю», но также «пожалуй, делиться с тобой этим не следует». И на том разговор окончился.
Эта обескураживающая, способная положить конец беседе улыбка Хилери, которая отгораживала его от внешнего мира, была у него вполне естественной. Человек, умеющий тонко чувствовать, проведший жизнь за писанием книг и постоянно в среде людей культурных, огражденный от материальной нужды скромным, не вульгарно большим богатством, он в сорок два года был не просто деликатен, но щепетилен сверх всякой меры. Даже его собака понимала, что за человек ее хозяин. Она знала, что он не позволит себе пошлых шуток, не станет теребить ее за уши или тянуть за хвост. Она была уверена, что он не станет раздвигать ей пасть, чтобы посмотреть зубы, как делают это некоторые мужчины, а если она ляжет на спину, он нежно погладит ее по груди и притом не вызовет у нее чувства вины, как это свойственно женщинам. А когда она, вот как сейчас, сидела у камина, глядя, не отрываясь, на огонь, он никогда, даже словом, не тревожил ее, никогда ничем не нарушал приятного течения ее бездумных мыслей.
В его кабинете, где постоянно держался запах легкого табака особого сорта, подходящего для нервов человека, занимающегося литературным трудом, стоял бюст Сократа, обладавший, казалось, особой притягательной силой для хозяина кабинета. Однажды Хилери описал одному из собратьев по перу впечатление, производимое на него этим гипсовым лицом, таким монументально безобразным, как будто тот, кому оно принадлежало, познал сущность человеческой жизни, разделил со всем человечеством его жадность и ненасытность, вожделение и неистовство, но вместе с тем и его тягу к любви, разуму и светлому покою.
«Он как будто зовет нас, — пояснял Хилери, — пить чашу до дна, нырять в пучины к русалкам, лежать на холмах под солнцем, вместе с рабами истекать потом, знать все и вся на свете. «Нет тебе места среди мудрых, — говорит он, — если ты не познал всего этого, прежде чем взбираться в горние выси». Вот таким кажется мне Сократ — не очень-то это окрыляет людей, подобных нам!»
В тени, падавшей от этого скульптурного портрета мыслителя, и сидел сейчас Хилери, опершись лбом о ладонь. Перед ним лежали три раскрытые книги, листы рукописи и немного сдвинутая в сторону стопка зеленовато-белой бумаги — газетные вырезки, отзывы о его последней книге.
Объяснить точно, какое место занимала литературная деятельность в жизни такого человека, как Хилери Даллисон, не легко. Он получал от нее определенный доход, не служивший ему, однако, единственным средством к существованию. Поэт, критик, автор очерков, он приобрел некоторое имя — не слишком большое, но все же имя. Его друзья время от времени обсуждали вопрос: выдержала ли бы его изысканность тяготы существования писателя, у которого нет собственного капитала? Вероятно, она устояла бы лучше, чем то предполагалось, потому что иногда он поражал тех, кто считал его дилетантом, способностью вдруг совершенно уйти в себя, скрыться, как улитка в свою раковину, для последней тщательной отработки написанного.
Но в то утро, как ни старался он сосредоточить мысли на своей работе, они все время возвращались к разговору с племянницей и к происходившему за день перед этим в студии его жены обсуждению дел миссис Хьюз, домашней швеи. Когда Стивн, Сесилия и Тайми уходили после обеда, Стивн, пропустив жену и дочь вперед, задержался у садовой ограды, чтобы подать брату последний совет:
— Никогда не становись между мужем и женой — ты ведь знаешь, что такое люди из низших классов!
И через темный сад оглянулся на дом. В одном! из окон на первом этаже горел свет. Окно было открыто, я в нем виднелась небольшая зеленая настольная лампа, а рядом с ней лицо и плечи мистера Стоуна. Покачав головой, Стивн сказал вполголоса:
— А наш старый приятель-то каков, а? «В тех местах, на тех улицах…» Тут уж пахнет не просто безобидным чудачеством, бедный старикан становится почти…
И, слегка коснувшись двумя пальцами лба, он быстро пошел прочь легким, пружинистым шагом человека, умеющего обуздывать свое воображение.
Постояв с минуту среди деревьев, Хилери тоже поглядел на освещенное окно, разрывавшее темноту перед домом, и его маленький серебристый бульдог, выглядывавший из-за ноги хозяина, посмотрел туда же. Мистер Стоун стоял с пером в руке, погруженный в свои мысли, и его седая голова и бородка слегка двигались как бы в такт им. Вот он подошел к окну и, очевидно, не замечая зятя, стал глядеть в темноту.
В темноте таились все очертания, все пятна света и все тени лондонской весенней ночи: темные деревья в цвету; бледная желтизна газовых фонарей, этих тусклых эмблем неуверенности в себе всякого города; раскиданные на тротуарах и легшие узорами лиловые тени крохотных листьев, словно гроздья черного винограда, втоптанного в землю ногами прохожих. Видны были и силуэты людей, спешащих к своим домам, и огромные квадратные силуэты домов, где жили эти люди. Высоко над городом дрожал светлый нимб — дымка желтого света, туманящего звезды. На противоположной стороне улицы вдоль ограды медленно и бесшумно двигалась черная фигура полисмена.
С этого часа и до одиннадцати вечера, когда автор «Книги о всемирном братстве» приготовит себе какао на маленькой спиртовке, он будет попеременно то склоняться над рукописью, то бездумно вглядываться в ночь…
Внезапно на Хилери вновь нахлынули те мысли, которым он предавался возле бюста Сократа.
«У каждого из нас есть тень в тех местах — на тех улицах…»
В этом изречении было что-то навязчивое. Оставалось либо отнестись к нему юмористически, как это сделал Стивн, либо… В какой мере обязан человек отождествлять себя с другими людьми, особенно людьми слабыми, в какой мере имеет он право изолироваться от всех, держаться integer vitae [14]? Хилери не был так молод, как его племянница или Мартин, им все казалось просто, но он не был и так стар, как их дед, для которого жизнь уже утратила сложность.
Остро сознавая свою врожденную неспособность к решению этого, вернее, любого вопроса, за исключением разве лишь вопросов, касающихся литературного мастерства, он встал из-за стола и, кликнув Миранду, вышел из дому. Он вдруг надумал посетить миссис Хьюз на Хаунд-стрит и своими глазами увидеть, каково там положение дел. Но была еще и другая причина, почему ему хотелось пойти туда…
ГЛАВА IV МАЛЕНЬКАЯ НАТУРЩИЦА
Когда прошедшей осенью Бианка задумала писать свою картину «Тень», никто не был так изумлен, как Хилери, когда она именно его попросила подыскать ей натурщицу. Не зная сюжета картины и уже многие годы, а может быть, даже и никогда не имея доступа в духовный мир жены, он ответил:
— А ты не хочешь, чтобы тебе позировала Тайми?
— У нее слишком прозаическая внешность, мне нужен совсем другой типаж. И затем, леди мне не годится. Фигура должна быть полуобнаженной.
Хилери усмехнулся.
Бианка прекрасно знала, почему: потому что она делила всех женщин на леди и на прочих, — и она поняла также, что усмешка эта относится не столько к ней, сколько к нему самому, так как втайне он соглашался с таким делением.
Неожиданно она и сама усмехнулась.
Вся история их совместной жизни выразилась в этих двух усмешках. Они были полны смысла, они говорили о бесчисленных часах сдерживаемого раздражения, о многих неоправдавшихся надеждах и безуспешных попытках сблизиться. Они явились наивысшим, убедительнейшим доказательством полного расхождения двух жизненных путей — расхождения медленного, отнюдь не преднамеренного и тем более безнадежного, что развивалось оно так спокойно и постепенно. Между ними никогда не происходило открытых ссор, потому что оба придерживались просвещенных взглядов на брак, но они все время усмехались, усмехались так часто я в течение стольких лет, что трудно было бы представить себе людей более далеких друг другу. Усмешки эти не давали им признаться даже самим себе, до какого трагического состояния дошла их супружеская жизнь. Правда, хотя ни Бианка, ни Хилери не могли удержаться от них, усмешки не были умышленными и не имели своей целью ранить: они исходили от враждебно настроенных душ и появлялись на лицах так же непроизвольно, как падает на гладь воды лунный свет.
Хилери два вечера подряд провел среди своих приятелей-художников, пытаясь на основании некоторых указаний Бианки найти натурщицу для «Тени». И наконец нашел. Фамилию ее, Бартон, и адрес дал ему художник Френч, писавший только натюрморты.
— Мне она ни разу не позировала, — пояснил Френч. — Это моя сестра отыскала ее где-то в одном из западных графств. У девицы в прошлом, кажется, какая-то история. Какая именно, мне неизвестно. По-моему, она приехала сюда недавно, всего месяца три назад,
— Она уже больше не позирует вашей сестре?
— Нет, сестра вышла замуж и уехала в Индию. Не знаю, станет ли эта особа позировать полуобнаженной. Но думаю, что станет. Все равно, рано или поздно она к этому придет. Так пусть начинает теперь, тем более, что позировать придется женщине. В ней есть что-то привлекательное. Попробуйте, может, подойдет.
И с этими словами Френч снова принялся за свой натюрморт, от которого его оторвал разговор с Хилери.
Хилери написал девушке, приглашая ее зайти. Она явилась в тот же день, перед самым обедом.
Хилери застал ее у себя в кабинете: она стояла посреди комнаты, словно не смея приблизиться к мебели. Уже темнело, и он едва разглядел ее лицо. Она стояла не шевелясь, всем своим видом выражая терпение; на ней была поношенная коричневая юбка, бесформенная блузка и голубовато-зеленый берет с помпоном. Хилери включил свет. Он увидел круглое личико с широкими скулами, глаза, как незабудки, короткие, черные, как сажа, ресницы и слегка раскрытые губы. Трудно было судить о ее фигуре в этой старой, потрепанной одежде; видно было только, что росту она среднего, что шея у нее белая, голова хорошо посажена, а волосы русые и густые. Хилери заметил, что подбородок ее, хотя и хорошей формы, слишком мал и мягок. Но что сразу бросилось ему в глаза — это ее выражение терпеливого ожидания, словно где-то за пределами настоящего она видит нечто, необязательно приятное, что непременно наступит. Не знай он от Френча, что она приехала из деревни, он принял бы ее за городскую жительницу — так она была бледна. Во всяком случае, ее внешность не казалась «слишком прозаической». Однако речь ее, с легкой картавостью, характерной для западных диалектов, звучала в достаточной мере прозаично: девушка говорила только о продолжительности сеансов и плате, которую ей положат. Посреди разговора она вдруг упала в обморок, и Хилери пришлось приводить ее в чувство печеньем и ликером, который он впопыхах принял за коньяк. Оказалось, что в последний раз она ела накануне утром, и завтрак ее состоял из чашки чая. Хилери ее пожурил и услышал такой прозаический ответ:
— Если нет денег, ничего не купишь… Мне тут не к кому обратиться, я ведь не здешняя.
— Значит, вы не могли найти работы?
— Не могла, — мрачно ответила маленькая натурщица. — Я не хочу позировать так, как им всем хочется. Уж если не останется ничего другого…
Кровь бросилась ей в лицо, но в следующее мгновение оно снова побледнело.
«Ага, — подумал Хилери, — кое-какой опыт у нее уже есть».
Ни он, ни его жена не могли оставаться равнодушными перед лицом нищеты, но филантропия их проявлялась по-разному. Хилери был просто-напросто не способен отказывать в помощи тому, кто протягивал к нему руку. А Бианка, державшаяся более здоровых взглядов в социальных вопросах, считала, что благотворительность порочна и в правильно организованном обществе никто не должен нуждаться в милостыне. Всех, кто к ней за этим обращался, она, подобно Стивну, отсылала в «Общество по предотвращению нищенства», которое не жалело ни времени, ни сил, чтобы подтвердить самые худшие свои предположения.
Но в данном; случае прежде всего, конечно, необходимо было накормить бедную девушку, а уж потом выяснять, насколько сносны условия ее существования. Оказалось, что сносными их назвать нельзя, и требовалось устроить ее как-нибудь получше. А так как в благотворительных делах всегда желательно убивать одним ударом двух зайцев, тут же договорились с миссис Хьюз, домашней швеей, у которой сдавалась комнатка без мебели, — миссис Хьюз была готова получать за нее четыре, а то и три с половиной шиллинга в неделю. Подыскали и обстановку: скрипучую кровать, умывальник, стол, комод, коврик, два стула, кое-какую кухонную посуду, старые фотографии и гравюры, хранившиеся где-то в глубине шкафов, а также маленькие часы, которые иной раз забывали показывать время. Все это я еще кое-что самое необходимое из одежды было отправлено в фургончике по месту назначения вместе с тремя папоротниками, уже почти отжившими свой век, и горшком с растением, носящим название «Девичья честь». Вскоре после этого девушка пришла позировать Бианке. Она оказалась очень тихой и безропотной натурщицей, и ей даже не пришлось стоять полуобнаженной, потому что Бианка в конце концов решила, что лучше изобразить «Тень» одетой: она свободно обсуждала обнаженную натуру и могла вполне спокойно смотреть на нее, но, когда дело доходило до того, чтобы самой писать неодетых людей, ее охватывало непреодолимое физическое отвращение.
Хилери, которого маленькая натурщица интересовала, как всякого интересовал бы человек, от голода свалившийся без чувств к его ногам, заходил иной раз в студию и сидел, поглядывая на изголодавшуюся девушку добрыми, чуть прищуренными глазами. Всем своим видом он подтверждал справедливость того, что говорили о нем знакомые: «Хилери способен дать целую милю крюку, только бы не наступить на муравья». Маленькая натурщица с той самой минуты, как он влил ликер сквозь ее стиснутые зубы, почувствовала, очевидно, что он имеет какие-то права на нее, ибо только для его ушей сберегала она сваи маленькие прозаические новости. Она сообщала ему их в саду, по дороге на сеанс или после сеанса, либо останавливалась возле кабинета Хилери, а иногда и заходила в самый кабинет и держала себя, как ребенок, который пришел к взрослому показать свой ушибленный пальчик. Она могла сказать совершенно неожиданно: «Мистер Даллисон, а я за эту неделю скопила четыре шиллинга» или: «Мистер Даллисон, а старый Крид пошел сегодня в больницу».
Лицо ее, уже не такое бескровное, как в тот первый вечер, все еще было бледно и в холодную погоду покрывалось пятнами; на висках у нее проступали жилки, а под глазами лежали тени. Губы ее так всегда и оставались слегка раскрытыми, и по-прежнему казалось, что она ждет и боится чего-то; она была похожа на маленькую мадонну или Венеру с картины Боттичелли. Этот ее взгляд в сочетании с простоватостью речи придавал известную остроту всему ее облику.
В первый день рождества к обозрению уже законченной картины были допущены мистер Пэрси, заехавший по дороге (он «прогуливал свой авто»), и другие ценители искусства. Бианка пригласила на эту церемонию свою натурщицу, рассчитывая, что таким образом поможет девушке подыскать себе новую работу. Но маленькая натурщица, сразу юркнув куда-то в угол, так и осталась стоять там, спрятавшись за старым холстом. Те из гостей, кто замечал ее и улавливал сходство с изображением на картине, с любопытством поглядывали на девушку и проходили мимо, замечая вполголоса, что она в общем очень интересный типаж. Заговаривать с ней они не пробовали, опасаясь, что не найдут с ней общего языка. А возможно, они боялись, как бы их обращение не показалось ей покровительственным. Так или иначе, но она промолчала весь вечер. Хилери это было неприятно. Он то и дело подходил к девушке, улыбался, вызывал ее на разговоры, шутил; но она на все отвечала лишь: «Да, мистер Даллисон» или «Нет, мистер Даллисон».
Увидев его в тот момент, когда он возвращался после одной из таких коротеньких бесед, художественный критик, стоявший возле картины, многозначительно улыбнулся, и глаза его на круглом, гладко выбритом чувственном лице приобрели зеленоватый оттенок, словно жир в черепаховом супе.
Еще два человека обратили на девушку особое внимание — старые знакомые, мистер Пэрси и мистер Стоун. Мистер Пэрси подумал: «она в общем недурненькая девочка», и глаза его то и дело обращались в ее сторону.
То, что девушка была профессиональной натурщицей, придавало ей в его глазах что-то пикантное и запретно-соблазнительное.
Мистер Стоун тоже заметил девушку, но выразил это несколько иначе. Он подошел к ней, как всегда, как-то странно, по-своему, будто видел перед собой только ее одну.
— Вы живете не в семье? — спросил он. — Я зайду к вам.
Если бы это неожиданное предложение исходило от критика или от мистера Пэрси, оно носило бы один смысл, в устах же мистера Стоуна оно, само собой разумеется, значило другое. Сказав то, что он хотел сказать, автор «Книги о всемирном братстве» отвесил поклон, повернулся и отошел. Поняв, что он ничего, кроме двери, перед собой не видит, все расступились, давая ему дорогу. За спиной его, как это бывало всегда, послышались восклицания:
— Удивительный старик!
— Вы знаете, он круглый год купается в Серпантайне.
— И, говорят, сам себе готовит еду и убирает свою комнату, а все остальное время пишет какую-то книгу.
— Чудак, да и только!
ГЛАВА V КОМЕДИЯ НАЧИНАЕТСЯ
Улыбавшийся художественный критик был, как и все люди, достоин скорее жалости, нежели порицания. Ирландец по крови, человек недюжинных способностей, он вступил в жизнь преисполненный высоких идеалов и веры в то, что никогда им не изменит. Он мечтал служить искусству, служить преданно и бескорыстно, но однажды, руководимый чувством личной мести, дал волю своему желчному темпераменту и с тех пор уже не знал, когда он снова вдруг у него сорвется с цепи, как пес, который возвращается потом домой весь вымаранный в грязи. Более того, постепенно он перестал казнить себя за такие срывы. Он растерял один за другим все свои идеалы. Теперь он жил одиноко, утратя чувства стыда и собственного достоинства и черпая утешение в виски, человек озлобленный, заслуживающий жалости и, когда навеселе, довольный жизнью.
Он уже успел обильно закусить до того, как пришел к Бианке на этот рождественский праздник, но к четырем часам винные пары, помогавшие ему воспринимать мир как вполне приятное место, почти улетучились, и его снова мучило желание выпить. А может быть, увидев эту девушку с мягким взглядом, он почувствовал, что она должна принадлежать ему, и испытывал естественное раздражение при мысли, что она принадлежит или будет принадлежать кому-то другому. Весьма вероятно также, что органическая мужская неприязнь к творениям женщин-художниц привела его в скверное расположение духа.
Два дня спустя в одной из ежедневных газеток появилась такая заметка без подписи: «Мы узнали, что в галерее Бенкокс вскоре будет выставлена картина «Тень», написанная Бианкой Стоун, являющейся, как то мало кому известно, женой писателя Хилери Даллисона. Картина эта весьма fin de siecle и с неприятным сюжетом: на ней изображена женщина, надо полагать, уличная, стоящая в свете газового фонаря, — произведение довольно анемичное. Если мистер Даллисон, который находит модель, служившую художнице, очень интересной, пожелает воплотить ее в одном из своих очаровательных стихотворений, результат, мы надеемся, будет полнокровнее».
Зеленовато-белый клочок бумаги, содержащий эту заметку, был вручен Хилери женой во время завтрака. Щеки его медленно залились краской; Бианка не отрывала глаз от этих покрасневших щек. Быть может, мелочи и в самом деле, как говорят философы, имеют большое прошлое, являясь лишь последними звеньями длинной цепи фактов; во всяком случае, они часто приводят к тому, что нельзя не считать серьезным результатом.
Супружеские отношения между Хилери и его женой, до сих пор носившие характер хотя бы формального брака, с этого момента резко изменились. После десяти часов вечера их жизни протекали так далеко одна от другой, как если бы они жили в разных домах. И не было сделано ни малейших попыток объясниться, не последовало ни упреков, ни оправданий: один поворот ключа в двери — и все, и даже это было лишь символом, ибо произошло только однажды, чтобы избежать грубости прямого объяснения. Подобного намека вполне хватило для такого человека, как Хилери, чья деликатность, боязнь очутиться в смешном положении и способность замыкаться в себе совершенно исключали дальнейшие слова или поступки. Оба при этом, вероятно, сознавали, что объяснять, собственно, и нечего. Анонимный double entente [15] не являлся, в сущности, веским доказательством, которое могло бы послужить причиной разрыва супружеских уз. Беда лежала значительно глубже: раненое женское самолюбие, сознание, что она более не любима, — все это давно взывало к отмщению.
Однажды утром, дня через три после этого случая, невольная виновница его явилась в кабинет к Хилери и, приняв свою всегдашнюю позу покорного терпения, выложила ему свои маленькие новости. Как и всегда, они и в самом деле были невелики, и, как всегда, от нее веяло беспомощностью — ребенок с ушибленным пальчиком. У нее нет больше работы, сказала она, она задержала недельную плату за комнату, она не знает, как теперь быть. Миссис Даллисон говорит, что она ей больше не нужна, — ну что она такого сделала, она просто не понимает! Картина окончена, это правда, но ведь миссис Даллисон обещала, что будет писать ее еще раз, для другой картины…
Хилери молчал.
…а этот старый джентльмен, мистер Стоун, заходил к ней. Он хочет, чтобы она приходила и писала под диктовку его книгу — два часа в день, с четырех до шести, по шиллингу за час. Как ей поступить: согласиться? Он сказал, что книгу свою он будет писать еще много лет.
Прежде чем ответить, Хилери целую минуту стоял молча, глядя в огонь камина. Маленькая натурщица украдкой вскинула глаза, и в этот момент он обернулся и посмотрел на нее. Девушка смутилась. И в самом деле, взгляд был критический и недоверчивый — так Хилери глядел бы на антикварную книгу, сомневаясь в ее подлинности.
— А вы не думаете, — проговорил он наконец, — что для Вас, быть может, самое лучшее вернуться в деревню?
Маленькая натурщица решительно замотала головой.
— Нет, ни за что!
— Почему же все-таки — нет? Жизнь, которую вы теперь ведете, для вас совсем не подходящая.
Девушка снова взглянула на него украдкой, потом сказала угрюмо:
— Я не могу туда вернуться.
— Почему? Ваши родные плохо к вам относятся?
Она покраснела.
— Нет, просто я не хочу туда ехать. — Поняв по выражению лица Хилери, что деликатность запрещает ему продолжать расспросы, она оживилась: — Старый джентльмен говорит, что работа у него даст мне независимость.
— Ну что ж, — ответил ей Хилери, пожав плечами. — Тогда вам, пожалуй, следует принять его предложение.
Она шла по дорожке от дома и то и дело оборачивалась, словно хотела еще раз выразить свою благодарность.
Когда Хилери немного погодя оторвался от рукописи и посмотрел в окно, девушка все еще не ушла: она стояла возле палисадника и смотрела сквозь кусты сирени на дом, и вдруг легонько подпрыгнула, словно ребенок, которого отпустили из школы. Хилери встал взволнованный. Этот ребяческий жест осветил, как луч фонаря, чужую, неизвестную для него жизнь. Он остро почувствовал, как одинока эта девочка — без денег, без друзей, одна в огромном городе.
Прошли январь, февраль и март, и осе это время маленькая натурщица ежедневно приходила писать под диктовку «Книгу о всемирном братстве».
В комнату мистера Стоуна — он настоял на том, чтобы самому ее оплачивать, — никто из слуг никогда не входил. Она была на нижнем этаже, и всякий, кто между четырьмя и шестью часами вечера проходил мимо ее двери, мог слышать, как старик медленно диктует, время от времени останавливаясь, чтобы произнести какое-нибудь слово по буквам. Эти два часа, как видно, посвящались переписке набело всего того, что он успевал сделать за предыдущие семь часов.
В пять часов за дверью неизменно слышался стук посуды и раздавался голосок маленькой натурщицы — ровный, негромкий, деловитый — как всегда, она делала какие-то незначительные замечания, — а затем и голос мистера Стоуна, который тоже делал замечания, явно не имевшие никакой связи с тем, что говорила его юная приятельница. Однажды, когда дверь случайно оказалась открытой, Хилери услышал следующий разговор:
М а л е н ь к а я н а т у р щ и ц а: Мистер Крид говорит, что прежде он был лакеем. У него ужасно некрасивый нос.
(Пауза.)
М и с т е р С т о у н: В те дни люди были поглощены самосозерцанием. Их дела и занятия казались им столь важными…
М а л е н ь к а я н а т у р щ и ц а: Мистер Крид говорит, что все его сбережения ушли на докторов.
М и с т е р С т о у н: …но это было не так.
М а л е н ь к а я н а т у р щ и ц а: Мистер Крид говорит, что его с детства приучали ходить в церковь.
М и с т е р С т о у н (неожиданно): С семисотого года нашей эры не существует церкви, в которую стоило бы ходить.
М а л е н ь к а я н а т у р щ и ц а: Да он и не ходит.
Заглянув в дверь, Хилери увидел девушку: пальцами, перепачканными в чернилах, она держала кусок хлеба с маслом; губы у нее были полураскрыты, она готовилась откусить, — а глаза с любопытством устремлены на мистера Стоуна; а он держал в прозрачной руке чайную чашку, и неподвижный взгляд его уходил куда-то в пространство.
Однажды, уже в апреле, мистер Стоун, как обычно, еще издали возвестив о своем приближении запахами твида и печеного картофеля, в пять часов появился в дверях кабинета Хилери.
— Она не пришла, — сказал он
Хилери положил перо на стол
Это был первый по-настоящему весенний день, и он спросил:
— В таком случае, быть может, вы бы согласились разделить со мной прогулку, сэр?
— Да, — ответил мистер Стоун.
Они отправились в Кенсингтонский сад. Хилери шел, чуть опустив голову, а мистер Стоун — обратив взгляд к своим далеким мыслям и выставив вперед седую бородку.
Звезды крокусов и бледно-желтых нарциссов сверкали на своих зеленых небосводах. Почти на каждом дереве ворковал голубь, на каждом кусте распевал свою песню дрозд. А на дорожках гуляли младенцы в колясочках. Здесь был их рай, и сюда они являлись ежедневно, чтобы с безопасного расстояния смотреть на маленьких перепачканных девчурок, которые сидели на траве и нянчили своих таких же перепачканных братишек, а также слушать бесконечную болтовню уличной детворы и учиться решать проблему неимущих классов. Младенцы сидели в колясочках и задумчиво сосали резиновые соски. Впереди колясок бежали собаки, позади шли няньки.
Среди деревьев реял дух Цвета, окутывая их коричневато-лиловой дымкой; солнце садилось, окрашивая небо в шафран. Стоял один из тех дней, что вызывают в сердце томление, — так же, как луна томит сердца детей.
Мистер Стоун и Хилери сели на скамью у дороги.
— Вязы…. неизвестно, с какого времени они приняли вот эту свою форму, — проговорил мистер Стоун. — У них у всех одна общая душа, так же как и у людей.
Он умолк, а Хилери с беспокойством огляделся по сторонам. Но они были на скамье одни. Мистер Стоун снова заговорил:
— Их форма и равновесие — это и есть их единая душа, они сохраняют ее неизменной от века к веку. Ради этого они и живут. В те дни… — голос его стал глуше, он просто забыл, что он не один — …когда у людей еще не было общих представлений, им следовало бы брать пример с деревьев. Вместо того, чтобы пестовать множество маленьких душ, питая их различными теориями о загробной жизни, им бы следовало заниматься усовершенствованием существующих форм, и таким образом сделать более достойной единую, всеобщую человеческую душу.
— Кажется, вязы всегда считались неподатливыми деревьями, — заметил Хилери.
Мистер Стоун повернул голову и, увидев рядом с собой зятя, спросил:
— Вы, кажется, что-то сказали мне?
— Да, сэр.
Мистер Стоун продолжал задумчиво:
— Быть может, пройдемся?
Они встали со скамьи и возобновили прогулку… Маленькая натурщица сама объяснила Хилери, почему она не пришла в тот день.
— Мне надо было кое с кем встретиться, — сказала она.
— Предлагали еще работу?
— Да, друг мистера Френча.
— Кто же именно?
— Мистер Леннард. Он скульптор, у него есть студня в Челси. Он хочет, чтобы я ему позировала.
— Ах, так!
Она глянула украдкой на Хилери и повесила голову. Хилери отвернулся к окну.
— Надеюсь, вы понимаете, что значит позировать скульптору?
За его спиной прозвучал голос маленькой натурщицы, как всегда трезво-деловитый:
— Он сказал, что у меня как раз такая фигура, какая ему требуется.
Хилери все стоял, уставившись в окно.
— Мне казалось, вы не хотели позировать обнаженной.
— Я не желаю всю жизнь оставаться нищей.
Неожиданный ответ и странный тон его заставили Хилери обернуться.
Девушка стояла в полосе солнечного света: ее бледные щеки покрылись румянцем, бледные полураскрытые губы порозовели, глаза в оправе коротких черных ресниц были широко раскрыты и глядели мятежно, округлая юная грудь вздымалась, как после долгого бега.
— Я не хочу всю жизнь только и делать, что писать под диктовку.
— Ну что ж…
— Мистер Даллисон, я не хотела… это я только так сказала, право же! Я буду делать только то, что вы мне велите, да, да!
Хилери глядел на нее критическим, недоверчивым взглядом, будто спрашивал: «Что ты такое? Подлинно редкое издание или же…?» — точно таким взглядом, каким уже смутил ее однажды.
Наконец он сказал:
— Поступайте так, как считаете нужным. Я никогда никому не даю советов.
— Я же знаю, что вы не хотите, чтобы я позировала скульптору, а раз вы не хотите, значит, и мне не хочется, я даже рада отказаться.
Хилери улыбнулся.
— Вам разве не нравится работать у мистера Стоуна?
Маленькая натурщица сделала гримаску.
— Мистер Стоун мне нравится: такой смешной старичок.
— Да, это общее мнение, — ответил Хилери, — но, видите ли, мистер Стоун считает, что это не од, а мы смешные.
Маленькая натурщица тоже слегка улыбнулась. Полоса солнечного света тянулась теперь позади нее — девушка стояла на фоне миллиона плавающих в воздухе золотых пылинок, и на мгновение Хилери почудилось: это юная Тень Весны, ожидающая, что принесет ей грядущий год.
Мистер Стоун, сказав из-за двери «Я готов», прервал их беседу…
Хотя положение девушки в доме на первый взгляд казалось укрепившимся, время от времени какой-нибудь маленький инцидент — так, пустяки, соломинки, поднятые ветром, — показывал, какие чувства скрываются за внешним дружелюбием, за той осторожной и почти извиняющейся манерой, с какой обращаются к бедным и слабым, — манерой, столь характерной для людей, обладающих тем, что Хилери называл «общественной совестью». Всего за три дня до того, как он сидел в раздумье подле бюста Сократа, Сесилия, приглашенная к завтраку, бросила такое замечание:
— Конечно, никто не в состоянии разобрать папин почерк, я знаю, но почему бы ему не диктовать машинистке, а не этой девчушке? Машинистка справилась бы вдвое быстрее. Просто не понимаю.
Ответ Бианки последовал несколькими секундами позже.
— Быть может, это понимает Хилери?
— Тебе неприятно, что она приходит сюда? — спросил он.
— Нет, не очень. А что?
— По твоему тону я заключил, что тебе это неприятно.
— Я не сказала, что мне неприятно то, что она приходит работать к отцу.
— А разве она приходит еще за чем-нибудь?
Сесилия, быстро опустив глаза в тарелку, сказала, пожалуй, чересчур поспешно:
— Папа все-таки невероятно эксцентричен.
В последующие три дня в те часы, когда приходила маленькая натурщица, Хилери уходил из дому.
Вот это и было второй причиной, почему в то утро первого мая он довольно охотно пошел навестить миссис Хьюз, проживавшую на Хаунд-стрит, в Кенсингтоне.
ГЛАВА VI ПЕРВОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ХАУНД-СТРИТ
Хилери и его маленький бульдог вступили на Хаунд-стрит с ее восточного конца. То была серая улица, застроенная трехэтажными домами одного и того же архитектурного стиля. Почти все входные двери были открыты, и на порогах младенцы и ребятишки постарше вкушали радость пасхальных праздников. Они сидели тихо, с самым апатичным видом, лишь кое-где вдруг кто-то зашумит, послышатся шлепки… Почти все дети были очень грязны; некоторые щеголяли в целых башмаках, на других были только жалкие остатки обуви, двое или трое были вовсе разуты. Много детей играло возле сточной канавы. Их пронзительные крики и лихорадочные движения навели Хилери на мысль, что принадлежность к данной «касте» требует от них особой жизненной установки: «Сегодня мы живем; завтра, если ему суждено наступить, будет таким же, как сегодня».
Не отдавая себе в том отчета, он шел по самой середине улицы; Миранда, которой еще никогда в жизни не приходилось опускаться столь низко, бежала вслед за ним и, поднимая на него глаза, казалось, говорила: «Одно условие я все же ставлю: я не вступаю здесь в разговоры ни с одной собакой».
По счастью, собак вокруг не было, зато попадалось множество кошек, и все очень тощие.
В верхних окнах домов Хилери видел бедно одетых женщин — каждая занималась каким-нибудь делом, время от времени бросая его, чтобы выглянуть в окно. Но вот Хилери дошел до конца улицы, путь ему преградила стена. Он повернул назад и, так же шагая посреди мостовой, прошел ее снова из конца в конец. Ребятишки равнодушно таращили глаза на его высокую фигуру, как видно, чувствуя, что он не принадлежит к тем, для которых, как и для них самих, не существует завтра.
Дом номер один по Хаунд-стрит был, бесспорно, украшением улицы, ибо примыкал к саду, относящемуся к дому рангом повыше. Входная дверь была, однако, не закрыта, и, потянув за обрывок веревки от звонка, Хилери вошел.
Первое, что он заметил, это запах — не то чтобы уж очень скверный, но не слишком приятный: смешанный запах стирки и крашеных стен, слегка разбавленный ароматом копченой селедки. Второе, что заметил Хилери, был его собственный серебристый бульдог, который стоял на пороге, разглядывая рыжего котенка. Это крохотное, яростно выгибавшее спину существо пришлось прогнать, чтобы дать бульдогу войти. Третье, что заметил Хилери, была низенькая хромая женщина, стоявшая в дверях одной из комнат. Скуластое лицо ее с широко раскрытыми светло-серыми глазами и темными ресницами выражало терпение; она опиралась о ручку двери, давая отдых хромой ноге.
— Не знаю, есть ли там кто наверху, — сказала она. — Я бы пошла спросила, да вот нога у меня болит.
— Да-да, я понимаю, — ответил Хилери. — Очень вам сочувствую.
— Она у меня вот уж пять лет такая, — сказала женщина, вздохнув, и хотела было уйти обратно в комнату.
— И ничего нельзя сделать?
— Раньше я думала, что можно, но, говорят, задета кость; я с самого начала запустила болезнь.
— Но почему же?
— Некогда было этим заниматься, — сказала женщина, словно оправдываясь, и вошла к себе; комната была так заполнена фарфоровыми чашечками, фотографиями, цветными открытками, восковыми фруктами и тому подобными украшениями, что для огромной кровати, казалось, не хватало места.
Простившись с женщиной, Хилери стал подниматься по лестнице. На следующем этаже он остановился. Здесь, в комнате с окном во двор, жила маленькая натурщица.
Он огляделся. Обои в коридоре были тускло-оранжевого цвета, ставень на окне оторвался, и тут тоже, все собой заполняя, царил запах краски, стирки и копченой селедки. Хилери почувствовал тошноту, какой-то внутренний протест. Жить здесь, подниматься по этим ступеням, проходить мимо засаленных, отвратительного цвета стен, ступать по этой грязной дорожке, дышать этими. И так каждый день — да нет, два… четыре…. шесть — кто знает, сколько раз в день? И то чувство, которое первым; привлекает или отвращает, первым, вместе с зарождением культуры тела, становится привередливым и последним изгоняется из храма чистого духа; то чувство, отшлифовке которого служит все воспитание и образование; то чувство, которое, всегда опережая человека хотя бы на один дюйм, способно тормозить развитие наций и парализовать все социальные начинания, — Чувство Обоняния — пробудило в Хилери его многовековой аристократизм, подняло рой призраков всех Даллисонов, более трех столетий служивших церкви или государству. Оно воскресило души всех привычных ему запахов, и к ним еще примешалось овеянное свежим воздухом и продушенное лавандой эстетическое чувство. Оно вызвало простую, совсем не экстравагантную потребность безупречной чистоты. И хотя Хилери знал, что анализ подтвердит одинаковость состава его крови и крови жильцов этого дома, и понимал также, что сложный запах краски, стирки и копченой селедки, в сущности, вполне безвредный запах, он тем не менее хмуро глядел на дверь в комнату маленькой натурщицы; ему вспомнилось, как поморщился носик его племянницы, когда она описывала этот дом. Сопровождаемый своим серебристым бульдогом, Хилери стал подниматься дальше по лестнице.
Когда высокая тонкая фигура Хилери, его доброе озабоченное лицо, а затем и светлые агатовые глаза собачонки, выглядывающей из-за его ног, показались у открытой двери одной из комнат верхнего этажа, их встретил только младенец, сидевший посреди комнаты в деревянном ящике. Младенец этот, очень похожий на кусочек замазки, которому природа случайно приделала пару подвижных черных глаз, был обряжен в женскую вязаную кофту, — она целиком закрывала ему ножки и ручки, так что ничего, кроме его головы, не было видно. Кофта отделяла его от древесных стружек, на которых он сидел, а поскольку он еще не постиг искусства вставать на ноги, стенки ящика отделяли его от всего остального мира. Изолированный от своего царства, подобно царю всея Руси, он сидел в полном бездействии. Его владения вмещали жалкую кровать, два стула и хромоногий умывальник, под сломанную ножку которого была подставлена старая скамеечка. Платья и верхняя одежда висели на вбитых в стену гвоздях. У камина были расставлены кастрюли, на голом сосновом столе стояла швейная машина. Над кроватью висела олеография с изображением рождества Христова, — очевидно, приложение к рождественскому номеру какого-нибудь журнала, — а над ней штык, и под штыком чья-то безграмотная рука начертала печатными буквами на клочке грубой бумаги следующие слова: «Штыком этим заколол троих под Элендслаагте [16] С. Хьюз». Стены были украшены фотографиями, на подоконнике стояли два поникших папоротника. Все в целом свидетельствовало об отчаянных усилиях блюсти чистоту и опрятность. Громоздкий буфет с неплотно закрытыми дверцами был набит всем тем, чему не следовало быть на виду. Окно в этом царстве младенца было плотно закрыто; пахло здесь краской, стиркой и копченой селедкой — и кое-чем другим.
Хилери посмотрел на ребенка, ребенок посмотрел на него. Глаза крохотного серого человеческого существа, казалось, спрашивали:
«Ты ведь не мама?»
Хилери нагнулся и дотронулся до его щечки. Ребенок мигнул черными глазами.
«Ну, конечно, ты не мама», — как будто хотел он сказать.
У Хилери сдавило горло; он повернулся и стал спускаться вниз. Остановившись возле комнаты маленькой натурщицы, он постучал и, не получив ответа, повернул ручку двери. Небольшая квадратная комнатка была пуста. В ней было достаточно чисто и аккуратно, стены склеены сравнительно новыми обоями в розовых цветочках. Через открытое окно виднелось грушевое дерево в полном цвету. Хилери осторожно прикрыл дверь, стыдясь того, что вообще открывал ее.
На лестничной площадке, глядя на него в упор черными глазами — такими же, как у того младенца наверху, — стоял человек среднего роста, крепкого сложения, с коротко подстриженными темными волосами; его широкое скуластое лицо с прямым носом и черными усиками так загорело, что казалось коричневым. Он был одет в форменную одежду метельщика улиц: просторная синяя куртка, брюки засунуты в сапоги, доходящие до середины икр. В руках он держал фуражку.
После нескольких минут обоюдного лицезрения Хилери спросил:
— Вы, очевидно, мистер Хьюз?
— Да.
— Я заходил повидать вашу жену.
— Вот как!
— Вы, вероятно, знаете, кто я.
— Да, я вас знаю.
— К сожалению, дома у вас я не застал никого, кроме вашего ребенка.
Хьюз указал фуражкой на комнату маленькой натурщицы.
— А я думал, вы, может, ее повидать заходили. — сказал он. Его черные глаза злобно горели; в выражении лица было нечто большее, чем классовая ненависть.
Хилери слегка покраснел и, не отвечая, бросив на Хьюза испытующий взгляд, прошел мимо и стал спускаться по лестнице. Миранда не успела последовать за ним. Она стояла на верхней ступеньке, чуть приподняв лапку.
«Я не знаю этого человека, — казалось, говорила она, — но он мне не нравится».
Хьюз усмехнулся.
— Бессловесную тварь я никогда не обижу, — сказал он, — иди, иди, дворняжка!
Подстегнутая словом, которого она не предполагала когда-либо услышать по своему адресу, Миранда поспешно сбежала вниз.
«Он вел себя умышленно дерзко», — думал Хилери, шагая прочь от дома.
— «Вест-министерскую», сэр? Ах ты, господи… — Костлявая дрожащая рука протягивала ему зеленоватую газету. — По такому времени года ветер прямо-таки немыслимо холодный.
Перед Хилери стоял очень старый человек в очках в железной оправе, с распухшим носом, вытянутой верхней губой и длинным подбородком. Он нарочито долго возился, ища сдачу с шестипенсовика.
— Ваше лицо мне знакомо, — сказал Хилери.
— Ну, еще бы. Вы же бываете в этом магазине в табачном отделе. Я частенько вижу, как вы туда заходите. А иной раз покупаете «Пэл-Мэл» у того вон парня. — Он сердито тряхнул головой, указывая влево, где стоял человек помоложе его с кипой газет цветом побелее, чем «Вест-минстерская». В этом жесте старика отразились долгие годы зависти, ревности, обиды на несправедливость судьбы. «По праву это ведь газета моя, — казалось, хотел он сказать, — а ее продает такой вот парень из низов, загребает мои барыши».
— Я продаю «Вест-министерскую», — продолжал старик. — Я и сам читаю ее по воскресеньям. Газета для джентльменов, для людей высших классов, хоть, признаться, ее политические взгляды… Но, посудите сами, сэр, если этот тип продает здесь «Пэл-Мэл»… — Он доверительно понизил голос. — Ведь у него столько господ покупает, а господ — я хочу сказать, настоящих господ осталось не так-то много, чтоб мне уступать их другому. Хилери, слушавший старика из деликатности, вдруг вспомнил:
— Вы ведь живете на Хаунд-стрит?
Старик с готовностью ответил:
— Ах, господи, да, конечно же, сэр! В доме номер один, и зовут меня Крид. А вы тот самый господин, к которому девушка ходит переписывать книгу.
— Она не мою книгу переписывает.
— Ну да, она ходит к старому господину. Я знаю его. Он однажды заходил ко мне. Пришел как-то в воскресенье утром. «Вот вам фунт табаку, — говорит. — Вы прежде были лакеем? Через пятьдесят лет лакеев больше не будет». И ушел. Он, видать, не совсем… — Дрожащей рукой старик постучал себя по лбу.
— Семья по фамилии Хьюз живет, кажется, в одном с вами доме?
— У них-то я и снимаю комнату! Вчера тут одна дама все выспрашивала меня про них. Может статься, это ваша супруга, сэр?
А глаза старика в то же время как будто обращались с речью к мягкой фетровой шляпе Хилери: «Да-да, мы видели таких, как вы, и в самых лучших домах. Вас принимают там за вашу ученость, и вы умеете вести себя так, как оно и следует настоящему джентльмену».
— Это, очевидно, была моя свояченица.
— Ах, господи! Она уж сколько раз покупала у меня газету. Настоящая леди, не из тех, кто… — Он опять перешел на доверительный тон. — Вы понимаете, что я хочу сказать, сэр? Не из тех, кто покупает готовые вещи в таких вот огромных магазинах. Ее я хорошо знаю!
— Тот старый джентльмен, что заходил к вам, — ее отец.
— Да ну? Вот какое дело. — Старый лакей умолк, как видно, в замешательстве. Брови Хилери начали проделывать сложные эволюции — верный признак того, что он собирается подвергнуть испытанию свою деликатность.
— Как… как относится Хьюз к девушке, которая живет в комнате, соседней с вашей?
Бывший лакей ответил угрюмо:
— Она слушает моего совета и ни в какие разговоры с ним не вступает. Уж и вид у этого Хьюза! Право, какой-то чужак. Не знаю, откуда только он такой взялся.
— Он, кажется, был солдатом?
— Говорит, что да. Он ведь работает в приходском управлении. А когда напьется, тут уж для него и впрямь ничего святого нет. И уж и на аристократию-то нападает, и на церковь, и на всякие учреждения. Таких солдат мне еще не доводилось встречать. Право, что чужак. Говорят, он из Уэльса.
— Какого вы мнения о той улице, где живете?
— Я ни с кем не якшаюсь. Улица, прямо сказать, для простонародья, люди на ней все невысокого сорта — нет в них никакой почтенности.
— Вот как!
— Все эти домишки попадают в руки к очень уж маленьким людям. Им наплевать на все, только б получать плату с жильцов. Да что с них и требовать-то? Уж очень простецкая публика, выкручиваются, как могут. Говорят, таких домишек в Лондоне тысячи. Болтают, будто их собираются сносить, да это все ерунда. Ну, где возьмешь для этого столько денег? Те, что сдают домишки, сами нищета, им даже не по карману стены-то обоями оклеить. А настоящие-то хозяева — крупные домовладельцы, — ну, они уж, конечно, ничуть не интересуются тем, что творится у них за спиной. Есть такие неучи, вроде этого Хьюза, которые несут всякую чепуху об обязанностях домовладельцев. Да ведь нельзя же, чтобы аристократы — и вдруг занимались такими делами! У них свои заботы, у них поместья. Я живал у таких, все об этом знаю.
Маленький бульдог, которому причиняли беспокойство прохожие, улучил момент и стал бить хвостом по ногам бывшего лакея.
— Ох, господи! Это еще что такое! А ты не кусаешься? Эй ты, барбос!
Миранда поспешила встретиться взглядом с хозяином. «Видишь, что может случиться с леди, если она слоняется по улицам», — казалось, говорила она.
— Должно быть, тяжело стоять здесь целый день, особенно после той жизни, которую вы вели прежде?
— Я жаловаться не смею. Эта работа спасла меня.
— Вам есть где укрыться от непогоды?
И снова бывший лакей почтил его своим доверием:
— В дождливые вечера мне иной раз разрешают стоять вон там, под аркой; они-то знают, что я человек почтенный. Тому вон, — он кивнул в сторону своего конкурента, — это, уж ясно, позволить нельзя, либо вон тем мальчишкам, которые только мешают уличному движению.
— Я хотел спросить вас, мистер Крид, можно ли чем помочь миссис Хьюз?
Тощее тело старика даже тряслось от негодования, когда он отвечал:
— Если правда то, что она говорит, то я на ее месте давно бы потащил его в суд, честное слово. Я бы потребовал разрешения разъехаться с ним и ни за что не стал бы жить с ним под одной крышей. Вот что ей следовало бы сделать. А если б он и после этого не угомонился, я б его запрятал за решетку, пусть бы даже он сперва убил меня. Терпеть не могу таких типов. Еще только сегодня утром он оскорбил меня.
— Тюрьма — это страшная мера, — сказал Хилери тихо.
Старик ответил решительно:
— На таких молодчиков только так и найдешь управу: под замок — и держать, пока не взвоют.
Хилери хотел было ответить, но вдруг заметил, что стоит один. На краю тротуара в нескольких шагах от него Крид, запрокинув лицо, крепко прижимал к груди пачку второго выпуска «Вестминстерской газеты», которую ему только что сбросили с тележки.
«Ну что ж, — подумал Хилери, отходя. — Он-то уж по крайней мере имеет обо всем вполне определенное мнение».
Рядом с Хилери, упрямо сжав челюсти, семенил маленький бульдог. Он смотрел вверх и, казалось, говорил: «Давно пора было расстаться с этим человеком действия!»
ГЛАВА VII РАСКИДАННЫЕ МЫСЛИ СЕСИЛИИ
Миссис Стивн Даллисон сидела у себя в будуаре за старым дубовым бюро и старалась привести в порядок свои мысли. Они были раскиданы перед ней и на листках именной бумаги, начинаясь словами «Дорогая Сесилия» или «Миссис Таллентс-Смолпис просит», и на кусочках картона, вверху которых стояло название, театра, картинной галереи или концертного зала, и на клочках бумаги уже не столь высокого качества, где первые слова были «Дорогой друг», а последнее — название какого-нибудь широко известного места, например, «Уэссекс», чтобы изложенная после обращения просьба не вызывала подозрений. Помимо всего этого, перед миссис Даллисон лежали листы ее собственной именной бумаги, озаглавленные «Кенсингтон, Олд-сквер, 76», и две записные книжечки. Одна из них была переплетена в мраморную бумагу, и на ней стояло: «Прошу беречь эту книжку», — а на другой, переплетенной в кожу какого-то окончившего свой век зверька, было написано только одно слово: «Визиты».
На Сесилии была шелковая сиренево-голубая блузка с длинными рукавами, которые вовсе скрывали бы тонкие кисти рук, если бы не застегивались у запястья на серебряные пуговки в форме розочек. Сесилия слегка хмурила лоб, будто недоумевая, о чем, собственно, ее «мысли». Она сидела здесь каждое утро, перебирая их и разнося по своим записным книжечкам. Только благодаря такой кропотливой работе и она сама, и ее муж, и дочь могли быть в курсе всех новых течений. А так как нужно было следить за тем, чтобы в курсе нового быть ровно настолько, насколько это считалось необходимом, у Сесилии почти ежедневно разыгрывалась мигрень. Ибо страх, как бы не упустить одну новинку или не уделить слишком много внимания другой, был для нее вполне реальным. Столько встречалось интересных людей, столько было и у нее и у Стивна всяких знакомств, которые ей хотелось бы поддерживать, что было чрезвычайно важно не поддерживать одного за счет остальных. Да еще нужно было оставаться женственной, и это, при необходимости шагать в ногу с веком, не на шутку утомляло ее. Иногда она с завистью думала о той великолепной изоляции, какой добилась Бианка, — что это было именно так, она знала не с чьих-либо слов, а скорее интуитивно. Но Сесилия думала так нечасто, потому что была преданным созданием, Стивн и заботы о его комфорте всегда стояли у нее на первом месте. И хотя порой ее раздражало, что «мысли» приходят и приходят с каждой почтой, она, в сущности, раздражалась не так уж сильно, едва ли более, чем персидская кошечка у нее на коленях, которая тоже сидела часами, стараясь поймать собственный хвост; и у нее тоже на лбу пролегла морщинка, а щеки были немного втянуты.
Решив, наконец, какие именно из концертов она вынуждена пропустить, уплатив свой взнос в «Лигу борьбы с консервированным молоком» и приняв приглашение посмотреть, как из воздушного шара будет падать человек, Сесилия задумалась. Потом, обмакнув перо в чернила, написала:
«Хай-стрит, Кенсингтон
Господам Розу и Торну.
Миссис Стивн Даллисон просит доставить ей на дом голубое платье, купленное ею вчера, немедленно, без переделки».
Нажимая кнопку звонка, она подумала: «Вот и работа для бедняжки миссис Хьюз. Надо полагать, она сделает все не хуже, чем у Роза и Торна».
— Пожалуйста, попросите ко мне миссис Хьюз, — сказала она. — Ах, это вы, миссис Хьюз! Входите же!
Швея прошла на середину комнаты и стояла, опустив натруженные руки; в ее больших карих глазах не было ничего, кроме покорного терпения. Она была загадочным существом. Ее присутствие всегда вызывало в Сесилии что-то вроде досады, как будто она видела перед собой женщину, какой могла бы быть и сама, если бы не ряд мелких случайностей. Сесилия так остро сознавала, что должна сочувствовать миссис Хьюз, так стремилась показать, что их не разделяют никакие барьеры, так хотела быть хорошей, что уже не говорила, а почти мурлыкала.
— Ну, как наши портьеры, миссис Хьюз?
— Хорошо, мэм, спасибо, мэм.
— На завтрашний день я приготовила вам еще другую работу, переделку платья. Завтра вы прийти сможете?
— Да, мэм, спасибо, мэм.
— А как ваш маленький? Здоров?
— Да, мэм, спасибо, мэм. Наступило молчание.
«Нет смысла говорить с ней о ее домашних делах, — подумала Сесилия. Не то, чтоб мне это было безразлично…»
Но молчание действовало ей на нервы, и она быстро спросила:
— Как ваш муж? Лучше ведет себя теперь?
Ответа не последовало. Сесилия увидела, что по щеке женщины медленно скатывается слеза.
«О боже мой, вот бедняжка! — подумала Сесилия. — Теперь уж отступать нельзя».
— Он ведет себя очень дурно, мэм, — сказала вдруг швея почти шепотом. Я хотела поговорить с вами. Все началось с тех пор, как эта девица… — Лицо ее приняло жесткое выражение. — С тех пор, как она сняла у меня комнату. Он теперь только и делает… только и делает, что не обращает на меня внимания.
У Сесилии приятно екнуло сердце — естественная реакция, когда речь заходит о чьей-то любовной драме, как бы ни была она печальна.
— Вы имеете в виду маленькую натурщицу? — спросила она.
Швея ответила взволнованно:
— Я не хочу наговаривать на нее, но она приворожила его, приворожила и все тут. Он только и говорит, что о ней, и все болтается возле ее комнаты. Вот потому-то я и была не в себе, когда мы в тот день с вами встретились… А со вчерашнего утра, после того, как приходил мистер Хилери, он мне все грубит, и он толкнул меня, и… и…
Губы ее уже не могли более выговорить ни слова, но так как в присутствии людей вышестоящих плакать не полагалось, вместе с последними словами она проглотила и слезы; в ее тощей шее как будто двигался вверх и вниз какой-то комок.
При упоминании имени Хилери Сесилия вместо приятного волнения вдруг почувствовала нечто другое: любопытство, страх, обиду.
— Я вас не совсем понимаю, — сказала она. Швея перебирала складки платья.
— Конечно, я тут ни при чем, что он так грубит. И я, конечно, не хочу повторять все те гадости, которые он говорил о мистере Хилери, мам. Он прямо с ума сходит, как только заговорит об этой девчонке…
Последние слова она произнесла почти злобно.
Сесилия уже готова была сказать: «Достаточно, прошу вас. Я больше не хочу ничего слушать», — но любопытство и непонятный, неясный страх заставили ее вместо этого повторить:
— Я не понимаю. Вы хотите сказать, что ваш муж позволил себе заявить, будто мистер Хилери имеет какое-то отношение к этой девушке? Или я поняла вас неверно?
Про себя она подумала: «По крайней мере, я сразу оборву это».
Лицо швеи было искажено, так она силилась овладеть своим голосом.
— Я ему толкую, мэм, что, с его стороны, очень дурно говорить такие вещи, я знаю, мистер Хилери очень добрый господин. Да и какое, говорю, тебе дело, у тебя есть своя жена и двое детей… Я видела его на улице, он ее выслеживал, все бродил возле дома миссис Хилери, как раз когда я работала там>… поджидал эту девицу… Потом шел за ней… до самого дома…
И опять губы ее отказались произнести еще хотя бы слово, и опять она могла только проглотить слезы.
«Надо непременно сообщить Стивну, — подумала Сесилия. — Этот Хьюз опасный человек». Сердце ее, которому всегда было так тепло и уютно, сжалось, смутное беспокойство и страх поднялись в ней с еще большей силой: она как будто увидела вдруг, что темный лик чужой, грязной жизни глядит на семейство Даллисонов. Тут снова раздался голос швеи; она заговорила быстро, как будто боясь остановиться:
— Я ему сказала: «О чем ты думаешь? И это после того, как миссис Хилери была так добра ко мне?» Но он совсем как сумасшедший, когда напьется, и он говорит, что пойдет к миссис Хилери…
— К моей сестре? Зачем это? Вот негодяй!
Услышав, что чужая женщина называет ее мужа негодяем, миссис Хьюз покраснела, лицо ее задрожало, по нему промелькнула тень обиды. Разговор этот уже успел произвести перемену в отношениях между двумя женщинами. Теперь каждая из них как будто знала точно, в какой мере она может довериться другой и сколько можно получить от нее сочувствия, как если бы жизнь вдруг разогнала туман и они увидели, что находятся по разные стороны глубокого рва. В глазах миссис Хьюз было выражение, характерное для тех, кто уже знает, что не следует огрызаться, иначе можно утратить и те скромные позиции, которые отведены тебе жизнью. А глаза Сесилии смотрели холодно и настороженно. «Я сочувствую вам, — казалось, говорили они, — я сочувствую, но прошу понять, что вы не можете рассчитывать на сочувствие, если ваши семейные дела начнут компрометировать членов моей семьи». Главной ее мыслью теперь было избавиться от этой женщины, которая невольно выдала, что лежит за ее тупым, упрямым терпением. Это не было черствостью со стороны Сесилии, но лишь естественным результатом того, что ее разволновали. Сердце ее билось, как испуганная птица в золоченой клетке, завидевшая вдали кошку. Однако она не утратила своей благоразумной практичности и спокойно сказала:
— Вы мне, кажется, говорили, что ваш муж был ранен в Южной Африке. Мне думается, он не совсем… Я полагаю, вам следует обратиться к врачу.
Ответ швеи, медленный и деловитый, пугал еще больше, чем бурный взрыв ее чувств:
— Нет, мэм, он не сумасшедший.
Подойдя к камину, сиренево-голубой кафель для которого ей пришлось так долго разыскивать, Сесилия стояла под репродукцией картины Боттичелли «Весна», смотрела на миссис Хьюз и не знала, что делать. Сонная кошечка, потревоженная на груди хозяйки, не отрываясь, глядела ей в лицо, будто хотела сказать: «Обрати на меня внимание, я стою этого: я такая же, как ты и все то, что тебя окружает. Мы обе с тобой элегантны и вполне изящны, обе любим тепло и котят, обе не любим, когда нас гладят против шерстки. Тебе долго пришлось искать, чтобы найти такое совершенство, как я. Ты видишь эту женщину. Сегодня я сидела у нее на коленях, когда она подшивала твои портьеры. Она не имеет права быть здесь, она не то, чем кажется, она умеет кусаться и царапаться, я знаю. Колени у нее жесткие, а из глаз капает вода. Она промочила мне всю спинку. Смотри, будь осторожна, не то она и тебе спинку промочит!»
Все то, что было в Сесилии от персидской кошечки, — любовь к уюту и красивым вещам, привязанность к своему жилищу с его ценной обстановкой, любовь к своему самцу и к своему детенышу, Тайми, забота о собственном покое — пробудило в ней желание вытолкать из комнаты эту тощую женщину с кроткими глазами, таящими, однако, сварливую злобу, — женщину, которую всегда окружала атмосфера жалких горестей, убогих угроз и сплетен. Особенно ей хотелось этого потому, что по беспомощной позе швеи было ясно, что и той хотелось бы легкой жизни… Только начни думать о подобных вещах и сразу чувствуешь себя старше своих тридцати восьми лет.
Кармана в юбке Сесилии не было, провидение уже давно удалило карманы с женских юбок, но на столе перед ней лежала сумочка, и из нее она извлекла два предмета, два самых существенных атрибута своего «благородного» положения. Слегка коснувшись носа первым из них (она боялась, что нос блестит), она стала рыться во втором. И снова бросила неуверенный взгляд на швею. Сердце ей говорило: «Дай бедной женщине полсоверена, это может ее утешить», — но разум подсказывал: «Я должна ей за шитье четыре шиллинга и шесть пенсов; после того, что она только что говорила о своем муже, и этой девушке, и о Хилери, давать ей больше, пожалуй, небезопасно».
Она вытащила из кошелька две полкроны, и тут ее осенило:
— Я передам сестре то, о чем вы мне рассказывали. Так и скажите мужу.
Еще не успев договорить, она уже поняла по невеселой улыбочке, мелькнувшей на лице миссис Хьюз, что швея не поверила ей, из чего можно было заключить, что миссис Хьюз не сомневается в причастности Хилери ко всей этой истории. Сесилия поспешно сказала:
— Можете идти, миссис Хьюз.
И миссис Хьюз, не проронив ни звука, повернулась и вышла.
Сесилия снова обратилась к своим раскиданным мыслям. Они все еще лежали перед ней, и свет солнца, проникающий сквозь низкое окно, как будто стирал с них значительность. Ей вдруг показалось, что не так уж важно, пойдет ли она вместе со Стивном смотреть в интересах науки, как человек будет падать из воздушного шара, послушает ли, в интересах искусства, господина фон Краффе, исполнителя польских песен; она даже как будто почувствовала, что ее отношение к консервированному молоку готово измениться к лучшему. Задумчиво разорвав записку к Розу и Торну, она опустила крышку бюро и вышла из комнаты.
Поднимаясь по лестнице, дубовые перила которой не переставали радовать ее сердце, Сесилия решила, что глупо было бы нарушать обычный утренний распорядок из-за каких-то смутных, грязных и, в конце концов, непосредственно ее не касающихся сплетен. Войдя в туалетную комнату Стивна, она остановилась и стояла, глядя на его штиблеты.
Внутри каждого штиблета пребывала его деревянная душа; ни на одном из них не было ни морщинки, ни дырочки. Как только штиблеты снашивались, из них вынимали их деревянные души, а тела отдавали бедным, и, в согласии с той теорией, послушать лекции о которой одна из раскиданных мыслей как раз сегодня приглашала Сесилию, деревянные души немедленно переселялись в новые кожаные тела.
Сесилия глядела на ряд до блеска начищенных штиблет, охваченная чувством одиночества и неудовлетворенности. Стивн служит закону, Тайми занимается искусством, оба делают что-то определенное. Только она одна должна сидеть дома и ждать; заказывать обед, отвечать на письма, ходить за покупками, садить в гости, и за всей этой кучей дел она все равно не может отвлечься от того, что рассказала ей миссис Хьюз. Сесилия не часто задумывалась над своей жизнью, так похожей на жизни сотен других обитательниц Лондона. Она жаловалась, что не в силах переносить ее, но переносила отлично. Когда требовалось решать китайскую головоломку раскиданных мыслей, она не без удовольствия направляла свой здравый смысл и несколько сомневающийся взгляд на каждую из них по очереди, за каждую принимаясь с каким-то настороженным рвением и увлекая за собою Стивна в той мере, в какой он допускал это. Теперь, когда Тайми стала взрослой, Сесилия почувствовала, что одновременно и утратила цель жизни и приобрела большую свободу. Она и сама не знала, радоваться ей тому или огорчаться. Теперь у нее было больше времени для новых интересов, для новых людей, для Стивна, но в сердце как будто образовалась пустота, какая-то боль вокруг него. Что бы подумала Тайми, услышь она эту историю о своем дяде? Мысль эта повлекла за собой всю ту цепь сомнений, которые последнее время одолевали Сесилию. Станет ли ее дочурка такой же, как она сама? А если нет, то почему нет? Стивн подшучивал над короткими юбками дочери, над ее увлечением хоккеем, над дружбой с молодыми людьми. Он подшучивал над тем, что Тайми не позволяет ему подшучивать над ее занятиями живописью и над интересом к «низам». Его шуточки раздражали Сесилию, ибо она скорее женским инстинктом, чем разумом, ощущала вокруг себя тревожную перемену. Молодые люди как будто уже не влюблялись в девушек, как то бывало в дни ее юности. Теперь они относились к девушкам по-иному: спокойно и по-дружески деловито, с каким-то почти научным, не слишком серьезным интересом. И Сесилию несколько беспокоило, как далека все это может зайти. Она чувствовала, что отстала от жизни. Если молодежь действительно становится серьезной, если молодых людей мало волнует, какого цвета у Тайми глаза, платья, волосы, тогда что же еще может их интересовать в ней, — то есть, если не считать, конечно, определенных отношений? Не то чтобы Сесилии не терпелось выдать дочь замуж. Об этом еще будет время подумать, когда Тайми исполнится двадцать пять лет. Но в ее собственной жизни все было по-другому. В юности мысли ее немало были заняты молодыми людьми, и столько молодых людей бросали на нее взгляды украдкой!.. А теперь в юношах и девушках будто и не осталось ничего такого, что бы вызывало в них взаимный интерес и заставляло бросать друг на друга взгляды украдкой. Ум Сесилии был отнюдь не философского склада, и она не придавала значения шутке Стивна: «Если девицы начинают открывать лодыжки, то скоро у них не останется лодыжек, которые можно было бы открыть».
Сесилии казалось, что человечеству грозит вымирание; на самом деле исчезали только подобные ей представители человечества, но для нее это, естественно, было не меньшим бедствием. Не отрывая взгляда от штиблет Стивна, она думала: «Как бы сделать так, чтобы эта история не дошла до ушей Бианки? Можно себе представить, как она ее примет! И как скрыть это от Тайми? Понятия не имею, какое впечатление это может произвести на девочку. Необходимо поговорить со Стивном. Он так любит Хилери».
Отвернувшись от штиблет Стивна, она продолжала раздумывать: «Конечно, все это вздор. Хилери слишком воспитан, слишком порядочен и щепетилен, он способен лишь принять участие в этой девушке, не больше того; но он такой мягкий человек, он легко может поставить себя в фальшивое положение… И… нет, это отвратительный вздор. Бианка, если ей вздумается, способна повести себя очень жестко. Ведь между ними и без того… такие отношения». И вдруг она вспомнила о мистере Пэрси — о мистере Пэрси, который, как утверждала миссис Таллентс-Смолпис, даже и не подозревает, что имеется такая проблема, как «неимущие классы». Мысль о нем в этот момент была почему-то приятной, успокаивающей, словно тебя от сквозняка закутали в одеяло.
Пройдя к себе в комнату, Сесилия открыла дверцу гардероба.
«Нет, право, какая досада!.. Надо же было этой женщине… Мне так хочется поскорее надеть это платье, но разве я могу теперь поручить переделку ей?»
ГЛАВА VIII ОДНОСТОРОННИЙ УМ МИСТЕРА СТОУНА
Разговор с миссис Хьюз взбудоражил Сесилию, она чувствовала, что ей надо что-то сделать, и наконец решила переодеться.
Обстановка их общей со Стивном нарядной спальни приобреталась не в спешке. Еще пятнадцать лет назад, когда они переехали в этот дом, им претило почтенное филистерство высших классов; с тех пор и она и Стивн всегда помнили, что обязаны проявлять «тонкий вкус», и поэтому в течение двух лет ложем для них служили две белые кровати, очень удобные, но, само собой разумеется, временные. Они терпеливо дожидались подходящего случая, и однажды он пришел: продавалась кровать как раз того стиля, в каком была задумана спальня, и стоила она двенадцать фунтов. Случай этот они не упустили, и теперь с сознанием исполненного долга спали на стильной кровати, хотя и не такой удобной, но все же достаточно комфортабельной.
Сесилия обставляла свой дом целых пятнадцать лет, и дело подходило к концу. Теперь, если, конечно, не считать Тайми и условий жизни неимущих классов, у нее оставались только две заботы: приобрести, во-первых, медный фонарь, который бы пропускал хоть немного света сквозь решетку, и, во-вторых, старинный дубовый умывальник времен не раньше Кромвеля. А тут вдруг пришла еще и третья забота!
Она являла собой картину почти трогательную, когда, сняв блузку, стояла перед зеркалом и от усилий на ее тонких белых руках показались ямочки, — она старалась застегнуть крючки сзади на юбке, — а зеленоватые глаза выражали беспокойство, желание сделать для каждого все как можно лучше и при этом избежать малейшего риска. Надев темно-красное платье, отделанное на груди серебряной шнуровкой, и шляпку без перьев (из покровительства птицам), которую она приколола к волосам булавками (купленными с целью поддержать новую школу прикладного искусства — «Художественные работы по металлу»), Сесилия подошла к окну посмотреть, какая погода.
Окно выходило на угрюмые улицы, где ветер гнал навстречу солнцу струи дыма. Даллисоны выбрали эту комнату для своей спальни не потому, конечно, что из нее можно было наблюдать условия жизни неимущих классов, но потому, что небо на закате выглядело отсюда необыкновенно красиво. Сесилия, быть может, впервые осознала, что образчик той самой жизни, которой она так интересовалась, был выставлен для обозрения под самым ее носом. «Где-нибудь там живут и Хьюзы, — подумала она. — В конце концов, мне кажется, Бианка должна узнать об этом человеке. Она может поговорить с отцом, убедить его, что ему следует отказаться от услуг этой девицы — столько из-за нее хлопот и волнений!»
Подгоняемая этой мыслью, она наскоро позавтракала и направилась к дому Хилери. С каждым шагом сомнения одолевали ее все больше. Боязнь, что она, пожалуй, слишком уж вмешивается в чужие дела, а может, и наоборот, вмешивается в них недостаточно и что так или иначе, но ее могут счесть чересчур надоедливой; смущение оттого, что приходится касаться таких нежелательных тем; неуверенность в том, как поведет себя Бианка, характер которой был одновременно и похож и не похож на ее собственный; нетерпеливое желание поскорее все уладить и избежать неприятностей, — вот что волновало Сесилию. Сперва она шла быстро, потом стала нарочно растягивать время, а кончила тем, что почти бежала, но, придя в дом, велела горничной не докладывать хозяйке. Она представила себе взгляд сестры, когда та будет слушать ее рассказ, и это показалось ей слишком большим испытанием. Она решила сперва заглянуть к отцу.
Мистер Стоун писал за конторкой. Он был в обычном своем рабочем костюме — коричневом халате из толстой шерстяной материи, открывавшем его тощую шею над воротом голубой рубашки и туго подпоясанном шнуром с кистями. Над суконными домашними туфлями виднелись края серых брюк. За тонкими длинными ушами торчали клочки седых волос. В распахнутое окно врывался холодный восточный ветер; огонь в камине не горел. Сесилия поежилась.
— Входи быстрее, — проговорил мистер Стоун.
Вновь повернувшись к высокой конторке из мореной сосны, занимавшей середину одной из стен, он начал методически придавливать трепыхавшие под ветром листы рукописи чернильницей, тяжелым разрезальным ножом, книгой и различной величины камнями.
Сесилия огляделась. Вот уже несколько месяцев, как она не заходила в комнату отца. Кроме конторки, здесь была только раскладная кровать в дальнем углу, застеленная одеялами, но без простыней, раскладной умывальник и узенький книжный шкаф, все книги в котором Сесилия бессознательно перебрала в уме. Ни состав их, ни местоположение не менялись: на верхней полке библия и сочинения Плавта и Дидро, на следующей полке — пьесы Шекспира в синем переплете, на третьей снизу — «Дон Кихот» в четырех томах, обернутых коричневой бумагой, Мильтон в зеленом переплете, комедии Аристофана, какая-то переплетенная в кожу и наполовину обгоревшая книга, в которой сопоставлялась философия Эпикура с философией Спинозы, и, наконец, «Гекльберри Финн» Марка Твена в желтой обложке. На второй снизу полке помещалась более легкая литература: ««Илиада», «Жизнь Франциска Ассизского», «Открытие истоков Нила» Спика, «Записки Пикквикского клуба», «Мичман Изи», стихи Феокрита в очень старом переводе, «Жизнь Христа» Ренана и «Записки Бьенвенуто Челлини». Нижняя полка была заставлена книгами по естественным наукам»
Выбеленные стены, стоило к ним) прислониться, пачкали, как то знала Сесилия, пол был без ковра и в пятнах. В комнате имелись еще небольшая газовая плита и на ней кое-какая кухонная посуда, да еще столик без скатерти и вместительный посудный шкаф. Ни портьер, ни картин, ни каких бы то ни было украшений, только у окна — старинное, обитое золоченой кожей кресло. Сесилия никогда в него не садилась: ей приятнее было смотреть на этот единственный оазис в пустыне.
— Ветер сегодня восточный, папа. Тебе, вероятно, ужасно холодно, ведь здесь не топлено.
Мистер Стоун отошел от конторки и встал так, чтобы свет падал на лист бумаги, который он держал в руке. Сесилия почувствовала всегда сопутствующий отцу запах золы и печеного картофеля. Мистер Стоун заговорил:
— Послушай, я тебе прочту: «В состоянии общества тех дней, облагороженном названием цивилизации, единственным источником надежды было неумирающее мужество. Среди тысячи разрушающих нервы обычаев — среди питейных заведений, патентованных лекарств, неосвоенного хаоса изобретений и открытий, — когда сотни говорунов вещали со своих кафедр о том, во что верила лишь ничтожная часть населения, а тысячи писак сегодня писали то, что через два дня уже никто не читал, когда люди запирали животных в клетки и заставляли медведя плясать жигу на забаву детям и каждый старался одолеть другого, когда, короче говоря, люди, как комары над загнившей лужей в летний вечер, кружились, не имея ни малейшего понятия, зачем они это делают, мужество продолжало жить… То был единственный просвет в долине мрака».
Он умолк, потому что дочитал последнее слово на листе, но ему явно хотелось продолжать. Он шагнул к конторке. Сесилия поспешно спросила:
— Можно закрыть окно, папа?
Мистер Стоун мотнул головой; Сесилия увидела, что в руке у него второй исписанный лист. Она встала, подошла к отцу и сказала:
— Папа, я хочу с тобой поговорить.
Она взялась рукой за шнур, которым был подпоясан его халат, и потянула за кисть.
— Осторожно, — сказал мистер Стоун. — На нем держатся брюки.
Сесилия отпустила шнур. «Отец просто невозможен», — подумала она.
А мистер Стоун, поднеся лист поближе к глазам, начал снова:
— «Однако найти тому причину было нетрудно…»
Сесилия сказала в отчаянии:
— Это насчет той девушки, которая приходит к тебе писать под диктовку.
Мистер Стоун опустил лист и стоял, весь немного согнувшись; уши у него двигались, будто он хотел отогнуть их назад, голубые глаза, в которых возле крохотных черных зрачков лежали белые пятнышки света, уставились на дочь.
«Вот теперь он слушает», — подумала Сесилия и заторопилась.
— Она в самом деле тебе необходима? Ты не мог бы обойтись без нее?
— Обойтись без кого?
— Без той девушки, которая приходит к тебе писать под диктовку.
— Но почему?
— По той простой причине…
Мистер Стоун опустил глаза, и Сесилия увидела, что он снова поднял лист и держит его уже почти на уровне груди.
— Разве она пишет лучше, чем могла бы писать любая другая девушка? быстро проговорила Сесилия.
— Нет.
— В таком случае, папа, сделай мне одолжение: найми кого-нибудь другого. Я имею серьезные основания просить тебя, и я…
Сесилия умолкла: губы и глаза ее отца двигались, он, несомненно, читал про себя.
«С ним можно потерять терпение, — подумала она. — Он ни о чем не думает, кроме как о своей несчастной книге».
Заметив молчание дочери, мистер Стоун опустил лист и терпеливо ждал, что она скажет дальше.
— О чем ты меня просила, дорогая? — спросил он.
— Папа, умоляю тебя, послушай же, ну хоть одну минуту!
— Да, конечно,
— Я говорю о девушке, которая приходит к тебе писать под диктовку. У тебя есть основания желать, чтобы приходила именно она, а не какая-либо другая девушка?
— Да, — сказал мистер Стоун.
— Какие же именно?
— У нее нет друзей.
Сесилия не ожидала столь нелепого ответа; она опустила глаза, не зная, как отнестись к этому. Молчание длилось несколько секунд, и вот снова послышался голос мистера Стоуна, теперь уже более громкий.
— «Однако найти тому причину было нетрудно. Человек, выделившийся среди других обезьян своим стремлением познать, с самого начала был вынужден закалить себя против опасных последствий познания. Как звери, подвергающиеся суровому воздействию арктического климата, все больше обрастали мехом по мере снижения температуры, так у человека становилась все толще его броня мужества, чтобы он мог выдерживать острые уколы собственной своей ненасытной любознательности. В те времена, о которых идет речь, когда непереваренные знания огромными полчищами ринулись на штурм, человек страдал ужаснейшей диспепсией, нервная система его была вконец измотана, а мозг крайне возбужден; и выжил он только в силу способности вырабатывать в себе новое и новое мужество. Как ни мало героичны (в ту пору всеобщего мелкого соперничества) кажутся его деяния, никогда еще, однако, человечество, взятое в массе, не проявляло себя более мужественным, ибо никогда еще оно так не нуждалось в мужестве. Показатели того, что это отчаянное положение осознавалось самим обществом, многочисленны. Небольшая секта…»
Мистер Стоун умолк; взгляд его снова уперся в край листа, я он поспешно двинулся к конторке. Но в тот момент, как он снял камень с третьего листа и взял лист в руки, Сесилия воскликнула:
— Папа!
Он остановился и повернулся к дочери. Сесилия увидела, что он сильно покраснел; вся ее досада исчезла.
— Папа, я относительно той девушки…
Мистер Стоун, казалось, размышлял.
— Да-да, говори, — сказал он.
— Мне кажется, Бианке неприятно ее присутствие в доме.
Мистер Стоун провел ладонью по лбу.
— Прости, дорогая, что я стал читать тебе вслух, — проговорил он, иногда для меня это такое облегчение…
Сесилия подошла к нему и с трудом удержалась, чтобы снова не потянуть за шнур с кистями.
— Ну, конечно, дорогой, — сказала она, — я отлично понимаю.
Мистер Стоун посмотрел ей прямо в лицо, и под этим взглядом, который, казалось, пронизывал ее насквозь и видел что-то находящееся за ней, Сесилия опустила глаза.
— Как странно, что ты моя дочь, — сказал мистер Стоун.
Сесилии и самой это часто казалось непостижимым.
— В атавизме много такого, о чем мы пока еще ничего не знаем, — сказал мистер Стоун.
— Папа, но, право же, послушай одну минуту! — воскликнула Сесилия с горячностью. — Дело действительно серьезно.
Она отвернулась к окну; еще немного, и она бы расплакалась.
— Я постараюсь, дорогая, — смиренно проговорил мистер Стоун.
Но Сесилия думала: «Надо проучить его. Слишком уж он поглощен собой» и продолжала стоять не двигаясь, вздернув плечи и тем показывая, как сильно она раздражена.
В окно она видела нянек, везущих в колясках младенцев в Кенсингтонский сад, и видела также, что няньки смотрят не на младенцев, а либо высокомерно друг на друга, либо с тайным вожделением на проходящих мужчин. Они, конечно, тоже заняты только собой! Сесилия испытывала приятное удовлетворение оттого, что заставила стоящего за ее спиной худого, сгорбленного старика осознать свой эгоизм.
«В другой раз будет знать, — подумала она и вдруг услышала тонкий свистящий звук — это мистер Стоун шепотом читал третью страницу рукописи:
— «…движимая прекрасными чувствами, но чьи доктрины, разоблачаемые тем фактом, что жизнь — это лишь переход одних форм в другие, были слишком узки в отношении тех пороков, которые им надлежало истребить. Члены этой маленькой секты, которым еще предстояло постичь смысл всемирной любви, прилагали ревностные усилия к тому, чтобы понять самих себя, и в этом отношении обогнали общество в целом. Идеи, выразителями которых они являлись, — реакция против достигшей своего апогея братоубийственной системы, преобладавшей в те времена, — были молоды и по-молодому честны…»
Сесилия молча повернулась и пошла к двери. Она увидела, что отец уронил лист и нагнулся за ним, что лицо старика в рамке седых волос покраснело; и опять к раздражению ее примешалось чувство раскаяния.
Когда она шла по коридору, где царил обычный для лондонских коридоров и передних полумрак, ее внимание привлек какой-то шорох. Вглядевшись пристальнее, Сесилия увидела, что это Миранда; маленький бульдог никак не мог решить, где ему больше хочется быть: в саду или в доме, — и потому сидел за подставкой для шляп и слегка посапывал. Заметив Сесилию, собака вышла к ней.
— Что тебе надо, зверюшка?
Задрав глаза на Сесилию, Миранда как-то неуверенно подняла белую переднюю лапку. «Ну что спрашивать меня? — казалось, говорил маленький бульдог. — Откуда мне знать? Да и кто из нас знает?»
Нерешительность собаки явилась последней каплей. Сесилия окончательно вышла из себя. Она распахнула дверь в кабинет Хилери и сказала резко:
— Ступай, разыщи хозяина!
Миранда не двинулась с места, но из кабинета вышел сам Хилери. Он правил гранки, торопясь отослать их с первой же почтой, и у него был вид человека, целиком ушедшего в свои мысли и ничего вокруг себя не замечающего.
Сесилия, вторично избавленная от необходимости встретиться с сестрой хозяйкой дома, столь неуловимой, вездесущей и невидимой и в то же время центральной фигурой в сложившейся ситуации, — сказала Хилери:
— Можешь ты уделить мне минуту? Я должна поговорить с тобой.
Они вошли в кабинет, а за ними пробралась туда и Миранда.
Сесилия всегда считала деверя человеком приятным и в какой-то мере вызывающим жалость. Поглощенный своими литературными делами, он позволял людям злоупотреблять его добротой. Он выглядел таким хрупким рядом с бюстом Сократа, и это как-то странно взволновало Сесилию. Сократ был такой массивный, такой урод. Она решила сразу приступить к делу.
— Хилери, я узнала от миссис Хьюз довольно странные вещи о маленькой натурщице.
Улыбка в глазах Хилери погасла, она осталась только на губах. — Вот как!
— Миссис Хьюз говорит, что именно из-за этой девушки муж ее ведет себя так безобразно, — продолжала Сесилия нервно. — Я не хочу наговаривать на девушку, но мне кажется… мне кажется, что она…
— Так что же она?
— …что она приворожила Хьюза, как выразилась эта женщина.
— Хьюза? — переспросил Хилери.
Сесилия заметила, что не сводит глаз с бюста Сократа, перевела взгляд и продолжала торопливо:
— Она говорит, что он следит за девушкой, что он приходит даже сюда и караулит ее. Все это чрезвычайно странно. Ты ходил к ним, да?
Хилери кивнул.
— Я пыталась поговорить с отцом, — продолжала Сесилия, — но он просто невозможен. Что ему ни говори — он будто не слышит.
Хилери, казалось, глубоко задумался.
— Я хотела, чтобы он подыскал себе кого-нибудь другого, кому диктовать.
— Почему?
Чувствуя, что продолжать разговор невозможно, если не объяснить цель своего прихода, Сесилия выпалила:
— Миссис Хьюз говорит, что ее муж грозил тебе…
Лицо Хилери приняло ироническое выражение.
— Да неужели? — проговорил он. — Очень любезно с его стороны. За что же? Чудовищная неделикатность, которую ей предстояло проявить, обида, что ее вынудили к этому, — все это совсем обескуражило Сесилию.
— Видит бог, я не хочу вмешиваться. Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела. Это просто ужасно…
Хилери взял ее за руку.
— Ну успокойся, дорогая. Только я думаю, нам лучше поговорить начистоту.
Полная признательности за это дружеское пожатие, она судорожно стиснула его руку.
— Это так грязно, Хилери…
— Грязно? Гм… В таком случае давай поскорее покончим с этим.
Сесилия залилась краской.
— Ты хочешь, чтобы я рассказала все как есть?
— Разумеется.
— Ну хорошо. Понимаешь, Хьюз, очевидно, вообразил, что ты интересуешься этой девушкой. От прислуги и людей, которые работают в доме, ничего не скроешь, и они всегда готовы видеть самое худшее. Они, конечно, знают, что вы с Бианкой не очень… не совсем…
Хилери кивнул.
— Миссис Хьюз так прямо и сказала, что ее муж собирается пойти к Бианке.
Снова призрак сестры как будто проник в комнату, и Сесилия продолжала с отчаянием:
— Понимаешь, миссис Хьюз уверена, что ты действительно увлечен девушкой. Конечно, ей бы хотелось, чтобы это было правдой, тогда у такого человека, как ее муж, не было бы никаких шансов.
Пораженная своей циничной выдумкой, уже стыдясь своих слишком откровенных слов, она осеклась. Хилери стоял, отвернувшись.
Сесилия тронула его за рукав.
— Хилери, дорогой, неужели нет надежды, что вы с Бианкой?..
Губы Хилери искривились.
— Я думаю, что нет.
Сесилия печально смотрела в пол. Она давно не была так встревожена, с тех пор, как болел плевритом Стивн. Выражение лица Хилери подтверждало ее подозрения. Конечно, он мог просто рассердиться на наглость этого человека, но, может быть… — ей даже не хотелось оформлять свою мысль… — тут замешаны более личные чувства.
— Ты не думаешь, что так или иначе, но ей лучше больше не приходить сюда?
Хилери зашагал по комнате.
— Это ее единственная постоянная и надежная работа, она дает ей независимость. И это для нее гораздо лучше, чем быть натурщицей. Я не могу содействовать тому, что может лишить ее работы.
Никогда еще Сесилия не видела его таким взволнованным. А что если он не так уж неисправимо кроток, что если в нем все же есть доля животной силы, которой Сесилия в общем-то даже восхищалась? Эти вопросы без ответа чрезвычайно усугубляли трудность положения.
— Но послушай, Хилери, — начала она снова, — ты вполне уверен в этой девушке?.. Ты уверен, что она стоит того, чтобы ей помогать?
— Не понимаю.
— Я хочу сказать, что мы ведь ничего не знаем о ее прошлом, пролепетала Сесилия и по тому, как он двинул бровями, поняла, что и у него есть сомнения на этот счет. Она продолжала уже с большей отвагой: — Где ее друзья, родственники? Я хочу сказать… Быть может, у нее были какие-нибудь истории…
Хилери замкнулся.
— Ты что же, хочешь, чтобы я ее об этом расспросил?
Сесилия уловила в его словах насмешку.
— Ну, знаешь, — сказала она с жесткими нотками в голосе. — Если такое получается, когда начинаешь помогать бедным, то я не вижу в том много проку.
Ответа на ее вспышку не последовало. Сесилия испугалась еще больше. Все так запутано, ненормально… Злобный, мрачный Хьюз и трагический образ Бианки… Отдает итальянской драмой. Ей никогда и в голову не приходило, что человек из низов может быть одержим бурной любовной страстью. Она вспомнила улочки, на которые смотрела сегодня из окна спальни. Неужели на этих жалких задворках может родиться что-либо похожее на страсть? Живущие там люди убогие, измученные существа, они еле сводят концы с концами. Они никогда не бывают уверены в завтрашнем дне. Они не живут, а прозябают. Но разве может человек, который не живет, а прозябает, найти время и силы для столь трагических переживаний? Нет, этому нельзя поверить.
До ее сознания дошло, что Хилери обращается к ней:
— А ведь этот человек, пожалуй, опасен.
Получив подтверждение своим страхам, Сесилия с некоторой жесткостью, таившейся в ней и помогавшей ей жить, несмотря на все ее колебания и добрые порывы, внезапно решила, что долг свой она выполнила и на этом надо остановиться.
— Больше я с этими людьми дела иметь не буду, — сказала она. — Я старалась сделать для миссис Хьюз все, что в моих силах. У меня есть на примете швея, которая с радостью ее заменит. И, конечно, любая другая девушка сможет писать под диктовку. Послушай моего совета, Хилери, — не пытайся помочь им.
Усмешка на лице Хилери озадачила и раздосадовала ее. Она и не подозревала, что это именно та усмешка, которая, как стена, стояла между ним и ее сестрой.
— Быть может, ты права, — сказал он, пожав плечами.
— Прекрасно, — ответила Сесилия. — Я сделала все, что могла. Теперь мне нужно идти. До свидания, Хилери.
Подходя к двери, она оглянулась. Хилери стоял подле бюста Сократа. Сердце у нее сжалось: так больно было оставлять его одного в таком смятении… Но вновь образ Бианки, неуловимой в собственном доме, предстал перед ней, такой трагичный в своей насмешливой неподвижности, и Сесилия поспешила уйти.
За спиной ее раздался голос:
— Как поживаете, миссис Даллисон? Ваша сестра дома?
Сесилия обернулась и увидела мистера Пэрси; он слегка приподнимался и опускался вместе с вибрирующим, покачивающимся «Дэмайером А-прим», готовясь спуститься с подножки.
С таким ощущением, будто она только что побывала в доме, который посетила болезнь или горе, Сесилия сказала вполголоса:
— К сожалению, ее нет дома.
— Не повезло, — сказал мистер Пэрси. Лицо его вытянулось, насколько способна была вытянуться эта квадратная красная физиономия. — А я-то думал, вот прокачу и ее и моего «Дэмайера А-прим» — ему ведь тоже надо проветриться на свежем воздухе. — Мистер Пэрси положил руку на кузов дрожащей, как будто тяжело дышащей машины. — Вам приходилось ездить в «Дэмайере А-прим»? Преотличные автомобильчики — лучшие, какие можно получить за эту цену. Я бы хотел, чтобы вы сами в том убедились.
«Дэмайер А-прим», испуская аромат тончайшего бензина, подскочил и задрожал, будто понимая похвалу хозяина. Сесилия взглянула на автомобиль.
— Да, прелестная машина, — сказала она.
— Поедемте! — предложил мистер Пэрси. — Давайтe я вас покатаю. Ну, хоть просто для того, чтоб доставить мне удовольствие, а? Мой «Дэмайер» вам понравится, я уверен.
Чуточку раскаяния, чуточку любопытства, внезапный внутренний протест против всех мучивших ее неприятностей и грязных подозрений заставил Сесилию благосклонно взглянуть на коренастую фигуру мистера Пэрси. Затем, едва успев понять, как это произошло, она уже сидела в «Дэмайере». Автомобиль дрогнул, фыркнул дважды, распространил сильный запах бензина и скользнул вперед.
— Вот это вы молодчага! — сказал мистер Пэрси.
Почтальон, собака, тележка булочника — все, что на полной своей скорости двигалось вперед, казалось, стояло на месте. Ветер хлестал Сесилии в лицо. Она тихонько засмеялась.
— Отвезите меня домой, пожалуйста.
Мистер Пэрси тронул шофера за локоть.
— Поезжайте вокруг парка, — сказал он. — Покажите, на что способен мой «Дэмайер».
Машина взвизгнула. Сесилия откинулась на мягком сиденье и поглядела искоса на мистера Пэрси, который также сидел откинувшись в своем углу; на губах ее играла несколько удивленная, нечестивая улыбка.
«Что я делаю? — казалось, говорила она себе. — Как это он ловко заставил меня сесть в автомобиль, право… Но теперь, раз уж я села, буду наслаждаться, вот и все!»
Не было больше ни четы Хьюзов, ни маленькой натурщицы, вся эта грязная жизнь исчезла; оставался только ветер, хлеставший в лицо, да подпрыгивающий «Дэмайер А-прим».
Мистер Пэрси заговорил:
— Для меня такие вот прогулки — очень важная штука. Держат нервы в порядке.
— Вот как? — протянула Сесилия. — У вас тоже, оказывается, есть нервы?
Мистер Пэрси улыбнулся. Когда он улыбался, щеки его превращались в два твердых красных комка, подстриженные усики вставали торчком и вокруг светлых глаз разбегалось множество морщинок.
— Весь этими нервами опутан, — сказал он. — Всякий пустяк выводит меня из равновесия. Не могу видеть голодного ребенка и ничего в таком роде.
Сесилия невольно почувствовала восхищение этим человеком. Почему она, Тайми, Хилери, Стивн и все, с кем они знакомы и встречаются, не могут быть такими вот здоровыми, нормальными людьми, которых не терзает жажда нового, которые довольны своей жизнью и не ведают, что такое «общественная совесть»?
«Дэмайер А-прим», словно приревновав к хозяину, внезапно остановился сам по себе.
— Подождите, подождите, миссис Даллисон, да не выходите же, я вам говорю! Через минуту все будет в порядке, — сказал мистер Пэрси.
— Нет, спасибо, мне все равно нужно зайти сюда, вот в этот магазин. Тут мы с вами, я думаю, и распрощаемся. Большое вам спасибо. Я получила огромное удовольствие.
У входа в магазин Сесилия обернулась. Мистер Пэрси вылез из машины и, весь перегнувшись вперед, с глубокой сосредоточенностью смотрел на своего «Дэмайера А-прим».
ГЛАВА IX ХИЛЕРИ ИДЕТ ПО СЛЕДУ
Этика такого человека, как Хилери, отличалась от этики миллионов чистокровных Пэрси, основанием для которой служило чувство собственности, как в этом, так и в ином мире. Она не вполне совпадала с верованиями и моралью аристократии; хотя эта последняя и отдавала дань эстетизму, но в массе своей она втихомолку держалась этики мистера Пэрси и, пользуясь своими крепкими позициями, еще добавляла к ней принцип «наплевать нам на все!» В глазах большинства Хилери был человеком безнравственным и безбожным, в действительности же он разделял моральные и религиозные убеждения той особой общественной группы людей культуры, «профессоров, художников-мазил, передовой публики и прочих чудаков», как выразился о них мистер Пэрси, — той группы, которая пополнялась из числа людей, избавленных от необходимости вести борьбу за существование и занимающихся спекуляцией идеями.
Если бы его попросили откровенно изложить свое кредо, он, вероятно, сказал бы приблизительно следующее: «Я не верю в церковные догматы и не хожу в церковь; я понятия не имею о том, что ждет нас после смерти, и не хочу это знать; но сам я стараюсь насколько возможно слиться с окружающим, ибо чувствую, что смогу достичь счастья только, если по-настоящему приму мир, в котором! живу. Я думаю, что глупо мне не доверять собственным разуму и сердцу; что же касается того, чего я не могу постичь чувствами и разумом, я принимаю это как есть, ибо если бы одному человеку дано было постичь причины всего, он сам бы стал вселенной. Я не считаю, что целомудрие само по себе добродетель: оно ценно только в том случае, если служит здоровью и счастью общества. Я не считаю, что брак дает права собственности, и ненавижу публичные обсуждения подобных тем; но по натуре своей я стараюсь не наносить обиду ближнему, если есть хоть малейшая возможность избежать этого. Что касается норм поведения, то я считаю, что повторять и распространять из чувства мести злые сплетни — преступление худшее, чем самые поступки, их вызвавшие. Если я мысленно осуждаю кого-либо, я чувствую, что грешу против порядочности. Я ненавижу самоутверждение, стыжусь саморекламы и не терплю крикливости всякого рода. Вероятно, у меня вообще слишком большая склонность к отрицанию. Пустая болтовня наводит на меня смертельную тоску, но я готов полночи обсуждать какую-либо проблему этики или психологии. Извлекать выгоду из чьей-нибудь слабости мне противно. Я хочу быть порядочным человеком, но, право же, не могу принимать себя слишком всерьез».
Хотя в разговоре с Сесилией ему удалось сохранить вежливый тон, он был рассержен и с каждой минутой сердился все больше. Он злился на нее, на себя, на Хьюза и страдал от этого так, как могут страдать только люди, не привыкшие сталкиваться с жизненной неразберихой.
Такой замкнутый человек, как Хилери, редко имел возможность открыто проявлять свое рыцарство. Самый его образ жизни отдалил его от подходящих для того ситуаций. Рыцарство, проявляемое им, было лишь пассивного характера. И вот теперь, узнав, что Хьюз бьет жену и преследует беззащитную девушку, он принял это очень близко к сердцу.
Когда маленькая натурщица в свой обычный час шла по садовой дорожке к дому, Хилери показалось, что выражение лица у нее испуганное. Успокоив зарычавшую было Миранду, которая с самого начала упорно отказывалась признать девушку, он уселся с книгой и стал дожидаться, когда мистер Стоун отпустит свою помощницу. Просидев так с час, а то и более, переворачивая страницу за страницей и при этом очень мало вникая в их смысл, Хилери увидел, что какой-то человек заглядывает через калитку в сад. Простояв с минуту, человек медленно перешел через дорогу и там укрылся за оградой.
«Вот оно как! — подумал Хилери. — Что же мне, пойти и прогнать его или лучше дождаться, когда она будет уходить, посмотреть, что произойдет?»
Он остановился на втором варианте. Вскоре девушка вышла из дому и зашагала своей особой походкой — юной, грациозной, но очень уж деловитой и вместе с тем слишком неспешной, чтоб ее можно было назвать походкой леди. Оглянувшись на окно кабинета, девушка вышла из сада.
Хилери взял шляпу и трость и стал ждать. Через минуту Хьюз выбрался из своего укрытия и пошел следом за девушкой. И тут Хилери тоже двинулся в путь.
В каждом человеке живет первобытная страсть к слежке. Деликатный Хилери в обычном своем состоянии с возмущением отверг бы самую мысль выслеживать человека. А сейчас он испытывал грешную радость охотника. Он был убежден, что Хьюз действительно выслеживает девушку, теперь надо было только не выпускать его из поля зрения, а самому оставаться незамеченным. Это было нетрудно для человека, занимающегося альпинизмом — почти единственным видом спорта для того, кто считает безнравственным причинять боль кому бы то ни было, кроме себя.
Используя в качестве укрытия витрины, омнибусы, прохожих, Хилери продолжал свою слежку вверх по крутому подъему Кэмден-Хилла. Но тут у него чуть не получилось осечки: отведя на мгновение глаза от Хьюза, он увидел, что маленькая натурщица повернула и идет обратно. Всегда находчивый в трудных физических положениях, Хилери тут же вскочил в проходивший омнибус. Он увидел, что девушка остановилась возле магазина картин. Она, очевидно, не подозревала, что за ней следят. Раскрыв рот от восхищения, она любовалась репродукцией с популярной картины. Хилери часто спрашивал себя, кому может понравиться подобная вещь, — теперь он знал это. Не оставалось сомнений, что девушка от картины в восторге, что ее эстетическое чувство глубоко затронуто.
Едва успев это подумать, Хилери увидел, что из кабачка неподалеку выглядывает Хьюз. Смуглое лицо его казалось мрачным и унылым, видно было, что он страдает. Хилери даже стало его жалко.
Омнибус рывком тронулся с места, и Хилери чуть не сел на колени к какой-то даме. Дамой этой оказалась миссис Таллентс-Смолпис, она приветствовала его спокойной, дружеской улыбкой и подвинулась, чтобы дать ему место.
— Ко мне только что заходила ваша свояченица. Какая милая, так всем интересуется! Я пробовала уговорить ее пойти вместе со мной на наше собрание.
Приподняв шляпу, Хилери нахмурился. Деликатность его на этот раз ему изменила.
— Ах да, простите, пожалуйста, — сказал он и выскочил из омнибуса.
Миссис Таллентс-Смолпис посмотрела ему вслед, потом оглядела всех в омнибусе. Хилери вел себя, как человек, у которого назначено здесь свидание с дамой и который, войдя, увидел, что дама эта сидит рядом с его теткой. Миссис Таллентс-Смолпис не обнаружила никого, кто мог бы подойти под определение «дамы», и сидела, раздумывая о том, что Хилери — довольно интересный мужчина. Внезапно ее зоркие темные глазки остановились на маленькой натурщице, теперь снова шагавшей по улице.
«Ах, вот оно что! — подумала миссис Таллентс-Смолпис. — Как любопытно!»
Чтобы не столкнуться с девушкой, Хилери свернул переулок и стал там за первым углом. Он был озадачен. Если правда, что Хьюз преследует маленькую натурщицу своими ухаживаниями, почему же он остался на той стороне улицы и не подошел к ней, когда она стояла у витрины с картинами?
Девушка прошла мимо переулка, где стоял Хилери, все той же неспешной походкой, словно стараясь не упустить ни одного из развлечений, какие может предоставить улица. Но вот она скрылась из виду. Хилери напряженно высматривал, идет ли Хьюз за ней следом. Он прождал несколько минут, но Хьюз так и не появился. Слежка была закончена! И вдруг Хилери понял, что Хьюз только хотел проверить, не назначено ли у нее с кем свидания. Оба они вели одну и ту же игру! Хилери покраснел, стоя в тенистой улочке, где, кроме него, не было видно ни души. Сесилия права: грязная это история. Человек, более знакомый с прозой жизни, тотчас нашел бы полочку, куда поместить подобный эпизод, но Хилери, по профессии своей будучи занят главным образом мыслями и идеями, не мог по-настоящему расценить положения. Он не умел серьезно сосредоточиться ни на чем, кроме как на литературной работе. А в данном деле ему было особенно трудно разобраться еще и потому, что здесь оказалась затронутой очень тонкая, сложная проблема — столкновение двух разных общественных классов.
Погруженный в раздумье, он шел по засаженной деревьями улочке, протянувшейся между высоких оград от Ноттинг-Хилла до Кенсингтона.
Она была так далека от шумного движения магистралей, что с обеих сторон ее на каждом дереве громко звенели весенние птичьи голоса; солнце понемногу опускалось, и в воздухе веяло легким запахом свежего древесного сока. А в вышине над городом, казалось, царил особый покой — там была большая близость к матери-природе, там напевал свои свободные песни ветер и слышались тихие вздохи облаков. Здесь, в этой глухой улочке, можно было отдохнуть от тревожных мыслей и хоть ненадолго поверить в осмысленность и добро Великого Замысла, давшего человеку жизнь, в красоту каждого дня, с улыбкой или печально переходящего в ночь. От распускающейся сирени исходил запах лимона; на каменной садовой стене купалась в лучах заходящего солнца рыжая кошка.
Посреди улочки тянулся ряд вязов, их кривые, узловатые корни торчали наружу. И под вязами расположились странные человеческие существа — путаные пряди волос свисали на их усталые лица, тела их были прикрыты лохмотьями, и у каждого была палка, на конце которой болтался какой-то грязный узелок. Люди эти спали. На скамье под одним из деревьев сидели две беззубые старухи, молча поводя глазами из стороны в сторону, а рядом с ними храпела женщина с багровым лицом. Под следующим деревом сидела пара, юноша и девушка из простонародья, — бледные, с вялыми ртами, впалыми щеками, беспокойным взглядом. Они сидели обнявшись и молчали. Немного подальше сидели, уставившись взглядом перед собой, два молодых парня в рабочей одежде, и вид у них был безнадежно усталый. Они тоже молчали.
На самой последней скамье, совсем одна, в небрежной и равнодушной позе сидела маленькая натурщица.
ГЛАВА X ПРИДАНОЕ
Эта первая встреча вне дома смутила их обоих. Девушка вспыхнула и поспешно встала. Хилери приподнял шляпу, насупил брови и сел.
— Останьтесь, — сказал он, — я хочу поговорить с вами.
Маленькая натурщица послушно села на прежнее место. Последовало молчание. На ней была все та же поношенная коричневая юбка, вязаная кофточка и старый голубовато-зеленый берет с помпоном; а под глазами лежали синие тени.
Наконец Хилери заговорил:
— Как идут ваши дела?
Маленькая натурщица опустила глаза и уставилась на кончики своих ботинок.
— Благодарю вас, мистер Даллисон, неплохо.
— Я заходил к вам вчера.
Она скользнула по нему взглядом, который мог значить и очень многое, но мог и ничего не значить: так равнодушно робок был этот взгляд.
— Меня не было дома, — сказала она, — я позировала для мисс Бойл.
— Так у вас есть работа?
— Она уже кончилась.
— Значит, все, что вы зарабатываете, это те два шиллинга в день, которые дает вам мистер Стоун?
Она кивнула.
— Гм!
Неожиданная пылкость этого восклицания, казалось, оживила маленькую натурщицу.
— За комнату я плачу три шиллинга и шесть пенсов, да завтрак мне обходится почти в три пенса — только один хлеб с маслом>. Вот уже получается пять шиллингов и два пенса. За стирку всякий раз приходится платить самое меньшее десять пенсов — вот уже шесть шиллингов. И еще всякие мелочи — на прошлой неделе на них ушел целый шиллинг, — и при этом я еще не езжу на омнибусе, — вот уже семь шиллингов. Так что на обеды мне остается пять шиллингов. Чаем меня всегда угощает мистер Стоун. Что меня заботит, так это одежда. — Она сунула ноги подальше под лавку. Хилери удержался и не поглядел в ту сторону.
— Берет мой ужасный, и мне так нужно бы… — В первый раз за все время разговора она взглянула Хилери прямо в лицо. — Как бы мне хотелось быть богатой!
— Вполне естественно.
Маленькая натурщица скрипнула зубами и, крутя в руках грязные перчатки, сказала:
— Знаете, мистер Даллисон, что бы я прежде всего купила, если б была богатой?
— Нет, не знаю.
— Я бы оделась во все новое, с головы до ног, и больше ни за что б не надела вот это старье.
Хилери встал.
— Пойдемте и купим для вас все новое, с головы до ног.
— Ой!
Хилери уже сообразил, что сделал неосторожное, даже опасное предложение. Что, если дать ей самой деньги?.. Но против этого запротестовало его чувство деликатности. И он сказал отрывисто:
— Пойдемте!
Маленькая натурщица послушно встала. Хилери заметил, что ботинки у нее прохудились, и это, как если бы в его присутствии ударили ребенка, вызвало в нем вдруг такое негодование, что он уже не сомневался в своей правоте и даже, напротив, ощутил приятный душевный жар, какой может испытывать самый благонравный человек, когда махнет рукой на условности.
Хилери взглянул на свою спутницу: она шла, опустив глаза. Он не мог себе представить, о чем она думает.
— Так вот, относительно того, о чем я хотел поговорить с вами, — начал он. — Мне не нравится дом, а котором вы живете, мне кажется, вам следует выехать оттуда. Что вы на это скажете?
— Хорошо, мистер Даллисон.
— Мне думается, вам лучше переменить комнату, ведь подыскать другую будет нетрудно — как вы считаете?
Маленькая натурщица ответила опять теми же словами:
— Хорошо, мистер Даллисон.
— Боюсь, что Хьюз… довольно опасный субъект.
— Он забавный.
— Он вам не докучает?
Хилери не мог понять, что выражает ее лицо. Казалось, она мысленно смакует что-то приятное. Она как-то лукаво взглянула на него.
— Я на него и внимания не обращаю, — пусть его, он меня не обидит. Мистер Даллисон, по-вашему, какое лучше, голубое или зеленое?
— Зелено-голубое, — ответил Хилери коротко.
Она вдруг судорожно сжала руки, чуть подпрыгнула, сбилась немного с шага, но тут же снова пошла ровно.
— Послушайте меня, — опять начал Хилери, — миссис Хьюз говорила с вами по поводу своего мужа?
Маленькая натурщица снова улыбнулась.
— Еще бы не говорила!
Хилери прикусил губу.
— Мистер Даллисон, скажите, а шляпку?
— Что шляпку?
— Какую мне, по-вашему, купить, большую или маленькую?
— Боже мой, конечно, маленькую. И никаких перьев.
— Ой!
— Вы можете одну минуту послушать внимательно? Не говорила ли миссис Хьюз — или ее муж — что-нибудь относительно того, что вы ходите в наш дом… и относительно меня?
Выражение лица маленькой натурщицы оставалось непроницаемым, но по движению ее пальцев Хилери видел, что теперь она его слушает.
— Мне все равно, пусть их говорят, что им вздумается.
Хилери отвернулся; краска гнева медленно залила его щеки.
Неожиданно резко маленькая натурщица сказала:
— Конечно, будь я леди, я, может, и обиделась бы.
— Не говорите так. Каждая женщина — леди.
Бесстрастное лицо девушки, таившее в себе больше скепсиса, чем любая усмешка, дало ему понять, как дешево звучит эта сентенция.
— Будь я леди, — сказала она просто, — я бы не жила там, где сейчас живу, верно ведь?
— Да, — ответил Хилери, — и вам так или иначе не надо там жить.
Маленькая натурщица ничего не ответила, и Хилери не очень знал, о чем говорить дальше. Ему уже становилось ясно, что она рассматривает сложившуюся ситуацию совсем с иной точки зрения, чем он, и что он эту ее точку зрения не понимает.
Он почувствовал полную растерянность, сознавая лишь, что жизнь этой девушки содержит множество неведомых ему фактов, что у нее есть множество представлений, которых он не разделяет.
Оба они привлекали к себе внимание на этой людной улице. Хилери, высокий, стройный, в мягкой фетровой шляпе, с худощавым лицом и бородкой, имел, что называется, «благородный» вид, а у маленькой натурщицы, хотя вид у нее в старой коричневой юбке и беретике был далеко не благородный, было такое лицо, которое заставляло оборачиваться на нее не только мужчин, но и женщин. Для мужчин она представляла собой что-то не совсем обычное, странно манящее, для женщин — молодую «особу», на которую оборачиваются мужчины. Время от времени кто-нибудь из прохожих испытывал к ней чувство и менее личного характера — как будто Бог Жалости вдруг тряхнет крылами над ее головой и уронит крохотное перышко.
Так, вызывая к себе смутный интерес, они продолжали идти, пока не дошли до первой из многочисленных дверей магазина Роза и Торна.
Именно в эту дверь Хилери и решил войти, ибо чем дольше длилось приключение, тем яснее сознавал он все его опасности. Все-таки было безумием привести эту девочку в тот самый магазин, куда постоянно заходила и жена и многие знакомые. Но та самая причина, по которой они бывали здесь, заставила и Хилери выбрать именно этот магазин: другого поблизости не было. Он затеял это сгоряча; он знал, что если даст себе время остынуть, то вообще ничего не сделает. Нужно было действовать смело, и вот потому-то он решил войти в первую же дверь от угла. Слегка отступя в сторону, чтобы пропустить девушку вперед, он заметил, как горят у нее глаза и щеки; еще никогда не выглядела она такой хорошенькой. Он поспешно осмотрелся — отдел, куда они попали, был им не нужен, здесь продавались лишь пижамы. Хилери почувствовал, что его трогают за рукав. Он обернулся — маленькая натурщица, вся раскрасневшаяся, смотрела ему в лицо.
— Мистер Даллисон, мне можно взять только одну… только одну пару белья?
— Три, три пары, — пробормотал он и тут вдруг заметил, что они находятся как раз у входа в святилище — отдел дамского белья. — Выберите то, что вам надо, и принесите чек мне.
Хилери ждал, а подле него стоял розоволицый мужчина с усиками и почти безупречной фигурой — он стоял неподвижно, одетый с головы до ног в синее с белой полоской. Он казался тем идеалом, к которому должен стремиться каждый мужчина; лицо его застыло в вечной бездумной улыбке. «Долго-долго длилась борьба человечества, и вот, наконец, цивилизация произвела меня. Дальше ей идти некуда. Ничто не заставит меня продолжать мой род. Во мне воплощено завершение. Посмотрите мне на спину: «Любитель». Безупречно, элегантно, 8 шиллингов 11 пенсов. Цена значительно снижена».
Мужчина в синем упорно молчал, и Хилери был вынужден разглядывать приказчиков. До закрытия магазина оставалось всего полчаса; молодые приказчики, пользуясь отсутствием покупателей, негромко пререкались между собой и двигались не спеша, лениво, словно мухи на оконном стекле, которые никак не могут вырваться наружу, на солнце. Двое из них подошли к Хилери, спросили, чем могут служить ему. Они были так изысканно любезны, что он уже готов был купить что попало. Появление маленькой натурщицы выручило его.
— Вот — тридцать шиллингов. Самое дешевое стоит пять шиллингов одиннадцать пенсов, да еще чулки, и еще я купила кор…
Хилери торопливо вынул деньги.
— Уж очень здесь все дорого, — сказала она.
Она оплатила чек, Хилери взял у нее из рук большой сверток, и они вместе пошли дальше. Хилери как будто надел на лицо защитную маску — на нем застыло выражение насмешливого удивления, словно все это приключение он наблюдал со стороны.
В отделе обуви на обитой бархатом скамье посреди помещения сидела, вытянув вперед стройную ножку в шелковом чулке, дама в шляпе с эгреткой — в ожидании, когда ей принесут для примерки ботинок. Она с небрежным любопытством взглянула на простенькую девушку и ее интересного кавалера. Выражение ее лица произвело, по-видимому, соответствующее впечатление на приказчиц, — ни одна из них не тронулась с места, чтобы подойти к маленькой натурщице. Хилери увидел, что они уставились на ее ботинки, и вдруг, забыв свою роль стороннего наблюдателя, вскипел от гнева. Он вынул из кармана часы и подошел к самой старшей из приказчиц.
— Если через минуту эту молодую даму не обслужат, я подам жалобу лично мистеру Торну.
Минутная стрелка не успела обежать круга, как одна из приказчиц уже стояла возле маленькой натурщицы; заметив, что девушка начинает стаскивать с ноги ботинок, Хилери быстро загородил ее собой от дамы. При этом он настолько забыл про всякую деликатность, что уставился на ногу маленькой натурщицы. Сперва он почувствовал неловкость, потом сердце у него защемило от жалости. Грязный коричневый чулок был так весь перештопан, что от него почти ничего не осталось — везде одна штопка, и на ней светились дырки, одна на большом пальце, две другие — повыше: здесь проносившиеся нитки уже отказывались держаться вместе.
Маленькая натурщица смущенно пошевелила пальцем, — она, видно, надеялась, что палец не будет торчать из дырки, — и прикрыла его подолом. Хилери быстро отошел и, обернувшись, взглянул не на маленькую натурщицу, а на даму.
Теперь лицо дамы выражало уже не насмешку и пренебрежение, но оскорбленное достоинство. «Нет, это переходит всякие границы! Привести такую особу в такой магазин! Больше я никогда не переступлю этого порога!» казалось, говорил ее взгляд, и он как бы явился внешним, выражением той самой неловкости, какую почувствовал Хилери, когда увидел чулок маленькой натурщицы. Это, естественно, не способствовало умалению его гнева, в особенности еще и потому, что оскорбленно-негодующее выражение дамы, как по сигналу, отразилось и на лицах приказчиц.
Хилери вернулся к маленькой натурщице и сел подле нее.
— Ну как, впору? Вы встаньте и походите в них.
Девушка встала и немного прошлась.
— Жмут, — сказала она.
— Примерьте другую пару.
Дама поднялась, секунду стояла, высоко вскинув брови и слегка раздувая ноздри, затем вышла, оставив позади себя тончайший запах фиалок.
Следующая пара ботинок не жала, и на этом маленькая натурщица закончила свои покупки. Теперь все ее приданое было готово, не хватало только платья: оно было и выбрано и оплачено, но померить его, как она объяснила Хилери, она решила прийти завтра, когда… когда… Конечно, она имела в виду «когда на ней будет новое белье». Она несла один большой и два маленьких свертка, и в глазах ее было благоговение.
Когда они вышли из магазина, девушка посмотрела в лицо Хилери долгим взглядом.
— Ну как, довольны вы теперь? — спросил он.
В оправе коротких черных ресниц сияли очень яркие, влажные глаза, полураскрытые губы начали дрожать.
— До свидания, — проговорил он отрывисто и ушел, Но, обернувшись, он увидел, что она все еще не двигается с места и, почти вся скрытая свертками, стоят и смотрит ему вслед. Он приподнял шляпу и повернул на Хай-стрит, к дому…
Старик, известный среди «типов из низов», с которыми связала его судьба, под кличкой «вест-министр», пыхнул раза два своей старой глиняной трубкой, стараясь не думать о больных ногах. Он увидел подходившего Хилери и нерешительно протянул ему номер газеты последнего выпуска.
— Добрый вечер, сэр. Отличная погода для мая месяца. Кому «Вест-министерскую»?
Он проводил взглядом уходящего Хилери.
— Бог ты мой, да ведь он дал мне целых полкроны! А он неплохо выглядит — молодо. Я рад, что он так молодо выглядит. Ах, боже кок…
Солнце, этот дымный, яркий шар, который за свое время видел столько последних выпусков «Вест-минстерской газеты», катилось за горизонт, чтобы провести ночь в Шеперд-Буше. Это оно заставило бывшего лакея замигать, когда он рассматривал монету, проверяя, действительно ли ему дали полкроны, или это ему померещилось.
И шпили, и крыши домов, и просторы под ними и над ними — все сверкало и плыло, и маленькие людские и конские фигурки выглядели так, как будто их припудрили золотой пылью.
ГЛАВА XI ГРУША В ЦВЕТУ
Нагруженная тремя свертками, маленькая натурщица дошла до Хаунд-стрит. У дверей дома номер один стоял, переминаясь с ноги на ногу и куря папиросу, сын хромой женщины — высокий, тонкий, как плеть, юнец с землистым лицом. Прищурив глаза, он сказал, обращаясь к девушке:
— Эй, мисс, может, помочь донести покупочки?
Маленькая натурщица посмотрела на него. «Не суйся, куда не просят», говорил этот взгляд, но ресницы ее при этом взметнулись, сводя на нет пренебрежительность взгляда.
Войдя к себе в комнату, она бросила свертки на кровать и развязала их проворными розовыми пальцами. Потом вынула покупки из бумаги, разложила их и, опустившись на колени, принялась разглядывать и ощупывать; раза два она даже зарылась носом в свежее полотно, чтобы почувствовать, как оно пахнет. Белье было отделано оборочками, им она уделила особое внимание — взбила их края ладонями, — и в глазах ее снова появилось благоговейное выражение. Затем, поднявшись с колен, она заперла дверь, опустила штору на окне, разделась донага и надела новое белье. Распустив волосы, она медленно поворачивалась перед крохотным зеркальцем. В каждом жесте девушки сквозило предельное удовлетворение, как если бы изголодавшийся дух ее получил наконец пищи вдоволь. В этом любовании собой полностью проявились и детское тщеславие, и надежды, и то чудесное качество, которое встречается только среди людей малоодухотворенных, — способность наслаждаться минутой. Иногда девушка вдруг замирала и, неподвижная, с распущенными по плечам волосами, становилась похожа на весеннюю зарю, которая успела утратить свою тревожность и радуется уже одному тому, что она есть.
Вскоре, однако, будто вспомнив, что счастье ее еще не полно, девушка подошла к комоду, вытащила оттуда пакетик с грушевыми леденцами и сунула один леденец в рот.
Заходящее солнце отыскало себе лазейку через дырочку в шторе и коснулось шеи девушки. Она повернулась, словно ощутила поцелуй, и, приподняв край шторы, выглянула в окно. Грушевое дерево, которое, к досаде его владельца, росло в столь близком соседстве с двором этого малопочтенного дома, что могло даже показаться, будто оно ему и принадлежит, купалось в косых солнечных лучах. Ни одно дерево на свете не могло быть прекраснее, чем эта груша в одеянии из позолоченных солнцем цветов. Прижав руку к обнаженной шее и посасывая леденец, маленькая натурщица не сводила глаз с цветущего дерева. Но выражение лица ее не изменилось, восхищение в нем отсутствовало. Она перевела взгляд на окна дома напротив, к которому, собственно, и относилось грушевое дерево: она проверяла, не видит ли ее кто-нибудь, а может быть, даже надеялась, что кто-нибудь увидит ее, такую хорошенькую, во всем новом. Затем она опустила штору, вернулась к зеркалу и стала закалывать волосы. Покончив с этим, она еще целую минуту смотрела на старую коричневую юбку с блузкой, не решаясь осквернить свою только что обретенную чистоту. Но вот она надела их и снова подняла штору. Солнечный свет уже ушел с груши, теперь цветы ее были совершенно белыми и неподвижными, казалось, то лежит на ветках снег. Маленькая натурщица положила в рот второй леденец и, вытащив из кармана потертый кожаный кошелек, пересчитала в нем деньги. Убедившись, как видно, что их не больше, чем она предполагала, она вздохнула и, порывшись в верхнем ящике комода, извлекла оттуда старый иллюстрированный журнал.
Она уселась на край постели и, быстро найдя нужную страницу, разложила журнал на коленях. Взгляд ее был прикован к снимку в левом углу страницы одному из тех портретов писателей, которые время от времени встречаются в печати. Под портретом стояла подпись: «Мистер Хилери Даллисон». И девушка снова вздохнула.
В комнате темнело; поднявшийся с заходом солнца ветер прибил к оконному стеклу несколько лепестков, опавших с цветов груши.
ГЛАВА XII КОРАБЛИ В МОРЕ
В соответствии с тем впечатлением, какое он произвел на старого лакея, Хилери и в самом деле чувствовал себя так молодо, что не пошел домой, а сел в омнибус и поехал в свой клуб «Перо и чернила», названный так только потому, что основателю его в тот момент не пришло в голову ничего другого. Сей литератор вскоре после основания клуба покинул его, почему-то вдруг невзлюбив свое детище. И, правду сказать, клуб славился скверной кухней, и все члены его горько жаловались, что, когда туда ни зайдешь, непременно столкнешься с кем-нибудь из знакомых. Находился он на Довер-стрит. В отличие от других клубов, сюда приходили главным образом для того, чтобы поговорить, и здесь тщательно следили за сохранностью зонтов и тех книг, что еще не успели исчезнуть из библиотеки. Исчезали они, разумеется, не в силу склонности некоторых членов клуба к хищению, но потому, что, обменявшись идеями, они обычно уходили затем длинной вереницей, каждый цепляясь за что-нибудь более осязаемое. Темно-коричневые портьеры здесь никогда не бывали спущены, ибо в пылу споров их то и дело поднимали. В общем, члены клуба не слишком жаловали друг друга — каждый из них про себя недоумевал, на каких, собственно, основаниях другие пишут книги, а если основания эти подробно излагались в печати, читал о том с раздражением. Если же обстоятельства вынуждали членов клуба высказать мнение о литературных качествах того или иного из собратьев, они говорили обычно, что такой-то, конечно, превосходный писатель, но только им никогда не приходилось его читать. С давних пор в основу здешних правил был положен принцип: не читать чужих произведений, пока нет абсолютной уверенности в том, что автор их умер, — чтобы не оказаться вынужденным сказать ему в лицо, что вы отнюдь не в восторге от его книг; ибо члены клуба очень пеклись о чистоте своей литературной совести. Исключение делалось для тех, кто зарабатывал себе на хлеб критикой, публикуемой в печати, — их статьи читали все, и чтение это сопровождалось разного рода улыбками и некоторым раздражением серого мозгового вещества. Время от времени, однако, какой-нибудь член клуба, грубо нарушая все нормы приличия, вдруг проникался восторгом к произведениям, какого-либо другого члена клуба. Свой восторг он выражал вслух, к смущению всех остальных, и те, ощущая противное сосание под ложечкой, недоумевали, почему он хвалит не их книги.
Почти каждый год и, как правило, в марте, в клуб просачивались кое-какие стремления и пожелания. Члены клуба принимались спрашивать друг друга, почему до сих пор не создана Британская литературная академия, почему не ведется согласованная борьба за ограничение (Издания книг других авторов, почему не было дано премии за лучшее произведение в году. Уже даже могло показаться, что их индивидуализм в опасности, но в одно прекрасное утро, когда окна оказывались распахнуты шире обыкновенного, все эти пожелания улетучивались, и втайне каждый ощущал то, что ощущает человек, проглотив донимавшего его всю ночь комара: и облегчение и неловкость одновременно. Это были, в сущности, неплохие люди, и в отношении друг друга они держались вполне миролюбиво. У каждого из них была своя маленькая машина славы, и ежедневно утром, в те часы, когда приходили газеты и письма, всех их можно было видеть за этими машинами: они сидели и проверяли, растет ли их слава.
Хилери пробыл в клубе до половины десятого, а затем, уклонившись от только что начавшегося спора, взял зонт (свой собственный) и направил шаги к дому.
На Пикадилли то был момент затишья — толпа уже прилила к театрам, а отлив еще не начался. Умиротворенные деревья раскинули свои по-весеннему прозрачные ветви на дальнем берегу этой широкой реки, отдыхая от трагикомедий, которые разыгрывались на ее поверхности людьми, их младшими братьями. Легкие вздохи в молодой листве казались тихим шепотом мудрецов. Почти сразу за стволами деревьев был сплошной черный бархат, в котором терялись, погружась в него, отдельные фигуры, как исчезают птицы в небесных просторах или души людей, ушедших в лоно матери-земли.
Погруженный в свои мысли, Хилери шел и не слышал шепота мудрецов, не замечал бархатной тьмы. Уже одного того факта, что ему удалось доставить кому-то радость, было достаточно, чтобы вызвать приятные чувства в человеке, от природы столь добром. Но, как это бывает со всеми робкими, неуверенными в себе людьми, чувства эти жили в нем недолго и сменились ощущением пустоты и разочарования, будто он поставил самому себе незаслуженно хорошую отметку.
Он шел, служа мишенью для взглядов многих встречных женщин, проходивших мимо него быстро, как проходят в море один мимо другого встречные корабли. Своеобразное выражение брезгливой застенчивости на его лице привлекало к себе этих женщин, привыкших к лицам иного рода. И хотя он как будто и не смотрел на них, они тоже вызывали в нем любопытство, болезненное и сострадательное, какое люди, живущие тяжкой, беспросветной жизнью, могут вызывать в тех, кто привык к спокойным размышлениям. Одна из женщин, выйдя из переулка, подошла прямо к Хилери. Она показалась ему копией маленькой натурщицы: хотя она была выше ростом, полнее, с более ярким лицом, завитыми волосами и в шляпе с перьями, но он заметил тот же овал, те же широкие скулы, и полуоткрытый рот, и те же глаза цвета незабудок, и короткие черные ресницы. Только все это было грубее и более подчеркнуто, как искусство подчеркивает и огрубляет живую природу. Дерзко заглянув в лицо изумленному Хилери, женщина засмеялась. Хилери нахмурился и быстро зашагал дальше.
Домой он пришел в половине одиннадцатого. В комнате мистера Стоуна горела лампа, и, как обычно, окно было открыто. Необычно было то, что свет горел и в спальне самого Хилери.
Он тихонько поднялся наверх. Сквозь приотворенную дверь он, к своему изумлению, увидел фигуру жены. Она сидела, откинувшись в кресле, положив локти на его ручки, сомкнув кончики пальцев. Ее волосы, лицо с резкими чертами и ярким румянцем — все было словно тронуто тенью. Она повернула голову, точно слушала кого-то, кто стоял рядом; шея ее сияла белизной. Неподвижная, почти неразличимая, эта женщина казалась призраком — она как будто смотрела на собственную свою жизнь, наблюдая ее и не принимая в ней никакого участия. Хилери колебался, войти ему в комнату или скрыться от этой странной гостьи.
— А, это ты, — сказала она.
Хилери подошел к ней. Эта женщина, его жена, как ни пренебрежительно относилась она к собственной красоте, была все же необычайно хороша собой. После девятнадцати лет, в которые можно было изучить каждую черточку ее лица и тела, каждую мельчайшую особенность ее натуры, Бианка все еще была для него неуловима, и эта неуловимость, так пленившая его когда-то, стала вызывать в нем раздражение и постепенно погасила пламя, которое вначале зажгла. Он столько раз пытался постичь и так и не постиг ее душу. Почему эта женщина создана такой? Почему постоянно насмехается над собой, над ним, над всем на свете? Почему так сурово относится к собственной жизни, почему она такой злой враг своему счастью? Леонардо да Винчи мог бы писать ее: она была менее чувственной и жестокой, чем женщины его портретов, и более мятежной и дисгармоничной, но, как и они, физически и духовно очаровательная, она, отказываясь подчиниться зову духа и чувств, разрушала собственное свое очарование.
— Я не знаю, зачем я пришла, — проговорила она.
— Извини, что я не обедал дома, — только и нашел что сказать Хилери.
— У меня в комнате холодно. Ветер, кажется, переменился?
— Да, на северо-восточный. Оставайся здесь.
Ее рука сжала его руку, и это беспокойное, горячее прикосновение взволновало его.
— Спасибо, что ты меня приглашаешь, но я думаю, не следует начинать того, что мы не сможем продолжить,
— Останься здесь, — повторил Хилери и стал перед ней на колени.
И вдруг он начал целовать ее лицо и шею. Он почувствовал ответные поцелуи, и на мгновение они сжали друг друга в бурном объятии. Потом, как будто по взаимному согласию, разжали руки, и взгляд их стал бегающим, как у детей, которые подстрекали друг друга к воровству. На губах у них появилась тончайшая, еле заметная усмешка, как будто губы их говорили: «Да, но ведь мы с тобой не только животные…»
Хилери встал и присел на кровать, Бианка осталась в кресле — она глядела прямо перед собой, откинув голову назад, совершенно недвижимая; ее белая шея светилась, на губах и в глазах мелькала усмешка. Больше они не обменялись ни словом, ни взглядом.
Бесшумно встав и пройдя за его спиной, она вышла из комнаты.
У Хилери был во рту такой привкус, будто он жевал золу. И не выходили из ума слова — слова без склада и смысла, какие застревают порой в сознании человека: «Дом, где царит гармония…»
Немного погодя он пошел к двери в комнату Бианки и там остановился и прислушался. Он не услышал ничего. Если б она плакала, если б она смеялась все было бы лучше, чем это молчание. Зажав руками уши, он сбежал вниз по лестнице.
ГЛАВА XIII ЗОВ В НОЧИ
Миновав свой кабинет, Хилери подошел к двери в комнату мистера Стоуна; мысль о том, что этот старик так упорен, так умеет уходить в свое, отрешаясь от внешнего мира, подействовала на него бодряще.
Мистер Стоун, по-прежнему одетый в коричневый шерстяной халат, сидел, устремив глаза на что-то в углу, откуда струился легкий душистый пар.
— Закройте дверь, — сказал мистер Стоун, — я варю какао. Хотите чашку какао?
— Я вам не помешал? — спросил Хилери.
Прежде чем ответить, мистер Стоун некоторое время пристально смотрел на него.
— Я заметил, что если я работаю после того, как выпью какао, это отражается на моей печени, — сказал он.
— В таком случае, сэр, если позволите, я посижу у вас немного.
— Кипит, — сказал мистер Стоун. Он снял кастрюльку с огня и, наполнив воздухом свои слабые щеки, подул на нее. Струйки пара смешались с нитями его белой бородки. Он вынул из посудного шкафа две чашки, наполнил одну из них и взглянул на Хилери.
— Мне хотелось бы прочитать вам последние, только что законченные страницы, — сказал мистер Стоун. — Быть может, вы подадите мне какой-нибудь полезный совет.
Он поставил кастрюльку обратно на плиту и взял чашку с какао.
— Я выпью и потом почитаю вам.
Он подошел к конторке и там стоял, продолжая дуть на какао.
Хилери поднял воротник пиджака, защищаясь от гулявшего в комнате ночного ветра, и взглянул на пустую чашку: он почувствовал, что проголодался. Послышался странный звук — это мистер Стоун дул себе на язык. Торопясь поскорее начать чтение, он сделал слишком большой глоток.
— Я обжег себе рот, — сказал он.
Хилери поспешно подошел к старику.
— Сильно? Надо выпить холодного молока, сэр.
Мистер Стоун поднял чашку.
— Молока нет, — сказал он и снова отхлебнул из нее.
«Чего бы я только не дал, — подумал Хилери, — чтобы уметь вот так всегда видеть перед собой одну-единственную цель».
Резко стукнула поставленная на стол чашка, зашуршала бумага, и монотонный голос начал:
— «Пролетарии, преисполненные цинизма, естественного среди тех, кто действительно знаком с нуждой, и даже среди их вождей, у которых он вуалируется лишь тогда, когда им удается занять видное положение в глазах общества, — желали для себя богатства и досуга своих более обеспеченных ближних, но в беспросветном мраке долгой борьбы за существование им хватало энергии лишь на то, чтобы определить каждодневные насущные свои потребности. Они представляли собой бушующее, вздымающееся море, — медленно, никем не направляемые, людские волны вздымались в длительных приливах, стремясь хоть немного раздвинуть берега и заново создать формы социального устройства. И по сизо-зеленой поверхности этого моря… — Мистер Стоун прервал чтение. Она неправильно написала, — сказал он, — не то слово. Должно быть «по сине-зеленой»… — И по сине-зеленой поверхности этого моря неслась флотилия серебряных суденышек, — их несло по волнам дыхание тех, кто сам не ведал, что такое ветер нужды. Движение этих серебряных скорлупок, которые все шли наперерез друг другу, и являлось в сущности передовым движением того времени. На корме каждой скорлупки сидел какой-нибудь из побочных продуктов социальной системы — они дули на паруса. Эти побочные продукты мы сейчас и рассмотрим…»
Мистер Стоун сделал паузу и заглянул в чашку. На дне оставалась гуща. Он допил ее и продолжал:
— «Братоубийственная теория выживания сильнейшего, которая в те дни являлась основой кодекса морали Англии, превратила всю страну в огромную лавку мясника. Среди трупов бесчисленных жертв тучнели и багровели полчища мясников, физически окрепшие от запаха крови и опилок. Они зачали много детей. Согласно законам природы, не допускающим переизбытка, у некоторой части детей оказалось врожденное чувство отвращения к крови и опилкам; многие из них, вынужденные в целях заработка продолжать ремесло отцов, делали это неохотно; некоторые, благодаря успешной деятельности отцов-мясников, оказались в положении, позволявшем им самим уже этим не заниматься. Но, продолжая ли дело отцов или проводя жизнь в праздности, они все обладали одной общей отличительной чертой: отвращением к запаху крови и опилок. У этих детей развились качества, доселе мало известные и обычно, причем, как мы увидим далее, не без основания, — презираемые: нерешительность, восприимчивость к красоте, нелюбовь к бессмысленному разрушению, отвращение к несправедливости. Вместе с желанием, естественным для человека во все века, совершить что-либо, эти качества или некоторые из них и оказывались теми стимулирующими факторами, которые давали этим людям возможность действовать. Те, кто был вынужден жить своим трудом, склонялись, понуждаемые всей тогдашней системой общественной жизни, к более гуманным и менее утомительным видам мясничьего ремесла: искусству, просвещению, отправлению церковных обрядов, медицине, а также оплачиваемому представительству своих сограждан. Те же, для кого труд был необязателен, занимались наблюдением существующего положения дел и выражением негодования по поводу него. Каждый год их серебряных скорлупок выходило из порта все больше, и щеки тех, кто надувал паруса, раздувались все сильнее. Оглядываясь назад, мы видим теперь причину, по которой красивые сверкающие суденышки не могли плыть, а были обречены вздыматься на сине-зеленых волнах моря, вечно рваться наперерез друг другу и всегда оставаться на одном и том же месте. Причина эта, если выразить ее в нескольких словах, следующая: «Тот, кто дул на паруса, должен был бы находиться в море, а не на суденышке…»
Монотонный голос умолк. Хилери увидел, что мистер Стоун пристально смотрит на лист бумаги, как если бы глубокий смысл этого последнего предложения был для него самого неожиданным. Но вот голос опять затянул:
— «И в социальных движениях так же, как в физических процессах природы, всегда была одна-единственная плодотворная действующая сила — таинственное и чудесное влечение, именуемое любовью. Ей, этому слиянию двух существ воедино, человечество обязано растущим разнообразием форм, известным под названием жизнь. Вот этого фактора, этого таинственного, бессознательного чувства любви и недоставало тем, кто дул на паруса флотилии. У них было все: разум, совесть, ненависть, нетерпение; они возмущались, они презирали, но у них не было любви к ближним. Они не могли броситься в море. Сердца их пылали, но ветер, заставлявший их пылать, не был соленым морским зефиром, то был ветер палящий, ветер пустыни. Как цветения алоэ, такого долгожданного, такого чудесного и такого стремительного, когда оно уже началось, человек должен был еще ждать, когда придет время для его высокого стремления к Всемирному Братству и забвению самого себя».
Мистер Стоун окончил чтение и стоял, пристально глядя на своего гостя, но, несомненно, видя вместо него что-то другое и далекое. Хилери не мог выдержать этого взгляда и опустил глаза на пустую чашку из-под какао.
Обычно те, кто слушал, как мистер Стоун читает свою рукопись, не смотрели ему в лицо. Старик так долго молчал, поглощенный своими мыслями, что Хилери наконец встал и заглянул в кастрюльку. Какао в ней не было. Мистер Стоун сварил ровно на одну чашку. Он хотел уступить ее гостю, но забвение себя помешало ему вспомнить об этом.
— Вы знаете, сэр, что происходит с алоэ, после того как оно расцветает? — спросил Хилери не без ехидства.
Мистер Стоун шевельнулся, но не ответил.
— Оно умирает, — сказал Хилери.
— Нет, — возразил мистер Стоун, — оно обретает покой.
— Разве индивидуальность мажет обрести покой? Индивидуальное, уж конечно, так же бессмертно, как и всеобщее. Это извечная комедия жизни.
— Что извечная комедия? — спросил мистер Стоун.
— Борьба между тем и другим.
Одно мгновение мистер Стоун задумчиво смотрел на зятя, потом положил лист рукописи на конторку.
— Мне пора заняться гимнастикой, — проговорил он и развязал шнур с кистями, служивший ему поясом.
Хилери поспешил к двери. С порога он оглянулся.
Уже без халата, лицом к окну, мистер Стоун поднялся на цыпочки, вытянул руки вперед, сложив ладони вместе, как в молитве; брюки его медленно сползали вниз.
— Раз, два, три, четыре, пять… — считал он. Затем послышался сильный выдох.
Наверху, в коридоре, залитом лунным светом из окна в конце его, Хилери опять остановился и прислушался. До него донеслось только легкое посапыванье Миранды, спавшей в его ванной, — собака не желала спать близко к человеку. Хилери прошел к себе в спальню и долго сидел, погруженный в свои мысли. Затем он открыл окно и высунулся наружу. На деревья в соседнем саду и на покатые крыши конюшен и других надворных строений лунный свет опускался, как стая молочно-белых голубей: распростерши крылья, как будто еще в полете, они, легко порхая, покрыли собой все. Ничто не шевелилось. Где-то часы пробили два. За молочно-белыми голубиными стаями высились темные, неведомые стены. И вдруг среди этой тишины Хилери как будто различил глухой и очень слабый звук — не то дыхание какого-то чудовища, не то далекий приглушенный бой барабанов. Он шел, казалось, со всех сторон бледного города, спящего в холодном свете луны, — он усиливался, затихал и снова усиливался, таинственный и жуткий, похожий на стон голодных и отчаявшихся. По Хай-стрит прогремели колеса кэба; Хилери настороженно прислушался к замирающему вдали звону колокольчика и цоканью копыт. И опять воцарилась тишина. И опять Хилери услышал приближающийся гулкий барабанный стук огромного сердца. Звук этот рос и рос. Теперь у самого Хилери заколотилось сердце. И вдруг он услышал, как от этого зловещего, немого стона отделился какой-то один скрипучий звук, и понял, что это не бормочущее, невнятное эхо человеческих страданий, а всего лишь стук и скрип фургонов, тянущихся к рынку Ковент-Гарден.
ГЛАВА XIV ПОХОД В ЧУЖИЕ КРАЯ
Несмотря на свою занятую жизнь, Тайми Даллисон находила время записывать свои воспоминания и мысли на странички школьных тетрадей. Она не задавалась при этом никакой определенной целью, не было у нее и желания погружаться в приятное созерцание субъективных ощущений — она бы презрела это как нечто старомодное и глупое. Она вела свои записи лишь от избытка юношеской энергии и от потребности «выразить себя», которая как будто носилась в воздухе; потребность эта чувствовалась повсюду: и среди тех, с кем Тайми училась, и среди ее приятелей, и в гостиной матери, и в студии тетки. Как чувствительность и супружество были обязательны для викторианской мисс, так для Тайми казалось обязательным это «самовыражение», точно так же, как и необходимость прожить молодые годы возможно веселее. Она никогда не перечитывала написанного и не запирала тетрадок, зная, что ее свобода, занятия и развлечения — священны, и никому и в голову не придет посягнуть на них. Она держала тетрадки вместе с огрызком химического карандаша в ящике комода, среди носовых платков, галстучков и блузок.
В дневник этот, наивный и неряшливый, она заносила без разбора все, что почему-либо произвело на нее впечатление.
В то раннее утро четвертого мая она сидела в ночной рубашке в ногах своей белой кровати — глаза у нее горели, щеки со сна были розовые, пушистые каштановые волосы растрепались — и исписывала страницу за страницей, в экстазе «самовыражения», потирая одной голой ногой о другую. Время от времени она вдруг, не дописав фразу, выглядывала в окно или блаженно потягивалась, как если б жизнь была слишком прекрасна для того, чтобы стоило что-либо заканчивать.
«Вчера я заходила в комнату к дедушке и была там, пока он диктовал маленькой натурщице. Я считаю, что дедушка просто великолепен. Мартин говорит, что энтузиаст хуже чем бесполезен. Он говорит, что люди не должны позволять себе дилетантскую игру в высокие идеи и мечты. А дедушкину идею он называет палеолитической. Терпеть не могу, когда над дедушкой смеются. Мартин так отвратительно самоуверен. Не думаю, что он найдет много таких, которые в свои восемьдесят лет круглый год купаются в Серпантайне, сами убирают свою комнату, сами готовят себе еду и живут на какие-нибудь девяносто фунтов в год, получая пенсию в триста фунтов, а остальное раздают. Мартин считает, что все это «нездорово» и что «Книга о всемирном братстве» «чушь». Ну и пусть — все равно, это чудесно, что он может целыми днями писать свою книгу. С этим даже Мартин соглашается. Вот это-то и есть в Мартине самое худшее: он до того хладнокровен, его невозможно переспорить. И вечно как будто критикует тебя. Меня это бесит… А маленькая натурщица безнадежная тупица. Я бы могла записывать под дедушкину диктовку вдвое быстрее. Она то и дело останавливалась и смотрела вверх, как всегда, с полуоткрытым ртом. Будто впереди у нее времени хоть отбавляй. Дедушка так поглощен работой, что ничего не замечает, он любит перечитывать снова и снова то, что написал, — слушает, как звучат слова. Эта девушка, наверное, ни на что не способна, разве только «позировать». Тетя Бианка говорила, что позирует она хорошо. В лице у нее есть что-то особенное, она немножко напоминает мне мадонну Ботичелли, которая висит в Национальной галерее — ту, которая в фас. И не столько чертами лица, сколько выражением — оно почти глупое и в то же время какое-то такое, будто она ждет: вот-вот произойдет что-то. Руки у нее красивые, а ноги меньше моих. Она на два года старше меня. Я спросила ее, почему она решила стать натурщицей, ведь это же препротивная работа. Она ответила, что рада была любой работе. Я спросила, а почему она не пошла работать куда-нибудь приказчицей или в прислуги. Она ответила не сразу, а потом сказала, что у нее не было никаких рекомендаций, она не знала, куда обратиться. И вдруг сразу надулась, сказала, что не хочет…»
Тайми бросила писать и принялась набрасывать карандашом профиль маленькой натурщицы.
«На ней было премиленькое платье, очень простое, хорошо сшитое — стоит, наверное, не менее трех или четырех фунтов. Значит, ей не так уж плохо живется, или, может, это платье ей кто-нибудь подарил…»
Тайми снова остановилась.
«Я подумала, насколько она в нем красивее, чем в той старой коричневой юбке… Вчера к обеду приходил дядя Хилери. Мы с ним обсуждали социальные проблемы, мы с ним всегда обсуждаем что-нибудь, когда он к нам приходит. Дядю Хилери нельзя не любить, у него такие добрые глаза, и он такой мягкий. Рассердиться на него невозможно. Мартин говорит, что он человек слабый и ни к чему не пригодный, потому что не знает жизни. А по-моему, ему просто невмоготу принудить других к действию. Он всегда видит обе стороны вопроса и, конечно, довольно нерешителен. Он, наверное, похож на Гамлета, только, кажется, никто теперь толком не знает, каким на самом деле был Гамлет. Я высказала дяде Хилери, что я думаю о неимущих классах. С ним можно говорить. Я не выношу папины неостроумные шуточки — как будто на свете нет ничего серьезного. Я сказала, что толку мало, если заниматься дилетантством, что надо доходить до самой сути всего. Я сказала, что деньги и классовые перегородки — это два пугала, которые нам надо свалить. Мартин говорит, что, когда дело доходит до настоящего практического разрешения социальных проблем, все те, кого мы знаем, оказываются дилетантами. Он говорит, что мы должны стряхнуть с себя старые сентиментальные представления и просто начать работать, чтобы все оздоровить. Отец прозвал Мартина «оздоровителем», а дядя Хилери говорит, если людей мыть «именем закона», насильно, то завтра они снова будут такими же грязными…»
Тайми снова перестала писать. В сквере напротив выводил свои долгие, низкие, похохатывающие трели дрозд. Она подбежала к окну и выглянула наружу. Дрозд сидел на платане и, подняв головку, выпускал из своего желтого клюва этот прелестный образчик «самовыражения». Всему, казалось, воздавал он хвалу — небу, солнцу, деревьям, росистой траве, самому себе!
«Ах ты, милочка!» — подумала Тайми.
Сладко поеживаясь, она сунула тетрадку обратно в ящик, сдернула с себя ночную рубашку и помчалась в ванную.
В то же утро, в десять часов, она тихонько выскользнула из дома. По субботам занятий у нее не было, но тут ее личные интересы, как правило, сталкивались с интересами родителей. Мать хотела, чтобы дочь провела это время с ней, отец рассчитывал, что она поедет с ним в Ричмонд поиграть в гольф: в субботу Стивн обычно покидал здание суда раньше трех часов. Если ему удавалось уговорить жену или дочь сопровождать его, он любил потренироваться к воскресенью, когда играл весь день, отправляясь из дому в половине одиннадцатого. Если же нет, он ехал к себе в клуб и там, читая журналы, знакомился со всеми имеющимися в наличии социальными течениями.
Тайми шла, подняв голову и наморщив лоб, как будто погруженная в серьезные размышления. Если на нее кидали восхищенные взгляды, она, казалось, не замечала их. Неподалеку от дома Хилери она повернула на Брод-Уок и дошла до другого конца Кенсингтонского сада.
На невысокой ограде, вытянув вперед длинные ноги и разглядывая прохожих, сидел ее двоюродный брат Мартин Стоун. Когда Тайми подошла, он слез.
— Опять опоздала, — сказал он. — Ну, пошли.
— Куда мы пойдем сначала? — спросила Тайми.
— В Ноттинг-Хилл, и больше сегодня мы никуда не поспеем, ведь мы должны еще раз зайти к миссис Хьюз. Во второй половине дня мне надо быть в больнице.
Тайми насупилась.
— Я так завидую тебе, Мартин, — ты живешь один. Ужасно глупо, что приходится жить в семье.
Мартин не ответил, но одна ноздря его длинного носа как будто дрогнула; Тайми ничего на это не сказала.
Несколько минут они шагали между двумя рядами высоких домов, спокойно поглядывая вокруг. Мартин заметил:
— Всюду одни господа Пэрси.
Тайми кивнула. И снова молчание, но в эти паузы они не испытывали смущения, они, по-видимому, даже не сознавали того, что молчат, и их глаза молодые, нетерпеливые, жадные — не упускали ничего.
— Пограничная линия. Сейчас попадем в приятное местечко, — сказал Мартин.
— Черным-черно? — спросила Тайми.
— Нет, черным-сине, — совсем черное будет дальше. Они шли по длинной, кривой, серой улице, где узкие дома, вконец слинявшие, являли все признаки безысходной нужды. Весенний ветер шевелил солому и клочки бумаги в сточных канавах; под ярким солнцем казалось, шла холодная ожесточенная борьба. Тайми сказала:
— Эта улица нагоняет на меня тоску.
Мартин кивнул.
— Еще страшнее, чем полная нищета. Такие домишки тянутся на полмили. Здесь еще идет свирепая борьба. Дальше люди уже сдались.
Они шли и шли по кривой улице, с ее жалкими лавчонками и нескончаемым убожеством.
На углу одного из переулков Мартин сказал:
— Теперь мы свернем сюда.
Тайми наморщила нос и не двигалась с места. Мартин смерил ее взглядом.
— Ну же, не трусь!
— Я не трушу, Мартин, просто я не могу перенести эти запахи.
— Тебе придется к ним привыкнуть.
— Да, я знаю. Но… я смочила эвкалиптовым маслом платок и забыла его дома.
Молодой человек вынул из кармана еще не развернутый чистый носовой платок.
— На, возьми мой.
— Здесь чувствуешь себя такой… А как же ты? — И она взяла платок.
— Ничего, это неважно, — сказал он: — Пошли.
Казалось, на этой узкой улице, и внутри домов и возле них, — всюду женщины; у многих на руках были младенцы. Женщины или работали, или выглядывали из окон, или судачили на порогах. И все умолкали, бросая дела, и во все глаза смотрели на проходящую молодую пару. Тайми бросила украдкой взгляд на своего спутника. Он все так же ровно отмерял длинные шаги, и бледное лицо его хранило все то же внимательное и саркастическое выражение. Сжимая в руке носовой платок и стараясь подражать равнодушному виду Мартина, она взглянула на небольшую группу женщин на ближайшем пороге. Три из них сидели, две стояли. Одна из стоявших — молодая женщина с открытым круглым лицом, — явно готовилась скоро стать матерью, другая — широколицая, смуглая, с растрепанными седыми волосами — курила глиняную трубку. У одной из тех, что сидели, совсем еще юной, лицо было сероватое, цвета грязной простыни, и синяк под глазом; вторая, в драном и неряшливом платье, кормила грудью ребенка; третья, судя по лицу — горькая пьяница, сидела в центре на самой верхней ступеньке, уперев красные руки в бока, и добродушно выкрикивала непристойности соседке, свесившейся из окна дома напротив. В сердце Тайми поднималось страстное возмущение. «Как отвратительно! О, как отвратительно!..» Но она не смела его высказать и, закусив губы, отвернулась: девичье чувство стыда было оскорблено тем, что представительницы ее пола так позорят его. Женщины уставились на Тайми: по-разному, в соответствии с темпераментом каждой, на лицах их отразилось сперва то смутное холодное любопытство, с каким и Тайми вначале взглянула на них, а затем враждебность и осуждение, будто им со своей стороны тоже казалось, что своей незапятнанной скромностью, вспыхнувшими щеками и чистой одеждой девушка их позорит. Презрительным движением губ и жестами они выразили свое непоколебимое убеждение в добродетельности и реальности собственного своего существования и в порочности и нереальности ее непрошеного присутствия здесь.
— Дай-ка эту куколку Биллу, он с ней живо справится, с этой…
Последнее слово потонуло н общем взрыве хохота. Мартин скривил губы.
— Здесь и не такое еще услышишь, — сказал он.
Щеки Тайми пылали.
В конце переулка он остановился перед бакалейной лавкой.
— Пошли. Посмотришь, где они покупают себе свой хлеб насущный.
В дверях лавки стояли тощий коричневый спаньель, маленькая белокурая женщина с высоким голым лбом, над которым торчали туго закрученные в папильотки волосы, и девчушка с какой-то сыпью на лице.
Кивнув мимоходом, Мартин жестом попросил их посторониться. Лавчонка была крошечная, футов десять в длину. На прилавках, идущих вдоль двух ее стен, теснились тарелки с кусками пирога, колбасы, кости от окороков, мятные конфеты и стиральное мыло; продавался здесь также хлеб, маргарин, жир, наложенный в миски, сахар, селедки — селедок было особенно много, — сухари и прочая снедь. На стене висели две кроличьи тушки. Все это ничем не было прикрыто, и на всем сидели и коллективно угощались мухи. За прилавком девушка лет семнадцати отпускала худощавой женщине кусок сыра. Сыр она крепко придерживала грязной рукой и пилила ножом. На прилавке рядом с сыром сидела с невозмутимым видом кошка.
Все оглянулись на вошедшую молодую пару. Мартин и Тайми ждали.
— Когда кончите резать сыр, — сказал Мартин, — дайте мне на три пенса драже.
Девушка последним отчаянным усилием допилила сыр. Худощавая женщина взяла его и ушла, кашляя прямо над ним. Девушка — она не могла оторвать глаз от Тайми — отпустила им на три пенса драже, которые она вытащила из банки прямо пальцами, потому что конфеты слиплись. Положив их в свернутый из газеты кулечек, она подала его Мартину. Молодой человек, небрежно за всем наблюдавший, коснулся локтя Тайми. Не поднимая глаз, она повернулась, и они вышли. В дверях Мартин передал кулечек девочке с сыпью на лице.
Улица теперь перешла в широкую дорогу, обстроенную низкими домишками.
— Черным-черно начинается здесь, — сказал Мартин. — Сплошь безработные, преступники, лодыри, пьяницы, чахоточные. Взгляни, какие физиономии!
Тайми послушно подняла глаза. На этой, центральной в здешних местах, улице было не так, как там, откуда они только что пришли. Прохожие или бросали на девушку тупые и хмурые взгляды, или не замечали ее вовсе. В некоторых домах на подоконниках стояли растрепанные растения; в одном окне пела канарейка. За первым поворотом Мартин и Тайми очутились в еще более темном омуте человеческой реки. Тут стояли какие-то сараи, дома с выбитыми окнами, дома с окнами, заколоченными досками, лавчонки, где торговали жареной рыбой, низкоразрядные кабаки, дома без дверей. Мужчин тут было больше, чем женщин; одни катили тачки, наполненные тряпьем и бутылками, а порой даже и не наполненные тряпьем и бутылками; другие по двое и по трое стояли возле кабаков, балагуря или ссорясь; некоторые медленно брели по канавам или вдоль домов, будто сами не знали, живы они еще или уже умерли. Какой-то молодой парень с выражением исступленного отчаяния на лице пробежал мимо, толкая свою тачку. И время от времени из лавчонки с жареной рыбой или из скобяной лавки выходил человек в грязном фартуке погреться на солнышке и посмотреть на улицу, по-видимому, не замечая ничего, что могло бы угнетающе подействовать на его состояние духа. В неиссякающем, но все время меняющемся потоке прохожих попадались и женщины; они несли еду, завернутую в газетную бумагу, или какие-то узелки под шалью. Лица их были большей частью или очень красные и грубые, или какие-то прозрачно-белые лица женщин, которые принимают свое существование таким, каким уготовало его для них провидение. На них нельзя было прочесть ни удивления, ни протеста, ни тоски, ни стыда одна лишь тупая, животная покорность или грубая, нерадостная удаль. Они ходили по этой улице вот так каждое утро, круглый год. Им нельзя было не принять это. Не имея надежд стать когда-либо чем-то другим, не умея вообразить себе другую жизнь, они и не тратили попусту сил на пустые надежды и фантазии. Иногда проходили, еле передвигая ноги, старики и старухи; они ползли, как зимние пчелы, на беду себе забывшие умереть в солнечный полдень своей трудовой жизни и слишком старые, чтобы приносить пользу, изгнанные из улья на медленное умирание в холодный и голодный вечер их жизни.
Посреди мостовой плелась подвода пивовара. Ее тянули три лошади: хвосты у них были заплетены в косы, гривы украшены лентами, медная сбруя блестела на солнце. Высоко на козлах, как некий бог, восседал возчик, неподвижно устремив на лошадиные холки свои глазки-щелочки над огромными багровыми щеками. За его спиной лениво поскрипывала подвода, вся уложенная пивными бочками, на которых спал, растянувшись, помощник возчика. Как воплощение непреклонной, суровой силы, подвода проехала, гордая тем, что ее тяжеленный груз содержит единственную радость, доступную для этих бредущих по улице теней.
Молодые люди вышли на шоссе, идущее с востока на запад.
— Перейдем тут, — сказал Мартин, — и пойдем в Кенсингтон сокращенной дорогой. Больше не будет ничего примечательного, пока не попадем на Хаунд-стрит. А тут повсюду одни только Пэрси.
Тайми встряхнулась.
— Мартин, прошу тебя, пойдем по такой дороге, где можно дышать. У меня такое чувство, будто я вся грязная.
Она приложила руку к груди.
— Вон там получше будет, — сказал Мартин.
Они свернули влево и пошли по улице, обсаженной деревьями. Теперь, когда Тайми могла свободно дышать и смотреть, она снова высоко подняла голову и снова начала раскачивать руками.
— Мартин, ведь надо же что-то делать!
Молодой доктор не отвечал; все так же было бледно его лицо, все так же выражало оно внимательность и насмешку. Он слегка сжал руку Тайми у локтя и при этом полупрезрительно улыбнулся.
ГЛАВА XV ВТОРОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ХАУНД-СТРИТ
Прибыв на Хаунд-стрит, Мартин Стоун и его спутница поднялись прямо наверх к миссис Хьюз. Они застали ее за стиркой, она развешивала перед слабым огнем часть того немногого, что загрязнилось за неделю и уже было отстирано. Руки у нее были обнажены до локтя, лицо и глаза покраснели; на них застыл пар от мыльной пены.
Привязанный к подушке полотенцем, под отцовским штыком и олеографией, изображающей рождество Христово, сидел младенец. В воздухе держался запах и от него, и от крашеных стен, и от стирки, и от копченой селедки. Молодые люди уселись на подоконник.
— Можно открыть окно, миссис Хьюз? — сказала Тайми. — Или, может быть, это вредно ребенку?
— Нет, мисс.
— Что это у вас с руками? — спросил Мартин. Швея прикрыла руки бельем, которое опускала в мыльную воду, и не ответила.
— Не прячьте, дайте мне взглянуть,
Миссис Хьюз протянула руки; запястья опухли и посинели.
— Какой зверь! — воскликнула Тайми.
Молодой доктор сказал вполголоса:
— Это от вчерашнего вечера. Арника в доме есть?
— Нет, сэр.
— Ну ясно. — Он положил на подоконник шестипенсовую монету. — Купите арники и втирайте. Только осторожно, не сдерите кожу.
Тайми вдруг не выдержала:
— Почему вы не уходите от него, миссис Хьюз? Почему живете с таким зверем?
Мартин нахмурился.
— Очень бурная была ссора или не более обычного?
Миссис Хьюз отвернулась к еле горящему огню. Плечи ее судорожно вздрагивали.
Так прошло минуты три, потом она снова принялась тереть намыленное белье.
— Я закурю, если не возражаете, — сказал Мартин. — Как зовут ребенка? Билл? Эй, Билл! — Он сунул мизинец в ручку ребенка. — Кормите грудью?
— Да, сэр.
— Который он у вас по счету?
— Я потеряла троих, сэр; теперь остались только он да его братишка Стэнли.
— Рожали каждый год?
— Нет, сэр. Два года подряд во время войны я, конечно, не рожала.
— Хьюз был ранен во время войны?
— Да, сэр, в голову.
— Так. И болел лихорадкой?
— Да, сэр.
Мартин постучал себя по лбу трубкой.
— И каждая капля спиртного бросается ему в голову, да?
Миссис Хьюз замерла, сжав в руках мокрое полотенце; ее заплаканное лицо выражало обиду, как будто в том, что сказал Мартин, она уловила какое-то оправдание своему мужу.
— Он не имеет права так со мной обращаться, — сказала она.
Все трое стояли теперь вокруг кровати, на которой сидел ребенок, серьезно тараща на них глазки. Тайми сказала:
— Нет, миссис Хьюз, я бы его не боялась. На вашем месте я с ним не осталась бы и дня. Уйдите от него, это ваш долг женщины.
Услышав, что заговорили о долге женщины, миссис Хьюз повернулась; на ее худом лице проступило какое-то мстительное выражение.
— Вы так думаете, мисс? — сказала она. — А я вот не знаю, что мне делать.
— Забрать детей и уйти. Какой смысл ждать? Мы вам дадим денег, если у вас не хватает.
Но миссис Хьюз молчала.
— Ну, так как же? — спросил Мартин, выпуская изо рта облако табачного дыма.
Тайми снова не выдержала:
— Уходите немедленно, как только придет из школы ваш мальчик. Муж никогда вас не разыщет! И поделом ему. Никакая женщина не должна мириться с такой жизнью. Это — малодушие, миссис Хьюз.
Последние слова, как видно, задели миссис Хьюз за живое, лицо ее стало вдруг цвета помидора. Она заговорила с жаром:
— Да, уйти, оставить его этой девчонке, чтоб он тут развратничал! И это после того, как я восемь лет была его женой и родила ему пятерых? После всего, что я для него сделала? Мне и не нужно бы лучшего мужа, чем каким он был, пока она не появилась тут — сама бледная, и все прихорашивается, и рот такой, что сразу видно, какого она сорта. Пусть ее занимается своим делом сидит голая, — только на это она и годится. Нечего ей лезть к приличным людям… — Протянув к оробевшей Тайми свои изувеченные руки, она выкрикнула: — Раньше он меня никогда и пальцем не трогал. А все это я получила из-за ее новых нарядов…
Испуганный громкими, страстными криками матери, младенец залился плачем. Миссис Хьюз умолкла и взяла его на руки. Крепко прижав ребенка к тощей груди, она смотрела поверх его плешивой головки на молодую пару.
— Руки у меня такие оттого, что вчера я боролась с ним, хотела удержать его. Он божился, что уйдет, бросит меня, а я удерживала его, да! И не думайте, что я когда-нибудь отпущу его к этой девчонке — пусть хоть убьет меня!
После этого взрыва горячность ее как будто остыла, она сделалась прежней — кроткой и бессловесной.
Во время этого бурного проявления чувств Тайми, вся съежившись, опустив глаза, стояла возле двери. Она взглянула на Мартина, явно умоляя его уйти. А Мартин все смотрел на миссис Хьюз и молча покуривал. Затем вынул трубку изо рта и указал ею на ребенка.
— Этот юный джентльмен недолго выдержит, если так пойдет и дальше.
Все трое молча посмотрели на младенца. Из всех своих слабых сил он прижимал кулачки, нос, лоб, даже крохотные голые морщинистые ножки к материнской груди, как будто хотел спрятаться куда-нибудь подальше от жизни. В этом стремлении уйти туда, откуда он появился, было какое-то немое отчаяние. Головка ребенка, покрытая редким тусклым пушком, дрожала от усилий. Он прожил еще так мало, но и этого было для него достаточно. Мартин снова взял в рот трубку.
— Так нельзя, вы сами понимаете, — сказал он. — Малыш не вытянет. И вот еще что: если вы бросите кормить его грудью, я не поручусь за него до завтрашнего дня. Уж вам-то должно быть понятно, что, если все это будет продолжаться, шансов на то, чтобы сохранить молоко, у вас не очень много.
Сделав знак Тайми, он вместе с ней спустился по лестнице.
ГЛАВА XVI ПОД ВЯЗАМИ
Весна была и в сердцах людей и в деревьях, их высоких товарищах. Тревоги, усилия выбиться к свету за счет других — все будто утратило значение. Весна взяла в плен все и вся. Это она заставляла стариков оборачиваться на молоденьких женщин и смотреть им вслед, это она заставляла молодых мужчин и женщин, идущих рядом, касаться друг друга, а каждую птицу на ветке — наигрывать свою мелодию. Солнечный свет, изливаясь с небес, расцвечивал светлыми пятнышками трепещущие листья, зажигал щеки мальчиков-калек, гулявших, прихрамывая, по Кенсингтонскому саду, и их бледные лица — лица юных горожан — пылали необычным румянцем.
На Брод-Уок под вязами, этими неподатливыми деревьями, сидели бок о бок и грелись на солнышке генералы и няньки, священники и безработные. А над головой у них, раскачиваясь под весенним ветерком, шелестели и чуть поскрипывали ветви, вели свои нескончаемые беседы — мудрые бессловесные разговоры деревьев о людских делах. Приятно было внимать шелесту бесчисленных листьев и смотреть на них: все они были разной формы, и трепыхание на ветру каждого отдельного листка было неповторимо и в то же время покорно единой душе дерева.
Тайми с Мартином тоже сидели здесь — на скамье под самым большим вязом. От непринужденности и достоинства, отличавших их два часа назад, когда они отправлялись с противоположного конца Брод-Уок в свою экспедицию, не осталось и следа. Мартин говорил:
— Увидела первую каплю крови и скисла. Ты такая же, как и остальные.
— Неправда! Это просто мерзко с твоей стороны — говорить так!
— А вот и правда. Эстетизма, прекрасных намерений у тебя и твоей родни хоть отбавляй, но ни у кого ни на йоту способности делать настоящее дело.
— Не смей оскорблять моих родственников, они подобрее тебя!
— О, они весьма добросердечны и отлично видят, в чем зло. Не это тормозит их активность. Но твой папочка — типичный чиновник. Он так твердо знает, чего ему не следует делать, что вообще ничего не делает. В точности, как Хилери. Тот уж очень совестлив и глубоко сознает, что именно он должен делать, и поэтому тоже ничего не делает. Сегодня ты отправилась к этой женщине, чтобы помочь ей, заранее решив, как все будет, но стоило тебе увидеть, что дело обстоит иначе, чем ты воображала, и ты уже на попятный.
— Нельзя верить ни одному их слову — вот что мне противно! Я думала, Хьюз бьет ее спьяну, я ведь не знала, что все это потому, что она его ревнует.
— Конечно, не знала и не могла знать… И с чего ты взяла, что они готовы выложить нам все сразу? Они говорят, только если их принудить к этому. Они не такие простофили, как ты думаешь.
— Мне отвратительна вся эта история. Такая грязь!
— О, боже мой!..
— Да, грязь! Мне не хочется помогать женщине, которая думает и говорит такие ужасные вещи! И той девушке тоже и вообще никому из них.
— Какое имеет значение, что они говорят и что думают? Дело не в этом. Надо на все смотреть с точки зрения здравого смысла. Твои родственники поселили девушку в эту комнату, и пусть теперь они ее забирают, да поживее. Тут вопрос только в том, что полезно для здоровья, понимаешь?
— Я понимаю только, что для моего здоровья отнюдь не полезно иметь с ними дело; и я не буду. Я не верю, что можно помочь людям, которые отталкивают твою помощь.
Мартин свистнул.
— Ты — грубое животное, Мартин, вот что я тебе скажу, — проговорила Тайми.
— Просто «животное», а не «грубое животное». Это разница.
— Тем хуже!
— Не думаю. Послушай, Тайми…
Тайми молчала.
— Посмотри мне в лицо.
Тайми медленно подняла на него глаза.
— Ну, что тебе?
— Ты с нами или нет?
— Конечно, с вами.
— Нет, ты не с нами.
— Нет, с вами!
— Ну, хорошо, не будем из-за этого ссориться. Дай руку.
Он накрыл ее руку ладонью. Лицо Тайми густо порозовело. Вдруг она высвободила руку.
— Смотри, вон идет дядя Хилери!
Это и в самом деле был Хилери, и впереди него семенила Миранда. Он шел, заложив руки за спину, опустив голову. Молодые люди молча смотрели на него.
— Погружен в самосозерцание, — пробормотал Мартин. — Вот так он всегда расхаживает. Сейчас я ему доложу обо всем.
Лицо Тайми из розового стало пунцовым.
— Не надо!
— Почему?
— Ну, потому, что… из-за этих…
Она не могла произнести слово «нарядов»: это выдало бы ее тайные мысли.
Хилери направлялся, по-видимому, прямо к их скамье, но Миранда, завидев Мартина, остановилась. «Вот человек действия, — казалось, говорила она, тот, что треплет меня за уши». И, стараясь увести хозяина, будто без всякого умысла повернула в сторону. Но Хилери уже заметил племянницу. Он подошел к ней и сел рядом.
— Вас-то нам и нужно, — сказал Мартин, медленно оглядывая его, как оглядывает молодой пес более старую и другой породы собаку. — Мы с Тайни ходили к Хьюзам на Хаумд-стрит. Там заваривается настоящая каша. Вы или кто-то там из вас поселили туда девушку, так вот теперь забирайте ее оттуда, и как можно скорее.
Хилери сразу же будто ушел в себя.
— Расскажите все как есть, — сказал он.
— Жена Хьюза ревнует его к девушке — в этом вся беда.
— Вот как! И в этом вся беда?
Тайми вмешалась.
— Абсолютно не понимаю, при чем тут дядя Хилери. Если им угодно вести себя так отвратительно… Я не знала, какие они, эти бедные, я не думала, что они способны на такое! Я убеждена, что девушка не стоит того, чтобы о ней заботиться, да и женщина эта тоже.
— Я не говорил, что они этого стоят, — проворчал Мартин. — Дело не в этом. Важно, что полезно для здоровья.
Хилери переводил взгляд с одного на другую.
— Понимаю, — сказал он. — А мне казалось, что тут дело, быть может, более деликатного свойства.
Губы Мартина искривились.
— Вечно вы с вашей хваленой деликатностью! Что от нее толку? Был ли когда от нее прок? Право, какое-то проклятие лежит на всех вас. Почему вы никогда не действуете? Думать можно потом.
Впалые щеки Хилери покрылись краской.
— А ты, Мартин, никогда не думаешь прежде, чем начать действовать?
Мартин поднялся и стоял, глядя на Хилери сверху вниз.
— Послушайте, — начал он, — я не желаю вникать во все ваши тонкости. Я полагаюсь на свои глаза и нос. Я вижу, что женщина, если такое истеричное состояние у нее не пройдет, не сможет кормить ребенка грудью. Речь идет о здоровье их обоих.
— Для тебя все сводится только к здоровью?
— Да. Возьмите любую проблему. Ну, хотя бы ту же бедноту. Что им требуется? Здоровье. Ничего, кроме здоровья. Открытия и изобретения прошлого столетия выбили основу из-под старого порядка вещей, и наш долг — создать новую основу, основу здоровья, и мы это сделаем. Простой народ еще сам не понимает, что ему нужно, но он ищет, и, когда мы покажем ему истину, он ухватится за нее немедленно.
— А кто это «мы»? — тихо спросил Хилери.
— Кто мы? Я вам вот что скажу. Пока почтенные реформаторы пререкаются между собой, мы спокойно подойдем и проглотим их всех оптом. Мы осознали тот факт, что не теория является основанием для реформ. Мы действуем на основании того, что подсказывают нам наши глаза и носы. Если мы видим и обоняем нечто скверное, мы это скверное исправляем практическими и научными мерами.
— И эти же меры вы применяете к человеческой природе?
— Человеческой природе как раз и свойственно стремиться к здоровью.
— Не знаю, не знаю… Я пока этого не вижу.
— Возьмите хотя бы случай с этой женщиной.
— Да, возьмем хотя бы ее случай. На этом примере, Мартин, твои доказательства мне не очень ясны.
— Она никуда не годится: жалкое существо. И муж ее тоже. Если человек был ранен в голову и к тому же пьет, дело его дрянь. И девушка тоже никуда не годится: заурядная девица, падкая на развлечения.
Тайми вспыхнула, и Хилери, заметив это, прикусил губу.
— Единственно, кто стоит внимания, — это дети. Тут этот младенец… Ну, так вот, самое главное, как я сказал, это чтобы мать могла нормально его выходить. Уразумейте этот факт, а все остальное пошлите к черту!
— Ты меня прости, но мне как-то трудно отделить вопрос о здоровье ребенка от всех других обстоятельств этой истории.
Мартин ухмыльнулся.
— И вы, конечно, используете это как предлог, чтобы ничего не сделать.
Тайми быстро вложила свою руку в руку Хилери.
— Нет, ты действительно грубое животное. Мартин, — шепнула она.
Молодой человек бросил на нее взгляд, говоривший: «Можешь сколько угодно называть меня грубым животным, я этим горжусь. Да и, кроме того, ты сама знаешь, что тебе это вовсе не так уж противно!»
— Лучше быть животным, чем дилетантом, — сказал он.
Тайми, прижавшись к Хилери, словно тому требовалась ее защита, воскликнула:
— Мартин, ты просто варвар!
Хилери продолжал улыбаться, но лицо у него передергивалось.
— Нет, нисколько, — сказал он. — Мартин отлично ставит диагнозы, это делает ему честь.
И, приподняв шляпу, ушел.
Молодые люди, стоя рядом, смотрели ему вслед. Лицо Мартина выражало странную смесь презрения и раскаяния. Тайми, пораженная, взволнованная, чуть не плакала.
— Ничего, это не повредит, — пробормотал молодой человек. — Хорошая встряска ему полезна.
Тайми метнула на него негодующий взгляд.
— Иногда я тебя просто ненавижу, — сказала она. — Ты так толстокож, — у тебя не кожа, а шкура.
Мартин взял ее за руку.
— А у тебя кожа из папиросной бумаги, — ответил он. — Все вы такие вы, дилетанты.
— По-моему, лучше быть дилетантом, чем… чем хамом.
У Мартина странно дернулась челюсть, но он тут же улыбнулся. Улыбка эта, казалось, взбесила Тайми. Она вырвала от него руку и бросилась следом за Хилери.
Мартин хладнокровно смотрел ей вслед. Вытащив трубку, он стал набивать ее, мизинцем медленно вдавливая в чашечку золотые нити табака.
ГЛАВА XVII БРАТЬЯ
Уже было сказано, что Стивн Даллисон в те субботы, когда ему не удавалось поиграть в гольф, отправлялся в клуб и там читал журналы. Эти две формы развлечения, по сути дела, сходны между собой: играя в гольф, ходишь по определенному кругу, и то же самое случается, когда читаешь журналы, ибо через какое-то время непременно натолкнешься на статьи, сводящие на нет статьи, ранее прочитанные. И тот и другой вид спорта помогает удерживать равновесие, которое сохраняет человеку здоровье и молодость.
А сохранять здоровье и молодость было для Стивна каждодневной потребностью. Неизменно сдержанный и подтянутый, он представлял собой типичный продукт Кембриджского университета, и у него всегда был вид человека, берущего понюшку великолепного, какого-то необычайно высокого сорта табака. Но за этим чисто внешним обликом скрывался толковый работник, хороший муж и хороший отец, и его, собственно, не в чем было упрекнуть разве только в известном педантизме и в том, что он ни разу не усомнился в своей правоте. Там, где он служил, да и в других местах, встречалось много людей, подобных ему. В одном отношении он походил на них, пожалуй, даже слишком: он не любил отрываться от земли, если не знал в точности, где снова опустится.
С самого начала они с Сесилией прекрасно ладили. Оба хотели иметь только одного ребенка — не больше, оба хотели быть в меру «передовыми» — не больше, и теперь оба считали, что Хилери поставил себя в неловкое положение — не больше. Когда Сесилия, проснувшись в своей стильной, начала семнадцатого века кровати и дав мужу сперва выспаться, рассказала ему про все, что выяснилось из ее разговора с миссис Хьюз, они, лежа на спине и приняв очень серьезный тон, тщательно это обсудили. Стивн высказал мнение, что «старина Хилери» все-таки должен вести себя осторожнее. Дальше этого он не пошел: ему даже с собственной женой не хотелось говорить о неприятных возможностях, которые, на его взгляд, здесь таились.
Сесилия повторила те самые слова, которые сказала тогда Хилери:
— Это так грязно…
Стивн взглянул на нее, и оба почти в один голос воскликнули:
— Но это же просто вздор!
Единодушие мнений заставило их более здраво посмотреть на положение дел. Если история эта не вымысел, то что же она, как не один из тех эпизодов, о которых читаешь в газетах? Что это, как не точная копия кусочка из романа или спектакля, определяемого в тех же газетах именно этим словом «грязно»? Сесилия употребила это слово инстинктивно, оно сразу же пришло ей в голову. История с Хьюзами и маленькой натурщицей шла вразрез со всеми ее идеалами морали и хорошего вкуса — со всей той особой духовной атмосферой, таинственно и неизбежно Создаваемой вокруг души условиями определенного воспитания и определенной формы жизни. Таким образом, выходило, что если данная история — правда, то история эта «грязная», а раз она «грязная», то противно даже думать о том, что в ней могут быть замешаны члены их семьи. Однако их родные действительно в ней замешаны, а значит, это не что иное, как «просто вздор»!
На том и успокоились до тех пор, пока Тайми, ходившая навестить дедушку, не рассказала, вернувшись, о нарядном новом платье маленькой натурщицы. Свои новости Тайми излагала за обедом, на придумывание которого Сесилия тратила немало усилий, вызывавших у нее обычно небольшую мигрень: блюдам полагалось быть и не слишком традиционными, чтобы не перекормить Стивна, но и не слишком уж эстетичными, чтобы не оставить его вовсе голодным. Пока лакей находился в столовой, Сесилия и Стивн не поднимали глаз, но как только он вышел, чтобы принести дичь, каждый поймал на себе взгляд другого. Как на грех, слово «грязно» снова пришло им на ум. Кто подарил девушке новое платье? Полагая, однако, что развивать эту мысль «грязно», они отвернулись друг от друга и, торопливо доедая обед, тут же принялись развивать эту самую мысль. Только Сесилия, будучи женщиной, шла по одному следу, а Стивн, будучи мужчиной, по другому.
Мысли Стивна бежали в таком направлении: «Если Хилери дает ей деньги и платья и тому подобное, он или больший простак, чем я думал, или тут что-то кроется. Бианка сама виновата, но это не поможет заткнуть рот Хьюзу. Он, надо полагать, хочет вытянуть денег. А, черт…»
Мысли Сесилии бежали в другую сторону:
«Девушка, безусловно, не могла купить себе обновы на свой заработок. Она, вероятно, и в самом деле дурного поведения. Неприятно это думать, но, по-видимому, так. Не может быть, чтобы Хилери, после того, что я ему рассказала, повел себя настолько глупо. Если она действительно такая, это очень упрощает дело. Но кто-кто, а Хилери ни за что этому не поверит. Ах боже мой…»
Сказать по правде, Стивну и его жене, как и любому человеку их класса и круга, при самых добрых намерениях было чрезвычайно трудно осознать реальность своих «теней». Они знали, что «тени» эти существуют, потому что встречали их на улицах, они, конечно, верили в их существование, но по-настоящему его не ощущали: так тщательно была сплетена паутина социальной жизни. Они не понимали и не знали, да и не были способны узнать и понять жизнь «теней», точно так, как «тени» в своих глухих переулках были далеки от знания и понимания того, что «господа» реально существуют, — они знали только, что оттуда идут им деньги.
«Тени». Для Стивна, Сесилии и тысячи им подобных — это значило «простой народ», трущобы, определенные кварталы, или фабрики и заводы с их тяжелым трудом, рабочие различных профессий, люди, выполняющие для них те или иные работы; они не знали и не могли знать, что это человеческие существа, наделенные теми же свойствами, волнуемые теми же страстями, что и они сами. Причина тому — давняя, уходящая в века причина — была столь проста, столь незамысловата, что о ней никогда и не упоминалось. Но в глубине души, где уже не было места лицемерию, они знали, что дело тут всего лишь в одном небольшом обстоятельстве. Им было отлично известно: что бы они там ни говорили, какие бы деньги ни давали, сколько бы времени ни уделяли — сердца их никогда не откроются, разве… разве только, если при этом можно будет закрыть уши, глаза и нос. Это небольшое обстоятельство, более могущественнее, чем все философские учения, все парламентские законы и все проповеди, когда-либо произнесенные, властно и безраздельно царило над всем. Оно отделило один класс от другого, отделило человека от его «тени» так, как великий изначальный закон отделил свет от тьмы.
И на этом небольшом обстоятельстве, слишком грубом, чтобы говорить о нем вслух, они и подобные им втайне строили и строили — не будет преувеличением сказать, что оно стало если не теоретической, то, во всяком случае, фактической основой законов, верований, экономики и искусств. Ибо не следует думать, что зрение у них было слабое и нюх притуплен. Нет, нет, глаза их видели прекрасно, а носы обладали способностью представлять себе бесчисленные незнакомые запахи, которые должны были находиться в жизненной среде, им, носам, несколько чуждой; они могли воссоздавать эти запахи, как собака воссоздает образ хозяина по запаху старой туфли.
Итак, Стивн с женой сидели за обедом, и лакей принес им дичь. Это была отличная птица, откормленная в Сэрри, но лакей, разрезая ее на порции, чувствовал, как внутри у него все переворачивается — не потому, что ему самому хотелось ее, или что он был вегетарианцем, и не в силу какого-либо принципа, но потому, что по природным своим данным он был инженер, и ему до смерти надоело разрезать на порции и подавать другим жареную птицу и смотреть, как они ее едят. Храня на лице полнейшую бесстрастность, он раскладывал по тарелкам нарезанные порции людям, которые, платя ему за это, не умели читать его мысли.
В тот самый вечер Стивн, потрудившись над докладом о существующих законах о банкротстве, который он в то время готовил, чрезвычайно осторожно, заранее раздевшись, вошел в спальню и, подойдя к кровати, тихонько скользнул в нее. Он лежал и поздравлял себя с тем, что ему удалось не разбудить жену, и Сесилия, которая и не думала спать, по необычайной осторожности мужа поняла, что он пришел к какому-то выводу, но не хочет сообщать ей об этом. Снедаемая беспокойством, она все еще не спала, когда часы пробили два.
Вывод, к которому пришел Стивн, был следующий:
Дважды пересмотрев все имеющиеся данные — раздельное жительство супругов, Хилери и Бианки (о чем он узнал от Сесилии) — причина непознаваемая; интерес Хилери к маленькой натурщице — причина неизвестная; ряд выясненных обстоятельств: бедность девушки, ее работа у мистера Стоуна, то, что она снимает комнату у миссис Хьюз, бурный взрыв чувств этой последней в присутствии Сесилии, угрозы Хьюза и, наконец, дорогие обновы девушки — Стивн все это подытожил и определил как самую обыкновенную «ловушку», в которую его брат из-за своего, возможно, невинного, но, во всяком случае, неосторожного поведения ухитрился попасть. Это было чисто мужское дело. Стивн упорно пытался рассматривать его как нечто не стоящее внимания, уговаривал себя, что ничего, конечно, не произойдет. Но попытки эти потерпели крах, и тому имелись три причины: во-первых, присущая ему любовь к порядку, во-вторых, глубоко укоренившееся недоверие и антипатия к Бианке и, в-третьих, убеждение (в котором он даже себе не признавался, поскольку ему очень хотелось сочувствовать низшим классам), что люди эти всегда норовят что-нибудь из тебя вытянуть. Вопрос был только в том, как велика сумма и вообще благоразумно ли давать сколько бы то ни было. Стивн решил, что неблагоразумно. Что же тогда? Ответа не было. Это его беспокоило. У него был врожденный страх перед всякого рода скандалами, и, кроме того, он очень любил Хилери. Если б только знать, какую позицию займет Бианка. На этот счет он даже не мог строить никаких догадок.
Вот почему в тот субботний день, четвертого мая, Стивну, против обыкновения, решительно не захотелось читать журналы, — такое отвращение к всегдашним своим занятиям испытывают люди, когда нервы у них расстроены. Он дольше обычного пробыл в суде, потом сел в омнибус, заняв место наверху, и поехал прямо домой.
Прилив житейского моря затоплял город. Людские волны одна за другой заливали улицы, всасывались в тысячи пересекающих их потоков. Один поток мужчин и женщин выливался из дома, где заседал какой-то религиозный конгресс, другой вливался в здание, где обсуждались какие-то общественные вопросы. Как сверкающая вода, заключенная между двумя рядами скал и расцвеченная мириадами многоцветных блесток, людская река двигалась по Роттен-Роу, а подле витрин закрытых магазинов вплеталась в путаную сеть маленьких живых ручейков. И повсюду в этом море мужчин и женщин мелькали их «тени», извиваясь, как комочки серой слизи, все время поднимаемой со дна на поверхность чьей-то огромной, неутомимой рукой. Тысячеголосый гул этого людского моря уходил ввысь за деревья и крыши домов и там, в безграничных просторах, медленно достигал слияния звука и тишины — той точки, где жизнь, оставив позади мелкие формы и преграды, попадает в объятия смерти и, вырвавшись из этих объятий, является уже в новых формах, разделенных новыми преградами.
Стивн ехал, возвышаясь над толпой своих ближних, и тот же весенний ветерок, который заставил говорить вязы, пытался шепотом рассказать ему о бесчисленных цветах, оплодотворенных им, о бесчисленных развернутых им листках, о бесчисленных барашках, поднятых им на море, о бесчисленных крылатых тенях, брошенных им на меловые холмы, и о том, как своим благоуханием он пробудил в сердцах людей бесчисленные желания и сладкую тоску.
Но рассказать обо всем этом ветру удалось лишь отчасти, ибо Стивн, как то присуще людям культурным и во всем умеренным, общался с природой только тогда, когда выходил из дому специально с этой целью, и дикого нрава ее втайне побаивался.
На пороге своего дома он встретил Хилери — тот собирался уходить.
— Я встретил в Кенсингтонском саду Тайми и Мартина, — сказал Хилери. Тайми затащила меня к вам позавтракать, и с тех пор я сидел у вас.
— А юного оздоровителя она тоже притащила с собой? — спросил Стивн настороженно.
— Нет.
— Отлично. Этот молодой человек действует мне на нервы. — Взяв старшего брата под руку, он добавил: — Послушай, старина, может, вернемся в дом? Или ты предпочитаешь пройтись?
— Предпочитаю пройтись, — ответил Хилери.
Будучи людьми столь различными, а быть может, именно в силу этого несходства, братья искренне любили друг друга; такая любовь зиждется на чем-то более глубоком и более примитивном, чем родство душ, и она постоянна, потому что не зависит от влияния разума. Корнями своими любовь братьев уходила в те далекие годы, когда они, еще совсем малыши, целовались и дрались, спали в кроватках, стоящих рядом, «не ябедничали» друг на друга, и порой один даже принимал на себя грешки другого. Теперь их могло раздражать или утомлять длительное пребывание вместе, но они ни при каких обстоятельствах не могли бы подвести друг друга благодаря именно той прочной лояльности, начало которой было положено еще в детской.
Впереди братьев бежала Миранда, они шли за ней по усаженной цветами дорожке к Хайд-парку, говорили на посторонние темы, и каждый знал, чем заняты мысли другого.
Стивн вдруг решил действовать напрямик:
— Сесси мне рассказала, что этот тип, Хьюз, что-то там затевает.
Хилери кивнул.
Стивн с некоторым беспокойством взглянул на лицо брата: его поразило, что оно какое-то новое, не столь кроткое и спокойное, как всегда.
— Он что, просто-напросто негодяй, да?
— Не могу сказать тебе определенно, — ответил Хилери. — Вероятно, нет.
— Но ведь это же ясно, старина, — пробормотал Стивн и, любовно стиснув руку брата, добавил: — Послушай, дружище, я тебе ничем не могу помочь?
— В чем? — спросил Хилери.
Стивн быстро прикинул в уме, какова, собственно, занимаемая им позиция: ведь он чуть не проговорился, что подозревает старшего брата. На тщательно выбритом лице Стивна проступила краска. Слегка нахмурясь, он сказал:
— Ну, конечно, в том нет и слова правды.
— В чем? — снова спросил Хилери.
— В том, что утверждает этот негодяй.
— Да, в том, что он говорит, правды нет, но вот верят ли мне, что в том нет правды, — это вопрос другой.
Стивн задумался над этим обидным ответом. Брат разгадал его тайные мысли — Стивн, не сомневающийся в своих дипломатических способностях, был уязвлен.
— Главное, не терять головы, дружище, — сказал он наконец.
Они проходили по мосту через Серпантайн. По блестевшей внизу воде молодые клерки катали на лодках своих возлюбленных; от весел поднималась зыбь и сверкала на солнце; вдоль берегов лениво плавали утки. Хилери перегнулся через парапет.
— Вот что, Стивн. Судьба этой девушки мне не безразлична. Это такое беспомощное создание… И она, по-видимому, избрала меня себе в защитники. Я не могу оттолкнуть ее, но это и все, понимаешь?
Слова эти подняли в душе Стивна бурю, как если бы брат прямо обвинил его в узости взглядов. Чувствуя, что он должен как-то оправдаться перед ним, Стивн начал:
— Разумеется, старина, я прекрасно понимаю. И, пожалуйста, не думай, что я — лично я — стал бы осуждать тебя, если бы даже ты пожелал зайти как угодно далеко. Зная, с чем тебе приходится мириться дома… Что меня несколько беспокоит, так это вся ситуация в целом.
Изложив свою точку зрения столь исчерпывающе ясно, Стивн почувствовал, что снова перевел разговор в более общий план и реабилитировал себя как человека широких взглядов. Он тоже перегнулся через парапет и стал глядеть на уток. Оба молчали. Затем Хилери сказал:
— Если Бианка откажется устроить девушку на новую квартиру, я сделаю это сам.
Стивн взглянул на брата в изумлении, почти в испуге: Хилери говорил с необычной для него категоричностью.
— Дорогой мой друг, — сказал Стивн. — На твоем месте я бы не стал обращаться к Бианке. Женщины — такой странный народ.
Хилери улыбнулся. Стивн заключил из этого, что к брату вернулось обычное его спокойствие.
— Хочешь знать мое мнение? Тебе, по-моему, следует совершенно от всего отстраниться. Пускай этим займется Сесси.
В глазах Хилери вспыхнула злая ирония.
— Покорно благодарю, — сказал он, — но дело касается только нас одних.
Стивн поспешил ответить:
— Именно это и мешает тебе ясно видеть положение. Хьюз способен причинить весьма крупные неприятности. Нельзя давать ему ни малейшего повода. То есть я хочу сказать… Дарить этой девице платья и тому подобное…
— Вот оно что, — сказал Хилери.
— Ты пойми, дружище, — заторопился Стивн, — я сомневаюсь, что тебе удастся заставить Бианку посмотреть на вещи твоими глазами. Если бы вы… если бы вы были в более близких отношениях, тогда, конечно, дело другое. То есть я хочу сказать, что девушка по-своему очень привлекательна.
Хилери оторвался от созерцания уток, и оба зашагали по направлению к Пороховому складу. Стивн избегал смотреть в лицо брату. Наперекор его воле в нем заговорило уважение к Хилери, основанное, быть может, на разнице в годах, а может, и на ощущении, что Хилери знает его лучше, чем он Хилери. К тому же он чувствовал, что с каждым словом почва под ним не только не становится тверже, но все больше превращается в трясину. Хилери заговорил:
— Ты не доверяешь моей способности действовать?
— Напротив, — ответил Стивн. — Я не хочу, чтобы ты предпринимал какие-либо действия.
Хилери рассмеялся. От этого горького смеха у Стивна защемило сердце.
— Ну-ну, дружище, — сказал он. — Я думаю, друг другу-то мы можем доверять.
Хилери стиснул руку брата.
Тронутый этим жестом, Стивн продолжал:
— Чертовски неприятно, что тебе приходится волноваться из-за такой гнусной истории.
К ним быстро приближался шум автомобиля, вот он перешел в громкий рев, и чей-то голос крикнул:
— Здравствуйте!
Из машины высунулась рука и приветливо помахала им. То промчался «Демайер А-прим» и в нем мистер Пэрси, возвращавшийся в Уимблдон. Впереди автомобиля мчалась небольшая тень, позади него вились клубы гари, затемнявшие дорогу.
— Вот тебе символ, — пробормотал Хилери.
— Что ты хочешь сказать? — спросил Стивн сухо. Слово «символ» ему претило.
— Посередине — машина, мчащаяся к своей цели, впереди нее прыгают тени, вроде нас с тобой, а позади — гарь. Вот тебе все общество в целом: его основная масса, его передовая часть, его отходы.
Стивн ответил не сразу.
— Довольно натянутое сравнение, — заметил он. — Ты хочешь сказать, что Хьюзы и прочие — это экскременты общества?
— Вот именно, — последовал сардонический ответ. — Между ними и нами мистер Пэрси и его машина, и это непреодолимая преграда, Стивн.
— А кому, черт возьми, охота ее преодолевать? Если ты имеешь в виду пресловутое «братство» нашего старика, то я к нему не стремлюсь. — И внезапно добавил: — Знаешь, я считаю, что вся эта история подстроена, это ловушка.
— Ты видишь Пороховой склад? — сказал Хилери. — Так вот то, что ты называешь «ловушкой», скорее напоминает мне именно это. Я не хочу тебя пугать, но, мне кажется, ты, как и наш юный друг Мартин, склонен недооценивать эмоциональные возможности человеческой натуры.
Беспокойство исказило обычную маску на лице Стивна.
— Я не понимаю, — сказал он, запинаясь.
— Люди не машины, даже такие дилетанты, как я, даже такие пропащие, как Хьюз. Мне думается, во всей этой истории можно обнаружить борьбу чувств, если не страстей. Скажу тебе откровенно, то, что я живу холостяком, не прошло для меня безнаказанно. В сущности, я ни за что не ручаюсь. Тебе лучше не вмешиваться, Стивн, вот и все.
Стивн заметил, что тонкие руки брата дрожат, и это встревожило его больше всего остального.
Они пошли дальше по берегу. Опустив глаза, Стивн тихо сказал:
— Как я могу не вмешиваться, если тебе грозят неприятности? Это невозможно.
Он увидел, что его чувство, действительно искреннее, дошло до сердца Хилери. Ему захотелось закрепить это впечатление.
— Ты ведь знаешь, как ты нам всем дорог, — сказал он. — Для Сесси и Тайми будет ужасно, если вы с Бианкой…
Хилери, чуть улыбнувшись, посмотрел ему в лицо, и под этим пытливым взглядом Стивн почувствовал, насколько он ниже, мельче Хилери. Старший брат поймал его на том, что он хотел извлечь выгоду из того впечатления, какое произвела его маленькая вспышка братской любви. Такая проницательность раздосадовала Стивна.
— Быть может, я не имею права давать советы, — сказал он, — но мое мнение таково: тебе следует решительно бросить все это. Девушка не стоит твоих забот. Передай ее попечению общества — ну, как его, того, где миссис Таллентс-Смолпис, — не помню, как оно называется.
Странные звуки, похожие на веселый смех, заставили Стивна поднять голову — неужели Хилери смеется?
— Мартин, — сказал Хилери, — тоже хочет, чтобы дело это рассматривали исключительно с гигиенической точки зрения.
Задетый за живое, Стивн ответил:
— Сделай одолжение, не смешивай меня с этим юным оздоровителем. Я просто думаю, что имеется много такого, чего ты не знаешь об этой девушке и что надо бы разузнать.
— Ну, а затем?
— А затем… затем и действовать соответственно. При этих словах Хилери так явно замкнулся, что
Стивн поспешил сказать:
— Ты, конечно, назовешь это бездушием, но ты же сам знаешь, дружище, ты чрезмерно чувствителен.
Хилери резко остановился.
— Извини, Стивн, здесь мы с тобой распрощаемся, — сказал он. — Я хочу все обдумать.
И, повернув обратно, он сел на скамью, лицом прямо к солнцу.
ГЛАВА XVIII ИДЕАЛЬНАЯ СОБАКА
Хилери долго сидел на солнце, глядя на светлую, прозрачную воду и на множество породистых уток, которые бродили в кустах, высматривая червяков круглыми яркими глазами. Между его скамьей и железной оградой, увенчанной остриями, непрерывно шли люди — самые разнообразные мужчины, женщины, дети. Время от времени одна из уток вдруг останавливалась и бросала критический взгляд на эти создания, будто сравнивая их формы и оперение со своими собственными. «Если бы разведением вашей породы занималась я, — казалось, говорила утка, — я бы сумела добиться более интересных результатов. Худшего сборища, чем эти, в общем, на редкость безобразные утки, я не видела и видеть не желаю». И сделав плечами быстрое, хотя и тяжеловесное движение, она отворачивалась и возвращалась к своим товаркам.
Но утки не могли надолго отвлечь мысли Хилери. Для него, человека, больше знакомого с идеями, чем с фактами, лучше умеющего управлять словами, нежели ходом событий, сложившееся положение становилось нешуточной дилеммой. Он раздумывал над ним с каким-то непонятным ему самому смущением, почти насмешливо. Стивн раздосадовал его до крайности. Как он всегда все мельчит! Хотя, правду сказать, стороннему наблюдателю вся эта история должна казаться в достаточной степени смехотворной. Что бы подумал о ней человек столь здравомыслящий, как мистер Пэрси? Быть может, и в самом деле принять совет Стивна, бросить все это? Но тут Хилери ступал на зыбкую почву чувств.
Отказать в поддержке беззащитной девушке, испугавшись первых же признаков опасности для самого себя, — Хилери это претило. Но уж так ли девушка будет одинока? Разве не имеется, как выразился Стивн, много такого, чего он, Хилери, о ней не знает? Что, если у нее есть другие источники «помощи»? Что, если у нее и в самом деле есть «прошлое»? Но и тут его останавливала собственная щепетильность — нельзя совать нос в чужую личную жизнь.
Ко всему прочему дело еще безнадежно осложнялось семейными неприятностями Хьюзов. Ни один совестливый человек — а какими бы недостатками ни обладал Хилери, упрекнуть его в отсутствии совести было нельзя — не мог игнорировать эту сторону проблемы.
Среди всех этих размышлений бродили и мысли о Бианке. Все-таки она его жена: что бы он ни чувствовал теперь к ней, каковы бы ни были отношения между ними, он не должен ставить ее в фальшивое положение.
Мало сказать, что он не хотел ее обидеть, он хотел оберечь ее и всех остальных от неприятностей и забот. Он сказал Стивну, что принимает в девушке чисто дружеское участие. Но с той ночи, когда он, глядя на залитый лунным светом город, услышал стук фургонов, тянущихся к рынку Ковент-Гарден, им владело странное чувство: будто он лежит в легком жару и прислушивается к отдаленному звучанию музыки — ощущение чувственное, не лишенное приятности.
Прохожие, видевшие, как он сидит так тихо, опершись лицом о ладонь, воображали, несомненно, что он бьется над решением какой-нибудь трудной абстрактной задачи, вынашивает великую идею, чтобы подарить ее затем! человечеству: в Хилери было что-то такое, что заставляло сразу угадывать его причастность к литературе или искусству.
Солнце собралось покинуть вытянувшиеся длинной полосой бледные воды.
На скамью рядом с Хилери села нянька с двумя детьми. И вот тут-то Миранда обнаружила под скамьей то, что искала всю свою жизнь. Оно не пахло, не шевелилось и было таким же светло-серым, как она сама. Шерсти на нем тоже не было заметно. И хвост был такой же, как у нее. Оно не было развязно, оно молчало, оно не проявляло никаких страстей, ни к чему ее не понуждало. Стоя в нескольких дюймах от его головы — ближе, чем она когда-либо по доброй воле подходила к другим собакам, — Миранда вдыхала это отсутствие запаха, удовлетворенно посапывая, наморщив кожу на лбу; в ее поднятых кверху глазах светилась ее маленькая серебристая душа. «Как ты не похожа на всех известных мне собак! Я бы хотела жить вместе с тобой. Разве найти мне еще когда-нибудь собаку, подобную тебе?» «Последняя модель. Стерилизованная ткань. Смотрите белый ярлычок внизу — четыре шиллинга и три пенса». Внезапно Миранда высунула свой изящный серовато-розовый язык и лизнула это существо в нос. Оно качнулось было и снова остановилось. Миранда увидела, что оно на колесиках. Она легла рядом: она знала, что нашла наконец идеальную собаку.
Хилери наблюдал, как его серебристая четвероногая леди лежит под скамьей, любовно охраняя эту идеальную собаку, которая не могла ее обидеть. Она даже дышала чаще обычного, высунув наружу кончик языка.
Но тут позади скамьи Хилери вдруг увидел другую идиллию. К скамье бежала тощая белая собака, спаньель. Она распласталась в траве, и три другие собаки, бежавшие за ней, уселись тут же и не сводили с нее глаз. Это была жалкая, грязная собачонка, как видно, давно бездомная. Язык у нее болтался, она дышала учащенно, ошейника на ней не было. Время от времени она поднимала глаза, и, хотя в них были усталость и отчаяние, они блестели. «Пусть голод, пусть жажда, пусть усталость, и все-таки — это жизнь!» — казалось, говорили они. Три ее спутника, так же тяжело дыша, ждали, когда она соизволит подняться и побежит дальше. Их влажные, полные любви глаза вторили ей: «Это жизнь!»
Идиллическая сценка за скамьей заставляла людей быстро проходить мимо.
Тощая белая собачонка вдруг поднялась и, как маленький загнанный дух, скользнула среди деревьев; и три пса побежали за ней следом.
ГЛАВА XIX БИАНКА
В середине того дня Бианка стояла в своей студии перед картиной, изображающей маленькую натурщицу-девушку с полураскрытыми светло-красными губами, тревожащими светло-голубыми глазами, смотрящими из тени в круг света от уличного фонаря.
Бианка хмурилась, словно в обиде на свое творение, которое оказалось способным убить все остальные ее картины. Что побудило ее написать эту вещь именно так? Что чувствовала она, когда девушка стояла перед ней неподвижно, как бледный цветок в чаше с водой? Не любовь — в изображение этой сумеречной фигуры не было вложено любви. Не ненависть — в стремлении запечатлеть ее смутную мольбу не было ненависти. И, однако, в портрете девушки-тени, застывшей где-то между мраком и мерцанием, угадывался дух, принудивший художницу создать нечто способное тревожить воображение.
Бианка отвернулась и подошла к портрету мужа, написанному десять лет назад. Она смотрела то на одну, то на другую картину взглядом холодным и колючим, как острие кинжала.
В особо сложных человеческих отношениях есть предел, за которым люди не до конца правдиво анализируют свои чувства, — настолько эти чувства сильны. Такова уж была судьба Бианки, что природа с избытком одарила ее качеством, более всех других затемняющим истинные причины людских разногласий. Гордость отдаляла Бианку от мужа до тех пор, пока она не увидела сама, что личная жизнь ее не удалась. Гордость, возмущенная этой неудачей, довела их до полного отчуждения. Гордость заставила ее принять позу человека, заявляющего: «Живи своей жизнью. Я бы сочла себя опозоренной, если бы позволила тебе увидеть, как мне больно оттого, что происходит между нами». Ее гордость скрыла от нее тот факт, что за маской насмешливой снисходительности прячется подлинная женщина, которая цепко держится за то, что считает своим, жаждет любви и уважения. Ее гордость не давала никому вокруг узнать об их семейных неладах. Ее гордость не дала даже Хилери по-настоящему понять, что именно погубило их супружескую жизнь: неукротимое желание быть любимой, управляемое неукротимой гордостью. Сотни раз он безуспешно пытался преодолеть стены, окружающие эту дисгармоничную натуру. С каждой неудачной попыткой чувство его все более увядало, и постепенно и самые корни его любви засохли. Бианка истощила терпение человека, терпеливого сверх меры, насколько можно было судить по его виду и поступкам. За внешним проявлением взаимной предупредительности и внимания — что бы там ни было, но хороший вкус им никогда не изменял — скрывалась год за годом трагедия женщины, которая хочет быть любимой и сама медленно убивает в человеке любовь к себе. Для Хилери, правда, их отношения перестали быть трагедией, любовь к жене давно в нем угасла, от прежнего жара не осталось и следа. Для Бианки же трагедия длилась: в душе этой женщины не угасало ревнивое желание владеть его любовью. Инстинкт иронически подсказывал ей, что будь Хилери не так деликатен, будь он грубее, более способным управлять и повелевать ею, он сломал бы стену, которой она себя окружила. Это рождало в ней тайную обиду на него, чувство, что вина лежит не на ней.
Гордость была уделом Бианки, ее ароматом, ее очарованием! Как тенистый склон холма, окутанный прелестной дымкой заходящего солнца, Бианка, непостижимая и для самой себя, была окутана гордостью. Гордость сопровождала даже ее великодушные порывы и добрые поступки. Бианка предпочитала совершать их втайне и высмеивала свои порывы и свою доброту. Она постоянно высмеивала себя даже за то, что носила платья тех оттенков, которые любил Хилери. Она ни за что не призналась бы, что жаждет нравиться ему.
Стоя между двумя своими произведениями, прижимая к груди мастихин, она немного напоминала итальянского святого, вонзающего себе в сердце кинжал мученичества.
А тот, кто однажды навел мысли ее сестры на Италию, вот уже восемь часов как шагал по улицам, собирая а телегу отбросы Жизни. Меньше всего Хьюз походил сейчас на человека, терзаемого любовью и ненавистью. Сперва он в течение двух часов вел под уздцы лошадь; смуглое лицо его ничего не выражало, на его складной фигуре солдата была одежда, заставившая продавца «Вестминстерской» назвать его «чужаком». Время от времени Хьюз обращался к лошади, произносил несколько малозначащих слов, остальное время молчал. В течение двух последующих часов, идя за повозкой, он подгребал лопатой мусор, и его широкое, квадратное лицо с черными усиками и еще более черными глазами все еще не выдавало бури, кипевшей в его груди. Так провел он весь день. Надо заметить, что мужчины вообще не склонны раскрывать свои душевные переживания на людях, а Хьюза, который с двадцати лет служил родине сперва в качестве солдата, а теперь в более мирной должности приходского мусорщика, жизненные обстоятельства сделали особенно замкнутым. Жизнь одела его в броню безразличия — всегдашнее защитное средство людей, чей хлеб, насущный зависит от умения не слишком дорожить чем бы то ни было. Если бы Хьюз вздумал вести себя согласно своим склонностям, попытался как-то проявить себя, он едва ли смог бы быть рядовым солдатом; и еще менее вероятно, чтобы ему, когда он вернулся из армии с почетной раной, отдали предпочтение перед множеством других кандидатов на место приходского мусорщика. Для такого рода работы, как очистка улиц от ежедневных отбросов Жизни, — должность весьма завидная и, в сущности, одна из немногих, предоставляемых человеку, послужившему родине, — индивидуальность, приятные манеры, пленительный дар «самовыражения» были бы, пожалуй, неуместны.
Его никогда не учили облекать мысли в слова, а с тех пор, как его ранило, он временами ощущал удручающую пустоту в голове. Не удивительно, что о нем судили неправильно, особенно те, кто не имел с ним ничего общего, если не считать одного малопринимаемого в расчет обстоятельства общей принадлежности к человеческому роду. Даллисоны составили о нем суждение столь же неверное, какое выразил о них самих Хьюз, когда «поносил аристократов», о чем Хилери узнал от «Вест-министра». Хьюза можно было бы сравнить с разодранным экраном или разбитым сосудом, в дырки которого проникает свет. Одна кружка пива, с парами которого его раненая голова уже не справлялась, — и он становился «чужаком». К несчастью, он имел обыкновение после работы заглядывать в «Зеленый Рай». А в тот вечер вместо одной кружки Хьюз выпил три и, выбравшись из трактира, испытывал смутное ощущение, что его долг — пойти туда, где девушка, вызвавшая в нем такую необыкновенную страсть, «занималась шашнями». Сознание долга боролось в нем с традиционным солдатским отвращением к доносу. С этим» смешанным чувством он и позвонил у двери дома Хилери и спросил миссис Даллисон. Когда он стоял перед ней, вытянувшись во фронт, опустив черные глаза, сжимая в руке фуражку, лицо его, как всегда, не выражало ничего.
Бианка с любопытством отметила шрам на левой стороне его коротко остриженной черной головы.
То, что собирался сказать Хьюз, выговорить было нелегко.
— Я пришел, чтобы рассказать, чтобы вы знали, — проговорил он наконец упрямо. — Так-то я бы сроду не пришел, мне тут никто не нужен.
Бианка видела, что губы и веки у него дрожат, это не вязалось с его бесстрастностью.
— Моя жена, небось, наговорила на меня, жаловалась, что я ее поколачиваю. Мне наплевать, что она там говорит вам! или другим, у кого она работает. Я только одно скажу: я сроду не трогал ее первым, она всегда сама начинает. Вот поглядите-ка — ее работа! — Засучив рукав, он показал царапину на жилистой татуированной руке. — Только я пришел сюда не для того, чтобы говорить о моей жене, эти наши дела никого не касаются.
Бианка повернулась к своим: картинам.
— Ну так что же? — спросила она. — Ради чего вы пришли? Вы видите, я занята.
Лицо Хьюза стало неузнаваемым. Вся его бесстрастность исчезла, глаза ожили, загорелись, заметали темное пламя. Бианке еще никогда не приходилось встречать человека, в котором бы так бурлила жизнь. Будь это не мужчина, а женщина, Бианка сочла бы подобное проявление чувств неприличным и наглым такое ощущение было у Сесилии, когда она разговаривала с миссис Хьюз. Но проявление сильного темперамента в этом мужчине пленило Бианку, затронуло в ней женское начало. Так весной, когда все только что казалось таким серым, прибитым к земле, свет алых облаков вдруг зажигает кусты и деревья — ветви их будто охватывает пламя. Но в следующее мгновение это ослепительное пламя исчезает, облака утрачивают свою алость, огненный свет не дрожит, не мечется в кустах. Так же мгновенно исчезла страсть с лица Хьюза. Бианка испытала разочарование, ей хотелось, чтобы в ее жизни было побольше таких безудержных чувств. Хьюз украдкой глянул на нее своими черными глазами — когда он их щурил, они становились бархатистыми, словно шмели. Большим пальцем он указал на портрет девушки.
— Это я насчет нее пришел поговорить, — сказал он.
Бианка холодно посмотрела ему в лицо.
— У меня нет ни малейшего желания слушать.
Хьюз огляделся, словно ища чего-нибудь, что помогло бы ему говорить дальше; на глаза ему попался портрет Хилери.
— Я бы на вашем месте поставил их рядом, — сказал он,
Бианка прошла мимо него к двери.
— Или вы, или я, кто-нибудь из нас выйдет отсюда.
В лице у Хьюза не было теперь ни злобы, ни страсти, оно было только несчастным.
— Послушайте, миссис, — начал он, — вы не злитесь, что я пришел. Я это не для того, чтобы досадить вам. У меня есть своя жена, — видит бог, она меня достаточно изводит из-за этой девушки. Честное слово, скоро мне только и останется, что утопиться. Это потому, что он подарил ей новые платья, вот почему я пришел сюда.
Бианка открыла дверь.
— Уходите, прошу вас, — сказала она.
— Я уйду без шума, не беспокойтесь, — пробормотал он и вышел, повесив голову.
Выпустив его через боковую дверь, Бианка снова подошла к картинам. В горле у нее был комок, привычная маска на лице исчезла. Так она стояла долго, не шевелясь, потом отнесла картины на прежние места и крытым ходом направилась к дому. Возле отцовской комнаты она прислушалась, затем тихо повернула ручку двери и вошла.
Мистер Стоун, держа перед собой несколько исписанных листов, диктовал маленькой натурщице, а та, пригнув голову к руке, усердно записывала. Она перестала писать, когда вошла Бианка. Мистер Стоун не прервал работы, он поднял руку и сказал:
— Я перечту последние три страницы. Следите!
Бианка села возле окна.
Голос ее отца, такой тонкий и медлительный, что каждый слог звучал отдельно, был воплощением монотонности.
«Можно об-на-ру-жить некоторые следы того, что в те дни на-ме-ча-лись первые попытки стереть границы между классами…»
Голос звучал ровно, не повышаясь и не понижаясь, словно обладатель его знал, что впереди еще долгий путь, — как гонец, который несет важные вести через равнины, горы и реки.
Мистер Стоун сделал паузу.
— У вас там стоит дальше слово «безумные»? — спросил он.
Маленькая натурщица подняла голову.
— Да, мистер Стоун.
— Вычеркните его.
Он смотрел на деревья за окном; дыхание его было отчетливо слышно. Маленькая натурщица пошевелила онемевшими пальцами. Испытующий, улыбающийся взгляд Бианки не отрывался от девушки, словно она хотела неизгладимо запечатлеть у себя в памяти ее образ. Было что-то пугающее в этом пристальном взгляде, что-то жестокое и в отношении себя и в отношении этой девушки.
— Никак не могу найти нужное слово, — проговорил мистер Стоун. — Пока оставьте пустое место. Продолжаем.«…Ни нежный братский интерес человека к человеку, ни любознательность в отношении явления как такового…»
Голос его тянулся все той же узкой тропой в просторы, замороженные спокойным, извечным присутствием его излюбленной идеи, которая, как золотая луна, далекая и холодная, дивно сияла над тонкой струйкой слов, А девушка все водила по страницам кончиком пера, сверяя текст. Мистер Стоун опять прервал чтение, поглядел на дочь и, словно удивившись тому, что она здесь, спросил:
— Ты хочешь сказать мне что-нибудь, дорогая?
Бианка помотала головой.
— Продолжаем! — сказал мистер Стоун.
Но глаза маленькой натурщицы уже поймали прикованный к ней взгляд.
На лице ее мелькнуло такое выражение, будто она спрашивала: «Что я вам сделала, что вы так на меня смотрите?»
Словно зачарованная, она посматривала украдкой на Бианку, а рука ее машинально отмечала абзацы. Этот молчаливый поединок взглядов все продолжался: улыбающийся взгляд женщины был твердым и жестоким, взгляд девушки — неуверенным и обиженным. Ни та, ни другая не слышали ни слова из того, что читал мистер Стоун. Они отнеслись к этому так, как жизнь всегда относится к философии и как будет относиться к ней до скончания века.
Мистер Стоун опять остановился, он словно взвешивал последние предложения.
— Да, мне кажется, это правильная мысль, — сказал он вполголоса. И вдруг обратился к дочери: — Ты согласна со мной, дорогая?
Он с беспокойством ждал ответа; на его тощей шее, чуть пониже бородки, были ясно видны жидкие седые волоски.
— Да, папа, согласна.
— Я рад, что ты одного со мной мнения. Меня это беспокоило. Продолжаем!
Бианка встала. На щеках ее горели яркие пятна. Она пошла к двери, и маленькая натурщица проводила ее долгим взглядом, раболепным, протестующим и печальным.
ГЛАВА XX МУЖ И ЖЕНА
Только в седьмом часу Хилери подошел наконец к своему дому; немного впереди него бежала Миранда, она даже почти проголодалась. Кусты сирени, еще не расцветшие, источали пряный аромат. Заходящее солнце покрывало их золотистой шелковой сеткой, и дрозд, сидя на низком суку акации, песней призывал вечер. По дорожке шел мистер Стоун, а с ним — маленькая натурщица в своем новом платье. Они, очевидно, отправились на прогулку: на мистере Стоуне была старая черная шляпа с сильным зеленоватым оттенком, и он нес бумажный пакет, из которого на каждом шагу сыпались хлебные крошки.
Девушка густо покраснела. Она опустила голову, она еще не знала, как Хилери отнесется к ее новому наряду. У калитки она вскинула глаза. Его взгляд ответил ей: «Да, ты выглядишь очень мило». И в глазах ее появилось выражение, какое бывает у собак, когда они с обожанием смотрят в лицо хозяину. Хилери, смутившись, повернулся к мистеру Стоуну. Тот стоял очень тихо, видно, ему пришла в голову новая мысль.
— Кажется, я не уделил достаточно внимания вопросу о насилии. Я не знаю, является оно абсолютным злом или только относительным, — проговорил мистер Стоун. — Если в моем присутствии человек мучает кошку, вправе ли я ударить его?
Привыкший к этим неожиданным скачкам мысли, Хилери ответил:
— Не знаю, сэр, вправе ли вы его ударить, но, так или иначе, вы это сделаете.
— Я в том не уверен, — сказал мистер Стоун. — Мы идем кормить птиц.
Маленькая натурщица взяла из его рук бумажный пакет.
— Из него все сыплется, — сказала она.
Уже перейдя дорогу, она обернулась. «Может, и вы с нами пойдете?» говорил ее взгляд.
Но Хилери поспешно вошел в сад и закрыл за собой калитку. Целый час просидел он у себя в кабинете, в обществе Миранды; он бездействовал, погруженный в странное, почти приятное оцепенение. В эти часы он обычно работал над своей книгой, и уж одно то, что праздность не казалась ему тягостной, могло бы его встревожить. Немало мыслей прошло у него в сознании, немало отзвуков того, что он считал навсегда оставленным, — чувств и желаний, которые для человека средних лет обычно всего лишь мумии в> музее памяти. Эти порывы, запрятанные в сердце каждого, воскресли при первом же взмахе крыльев все еще не умершей в нем юности. Как разгорается пламя почти угасшего костра, так в душе Хилери взметнулось и засверкало стремление раскрыть новые тайны, желание еще раз ощутить радость жизни, пока жизнь еще не пошла под уклон.
Его звал не какой-нибудь заурядный маленький дух — его манил розовым пальчиком дух с невидимым ликом, что является к людям, юность которых миновала.
Миранда, обеспокоенная тем, что хозяин сидит так тихо, встала. Обычно в этот час он всегда скреб по бумаге. Сама она редко скребла что-либо, потому что считала это дурным тоном; но сейчас она смутно чувствовала, что ему следовало заниматься именно этим. Она подняла тонкую лапку и коснулась его колена. Не встретив возражения, она осторожно прыгнула к нему на колени и, забыв на этот раз свою скромность, положила лапки на грудь хозяина и облизала ему все лицо.
В тот самый момент, когда Миранда награждала его своими поцелуями, Хилери увидел, что мистер Стоун и маленькая натурщица возвращаются с прогулки. Старик шел очень быстро, держа в руке обломок палки. Лицо у него сильно раскраснелось.
Хилери вышел им навстречу.
— Что случилось, сэр? — спросил он.
— Я ударил его прямо по ногам, — ответил мистер Стоун, — и я не сожалею об этом.
С этими словами он прошел к себе в комнату. Хилери повернулся к маленькой натурщице.
— Это все из-за собачонки. Один там бил ее, и мистер Стоун его ударил. Даже палку сломал. Подошли люди, они нам грозили. — Она взглянула на Хилери. — Я… я так испугалась. Ах, мистер Даллисон, все-таки он немножко чудной, правда?
— Все герои чудаки, — сказал Хилери негромко.
— Он хотел еще раз ударить, даже когда палка у него сломалась. Тут пришел полисмен, и они все разбежались.
— Так оно и должно было быть. Ну, а вы что в это время делали?
Заметив, что она пока еще не произвела большого впечатления, маленькая натурщица опустила глаза.
— Я б не испугалась, если бы со мной были вы.
— Боже мой… мистер Стоун гораздо отважнее меня.
— И вовсе нет, — ответила она упрямо и снова взглянула на него.
— Ну, до свиданья, — сказал Хилери поспешно. — Вам пора бежать домой…
В тот же вечер, когда он с женой возвращался в экипаже с длинного скучного обеда, Хилери сказал:
— Мне нужно поговорить с тобой.
Из другого угла кэба последовал иронический ответ:
— Да?
— Возникли кое-какие неприятности, касающиеся маленькой натурщицы.
— В самом деле?
— Этот человек, Хьюз, увлекся ею. Он, кажется, даже грозился прийти тебе рассказать.
— О чем?
— Обо мне. — И что же он собирается рассказать о тебе?
— Не знаю, какие-нибудь вульгарные сплетни. Последовало молчание, и в темноте кэба Хилери облизал сухие губы.
Бианка заговорила:
— Могу я спросить, откуда ты узнал об этом?
— Мне сказала Сесилия.
Странный звук, вроде приглушенного смеха, достиг ушей Хилери.
— Мне, право, жаль, что так получилось, — сказал он вполголоса.
— Очень мило с твоей стороны, что ты счел нужным сообщить мне об этом, хотя мы и живем… каждый своей жизнью. Что заставило тебя?
— Я решил, что так будет правильно.
— И, конечно, еще потому, что этот человек и в самом деле мог прийти ко мне!
— Тебе не следовало бы говорить это,
— Не всегда говоришь то, что следует.
— Я этой девочке подарил кое-что из одежды, в которой она сильно нуждалась. И, насколько мне известно, это все, что я сделал.
— Ну, разумеется!
Это великолепное «ну, разумеется!» подействовало на него, как удар хлыста. Он сказал сухо:
— Что ты хочешь, чтобы я теперь делал?
— Я?
Даже порыв резкого восточного ветра, от которого сворачиваются и дрожат молодые листки, а язычки горящего газа вспыхивают и гаснут в рожках, не мог бы так мгновенно задуть огонек дружеского чувства. Хилери тут же вспомнил почти умоляющие слова Стивна: «На твоем месте я бы не стал обращаться к Бианке. Женщины — такой странный народ!»
Хилери повернулся и взглянул на жену. Ее темную голову окутывал синий газовый шарф. Она сидела в углу, как только можно дальше от мужа, и усмехалась. На мгновение у Хилери возникло ощущение, что он задыхается, всегда будет задыхаться в бесконечных складках этой синей газовой ткани, что он обречен всю жизнь быть спутником женщины, убившей его любовь к ней.
— Поступай, как тебе угодно, разумеется.
Хилери овладело желание рассмеяться.
«Что ты хочешь, чтобы я теперь делал?» «Поступай, как тебе угодно, разумеется». Это ли не предел корректности и терпимости?
— Послушай, Бианка, — проговорил он с усилием. — Жена его ревнует. Мы поместили девушку к ним в дом, нам же следует и забрать ее оттуда.
Бианка ответила не сразу.
— Девушка с самого начала была твоей собственностью, делай с ней, что хочешь. Я не вмешиваюсь.
— Я не привык рассматривать людей как свою собственность.
— Можно не сообщать мне об этом, я знаю тебя двадцать лет.
Иногда даже самые кроткие и выдержанные люди мысленно хлопают дверью.
— Ну что ж, отлично. Я сказал тебе все; можешь принимать Хьюза, когда он явится, или не принимать, как тебе угодно.
— Я уже принимала его.
Хилери усмехнулся.
— Ну и что же, он рассказал тебе много ужасного?
— Он ничего мне не рассказывал.
— То есть?
Бианка наклонилась вперед и откинула на плечи синий шарф, как будто и она тоже задыхалась. Глаза ее на раскрасневшемся лице горели, как звезды, губы дрожали.
— Разве это на меня похоже, чтобы я стала выслушивать его? Прошу тебя, прекратим разговор, с меня достаточно этих людей!
Хилери поклонился. Быстро катившийся кэб сделал последний поворот, сокращая путь к дому. Узкая улочка была полна народу; все толпились вокруг ручных тележек и освещенных киосков. В воздухе густо плавали грубая речь и смех вперемешку с запахами керосина и жареной рыбы. В каждой проходящей паре Хилери видел еще одну супружескую чету — Хьюзов, возвращающихся домой к семейному счастью в комнате над головой у маленькой натурщицы.
«С меня достаточно этих людей!»
В ту же ночь, уже после часу, Хилери проснулся, услышав, как кто-то открывает засовы парадной двери. Он встал, торопливо подошел к окну и выглянул. Сперва он не мог ничего различить. Безлунная ночь спустилась в сад, как черная птица в свое гнездо. Слышались только легкие вздохи кустов сирени. Затем, как раз под своим окном, на ступенях у парадной двери, он смутно различил человеческую фигуру.
— Кто там? — позвал он.
Человек не шелохнулся.
— Кто это? — снова спросил Хилери.
Человек поднял лицо, и по белевшей в темноте бородке Хилери узнал мистера Стоуна.
— Что случилось, сэр? Могу я чем-нибудь помочь?
— Нет, — ответил мистер Стоун. — Я слушаю ветер. Сегодня он посетил всех.
И, подняв руку, он указал в темноту.
ГЛАВА XXI ДЕНЬ ОТДЫХА
В доме Сесилии на Олд-сквер всюду, от чердака до подвала, чувствовалась та атмосфера, какую приносит воскресный день в дома, чьи обитатели не нуждаются ни в религии, ни в отдыхе.
Сесилия и Стивн не бывали в церкви с того времени, когда крестили Тайми, и не предполагали снова попасть туда до дня ее свадьбы; посещение церкви даже в столь редких случаях они считали нарушением собственных принципов. Но, щадя чувства других, они однажды принесли эту жертву и готовы были, когда придет время, принести ее еще раз. В их семье прилагались все усилия к тому, чтобы воскресенье ничем не отличалось от будней, однако это удавалось им лишь отчасти. Дело в том, что при всей решимости Сесилии ничем не отмечать праздник, за воскресным завтраком неизменно появлялся йоркширский пудинг и ростбиф, невзирая на то, что мистер Стоун, приходивший к ним по воскресеньям, если вспоминал, что это воскресенье, не потреблял мяса высших млекопитающих. Каждый раз при этом Сесилия, которая по издавна заведенному порядку в воскресные дни сама раздавала порции, смотрела на мясо хмурясь. Нет, со следующей недели она это прекратит. Но приходила следующая неделя, и вот он снова на столе, этот кусок говядины, цветом своим почему-то неприятно напоминающий кучерские физиономии. И она, сама себе удивляясь, с аппетитом принималась за ростбиф. Что-то очень древнее и глубоко в ней заложенное, какой-то зверский, вульгарный аппетит, унаследованный, несомненно, от судьи Карфэкса, каждую неделю и именно в этот час брал над ней верх. Предложив Тайми вторую порцию, от чего та никогда не отказывалась, Сесилия, ненавидевшая разрезать мясо, глядела поверх этого ужасного оковалка на стеклянную вазу, купленную ею в Венеции, и на нарциссы, стоящие в вазе прямо, будто без всякой опоры. Если бы не этот кусок говядины, запах которой стоял в доме с самого утра, а тяжесть чувствовалась в желудке до самого вечера, она бы и не вспомнила, что сегодня воскресенье. И тут она отрезала себе еще ломтик.
Если бы кто-нибудь сказал Сесилии, что в ее жилах все еще течет пуританская кровь, она бы смутилась и стала решительно возражать; и, однако, соблюдение праздничных традиций, безусловно, подтверждало этот любопытный факт. По воскресеньям она трудилась больше обычного. Утром она непременно «разделывалась» со своей корреспонденцией; за завтраком разрезала мясо, после завтрака «разделывалась» с начатым романом или книгой по социальному вопросу; затем ехала на концерт, по пути оттуда «разделывалась» с каким-нибудь необходимым визитом, и в первое воскресенье каждого месяца оставалась дома — невыносимая скучища! — чтобы «разделаться» со знакомыми, приходившими в гости. Вечером она шла смотреть одну из тех пьес, которые различные общества ставят для лиц, вынужденных, подобно Сесилии, отмечать воскресенье против своей воли.
В это «первое воскресенье», обойдя гостиную, протянувшуюся во всю глубину дома, и выглянув в широкие низкие окна в свинцовых переплетах — и в те, что выходили на улицу, и в те, что выходили во двор, — Сесилия взялась за новое произведение мистера Бэлидайса. Она сидела, прижимая разрезальный нож к чуть впалой раскрасневшейся щеке; тонкое кружево и дорогая старинная брошь плотно прилегали к ее шее. Сесилия листала книгу мистера Бэлидайса, а Тайми в ярко-голубом платье сидела напротив и листала книгу Дарвина о земляных червях.
Сесилия поглядывала на свою «дочурку», которая внешне была намного солиднее ее самой, и на лице ее было очень нежное, чуть удивленное выражение.
«Мой детеныш стал красивым созданием, — говорило оно. — Странно, что это крупное существо — мое дитя».
В сквере на площади было все сразу: солнце, ливень, деревья в цвету. Наступало то время года, когда все живое производило на свет себе подобных. Повсюду детеныши — мягкие, милые, неуклюжие. Сесилия ощущала все это сердцем. И ощущение это придавало глубину ее живым, ясным глазам. Какое тайное удовлетворение испытывала она оттого, что однажды позволила себе зайти так далеко, что родила ребенка! Какое странное, смутное волнение охватывало ее весной — чуть ли не желание родить второго! Вот такую же размягченность можно заметить в глазах степенной кобылы, когда она следит за первыми самостоятельными действиями своего жеребенка. «Мне надо привыкнуть к этому, — как будто говорит она. — Конечно, мне недостает того маленького существа, хотя я, бывало, и грозила лягнуть его копытом, чтобы показать, что я не стерплю никаких дерзостей от подобного малыша. И вот малыш уже уходит! Ну что ж!»
Вспомнив, однако, что она сидит здесь затем, чтобы «разделаться» с мистером Бэлидайсом, потому что было совершенно необходимо следить за всем, что он пишет, Сесилия опустила глаза на страницу, и мгновенно перед ней вместо тучных пастбищ мистера Бэлидайса, где женской душе можно пастись сколько угодно, предстало, увы, нечто иное — образ маленькой натурщицы. Сесилия не вспоминала о ней по меньше мере целый час: с того момента, когда Стивн передал ей свой разговор с Хилери, она только и делала, что думала, правда, не столько о самой девушке, сколько обо всем том, что было с нею связано; она устала от этих мыслей. В том, что сказал Хилери, стыдливая и робкая душа Сесилии почуяла что-то зловещее, совсем на него не похожее. Неужели между ним и Бианкой действительно произойдет полный разрыв или, еще хуже того, безобразный скандал? Сесилия, знавшая сестру, быть может, лучше, чем кто бы то ни было, со школьных дней помнила, как бушевала Бианка, когда считала, что ее обидели, помнила и наступавшие затем! длительные полосы мрачной задумчивости. Как ни старалась Сесилия убедить себя в том, что злосчастной истории с маленькой натурщицей придают слишком много значения, сейчас все это казалось ей более грозным, чем когда-либо. Это уже не зажженный фитиль, это горящая спичка возле поезда, груженного порохом. Маленькая натурщица, дитя народа, явившаяся неизвестно откуда… Господь ведает, какую роль предназначено сыграть этому юному, не такому уж красивому и даже неумному созданию, весь шарм которого заключен в странной, трогательной наивности! Быть может, то перст судьбы? Сесилия сидела неподвижно, вглядываясь в образ, так внезапно возникший перед нею: у этого жеребенка нет мудрой, степенной матери, некому приглядывать за ним, смотреть на него с тайным обожанием. Никто не оборачивается на его тоненький голосок, никто не следит озабоченно, как это крохотное существо качается на тонких дрожащих ножках, засыпая под жарким солнцем; никто не настораживает уши, не бьет копытом, когда к малышу приближается посторонний. Все эти мысли мелькнули у Сесилии и исчезли, слишком далекие и смутные, чтобы удержаться. Перевернув страницу, которую она так и не прочла, она испустила вздох. Тайми тоже вздохнула.
— Эти червяки безумно интересные, — сказала Тайми. — У нас сегодня будет кто-нибудь?
— Миссис Таллентс-Смолпис собиралась привести одного молодого человека, некоего синьора Поцци — Эгреджио Поцци, или что-то в этом роде. Она утверждает, что это пианист с большим будущим.
Лицо Сесилии приняло чуть насмешливое выражение. Что-то было у нее в крови — унаследованное, разумеется, от Карфэксов, что всегда тянуло ее засмеяться, когда при ней называли такие имена и упоминали о таких наклонностях.
Тайми подхватила свою книгу.
— Отлично, я отправляюсь к себе наверх, — заявила она. — Если будет что-нибудь интересное, можешь послать за мной.
Сладко потянувшись, она не торопясь повернулась в луче солнца, будто хотела в нем выкупаться. Затем с медленным, неслышным зевком вскинула подбородок так, что солнце залило ей все лицо. Ресницы ее легли на уже чуть загорелые щеки, губы полураскрылись, по всему телу пробежала дрожь. Каштановые волосы заблестели от поцелуев солнца.
«Будь та девушка вроде нее, я бы еще могла понять», — подумала Сесилия.
— О боже мой! — сказала вдруг Тайми. — Вот они уже идут.
Она помчалась к двери.
— Тайми, дорогая, — сказала ей Сесилия вполголоса, — уж если ты непременно хочешь уйти, передай, пожалуйста, папе, чтобы он зашел сюда.
Через минуту в комнате появилась миссис Таллентс-Смолпис, а за ней молодой человек с интересным бледным лицом и темными, коротко остриженными волосами.
Уделим минуту внимания не такому уж редкому случаю, когда юноше выпадает на долю мать-итальянка и отец по фамилии Поттс, пожелавший дать сыну имя Уильям). Будь юноша из «низших классов», он мог бы безнаказанно вертеть шарманку и при этом зваться «Биллом»; но, поскольку он происходил из класса буржуазии и с четырех лет играл Шопена, перед друзьями его встала немаловажная проблема. Небеса вмешались, дабы разрешить ее, когда он был еще на пороге своей карьеры и только-только занес ногу, чтобы выйти на арену гладиаторов музыкального Лондона, где все уже приготовились опустить большой палец, вынося приговор отечественному Поттсу. Юноша получил письмо из тех краев, где родилась его мать. Письмо было адресовано «Эгреджио Синьору Поцци» [17]. Он был спасен. Потребовалось лишь поменять местами первые два слова, заменить два «т» двумя «ц» и сменить «с» на «и». Теперь весь Лондон знал, что он новое светило.
Это был скромный, воспитанный молодой человек и в тот момент совершенная находка для миссис Таллентс-Смолпис, которая только тогда и была вполне счастлива, когда вела на веревочке какого-нибудь гения.
Сесилия занимала сразу обоих гостей с присущей ей полусочувствующей-полунасмешливой манерой, будто сомневаясь, действительно ли они рады видеть ее, а она их, как вдруг услышала пугающее имя:
— Мистер Пэрси!
«О боже!» — воскликнула она мысленно.
Мистер Пэрси — за окном урчал его «Демайер А-прим» — подошел к хозяйке с обычной для него простотой и непринужденностью.
— Я решил дать немного пробежаться моему Демайеру, — сказал он. — Как поживает ваша сестра? — Заметив миссис Таллентс-Смолпис, он добавил: Здравствуйте! Мы с вами уже встречались.
— Да-да, — ответила миссис Таллентс-Смолпис, у которой засверкали глазки. — Мы с вами беседовали о неимущих классах, помните?
Мистер Пэрси, человек чувствительный, если удавалось пробить его кожу, бросил на миссис Таллентс-Смолпис подозрительный взгляд, говоривший: «Не по душе мне эта дама. Что-то не очень нравятся мне ее улыбочки».
— Как же, как же, — сказал он. — Вы еще мне о них рассказывали.
— О мистер Пэрси, вы слышали о них и до меня! Помните, вы тогда так и сказали.
Лицо мистера Пэрси передернулось, отчего стало казаться, будто оно состоит из одних челюстей. Этим движением был невольно продемонстрирован довольно устрашающий характер. Так иногда бульдоги, эти милые добродушные животные, неожиданно обнаруживают свою бульдожью хватку.
— Тема, признаться, унылая, — сказал он резко.
При этих словах Сесилия встрепенулась. Их произнес здоровый человек, который смотрит на коробочку с пилюлями и не собирается открывать ее. Почему она и Стивн не могут так же оставить коробочку закрытой?
В этот момент, к величайшему ее удивлению, вошел Стивн. Она посылала за ним, это правда, но никак не рассчитывала, что он придет.
Приход его и в самом деле нуждается в объяснении.
Чувствуя себя немного «не в форме», как он выразился, Стивн не поехал в Ричмонд играть в гольф. Вместо этого он провел день в обществе своей трубки и коллекции древних монет — лучшей коллекции не было ни у кого, с кем ему приходилось встречаться. Мысли его чаще, чем ему того хотелось, уходили в сторону от древних монет — к Хилери и той девушке. С самого начала Стивн считал, что эта задача по плечу скорее ему, чем бедняге Хилери. Поэтому, когда Тайми просунула голову в дверь его кабинета и сказала: «Папа, миссис Таллентс-Смолпис!», — он сперва было подумал: «Ох, надоедная особа…», — но тут же решил: «А впрочем, пойду. Посмотрим, нельзя ли извлечь из нее что-нибудь полезное».
Чтобы понять отношение Стивна к женщине, принимающей столь деятельное участие в различных общественных начинаниях, следует вспомнить одно обстоятельство: принадлежа к многочисленному разряду людей, слишком, к несчастью, культурных, чтобы, подобно мистеру Пэрси, просто отмахнуться от всех «унылых» тем или отрицать необходимость начинаний, ставящих своей целью сделать эти темы не столь унылыми, он все же не участвовал ни в каком из этих начинаний из страха, что это может показаться неуместным. Кроме того, он органически не доверял ничему слишком женственному, а миссис Таллентс-Смолпис была, несомненно, весьма женственна. Ее достоинство заключалось, по его мнению, в приверженности к Обществам. Пока человечество действовало через посредство Обществ, Стивн, знавший силу правил и протоколов, не опасался, что дело пойдет слишком быстро.
Он подсел к миссис Таллентс-Смолпис и навел разговор на ее любимое детище — «Огонек надежды для девушек в затруднительном положении».
Испытующе глядя ему в лицо своими черными глазками, так похожими на пчелок, собирающих мед со всех цветов без разбора, миссис Таллентс-Смолпис сказала:
— Почему бы вашей жене тоже не включиться в нашу работу?
Вопрос этот был, естественно, и неожиданным и неприятным для Стивна: меньше всего ему хотелось, чтобы его жена увлеклась какими-то там социальными начинаниями. Но он не растерялся.
— Ну, знаете, не у всех есть талант к таким делам. Через всю комнату послышался голос мистера Пэрси:
— Скажите мне ради бога, как это вам удается раскапывать всякие их секреты?
Миссис Таллентс-Смолпис, всегда готовая посмеяться, так и залилась смехом.
— О, какое прелестное выражение, мистер Пэрси! Право, нам! надо использовать его в нашем отчете. Благодарю вас!
Мистер Пэрси поклонился.
— Не стоит благодарности.
Миссис Таллентс-Смолпис снова повернулась к Стивну.
— У нас есть специально обученные люди, которым поручается вести опрос. Вот преимущество обществ, подобных нашему, — нет неприятной необходимости в личном общении. Бывают такие истории, что можно просто… Работа у нас очень тонкая.
— А не бывает так, — спросил мистер Пэрси, — что вы принимаете какую-нибудь дрянь за что-то порядочное, или, вернее сказать, какая-нибудь дрянь принимает вас за дураков? Ха-ха-ха!
Глазки миссис Таллентс-Смолпис с удовольствием обежали фигуру мистера Пэрси.
— Это случается нечасто, — ответила она и подчеркнуто повернулась опять к Стивну. — А что, у вас есть на примете какая-нибудь девушка, мистер Даллисон, судьба которой вас интересует?
Стивн посоветовался с Сесилией с помощью одного из тех быстрых мужских взглядов, что могут быть почти незаметны; миссис Таллентс-Смолпис перехватила этот взгляд, не подняв глаз. Перехватить ответный взгляд Сесилии было не так просто, но миссис Таллентс-Смолпис поймала и его, и даже прежде, чем он попал по адресу. Чуть приподняв левую бровь и слегка сдвинув вправо нижнюю губу, Сесилия сказала этим: «Может, лучше подождать еще немного?» Миссис Таллентс-Смолпис каким-то чутьем поняла, что оба имеют в виду маленькую натурщицу. И вспомнила про любопытный эпизод в омнибусе, когда Хилари, этот интересный мужчина, вдруг так поспешно вышел.
Что миссис Таллентс-Смолпис может вознегодовать, этой опасности не было. Люди, среди которых она вращалась, не занимались теперь сплетнями и, более того, относились с симпатией к подобного рода делам. К тому же она была слишком добродушна, слишком! любила жизнь, чтобы мешать чьей бы то ни было любви к жизни. Но все-таки это было забавно…
— Да, я хотела вас спросить, — сказала она. — Как насчет той маленькой натурщицы?
— Это вы о той девице, которую я тогда видел? — вмешался мистер Пэрси, проявляя обычную свою догадливость.
Стивн одарил его тем взглядом, каким он обычно замораживал кровь в жилах свидетелей на суде.
«Этот тип просто невозможен», — подумал он.
Черные пчелки вылетели из-под пряди темных волос, причесанных в стиле раннего итальянского Возрождения, и спокойно собирали мед с лица Стивна.
— Мне она показалась очень подозрительной, — проговорила миссис Таллентс-Смолпис.
— Да, да, — пробормотал Стивн, — быть может, есть опасность…
И он сердито посмотрел на Сесилию.
Не прерывая беседы с мистером Пэрси и синьором Эгреджио, Сесилия чуть подняла левую бровь. Миссис Таллентс-Смолпис решила, что это значит: «Говори откровенно, но осторожно», — Стивн же истолковал этот сигнал по-другому: «Ну, что ты на меня, черт возьми, так смотришь?» Он справедливо счел себя задетым и потому сказал резко:
— Как бы вы отнеслись к подобному случаю? Лицо миссис Таллентс-Смолпис озарилось совершенно очаровательной улыбкой, и она спросила тихо:
— К какому случаю?
Глазки ее полетели к Тайми, которая, незаметно войдя в комнату, что-то шептала матери.
Сесилия встала.
— Вы ведь знакомы с моей дочерью? — сказала она гостям. — Ради бога, извините, я должна на одну минуту покинуть вас.
Она скользнула к двери и на ходу оглянулась. Это была одна из тех сцен, при которых отраднее всего не присутствовать.
Миссис Таллентс-Смолпис продолжала улыбаться. Стивн хмуро уставился на носки своих штиблет; мистер Пэрси не сводил восхищенного взгляда с Тайми, а Тайми, сидя очень прямо, спокойно разглядывала несчастного Эгреджио Поцци, который никак не мог решиться начать разговор.
Сесилия, выйдя из гостиной, секунду стояла тихо, чтобы успокоить нервы. Тайми сказала ей, что пришел Хилери, что он ждет в столовой и хочет поговорить именно с нею.
Как у большинства женщин ее круга и воспитания, такие качества, как сдержанность, деликатность и такт, проявлялись у Сесилии особенно ярко именно в подобных ситуациях. Не в пример Стивну, который сразу показал, что у него есть что-то на уме, она, здороваясь с Хилери, выказала ему радушие, дружелюбие и сердечность ровно в той дозе, какую сама давно установила как подобающую в отношении к деверю. Ее любовь к Хилери, если не вполне сестринская, была очень близка к тому. Словами она могла бы выразить ее так: «Между нами существует понимание — в той мере, какую допускают приличия и условности. Мы даже сочувствуем один другому, зная, с какими трудностями каждый из нас сталкивается, ты — женившись на моей сестре, а я — выйдя замуж за твоего брата. Самое худшее мы уже знаем. И мы охотно встречаемся, потому что между нами стоят преграды, и это почти пикантно».
Подав ему свою мягкую ручку, она тут же начала болтать о вещах, меньше всего занимавших ее мысли. Она видела, что ей удалось ввести Хилери в заблуждение, и радовалась этому новому доказательству своего дипломатического таланта. Но у нее сразу дрогнули нервы, когда он сказал:
— Я хотел бы поговорить с тобой, Сесси. Ты, наверное, знаешь, что вчера у меня со Стивном был разговор.
Сесилия кивнула.
— Я поговорил с Бианкой.
— Да? — уронила Сесилия. Ей ужасно хотелось узнать, что же сказала Бианка, но она не осмеливалась спросить, потому что на Хилери была его броня — отчужденное, насмешливое выражение, которое всегда появлялось на его лице, если начинали говорить о том, что его больно задевало.
Сесилия ждала.
— Все это мне отвратительно, — сказал он, — но я должен что-то сделать для этой девочки. Не могу же я так вот оставить ее в беде.
Сесилию вдруг осенило.
— Послушай, Хилери, — начала она мягко, — у меня в гостиной сидит миссис Таллентс-Смолпис. Они со Стивном как раз только что разговаривали об этой девушке. Быть может, ты зайдешь, и вы спокойно все с ней уладите?
Несколько секунд Хилери молча смотрел на свояченицу, затем сказал:
— Нет, спасибо. Всему есть мера. Я сам обо всем позабочусь.
С дрожью в голосе Сесилия спросила:
— Но, Хилери… что ты хочешь сказать?
— Я положу этому конец.
Сесилии потребовалась вся ее выдержка, чтобы не дать ему заметить, в каком она ужасе. Положить конец чему? Что он имеет в виду — что они с Бианкой собираются разойтись?
— Я не позволю распускать пошлые сплетни об этой несчастной девушке. Я сам сниму для нее комнату.
Сесилия вздохнула с облегчением.
— Может быть, и мне пойти с тобой?
— Очень мило с твоей стороны, — ответил Хилери сухо. — Как видно, мои действия вызывают подозрение.
Сесилия вспыхнула.
— Ну что ты; это же глупо! Но если я буду с тобой, тогда уж никто ничего не подумает. Скажи, Хилери, тебе не кажется, что если она будет продолжать ходить к отцу…
— Я скажу ей, чтобы она больше не ходила.
Сердце Сесилии дрогнуло дважды: один раз от удовольствия, другой раз от жалости.
— Тебе это будет так трудно! — сказала она. — Я ведь знаю, как ты ненавидишь такие вещи.
Хилери кивнул.
— Но боюсь, что это единственный выход, — продолжала Сесилия поспешно. — И, конечно, отцу говорить об этом незачем, пусть считает, что ей просто надоело у него работать.
Хилери снова кивнул.
— Его это очень удивит, — проговорила Сесилия задумчиво. — Да… А тебе не кажется, что если ты ее заберешь оттуда, все эти люди только еще больше дадут волю языкам?
Хилери пожал плечами.
— Тот человек может прийти в ярость, — добавила Сесилия.
— Безусловно.
— Но, с другой стороны, если ты после этого не будешь с ней видеться, у них не останется… не останется никаких оснований для сплетен.
— Я не буду больше с ней видеться, если сумею избежать этого.
Сесилия взглянула на него.
— Это очень мило с твоей стороны, Хилери.
— Что мило с моей стороны? — каменным голосом спросил Хилери.
— Ну то, что ты берешь на себя все хлопоты. Ты уверен, что тебе вообще следует вмешиваться? — Взглянув ему в лицо, она торопливо добавила: — Да, да, конечно, так будет лучше всего. Пойдем сейчас же. Ах да, там ведь в гостиной сидят… Будь добр, подожди меня десять минут.
Бегом поднимаясь к себе в комнату, чтобы надеть шляпу, Сесилия думала, почему это у нее всегда возникает желание утешить Хилери. Стивн никогда не вызывал в ней такого чувства.
Плохо представляя себе, куда им, собственно, идти, они пошли по направлению к Бэйсуотер. Самое главное, что требовалось, — это поселить маленькую натурщицу подальше от Хаунд-стрит, по ту сторону Хайд-парка.
Дойдя до конца Брод-Уок, они инстинктивно стали удаляться от всяких признаков зелени. На длинной, унылой, мрачно-респектабельной улице они нашли то, что искали меблированную комнату, совмещающую в себе гостиную и спальню; объявление о ней было наклеено на стекле окна. Дверь им открыла хозяйка, высокая, узкоплечая женщина с западным акцентом и скрытой сердечностью, едва пробивающейся сквозь жесткую оболочку. Они вели с ней переговоры в передней, вдыхая запах линолеума с пестрым узором, которым был застлан пол. Отсюда была видна лестница, она круто поднималась вверх мимо стен, оклеенных глянцевитыми желтыми обоями в мелкую красную клеточку. На стене висел календарь с цветочным орнаментом до того аляповатого вида, что никто бы не соблазнился его выкрасть. Под ним стояла подставка для зонтов, но зонтов в ней не было. Слабо освещенный коридорчик вел мимо двух плотно закрытых дверей, выкрашенных в ржавый цвет, к двум другим, полуоткрытым дверям с мутными стеклами в панелях. На улице, откуда они поднялись сюда по каменным ступеням, начался ливень со снегом. Хилери закрыл дверь, но, холодное дыхание ливня уже вошло в угрюмый тесный дом.
— Вот помещение, мэм, — оказала хозяйка, открывая первую из дверей цвета ржавчины. Комната, оклеенная сбоями с узором из голубых роз на желтом фоне, была отделена от соседней двойной дверью. — Иногда я сдаю обе комнаты сразу, но сейчас вторая комната занята, там живет один молодой человек, служащий в Сити. Вот почему я могу сдать вам эту комнату так дешево.
Сесилия взглянула на Хилери.
— Право, мне кажется, едва ли…
Хозяйка быстро повернула ручки двойной двери, показывая, что дверь не открывается.
— Ключ у меня, — сказала она. — И с обеих сторон есть еще болты.
Сесилия, успокоившись, обошла комнату — насколько это было возможно, потому что она была вся заставлена мебелью, — и наморщила нос точно так, как это сделала Тайми, когда рассказывала о Хаунд-стрит. Случайно взгляд ее упал на Хилери. Он стоял, прислонившись к двери. На лице его было странное, горькое выражение, какое должно быть у человека, глядящего на лик самой Уродливости и чувствующего, что она не только вне его, но и в нем самом, как некий вездесущий дух; это было выражение лица человека, который полагал, что поступает по-рыцарски, а оказалось, что это вовсе не так; или полководца, отдающего приказ, которого сам он не выполнил бы.
Сесилия сказала торопливо:
— Все очень мило и чисто. Я думаю, вполне подойдет. Вы ведь сказали, что плата — семь шиллингов в неделю, да? Мы берем комнату — пока не меньше, чем на две недели.
На лице хозяйки — угрюмом, с голодными глазами, немного смягченными терпением, — появился первый проблеск улыбки.
— Когда девушка переедет? — спросила она.
— Как ты думаешь, Хилери, когда?
— Не знаю, — пробормотал он. — Чем скорее, тем лучше, раз уж это необходимо. Завтра или послезавтра.
И, глянув на кровать, застеленную дешевым желтокрасным вязаным покрывалом с бахромой, он вышел на улицу. Ливень прекратился, но дом выходил фасадом на север, и солнце его не освещало.
ГЛАВА XXII ХИЛЕРИ ДЕЙСТВУЕТ
Как мухи, застрявшие в неосязаемых, дымчатых нитях паутины, люди барахтаются в паутине собственных характеров-то дернутся в сторону, то сделают жалкую попытку рвануться вперед, — долго не сдаются, но затем все же стихают. Опутанные паутиной, они родятся, опутанные паутиной, умирают, до конца ведя борьбу в меру своих сил. Бороться в надежде получить свободу — их радость, умереть, не зная, что они побеждены, — их награда. И самое замечательное при этом, что жизнь для каждого придумывает особые трудности, наиболее соответствующие его натуре. То, что фанатику или грубому, решительному человеку кажется простейшей задачкой, то для человека тонкого и мыслящего — неразрешимая проблема.
Вот так было и с Хилери. С рассвета и до заката и позже, при свете луны, дух его бился, задыхаясь в особой, специально для него сотканной паутине. Личные склонности и жизненные обстоятельства, не вынуждавшие Хилери близко сталкиваться с людьми, избавили его от необходимости давать или выполнять приказания. Он почти утратил эту способность. Жизнь представлялась ему картиной с расплывчатыми контурами, где все сливалось в одно, без резкой светотени. Уже многие годы на его пути не встречалось ничего такого, что требовало бы от него решительного «да» или «нет». Кроме того, он был глубоко убежден, что всегда надо ставить себя на место другого, — он считал это и долгом и радостью. Говоря отвлеченно, теперь мало оставалось «мест», где бы он не чувствовал себя как дома.
Правда, поставив себя на место маленькой натурщицы, он не ощутил особой радости. С должной скидкой на тот элемент чувства, который мужчины, естественно, привносят в свою оценку жизни женщин, можно сказать, что его представление о «месте» маленькой натурщицы было не так уж далеко от истины.
Она ведь совсем девочка, ей всего двадцать лет; выросла в деревне — не светская девушка, но и не фабричная работница… Без дома, без родных, если верить ее словам, во всяком случае, без таких родных, которые хотели бы ей помочь, и, по-видимому, без всяких друзей. Беспомощная по натуре, да еще с профессией, требующей особой настороженности… И эту девушку он собирается снова бросить на произвол судьбы, перерезав ту единственную ниточку, которая привязывает ее к чему-то. Ведь это все равно, что выкопать едва пустивший корни кустик роз, посаженный своими руками хотя и не в очень защищенном, но все же надежном месте, и снова пересадить туда, где его будут трепать все ветры на свете. Такой грубый и, на взгляд Хилери, бесчеловечный поступок был чужд его натуре. И ко всему еще примешивалась легкая лихорадка — отдаленная музыка, которую он, не переставая, слышал с той ночи, когда фургоны тянулись к Ковент-Гардену… Вот почему в понедельник он ждал прихода девушки чуть не с отчаянием, расхаживая взад и вперед по кабинету, где стены были белые, а мебель — цвета табачного листа и такого же цвета книги в заказанных им самим переплетах из оленьей кожи; где не было цветов и в окна не попадало солнечного света, но зато повсюду лежало множество листов бумаги, — в комнате, на веки вечные покинутой юностью, комнате пожилого человека.
Он попросил девушку зайти к нему, решив выложить ей все сразу и с наименьшей затратой слов. Но он не принял в расчет ни особенностей своего характера, ни женского инстинкта маленькой натурщицы. Несмотря на всю свою ученость, а может быть, именно в силу этого неспособный предусмотреть результат простейших поступков, он не учел и того, что, подарив девушке новое платье, сам же утвердил в ее сознании право собственности на нее.
Как собака, чей хозяин задумал от нее отделаться, стоит и смотрит на него трагически-вопрошающе, чуя, что с ней хотят поступить жестоко, как собака, которую собираются бросить, стояла перед Хилери маленькая натурщица.
Всем своим видом — и позой, и пристальным взглядом ясных глаз, вот-вот готовых наполниться слезами, и дрожью тела — она говорила: «Я знаю, зачем ты послал за мной».
Хилери почувствовал то, что должен почувствовать человек, получивший приказ отстегать плетьми своего ближнего. Чтобы выиграть время, он спросил, как она проводит дни. Маленькая натурщица, по-видимому, старалась убедить себя, что предчувствия ее обманули.
Теперь, когда по утрам так хорошо, сказала она, немного оживившись, она встает гораздо раньше и первым делом принимается за шитье; потом прибирает комнату. В полу оказались мышиные норки, и она купила мышеловку. Прошлой ночью попалась мышь. Ей было жалко убивать мышку, она посадила ее в жестянку, вынесла на улицу и там выпустила. Мгновенно заметив, что Хилери слушает с интересом, как и следовало ожидать, она сообщила ему, что не может равнодушно видеть голодных кошек и бездомных собак, особенно бездомных собак, и даже описала одну такую собаку, которую как-то довелось ей увидеть. К полисмену ей обращаться не захотелось, они всегда так таращат на тебя глаза… Последние слова прозвучали для Хилери странно многозначительно, и он отвернулся. Маленькая натурщица, заметив произведенное впечатление, постаралась его усилить. Она слышала, что полисмены могут такое сделать… Сразу поняв по лицу Хилери, что от этих слов ничего не выиграла, она резко оборвала фразу и принялась болтать: что ела за завтраком, и как ей теперь хорошо, когда одежда у нее новая, и до чего ей нравится ее комната, и какой забавный этот мистер Крид: притворяется, что не замечает ее, когда они встречаются по утрам. Потом она подробно рассказала, как пыталась найти работу, и как ей кое-что обещали, и о том, что мистер Леннард по-прежнему просит, чтобы она ему позировала. Тут она вскинула на Хилери глаза и сейчас же снова опустила. Если она решится на то, чтобы… вот так вот позировать, она получит работы сколько угодно. Но она отказывается, потому что мистер Хилери не велел ей, да она и сама, конечно, не хочет: ей очень нравится работать у мистера Стоуна. И она хорошо теперь живет, и ей нравится Лондон, и магазины тоже. Хьюзов она даже не помянула. Во всей этой бессвязной болтовне, явно преследующей определенную цель, странным образом переплетались тупость и хитрая смекалка, позволяющая девушке мгновенно оценить производимый ею эффект; но когда она смотрела на Хилери, в глазах ее так и светилась собачья преданность.
Взгляд этот проник в самые уязвимые места в той слабой броне, которой наделила его природа. Он глубоко тронул этого отнюдь не самоуверенного и очень доброжелательного человека. Хилери воспринимал как великую честь, что столь юное существо смотрит на него таким взглядом! Он всегда избегал думать о том, что, возможно, помогло бы ему понять ее чувство к нему, старался забыть слова художника, мастера натюрмортов: «У нее в прошлом, кажется, какая-то история…» Но сейчас они вспомнились Хилери, и он будто прозрел: если ее история — простейшая из всех историй, грубоватая любовная связь деревенской девушки с парнем, — разве не естественно предположить, что девушку, по натуре своей склонную к подчинению, тянуло теперь на что-то противоположное той навлекшей на нее неприятные последствия молодой, животной любви?
Но какова бы ни была причина ее обожания, ответить на него неблагодарностью казалось Хилери грубейшим нарушением джентльменства. А между тем получилось так, словно он пригласил ее в кабинет, чтобы сказать: «Ты для меня обуза, если не хуже». До сих пор она как будто и забавляла его и вызывала что-то вроде нежности — такие ощущения испытываешь, глядя на жеребенка или теленка, любуясь его милой неуклюжестью. Теперь, когда надо было расстаться с ней, Хилери спрашивал себя, не примешивалось ли к этому и другое чувство.
Миранда встала между хозяином и его гостьей и сердито зарычала.
Поглаживая фарфоровую пепельницу рукой в чернильных пятнах, маленькая натурщица проговорила с улыбкой, и жалкой и трезвой:
— Собачка меня не любит, знает, что я здесь чужая. Она злится, когда я прихожу, она ревнует.
Хилери сказал отрывисто:
— Скажите, подружились вы с кем-нибудь с тех пор, как приехали в Лондон?
Девушка метнула в него взгляд, будто спрашивая: «Неужели я вызвала в тебе ревность?» — но тут же, словно коря себя за дерзкую мысль, опустила голову и ответила:
— Нет.
— Ни с кем?
Она повторила, почти страстно:
— Нет! И никого мне не нужно, я только хочу, чтобы меня оставили в покое.
Хилери заговорил быстро:
— Но вот Хьюзы не захотели же оставить вас в покое? Я повторяю: вам нужно выехать из того дома. Я снял для вас другую комнату, достаточно далеко от Хаунд-стрит. Оставьте всю мебель и плату за неделю вперед, тихонько забирайте ваш сундук, наймите кэб и уезжайте завтра же, и никому ни слова. Вот вам адрес и вот деньги на расходы. Эти люди для вас опасны.
Маленькая натурщица прошептала с отчаянием:
— Но мне все равно, пусть их…
Хилери продолжал:
— И вот еще что: вам не надо больше приходить сюда, — Хьюз может вас выследить. Пока вы не подыщете себе другой работы, мы позаботимся, чтобы вы ни в чем не нуждались.
Маленькая натурщица молча глядела на него. Теперь, когда хрупкое звено, связавшее ее с какими-то домашними богами, разорвалось, все терпение, вся покорность, привитые в ней деревней, и всеми трудностями ее личной жизни, и этими последними месяцами в Лондоне, пришли ей на выручку. Она не стала ни возражать, ни просить. Хилери увидел, что по щеке у нее скатилась слеза.
Он отвернулся и сказал:
— Не плачьте, дитя мое…
Маленькая натурщица послушно проглотила слезы. Вдруг ее поразила какая-то мысль, и она спросила:
— Но с вами я буду видеться, мистер Даллисон, хоть иногда?
Поняв по выражению его лица, что это не входит в программу, она снова умолкла и стояла, не спуская с него глаз.
Хилери нелегко было бы признаться: «Мы не можем видеться, потому что жена меня ревнует» — и было бы жестоко сказать девушке: «Я не хочу больше тебя видеть», — к тому же он знал, что это неправда.
— Вы скоро найдете себе друзей, — проговорил он наконец. — И вы можете писать мне. — Как-то странно улыбнувшись, он добавил: — Вы только начинаете жить, — такие вещи не надо принимать близко к сердцу. Вы встретите еще многих, кто сможет лучше посоветовать и лучше помочь вам, чем я.
В ответ на это маленькая натурщица обеими руками схватила его руку, но тут же снова выпустила, почувствовав, что это слишком большая дерзость, и стояла, опустив голову. Хилери, глядя сверху на ее шляпку, согласно его желанию не украшенную перьями, почувствовал комок в горле.
— Забавно, что я даже не знаю, как вас зовут, — сказал он.
— Айви.
— Айви? Ну вот, я буду писать вам. Но обещайте, что вы сделаете все так, как я вам оказал.
Девушка подняла голову — сейчас лицо ее было просто некрасиво, как у ребенка, который едва сдерживается, чтобы не заплакать навзрыд.
— Обещайте, — повторил Хилери.
С горькой обидой, выпятив нижнюю губку, она кивнула и вдруг прижала руку к сердцу. Жест этот, совершенно непроизвольный и какой-то наивный, чуть не поколебал решимости Хилери.
— Теперь вам надо уходить, — сказал он.
Она всхлипнула, залилась краской, потом вся побелела.
— И мне даже нельзя пойти попрощаться с мистером Стоуном?
Хилери помотал головой.
— Он будет скучать без меня, — сказала она с отчаянием. — Да, я знаю, он будет скучать.
— И я тоже. Тут уж ничего не поделаешь.
Она выпрямилась во весь рост; грудь ее тяжело вздымалась под платьем тем самым, которое сделало ее собственностью Хилери. Сейчас она была очень похожа на девушку с картины «Тень», и Хилери казалось, как бы он ни поступил, что бы ни предпринял, она неизменно будет здесь — этот маленький дух из мира слабых и обездоленных, вечно преследующий людей своим немым призывом.
— Дайте мне руку, — сказал Хилери.
Она протянула свою не слишком белую маленькую ручку. Рука была мягкая, но горячая, как огонь, и цепкая.
— Прощайте, дорогая, желаю вам счастья. Маленькая натурщица бросила ему взгляд, полный неизъяснимого упрека, затем, верная своей привычке к послушанию, молча вышла.
Хилери не глядел ей вслед. Он стоял у высокой каминной полки, склонясь над холодным пеплом, опустив лицо на ладонь. Ничто, даже жужжание какой-нибудь случайно залетевшей мухи, не нарушало тишины. Он слышал только одно — нет, не отдаленную музыку, но биение собственной крови в ушах и висках.
ГЛАВА XXIII КНИГА О ВСЕМИРНОМ БРАТСТВЕ
Здесь следует сказать несколько слов об авторе «Книги о всемирном братстве».
Сильванус Стоун, блестяще окончив Лондонский университет, еще совсем молодым был назначен лекторам в ряд высших учебных заведений. Вскоре он получил профессорскую мантию, как то и подобало человеку столь глубокой эрудиции в естественных науках, и с этого времени до семидесятилетнего возраста жизнь его была непрерывной цепью лекций, речей, докладов и диспутов по вопросам его специальности. В семьдесят лет, когда он, после смерти жены и брака всех троих детей, уже долгое время прожил один, серьезная болезнь результат непозволительного отношения одностороннего ума к железному здоровью — надолго уложила его в постель.
Во время затянувшегося выздоровления все его мыслительные способности, прежде отдаваемые естественным наукам, сосредоточились на жизни в целом. Но ум, для которого естественные науки являлись идеей, страстью, не мог довольствоваться туманными раздумьями о жизни. Медленно, исподволь, с непреодолимой центробежной силой, быть может, и не развившейся бы, не будь этой болезни, все случайные и путаные мысли о загадке человеческого бытия поглотила одна страсть, одна идея — всемирное братство. Односторонний ум этого старого человека, болезнью оторванного от прежнего образа жизни, награжденного пенсией и сданного в архив, стал поклоняться новой звезде, с каждой неделей, с каждым месяцем, с каждым годом разгоравшейся все ярче, так что, наконец, все остальные звезды померкли, а затем и вовсе угасли.
В семьдесят четыре года он начал писать книгу. Весь во власти своей темы и преклонного возраста, он постепенно совсем перестал уделять внимание явлениям случайным и преходящим. Странности его вызывали много толков. Как-то, навещая отца в его одинокой квартирке на верхнем этаже, Бианка застала его на крыше, куда он забрался, чтобы лучше созерцать свою возлюбленную вселенную; Бианка заманила его к себе домой и отвела ему там комнату. Через день или два он уже как будто не замечал никакой перемены.
Образ жизни его на новом месте очень скоро определился и, однажды определившись, никогда больше не менялся, ибо Сильванус Стоун не допускал в свою жизнь ничего, что отрывало бы его от работы над книгой.
В тот день, когда Хилери распрощался с маленькой натурщицей, мистер Стоун целый час тщетно ждал ее, читая и перечитывая исписанные листы. Потом он проделал свои гимнастические упражнения. В обычное для чаепития время он сел и, попеременно поднося ко рту чашку чая и кусок черного хлеба с маслом, долго и пристально смотрел на то место, где обычно сидела девушка. Поев, он вышел из комнаты и принялся бродить по дому. Он не нашел никого, кроме Миранды; она расположилась в проходе, ведущем из дома в студию, и поглядывала то в одну сторону, то в другую, поджидая прихода хозяина или хозяйки. Она присоединилась к мистеру Стоуну и, соблюдая почтительное расстояние, бежала сзади, пока он шел вперед, и впереди него, когда он возвращался. Так никого и не встретив, мистер Стоун направился к садовой калитке. Здесь вскоре и увидела его Бианка: он стоял неподвижно, без шляпы, на самом солнце, вытянув свою седую голову туда, откуда, как он знал, всегда приходила маленькая натурщица.
Бианка только что побывала на выставке Королевской академии, куда она все еще ходила раз в год — так собаки из какой-то непонятной потребности ходят и обнюхивают своих собратьев, с давних пор вызывающих у них чувство неприязни. С ее шляпки, цветом и формой напоминающей гриб, свободно спадала вуаль. Глаза у нее после прогулки оживленно блестели.
Мистер, Стоун вскоре, по-видимому, сообразил, кто перед ним, и с минуту стоял молча, глядя на дочь. Его отношение к обеим дочерям было отношением селезня к двум лебедям, которых он неведомо как породил: здесь был и вопрос, и неодобрение, и любование, и легкая растерянность.
— Почему она не пришла? — спросил он.
Лицо Бианки, скрытое вуалью, исказилось от боли.
— Ты не спрашивал у Хилери?
— Я не мог его найти, — ответил мистер Стоун. В его терпеливо склоненной фигуре и седой голове, на которую падали солнечные лучи, было что-то такое, что заставило Бианку взять его под руку.
— Пойдем домой, папа. Я буду писать под твою диктовку.
Мистер Стоун внимательно посмотрел на нее и покачал головой.
— Это не согласуется с моими принципами. Я не могу принять бесплатную услугу. Но если ты зайдешь ко мне, дорогая, я охотно прочту тебе несколько страниц. Это меня очень стимулирует.
Глаза Бианки затуманились. Прижав к груди отцовскую руку в шершавом рукаве, она повела старика к дому.
— Мне думается, я написал нечто, что может тебя заинтересовать, сказал мистер Стоун.
— Наверно заинтересует, — тихо поддакнула Бианка.
— Тема эта затрагивает каждого, — сказал мистер Стоун. — Это тема рождения. Садись за стол. Я начну,
как обычно, с того места, где остановился вчера.
Бианка заняла место, предназначенное для маленькой натурщицы, оперла подбородок о ладонь и сидела неподвижно, как те статуи, на которые она только что ходила смотреть.
Можно было подумать, что мистер Стоун нервничает: он дважды перекладывал листы рукописи, откашливался. Но вот он взял лист, отошел на три шага, повернулся спиной к дочери и начал читать:
— «В этом медленном, непрерывном переходе одних форм в другие, называемом! жизнью, люди, у которых от постоянной деятельности развилась известная судорожностъ, выделили один определенный момент, по существу своему ничем особенно не отличающийся от любого другого, и назвали его Рождением. Это обыкновение выделять в мировом! процессе один-единственный миг, отдавая ему предпочтение перед всеми остальными, быть может, больше, чем что-либо другое, способствовало затемнению кристальной ясности вечного потока вселенной. С тем же успехом можно было бы, наблюдая процесс развития земли, выходящей из мглистых объятий зимы, изолировать один-единственный день и назвать его Весной. В ходе ритмических подъемов и спадов, управляющих переходом одной формы в другую…» Начавшись с тонкого, хриплого полушепота, голос мистера Стоуна постепенно креп, становился все громче, как будто автор обращался к большой аудитории: «…золотая дымка вселенной, где люди парили бы вокруг солнца, подобно ярким крыльям, уступила место эгоистическому нимбу, который создавал себе каждый человек, прославляя свое рождение. Этой первичной ошибкой объясняется, возможно, и необыкновенный субъективизм человеческой философии. Медленно, но неуклонно в сердце человека умирало желание назвать своего ближнего братом».
Вдруг мистер Стоун перестал читать и сказал:
— Вон он идет.
В следующую минуту дверь отворилась, и вошел Хилери.
— Она не пришла, — сообщил ему мистер Стоун, и Бианка добавила вполголоса:
— И мы без нее скучаем.
— Ее глаза смотрят как-то особенно, — сказал мистер Стоун. — Они помогают мне заглядывать в будущее. Такой взгляд я замечал у собак женского пола.
Тихонько рассмеявшись, Бианка проговорила как бы про себя:
— Неплохо сказано.
— У собак есть одна добродетель, — сказал Хилери, — которая у людей отсутствует: собаки не способны издеваться.
Но губы Бианки, чуть раскрытые в усмешке, казалось, говорили: «Ты требуешь слишком многого. Ведь я больше уже не привлекаю тебя. Неужели ты ждешь, что я буду сочувствовать твоему увлечению этим примитивным созданием?»
Взгляд мистера Стоуна был прикован к стене.
— Собака многое утратила из своих первоначальных качеств, — проговорил он.
И, подойдя к конторке, взял гусиное перо. Хилери и Бианка не произнесли ни звука, не взглянули друг на друга, и в тишине, более значимой, чем любые слова, раздался скрип пера по бумаге. Наконец мистер Стоун отложил его и, увидев, что в комнате у него присутствуют двое, стал читать:
— «Оглядываясь на те дни, когда доктрина эволюции достигла своего апогея, можно увидеть, как человеческий ум своей привычкой к непрерывной кристаллизации разрушил все значение этого процесса. Взгляните, например», на такое бесплодное явление, как кастовая пагода! Подобно этому китайскому храму, было сформировано тогда все общество. Люди жили слоями, настолько отделенные друг от друга, класс от класса…»
Он снова взял перо и начал писать.
— Надеюсь, ты поняла, что ей не велено больше приходить сюда? — сказал Хилери негромко.
Бианка пожала плечами.
С необычайным для него гневом он добавил:
— Скажи, у тебя хватает великодушия признать, что я стараюсь идти навстречу твоим желаниям?
Бианка ответила смехом, таким странным, жестким и горьким, что Хилери невольно повернулся, словно ему хотелось поймать этот смех раньше, чем он достигнет ушей старика.
Мистер Стоун положил перо,
— Сегодня я больше писать не буду, — сказал он. — Я потерял нить, сегодня я не такой, как всегда.
Голос его звучал как-то необычно.
Он выглядел очень старым и немощным, он был похож на клячу, чье солнце уже закатилось и которая стоит понуря голову, а под спутанной гривой ее видны на шее глубокие впадины. Внезапно, как видно совсем забыв, что он не один, мистер Стоун воскликнул:
— О Великая Вселенная! Я стар, и дух мой слаб, и нет у меня единой цели, ведущей меня вперед. Помоги мне закончить мой труд, помоги мне создать книгу, какой человечество еще не знало!
За этой странной молитвой последовало полное молчание. У Бианки по лицу катились слезы; она встала и выбежала из комнаты.
Мистер Стоун очнулся. Его немое, бледное лицо вдруг покраснело и приняло испуганнее выражение. Он посмотрел на Хилери.
— Простите, я, кажется, забылся. Я сказал что-нибудь неподобающее?
Боясь, как бы голос не выдал его, Хилери только помотал головой и тоже пошел к двери.
ГЛАВА XXIV СТРАНА ТЕНЕЙ
«У каждого из нас есть своя тень в тех местах — на тех улицах…»
Эти слова мистера Стоуна, пущенные подобно многим его изречениям, на ветер, даже в «те дни» показались бы не совсем лишенными значения тому, кто заглянул бы в комнату мистера Джошуа Крида на Хаунд-стрит.
Престарелый лакей лежал в постели, дожидаясь неизбежного звона маленького будильника, помещенного в самом центре каминной полки. По обеим сторонам этого неподкупного и неумолимого судьи, изо дня в день заставлявшего его подниматься на ноги, которым уже давно пора бы на покой, красовались портреты тех, с кем связаны были минувшие триумфы мистера Крида. Слева в рамке из папье-маше, кое-где покрытой пятнами, стоял портрет достопочтенного Бэйтсона в мундире королевской гвардии. На лице прежнего хозяина Крида запечатлелось то бесшабашное выражение, с каким он, бывало, говорил ему: «Черт побери, Крид, одолжите-ка мне фунт стерлингов, у меня ни гроша не осталось! «Справа в зеленой рамке, когда-то плюшевой, под стеклом с трещиной в левом углу находился портрет прежней хозяйки Крида, вдовствующей графини Гленгауэр, увековеченной местным фотографом в тот момент, когда она закладывала камень в фундамент местной богадельни. В период гибели карьеры, который последовал за длительной болезнью старого лакея и предшествовал спасению, каким явилась для него «Вестминстерская газета», оба эти божка домашнего очага лежали на дне видавшего виды железного сундука во власти содержателя меблированных комнат и дожидались, когда их выкупят. Достопочтенный Бэйтсон теперь уже сошел в могилу, так и не вернув одолженных ему фунтов. Леди Гленгауэр также была взята на небо и, очевидно, вспоминала там, что забыла помянуть в завещании всех своих слуг. А тот, кто служил им обоим, был все еще жив, и первой его мыслью, едва он утвердился в должности продавца «Вестминстерской», было скопить нужную сумму, дабы извлечь портреты из унизительного для них заточения. Для этого ему понадобилось шесть месяцев. Он обнаружил, что портреты на месте, там же, где и три пары шерстяных кальсон, старый, но вполне респектабельный черный фрак, клетчатый галстук, библия, две пары носков, одна с целыми передками, другая с целыми пятками, моток штопки с иглой, пара штиблет с эластичными вставками по бокам, гребень и веточка белого вереска, завернутые в клочок газеты «Глобус» вместе с кусочком мыла для бритья и двумя прочищалками для трубки, а также два воротничка, острые концы которых, разделяемые расстоянием почти в два дюйма, доходили до самых щек их владельца, и, наконец, маленький будильник, упомянутый выше, и булавка для галстука, изображающая королеву Викторию в день ее первого юбилея [18]. Сколько раз Крид мысленно перебирал эти сокровища в то время, когда вынужден был находиться в разлуке с ними! Сколько раз, когда все это уже вернулось к нему, раздумывал он с глухим, но неутихающим негодованием о пропаже некой сорочки, находившейся, он готов был в том поклясться, вместе с остальными вещами!
Сейчас он лежал в постели, дожидаясь, когда зазвонит будильник, прикрыв одеялом щетинистый подбородок и выставив наружу обезображенный нос. Он думал думы, всегда одолевавшие его в этот час: думал о том, что миссис Хьюз не следовало бы за завтраком соскребать с его хлеба масло, как она имеет обыкновение делать, что надо бы ей сбавить шесть пенсов с платы за комнату; что человеку, привозящему в тележке последние выпуски газеты, надо бы приезжать пораньше, не давать «тому типу» возможность первым получать «Пэл-Мэл» и отнимать у него, у Крида, единственный шанс за весь день; что незачем платить сапожнику девять пенсов, которые тот запросил с него за новые подметки, а лучше подождать до лета, тогда этот «тип из низов» рад будет поставить подметки и за шесть пенсов!
Благородный, тонкой души критик, считающий эти рассуждения низменными, переменил бы, возможно, мнение, если бы на этих старых ногах, которые сейчас сводило судорогой, ему самому пришлось простоять накануне до одиннадцати часов вечера, потому что требовалось распродать оставшиеся двенадцать экземпляров последнего выпуска, а покупателей не было. Никто лучше самого Джошуа Крида не знал, что если он позволит себе более широкую и возвышенную точку зрения на жизнь, он неизбежно попадет в то самое учреждение, куда он молил бога никогда не дать ему попасть. По счастью, еще в то врем/я, когда он был мальчишкой, природа наделила его не только длинным лицом и квадратной челюстью, но и односторонним взглядом на жизнь. В самом деле, непостижимая, неослабевающая цепкость души, рожденной в Ньюмаркете, ничего бы не стоила, если бы Крид в отличие от мистера Стоуна был способен видеть больше одной вещи зараз. То единственное, что вот уже в течение пяти лет он неизменно видел перед собой, стоя возле магазина Роза и Торна, был работный дом, и так как он твердо решил, пока жив, не попасть туда, он тщательно экономил, для чего и вел эти свои мелкие, низменные подсчеты.
Размышляя таким образом, он вдруг услышал крик. Будучи человеком не трусливого десятка, но осторожным, он выждал, пока крик раздался вторично, и только тогда встал с кровати. Вооружившись кочергой и надев очки, он поспешил к двери. Не раз в добрые старые времена вставал он вот так на защиту серебра достопочтенного Бэйтсона или вдовствующей графини Гленгауэр от воображаемых воров. С минуту он стоял, поеживаясь, в своей старой ночной рубашке, болтающейся вокруг его еще более старых ног, затем открыл дверь и выглянул. На ступеньках лестницы, чуть повыше его двери, стояла миссис Хьюз, одной рукой прижимая к себе младенца, — другую руку она вытянула вперед, обороняясь от мужа. Крид услышал его слова:
— Ты сама довела меня до этого! Я еще из-за тебя буду мотаться на веревке!..
Тонкая фигура миссис Хьюз скользнула мимо Крида к нему в комнату; запястье у нее было в крови. Крид увидел в руке у Хьюза штык. Старый лакей закричал во всю силу своих легких:
— Постыдился бы, ты! — И поднял кочергу, готовый к отпору.
Замечательно то, что в минуту опасности — наибольшей, с какой ему приходилось когда-либо сталкиваться, — Крид инстинктивно пустил в ход самые обыденные слова, как если бы противное душе англичанина буйство пробудило в нем типичную английскую умеренность. Вид обнаженной стали вызвал у старого лакея глубокое отвращение, и он разразился длинной тирадой. О чем это Хьюз думает — поднять шум чуть свет, позорить дом! Где это он воспитывался? Еще называется солдат — нападать на стариков и женщин! Просто стыд и позор!
Пока слова эти выскакивали в провалы между желтыми остатками зубов в обрюзгшем рту старика, Хьюз стоял молча, прикрыв глаза локтем. Раздались голоса и громкий топот. Угадав в этой тяжелой поступи приближающиеся шаги Закона, Крид сказал:
— Только попробуй, тронь меня!
Хьюз опустил руку. На его смуглом квадратном лице было написано отчаяние, у него был вид затравленной крысы, глаза его бегали по сторонам.
— Ладно, папаша, тебя я не трону, — сказал он. — Из-за нее у меня в голове опять все перевернулось. Нака, забери это от меня, я за себя не ручаюсь. — И он протянул штык.
«Вест-министр» дрожащей рукой осторожно взял его.
— Подумать только — кидаться на человека с такой штукой! А еще считаешь себя англичанином. Я тут с вами простужусь до смерти…
Хьюз ничего не ответил. Он стоял, прислонившись к стене. Старый лакей смотрел на него сурово. Но он рассматривал его не с широких философских позиций, как измученное человеческое существо, терзанием страсти в темной крови доведенное до предела, — человеческое существо, чей духовный облик стал подобен чахлому, кривому дереву, загубленному жизнью, — жалкое существо, пропадающее от пьянства и старой раны. Мысли бывшего лакея шли по более узкому и проторенному пути. «Надо его схватить, — думал он, — с этими подонками только так и следует поступать: схватить и держать, пока не взвоет».
Кивнув седой головой, он сказал:
— Вон идет полиция. Я тебя выгораживать не стану. Получай сполна все, что заслужил.
Позже, когда он, одетый в старое длинное пальто в обтяжку, пожертвованное ему кем-то из его клиентов, шагал вместе с миссис Хьюз по направлению к полицейскому участку, он был еще молчаливее обычного и всем своим видом выражал неодобрение, как то и подобало человеку, случайно замешанному в вульгарную историю «этих типов из низов». Швея, осунувшаяся, с перепуганным лицом, семенила рядом, время от времени заглядывая ему в глаза; раненую руку она держала на перевязи из мужнина шерстяного шарфа, на другой несла младенца, которого растревожило утреннее происшествие.
Только один раз Крид заговорил, и то про себя:
— Не знаю, что там мне скажут в конторе — не явился на работу! Ах ты господи, вот беда! И что это взбрело в голову учинить такое!..
Хотя мистер Крид отнюдь не имел в виду вызвать этим миссис Хьюз на разговор, из уст ее полились водопады слов. Ведь она только сказала мужу, что девушка выехала и оставила плату за комнату за неделю вперед и записку, что больше сюда не вернется. Ведь она тут ни при чем, что девушка уехала! Ей и вовсе-то не следовало приезжать, такой… Вздумала встать между женой и мужем! Ну почем она знает, куда отправилась эта девица, где она теперь?
Слезы бежали одна за другой по исхудавшим щекам женщины. Сейчас лицо ее было не таким, как тогда, когда она стояла перед мужем и рассказывала об исчезновении маленькой натурщицы. Ни торжества, рвавшегося наружу из ее истерзанного сердца, ни злорадства, которое она, стремясь отомстить за униженное чувство собственности, выражала, умышленно или нет, своим скрипучим голосом, ни близкого к героизму чувства материнского самопожертвования, с каким она бросилась к ребенку и выхватила его из-под штыка, когда взбешенный ее злорадным торжеством Хьюз кинулся к оружию, ничего этого не осталось. Был только жалкий страх перед предстоящей мукой, жалобное, немое отчаяние от того, что человек, два часа тому назад внушавший ей такую злобу и чуть не убивший ее, попал теперь в беду.
Ее волнение было так явственно, что проникло сквозь стекла очков и коснулось сердца старого лакея.
— Не убивайтесь, чего уж! — сказал он. — Я на вашей стороне, я вас поддержу. Это ему так даром не пройдет.
Для его несложной души история эта была из тех, где должен действовать принцип «око за око». Миссис Хьюз снова умолкла. Ее измученное сердце жаждало другого, ей хотелось отвести наказание, которое могло пасть на всех них, избавить мужа от их общего врага — Закона. Но странная гордость, растерянность и понимание, что требовать «око за око» — это как раз то, чего ждут от всех уважающих себя граждан, заставляли ее молчать.
Так они добрались до великого утешителя, до серого мудреца, что улаживает все людские неурядицы, до пристанища для людей и ангелов — до полицейского участка. Помещался он в узком тупике. Как в момент, когда нет ни прилива, ни отлива, из грязной жижи вытекают ручейки, стремясь к какому-либо устью, так двигались здесь взад и вперед узкими ручейками человеческие существа. На лицах этих бредущих «теней» как будто были надеты маски из жесткого, но износившегося материала — всегдашний облик тех, кого Жизнь загнала в это последнее прибежище. Во дворе разлилось гнилое болото просителей, поперек которого тек грязный ручеек то туда, то обратно. Старик полисмен, как серый маяк, отмечал вход в эту гавань. К этому-то серому маяку и стал пробираться бывший лакей. Любовь к порядку, к раз и навсегда узаконенному положению вещей, присущая ему с детства и взлелеянная жизнью, проведенной в услужении у достопочтенного Бэйтсона и других «господ», заставила Крида инстинктивно устремиться к единственному человеку в этой толпе, который, безусловно, был на стороне закона и порядка. В продолговатом лице Джошуа Крида, в жидких волосах с пробором точно посередине, в высоком воротничке, подпиравшем худые щеки, было что-то не то чтобы раболепное, но свидетельствующее о неприязни ко всем «подонкам общества», и это побудило полисмена спросить его?
— Эй, папаша, что там у вас, какое дело?
— Да я вот насчет этой несчастной женщины, — ответил старый лакей. — Я пришел как свидетель в том, что ей нанесли побои.
Полисмен окинул женщину отнюдь не враждебным взглядом.
— Постойте здесь, — сказал он, — сейчас я вас впущу. И вскоре его стараниями их пропустили в спасительную гавань.
Они сели рядом на край длинной, жесткой деревянной скамьи. Крид впился вдруг словно потемневшими глазами в мирового судью — так в древние времена солнцепоклонники, благоговейно мигая, взирали на солнце. А миссис Хьюз уставилась на свои колени, и мучительные слезы струились по ее лицу. На ее здоровой руке спал ребенок. Впереди них, не привлекая к себе ничьего интереса, проходили одна за другою «тени», накануне выпившие слишком много воды забвения. Теперь им предстояло пить воду воспоминаний, преподносимую им достаточно твердой рукой. А откуда-то, очень издалека, сама Справедливость, с иронической улыбкой на устах, может быть, наблюдала, как люди судят своих «теней». За этим занятием, она наблюдала их уже давно. Но она-то исходила из того положения, что зайцы и черепахи не должны начинать бег с одного и того же старта, и потому почти потеряла надежду на то, что ее позовут и попросят помочь — земные судьи давно уже обходились без нее. Быть может, также, она уже знала, что люди более не наказывают своих заблудших братьев, но лишь исправляют их, и оттого на сердце у нее было так же легко, как у тех, кто сидел в тюрьмах, в которых больше не наказывали.
Бывший лакей не думал, однако, о Справедливости, его мысли шли по менее замысловатому пути. Ему вспомнилось, что когда-то он служил лакеем у племянника покойного судьи лорда Хоторна, и воспоминание это на фоне столь низменных дел придало ему бодрости. Про себя он повторял и заучивал: «Я встал между ка… кафликтующими сторонами и говорю: «стыдись! Называешь себя англичанином, а сам, говорю, бросаешься на стариков и женщин с холодным оружием». И вдруг на скамье подсудимых он увидел Хьюза.
Плотно прижав руки к бокам, Хьюз стоял будто на смотру по стойке «смирно». Бледный профиль, перебиваемый черной линией усов, — вот все, что было видно «Вест-министру» от этого окаменевшего лица, на котором лишь глаза, устремленные на судью, выдавали, как бушует пламя в груди этого человека. Неудержимая дрожь, охватившая миссис Хьюз, вызвала досаду в Джошуа Криде, и, увидев, что младенец открыл черные глазки, он слегка подтолкнул ее и шепнул:
— Ребенка разбудили.
При этих словах, быть может, единственных, способных тронуть ее сейчас, миссис Хьюз стала качать маленького немого зрителя драмы. И снова старый лакей подтолкнул ее:
— Вас вызывают.
Миссис Хьюз встала и пошла к месту для свидетелей.
Тот, кто желал бы читать в сердцах мужа и жены, которых поставили под прямым углом друг к другу, дабы залечить их раны с помощью Закона, должен был бы наблюдать многие и многие тысячи часов их совместной жизни, знать множество мыслей и слышать множество слов, прошедших через тусклые пространства их мирка, познать множество причин, по которым оба они чувствовали, что не могли бы поступить иначе, чем поступили. Вооруженный таким знанием, он, читая их сердца, не удивился бы, что, приведенные в это место исцелений, они немедленно заключили союз. Они обменялись взглядом. Он не был дружеским, в нем не было призыва, но его было достаточно. В нем отразилось знание, приобретенное очень древним опытом с незапамятных времен: Закон, перед которым мы стоим, сотворен не нами. Как собаки, заслышав вдалеке свист бича, съеживаются и всем своим видом выражают спокойную настороженность, так Хьюз и его жена, оказавшись перед лицом Закона, насторожились и давали только те ответы, которые вытягивали из них силой. Миссис Хьюз почти шепотом рассказала, как было дело. Они поссорились. Из-за чего? Она не помнит. Он что, напал на нее? У него в руке был штык. И что же потом? Она поскользнулась и нечаянно поранила руку об острый конец штыка. При этом заявлении Хьюз повернулся и посмотрел на жену, будто хотел сказать: «Ты сама довела меня до этого. Мне все равно расплачиваться, как ты теперь ни старайся вытащить меня из беды. Ты получила от меня, ну и ладно, обойдусь без твоей поддержки. Но я рад, что ты со мной заодно против этого треклятого Закона». Он стоял неподвижно, опустив глаза, все то время, пока она, задыхаясь, объясняла: он ее муж, она родила ему пятерых, он был ранен на войне. Она не хотела, чтобы его приводили сюда.
И ни слова о маленькой натурщице…
Старый лакей раздумывал над этим последним обстоятельством два часа спустя, когда, по обыкновению ища опоры у «господ», отправился к Хилери.
Хилери завтракал, окруженный книгами и листами бумаги: с тех пор как он уволил девушку, он работал очень интенсивно; завтрак ему принесли на подносе прямо в кабинет.
— Там вас спрашивает какой-то старый господин, сэр. Говорит, что вы его знаете. Фамилия — Крид.
— Пусть войдет.
Джошуа Крид, тут же появившийся в дверях за спиною горничной, вошел осторожно, мелкой, семенящей походкой; он огляделся, увидел свободный стул и поставил под него шляпу, затем шагнул вперед к Хилери, задрав кверху нос и очки. Заметив поднос с едой, он остановился, подавив в себе явное желание излить душу.
— Ах, боже мой, прошу прощения, сэр, я помешал вам завтракать! Я могу подождать, посидеть в передней.
Но Хилери пожал ему руку, исхудавшую так, что оставались лишь кожа да кости, и жестом пригласил сесть.
Крид уселся на самый краешек стула и снова сказал:
— Я помешал вам, сэр.
— Ничуть. Чем я могу быть вам полезен?
Крид снял очки, протер их, чтобы лучше видеть то, что собирался сказать, и снова надел.
— Это все насчет той семейной ссоры, — начал он. — Я пришел рассказать, вы ведь как будто интересуетесь этой семьей.
— Ну, и что же там произошло?
— Все из-за того, что девушка съехала от них, как вы, должно быть, знаете.
— А!..
— Это и довело дело до ка… кафликта, — пояснил Крид.
— Вот как! Что же, собственно, случилось? Старый лакей изложил историю нападения.
— Я отобрал у него штык, — заключил он свой рассказ. — Меня-то этот тип не испугал.
— Он что, помешался?
— Про это я не знаю. Жена его повела себя с ним, по-моему, не так, как оно следовало бы, но на то она и женщина. Она взбесила его, ну просто доняла — и все из-за этой молодой особы. Хоть и то сказать, девица тоже хороша. Профессия-то у нее какая, а? И ведь деревенская девушка! Должно быть, она и правда дурного поведения. Но Хьюз не такой человек, чтоб с ним так обращаться. Да и что с него взять-то — человек из низов… Ему дали только месяц тюрьмы: приняли во внимание, что он был ранен на войне. Если б проведали, что он обхаживает эту девицу, так, небось, засадили бы надольше. Ведь женатый человек!.. Как вы полагаете, сэр?
На лице Хилери появилось обычное его выражение отчужденности. «Я не могу обсуждать это с тобой», — казалось, говорило оно.
Тотчас заметив перемену, Крид встал.
— Я мешаю вам обедать, сэр, то есть я хочу сказать, завтракать. Миссис Хьюз уж очень его из себя выводит, ну, да оно понятно, жена ведь… Вот какая беда! А скоро он вернется домой, и что тогда будет? Разве это его исправит, что он посидит в какой-то там тюрьме для подонков? — Крид поднял на Хилери свою старую физиономию. — Да, такие дела!.. Все равно что ходишь темной ночью, так, что и своей руки перед собой не видишь.
Хилери не нашелся, что на это ответить.
Рассказ лакея произвел на него двойственное впечатление. Более брезгливая часть его «я» почувствовала облегчение оттого, что он больше не имеет отношения к этому эпизоду, сулящему сомнительные, грязные последствия. Но та сторона его натуры, — а Хилери был человеком сложным, — что сострадала слабым, иными словами, его скрытое рыцарство, тоже была задета. Упоминание старого лакея о девушке ясно показывало, как все вокруг, и мужчины и женщины, настроены против нее. Она была парией — юная девушка без друзей, без средств к существованию, духовно неустойчивая, физически соблазнительная.
Он нашел в себе мужество лишь на то, чтобы возместить «Вест-министру» потерянный день работы и сделать туманное заявление насчет того, что ночи не так уж черны, как кажутся. В дверях Крид замялся.
— Бог ты мой, совсем было забыл передать вам, что сказала мне женщина. Муж ее, когда буйствовал, грозился: «Пусть, говорит, тот, кто подстроил, что девушка уехала, знает, говорит, что я с ним еще разделаюсь!» Тут какой-то злодейский заговор, вот что я думаю.
Улыбкой выразив свое отношение к такому истолкованию слов Хьюза, Хилери пожал сморщенную руку старика и закрыл за ним дверь. Снова сев за письменный стол, он чуть ли не с яростью накинулся на прерванную работу. Но странное, приятное лихорадочное состояние, не покидавшее его с того вечера, когда он шел по Пикадилли и встретил точную копию маленькой натурщицы, не очень помогало строгому ходу его мыслей.
ГЛАВА XXV МИСТЕР СТОУН В ОЖИДАНИИ
В этот самый день мистер Стоун писал за своей конторкой и вдруг услышал:
— Оставь на минуту работу, папа, поговори со мной.
Выражение его глаз сказало, что он узнал голос. Это говорила его младшая дочь.
— Ты нездорова, дорогая?
Сжав горячей рукой хрупкую, холодную, всю в венах руку отца, Бианка ответила:
— Мне одиноко.
Мистер Стоун смотрел прямо перед собой.
— Чувство одиночества — главный недостаток человека, — проговорил он и, увидев на конторке свое перо, потянулся было к нему, но Бианка его удержала. Горячее прикосновение ее руки тронуло что-то в душе мистера Стоуна. Щеки его порозовели.
— Поцелуй меня, папа.
Мистер Стоун секунду колебался, затем решительно коснулся губами ее глаза.
— Он мокрый, — проговорил старик. Одно мгновение казалось, что он старается постичь, какую связь имеет влага с человеческим глазом. Но вот лицо его снова прояснилось. — Сердце — темный колодец, — сказал он, — и глубина его неведома. Я прожил восемьдесят лет. И я все еще черпаю из него.
— Черпни и для меня, папа.
На этот раз мистер Стоун с беспокойством посмотрел на дочь и проговорил быстро, словно опасаясь, что если не скажет сразу, то забудет, что хотел сказать:
— Ты несчастлива!
Бианка прижалась лицом к его шершавому рукаву.
— Как хорошо пахнет твой пиджак, папа, — прошептала она.
— Ты несчастлива, — повторил мистер Стоун.
Бианка выпустила руку отца и отошла. Мистер Стоун шагнул за ней следом.
— Почему? — спросил он. И стиснув лоб рукой, добавил: — Если это может помочь тебе, дорогая, я готов прочитать вслух одну-две страницы.
Бианка покачала головой.
— Нет, лучше поговори со мной.
Мистер Стоун ответил просто:
— Я разучился.
— Ты ведь разговариваешь с этой девочкой.
Мистер Стоун, казалось, погрузился в глубокое раздумье.
— Если так, — сказал он, следуя своим мыслям, — то объясняется это, очевидно, инстинктом пола, еще не вполне угасшим. Установлено, что тетерев танцует перед своей курочкой до глубокой старости, хотя сам я этого никогда не видел.
— Если ты танцуешь перед ней, — сказала Бианка, отвернув лицо, — то неужели со мной ты не можешь хотя бы поговорить!
— Я не танцую, дорогая. Я попытаюсь поговорить с тобой.
Они молчали; старик принялся ходить по комнате. Бианка стояла у холодного камина, смотрела, как за открытым окном хлещет проливной дождь.
— Сейчас то время года, когда ягнята прыгают, вскидывая в воздух все четыре ноги сразу, — сказал мистер Стоун. Он помолчал, будто дожидаясь ответа, и затем в тишине снова раздался его голос — теперь он звучал как-то иначе: — Ничто во всей природе не указывает столь ясно, что именно этот принцип должен лежать в основе всей жизни: живи будущим, ни о чем не сожалей — и прыгай! Ягненок, всеми четырьмя ногами оторвавшийся от земли, — это символ настоящей жизни. То, что ему придется вновь опуститься на землю, всего лишь неизбежная случайность. «В те дни люди жили прошлым. Они прыгали только одной, самое большее двумя ногами сразу — они никогда не отрывались от земли, а если отрывались, то хотели выяснить, почему они это делают. Именно этот паралич… — Оказавшись вблизи конторки, мистер Стоун, не переставая говорить, взял с нее перо….именно этот паралич прыгательного нерва затормозил их прогресс. Вместо миллиона прыгающих ягнят, не ведающих, почему они прыгают, люди представляли собой стадо овец, поднимающих одну ногу и спрашивающих себя, стоит или не стоит поднять вторую».
Последовало молчание, нарушаемое лишь скрипом гусиного пера, которым писал мистер Стоун.
Закончив писать, он снова зашагал по комнате и вдруг, увидев перед собой дочь, застыл на месте. Робко коснувшись ее плеча, он сказал:
— Кажется, я разговаривал с тобой, дорогая; где мы остановились?
Бианка потерлась щекой о его руку.
— По-моему, в воздухе.
— Да-да, я вспомнил. Ты не давай мне удаляться от темы.
— Хорошо, дорогой.
— Ягнята напоминают мне иногда молодую девушку, которая приходит ко мне писать под диктовку. Я заставляю ее прыгать перед чаем, чтобы наладить правильное кровообращение. А сам я делаю вот это упражнение. — Он стал в двенадцати дюймах от стены и, прислонившись к ней спиною, медленно поднялся на носках. — Ты знаешь это упражнение? Превосходно укрепляет икры и поясницу.
С этими словами мистер Стоун отделился от стены, и вместе с ним от стены отделилась известка — она осталась в виде большой квадратной заплаты на спине его косматого пиджака. Мистер Стоун снова начал мерить шагами комнату.
— Я видел, как овцы весной подражают своими ягнятам, — они тоже поднимают все четыре ноги сразу, когда прыгают. — Он остановился и замолчал: очевидно, его осенила какая-то мысль. — Если жизнь перестает быть вечной весной, она теряет всякую ценность, — лучше умереть и начать сызнова. Жизнь — это дерево, надевающее новые зеленые одежды, это молодой месяц, восходящий на небе… Нет, это неверно, мы не видим восходящего молодого месяца; жизнь — это луна, спускающаяся по небосводу, самая юная как раз тогда, когда близится наша смерть…
Бианка резко воскликнула:
— Перестань, отец, это все неверно! Для меня жизнь — это осень.
Глаза мистера Стоуна стали совсем голубыми.
— Это мерзкая ересь, — сказал он, запинаясь. — Я не желаю этого слышать. Жизнь — это песня кукушки, это склоны холмов, где раскрываются лист за листом, это ветер-все это я чувствую в себе каждый день!
Он дрожал, как те листы на ветру, о которых говорил, и Бианка поспешно подошла к нему, протянув вперед руки. Но вот губы его зашевелились, и она услышала шепот:
— Я ослабел. Я вскипячу себе молока. Я должен быть бодр, когда она придет.
При этих словах Бианке почудилось, что сердце ее превратилось в кусочек льда.
Всегда и всюду эта девушка! Больше уже не пытаясь завладеть вниманием отца, Бианка ушла. Проходя через сад, она увидела, что отец стоит у окна и держит в руке чашку с молоком, от которой поднимается пар.
ГЛАВА XXVI ТРЕТЬЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ХАУНД-СТРИТ
Подобно воде, человеческий характер находит свой уровень: природа, имеющая обыкновение приспосабливать людей к их окружению, сделала из молодого Мартина Стоуна «оздоровителя», как назвал его Стивн. Ничего другого ей, собственно, и не оставалось с ним делать.
Этот молодой человек появился на общественной арене в тот момент, когда концепция существования как земной жизни с поправкой на жизнь загробную грозила рухнуть, а концепция мира как заповедника высших классов терпела серьезный урон.
Потеряв отца и мать еще в раннем детстве, он до четырнадцати лет воспитывался в дом» мистера Стоуна и рано привык мыслить самостоятельно. Это не располагало к нему людей и еще больше укрепило в нем переданную ему дедом способность видеть перед собой одну цель и к ней одной стремиться. Отвращение к зрелищу и запахам страданий — он еще ребенком не мог видеть, как убивают муху, и не мог видеть кролика в западне — вошло в некие рамки за те годы, когда он готовился стать врачом. Физический ужас перед болью и уродством был теперь дисциплинирован, духовное неприятие их переросло в определенное мировоззрение. Тот хаос, что окружает всех молодых людей, живущих в больших городах и хоть сколько-нибудь мыслящих, заставил Мартина постепенно отказаться от всяких абстрактных рассуждений, но особый душевный пыл, унаследованный, надо полагать, от мистера Стоуна, понуждал его отдаться чему-либо целиком. Поэтому-то он и посвятил себя врачеванию людей. Проживая на Юстон-Род, чтобы теснее соприкасаться с жизнью, он сам весьма нуждался в том здоровье, которому отдавал все силы.
К концу того дня, когда Хьюз совершил свое нападение, у Мартина оказались три свободных от больницы часа. Он окунул лицо и голову в холодную воду, крепко растер их мохнатым полотенцем, надел котелок, взял трость и, сев в поезд подземки, отправился в Кенсингтон.
Храня обычный для него невозмутимый и властный вид, он вошел в дом к тетке и спросил, дома ли Тайми. Верный своей определенной, хотя, может быть, и несколько примитивной теории, что Стивн, Сесилия и все им подобные — лишь дилетанты, он никогда не искал их общества, хотя нередко, дожидаясь Тайми, заходил в гостиную Сесилии и окидывал собранные ею изящные вещицы саркастическим взглядом или разваливался в каком-нибудь из ее роскошных кресел, закидывал одну на другую свои длинные ноги и сидел, уставившись в потолок.
Вскоре появилась Тайми. На ней была голубая блузка из материи, которую Сесилия купила на благотворительном базаре в пользу населения балканских стран, и юбка из лилового твида, вытканного обедневшими ирландками дворянского происхождения; в руке она держала незапечатанный конверт, на котором рукою Сесилии был написан адрес миссис Таллентс-Смолпис.
— Здравствуй! — сказала Тайми.
Мартин ответил ей взглядом, охватившим ее всю разом, с головы до ног.
— Надевай шляпу. Времени у меня немного. Это вот голубое на тебе что-то новое…
— Чистый лен. Мама купила.
— Ничего, неплохо. Ну, поторопись.
Тайми вскинула подбородок и этим ленивым движением! открыла во всей ее прелести круглую, цвета слоновой кости шею.
— Я сегодня какая-то вялая, — сказала Тайми. — И, кроме того, к обеду я должна быть дома.
— К обеду!
Тайми быстро повернулась и пошла к двери.
— Ну хорошо, хорошо, иду. — И она побежала наверх.
Когда они оплатили почтовый перевод на десять шиллингов, сунули квитанцию в конверт, адресованный миссис Таллентс-Смолпис, и уже миновали бесчисленные двери магазина Роза и Торна, Мартин сказал:
— Я хочу проверить, что предпринял наш дражайший дилетант в отношении ребенка. Если он еще не забрал оттуда девицу, там у них, наверно, черт знает что делается.
Лицо у Тайми сразу изменилось.
— Ты только помни, Мартин, — я ни в коем случае не хочу к ним заходить. К чему это, когда нас ждет масса всяких других дел.
— Всегда какие угодно «другие дела», только бы не то, которое нужно делать сейчас.
— Этот случай не имеет ко мне никакого отношения. Ты ужасно несправедлив ко мне, Мартин, мне эти люди неприятны.
— Эх ты, дилетантка!
Тайми вспыхнула.
— Слушай, Мартин, — проговорила она с достоинством. — Мне безразлично, как ты называешь меня, но я не позволю, чтобы называли дилетантом дядю Хилери.
— А кто же он, по-твоему?
— Я его люблю.
— Вполне убедительный аргумент.
— Да!
Мартин не ответил. Он поглядывал сбоку на Тайми, улыбаясь своей странной, покровительственной улыбкой. Они шли по улице, имеющей больше, чем Хаунд-стрит, оснований именоваться трущобами.
— Ты пойми, — заговорил вдруг Мартин, — интерес к этим делам у такого человека, как Хилери, — всего лишь повышенная чувствительность. Просто это действует ему на нервы. Для него филантропия то же, что сульфонал, средство от бессонницы.
Тайми взглянула на него ехидно.
— Ну и что же? Тебе это тоже действует на нервы. Но ты смотришь с точки зрения здоровья, а он — с точки зрения чувства, только и всего.
— Да? Ты так думаешь?
— Ты относишься ко всем этим людям так, словно это твои пациенты в больнице.
Ноздри молодого человека дрогнули.
— Ну хорошо, а как же надо к ним относиться?
— Тебе понравилось бы, если бы тебя стали рассматривать как медицинский «случай»?
Марти» медленно обвел рукой полукруг.
— Эти люди, эти дома мешают, — сказал он. — Мешают тебе, мне, каждому.
Тайми, как зачарованная, следила за этим медленным, будто все сметающим жестом.
— Да, конечно, я знаю, — прошептала она. — Необходимо что-то сделать.
И она вскинула голову и поглядела по сторонам, словно показывая ему, что и она может сметать ненужное. В эту минуту она, в своей юной красоте, казалась необычайно твердой и решительной.
В молчании, поглощенные высокими мыслями, молодые «оздоровители» дошли до Хаунд-стрит.
На пороге дома номер один стоял сын хромой миссис Баджен — худощавый, бледный юнец, такого же роста, как Мартин, но уже в плечах — и курил сомнительного вида папиросу. Он обратил на посетителей свои нагловатые мутные глаза.
— Вам кого? — спросил он. — Если девушку, так она выехала. И адреса не оставила.
— Мне нужна миссис Хьюз, — сказал Мартин.
Молодой человек закашлялся.
— Ну, ее-то вы застанете, а вот если вам нужен он, так обращайтесь по адресу Вормвуд Скрабз.
— Хьюз в тюрьме? За что?
— За то, что проколол ей руку штыком, — ответил юнец и выпустил через ноздри роскошный длинный завиток табачного дыма.
— Какой ужас! — воскликнула Тайми,
Мартин смотрел на молодого человека все так же невозмутимо.
— Ты куришь страшную дрянь, — сказал он. — Попробуй моих. Я тебе покажу, как надо скручивать. Сэкономишь шиллинг и три пенса на фунте табаку и не будешь отравлять себе легкие.
Достав кисет, он скрутил папироску. Бледнолицый паренек вяло подмигнул Тайми, которая, наморщив нос, делала вид, что находится где-то далеко.
Поднимаясь по узкой лестнице, где пахло краской, стиркой и копченой селедкой, Тайми сказала:
— Вот видишь, все это не так просто, как ты воображал. Я не хочу идти дальше, я не хочу ее видеть. Я подожду тебя здесь.
Она остановилась возле открытой двери в опустевшую комнату маленькой натурщицы. Мартин поднялся на следующий этаж.
В комнате с окнами на фасад стояла возле кровати миссис Хьюз, держа на руках ребенка. Вид у нее был испуганный и растерянный. Осмотрев раненую руку и заявив, что это всего лишь царапина, Мартин долго не спускал глаз с младенца. Крохотные ножки его как будто вдавились в тело, матери, глаза были закрыты, ручонки плотно прижаты к материнской груди. Пока миссис Хьюз излагала Мартину свою историю, тот стоял, все не отрывая глаз от младенца. По выражению лица молодого человека нельзя было определить, о чем он думает, но время от времени он двигал челюстями, словно мучаясь зубной болью. И правда, если судить по виду миссис Хьюз и ее ребенка, предписания молодого врача действия не оказали. Он наконец отвернулся от дрожащей, измученной женщины и подошел к окну. На подоконнике стояли два бледных гиацинта, их аромат проникал сквозь все запахи комнаты. Очень странно выглядели здесь эти два близнеца, заморенные дети света и воздуха.
— Их прежде не было, — сказал Мартин.
— Я принесла их снизу, — ответила миссис Хьюз едва слышно. — Мне стало жалко бедные цветочки, бросили их на погибель.
По ее горькому тону Мартин понял, что цветы стояли в комнате маленькой натурщицы.
— Выставьте их наружу, здесь они жить не будут, — сказал он. — Кроме того, их надо полить. Где у вас блюдца?
Миссис Хьюз посадила ребенка на кровать и, подойдя к посудному шкафу, где хранились все боги домашнего очага, достала два старых грязных блюдца. Мартин приподнял горшки с цветами, и вдруг из одного туго свернутого желтого цветка вылезла маленькая гусеница. Она вытянула кверху свое прозрачное зеленое тельце, отыскивая новое убежище. Крохотное извивающееся созданье, как чудо и тайна жизни, как будто насмехалось над молодым врачом, который смотрел на него, подняв брови: руки его были заняты, он не мог снять гусеницу с растения.
— Она явилась сюда из деревни. Там для нее нашлось бы сколько угодно мужчин, — сказала швея.
Мартин поставил цветы на окно и обернулся к ней.
— Послушайте, что толку плакать над пролитым молоком? Вам надо приняться за дело, подыскать себе работу.
— Да, сэр.
— И не говорите таким унылым тоном. Вы должны держаться бодро, понимаете?
— Да, сэр.
— Вам надо что-нибудь тонизирующее. Вот, возьмите полкроны, купите дюжину портера и выпивайте по бутылке в день.
И опять миссис Хьюз ответила:
— Да, сэр.
— А теперь относительно малыша.
Ребенок сидел с закрытыми глазками совершенно неподвижно там, где его посадили, в ногах кровати. Серое личико уткнулось в груду тряпок, в которые он был завернут.
— Неразговорчивый джентльмен, — пробормотал Мартин.
— Он никогда не плачет.
— Ну, хоть это хорошо. Когда вы его в последний раз кормили?
Миссис Хьюз ответила не сразу.
— Вчера вечером, около половины седьмого.
— Что?
— Он спал всю ночь. Ну а сегодня я, конечно, была сама не своя, и молоко пропало. Я давала ему молока в бутылочке, но он не берет.
Мартин наклонился к ребенку и дотронулся пальцем до его подбородка. Потом, нагнувшись еще ниже, отвернул веко маленького глаза.
— Ребенок умер, — сказал он.
Услышав слово «умер», миссис Хьюз схватила ребенка и прижала к груди. Держа его сникшую головку у самого своего лица, она молча качала его. Эта безнадежная немая борьба с вечным молчанием длилась целых пять минут женщина ощупывала младенца, пыталась согреть его своим дыханием. Потом села на кровать, низко склонившись над мертвым ребенком, и застонала…
То был единственный звук, который вырвался у нее, а потом в комнате стало совершенно тихо. Тишину нарушили шаги на скрипучей лестнице. Мартин, все это время стоявший сгорбившись у кровати, разогнул спину и пошел к двери.
На пороге стоял его дед и позади него Тайми.
— Она выехала из своей комнаты, — сказал мистер Стоун. — Куда она уехала?
Поняв, что старик говорит о маленькой натурщице, Мартин приложил палец к губам и, указывая на миссис Хьюз, шепнул:
— У этой женщины только что умер ребенок.
На лице мистера Стоуна как-то странно вдруг пропали все краски — он собирал свои далекие мысли. Он прошел мимо Мартина к миссис Хьюз.
Он долго стоял, пристально глядя на младенца и на темноволосую голову в отчаянии склонившейся над ним матери. Наконец он произнес:
— Бедная женщина. Но он успокоился.
Миссис Хьюз подняла голову, увидела перед собой старое лицо с запавшими щеками, увидела жидкие седые волосы и сказала:
— Он умер, сэр.
Мистер Стоун протянул слабую, испещренную венами руку и дотронулся до ножек ребенка.
— Он летит, он повсюду, он почти у самого солнца, о маленький брат!
И, повернувшись, вышел из комнаты.
Тайми шла за ним следом, когда он на цыпочках спускался с лестницы, которая при этом скрипела, казалось, еще громче. По щекам ее катились слезы.
Мартин сидел рядом с матерью и ее ребенком в тесной комнате, где царила тишина и где, как заблудившийся призрак, носился слабый запах гиацинтов.
ГЛАВА XXVII ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СТИВНА
Выходя на улицу, мистер Стоун и Тайми опять прошли мимо высокого бледнолицего паренька. Он уже выбросил самодельную папиросу, решив, что в ней недостаточно селитры и она плохо тянет, и снова курил такую, какая больше годилась для его легких. Он кинул на проходивших все тот же нагловатый мутный взгляд.
Мистер Стоун, не сознавая, по-видимому, куда идет, шагал, вперив взор в пространство. Время от времени голова у него дергалась, словно то качался на ветру засохший цветок.
Тайми, испугавшись, взяла старика под руку. Прикосновение мягкой девичьей руки вернуло мистеру Стоуну дар речи.
— В тех местах… — начал он, — на тех улицах… Я не увижу, как цветет алоэ, я не увижу живого умиротворения… «Как собаки, рычащие каждая над своей костью, жили тогда люди…»
И он снова умолк.
Тайми искоса поглядывала на деда и еще теснее прижималась к нему, будто стараясь теплом своего тела вернуть старика к будням жизни.
«Боже мой, хоть бы говорил он так, чтобы его можно было понять, думала она, волнуясь. — И хоть бы не смотрел таким страшным, невидящим взглядом».
В ответ на мысли внучки мистер Стоун проговорил:
— Мне было видение — я узрел Братство Человечества. Голый, залитый солнцем склон холма, и на нем каменный человек, беседующий с ветром. Я слышал, как днем кричала сова, как ночью куковала кукушка…
— Дедушка, дедушка!..
На эту мольбу мистер Стоун откликнулся:
— Да, что такое?
Но Тайми не знала, что ответить, слова эти вырвались у нее от страха.
— Если бы бедный ребеночек не умер, он бы вырос, и… — сказала она, запинаясь. — Ведь это к лучшему, правда?
— Все к лучшему, — ответил мистер Стоун. — «В те дни люди, поглощенные каждый своей индивидуальной жизнью, стенали перед смертью, игнорируя ту великую истину, что вселенная — одна бесконечная песнь».
Тайми подумала: «Еще никогда не видела я его в таком ужасном состоянии».
Она увлекала его за собой, заставляя идти быстрее. К величайшему своему облегчению она увидела, что на Олд-сквер сворачивает ее отец, держа наготове ключ от входной двери.
Стивн шел своим пружинистым шагом, хотя только что всю дорогу от Темпля проделал пешком. Он приветствовал их, помахав цилиндром. Цилиндр был черный и очень блестящий, не совсем овальный и не то чтобы круглый, с маленькими загибающимися полями. В этом цилиндре и в черном сюртуке, сильно открытом спереди и длинном сзади, Стивн выглядел особенно импозантно. Такой наряд подходил к его узкому лицу, на котором пролегли по две короткие параллельные борозды вниз от глаз и ноздрей; подходил к его подобранной худощавой фигуре, к плотно сжатым губам. Его нынешнее место в мире Закона вытеснило из его жизни (вместе с неуверенностью в размерах дохода) необходимость надевать парик и сбривать усы, но он по-прежнему их не отращивал.
— Откуда вы взялись? — спросил он в дверях, пропуская вперед дочь и тестя.
Мистер Стоун ничего ему не ответил, он прошел в гостиную, сел на край первого попавшегося стула, весь перегнулся вперед и свесил руки между колен.
Стивн, сухо глянув на него, вполголоса обратился к дочери:
— Дитя мое, что тебе вздумалось привести деда? Если сегодня к обеду мясо какого-нибудь высшего млекопитающего, твоя мать упадет в обморок.
Тайми ответила:
— Перестань шутить, папа.
Стивн, очень любивший дочь, понял, что дело неладно. Он посмотрел на нее с необычной серьезностью. Тайми отвернулась. Он услышал всхлипывание и встревожился не на шутку,
— Дорогая моя, — сказал он.
Негодуя на себя за отсутствие силы воли, Тайми сделала отчаянное усилие.
— Я видела мертвого ребенка! — выкрикнула она резко и, не прибавив больше ни слова, побежала вверх по лестнице.
Стивн испытывал подлинное, почти болезненное отвращение ко всякому проявлению чувств. Трудно даже сказать, когда он сам в последний раз грешил этим, — быть может, когда родилась Тайми, да и то наедине с самим собой: предварительно заперев дверь изнутри, он ходил из угла в угол, так стиснув в зубах свою любимую трубку, что чуть не откусил ее кончик. Он не привык также видеть проявление этой слабости в других. Сам того не сознавая, всем видом своим, манерой говорить он пресекал всякие попытки подобного рода, так что если Сесилия и была когда-либо к этому склонна, она давно уже должна была излечиться. К счастью, чувств своих, не слишком им доверяя, она и прежде никогда не выказывала до конца. А Тайми — этот здоровый плод их брака одновременно и моложе и старше своего возраста, чем были когда-то они сами, неспособная на глупые капризы, приверженная свежему воздуху и фактам, молодое, набирающее силы растение, гибкое, жизнеспособное, — ни разу не дала им ни малейшего повода для беспокойства.
Стоя подле вешалки для шляп, Стивн чувствовал, как ноет у него сердце. Он терпел и мог и дальше терпеть удары, которые судьба наносила и будет наносить ему, только бы при этом и он сам и другие умели ничем не выдать того, что это действительно удары.
Поспешно сняв и повесив шляпу, он побежал к Сесилии. Он все еще придерживался обыкновения стучать, прежде чем войти к ней, хотя она ему ни разу не ответила «не входите», потому что знала его стук. Обычай этот, в сущности, служил меркой его идеализма. Чего, собственно, Стивн боялся или полагал, что боится, — хотя за все девятнадцать лет всегда беспрепятственно входил в комнату жены, — определить было бы трудно; но он свято хранил в душе эту любовь к формальности, точности, сдержанности.
На этот раз он впервые вошел, не постучав, и застал Сесилию в тот момент, когда она, переодеваясь к обеду, застегивала крючки на платье и выглядела очень мило. Она взглянула на мужа с легким удивлением.
— Что это за история с каким-то мертвым ребенком, Сесси? Тайми в ужасном состоянии. А в гостиной сидит твой отец.
Тонкий инстинкт, вплетавшийся во все ощущения Сесилии, мгновенно — она бы и сама не могла объяснить, почему — обратил ее мысли сперва к маленькой натурщице, затем! к миссис Хьюз.
— Ребенок умер? — сказала она. — Ах, несчастная женщина!..
— Какая женщина?
— Я думаю, это миссис Хьюз.
У Стивна мелькнула мысль: «Опять эти люди! Что там еще у них стряслось?», — но он не был настолько груб или настолько лишен вкуса, чтобы высказать это вслух.
После минутного молчания Сесилия вдруг спохватилась:
— Ты говоришь, папа в гостиной? Боже мой, Стивн, у нас на обед говяжье филе!
Стивн отвернулся.
— Пойди к Тайми, посмотри, как она там, — сказал он.
Постояв возле комнаты дочери и ничего не услышав, Сесилия тихонько постучала. Ответа не последовало, и она проскользнула в дверь. На кровати в этой белой комнатке, уткнувшись лицом в подушку, лежала ее дочурка. Сесилия замерла на месте, потрясенная. Тело Тайми вздрагивало от сдерживаемых рыданий.
— Детка, дорогая, что с тобой?
Тайми ответила что-то невнятное.
Сесилия присела рядом на кровать и ждала, перебирая пальцами рассыпавшиеся волосы девушки. Ее охватило странное, мучительное ощущение: так бывает, когда на твоих глазах страдает тот, кто близок и дорог, и ты не знаешь причины его горя.
«Это просто ужасно, — думала она, — что мне делать?»
Всегда нелегко видеть, как плачет твое дитя, но если это дитя уже давно презирает слезы как нечто неженственное и противное ее представлению о чести и нормах поведения, тогда это тяжело вдвойне.
Тайми приподнялась на локте, старательно отворачивая лицо.
— Я не знаю, что со мной, — сказала она срывающимся голосом. — Это… это чисто физическое.
— Разумеется, дорогая, разумеется… Я понимаю, — ответила Сесилия вполголоса.
— Мамочка… — сказала вдруг Тайми, — он лежал такой крохотный…
— Успокойся, успокойся, родная.
Тайми резко повернулась к матери; ее потемневшие, заплаканные глаза, все ее мокрое пылающее лицо выражали яростное негодование.
— Ну почему, почему надо было, чтоб он умер? Это так… это так жестоко…
Сесилия обняла дочь.
— Мне так горько, дорогая, что тебе пришлось это увидеть, — шепнула она.
— А дедушка был такой…
Бурное рыдание не дало ей договорить.
— Ну, конечно, конечно, успокойся, — сказала Сесилия.
Стиснув на коленях руки, Тайми пробормотала:
— Он назвал его «маленьким братом».
По щеке Сесилии скатилась слеза и упала на руку дочери. Почувствовав, что слеза эта не ее, Тайми сразу выпрямилась.
— Малодушие и нелепость, — сказала она. — Больше я себе этого не позволю. Прошу тебя, мама, уйди! Я только и тебя заставляю волноваться. Лучше пойди к дедушке.
Поняв, что Тайми плакать больше не будет, — а ее больше всего растревожил именно вид этих слез, — Сесилия неуверенно погладила ее и вышла. Уже за дверью она подумала: «Как все получилось неудачно… и трогательно… Да еще папа там, в гостиной…»
И она поспешила вниз.
Мистер Стоун сидел на том же месте и так же неподвижно. Ее поразило, какой он бледный, слабый. В приглушенном свете гостиной он в своем костюме из серого твида казался призраком — весь с головы до ног серебристо-серый. Она почувствовала укол совести. Про очень старых людей написано, что к концу своего долгого пути они будут все удаляться от страны понимания их молодыми, пока естественные привязанности не закроет наползающий туман — такой же, какой стелется по болотам, когда садится солнце. Сесилии стало больно и стыдно за все те случаи, когда она думала: «Если бы только отец не был таким…»; за все те случаи, когда она не приглашала его в гости, потому что он стал такой; за все те случаи, когда они со Стивном встречали молчанием его слова; за все ее улыбочки… Ее тянуло подойти и поцеловать отца в лоб, чтобы он почувствовал, как ей больно. Но она не посмела: он был так погружен в свое. Нет, это получится некстати.
Подойдя к камину и с шумом поставив стройную ногу на решетку, чтобы привлечь внимание отца, Сесилия повернула к нему встревоженное лицо и сказала:
— Папа!
Мистер Стоун поднял глаза, увидел перед собой старшую дочь и ответил:
— Да, дорогая?
— Ты уверен, что вполне здоров?
Тайми говорит, что ты очень разволновался из-за бедного ребенка.
Мистер Стоун ощупал себя.
— У меня ничего не болит, — сказал он.
— Тогда ты можешь остаться к обеду, дорогой, не правда ли?
Мистер Стоун наморщил лоб, будто старался вспомнить что-то.
— Я сегодня не пил чай, — сказал он. И добавил, обеспокоенно взглянув на дочь: — Девушка сегодня не пришла. Мне недостает ее. Где она?
Боль в сердце Сесилии стала острее.
— Ее нет вот уже два дня, — продолжал мистер Стоун. — И она выехала из своей комнаты в том доме, на той улице.
Сесилия, решительно не зная, как ей быть, ответила:
— Тебе правда так сильно недостает ее, папа?
— Да, — ответил мистер Стоун. — Она похожа… — Глаза его блуждали по комнате, будто отыскивая что-то, что помогло бы ему выразить свою мысль. Вот они остановились на дальней стене. Проследив за его взглядом, Сесилия увидела, что там скользит и танцует солнечное пятнышко: оно преодолело преграды из домов и деревьев, проникло через какую-то щелочку и ворвалось в комнату. — Она похожа на это, — сказал мистер Стоун, указывая пальцем: на кусочек солнечного света. — Вот его уже нет!
Он опустил палец и глубоко вздохнул. «Как все это мучительно! подумала Сесилия. — Никак не ожидала, что для него это окажется таким болезненным. Но что я могу поделать?» Она поспешно спросила:
— А что если ты будешь диктовать Тайми? Она охотно согласится, я уверена.
— Она моя внучка, — ответил мистер Стоун просто. — Это совсем другое.
Не найдя, что ответить, Сесилия предложила:
— Не хочешь ли помыть руки, дорогой?
— Да.
— Тогда пройди в туалетную Стивна, там есть горячая вода. Или, может быть, ты предпочитаешь умыться в ванной?
— В ванной, — ответил мистер Стоун. — Там я буду чувствовать себя свободнее.
Он ушел, и Сесилия подумала: «Боже мой, как только я выдержу сегодняшний вечер! Бедный папа, — какой у него односторонний ум!»
При звуках гонга все собрались за обеденным столом: спустилась сверху Тайми с покрасневшими глазами и щеками, пришел Стивн, тая в глазах вопрос, пришел, умывшись в ванной, мистер Стоун; всех их заслонял друг от друга, хотя и недостаточно, букет белой сирени. Окинув их взглядом, Сесилия испытывала чувство человека, который видит, что усыпанной росинками паутине — самому непрочному, что только есть в мире, — угрожает язык коровы.
Уже были съедены и суп и рыба, а за столом все еще никто не произнес ни слова. Молчание нарушил Стивн. Отхлебнув глоток сухого хереса, он сказал:
— Как подвигается ваша книга, сэр?
Вопрос этот почти испугал Сесилию. Он был поставлен слишком бесцеремонно. Пусть отец действительно сверх всякой меры увлечен своей книгой, но ведь для него она дороже всего на свете. К своему облегчению она увидела, что отец ест шпинат и ничего не слышит.
— Я полагаю, она уже близится к завершению? — продолжал Стивн.
Сесилия поспешно сказала:
— Эта белая сирень прелестна, правда, папа?
Мистер Стоун поднял глаза.
— Она не белая, она розовая. Это нетрудно проверить.
Он замолчал, устремив взгляд на сирень.
«Ах, если бы только удержать его на такой теме, он всегда так интересно рассказывал о природе», — думала Сесилия.
— Все цветы — один-единый цветок, — сказал мистер Стоун.
Голос его теперь звучал по-иному.
«О боже, опять…»
— У них у всех одна душа. В те дни люди разделяли и подразделяли их, забыв, что единый бледный дух лежит в основе этих внешне как будто различных форм.
Сесилия бросила взгляд сперва на лакея, затем на Стивна.
Она увидела, что муж заметно приподнял одну бровь. Стивн терпеть не мог путаницы в понятиях.
— Помилуйте, сэр, — услышала Сесилия его голос. — Уж не хотите ли вы уверить нас, что у роз и одуванчиков — в основе один и тот же бледный дух?
Мистер Стоун поглядел на него с грустью.
— Я так сказал? Я не хотел быть догматичным.
— Нет, сэр, что вы, разумеется, нет, — пробормотал Стивн.
Тайми, нагнувшись к матери, шепнула:
— Мама, ради бога, не давай дедушке развивать свои фантазии, сегодня я просто не в силах это вынести.
Сесилия, растерявшись, поспешно спросила:
— Скажи, папа, как по-твоему: какой тип лица у молоденькой девушки, которая приходит к тебе писать?
Мистер Стоун перестал пить воду: Сесилии, очевидно, удалось завладеть его вниманием. Но он все же ничего не ответил. Тут она увидела, что лакей из какого-то чувства противоречия — этим, казалось ей, отличалась вся ее прислуга — уже собирается подать ему говяжье филе. Она отчаянно зашептала одними губами:
— Нет, Чарлз, нет, не надо, не надо!..
Лакей, поджав губы, прошел мимо. Мистер Стоун заговорил:
— Я не задумывался над этим. У нее тип скорее кельтский, чем англосаксонский. Скулы сильно выдаются, подбородок небольшой, череп широкий — если не забуду, я его смеряю, — глаза особенного голубого цвета, напоминают цветы цикория; рот…
Мистер Стоун умолк.
«Как я удачно выбрала тему, — подумала Сесилия. — Может быть, так он будет говорить и дальше».
— Вот не знаю, добродетельна ли она, — сказал мистер Стоун каким-то отчужденным голосом.
Сесилия слышала, как Стивн отхлебнул хересу, и Тайми тоже что-то пила; сама она не пила ничего, но, вся порозовев и все же спокойно — она была хорошо воспитана, — сказала:
— Ты не попробовал молодого картофеля, папа. Чарлз, подайте мистеру Стоуну молодого картофеля.
Но Сесилия заметила почти мстительное выражение на лице мужа: из-за ее неудачи с выбором темы ему приходилось снова брать инициативу в свои руки.
— Если уж говорить о братстве, сэр, — сказал он сухо, — стали бы вы утверждать, что молодой картофель — брат бобов?
Мистер Стоун, перед которым лежали на тарелке оба эти овоща, казалось, смутился чрезвычайно.
— Я не замечаю разницы между ними, — проговорил он, запинаясь.
— Верно, — сказал Стивн, — из них обоих добывают один и тот же бледный дух, именуемый алкоголем.
Мистер Стоун посмотрел на зятя.
— Вы смеетесь надо мной. Тут я ничего не могу поделать. Но вы не должны смеяться над жизнью, это богохульство.
Печальный, проникающий в душу взгляд старика устыдил Стивна, Сесилия видела, что он закусил нижнюю губу.
— Мы слишком много болтаем, — сказал он, — мы мешаем есть твоему отцу.
И до конца обеда никто не проронил ни слова.
Когда мистер Стоун, отказавшись от провожатых, отбыл домой, а Тайми ушла к себе спать, Стивн уединился в своем кабинете. Здесь все было не так, как в остальных комнатах: это было святилище, здесь проходила личная жизнь Стивна. Здесь в особых, сделанных по специальному заказу хранилищах он держал свои палки для гольфа, трубки и бумаги. Никто в доме, кроме него самого, не смел ни к чему прикасаться, лишь дважды в неделю всегда одна и та же горничная делала уборку. Здесь не было бюста Сократа, не было книг в переплетах из оленьей кожи, зато стоял шкаф, полный книг по юриспруденция, парламентских отчетов, журналов и романов сэра Вальтера Скотта; а у другой стены — два шкафчика темного дуба, состоящих из небольших выдвижных ящиков. Когда ящики выдвигались, слышался запах мази для чистки металла. Стоило приподнять куски зеленого сукна, закрывающие каждый ящик, — и обнаруживались монеты, тщательно рассортированные и снабженные ярлычками, — так к посаженным в ряд растениям прикрепляют дощечки с их наименованиями. К этим аккуратным рядам блестящих металлических кружков Стивн обращался в те моменты жизни, когда дух его слабел. Прибавить к ним новый экземпляр, коснуться их, прочитать наименования — все это давало ему тайную радость, будто он мысленно потирал руки от удовольствия. Как пьяница, Стивн тянул маленькими глотками то наслаждение, какое давали ему эти монеты. Они были творческой стороной его жизни, его историей мира. Им он отдавал ту часть души, которая отказывалась довольствоваться составлением резюме по вопросам законодательства, игрой в гольф и чтением журналов, — ту часть души, которая, неведомо почему, жаждет что-то создать, прежде чем человек умрет. Монеты от Рамсеса до Георга IV лежали в этих ящиках — звенья длинной неразрывной цепи власти.
Переодевшись в старый черный бархатный пиджак, лежавший наготове на стуле, и раскурив трубку, за которую никогда не брался, не сняв предварительно смокинга, Стивн подошел к правому шкафчику, открыл его и с улыбкой стал вынимать монеты одну за другой. В этом ящике хранились особенно редкие монеты знаменитой Византийской династии. Стивн не слышал, что в комнату тихонько вошла Сесилия и стояла, глядя на него. Глаза ее в эту минуту, казалось, выражали сомнение в том, действительно ли она любит этого человека, так увлеченного этой своей возлюбленной, которой он уделял столько внимания, с которой проводил столько вечеров. Кусок зеленого сукна упал на пол. Сесилия сказала:
— Стивн, мне кажется, я должна сообщить отцу, куда переехала девушка.
Стивн обернулся.
— Дорогая моя, — начал он тем особым тоном, сухость которого, как в шампанском, приобреталась искусственным путем. — Неужели ты хочешь начать все сначала?
— Но я вижу, как папу это потрясло: он очень побледнел и исхудал.
— Ему надо прекратить купание в Серпантайне, в его возрасте это просто чудовищно. А девицу эту, надо полагать, с успехом заменит любая другая.
— Как видно, для него очень важно диктовать именно ей.
Стивн пожал плечами. Однажды ему довелось присутствовать при том, как мистер Стоун с пафосом прочел несколько страниц своей рукописи. Стивн не мог забыть неприятного смущения, какое тогда испытал. «Этот бред», как он выразился потом в разговоре с Сесилией, застрял у него в мозгу — тяжелый и сырой, как холодная припарка из льняного семени. Отец его жены явно чудаковат, может быть, даже больше того — чуточку «тронутый». Она тут, конечно, не виновата, бедняжка, но при всяком упоминании об «этом бреде» Стивна просто передергивало. Не забыл он и случая за обедом.
— Отец, по-видимому, успел привязаться к ней, — сказала Сесилия тихо.
— Но это нелепо — в его возрасте!
— Может быть, именно его возрастом это и объясняется. В старости люди тоскуют о многом.
Стивн задвинул ящик. В этом жесте чувствовалась холодная решимость.
— Послушай, Сесилия, — начал он. — Обратимся к здравому смыслу, уже достаточно им пренебрегали в угоду сантиментам в связи с этой неприятной историей. Доброта, конечно, прекрасная вещь, но где-то надо все же положить ей предел.
— Да, но где именно?
— Это было ошибкой с самого начала. До определенного момента все идет хорошо, потом нарушаются и порядок и удобства. Нельзя вступать в непосредственные отношения с этими людьми. Для такого рода дел имеются другие каналы.
Сесилия стояла, опустив глаза, словно не хотела, чтобы он прочел ее мысли.
— Все получилось ужасно неприятно, — сказала она. — Отец ведь не такой, как другие люди.
— Вот именно, — сказал Стивн сухо. — Сегодня мы имели случай в этом убедиться. Но Хилери и твоя сестра — такие, как все. Кроме того, мне весьма не нравится, что Тайми посещает трущобы. Видишь, с чем ей сегодня пришлось столкнуться? Ребенок погиб из-за того, что Хьюз скверно обращался с женой, несомненно, потому, что девушка съехала от них, — все это просто отвратительно!
Сесилия ахнула.
— Мне это не приходило в голову. Значит, за все несем ответственность мы. Ведь это мы посоветовали Хилери поместить ее на другую квартиру.
Стивн уставился на жену; он искренне сожалел, что юридический склад ума заставил его так четко обрисовать ситуацию.
— Просто не понимаю, что это с вами со всеми? — сказал он резко. — Мы ответственны! Это потому, что мы дали Хилери здравый совет? Больше ничего не скажешь?
Сесилия отвернулась к пустому камину.
— Тайми рассказала мне о бедном малютке… Все-таки это ужасно, и я не могу отделаться от ощущения, что мы… что все мы тут замешаны.
— В чем замешаны?
— Не знаю. Просто у меня такое чувство… меня будто преследует…
Стивн бережно взял ее за руку.
— Дорогая моя, я понятия не имел, что у тебя нервы в таком состоянии. Завтра четверг, я уже в три часа могу уйти домой. Мы проедемся в Ричмонд и сыграем несколько партий в гольф.
Сесилия задрожала; одно мгновение казалось, что она вот-вот разрыдается. Стивн, не переставая, гладил ее плечо. Сесилии, очевидно, передался его страх перед проявлением чувств, она честно силилась побороть волнение.
— Это будет очень мило, — сказала она наконец. Стивн с облегчением вздохнул.
— И не беспокойся за отца, дорогая: через день-два он обо всем забудет, он так поглощен своей книгой. Иди-ка ты спать. Я тоже сейчас приду.
Прежде чем выйти, Сесилия оглянулась на мужа. Удивительный это был взгляд, которого Стивн, быть может, умышленно не видел! Насмешливый, почти ненавидящий, и в то же время в нем была благодарность за то, что ей не позволили отдаться порыву, хоть раз уступить силе чувств; этот взгляд говорил, как ясно понимала она его мужское нежелание поддаваться чувству и как почти восхищалась в нем этой чертой, — все это и еще многое другое выражал этот взгляд. Затем она вышла.
Стивн быстро глянул на дверь и, поджав губы, нахмурился. Он распахнул окно и глубоко вдохнул ночной воздух.
«Если я не послежу, она даст запутать себя в эту историю, — думал он. Я вел себя, как осел — зачем мне понадобилось говорить с Хилери? Надо было все это просто игнорировать. Вот урок: нельзя вступать в какие бы то ни было отношения с этими людьми. Надеюсь, завтра она уже придет в себя».
А на улице, под мягкой темной листвой сквера, под тонким серпом луны, две кошки гонялись одна за другой в поисках счастья; их дикие страстные крики звенели в напоенном благоуханием воздухе, как крик темного человечества в джунглях тусклых улиц. С дрожью отвращения — ибо нервы у него были напряжены — Стивн захлопнул окно.
ГЛАВА XXVIII ХИЛЕРИ СЛЫШИТ КУКОВАНИЕ КУКУШКИ
Не одна только Сесилия заметила, как бледен был мистер Стоун все последние дни.
Та буйная сила, которая каждый год посещает наш мир, гонит, могучая и ласковая, белоснежные облака и с ними их темные тени, ломает все покровы и оболочки и охватывает землю мощным объятием; та буйная сила, которая обращает одни формы к другим и своими бесчисленными прыжками, быстрыми, как полет ласточки, как стрелы дождевых струй, торопит все к нежному единению; та великая буйная сила всяческой жизни, которую называют Весной, вошла в мистера Стоуна, как входит в старые мехи новое вино. И, глядя, как старик каждое утро с мохнатым полотенцем на пледе отправляется в парк, Хилери, к которому тоже пришла весна, опасался, как бы на этот раз его тесть не оставил свой дух в студеных водах Серпантайна: так и казалось, что дух этот вот-вот пробьется сквозь хрупкую скорлупу.
Прошло четыре дня после того разговора с маленькой натурщицей, когда Хилери дал ей отставку, и жизнь в доме — в этой тихой заводи, заглушенной лилиями, — как будто вновь обрела спокойствие, царившее здесь до вторжения грубой прозы жизни. Ничто бы не указывало на то, что здесь произошли какие-то волнующие события, если бы не белое, как бумага, лицо мистера Стоуна да еще некоторые чувства, относительно которых хранилось гробовое молчание.
На утро пятого дня, увидев, что мистер Стоун споткнулся на гладких плитах садовой дорожки, Хилери поспешил завершить свой туалет и отправился следом. Он догнал тестя, когда тот еле брел под свечками цветущего каштана; серый пиджак на поднятых плечах мистера Стоуна побелел от хлеставшего по нему града. Не поздоровавшись — мистер Стоун относился равнодушно к соблюдению формальностей, — Хилери зашагал с ним в ногу и сказал:
— Надеюсь, сэр, вы не станете купаться, когда идет такой град? Сделайте на этот раз исключение. У вас не вполне здоровый вид.
Мистер Стоун помотал головой, затем, продолжая, очевидно, мысль, прерванную Хилери, заметил:
— То, что люди называют честью, — чувство довольно сомнительной ценности. Мне пока не удалось соотнести честь с идеей о всемирном братстве.
— Как это, сэр?
— Основа чести — верность принципу, и можно было бы предположить, что она достойна этого союза. Трудность возникает, когда мы начинаем анализировать природу самого принципа… В саду есть семья молодых дроздов. Если один из них найдет червя, я замечаю, что верность принципу самосохранения, преобладающему во всех низших формах жизни, запрещает дрозду делиться добычей с остальными юными дроздами. — Мистер Стоун устремил взгляд в пространство. — Вот так же, боюсь, и в отношении чести. «В те дни мужчины смотрели на женщин, как дрозды на червей…»
Он умолк, очевидно, в поисках подходящего слова, и Хилери, чуть улыбнувшись, спросил:
— А как смотрели женщины на мужчин, сэр? Мистер Стоун взглянул на него с удивлением.
— Я не подумал, что это вы, — сказал он. — Мне надо избегать умственной деятельности перед купанием.
Они пересекли дорогу, отделяющую Кенсингтонский сад от Хайд-парка, и Хилери, поняв, что мистер Стоун завидел воду, в которой собирался купаться, и ничего другого уже не видит, остановился возле одинокой березки. Эта гостья сада, стройная обитательница лесов, так долго купавшаяся в зимней стуже, теперь окутывала свою наготу зеленым шарфом. Хилери прислонился к ее прохладному, жемчужно-белому телу. Внизу плескались студеные воды, то серые, то нежно-голубые, и в них светлыми пятнами мелькали десятка два купающихся. Пока Хилери стоял так, дрожа на ледяном ветру, солнце, прорвавшись сквозь градовые тучи, обожгло ему руки и щеки. И вдруг он услыхал ясно, хотя очень издалека звук, особенно трогающий человеческое сердце: ку-ку, ку-ку…
Четыре раза подряд прозвучал неожиданный зов. Откуда залетела эта неосторожная, нескромная серая птица в пристанище людей и «теней»? Зачем; примчалась она сюда своим стремительным полетом, зачем пронзает насмешливым криком! сердце и заставляет его томиться? Ведь за пределами города столько деревьев, столько ложбин, прикрытых облаками, и зарослей расцветающего дрока, где она могла бы встречать приход весны! Какой мрачный каприз природы послал ее сюда куковать тому, кто уже покончил с весной?
Болезненная спазма сжала сердце Хилери, и он, прогнав мысль о далекой птице, спустился к самой воде.
Мистер Стоун плыл — так медленно, как не плавал еще ни один человек. Видны были только его белые волосы и тощие руки, слабо раздвигающие воду. И вдруг он исчез. Только что он был ярдах в десяти от берега, и Хилери, испугавшись, что он не всплывает, вбежал в воду. Здесь было неглубоко. Мистер Стоун, сидя на дне, изо всех сил старался подняться. Хилери схватил его за купальный костюм, вытянул на поверхность и, поддерживая, повел на сушу. К толку времени, как они выбрались из воды, старик едва держался на ногах. С помощью полисмена Хилери кое-как надел на него костюм и усадил в кэб. Мистер Стоун немного ожил, но, по-видимому, не понял, что произошло.
— Я сегодня пробыл в воде меньше обычного, — размышлял он вслух, когда они выехали на дорогу.
— Нет, что вы, сэр!
Мистер Стоун казался озабоченным.
— Странно, я не помню, как я выходил из воды, — сказал он.
Он молчал всю дорогу и заговорил лишь тогда, когда с помощью Хилери вылез из кэба.
— Я хочу заплатить кучеру. У меня дома есть полкроны.
— Я принесу их, сэр, — сказал Хилери.
Едва мистер Стоун оказался на ногах, как его охватила неудержимая дрожь. Он подмял лицо к кэбмену.
— Нет ничего благороднее лошади, — сказал он. — Заботьтесь о ней.
Кэбмен снял перед ним шляпу.
— Слушаюсь, сэр.
Мистер Стоун шел самостоятельно, но Хилери не спускал с него глаз, пока он не добрался до своей комнаты. Старик двигался ощупью, словно недостаточно хорошо различал предметы сквозь кристальную ясность вселенной.
— Позвольте дать вам совет, сэр, — сказал Хилери. — На вашем месте я бы лег на несколько минут в постель. Мне кажется, вы немного простыли.
Мистер Стоун, и в самом деле дрожавший так, что еле стоял, позволил Хилери уложить себя в постель и укутать одеялами.
— В десять часов я должен приступить к работе, — сказал он.
Хилери, которого тоже сильно трясло, поспешил к Бианке. Она спускалась по лестнице из своей комнаты и ахнула, увидев, что он насквозь мокрый. Он рассказал, что произошло, и она коснулась его плеча.
— А как ты? Ты весь вымок.
— Приму горячую ванну, выпью спиртного, и все будет в порядке. Лучше пойди к нему.
И он пошел в ванную комнату, где стояла Миранда, подняв переднюю белую лапку. Сжав губы, Бианка бегом пустилась по лестнице. Потрясенная рассказом мужа, она готова была сжать его в объятиях, вот так, как он был, в мокром костюме, но между ними стояли бесчисленные призраки прошлого. Прошел и этот момент и тоже стал призраком.
К величайшему своему негодованию мистер Стоун в десять часов не смог приступить к работе над книгой. Он просто-напросто не в силах был подняться и объявил, что намерен подождать до половины четвертого — тогда он встанет, ему надо подготовиться к приходу девушки. Поскольку он отказался от доктора и не пожелал смерить температуру, определить, сильный ли у него жар, было трудно. На щеках его, еле видных из-под одеяла, румянец был сильнее, чем следовало бы, а глаза, устремленные в потолок, подозрительно блестели. Усугубляя тревогу Бианки — она села как можно дальше, чтобы отец ее не увидел и не счел, что она оказывает ему услугу, — он вслух продолжал свои мысли:
— Слова… слова… они унесли с собой братство!
Бианка вздрогнула, услышав этот замогильный голос.
— «В те дни владычества слов они называли это смертью — бледной смертью, mors pallida. Слово это они видели как огромную гранитную глыбу, которая висела над ними и медленно опускалась. Некоторые, повернувшись к ней лицом, трепетали, ожидая гибели. Другие, не умевшие живыми понять мысль о небытии, раздувшись от некоего духовного ветра и каждый помышляя лишь о своей индивидуальной форме, непрерывно возвещали, что души их должны пережить и переживут это Слово, — что каким-то образом, каким именно, никто не мог понять, — всякая самоосознавшая себя единица после своего распада снова воссоединится. Опьяненные этой идеей, и они тоже исчезали. Некоторые ждали Слова мрачно, с сухими глазами, и говорили, что это — молекулярный процесс, и эти тоже встречали свою так называемую смерть».
Голос умолк, послышался другой звук: старик смачивал языком сухое небо. Перегнувшись через спинку кровати, Бианка поднесла к губам отца стакан с ячменной водой. Он пил воду медленно, громко причмокивая, потом, увидев, что стакан держит чья-то рука, сказал:
— Это вы? Вы приготовились? Пишите: «В те дни никто не сделал прыжка вверх к Бледному Всаднику, никто не прочел в его лице, что он и есть воплощение братства, никто с сердцем, легким, как осенняя паутинка, не поцеловал его ног и, улыбаясь, не растворился во вселенной…» — Голос его вдруг затих, а когда послышался снова, это был быстрый, хриплый шепот: — Я должен… я должен… — Мистер Стоун помолчал, затем добавил: — Дайте мне мои брюки.
Бианка положила брюки ему на постель. Вид их как будто успокоил его. Он снова умолк.
Больше часа он лежал так неподвижно, что Бианка то и дело вставала взглянуть на него. И каждый раз глаза его были широко раскрыты и устремлены на темное пятно на потолке; лицо старика выражало непреклонную решимость, как будто дух его медленно, упорно вновь забирал власть над лихорадящим телом. Неожиданно мистер Стоун спросил:
— Кто здесь?
— Бианка.
— Помоги мне встать.
Краски схлынули с его лица, блеск в глазах потух, — он казался призраком. Испытывая чуть ли не ужас, Бианка помогла ему подняться. Было что-то жуткое в этом зловещем, немом проявлении воли.
Когда он был уже одет в свой шерстяной халат и усажен в кресло возле горящего камина, Бианка принесла ему чашку крепкого мясного бульона с коньяком. Он проглотил его с большой жадностью.
— Я бы выпил этого еще, — сказал он и заснул. Пока он спал, пришла Сесилия, и сестры вдвоем! охраняли сон отца, чувствуя, что уже много лет не были так близки друг другу. Собравшись уходить, Сесилия шепнула:
— Послушай, Бианка, если папа будет спрашивать про девушку, ты не думаешь, что надо послать за ней, пока он в таком состоянии?
— Я не знаю, где она живет.
— Я знаю.
— Ах да, разумеется, — сказала Бианка и отвернулась.
Сесилия молчала, смущенная ее саркастическим тоном. Потом, призвав все свое мужество, проговорила:
— Вот ее адрес, он у меня записан. — И, морщась от мучительной тревоги, вышла из комнаты.
Бианка, сидя в старом, золоченой кожи кресле, глядела на спящего — на глубокие впадины чуть пониже его висков, на седые щетинки вокруг рта, которые слабо шевелились от его дыхания. Уши у нее горели огнем. Глядя, как этот дряхлый старик, который, оказывается, так ей дорог, ведет великую битву за свою идею, Бианка чувствовала, что теряет обычную выдержку, что душа ее смягчается и трепещет. Ее вдруг охватило страстное желание стушеваться. Какое имеет значение, первое или второе место она занимает в сердце Хилери? Дух ее так явно покажет, что он способен к самопожертвованию, что Хилери за одно благородство отдаст ей пальму первенства. В этот момент она, кажется, была готова заключить в объятия эту простенькую девушку, поцеловать ее. Тогда бы конец всем тревогам! Один краткий миг златокрылая птица, посланец Гармонии, реяла перед ней. От этого состояния экзальтации нервы Бианки вибрировали, как скрипичные струны.
В половине четвертого мистер Стоун проснулся, и Бианка тотчас протянула ему вторую чашку крепкого бульона.
Он выпил все и спросил:
— Что это?
— Мясной бульон.
Мистер Стоун посмотрел на пустую чашку.
— Я не должен был это пить. Корова и овца находятся на той же ступени, что и человек.
— Ну как ты себя чувствуешь, дорогой?
— Я способен диктовать ранее написанное, не больше, — ответил мистер Стоун. — Она пришла?
— Еще нет. Но я пойду и приведу ее, если хочешь. Мистер Стоун грустно поглядел на дочь.
— Это значило бы, что я отнимаю у тебя время, — сказал он.
Бианка ответила:
— Мое время ничего не стоит.
Мистер Стоун протянул руки к огню.
— Я не соглашусь быть кому бы то ни было в тягость, — сказал он, очевидно, про себя. — Если дошло до этого, я должен уйти!
Бианка, встав перед ним на колени, прижалась горячей щекой к его виску.
— Но до этого же не дошло, папа!
— Надеюсь, что нет. Я хочу прежде окончить свою книгу.
Осмысленность этих двух последних замечаний ужаснула Бианку больше, чем все его лихорадочное бормотание.
— Ты посиди смирно, — сказала она, — пока я пойду и разыщу ее.
Она вышла из комнаты с таким ощущением, как будто чьи-то руки сжали ей сердце и рвут его на части.
Полчаса спустя вошел тихонько Хилери и встал у двери. Мистер Стоун, сидя на самом краю кресла, положив руки на подлокотники, медленно поднимался на ноги и снова медленно заваливался назад: он проделал это уже много раз, силясь встать. Увидев Хилери, он сказал:
— Два раза мне удалось.
— Я очень рад, сэр. Быть может, теперь вы отдохнете?
— Это все мои колени, — сказал мистер Стоун. — Она пошла разыскивать ее.
Сбитый с толку этим известием, Хилери сел и стал ждать.
— Я вообразил, что, уходя из жизни, мы становимся ветром, — проговорил мистер Стоун печально и посмотрел на Хилери. — Вы тоже так полагаете?
— Для меня это новая мысль.
— Она несостоятельна, но она успокаивает. Ветер нигде и повсюду, и ничто от него не скрыто. Когда я почувствовал, что мне недостает этой юной девушки, я пытался, в определенном смысле, стать ветром, но я понял, что это трудно. — Он отвел взгляд от лица Хилери, не заметив его невеселой улыбки, и снова уставился на яркий огонь. — «В те дни, — сказал он, — отношение людей к вечным дуновениям воздуха было отношением миллиарда маленьких отдельных сквознячков, направленных против юго-западного ветра. Они не хотели смешиваться с этим мягким» вздохом, который испустила луна, но дули в ее лик через трещины и щели и замочные скважины, и их уносило в прозрачное странствие, и они свистели, протестуя». — Он снова попробовал встать, видимо, желая подойти к конторке и записать эту мысль, но не смог и горестно посмотрел на Хилери. Как видно, он хотел было попросить его о чем-то, но удержался. — Если я буду усердно упражняться, — бормотал он, — я это преодолею.
Хилери встал и принес ему бумагу и карандаш. Наклоняясь к старику, он увидел, что глаза его подернуты влагой. Зрелище это так разволновало Хилери, что он поспешил отвернуться, пошел и принес книгу, чтобы подложить ее под бумагу.
Кончив писать, мистер Стоун закрыл глаза и откинулся в кресле. Тяжелое молчание нависло над этими двумя людьми разных поколений и столь несходных характеров. Хилери нарушил это молчание.
— Сегодня я слышал кукушку, — сказал он почти шепотом, на случай, что старик, быть может, уснул.
— У кукушки нет ни в малейшей степени чувства братства.
— Я прощаю ее — за ее кукование, — пробормотал Хилери.
— Ее кукование маняще, — сказал мистер Стоун, — оно возбуждает половой инстинкт. — И добавил про себя: — А она еще не пришла!
В тот момент, как он произносил эти слова, Хилери услышал легкий стук в дверь. Он встал и открыл ее. На пороге стояла маленькая натурщица.
ГЛАВА XXIX ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЛЕНЬКОЙ НАТУРЩИЦЫ
В этот самый день на Хай-стрит, в Кенсингтоне, «вест-министр» в шляпе, закапанной дождем, подняв воротник в защиту от жестокого ветра, тянул свою глиняную трубку и сквозь очки в железной оправе глядел на прохожих. У него купили еще удручающе мало его зеленоватого цвета газет, и «тип из низов», продававший вечерние выпуски другой газеты, просто выводил его из себя. Мистер Крид со своим односторонним умом, всегда разрываемый между лояльностью к работодателям и политической платформой, которой не разделяла его газета, дважды, пока стоял на своем посту, дал выход раздражению. В первый раз он сказал продавцу «Пэл-Мэл»:
— Я ведь условился с тобой, чтобы ты не заходил дальше этого фонаря! И не смей больше никогда со мной разговаривать! Вздумал выживать меня с моего места!
Во второй раз он крикнул мальчуганам, продававшим дешевые газетки:
— Эй, вы, там, смотрите, я заставлю вас пожалеть об этом! Вырываете у меня покупателей из-под носа! Подождите, и вы состаритесь…
На что мальчишки ему ответили:
— Ладно, папаша, не бесись. Ты и без того скоро ноги протянешь, чего уж там.
Теперь наступил час, когда мистер Крид обычно пил чай, но продавец «Пэл-Мэл» отлучился с той же целью, и мистер Крид все не уходил в слабой надежде перехватить хотя бы одного или двух покупателей этого «типа». Так он стоял в полнейшем одиночестве, когда вдруг услышал сбоку от себя робкий голос:
— Мистер Крид…
Старый лакей обернулся и увидел маленькую натурщицу.
— Ах, это вы, — сказал он сухо.
Он знал, что девушка зарабатывает себе на жизнь, прислуживая в этом беспорядочном учреждении — Храме Искусства, — и, верный своей страсти к рангам, сразу поставил ее на общественной лестнице где-то пониже горничной. Последние события давали ему достаточно оснований, чтобы составить о ней нелестное мнение. Ее обновы, которых он не удостоился видеть прежде, навели его мысли на праздник и в то же время усугубили сомнения относительно ее нравственности.
— Где же вы теперь живете? — спросил он тоном, изобличающим его чувства,
— Я не должна говорить.
— Ну что ж, пожалуйста. Можете держать свои секреты про себя.
Нижняя губка маленькой натурщицы уныло отвисла. Под глазами у нее была синева, лицо осунулось и выглядело жалким.
— Что же вы не расскажете, что нового? — спросила она своим деловитым тоном.
Старый лакей издал неясное ворчание.
— Гм… Младенец умер, завтра хоронят.
— Умер… — повторила за ним маленькая натурщица.
— Я тоже пойду на похороны — на Бромптонское кладбище. В половине десятого выхожу из дому. Только это я с конца начал. Хьюз в тюрьме, а жена его стала, как тень.
Маленькая натурщица потерла руки о юбку.
— За что он сел в тюрьму?
— За то, что бросился на жену с оружием. Я был на суде свидетелем.
— Почему он на нее бросился?
Крид глянул на девушку и, покачав головой, ответил:
— Это лучше знать тому, кто в том повинен.
Лицо маленькой натурщицы стало цвета красной гвоздики.
— Я не отвечаю за его поведение, — сказала она. — На что он мне, такой человек? Уж его-то мне во всяком случае не надо.
Искреннее презрение, прозвучавшее в этой гневной вспышке, удивило старого лакея.
— Я ничего и не говорю, — сказал он. — Мне все едино. Я в чужие дела сроду не вмешивался. Но это нарушает порядки. Уж сколько времени я не получаю приличного завтрака. Бедная женщина совсем голову потеряла. Как только младенца похоронят, я от них съеду, подыщу себе другую комнату, пока Хьюз не вернулся.
— Надеюсь, что его там подержат, — пробормотала маленькая натурщица.
— Ему дали месяц.
— Всего месяц?
Старый лакей посмотрел на девушку. «Да, в тебе, пожалуй, больше прыти, чем я думал», — казалось, говорил его взгляд.
— Приняли во внимание, что он служил отечеству, — заметил он вслух.
— Жалко, что ребеночек умер, — сказала маленькая натурщица обычным своим бесстрастным тоном.
«Вест-министр» покачал головой.
— Я всегда знал, что он не жилец на этом свете.
Покусывая кончик пальца белой нитяной перчатки, девушка смотрела на уличное движение. Как бледный луч света, в темную теперь пещеру ума этого старого человека проникла мысль, что он не вполне понимает девушку. Ему в жизни приходилось определять ранг не одной молодой особы, и сознание того, что он не совсем уверен, к какому разряду ее отнести, было похоже на то чувство, которое, вероятно, испытывает летучая мышь, застигнутая врасплох дневным светом.
Не попрощавшись, девушка вдруг отошла от него.
«Ну что ж, — подумал он, — манеры у тебя не стали лучше от того, что ты живешь где-то там в другом доме, да и вид тоже, хоть ты и разрядилась в новое платье».
И он еще некоторое время раздумывал над странной пристальностью ее взгляда и неожиданным резким уходом.
Сквозь кристальную ясность потока вселенной можно было бы видеть, как в этот самый момент Бианка выходит из парадной двери своего дома.
Ее состояние экзальтации, трепетная тоска по гармонии — все это прошло. Странно переплетаясь между собой, ум ее занимали две мысли: «Если бы только она была леди!» и «Я рада, что она не леди!»
Из всех темных и путаных лабиринтов человеческое сердце — самый темный и путаный, а из всех человеческих сердец наименее ясны и наиболее сложны сердца людей того круга, к которому принадлежала Бианка. Гордость — простое качество, пока она сочетается с простым взглядом на жизнь, основанным на примитивной философии собственности; гордость перестает быть простым качеством, когда ее со всех сторон окружают сотни стремлений общественной совести и парализующих раздумий. Бианка твердо решила вернуть девушке прежнее ее место в доме, но гордость ее боролась сама с собой, а чувство собственности в отношении человека, который был ее мужем, боролось с благоприобретенными понятиями свободы, широты взглядов, равенства и хорошего вкуса. Душа ее была в смятении, разум восставал против самого себя, и Бианка, в сущности, действовала лишь из простого чувства сострадания.
Выйдя из комнаты отца, она, забежав к себе наверх, тотчас вышла из дому, и теперь быстро шагала по улицам, чтобы это чувство — быть может, из всех самое физическое, пробуждаемое тем, что мы видим и слышим, и требующее постоянной пищи, — не успело ослабнуть.
Она направилась на ту улицу в Бэйсуотере, где, как ей сообщила Сесилия, жила теперь девушка.
Дверь ей отворила худая, высокая хозяйка квартиры.
— У вас снимает комнату мисс Бартон? — спросила Бианка.
— Да, но сейчас она, кажется, вышла.
Хозяйка заглянула в комнату маленькой натурщицы.
— Да, ее нет. Но, если хотите, можете оставить записку. Если вам нужна натурщица, она не откажется, она, по-моему, ищет работу.
Присущая современному человеку потребность давить себе именно на больной нерв, была, по-видимому, не чужда Бианке. Войти в комнату девушки безусловно значило нарочно причинять себе боль.
Она осмотрелась. Какое полное отсутствие признаков духовной жизни! Ничего, что заставило бы предположить, что здесь работает хоть какая-то мысль — ничего, кроме потрепанного номера «Новостей». И тем не менее, — а, может быть, именно поэтому — комната выглядела опрятно.
— Да, она держит комнату в порядке, — сказала хозяйка. — Конечно, она ведь девушка деревенская — почти что моя землячка. — Ее мрачное, но совсем не злое лицо как будто искривилось в улыбке. — Кабы не это, я бы девушку, которая занимается таким делом, и не пустила к себе.
В ее голодном взгляде, устремленном на посетительницу, чувствовалась суровая душа сектантки.
Бианка написала карандашом на своей визитной карточке: «Если можете, зайдите, пожалуйста, к моему отцу сегодня или завтра».
— Будьте любезны, передайте это ей. Она поймет.
— Передам, — сказала хозяйка. — Я так думаю, она очень обрадуется. Я вижу, как она все сидит и сидит дома. Когда у таких вот девушек нет работы… Смотрите-ка, она валялась на кровати…
В самом деле, на красном с желтым, отделанном бахромой покрывале была вмятина от лежавшего на нем тела.
Бианка взглянула на кровать.
— Благодарю вас, — сказала она. — До свидания. Она медленно шла домой, и задетый больной нерв не давал ей покоя.
У садовой калитки стояла сама маленькая натурщица и не спускала глаз с дома, — казалось, она стоит здесь уже давно. Бианка переходила через дорогу, и ей отлично видно было юную фигурку, теперь очень аккуратную и подобранную. И однако что-то в этой девушке показывало, что она не «леди», — быть может, она была более изящна, но менее изысканна. В ней не хватало какой-то светской вышколенности, веры в правила, выработанные волей. Ее школила только жизнь с ее суровыми фактами. Это обнаруживалось в мелочах, которые могла уловить лишь женщина, и особенно во взгляде, каким она смотрела на дом, куда явно жаждала войти. Взгляд этот говорил не «Войти или нет?», но «Смею ли я войти?».
И вдруг она увидела Бианку. Встреча этих двух женщин очень походила на обычную встречу госпожи и служанки. Лицо Бианки, не выражавшее ничего, кроме легкого любопытства, казалось, говорило: «Ты для меня книга за семью печатями. И всегда была. Что ты думаешь и делаешь — этого я никогда не постигну».
У маленькой натурщицы лицо было растерянное, будто ее поймали с поличным, и, как всегда, бесстрастное.
— Войдите, пожалуйста, — сказала Бианка. — Мой отец будет рад вас видеть.
Она открыла калитку, пропуская девушку вперед. Ей стало чуточку смешно оттого, что она прогулялась зря. Даже этот маленький великодушный поступок ей не было дано совершить.
— Как идут ваши дела?
При этом неожиданном вопросе маленькая натурщица сперва было растерялась, но тут же взяла себя в руки и ответила:
— Очень хорошо, спасибо. То есть не очень…
— Вы увидите, что мистер Стоун сегодня несколько утомлен: он простудился. Не давайте ему, пожалуйста, много работать.
Маленькая натурщица пыталась набраться храбрости и хоть что-то сказать, но так ничего и не придумав, вошла в дом.
Бианка не последовала за ней, она пробралась в самый дальний конец сада, где солнце все еще лило лучи на грядку желтофиоли. Бианка нагнулась над цветами так низко, что ее вуаль коснулась их. Здесь трудились две пчелы, их дымчатые крылышки издавали жужжание; крохотными черными ножками они цеплялись за оранжевые лепестки, погружали крохотные черные хоботки глубоко в медовую сердцевину цветов. Цветы вздрагивали под тяжестью маленьких темных телец. Лицо Бианки тоже вздрагивало — оно склонилось совсем близко к пчелам, но те не прерывали своей работы.
Хилери, как было показано, жил скорее мыслями о событиях, чем самими событиями, и для него поступки и слова сами по себе имели мало значения, они интересовали его лишь в философском плане. Появление девушки на пороге комнаты мистера Стоуна испугало его. Но маленькая натурщица, которая всегда жила настоящим и знала только одну философию — философию нужды, — повела себя иначе. Все последние пять дней она, как спаньель, которого не пускают на его законное место, хотела одного: быть именно там, где сейчас стояла. Она до крови искусала губы и пальцы, сидя в своей комнате с ее ржаво-красными дверями; как только что пойманная птица, она билась крыльями о стены с голубыми розами на желтом фоне; тоскуя, она лежала на желто-красном покрывале, крутила в руках его бахрому и смотрела в пустоту полузакрытыми глазами.
Было что-то новое в том взгляде, который она бросила на Хилери. В нем уже не было прежнего детского обожания, он стал смелее, как будто за эти несколько дней она многое пережила и перечувствовала, и не одно перо упало с ее крыльев.
— Миссис Даллисон велела мне зайти, — проговорила она, — ну, я и решила, что, значит, можно. Мистер Крид сказал мне, что тот в тюрьме.
Хилери пропустил ее в комнату и, войдя за ней следом, закрыл дверь.
— Беглянка вернулась, — сказал он.
Услышав, что ее называют таким не заслуженным ею именем, маленькая натурщица густо покраснела и хотела что-то возразить, но промолчала, увидев улыбку на лице Хилери: раздираемая противоречивыми чувствами, она взглянула сперва на него, потом на мистера Стоуна, и снова на Хилери.
Мистер Стоун встал и медленно двинулся к конторке. Чтобы удержаться на ногах, он обеими руками оперся о рукопись и, немного собравшись с силами, начал разбирать исписанные листы.
Через открытое окно долетели отдаленные звуки шарманки. В мелодии тихого и слишком» медленного вальса, который она наигрывала, было что-то манящее, зовущее. Маленькая натурщица повернулась, прислушиваясь, и Хилери в упор посмотрел на нее. Девушка и эти звуки вместе — да, это и была та музыка, которую он слышал в течение многих дней, как человек в легком бреду.
— Вы приготовились? — спросил мистер Стоун. Маленькая натурщица окунула перо в чернила. Глаза ее украдкой скользнули в сторону двери, где стоял Хилери все с тем же выражением на лице. Избегая ее взгляда, он подошел к мистеру Стоуну.
— Вы непременно хотите сегодня работать, сэр?
Мистер Стоун поглядел на него сердито.
— Почему бы нет?
— У вас едва ли достаточно для этого сил.
Мистер Стоун взял с конторки рукопись.
— Мы уже пропустили три дня, — оказал он и начал очень медленно диктовать: — «Варварские обычаи тех дней, как, например, обычай, на-зы-ва-емый Войной…»
Голос его замер; было очевидно, что мистер Стоун не падает только потому, что оперся локтями о конторку.
Хилери пододвинул стул и, придерживая старика под мышки, усадил его.
Заметив, что сидит, мистер Стоун поднял к глазам рукопись и стал читать дальше:
«…продолжали существовать, попирая братство. Это было все равно, как если бы в стаде рогатого скота, гонимого через зеленые пастбища к тем Вратам, где его ждало небытие, все коровы решили преждевременно перебодать и распотрошить друг друга из страстной приверженности тем индивидуальным формам, которые им предстояло так скоро утратить. Так люди — племя против племени, страна против страны — смотрели друг на друга через долины налитыми кровью глазами; они не видели осиянных луною крыл, не чувствовали благоуханного дуновения братства…»
Он произносил слова все медленнее и медленнее, и когда замерло последнее слово, задремал — слышно было, как выходит его дыхание сквозь крохотную щелку под усами. Хилери, ждавший этого момента, тихонько положил рукопись на конторку и сделал знак девушке. Он не стал приглашать ее к себе в кабинет, а заговорил с ней в коридоре.
— Сейчас, когда мистер Стоун в таком состоянии, он в вас нуждается. Пожалуйста, приходите к нему по-прежнему, пока Хьюз в тюрьме. Как вам нравится ваша новая комната?
Маленькая натурщица ответила просто:
— Не очень.
— Почему же?
— Как-то там одиноко. Но теперь мне это все равно, раз я буду опять приходить сюда.
— Это только временно. — Больше Хилери не нашел что сказать.
Маленькая натурщица опустила глаза.
— Завтра хоронят ребеночка миссис Хьюз, — сказала она вдруг.
— Где?
— На Бромштонском кладбище. Мистер Крид пойдет.
— В котором часу похороны?
Она украдкой бросила на него взгляд.
— Мистер Крид сказал, что выйдет из дому в половине десятого.
— Я тоже хотел бы пойти.
На лице ее мелькнула радость и тут же снова скрылась за обычной маской бесстрастия. Хилери направился к двери, и нижняя губка у девушки стала опускаться.
— До свидания, — проговорил он.
Маленькая натурщица покраснела и задрожала. «Ты даже не смотришь на меня, — как будто говорила она, — ты не сказал мне ни одного ласкового слова». И вдруг бросила жестко:
— Теперь я больше не пойду к мистеру Леннарду.
— Так, значит, вы были у него?
Торжество, потому что ей удалось привлечь его внимание, страх, оттого что она призналась, мольба, стыд, смешанный с обидой, — все это отразилось на ее лице.
— Да, — ответила она.
Хилери молчал.
— Когда вы не велели мне больше приходить, мне было уж все равно.
Хилери по-прежнему молчал.
— Я ничего плохого не сделала.
В голосе ее слышались слезы.
— Нет, конечно, нет, — сказал Хилери.
Маленькая натурщица всхлипнула.
— Ведь это ж моя профессия!
— Да-да, — ответил Хилери, — разумеется.
— Мне-то что, пусть думает обо мне, что хочет; я к нему больше не пойду, пока мне можно ходить сюда.
Хилери коснулся ее плеча.
— Ну-ну, — сказал он и открыл парадную дверь.
Маленькая натурщица вышла с сияющими глазами вся трепеща, как цветок, получивший после дождя поцелуй солнца.
Хилери вернулся к мистеру Стоуну и долго сидел, глядя на задремавшего старика, оперев о ладонь тонкое лицо с напряженной улыбкой, с морщинкой между бровями. «Мыслитель, раздумывающий о действиях» — так могла бы быть названа подобная статуя.
ГЛАВА ХХХ ПОХОРОНЫ МЛАДЕНЦА
В соответствии с инстинктом, таящимся глубоко в натуре человека, — не скупиться на внимание и затраты по отношению к тем умершим, к которым при жизни мы проявляли небрежность и скупость, — от дома номер один по Хаунд-стрит двинулась похоронная процессия из трех карет.
В первой стоял маленький гробик, и на нем лежал огромный белый венок дар Сесилии и Тайми. Во второй ехали миссис Хьюз, ее сын Стэнли и Джошуа Крид, в третьей — Мартин Стоун.
В первой карете царило вместе с запахом лилий молчание, окутывая собою того, кто за свою коротенькую жизнь произвел не очень много шума, маленькую серую тень, которая так незаметно вошла в жизнь и, улучив минутку, когда про нее забыли, так же незаметно из нее ушла. Никогда еще этому существу, отмытому до неестественной белизны, обернутому в единственную новую материнскую простыню, не было так покойно, так удобно, как сейчас в этом простом гробике. Далекий от людских стремлений и борьбы, он направлялся к вечному успокоению. Его кустик алоэ зацвел, и ветер — как знать, быть может, то был сам маленький путник в вечность — шевелил листы папоротника и цветы похоронного венка, лежавшего между двумя открытыми окнами кареты, единственной, в которой довелось ездить младшему сыну Хьюзов. Так он уходил из мира, где все люди были его братьями.
Из второй кареты всякий ветер был решительно изгнан, но там тоже царило молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием престарелого лакея. Облаченный в свое узкое, длинное пальто, он не без удовольствия вспоминал прошлые свои поездки в каретах: те случаи, когда, сидя рядом с сундуком, перевязанным веревкой и запечатанным сургучными печатями, он вез хозяйское столовое серебро, чтобы сдать его в сейф; те случаи, когда под крышей, на которой были навалены ружья и ящики, сидел, держа на сворке собаку «достопочтенного Бэйтсона»; те случаи, когда рядом с какой-нибудь юной особой ехал в хвосте крестильного, свадебного или похоронного кортежа. Эти воспоминания о прошлом величии были необыкновенно острыми, и в уме у него почему-то все время вертелись слова: «На бедность и богатство, на радость и горе, на болезни и здоровье, пока смерть не разлучит нас…» [19]. Но, как ни волнующи были эти воспоминания, его старое, с частыми перебоями сердце под старой красной фланелевой жилеткой — спутником его в изгнании — заставляло мистера Крида поглядывать на женщину, сидевшую рядом. Ему очень хотелось, чтобы и она хоть в какой-то мере ощутила удовлетворение от того, что похороны получились отнюдь не по «низшему разряду», как это могло бы быть. Он сомневался, способна ли она, с ее женским умом, сполна получить все то, — утешение, которое можно извлечь из трех карет и венка из лилий. Худое лицо швеи, измученное и апатичное, и в самом деле было еще худее и апатичнее, чем всегда. Мистер Крид не мог бы сказать, где сейчас ее мысли. А думать ей было о чем. И она тоже, несомненно, знала свои минуты величия, даже если это было восемь лет назад, всего лишь во время одинокого возвращения из церкви, где они с Хьюзом слушали слова, которые сейчас не выходили из головы у мистера Крида. Быть может, она думала об этом, о своей утраченной молодости и миловидности, об угасшей любви мужа; о долгом спуске в страну теней; о других схороненных ею детях; о муже, сидевшем в тюрьме; о девушке, которая его «приворожила»? Или только о тех последних драгоценных минутах, когда крохотное существо, находившееся сейчас в первой карете, тянулось губками к ее груди? Или же, более трезво подходя к жизни, размышляла о том, что если бы не добрые люди, она бы сейчас шла пешком за гробом, купленным на средства прихода?
Старый лакей не мог знать ее мыслей, но поскольку сам он наряду с надеждой умереть не в стенах работного дома лелеял еще одну заветную мечту накопить достаточно денег, чтобы хоронили его за его собственный счет, без вмешательства посторонних, — он был склонен думать, что она размышляет о более приятных вещах, и, решив подбодрить ее, сказал:
— Теперь-то кареты насколько удобнее! Бог ты мой, я помню времена, когда они и в сравнение не шли с теперешними!
Швея ответила своим тихим голосом:
— Да, очень удобно. Сиди спокойно, Стэнли!
Ее маленький сын, у которого ноги не доставали до пола, колотил пятками по низу сиденья. Он послушался матери и взглянул на нее; но тут старый лакей обратился к нему:
— Вот вырастешь, будешь вспоминать это событие. И черноглазый мальчуган перевел взгляд с матери на мистера Крида.
— Такой прекрасный венок, — продолжал Крид. — Запах от него был по всей лестнице. Да, расходов не пожалели. В нем даже есть белая сирень — подумать, такие шикарные цветы!
Течение его мыслей приняло иной оборот, и он забыл про всякую осторожность.
— Вчера я видел эту девицу, — сказал он. — Подошла ко мне на улице, все выспрашивала.
На лице миссис Хьюз, до сих пор совершенно непроницаемом, появилось выражение, какое можно видеть у совы: жесткое, настороженное, злое — оно казалось особенно злым и жестким для ее мягких карих глаз.
— Ей бы лучше держать язык за зубами, — сказала она. — Сиди спокойно, Стэнли!
Мальчуган опять перестал колотить пятками и перевел глаза обратно на мать. Карета, остановившаяся было в нерешительности, будто наткнувшись на что-то посреди дороги, тут же возобновила свой ровный ход. Крид посмотрел в плотно закрытое окно. Перед ним тянулось здание, бесконечно длинное, словно в кошмарном сне, — то был дом, где он не собирался заканчивать свои дни. Он снова повернулся лицом к лошади. Нос у него покраснел. Он проговорил:
— Если бы мне газеты присылали пораньше, а не тогда, когда этот тип уже успеет переманить всех моих покупателей, я бы зарабатывал на два шиллинга в неделю больше, и это все я бы мог откладывать. — На эти слова, полные скрытого смысла, не последовало иного ответа, кроме стука пяток мальчугана по сиденью. Возвращаясь к теме, от которой он временно отвлекся, Крид пробормотал:
— Она была во всем новом.
Его испугал свирепый голос, который он едва узнал:
— Я не желаю ничего о ней слышать. Приличным людям незачем о ней разговаривать.
Старый лакей осторожно глянул на миссис Хьюз. Она вся дрожала. Ярость женщины в такой момент шокировала его. «Из земли взят, и в землю отыдеши», подумал он.
— Вы об этом не беспокойтесь, — сказал он наконец, призвав на помощь все свое знание жизни. — Рано ли, поздно ли, она будет на том месте, какого заслуживает. — И, увидев, что по пылающей щеке женщины медленно сползла слезинка, добавил поспешно: — Думайте о вашем ребенке, а я вас не оставлю. Сиди смирно, мальчик, сиди смирно. Ты мешаешь матери.
И опять мальчуган перестал колотить пятками и посмотрел на говорившего. Карета продолжала катиться с негромким, медленным дребезжанием.
В третьей карете, где, как и в первой, окна были раскрыты, Мартин Стоун, засунув руки глубоко в карманы пальто и закинув одну на другую длинные ноги, сидел, уставясь куда-то вверх, и на его бледном лице была гримаса презрения.
Сразу за воротами, через которые в свое время прошло уже столько мертвых и живых теней, стоял Хилери. Он едва ли смог бы объяснить, почему он пришел посмотреть, как будут предавать земле эту крохотную тень, — быть может, в память тех двух минут, когда глазки младенца как будто вели разговор с его собственными глазами, или просто желая отдать дань немого почтения той, которую жизнь последнее время так терзала. Какова бы ни была причина, но он был здесь и тихо стоял в стороне. Он не замечал, что за ним тоже наблюдают: спрятавшись за высокий надгробный камень, на него смотрела маленькая натурщица.
Двое мужчин в черных, порыжелых костюмах подняли гробик; за ним стал священник в белом одеянии, затем миссис Хьюз с сынишкой, сразу же за ними, вытянув вперед шею и вертя ею из стороны в сторону, — старый Крид и, наконец, позади него — Мартин Стоун. Хилери присоединился к нему. В таком порядке они и двинулись вперед.
Перед небольшой темной ямой в углу кладбища они остановились. На частый лес не засаженных цветами могил падал солнечный свет; восточный ветер, неся с собой легкое зловоние, коснулся прилизанных волос бывшего лакея и вызвал влагу в уголках его глаз, прикованных к священнику. Какие-то слова и обрывки мыслей вертелись в голове старика: «Его хоронят по-христиански… Кто отдает эту женщину в жены? Я… Прах праху… Я всегда знал, что он не жилец…»
Слова заупокойной службы, несколько сокращенной ради проводов в вечность этой крохотной тени, ласкали его слух, глаза его подернулись пленкой. Он слушал, точно старый попугай на жердочке, склонив голову набок.
«Кто умирает в младенчестве, тот идет прямо на небо, — думал он. — Все мы, смертные, веруем в господа… крестные отцы его и матери в святом крещении… Да, так-то вот. Что ж, я-то смерти не боюсь…»
Увидев, что гробик уже опускается в темную яму, Крид еще больше вытянул шею вперед. Гробик опустился; послышалось приглушенное рыдание. Старый лакей трясущимися пальцами дотронулся до рукава стоявшей перед ним миссис Хьюз.
— Не надо, — шепнул он, — он теперь с ангелами, во славе божьей.
Но, услышав, как стучат о крышку гроба комья земли, он и сам вытащил из кармана платок и прижал его к носу.
«Вот и нет его больше, не стало еще одного младенчика, — думал он. Старики и девушки, молодые парни и детишки — все время кто-нибудь умирает. Там, где он теперь, никто уже не женится, не выдает замуж… пока смерть не разлучит нас…»
Ветер, пролетая над засыпанной теперь могилой, уносил хриплое дыхание старика, приглушенные рыдания швеи куда-то за могилы других теней — к тем местам, к тем улицам»…
Хилери и Мартин возвращались с похорон вместе, и далеко позади них, по другой стороне улицы, шла маленькая натурщица. Некоторое время оба они молчали. Затем Хилери, протянув руку в сторону жалкой улочки, сказал:
— Они преследуют нас, они тащат нас вниз. Долгий, темный проход. Есть ли в конце его свет, Мартин?
— Да, — отрезал Мартин.
— Я его не вижу.
Мартин посмотрел на него.
— Гамлет!
Хилери не ответил.
Молодой человек искоса наблюдал за ним.
— Такая вот улыбка — это болезнь.
Хилери перестал улыбаться.
— Так вылечи меня, — сказал он вдруг, рассердившись, — ты, врачеватель!
Впалые щеки «оздоровителя» вспыхнули.
— Атрофия нерва активности, — пробормотал он. — От этого лекарства нет.
— А! — протянул Хилери. — Все мы хотим общественного прогресса, но каждый по-своему. Ты, твой дед, мой брат, я сам — вот тебе четыре разных типа. Можешь ты с уверенностью утверждать, кто именно из нас способен взять на себя эту задачу? Для меня, например, действовать — противно моей природе.
— Любое действие лучше, чем отсутствие действия.
— А твоей природе, Мартин, свойственна близорукость. Твой рецепт в данном случае не очень помог, не так ли?
— Я ничего не могу поделать, если люди хотят вести себя, как идиоты.
— Вот именно. Но ответь мне на такой вопрос: не есть ли общественная совесть, беря широко, всего лишь результат комфорта и обеспеченности?
Мартин пожал плечами.
— И далее: не губит ли комфорт способность действовать?
Мартин снова пожал плечами.
— В таком случае, если те, у кого есть общественная совесть и кто видит, в чем зло, утратили способность действовать, как ты можешь утверждать, что в конце темного прохода есть свет?
Мартин вынул из кармана трубку, набил ее и большим пальцем плотнее прижал табак в чашечке.
— Свет есть, — сказал он наконец. — Несмотря на всех бесхребетных. Прощайте. Я достаточно времени растратил впустую.
И он зашагал прочь.
«И даже несмотря на близорукость?» — сказал про себя Хилери.
Несколько минут спустя, выходя из магазина Роза и Торна, куда он зашел купить табаку, Хилери неожиданно увидел маленькую натурщицу, очевидно, поджидавшую его.
— Я была на похоронах, — сказала она, и выражение лица ее явно договорило: «Я шла за тобой». Не дожидаясь приглашения, она пошла рядом с Хилери.
«Это уже не та девочка, которую я отослал пять дней назад, — подумал он. — Она что-то утратила и что-то приобрела. Я ее не знаю».
И в лице ее и во всей повадке чувствовалось твердое намерение. Вот так у собаки бывает взгляд, который говорит: «Хозяин, ты хотел меня запереть, уйти от меня; я теперь знаю, что это такое. Делай, что хочешь. Но что бы ты ни сделал, больше уж я никогда тебя не оставлю».
Откровенный смысл этого взгляда испугал того, кому чужда была примитивность. Желая избавиться от своей спутницы, но не зная, как это сделать, Хилери сел на первую попавшуюся скамью в Кенсингтонском саду. Маленькая натурщица села рядом. Ему стало жутко от этой тихой осады — как будто кто-то связывал его тончайшими нитями, на его глазах медленно превращавшимися в веревки. Сперва к страху Хилери примешивалось раздражение. Были задеты его брезгливость и боязнь смешного. Чего хочет добиться от него это создание, с которым у него нет ни общих мыслей, ни общих интересов, чья душа никогда не сможет встретиться с его душой? Уж не пытается ли она «приворожить» и его своим немым, упрямым обожанием? Изменить его готовность покровительствовать ей — эту его слабость — в слабость другого рода? Он поглядел на нее — она тотчас опустила глаза и сидела неподвижно, словно каменная.
Как дух, так и тело ее были теперь другими: движения стали свободнее, руки — более округлыми; и дышала она как будто глубже; она раскрывалась у него на глазах, как цветок в начале июня. Это и радовало его и пугало. Странное и в то же время такое естественное молчание — ибо о чем он мог говорить с этой девушкой? — ясно, как никогда, показало ему, какие барьеры стоят между классами. Главной его заботой сейчас было не оказаться в смешном положении. Очень тонко и бессознательно она приглашала его обращаться с ней как с женщиной, будто духовно она обвила свои молодые руки вокруг его шеи и шептала полураскрытыми губами вечный зов одного пола другому. И он, немолодой человек, человек высокой культуры и все это сознающий, молчал, боясь пробить скорлупу своей деликатности. Он едва дышал, до самых глубин взволнованный сидящим рядом с ним юным существом и страшась выдать свое волнение.
Возле садового цветка вырастает дикий мак; вокруг гладкого ствола дерева обвивается жимолость; за ровную стену цепляется плющ.
В этом новом своем облике девушка приобрела какую-то особую, тихую власть: ей уже было неважно, говорит ли он, смотрит ли на нее или нет; ее инстинкт, прорываясь сквозь его скорлупу, чуял учащенное биение его пульса, знал, что сладкий яд проник в его кровь.
Ощущение этой тихой власти больше, чем что-либо другое, испугало Хилери. Ему можно не говорить — для нее это не важно. Ему даже не надо смотреть на нее — ей только надо сидеть тут молча, неподвижно, и сквозь ее раскрытые губы идет молодое дыхание, а в полузакрытых глазах сияет свет ее юности.
Хилери резко встал и пошел прочь.
ГЛАВА XXXI ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Новое вино, если не разорвет старые мехи, то, сильно вначале вспенившись, будет затем спокойно шипеть и пузыриться.
Вот так было и с мистером Стоуном в течение целого месяца, — час за часом, день за днем. Щеки его порозовели, цвет их стал более здоровым, а голубые глаза, устремленные в пространство, приобрели большую живость. Колени у него снова окрепли, и он возобновил свое купание. Видя перед собой лишь воду, которую рассекал своими невообразимо медленными взмахами, он не подозревал, что Хилери и Мартин, одну неделю один, другую неделю другой, держась поодаль, чтобы старик не заметил, что ему оказывают услугу, присутствуют при этой процедуре на случай, если мистер Стоун вдруг снова засидится на дне Серпантайна. Каждое утро слышно было, как он, выпив чашку какао и съев тарелку каши, с необычайной бодростью подметает пол, а когда время приближалось к десяти часам, стоящий за дверью расслышал бы шум вырывающегося из легких дыхания: это мистер Стоун поднимался на цыпочки и опускался, готовясь к дневному труду. Разумеется, ни письма, ни газеты не нарушали величайшей, абсолютной самодостаточности этой жизни, посвященной идее братства. Писем не приходило потому, что никто толком не знал адреса мистера Стоуна, а отчасти и потому, что он уже много лет не отвечал на них. Что касается газет, то раз в месяц он отправлялся в какую-нибудь публичную библиотеку и там, разложив перед собой по четыре последних номера двух еженедельных журналов, знакомился с «обычаями тех дней» и шевелил губами, словно творя молитву. В десять часов тот, кто проходил по коридору мимо его комнаты, вздрагивал от звона будильника. Потом наступала полная тишина, потом раздавалось шарканье ног, насвистывание, шорохи, и все это время от времени прерывалось резким бормотанием. Вскоре от этого мутного потока звуков отделялся один тонко журчащий ручеек — голос старика, — и он журчал, прерываемый лишь скрипом гусиного пера, до того момента, когда снова звонил будильник. Тут стоящий за дверью догадался бы по запаху, что мистер Стоун собирается поесть во второй раз, и если бы, привлеченный этим запахом, он вошел в комнату, то мог бы увидеть автора «Книги о всемирном братстве» с печеной картофелиной в одной руке и чашкой горячего молока — в другой; на столе он заметил бы остатки яиц, помидоров, апельсинов, бананов, инжира, чернослива, сыра, меда в сотах — уже «сменивших одну форму на другую» — и среди прочего ковригу хлеба из непросеянной муки. Мистер Стоун вскоре после этого показывался в дверях в своем! костюме домотканого твида и в старой шляпе зелено-черного фетра, а если шел дождь — в длинном пальто из желтоватого габардина и зюйдвестке того же материала; в руках он неизменно держал небольшую корзинку из ивовых прутьев. Снаряженный таким образом, он отправлялся в магазин Роза и Торна, подходил к первому же приказчику и вручал ему корзинку, несколько монет и маленькую тетрадку в семь листов, озаглавленных: «Провизия: Понедельник, Вторник, Среда» и т. д. После этого мистер Стоун стоял, глядя через какую-нибудь банку с маринадом на то, что за ней находилось, протянув руку немного вверх, и дожидался, когда ему вернут его ивовую корзиночку. Почувствовав, что она снова у него в руке, он поворачивался и шел обратно. А у приказчиков, глядевших ему вслед, всякий раз появлялась одна и та же покровительственная улыбка. Долгая привычка отшлифовала ее. Все давно чувствовали, что этот престарелый покупатель, так резко от всех них отличавшийся, как-то все же от них зависит. Ни за какие сокровища в мире они не надули бы его ни на один грош, ни на ломтик сыра, и если какому-нибудь новичку приходило в голову посмеяться над этим старым клиентом, ему немедленно предлагали «заткнуться».
Хрупкая фигура мистера Стоуна, чуть гнущаяся на сторону от потяжелевшей корзинки, двигалась теперь по направлению к дому. Возвращался он минут за десять до того, как будильник звонил в три часа, и вскоре, пройдя через мутный поток звуков, уже опять журчал один тонкий ручеек вперебивку со скрипом и царапаньем гусиного пера.
Но часам к четырем появлялись признаки мозгового возбуждения: губы мистера Стоуна переставали произносить звуки, перо умолкало. В открытом окне появлялось его раскрасневшееся лицо. Едва завидев маленькую натурщицу — ее глаза были устремлены не сюда, а на окно кабинета Хилери, — мистер Стоун поворачивался лицом к двери, очевидно, поджидая, когда девушка войдет к нему в комнату. Первыми его словами всегда были следующие: «У меня сделано несколько страниц. Я вам уже поставил стул. Вы готовы? Приступайте!»
Если не считать какого-то особенного спокойствия в голосе и исчезновения красноты на лбу, не имелось никаких признаков того, что с ее приходом он молодел, испытывал прилив свежих сил, как странник, что вечером отдыхает под липой после долгого пути; никаких признаков того, что при виде ее невеселого молодого лица и молодых мягких рук в его вены просачивается какой-то таинственный покой. Так даже на краю могилы люди извлекают энергию из какого-нибудь тонизирующего средства и тянутся к чему-то впереди, пока это «что-то» вдруг не исчезнет во тьме.
За четверть часа, посвященных чаепитию и беседе, он ни разу не заметил, что она, все время прислушиваясь, ждет, не раздадутся ли за дверью шаг») с него было достаточно того, что в ее присутствии он особенно остро чувствовал свою устремленность к единой цели.
Когда девушка уходила, замедляя шаги, с унылым видом кидая взгляды во все стороны в надежде увидеть Хилери, мистер Стоун обычно сразу усаживался в кресло и засыпал, чтобы во сне, быть может, увидеть Юность — Юность с ее ароматом древесного сока, ее зовами, надеждами и страхами, Юность, так долго еще парящую над нами после своей смерти! Дух его улыбался, скрытый под телесной оболочкой, — лицом словно из тонкого фарфора. И как собака, которой снится охота, судорожно перебирает лапами, так он шевелил пальцами рук, сложенных на коленях.
В семь часов будильник будил его: пора было готовиться к вечерней трапезе. Поев, мистер Стоун вновь принимался шагать по комнате, изливать в тишину потоки слов и водить по бумаге своим скрипучим пером.
Так писалась книга, подобной которой человечество еще не знало!
Но девушка, принося ему бодрость, сама приходила всегда с унылым лицом и с таким же унылым лицом уходила, за все эти дни даже мельком не увидев того, кого хотела видеть.
С того утра, когда Хилери так порывисто встал и ушел от нее, он поставил себе за правило уходить из дому во второй половине дня и не возвращаться до шести часов вечера. Таким образом он исключал возможность встреч и с ней и с самим собой, ибо он уже не мог не видеть, что встреча с самим собой для него неизбежна. В те немногие минуты молчания, когда девушка сидела с ним рядом на садовой скамье, излучая загадочную притягательную силу, он понял, что мужчина в нем отнюдь не умер. Это уже не было лишь неясным! волнением чувств, это было четкое, горячее желание. Чем больше он думал о ней, тем менее платоническим становилось его чувство к этой дочери народа.
В эти дни все, кто хорошо его знал, заметили, что он сильно изменился. Исчезла деликатная, сдержанная, окрашенная легким юмором учтивость, к которой он приучил тех, с кем общался; исчезла сухая любезность, которая, казалось, сразу же закрывала путь всяким излияниям и в то же время говорила: «если ты хочешь признаться мне в грехах, я не стану тебя осуждать, что бы ты там ни сделал»; исчезла несколько отсутствующая, чуть-чуть насмешливая манера: теперь вид у него был мрачный, углубленный в свое. Он как будто чурался своих друзей. Его поведение в клубе «Перо и чернила» разочаровывало любителей побеседовать. Было известно, что он пишет новую книгу, и подозревали, что он с ней «завяз». (Это викторианское выражение, вычитанное мистером Бэлидайсом в какой-то хронике пост-теккерианских нравов и возрожденное им — он употреблял его в своей особой несравненной манере, будто говоря: «Какие восхитительные словечки были у этих добрых буржуа!» переживало теперь свое второе детство.)
На самом деле затруднения Хилери с его новой книгой заключались лишь в том, что он вообще не в состоянии был над ней работать. Даже горничная, убиравшая его кабинет, заметила, что день за днем ее встречает на столе все та же глава XXIV, несмотря на то, что хозяин, как и прежде, проводил в кабинете каждое утро.
Перемена в его поведении, а также и в лице, напряженном я измученном, не прошла мимо Бианки, хотя она скорее умерла бы, чем призналась себе в том, что заметила в нем перемену. Это был один из тех периодов в жизни семей, которые напоминают час в конце лета — хмурый, наэлектризованный и пока еще тихий, но заряженный током приближающейся грозы.
Только дважды за те недели, пока Хьюз сидел в тюрьме, Хилери видел девушку. Один раз он встретил ее, когда подъезжал к дому: она вся вспыхнула, и глаза у нее зажглись. А однажды утром он прошел мимо нее — она сидела на той самой скамье, на которой они были тогда вместе. Она смотрела прямо перед собой, и уголки ее рта были уныло опущены. Она не заметила Хилери.
Для такого человека, как Хилери, который меньше всего был способен бегать за женщинами и, в сущности, сторонился их, воображая, что и они отвечают ему тем же, было что-то необычайно заманчивое и пугающее в том, что молодая девушка по-настоящему преследует его. Это было и слишком лестно, и слишком стеснительно, и слишком неправдоподобно. Его чувство к ней, вспыхнувшее так внезапно, было мучительным чувством человека, который видит близко висящий спелый персик. Он постоянно мечтал о том, как протягивает к нему руку, и потому не смел или думал, что не смеет, проходить близко от него. Все это не способствовало серьезному, деловому образу жизни и к тому же порождало ощущение нереальности, которое и заставляло его избегать лучших своих друзей.
Отчасти это и послужило причиной тому, что Стивн зашел к нему как-то в воскресенье; второй же причиной было то, что, по его подсчетам, в ближайшую среду Хьюза выпускали из тюрьмы.
«Девушка продолжает ходить к ним в дом, — думал Стивн, — и Хилери предоставит события их течению до тех пор, пока ничего нельзя уже будет остановить, и заварится настоящая каша».
Тот факт, что Хьюз оказался в тюрьме, придавал какой-то зловещий оттенок всему делу, которое до этого упорядоченному и осторожному уму Стивна казалось лишь пошлым.
Проходя по саду, он услышал голос мистера Стоуна, доносившийся из открытого окна.
«Неужели старый чудачина не унимается даже в воскресенье?» — подумал он.
Он застал брата в его кабинете, — Хилери читал книгу о цивилизации Маккавеев [20], присланную ему на отзыв. Он приветствовал Стивна не слишком радушно.
Стивн стал осторожно нащупывать почву.
— Мы тебя не видели целую вечность. А наш старый приятель, я слышу, трудится вовсю. Он что, работает в две смены, чтобы закончить свой magnum opus [21]? Я полагал, он соблюдает день отдыха.
— Обычно он так и делает, — ответил Хилери.
— А сейчас у него эта девушка, он ей диктует.
Хилери нахмурился. Стивн продолжал более осмотрительно:
— Нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы он к среде закончил свою писанину? Ведь ему, надо полагать, осталось совсем немного?
Мысль о том, что мистер Стоун может закончить свою книгу к среде, вызвала на лице Хилери бледную улыбку.
— А ты мог бы заставить ваше судопроизводство к среде уладить все дела человеческие раз и навсегда? — сказал он.
— Черт возьми! Неужели дело обстоит так скверно? Я все же думал, что он намерен дописать ее когда-нибудь.
— Когда все люди станут братьями, тогда книга будет закончена.
Стивн свистнул.
— Послушай, дружище, — сказал он, — в среду выходит на свободу тот негодяй. Вся история начнется сначала.
Хилари встал и зашагал по кабинету.
— Я отказываюсь считать Хьюза негодяем, — проговорил он. — Что мы знаем о нем и вообще о них всех?
— Вот именно. Что мы знаем о девушке?
— Я не намерен обсуждать эту тему, — ответил Хилери отрывисто.
На один миг на лицах братьев появилось жесткое, враждебное выражение, как если бы глубокая разница между ними победила наконец их взаимную преданность. Казалось, они оба заметили это, потому что тут же отвернулись друг от друга.
— Я только хотел напомнить тебе, — сказал Стивн. — Ты, конечно, сам знаешь, как поступать.
Хилери кивнул, а Стивн подумал: «Именно этого ты и не знаешь».
Вскоре он ушел, чувствуя непривычную неловкость в обществе брата. Хилери проводил его до калитки и сел на скамью в углу сада.
Посещение Стивна только пробудило в нем запретные желания.
Яркий солнечный свет падал на этот лондонский садик, обычно такой тенистый, оставляя всюду светлые полоски и пятна — такие, какие жизнь оставляет на лицах тех, кто слишком много живет головой. Сидя под еще не распустившейся акацией, Хилери заметил раннюю бабочку, летавшую над цветами герани, которой были обсажены старые солнечные часы. Дрозды распевали свою вечернюю песнь; в воздух, чуть туманный от дыма, прокрался запах доцветающей сирени. Ярко, но не радостно было в этом садике; были запахи цветов, но не было волн аромата над золотыми озерами лютиков, над морем всходящего клевера, над колеблемой ветром серебряной недозрелой пшеницей; была музыка, но не было мощного хора, не было жужжания насекомых. Как лицо и вся фигура хозяина, так и садик, в котором солнце редко достигало циферблата солнечных часов, был изысканным и робким — истинное детище города. Однако сейчас Хилери выглядел не совсем обычно: лицо у него раскраснелось, глаза смотрели сердито — он казался почти человеком действия.
Временами все еще слышался голос мистера Стоуна, он долетал порывами, дрожал в воздухе, а иногда и сам старик, с рукописью в руках, появлялся в окне; профиль его четко выделялся на фоне темной комнаты. Одна фраза донеслась через весь сад:
«Среди бурных открытий тех дней, которые, как моря, изобилующие пе-ре-се-кающимися течениями и бесчисленными волнами, обрушивались на берег, размывая скалы…»
Остальное потонуло в шуме пронесшегося мимо автомобиля, а когда голос снова стал слышен, мистер Стоун, очевидно, диктовал уже следующий, абзац:
«В тех местах, на тех улицах толпились тени, шурша и гудя, как рой умирающих пчел, которые, доев свой мед, снуют холодными зимними днями в поисках цветов, уже убитых морозом».
Большая пчела, кружившая подле куста сирени, принялась теперь летать вокруг головы мистера Стоуна. Хилери увидел, что старик поднял обе руки.
«Огромными скопищами, в тесноте, лишенные света и воздуха, они собрались вместе, эти бескровные отпечатки более высоких форм. Они лежали, как отражение листьев, которые, свободно трепыхаясь на нежном ветерке, бросают на землю слабые свои подобия. Невесомые, темные призраки, скитальцы, прикованные цепью к земле, они не надеялись попасть в Чудесный Город и не знали, откуда они пришли. Люди бросали их на тротуар и шли дальше, наступая на них. Не проникшись чувством всемирного братства, они не прижимали своих теней к груди, чтобы те спали в их сердцах. Ибо солнце еще не достигло зенита, не настал еще полдень, когда у человека не бывает тени».
Когда слова этой лебединой песни замерли вдали, старик качнулся, задрожал и вдруг исчез из глаз, вероятно, сел. Его место у окна заняла маленькая натурщица. Увидев Хилери, она вздрогнула; потом стояла как вкопанная и глядела на него. Из глубины темной комнаты глаза ее с разлившимися зрачками казались двумя черными пятнами, попавшими из окружавшей тьмы на ее лицо, бледное, как цветок. В таком же оцепенении Хилери смотрел на нее.
Позади него послышался голос:
— Здравствуйте! Я, видите ли, решил немного погонять свой «Дэмайер». Это вошел в калитку мистер Пэрси, и взгляд его был устремлен на окно, в котором стояла девушка. — Как поживает ваша супруга?
Этот резкий переход к низменной прозе вызвал в Хилери острую ярость. Он смерил взглядом мистера Пэрси от его цилиндра до штиблет с парусиновым верхом и проговорил:
— Быть может, зайдем в дом и разыщем ее? По пути к дому мистер Пэрси сказал:
— Это та самая молоденькая… гм… натурщица, та самая, которую я встретил тогда в студии вашей жены, да? Недурна девица.
Хилери сжал губы.
— Интересно, как живут такие вот девушки, — не унимался мистер Пэрси. Я думаю, у них есть и другие источники доходов, как вы полагаете, а?
— Наверно, живут так, как положил им жить господь бог. Как и все другие люди.
Мистер Пэрси глянул на него испытующе. Было похоже на то, что мистер Даллисон решил осадить его.
— Ну, само собой. Сдается мне, эта девица трудностей не встретит.
И тут он увидел, что с «этим писакой», как с тех пор он стал называть Хилери, произошла странная перемена. Мягкий, симпатичный добряк сделался злой, как черт.
— Моей жены, по-видимому, нет дома, — сказал Хилери. — И я тоже вынужден скоро уйти.
Изумленный и рассерженный, мистер Пэрси сказал с величайшей простотой:
— Прошу прощения, если я de trop [22].
И вскоре стало слышно, как «Дэмайер» с несколько излишним шумом уносит его прочь.
ГЛАВА XXXII ЗА ВУАЛЬЮ БИАНКИ
Но Бианка была дома. Она перехватила долгий взгляд, каким Хилери смотрел на маленькую натурщицу, потому что в это время, выйдя из студии, шла по застекленному проходу в дом. Ей, конечно, не было видно, на что Хилери так пристально смотрит, но она знала это твердо, как если бы девушка стояла прямо перед ней в темном провале раскрытого окна. Преисполненная ненависти к самой себе за то, что увидела это, Бианка вошла в свою комнату и долго лежала на кровати, прижав руки к глазам. Она привыкла к одиночеству неизбежному уделу таких натур. Но горькое одиночество этого часа даже ее одинокую натуру повергло в отчаяние.
Наконец она встала и привела в порядок лицо и волосы, чтобы никто не заметил ее страданий. Затем, убедившись, что Хилери в саду нет, незаметно выскользнула из дому.
Она направилась к Хайд-парку. Шла неделя после троицына дня — ужасное время для культурного лондонца. Город, казалось, стал воплощением скучного веселья, по улицам кружились, подхваченные пыльным ветром, бумажные пакеты. Повсюду толпами двигались люди в праздничной одежде, которая не шла к ним. Этим смертельно усталым людям не дано было отдохнуть за несколько часов досуга, вырванных из вечности труда: изголодавшийся инстинкт гнал их на поиски удовольствий, к которым они стремились слишком сильно, чтобы суметь насладиться ими.
Бианка прошла мимо старого бродяги, спавшего под деревом. Его одежда облекала его так долго и так любовно, что теперь еле держалась на нем; но на лице его было спокойствие, как маска из тончайшего воска. Забыты были все горести и страдания — он пребывал в блаженном царстве сна.
Бианка поспешила прочь от этого зрелища безмятежного покоя. Она забрела в рощицу, почти ускользнувшую от внимания гуляющих. Тут росли липы, еще хранящие в себе свой медовый дух. Их ветви со светлыми широкими листьями, формой напоминающими сердце, раздвинулись во все стороны, как пышная юбка. Самая высокая среди них, прекрасная, веселая липка, вся нежно трепетала, как красавица, поджидающая замешкавшегося любовника. Какие радости сулила она каждым своим трепетным, покрытым прожилками листком, какие тонкие наслаждения! И вдруг солнце подхватило ее, подняло к себе, осыпало поцелуями; она испустила вздох безмерного счастья, как будто душа ее рвалась к сердцу возлюбленного.
Между деревьями, осторожно оглядываясь, шла женщина в сиреневом платье. Она села на скамью неподалеку от Бианки и бросала из-под зонтика быстрые взгляды по сторонам.
Вскоре Бианка увидела, кого ждала женщина. Молодой человек в лощеном цилиндре и черном сюртуке подошел к женщине и коснулся ее плеча. Теперь они сидели рядом, почти скрытые листвой, наклонившись вперед, тихонько водя по земле она зонтиком, он — тростью; были еле слышны их приглушенные голоса, почти шепот, нежный, интимный. Вот молодой человек мягко коснулся ее руки, потом локтя. Эти двое не принадлежали к праздничной толпе, они, очевидно, воспользовались вульгарным гуляньем для тайного свидания.
Бианка торопливо двинулась прочь. Она вышла из Хайд-парка. По улицам разгуливали, держась под руку, пары, не столь тщательно скрывающие свои близкие отношения. Их вид не кольнул Бианку так больно, как вид тех влюбленных в парке, — эти, на улице, были не ее круга. Но вот она увидела на пороге большого дома двоих детишек, мальчика и девочку, — они спали в обнимку, крепко прижавшись друг к другу щеками. И опять она заспешила дальше. Во время этих долгих скитаний по улицам она прошла мимо дома, которого так страшился «Вест-министр». В воротах стояли старик и старуха они прощались на ночь, собираясь разойтись: он — на мужскую половину, она на женскую. Их беззубые рты сблизились.
— Ну, мать, спокойной ночи.
— Спокойной ночи, отец, спокойной ночи! Береги себя!
И снова Бианка бежала прочь.
Уже в десятом часу она пришла на Олд-сквер и, остановившись у дома сестры, позвонила. Сейчас ею владело лишь одно желание — отдохнуть, и притом где-нибудь не у себя дома.
В конце длинной, с низкими потолками гостиной Стивн, в смокинге, читал вслух какую-то статью. Сесилия с сомнением поглядывала на один из его носков, на котором белело, крохотное пятнышко: это, возможно, просвечивала нога. У окна в противоположном конце комнаты Тайми и Мартин поочередно произносили друг перед другом речи. Молодые люди не двинулись с места, когда вошла Бианка, всем своим видом говоря: «Мы не признаем этих дурацких рукопожатий».
Получив от Сесилии легкий, теплый и неуверенный поцелуй, а от Стивна вежливое, сухое рукопожатие, Бианка сделала знак, чтобы он не прерывал чтения. Он продолжал читать. Сесилия снова принялась разглядывать его носок.
«Ах, боже мой, — думала она, — Бианка, конечно, пришла потому, что несчастлива. Вот бедняжка… И бедный Хилери… Наверное, это все опять из-за той отвратительной истории…»
Давно изучив каждую интонацию в голосе мужа, Сесилия знала, что приход Бианки вызвал и у него то же течение мыслей; в словах, которые он читал, ей слышалось: «Я не одобряю, нет, не одобряю. Она сестра Сесси, но не будь все это ради Хилери, я бы не потерпел, чтобы в моем доме обсуждались подобные темы».
Бианка, всегда тонко подмечавшая в других каждый оттенок чувств, видела, что она здесь не очень желанная гостья. Приподняв вуаль, она откинулась на спинку стула и как будто слушала, о чем читал Стивн, на самом же деле внутри у нее все дрожало при виде этих двух пар.
Пары, пары — только ей это не суждено! За что? Какое преступление она совершила? Какой изъян в ее чаше, из которой никто не хочет пить? Почему она сотворена такой, что ее никто не любит? Эта мысль, самая горькая, самая трагическая из всех, не давала ей покоя.
Статья, которую читал Стивн (в ней необыкновенно точно разъяснялось, что делать с людьми, чтобы они из людей одного сорта становились людьми другого сорта, и доказывалось, что в случае, если после этого превращения обнаружатся признаки рецидива, необходимо выяснить причину этого), не доходила до ушей Бианки, которая все задавала себе мучительный вопрос: «Почему это так со мной? Это несправедливо»; все слушала, как гордость нашептывает ей: «Ты здесь лишняя; ты везде лишняя. Не лучше ли вовсе уйти из жизни?»
Тайми и Мартин не обращали на нее внимания. Для них она была пожилой родственницей, «дилетанткой», чей насмешливый взгляд иной раз проникал сквозь броню их молодости. Кроме того, они были слишком поглощены своим разговором, чтобы заметить, в каком она состоянии. Словесная их перестрелка длилась уже несколько дней, с тех пор как умер ребенок Хьюзов.
— Ну хорошо, — говорил Мартин, — а что ты все-таки собираешься делать? Толку мало связывать все это со смертью младенца. Ты должна обо всем иметь твердое мнение. Нельзя браться за работу на основании одних сентиментов.
— Ты ведь сам ходил на похороны, Мартин. И нечего прикидываться, будто тебя это совершенно не тронуло.
Ответить на такую инсинуацию Мартин счел ниже своего достоинства.
— Нельзя опираться на сентименты, — сказал он. — Это устарело, так же как и правосудие, которое находится в руках высшего класса: на одном глазу повязка, а другим косит. Если ты увидишь в поле умирающего осла, ты ведь не станешь посылать его в какое-нибудь «общество», как это сделал бы твой папочка. И тебе не понадобится трактат Хилери, преисполненный сочувствия ко всем и озаглавленный: «Странствия по полям. — Размышления о смерти ослов». Все, что тебе надо сделать, — это пустить в осла пулю.
— Ты всегда нападаешь на дядю Хилери, — сказала Тайми.
— Против самого Хилери я ничего не имею, я возражаю против людей такого типа.
— Ну, а он возражает против людей такого типа, как ты.
— Не скажи, — проговорил Мартин медленно. — У него для этого нет достаточной силы характера.
Тайми вскинула подбородок и, глядя на Мартина прищуренными глазами, сказала:
— Знаешь, мне кажется, что из всех самоуверенных людей, каких мне только приходилось встречать, ты самый худший!
Ноздри у Мартина дрогнули.
— Готова ты всадить пулю в осла или нет — отвечай!
— Я вижу перед собой только одного осла, и он пока не собирается умирать.
Мартин схватил ее за руку пониже локтя и, крепко держа, сказал:
— Не увиливай!
Тайми силилась высвободить руку.
— Пусти!
Мартин смотрел ей прямо в глаза. Щеки его залились краской.
У Тайми лицо тоже стало цвета темной розы, как портьера, висевшая рядом.
— Пусти!
— Не пущу! Я заставлю тебя приобрести наконец твердые взгляды. Как ты намерена жить? Берешься ты за это в припадке сентиментальности или же серьезно решила делать дело?
Девушка, будто загипнотизированная, перестала сопротивляться. На лице ее появилось удивительнейшее выражение — в нем были и покорность, и вызов, и боль, и радость. Так они сидели с полминуты, глядя в глаза друг другу. Услышав какой-то шорох, они обернулись и увидели, что Бианка направляется к двери. Сесилия тоже встала.
— Бианка, в чем дело?
Бианка открыла дверь и вышла. Сесилия быстро последовала за ней, но она не успела увидеть лица сестры, скрытого вуалью.
В комнате мистера Стоуна неярко горела зеленая лампа, а сам он, в коричневом шерстяном халате и в комнатных туфлях, сидел на краю своей раскладной кровати.
И вдруг ему показалось, что он не один в комнате.
— На сегодня я работу закончил, — проговорил он. — Я жду, когда взойдет луна. Сейчас она почти полная. Отсюда мне будет виден ее лик.
Кто-то сел на кровать рядом с ним и тихо сказал:
— Лик женщины.
Мистер Стоун узнал свою младшую дочь;
— На тебе шляпа? Ты собираешься выходить, дорогая?
— Нет, я только что вернулась и увидела, что у тебя горит свет.
— Луна — бесплодная пустыня, — сказал мистер Стоун. — Там не знают, что такое любовь.
— Как же ты тогда можешь смотреть на нее? — прошептала Бианка.
Мистер Стоун поднял вверх палец.
— Она взошла.
Бледная луна скользнула на темное небо. Свет ее проник в сад и через открытое окно на кровать, где они сидели.
— Если нет любви, нет и жизни, — сказала Бианка. — Разве не так, папа?
Глаза мистера Стоуна, казалось, пили лунный свет.
— Да, это великая истина. Что это — кровать дрожит!
Крепко прижав руки к груди, Бианка силилась побороть беззвучные рыдания. Эта отчаянная борьба причиняла ей невыносимые муки, и мистер Стоун сидел молча, сам весь дрожа. Он не знал, что ему делать. За долгие годы, посвященные всемирному братству, его застывшее сердце позабыло, как помочь родной дочери. Он только мог коснуться ее своими худыми, дрожащими пальцами.
Бианка, чье теплое тело он почувствовал под своей рукой, затихла, словно его беспомощность заставила ее почувствовать, что и он тоже одинок. Она крепче прижалась к отцу. Лунный свет, поборов мигающий огонек лампы, наполнил собой всю комнату. Мистер Стоун сказал:
— Я бы хотел, чтобы была жива ее мать.
Бианка опять разрыдалась.
Бессознательно проделав старое, забытое движение, рука мистера Стоуна обняла дрожащее тело дочери.
— Я не знаю, что сказать ей, — бормотал он и вдруг начал медленно раскачиваться. — Движение успокаивает.
Луна покинула комнату. Бианка сидела так тихо, что мистер Стоун перестал раскачиваться. Его дочь больше уже не рыдает. Вдруг ее поцелуй обжег ему лоб.
Весь дрожа от этой горестной ласки, он поднес пальцы к тому месту на лбу, куда она его поцеловала, и огляделся по сторонам.
Но Бианки в комнате уже не было.
ГЛАВА XXXIII ХИЛЕРИ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ
Чтобы понять до конца поведение Хилери и Бианки в этом «кафликте», как выразился бы «Вест-министр», необходимо принять в расчет не только их чувства, свойственные всем человеческим существам, но и ту философию брака, которой оба придерживались. По своему воспитанию и окружению они принадлежали к общественной группе, которая «в те дни» отвергла старомодные взгляды на брак. Выступая против собственнических принципов и даже своих законных прав, люди, составлявшие эту группу, оказывались тем самым поборниками неограниченной, пожалуй, слишком шумно заявляющей о себе свободы. Как все оппозиционеры, они были вынуждены, исключительно ради принципа, не соглашаться с власть имущими и с презрением и обидой смотрели на большинство, которое, в силу своего численного превосходства, объявляло свои убеждения законом, гласившим: «Это моя собственность и останется таковой навсегда». Поскольку закон все же обязывал их смотреть на мужей и жен как на собственность, они были вынуждены, даже в самых счастливых супружеских союзах, всячески остерегаться, чтобы не проникнуться отвращением к своему положению супругов. Самая законность их брака побуждала их к тому, чтобы говорить о нем с ужасом. Они были как дети, которых отправили в школу в брючках, едва доходящих до колен, и которые сознают, что не в силах ни укоротить свой рост, подогнав его к длине брючек, — ни заставить расти сами брючки. Они являли собой пример той извечной «смены одних форм другими», которую мистер Стоун назвал Жизнью. В далеком: прошлом мыслители, мечтатели и «художники-мазилы», отвергая установленные формы, тем самым намечали новые формы для закона о браке, и на основе картин, мыслей и мечтаний, не получивших признания при их жизни, он потом и сложился, — тогда, когда сами они уже обратились в ветер. А теперь закон этот, в свою очередь, стал высохшей кожурой, лишенной зерен разума, и опять мыслители, мечтатели и «художники-мазилы» отрицали его и опять оставались непризнанными.
Вот эта непризнанная вера, этот воровской кодекс и был душой той короткой беседы, которая произошла между Хилери и Бианкой во вторник, на следующий день после того, как мистер Стоун сидел у себя на кровати и ждал, когда взойдет луна.
Бианка сказала спокойно:
— Я думаю на некоторое время уехать.
— Быть может, ты предпочитаешь, чтобы уехал я?
— Ты здесь нужен, а я — нет.
Эти холодные и ясные, как лед, слова заключили в себе основу основ всего, и Хилери спросил:
— Ты ведь не сейчас собираешься ехать?
— Вероятно, в конце недели.
Заметив, что Хилери пристально смотрит на нее, она добавила:
— Да, мы оба с тобой выглядим не слишком хорошо.
— Мне очень жаль.
— Я знаю.
И все. Но этого было достаточно, чтобы Хилери снова пришлось решать проблему.
Основные элементы этой проблемы оставались прежними, но относительные ценности изменились. Искушения святого Антония с каждым часом становились все мучительнее. У Хилери не было принципов, которые он мог бы им противопоставить, — было только органическое отвращение к тому, чтобы причинять боль другому, и смутная догадка, что уступи он своим желаниям, и он окажется перед проблемой еще куда более сложной. Он не мог рассматривать создавшееся положение так, как это сделал бы мистер Пэрси, если бы это его жена от него отдалилась, а на пути его встала молодая девушка. Мистера Пэрси не тревожили бы ни беззащитность девушки, ни сомнения относительно их совместного будущего. Этот славный малый с его прямолинейностью думал бы только о настоящем и уж, конечно, и в мыслях не имел бы связать свою жизнь с молодой особой из низов. Заботы о жене, которая сама пожелала от него отдалиться; также, разумеется, не принимались бы им в расчет. То, что Хилери все эти вопросы волновали, свидетельствовало о его «декадентстве». А пока факты требовали практического решения.
Он не разговаривал с маленькой натурщицей со дня похорон ребенка, но своим взглядом тогда в саду он, в сущности, сказал ей: «Ты манишь меня к единственным возможным между нами отношениям». И она своим взглядом, в сущности, ответила ему: «Делай со мной, что хочешь».
Были и другие обстоятельства, с которыми приходилось считаться. Завтра Хьюза выпускают из тюрьмы; маленькая натурщица не перестанет ходить к мистеру Стоуну, если только не запретить ей это; мистер Стоун, по-видимому, в ней нуждается; Бианка, по сути дела, объявила, что ее выгоняют из собственного дома. Такова была ситуация, над которой ломал голову Хилери, сидя под бюстом Сократа. Долгие и тягостные раздумья все время возвращали его к мысли, что не Бианка, а он сам должен уехать из дому. Он с горечью и презрением обвинял себя за то, что не догадался сделать это давным-давно. Он обзывал себя всеми кличками, которые дал ему Мартин: «Гамлет», «дилетант», «бесхребетный». Но это, к несчастью, не очень его утешало.
К концу дня ему был нанесен визит: держа в руке корзинку из ивовых прутьев, в кабинет вошел мистер Стоун. Он не присел, а сразу же заговорил:
— Счастлива ли моя дочь?
При этом неожиданном вопросе Хилери молча отошел к камину.
— Нет, — ответил он наконец. — Боюсь, что нет.
— Почему?
Хилери молчал. Затем, взглянув старику в лицо, ответил:
— Я полагаю, что по некоторым причинам она будет рада, если я на время уеду.
— Когда?
— В самом ближайшем времени.
Глаза мистера Стоуна, светившиеся печалью, казалось, старались разглядеть что-то за стеной тумана.
— Мне думается, она приходила ко мне, — сказал он. — Я даже как будто помню, что она плакала. Добры ли вы к ней?
— Я старался.
Лицо мистера Стоуна вдруг покраснело.
— У вас нет детей, — проговорил ом с болезненным усилием. — Вы живете как супруги?
Хилери отрицательно покачал головой.
— Вы чужие друг другу?
Хилери наклонил голову. Последовало долгое молчание. Мистер Стоун перевел взгляд на окно.
— Без любви не может быть жизни, — проговорил он наконец и опять посмотрел на Хилери.
— Она любит другого?
И снова Хилери покачал головой. Когда мистер Стоун заговорил, было ясно, что он говорит про себя:
— Не знаю, почему, но я рад этому. Вы любите другую?
При этом вопросе брови Хилери сдвинулись.
— Что вы называете любовью?
Мистер Стоун не ответил. Он, очевидно, был погружен в глубокие размышления. Губы его начали шевелиться:
— Любовью я называю забвение самого себя. Часто бывают союзы, в которых только проявляются инстинкты пола или сосредоточенность на самом себе…
— Это верно, — прошептал Хилери.
Мистер Стоун поднял голову — лицо у него было напряженное, растерянное.
— Мы обсуждаем! что-то?
— Я говорил о том, что для вашей дочери будет лучше, если я временно уеду.
— Да, вы чужие друг другу, — сказал мистер Стоун.
— У меня есть на совести одно дело, о котором я должен рассказать вам до того, как уехать. А потом решайте сами, сэр. Та молодая девушка, которая приходит к вам работать, больше уже не живет там, где жила прежде.
— На той улице… — начал было мистер Стоун.
Хилери быстро продолжал:
— Она была вынуждена переехать, потому что муж той женщины, у которой она снимала комнату, увлекся ею. Он сидел в тюрьме и завтра выходит на свободу. Если девушка будет продолжать ходить сюда, он, конечно, сможет ее разыскать. Боюсь, что он опять начнет ее преследовать. Вы меня поняли, сэр?
— Нет, — ответил мистер Стоун.
— Этот человек, — терпеливо разъяснил Хилери, — жалкое, грубое существо, он был ранен в голову и не вполне отвечает за свои поступки. Он может обидеть девушку.
— Как обидеть?
— Он уже поранил штыком свою жену.
— Я поговорю с ним.
Хилери улыбнулся.
— Боюсь, что слова тут едва ли помогут. Она должна скрыться.
Воцарилось молчание.
— Моя книга! — проговорил мистер Стоун.
Хилери словно что ударило, когда он увидел, как вдруг побелело лицо старика. «Надо, чтобы он проявил силу воли, — подумал он. — Когда я уеду, она все равно сюда больше не придет».
Но он просто не мог видеть трагические глаза мистера Стоуна и, коснувшись его рукава, сказал:
— Быть может, сэр, она согласится на риск, если вы попросите.
Мистер Стоун не ответил, и Хилери, не зная, что еще сказать, отошел к окну. В негустой тени, где не было ни слишком тепло, ни слишком холодно, дремала Миранда, положив мордочку на лапы и слегка оскалив белые зубы.
Снова раздался голос мистера Стоуна:
— Вы правы: я не могу просить ее, чтобы она так рисковала!
— Вот она идет по саду, — сказал Хилери хрипло. — Позвать ее?
— Да.
Хилери знаком предложил девушке зайти.
Она вошла, неся в руке крохотный букетик ландышей. При виде мистера Стоуна лицо у нее погасло; она стояла молча, подняв букетик к груди. Поразителен был этот переход от трепещущей надежды к мрачному унынию. На щеках у нее вспыхнули красные пятна. Она перевела взгляд с мистера Стоуна на Хилери и снова на мистера Стоуна. Оба они смотрели на нее, не отрываясь. Все трое молчали. Грудь маленькой натурщицы начала тяжело вздыматься, словно после быстрого бега.
— Смотрите, мистер Стоун, что я вам принесла, — сказала она чуть слышно и протянула ему букетик ландышей. Но мистер Стоун не шевельнулся. — Они вам разве не нравятся?
Глаза мистера Стоуна по-прежнему были прикованы к ее лицу.
Хилери не вынес этого напряжения.
— Ну как, сэр, вы сами ей скажете или мне сказать?
Мистер Стоун заговорил:
— Я постараюсь дописать книгу без вашей помощи. Вы не должны подвергаться риску. Я не могу допустить этого.
Маленькая натурщица водила глазами из стороны в сторону.
— Но мне нравится писать, когда вы диктуете, — сказала она.
— Этот человек может вас обидеть, — сказал мистер Стоун.
Маленькая натурщица взглянула на Хилери.
— А мне все равно, я его не боюсь, я могу сама за себя постоять, мне это не в первый раз.
— Я уезжаю, — проговорил Хилери тихо.
Кинув на него отчаянный взгляд, будто спрашивая: «а я — я тоже еду?» маленькая натурщица застыла на месте.
Чтобы прекратить мучительную сцену, Хилери подошел к мистеру Стоуну.
— Вы будете диктовать ей сегодня, сэр?
— Нет.
— А завтра?
— Нет.
— Вы не хотели бы немного прогуляться со мной?
Мистер Стоун наклонил голову.
Хилери обернулся к маленькой натурщице.
— Итак, прощайте, — сказал он.
Она не приняла его протянутой руки. Глаза ее, глядевшие в сторону, сверкали; она закусила нижнюю губу. Потом уронила букетик, взглянула на Хилери, с усилием глотнула воздух и медленно вышла. Уходя, она наступила на упавшие ландыши.
Хилери подобрал то, что осталось от цветов, и бросил за решетку камина. В воздухе остался запах раздавленных ландышей.
— Теперь, сэр, мы можем отправиться на нашу прогулку, — сказал Хилери.
Мистер Стоун с трудом двинулся к двери, и вскоре оба они молча шагали к Кенсингтонскому саду.
ГЛАВА XXXIV ПРИКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМИ
В этот самый день Тайми вышла из дому, ведя одной рукой велосипед, а в другой держа легкий чемодан, и быстро свернула с Олд-сквер в проулок. Там она остановилась, поставила чемоданчик и дала свисток, подзывая кэб. Он подъехал к тротуару, и тут же какой-то оборванец, будто выскочивший прямо из-под земли, завладел ее чемоданом. В тощем небритом лице оборванца было страдание загнанного волка.
— Проваливай-ка, эй ты! — крикнул ему кэбмен.
— Ничего, пусть, — пробормотала Тайми. Оборванец поднял чемодан, поставил его в кэб и стоял неподвижно, дожидаясь, когда ему заплатят.
Тайми дала ему две мелкие монеты. Он молча глянул на них и ушел.
«Несчастный, — подумала она. — Вот одно из тех явлений, с которыми мы должны покончить в первую очередь».
Кэб двинулся в направлении Хайд-парка, и Тайми последовала за ним на велосипеде, стараясь держаться невозмутимо.
«Вот и конец прежней жизни, — думала она. — Я не должна предаваться романтическим бредням и воображать, будто совершаю что-то необыкновенное; все это надо воспринимать как само собой разумеющееся». — Она вдруг вспомнила красную физиономию «этого типа», мистера Пэрси. Если бы он видел ее сейчас, когда она навеки расстается с комфортом! «Как только приеду, сейчас же дам знать маме. Может приехать хоть завтра, пусть сама все увидит. Я не желаю, чтобы по поводу моего исчезновения устраивали истерики. Они все должны привыкнуть ж мысли, что я намерена быть в самой гуще жизни, и кто бы и что бы там ни думал, меня это не остановит».
Завидев приближающийся автомобиль, Тайми удивленно нахмурилась. Неужели это «тот тип»? Оказалось, что это вовсе не мистер Пэрси в своем «Дэмайере А-прим», но сидевший в машине был так на него похож, что, в общем, это не составляло разницы. Тайми коротко рассмеялась.
На деревьях и на воде в Хайд-парке плясал и искрился холодноватый свет, и, казалось, таким же танцующим холодноватым светом искрятся глаза девушки.
Кэбмен украдкой бросил на нее восхищенный взгляд, ясно говоривший: «Ну и лакомый кусочек!»
«Вот здесь купается дедушка, — подумала Тайми. — Бедный, милый дедушка. Мне жалко всех старых людей».
Проехав под тенью деревьев, кэб покатился по открытой дороге.
«Интересно, сколько «я» заключено в одном человеке, — размышляла Тайми. — Иной раз мне кажется, что во мне два «я». Дядя Хилери понял бы, что я имею в виду. Асфальт на тротуаре уже начинает отвратительно пахнуть, а ведь завтра еще только первое июня. Как-то там мама, очень ли огорчит ее мой отъезд? Вот было бы чудесно, если бы на свете не было огорчений!»
Кэб свернул в узкую улицу, справа и слева тянулись лавчонки.
«Как должно быть ужасно торговать в такой вот лавчонке! А какая все-таки масса людей на свете! Можно ли действительно сделать для них что-либо полезное? Мартин говорит, что главное — это каждому человеку делать свое дело. Но какое у человека самое главное дело?»
Кэб выехал на широкую нешумную площадь.
«Не буду ни о чем думать, — думала Тайми, — это опасно. А что если папа перестанет давать мне карманные деньги? Тогда мне придется зарабатывать себе на жизнь. Стану машинисткой или еще чем-нибудь в этом роде. Да нет, он не откажет, когда увидит, что мое решение твердо. И мама ему не позволит».
Кэб выехал на Юстон-Род, и опять широкая физиономия кэбмена вопросительно глянула на Тайми.
«Какая мерзкая улица, — думала Тайми, — какие у лондонцев унылые, некрасивые, вульгарные лица. И у всех такой вид, будто им на все наплевать, только бы как-нибудь протянуть день. За всю дорогу попалось только два привлекательных лица».
Кэб остановился перед табачной лавочкой на южной стороне дороги.
«И это здесь мне придется жить?» — подумала Тайми.
За открытой дверью шел узкий коридор, потом узкая лестница, покрытая линолеумом. Тайми вкатила велосипед в переднюю. Из лавочки вышел какой-то юноша еврейского вида и заговорил с ней.
— Ваш друг, молодой джентльмен, сказал, чтобы вы подождали его у себя в квартире.
Ласковые рыжевато-карие глаза юноши любовались ею.
— Снести ваш чемодан наверх, мисс?
— Спасибо, я сама справлюсь.
— Второй этаж, — сказал юноша.
Комнатки были тесные, чистые и опрятные. Тайми отнесла чемодан в спальню, выходившую на пустой двор, вернулась в маленькую гостиную и раскрыла окно. Внизу на улице хозяин табачной лавочки и кэбмен вступили в разговор. Тайми заметила, что оба они ухмыляются.
«Как ужасны и отвратительны мужчины!» — думала она, невесело поглядывая на улицу. Все казалось таким! мрачным, запутанным — пыль, жара, суматоха, как будто это забавлялся какой-то дьявол, вороша муравьиную кучу. Ноздрей Тайми коснулась вонь керосина и навоза. «Как все непостижимо, как безобразно!.. Я никогда ничего не сделаю, никогда, никогда! — думала Тайми. — Но почему же не идет Мартин?»
Она опять пошла в спальню и открыла чемодан. Оттуда пахнуло лавандой, и перед Тайми вдруг встала ее белая спаленка в родительском доме, и деревья зеленого сада, и дрозды в траве.
Шаги на лестнице заставили ее вернуться в гостиную. В дверях стоял Мартин.
Тайми побежала было к нему, но круто остановилась.
— Ну вот видишь, я пришла. Что это тебе вздумалось снять комнаты в таком месте?
— Я здесь живу, через две двери от тебя. И здесь живет одна девушка, тоже из наших. Она тебя введет во все дела.
— Она леди?
Мартин передернул плечами.
— Да, она то, что принято называть леди. Но важно не это, важно то, что она настоящий человек. Ее ничто не остановит.
Тайми выслушала это определение высшей добродетели с таким выражением, точно говорила: «В меня ты не веришь, а вот в ту девушку — веришь. Ты нарочно поселил меня здесь, «чтобы она приглядывала за мной…»
Вслух она сказала:
— Я хочу послать вот эту телеграмму.
Мартин прочел текст.
— Напрасно ты струсила и хочешь рассказать матери о своих планах.
Тайми густо покраснела.
— Я не такая хладнокровная, как ты.
— Наше дело серьезное. Я тебя предупреждал, что незачем тебе и начинать, если ты в себе не уверена.
— Если ты хочешь, чтобы я осталась, старайся говорить со мной повежливее.
— Можешь не оставаться, это твое личное дело.
Тайми стояла у окна, кусая губы, чтобы не расплакаться. Позади нее раздался очень приятный голос:
— Нет, но какой же вы молодец, что пришли!
Тайми обернулась и увидела девушку — худенькую, хрупкую, не очень красивую: нос у нее был чуть-чуть с кривинкой, губы слегка улыбались, зеленоватые глаза были огромные, сияющие. На девушке было серое платье.
— Меня зовут Мэри Донг. Я живу над вами. Вы уже пили чай?
В этом! мягком! вопросе, который задала ей девушка с сияющими глазами и ласковой улыбкой, Тайми усмотрела насмешку.
— Да, пила, спасибо. Вы мне, пожалуйста, объясните, в чем будет состоять моя работа. Если можно, то лучше сейчас же.
Девушка в сером взглянула на Мартина.
— А может быть, отложим до завтра? Я уверена. что вы устали. Мистер Стоун, скажите же, что ей надо отдохнуть!
Взгляд Мартина говорил: «Да бросьте вы, ради бога, ваши телячьи нежности!»
— Если ты действительно хочешь серьезной работы, ты будешь делать то же самое, что и мисс Донт, — сказал Мартин. — Специальности у тебя нет никакой. Все, что ты можешь, это ходить в дома, проверять их благоустройство и условия, в которых живут дети.
Девушка в сером мягко сказала:
— Видите ли, мы ограничиваемся проблемой санитарных условий и детьми. Конечно, очень обидно и жестоко исключать взрослых и стариков, но денег у нас наверняка будет намного меньше, чем требуется… Эту часть дел приходится отложить на будущее.
Воцарилось молчание. Девушка с сияющими глазами добавила тихо:
— До 1950 года.
— Да, до 1950 года, — повторил за ней Мартин. Очевидно, то было какой-то заповедью их веры.
— Мне надо отослать телеграмму, — пробормотала Тайми.
Мартин взял у нее телеграмму и вышел. Оставшись одни, девушки сперва молчали. Девушка в сером платье робко поглядывала на Тайми, словно не зная, как ей расценить это юное создание, такое очаровательное, но бросавшее на нее хмурые, недоверчивые взгляды.
— По-моему, с вашей стороны просто чудесно, что вы пришли, проговорила она наконец. — Я знаю, как привольно живется вам дома, ваш кузен часто мне о вас рассказывал. Правда, он изумительный человек?
На этот вопрос Тайми ничего не ответила.
— Как это все-таки ужасно, — сказала она, — рыскать по чужим домам…
Девушка в сером улыбнулась.
— Да, порой бывает трудно. Я занимаюсь этим уже полгода. Знаете, привыкаешь. Мне кажется, все самое худшее по своему адресу я уже выслушала.
Тайми передернуло.
— Видите ли, у вас скоро появится такое чувство, что вы просто должны пройти через это, — пояснила девушка в сером, и губы ее чуть тронула улыбка. — Мы все, конечно, понимаем, что дело наше необходимое, но среди нас больше всех на высоте ваш кузен, его, кажется, ничто не может обескуражить. У него какая-то особая жалость к людям, может, чуточку презрительная. Ни с кем так хорошо не работается, как с ним.
Через плечо своей новой подруги она глядела в тот внешний мир, где небо состояло сплошь из телеграфных проводов и горячей желтой пыли. Она не заметила, что Тайми мерит ее с головы до ног враждебным, ревнивым и в то же время каким-то жалким взглядом, словно вынужденная признать, что эта девушка стоит выше нее.
— Нет, я не могу здесь работать, — сказала вдруг Тайми.
Девушка в сером улыбнулась.
— Я сначала тоже так думала, — сказала она и добавила, любуясь Тайми: Но, может быть, вам и в самом деле это не подходит, — вы такая хорошенькая. Возможно, вам поручат вести регистрацию, хотя, правду сказать, это очень скучно. Мы спросим вашего кузена.
— Нет, я или буду делать все, или ничего.
— Ну что же, — проговорила девушка в сером. — У меня на сегодня остался еще один дом, который надо обследовать. Хотите пойти?
Она вытащила из кармана юбки небольшую записную книжку.
— Совершенно не могу обходиться без кармана. Его хотя бы не потеряешь. Я за пять недель успела потерять четыре сумочки и две дюжины носовых платков, пока не поняла, что мне нужен карман. Боюсь, что дом, куда нам нужно идти, в общем, ужасное место.
— За меня не бойтесь, — сказала Тайми коротко.
На пороге табачной лавочки юный хозяин дышал вечерним воздухом. Он приветствовал девушек вежливой, но не очень чистой улыбкой.
— Добрый вечер, прелестные мисс, — проговорил он, — какой приятный вечер!
— Довольно противный человечек, — заметила девушка в сером, когда они с Тайми дошли до перекрестка. — Но у него острое чувство юмора.
— А! — только и сказала Тайми.
Они свернули в переулок и остановились перед домом, несомненно, видавшим лучшие дни. Стекла были в трещинах, двери давно не крашены, а через подвальное окно можно было видеть кучу тряпья, какого-то зловещего вида мужчину подле нее и полыхающий огонь. У Тайми перехватило дыхание, ноздри ей заполнила мерзкая вонь горящих тряпок. Тайми взглянула на свою спутницу. Чуть заметно улыбаясь, та сверяла что-то по своей записной книжке. В душе Тайми поднялось недоброе чувство, почти ненависть к этой девушке, которая могла оставаться невозмутимой, деловитой, невзирая на такие сцены и запахи.
Дверь им открыла молодая женщина с красным лицом, судя по всему, только что поднявшаяся с постели.
Девушка в сером сощурила свои сияющие глаза.
— Извините, пожалуйста, — сказала она. — Можно, мы на минуточку войдем? Мы собираем материал для отчета.
— Здесь собирать нечего, — ответила молодая женщина.
Но девушка в сером уже скользнула мимо нее, легко и быстро, как воплощенный дух приключений.
— Ну, конечно, я понимаю, но, знаете, так, просто чтоб соблюсти формальность.
— Когда умер муж, мне пришлось со многими вещами расстаться, — сказала молодая женщина, как будто оправдываясь. — Жизнь не легкая.
— Да-да, разумеется, но, наверное, не хуже моей: каково это мне вечно бродить по чужим домам!
Молодая женщина оторопела.
— Ваш хозяин плохо следит за ремонтом, — сказала девушка в сером. Соседний дом тоже принадлежит ему?
Молодая женщина кивнула.
— Плохой у нас хозяин. Да и все они здесь такие, на нашей улице. Ничего от них не добьешься.
Девушка в сером подошла к грязной плетеной колыбели, в которой лежал, раскинув ручки и ножки, полуголый ребенок. Некрасивая маленькая девочка с толстыми красными щеками сидела тут же на табурете, рядом с открытым шкафчиком для провизии, в котором были навалены сухие мясные кости.
— Ваши детишки? — спросила девушка в сером. — Какие милочки!
На лице молодой женщины расцвела улыбка.
— Ребятки у меня здоровые.
— Вероятно, это не обо всех детях в этом доме можно сказать?
Молодая женщина ответила подчеркнуто резко, словно давая выход давнишней злобе:
— Трое ребятишек, что живут на втором этаже, еще ничего, во вот те, на самом верху!.. Я моим не разрешаю с ними водиться.
Тайми увидела, что рука ее новой приятельницы, как светлый голубок, порхнула над головкой ребенка в колыбели. В ответ на этот жест молодая мать кивнула и сказала:
— Вот-вот. Приходится потом отмывать их, как только они побывают с теми, верхними.
Девушка в сером взглянула на Тайми, словно хотела сказать: «Вот туда-то нам, очевидно, и надо идти».
— Уж такие-то грязнули, — пробормотала молодая женщина.
— Вам это, конечно, очень неприятно.
— Еще бы. Я ведь целый день занята стиркой, когда удается получить работу. Я не могу уследить за ребятишками, они бегают повсюду.
— Да, очень неприятно, — тихо повторила девушка в сером. — Я это все у себя запишу.
Вытаскивая записную книжку, в которую она принялась что-то энергично записывать, Мэри Донт выронила носовой платок, и вид его на грязном полу доставил Тайми какое-то странное удовольствие — так бывает, когда видишь, что у человека, выше тебя стоящего, отсутствует добродетель, которой сам ты обладаешь.
— Ну, не будем вас задерживать, миссис… миссис?..
— Клири.
— Миссис Клири. Сколько вашей дочке? Четыре? А маленькому? Два? Милочки! До свиданья!
В коридоре девушка в сером шепнула Тайми:
— Меня просто умиляет, когда мы гордимся тем, что мы лучше прочих. Это так бодрит и радует, не правда ли? Так как же, поднимемся, посмотрим на эту преисподнюю наверху?
ГЛАВА XXXV ДУМЫ ЮНОЙ ДЕВУШКИ
Думы юной девушки подобны весеннему лесу: сейчас это поднимающаяся от земли дымка из колокольчиков и солнечных бликов, а через минуту — мир притихших, нежных и грустных молодых деревцев, неведомо почему роняющих слезы. Сквозь путаные ветви, едва одетые зеленью, душа леса рвется на крыльях к звездам, но в следующее мгновение крылья сникли и уныло лежат подле сырых кустов. Весенний лес вечно тянется к грядущему и трепещет перед ним. В укромных его уголках скрываются бесчисленные намеки того, чему еще только суждено быть; они украдкой держат совет, как стать им явью и не утратить покрова тайны. Они шелестят, шепчут, вскрикивают внезапно и так же внезапно погружаются в сладостное молчание. Каждый куст орешника и каждый куст боярышника — это бесчисленные места встреч для всего того, что юно и торжественно-строго, что жаждет устремиться вперед, навстречу поцелуям, ветра и солнца и прячет лицо и отступает, оробев. Душа весеннего леса лежит, прильнув ухом к земле, раковиной сложив за ухом руку, светлую, как бледный лепесток: душа леса слушает шепот собственной своей жизни. Так она лежит, белая, нежная, с задумчивыми, росистыми глазами, вздыхает: «Что я? Я — все. Есть ли что в целом свете чудеснее меня? О, я — ничто! Как тяжелы мои крылья! Я слабею, я умираю…»
Когда Тайми в сопровождении девушки в сером выбралась из «преисподней наверху», щеки у нее горели, руки были сжаты в кулаки. Она не произнесла ни слова. Девушка в сером тоже молчала и глядела так, как дух, расставшийся со своим телом оттого, что слишком долго купался в море действительности, глядел бы на того, кто только что подошел к воде и собирается в нее погрузиться. Тайми перехватила этот взгляд, и румянец на ее щеках запылал еще ярче. Она заметила также, как посмотрел еврейский юноша, когда на пороге их встретил Мартин. «Ого, уже не одна, а целых две, — говорил его взгляд. Ничего себе, малый не промах!»
Ужин был собран в комнате Мэри Донт. На столе стояли мясные консервы, картофельный салат, компот из чернослива, бутылка лимонада. Разговор за ужином вели Мартин и девушка в сером. Тайми ела молча, но, хотя казалось, что она не отрывает глаз от тарелки, она не пропустила ни одного взгляда, которыми обменялись те двое, слышала каждое сказанное ими слово. Во взглядах их не было ничего особенного, да и говорили они о вещах не очень важных важен был тон, каким они обращались друг к другу. «Со мной он так никогда не говорит», — подумала Тайми.
После ужина все трое вышли пройтись, но у входной двери девушка в сером! сжала локоть Тайми, чмокнула ее в щеку и побежала обратно вверх по лестнице.
— А вы разве не пойдете? — крикнул ей вслед Мартин.
Сверху донесся ее голос:
— Нет, сегодня нет.
Тыльной стороной руки Тайми стерла с лица поцелуй. Молодые люди вышли на оживленную улицу.
Вечер был теплый и душный — ни малейшего ветерка, который разогнал бы тяжкое дыхание города. Почти молча они брели по бесконечным темнеющим улицам, и возвращение к свету и движению Юстон-Род показалось Тайми возвращением в рай. Наконец, когда они опять подходили к ее новому жилищу, Тайми сказала:
— Чего ради хлопотать? Жизнь — ужасная огромная машина, она старается раздавить нас. Люди — крохотные козявки, которых придавливают ногтем и размазывают на странице книги. Я ненавижу все это, мне это отвратительно!
— Пока козявки живут, пусть они будут хотя бы здоровыми козявками, ответил Мартин.
Тайми повернулась и посмотрела ему в лице.
— Вытащи мне велосипед, Мартин, я сегодня все равно не усну.
Мартин испытующе поглядел на нее при свете уличного фонаря.
— Ладно, — сказал он, — я тоже поеду.
Моралисты говорят, что есть дороги, ведущие в ад, но дорога, по которой около одиннадцати часов вечера отправилась юная пара, вела в Хэмстед. Разница в характере этих двух пунктов назначения вскоре стала очевидной, ибо если ад — создание всего человечества в целом, то Хэмстед был, несомненно, сотворен высшим классом. Здесь имелись и деревья и сады, а над головой вместо темных каналов, затянутых желтой пеной лондонских огней и окаймленных, как берегами, крышами домов, раскинулось небо, словно широкое, колышущееся озеро. По обе стороны Спаньярд-Род, этого крепостного вала старого города, тянулась равнина. Запах боярышника пробирался вверх на дорогу; всходящая луна льнула к ветвям высокой ели. Над сельским краем властвовали далекие звезды, и темные крылья сна распростерлись над полями безмолвное, почти не дышащее, лежало тело Земли. Но там, к югу, где был город — эта не знающая спокойствия голова, — казалось, что звезды упали и засеяли собой тысячи рытвин огромного серого болота; из темных испарений улиц неслись шорохи, шепот, далекий зов бессмертной танцовщицы, манящей взглянуть, как кружится и взлетает ее черное, усыпанное блестками покрывало, как мерцают ее гибкие руки и ноги. Будто песня моря в раковине, рокотал голос этой чаровницы, хватающей людские души, чтобы унести их вниз к той душе, которую никто никогда не видел в покое.
Над головами юных велосипедистов, мчавшихся по дороге между деревней и городом, медленно плыли на запад три тонких белых облачка, словно измученные полетом чайки, оставившие сушу далеко за собой и изнемогающие от усталости над морем, таким бездонным, что синева его кажется черной.
Целый час молодые люди, не обменявшись ни словом, удалялись от города.
— Ну как, достаточно далеко мы заехали? — спросил наконец Мартин.
Тайми помотала головой. Длинный, крутой подъем, начинавшийся за маленькой спящей деревней, заставил их остановиться. На темных полях блистала в лунном свете бледная полоса воды. Тайми свернула с дороги.
— Мне жарко, — сказала она, — я пойду умоюсь. Оставайся здесь, не ходи за мной.
Она слезла с велосипеда и, пройдя сквозь какую-то калитку, исчезла среди деревьев.
Мартин стоял, опершись о калитку. Часы в деревне пробили час. Сквозь торжественную тишину этой последней майской ночи откуда-то издалека донесся крик вылетевшей на охоту совы: «Кью-виик, кью-виик…» Луна, поднявшись до самого верха своей орбиты, мирно плыла на синеве неба, словно сомкнувшая свои лепестки большая водяная лилия. Сквозь деревья Мартин различил на берегу пруда темные заросли камышей, похожих на турецкие сабли. А вокруг светились белые цветы боярышника. Это была такая ночь, когда мечта становится явью и явь становится мечтой.
«Все это чепуха, луна и прочее», — подумал молодой человек, ибо ночь растревожила его сердце.
Тайми все не возвращалась. Мартин окликнул ее, и в наступившей затем мертвой тишине слышал удары собственного сердца. Он прошел в калитку. Тайми нигде не было видно. Зачем она сыграла с ним эту шутку?
Он повернул прочь от пруда и вошел в гущу деревьев, где в воздухе плавал густой фимиам боярышника.
«Никогда ничего не ищи», — подумал он и вдруг прислушался. Воздух был так тих, что листья невысокого куста, касавшиеся щеки Мартина, не шевелились. Он расслышал какие-то слабые звуки и пошел на них. Он чуть не споткнулся о Тайми — она лежала под буком, уткнувшись лицом в землю. Сердце юного медика больно сжалось. Он быстро опустился на колени возле девушки. Все ее тело, прильнувшее к ковру из сухих листьев, сотрясалась от рыданий. Она сбросила с себя шляпу, и запах ее волос смешался с благоуханием ночи. В сердце Мартина что-то переворачивалось, как когда-то, когда он еще мальчиком увидел кролика, попавшего в силки. Он коснулся девушки. Она вскочила и, порывисто прикрыв глаза рукой, крикнула:
— Уходи! Уходи же!
Он обнял ее за плечи и ждал. Прошло минут пять. Воздух слабо мерцал луна пробралась сквозь темную листву и лила потоки света на черные буковые орешки, казавшиеся теперь белыми. Какая-то пичужка, потревоженная необычными пришельцами, принялась порхать и чирикать, но вскоре смолкла. Мартина, так неожиданно оказавшегося ночью вдвоем с юной девушкой, охватило смятение.
«Бедная девочка, — говорил он себе, — ну пожалей же ее!» У нее, видно, совсем не осталось сил, а ночь такая чудесная… И тут молодой человек ясно понял — а это с ним случалось не часто, ибо, не в пример Хилери, он не был философствующего склада, — что девушка рядом с ним — такой же живой человек, как и он сам, что она тоже и страдает и надеется, но не так, как он, а по-своему. Пальцы Мартина все сжимали ее плечо сквозь тонкую блузку. И прикосновение этих пальцев значило больше, чем любые слова, как эта ночь, эта залитая лунным светом мечта значила больше, чем тысяча трезвых, реальных ночей.
Наконец Тайми высвободила плечи.
— Я не могу, не могу, — рыдала она, — я не такая, какой ты меня считаешь! Я не создана для этого!
Презрительная улыбочка скривила его губы. Так вот в чем дело! Но улыбка тут же исчезла. Лежачего не бьют.
Голос Тайми разрывал тишину:
— Я думала, я смогу, но нет, нет, я не могу жить без красоты! А там жизнь такая серая, страшная… Я не похожа на ту девушку. Я… я дилетантка!..
«Если я ее сейчас поцелую…» — подумал Мартин.
Тайми снова припала к сухим листьям, зарылась в них лицом. Лунный свет ушел дальше. Голос Тайми звучал теперь слабо и приглушенно, словно шел из могилы, где была схоронена вера.
— Я ни на что не гожусь! И никогда ни на что не буду годиться! Я такая же, как мама!
Но Мартин не слышал ничего, кроме запаха ее волос.
— Да, я только и гожусь, что для этого несчастного искусства, невнятно бормотал голос Тайми. — Ни для чего я не гожусь!
Они были совсем рядом, тела их касались, и Мартина охватило желание стиснуть девушку в объятиях.
— Я гадкая эгоистка! — жаловался приглушенный голос. — Я равнодушна к этим людям, мне нет до них дела — я только вижу, что они безобразны!
Мартин протянул руку и коснулся ее волос. Если бы она отпрянула, он бы обнял ее, но она инстинктивно не оттолкнула его руки. Она внезапно затихла, лежала теперь такая непонятная, трогательная, и вспыхнувшая было в Мартине страсть погасла. Он обхватил девушку рукой, приподнял, как ребенка, и долго сидел, криво усмехаясь, слушая ее сетования об утраченных иллюзиях.
Рассвет застал их на том же месте, под буком. Губы ее были полураскрыты, слезы высохли на спящем лице, прильнувшем! к его плечу, а Мартин все смотрел на нее, забыв стереть с лица кривую усмешку.
А за серой полоской воды луна, как усталая блудница в оранжевом капюшоне, кралась между деревьями, уходя на покой.
ГЛАВА XXXVI СТИВН ПОДПИСЫВАЕТ ЧЕКИ
Когда пришло загадочное извещение, в котором стояло: «Здорова адрес Юстон-Род 598 через три двери от Мартина подробности письмом Тайми», Сесилия еще даже не успела сообразить, что ее дочурки нет дома. Она тотчас поднялась в комнату Тайми, открыла там один за другим все ящики и шкафы и убедилась, что вещей в них много; на первых порах это ее несколько успокоило.
«Она взяла с собой только один маленький чемодан, — подумала Сесилия, и оставила все вечерние платья».
Этот акт независимости встревожил ее, но не особенно удивил: последний месяц домашняя атмосфера была очень напряженной. С того вечера, когда она застала Тайми в слезах из-за смерти ребенка Хьюзов, ее Материнские глаза не преминули заметить, что в облике дочери появилось что-то новое: частая смена настроений, чуть ли не заговорщицкий вид, значительно усилившаяся юношеская саркастичность. Страшась заглянуть поглубже, она не пробовала вызвать дочь на откровенность и не стала делиться сомнениями с мужем.
На глаза ей попался лежавший среди блузок разлинованный лист голубой бумаги, очевидно, вырванный из тетрадки. На нем было нацарапано карандашом: «Несчастный мертвый младенчик был такой серый, худенький, и я вдруг сразу поняла, как ужасно живут эти люди. Я должна, я должна что-то сделать — я непременно сделаю что-то!..»
Сесилия уронила листок; рука ее дрожала. Теперь уже было ясно, почему ушла дочь, и Сесилии вспомнилось, что говорил Стивн: «До поры до времени все это очень хорошо, и никто не преисполнен к ним большего сочувствия, чем! я; но стоит перейти границу — и конец покою, а прока от того нет никому».
Тогда ее немного покоробило от этих благоразумных слов; теперь они показались ей лишь еще более здравыми. Неужели ее дочурка, юная, хорошенькая, серьезно решила посвятить себя альтруистической деятельности в мрачных трущобах, отрешиться от тонких, нежных звуков, запахов и оттенков, изъять из своей жизни музыку, искусство, танцы, цветы — все, что делает жизнь прекрасной? Глубоко скрытая брезгливость, врожденный страх перед фанатизмом и полное незнание той, чужой жизни — все это поднялось в Сесилии разом и так стремительно, что ей стало почти дурно. Уж лучше бы жизнь отняла все это у нее, чем ее родная дочь лишится вдруг воздуха, света, всего того, что должно служить ее юности и красоте. «Она должна вернуться, она должна выслушать меня! Мы начнем что-нибудь вместе, например, сами устроим ясли, или же миссис Таллентс-Смолпис подыщет для нас постоянную работу в одном из своих комитетов».
Внезапно ей пришла в голову мысль, от которой у нее застыла кровь в жилах. Что, если это сказывается наследственность? Что, если Тайми унаследовала от деда его односторонность, одержимость одной идеей? Ведь и Мартин тоже… Такие черты передаются обычно через поколение. Нет, нет, этого не может быть! С нетерпением и в то же время со страхом Сесилия ждала прихода Стивна, прислушивалась, не щелкнет ли в двери его американский ключ. Он щелкнул в обычное свое время.
Даже сейчас, несмотря на волнение, Сесилия не изменила привычке щадить Стивна. Она поцеловала его, затем сказала как бы мимоходом:
— У Тайми новая фантазия.
— Что за фантазия?
— В общем, этого следовало ожидать, — продолжала Сесилия, запинаясь. Она столько бывала в обществе Мартина…
На лице Стивна не замедлило появиться выражение сухой насмешки. Дядя и племянник недолюбливали друг друга.
— Оздоровителя? Ну, так что же?
— Она уехала, решила заняться работой где-то на Юстон-Род. Я получила от нее телеграмму. Да, и еще я нашла вот это.
Она нерешительно протянула ему два листка бумаги, розовато-коричневой и голубой. Стивн заметил, что она дрожит. Он взял оба листка, прочитал то, что в них было написано, и снова посмотрел на жену. Он искренне любил ее, и в нем прочно сидело привитое ему умение считаться с чувствами других. Поэтому в этот тревожный момент он прежде всего положил руку на плечо жены и слегка сжал его, чтобы придать ей бодрости. Но было в Стивне и некое примитивно мужественное начало, правда, несколько замаринованное в Кембридже и высушенное в храме правосудия, однако все еще властное и агрессивное. И поэтому он тут же воскликнул: «Ну нет, черт меня возьми!»
В этой короткой фразе заключалась подоплека его отношения к сложившейся ситуации и основная разница между общественными классами. Мистер Пэрси на его месте, безусловно, сказал бы: «Ах, черт меня возьми!» Стивн же, сказав: «Нет, черт меня возьми!» — невольно выдал то обстоятельство, что прежде, нежели его возьмет черт, он успел с чем-то побороться, и Сесилия, которая тоже всегда боролась, знала: это «что-то» — общественная совесть, странный призрак, бродящий в домах тех, кто в силу своей культуры или просто досуга когда-то задал себе вопрос: «Неужели действительно имеется класс людей, помимо моего собственного, или мне это только кажется?» Счастливы те, будь они богатые или бедные, кто еще не осужден на посещения этого печального призрака, кто не слышит его хриплого бормотания, — счастливы они в своих домах, под покровительством менее беспокойного духа. Все это смутно поняла сейчас Сесилия.
Даже я теперь она все еще не измерила до глубины душу Стивна: она видела, что он борется с призраком, и восхищалась его победой, но не почувствовала и, может быть, не могла почувствовать, что же все-таки так оскорбило его в поступке Тайми. Будучи женщиной, она рассматривала случившееся лишь со стороны практической. Она не поняла и никогда не понимала, какое стройное архитектурное целое представляют собой взгляды ее мужа, какую боль причиняет ему то, что не подходит под его мерки.
Он сказал:
— Почему, хотел бы я знать, если уж ее тянет к этому, не могла она заняться делом так, как это принято? Могла бы вступить в любое благотворительное общество, против этого я бы ничего не имел. Все, конечно, влияние нашего оздоровителя. Экий болван!
— Но, мне кажется, Мартин как раз представляет какое-то общество, возразила Сесилия нерешительно. — Он проповедует что-то вроде медицинского социализма. Он глубоко верит в свои идеи.
Стивн скривил губы.
— Может верить во что ему угодно, — сказал он сдержанно (сдержанность была одним из его лучших качеств). — Я только не хочу, чтобы он своими идеями заражал мою дочь.
Сесилия неожиданно воскликнула:
— Боже мой, Стивн, но что же нам теперь делать? Может быть, мне сегодня же съездить к ней?
Как по ниве пробегает иной раз тень облаков, так пробежала тень по лицу Стивна, как будто до сих пор он еще не до конца сознавал полное значение случившегося. С минуту он молчал.
— Лучше подождем ее письма, — сказал он наконец. — Как-никак, он ее двоюродный брат, и миссис Грэнди [23] давно скончалась, во всяком случае, на Юстон-Род.
Так, щадя друг друга, тщательно избегая в присутствии слуг каких бы то ни было намеков на случившееся, они пообедали и легли спать.
Стивн проснулся в тот час между ночью и утром, когда жизненные силы человека особенно слабы и сомнения, как зловещие птицы, носятся и носятся вокруг него, задевая его по лицу длинными перьями.
Было совсем тихо. Чуть виднелась полоска жемчужно-черного рассвета за прозрачными шторами, которые шевелились слабо и равномерно, как губы спящего. Ветер, сотканный, как то воображал мистер Стоун, из человеческих душ, почти прекратился. Он еле-еле овевал дома и лачуги, где миллионы спящих не ощущали его дуновения. Так ослабел пульс жизни, что люди и «тени» на краткий миг слились воедино в этом сне огромного города. Над тысячами различных кровель, над миллионами многообразных форм людей и предметов ветер подал неслышный знак — и все стихло, погрузилось в то небытие, когда жизнь становится смертью, смерть — новой жизнью, а наше «я» бессильно.
Внутреннее «я» Стивна, чувствуя, что магнетические потоки отлива убаюкивают его, уводят в шепчущую дрему, куда-то за песчаные барьеры индивидуального и классового, вскинуло свои ручки и стало звать на помощь. Лиловое море самозабвения под тусклым равнодушным небом казалось ему таким холодным и страшным! Оно не имело видимых границ, не подчинялось никаким законам, кроме тех, что висели где-то бесконечно далеко, написанные иероглифами бледнеющих звезд. Стивн не мог постичь этих законов, управляющих всплесками бледных вод у его ног. Куда унесут его эти воды? В какие глубины зеленого, неподвижного молчания? Неужели его собственной дочурке суждено уйти на дно этого моря, которое не знает ничего, кроме самозабвения, которое не считается ни с личностью, ни с классом, — этого моря, на поверхности которого все время движутся неясные полоски — единственное доказательство пресловутой разницы между людьми? Сохрани господь от этого!
Он приподнялся на локте и взглянул на ту, что подарила ему дочь. В спящем лице жены — самого близкого и дорогого ему человека — он изо всех сил старался не увидеть сходства с мистером Стоуном. Он опять опустил голову на подушку, несколько утешившись такой мыслью: «У старика одна идея — его Всемирное Братство. Он целиком поглощен только этим. В лице Сесси нет ничего похожего. Как раз наоборот!»
И вдруг в сознании его вспыхнула отчетливая, трезвая мысль — почти прозрение. Старик так поглощен собой и своей злосчастной книгой, что не замечает ничего вокруг. Можно ли быть братом всем людям, если не замечаешь их существования? Но причуда Тайми — ведь это, в сущности, попытка стать сестрой всем людям! А для такой цели, полагал Стивн, требовалось полностью забыть самого себя. Боже мой, да это еще более серьезный случай, чем с мистером Стоуном! И при этой мысли Стивн не на шутку испугался.
Где-то возле открытого окна слабо чирикнула первая утренняя птаха. Неизвестно почему, Стивну вспомнилось утро, когда он после окончания первого школьного триместра проснулся от щебета птиц, вскочил и извлек из-под подушки рогатку и коробку с дробью — все это он привез из школы и, ложась спать, взял с собой в постель. Сейчас он снова видел эти свинцовые дробинки, отливающие синевой, почти ощущал, как они, такие круглые, гладкие и тяжелые, перекатываются у него на ладони. Ему казалось, что он слышит удивленный голос Хилари: «Эй, Стиви! Уже проснулся?»
На свете не могло быть лучшего брата, чем старина Хилери. Единственным его недостатком всегда была его чрезмерная доброта. Доброта и погубила его, из-за нее не удалась его семейная жизнь. Он не смог утвердить себя перед этой женщиной, своей женой. Стивн повернулся на другой бок. «Все эти проклятые истории, — думал он, — происходят от излишнего сочувствия. Именно это получилось с Тайми». В комнате светало, и он долго еще лежал, прислушиваясь к легкому дыханию Сесилии, глубоко растревоженный своими мыслями.
С первой почтой письмо от Тайми не пришло, и когда вскоре после этого лакей доложил, что к завтраку пришел мистер Хилери, и Стивн и Сесилия обрадовались, как радуются озабоченные люди тому, что сулит им: возможность отвлечься.
Стивн поспешно сошел вниз. Хилери стоял в столовой — вид у него был мрачный, измученный. Но он первый, взглянув на брата, спросил:
— Что случилось, Стиви?
Стивн взял со стола «Стандарт»; несмотря на все свое самообладание, он не мог удержать дрожи в руке.
— Смехотворная история, — сказал он. — Наш юный оздоровитель так вбил свои дурацкие идеи в голову Тайми, что она, видите ли, уехала на Юстон-Род проводить их в жизнь.
Стивн заметил, что сообщение это и озаботило и позабавило Хилери, и его быстрые, узкие глаза холодно сверкнули.
— Не тебе бы смеяться, Хилери, — сказал он. — Это все ваше сентиментальничание с Хьюзами и той девицей. Я предвидел, что это плохо кончится.
На эту вспышку несправедливого и неожиданного раздражения Хилери ответил только взглядом, и Стивн, с неприятным чувством своей незначительности, которое часто испытывал в присутствии брата, опустил глаза.
— Друг мой, — сказал Хилери, — если Тайми унаследовала что-нибудь от моего характера, искренне о том сожалею.
Стивн крепко сжал его руку. Тут вошла Сесилия, и все трое сели за стол.
Сесилия мгновенно заметила то, чего в своей озабоченности не заметил Стивн: Хилери пришел к ним что-то сообщить. Но ей не хотелось его расспрашивать, хотя она была уверена, что Хилери, зная об их заботах, из деликатности не станет навязывать им еще и свои. Не хотелось ей говорить и об их беде, раз он сам был чем-то расстроен. Поэтому они болтали о посторонних вещах — о недавнем концерте, о последней пьесе. К еде они почти не притронулись и пили чай. Стивн рассуждал об опере и, случайно подняв глаза, вдруг увидел, что в дверях стоит Мартин. Юный оздоровитель был бледен, растрепан и весь в пыли. Он подошел к Сесилии и сказал своим обычным хладнокровным и решительным тоном:
— Я привел ее обратно, тетя Сесси.
Сесилия почувствовала такое облегчение, такую светлую радость, такое желание сказать тысячу вещей сразу, что смогла только еле внятно прошептать:
— О Мартин!..
Стивн вскочил из-за стола.
— Где она?
— Пошла к себе в комнату.
— В таком случае ты, быть может, объяснишь, что значит эта безумная выходка? — сказал Стивн, сразу обретший свое самообладание.
— Пока мы в ней не нуждаемся.
— В самом деле?
— Да, абсолютно.
— В таком случае будь любезен понять, что в дальнейшем мы не нуждаемся в тебе и в тебе подобных.
Мартин по очереди оглядел всех сидящих за столом.
— Вы правы, — сказал он. — Прощайте.
Хилери и Сесилия тоже поднялись со своих мест. Наступило молчание. Стивн пошел к двери.
— На мой взгляд, — произнес он вдруг своим самым что ни на есть сухим тоном, — ты со своими современными манерами и теориями зловредный юноша.
Сесилия протянула руки к Мартину, и что-то вдруг звякнуло, как цепи.
— Ты должен понять, дорогой, — сказала она, — как мы все беспокоились. Твой дядя сказал это несерьезно, он не хотел тебя обидеть.
На лице Мартина мелькнула та презрительная нежность, с какой он обычно смотрел на Тайми.
— Ладно, тетя Сесси. Но если Стивн сказал это несерьезно, то напрасно. Серьезное отношение к вещам — это самое главное. — Он нагнулся и поцеловал Сесилию в лоб. — Передайте это Тайми. Некоторое время мы не будем видеться.
— Вы никогда больше не увидитесь с ней, сэр, я позабочусь об этом, сказал Стивн сухо. — Вино вашего оздоровительства слишком пенится.
Мартин широко улыбнулся.
— Только для старых мехов, — сказал он и, еще раз медленно обведя всех взглядом, вышел.
Рот Стивна искривился.
— Нахальный щенок, — проговорил он. — Если таковы все современные молодые люди, защити нас бог!
В прохладной столовой, где царил легкий аромат лососины, дыни и ветчины, стало тихо. Сесилия выскользнула из комнаты. Едва она оказалась за дверью, как тотчас послышались ее легкие, торопливые шаги на лестнице Сесилия поднималась к Тайми.
Хилери тоже направился к двери. Несмотря на свою озабоченность, Стивн не мог не заметить, какой у него измученный вид.
— Слушай, старина, ты неважно выглядишь, — сказал он. — Не хочешь ли коньяку?
Хилери помотал головой.
— Теперь, когда Тайми к вам вернулась, — сказал он, — я, пожалуй, могу сообщить вам мои новости. Завтра я еду за границу. Не знаю, вернусь ли я к Бианке.
Стивн легонько свистнул, затем, сжав руку Хилери, сказал:
— Решай, как знаешь, дружище, я тебя всегда поддержу, но…
— Я еду один.
Стивн испытал чувство такого облегчения, что даже изменил своей сдержанности.
— Слава богу! Я уж боялся, что ты начинаешь терять голову из-за этой девицы.
— Я не так глуп, — сказал Хилери, — чтобы воображать, будто подобная связь в конечном счете может принести что бы то ни было, кроме несчастья. Если бы я взял с собой эту девочку, я бы должен был остаться с ней навсегда. Но я не очень горжусь собой, Стивн, оттого, что бросаю ее на произвол судьбы.
Голос его звучал так горько, что Стивн схватил брата за руку.
— Послушай, дорогой мой, ты слишком уж добр, в этом все дело. Ведь она не имеет на тебя никаких прав — ни малейших.
— Кроме того права, которое ей дает ее преданность мне. Господь ведает, чем я ее вызвал. И еще ее бедность…
— Ты позволяешь, чтобы эти люди преследовали тебя, как призраки. Это ошибка, уверяю тебя.
— Я забыл тебе сказать, что я сделан не изо льда, — пробормотал Хилери.
Стивн смотрел ему в лицо, не говоря ни слова, затем сказал чрезвычайно серьезно:
— Как бы она ни влекла тебя, немыслимо, чтобы такой человек, как ты, связал себя с женщиной другого класса.
— Класса? Да, конечно, — сказал Хилери тихо. — Прощай!
Братья обменялись крепким рукопожатием, и Хилери ушел.
Стивн вернулся к окну. Сколько внимания уделялось тому, какой вид открывается из окон, и все-таки слева вдали глаз мозолили дворы какого-то переулка! Резко, будто овод вонзил в него свое маленькое жало, Стивн отшатнулся.
«Черт побери!.. — подумал он. — Неужели мы так никогда и не избавимся от этой публики?»
Взгляд его упал на дыню. На зеленовато-голубом блюде лежал один-единственный ломтик. Нагнувшись над тарелкой, Стивн с необычайным для него ожесточением откусил большой кусак, еще и еще… Потом отшвырнул его от себя и окунул пальцы в мисочку с водой.
«Слава богу, что все это кончено, — подумал он. — Как гора с плеч!»
Имел ли он в виду Хилери или Тайми — он и сам не знал, но его вдруг охватило желание броситься наверх к своей дочурке, обнять ее. Он подавил в себе этот порыв и сел за бюро. Им овладело ощущение, какое возникало у него, когда выдавался счастливый день или после благополучно миновавшей физической опасности, — чувство особо большой удачи, за которую ему хотелось выразить благодарность, только он не знал, кому и как. Рука его потянулась к внутреннему карману черного пиджака и скрылась в нем. Вот она появилась снова — она держала чековую книжку. Он мысленно перебирал названия благотворительных обществ, которые поддерживал или имел намерение поддержать, если у него явятся к тому возможности. Он протянул руку и взял перо. Еле слышный скрип пера по бумаге слился с жужжанием залетевшей в комнату мухи.
Вот это и услышала Сесилия, когда в открытую дверь увидела узкий, безупречно подстриженный затылок Стивна, склоненный над бюро. Она тихонько подошла к мужу и прильнула к его руке.
Стивн перестал водить пером и поднял голову. Глаза их встретились, и Сесилия, наклонившись к мужу, прижалась щекой к его щеке.
ГЛАВА XXXVII ЦВЕТЕНИЕ АЛОЭ
В тот самый день, проделав необходимые приготовления к отъезду и возвращаясь домой через Кенсингтонский сад, Хилери неожиданно встретился с Бианкой, стоявшей на берегу Круглого Пруда.
Для постоянных посетителей этих Елисейских полей, где люди и тени ежедневно крадут отдохновение, для всех пьющих в этих зеленых садах свой подслащенный медом глоток душевного мира эти двое были всего лишь элегантной парой, в полной гармонии наслаждающейся приятным досугом. Ибо еще не пришло для человечества время стать одним целым, чтобы каждый инстинктом угадывал, что происходит в сердцах его ближних.
Правду сказать, во всем Лондоне нашлось бы не слишком много людей в подобной ситуации, которые были бы столь цивилизованны, вели бы себя столь корректно!
Став чужими, готовые расстаться, они до конца держались ровно и любезно. Не в их принципах были супружеские ссоры, напыщенные обвинения и упреки, утверждение собственнических прав. Не в их принципах было стремиться во что бы то «и стало отравить жизнь другому — им даже и в голову не приходило, что они имеют это право. Нет, для их изболевшихся сердец облегчения не было. Они шли рядом, они с уважением относились к чувствам друг друга, как если бы не было позади этих восемнадцати лет, когда они сперва любили, а затем разошлись в силу какой-то таинственной дисгармонии; как если бы теперь между ними не стояло вопроса об этой девушке.
Вскоре Хилери сказал:
— Я был в городе, все подготовил к отъезду. Завтра я уезжаю в горы. Тебе не придется оставлять отца.
— Ты берешь ее с собой?
Произнесено это было великолепно — ни малейшего оттенка чувств, ни тени любопытства — просто, естественно, не холодно, но и без интереса. И невозможно было определить, чем продиктован этот вопрос — великодушием или злобой. Хилери решил в пользу первого.
— Благодарю тебя, — сказал он. — Эта комедия окончена.
Вдоль самого берега Круглого Пруда гордым лебедем направлялся в открытое море пароходик; следом за этим великолепным судном двигалась крохотная, выдолбленная из деревяшки лодочка с тремя перьями вместо мачт ее и подкидывало и бросало из стороны в сторону; два оборванных мальчугана, владельцы миниатюрной галеры, тянули к ней прутики через прозрачную воду. Невидящими глазами Бианка смотрела на эту иллюстрацию того, как человек гордится своей собственностью. На шее у нее висела тонкая золотая цепочка. Резким движением Бианка сунула ее за вырез платья; цепочка под ее рукой разорвалась надвое.
Они дошли до дома, так и не произнеся больше ни слова.
У двери кабинета Хилери поджидала Миранда. Он погладил ее, и от этой ласки по гладкой коже собаки прошла дрожь, но затем она снова свернулась клубочком на прежнем месте, уже нагретом ее телом.
— Ты разве не хочешь войти со мной? — сказал Хилери.
Миранда не шевельнулась.
Хилери тотчас понял, почему собака не пожелала войти в кабинет: там, возле длинного книжного шкафа, за бюстом Сократа, стояла маленькая натурщица — очень тихо, словно боясь звуком или движением выдать свое присутствие. На ней было зеленовато-голубое платье, на голове — шляпка из коричневой соломки, без полей, отделанная двумя тесно посаженными темно-красными розами на ленте из еще более темного красного бархата. Рядом с розами было воткнуто павлинье перышко — маленький нечестивец, который стоял чуть откинувшись назад, стараясь и привлечь к себе внимание и остаться незамеченным. Затиснутая между мрачным белым бюстом и почти черным шкафом, девушка казалась незаконно проскользнувшим сюда духом, который теперь дрожал и страшился, готовый к тому, что его выставят за дверь.
Хилери отступил было за порог, постоял в нерешительности, затем вошел.
— Вам не следовало приходить сюда после того, что мы вам вчера сказали, — проговорил он вполголоса.
Маленькая натурщица, торопясь, сказала:
— Но я видела Хьюза, мистер Даллисон! Он разузнал, где я живу. Ох, какой у него был ужасный вид, как он меня напугал! Я теперь больше не могу там оставаться.
Она немного вышла вперед из своего укрытия и стояла, опустив голову, нервно крутя пальцы.
«Она лжет», — подумал Хилери.
Маленькая натурщица глянула на него украдкой.
— Я его видела, это правда, — сказала она. — Мне надо переезжать, сразу же. А то мне там опасно, верно?
И она снова бросила на него быстрый взгляд.
Хилери подумал: «Она обращает против меня мое же оружие. Возможно, что она действительно видела Хьюза, но он не испугал ее. Поделом мне».
Сухо рассмеявшись, он повернулся к ней спиной.
Послышался шорох. Маленькая натурщица отошла от шкафа и теперь стояла между Хилери и дверью. Этот ее маневр вызвал у Хилери трепет — такой же, как тогда в парке, после похорон. А в саду за окном голубь посылал миру свою тягучую любовную песню. Хилери ее не слышал, он сознавал только одно: за его спиной стоит юное существо, девушка, заполонившая все его чувства.
— Так чего же вы хотите? — спросил он. Маленькая натурщица ответила вопросом:
— Это правда, что вы уезжаете, мистер Даллисон?
— Да.
Она подняла руки к груди и как будто хотела их стиснуть, но они тут же снова опустились. На руках были очень старые замшевые перчатки, и в эту минуту мучительной неловкости глаза Хилери вдруг остановились на изящных ручках девушки, опускающихся вниз по складкам юбки.
Маленькая натурщица быстро спрятала руки за спину. И вдруг сказала своим деловитым тоном:
— Я только хотела спросить: а нельзя и мне поехать с вами?
Святая простота этого вопроса могла бы и у ангела вызвать улыбку, и Хилери почувствовал, что весь он будто размяк. Ощущение это было странным, чудесным — словно ему предложили именно то, что ему было мяло в девушке, без всего того, что он не принимал в ней. Он смотрел на нее и молчал. Шея и щеки у нее покраснели, и даже веки приняли красноватый оттенок, поэтому глаза ее, голубые, как цветы цикория, казались глубже, темнее. Она заговорила — будто отвечала затверженный урок:
— Я мешать вам не буду. Вам не придется много на меня тратиться. Я все смогу делать — все, что вам надо. Я могу научиться печатать на машинке. Я могу жить не так близко от вас, если вы этого боитесь — ну, что люди станут болтать. Я привыкла жить одна. Ах, мистер Даллисон, я все-все буду для вас делать! Я на все согласна, я не такая, как другие девушки, — уж вы на меня можете положиться, я знаю, что говорю.
— Вы так думаете?
Маленькая натурщица закрыла лицо руками,
— А вы попробуйте, проверьте меня.
Чувственные ощущения его почти исчезли; горло ему сдавил комок.
— Дитя мое, — проговорил он, — вы слишком великодушны…
Маленькая натурщица инстинктом поняла, что, тронув его душу, она проиграла. Отняв руки от лица, вся побледнев, она сказала, с трудом переводя дыхание:
— Нет, нет, я хочу этого, я хочу, чтобы вы позволили мне поехать с вами. Я не хочу оставаться здесь! Я знаю, я пропаду одна, пропаду, если вы меня с собой не возьмете, — да, я знаю!
— Предположим, я разрешил бы вам поехать со мной — и что же дальше? Какие у нас с вами могут быть отношения? Вы и сами все отлично понимаете. Да, только это и ничего другого… Не следует обманывать себя, дитя мое, будто у нас могут быть общие интересы.
Маленькая натурщица подошла ближе.
— Я знаю, чего я стою, и другой не хочу быть. Но я могу делать то, что вы мне прикажете, и никогда не стану жаловаться. Большего я не стою.
— Вы заслуживаете больше того, что я могу дать вам, — сказал Хилери очень тихо, — а я заслуживаю больше того, что можете дать вы мне.
Маленькая натурщица пыталась ответить что-то, но слова застряли у нее в горле; она откинула голову, стараясь выдавить из себя эти слова, и слегка пошатывалась. Видя ее перед собою, белую, как полотно, с закрытыми глазами, с полуоткрытым ртом, как будто готовую лишиться чувств, Хилери схватил ее за плечи. От прикосновения к этим мягким плечам кровь бросилась ему в лицо, губы задрожали. Девушка чуть приоткрыла глаза и взглянула на него. Поняв, что она вовсе не собирается падать в обморок, что это всего лишь маленькая хитрость этой юной Далилы, продиктованная отчаянием, Хилери разжал руки. В то же мгновение она опустилась на пол, обняла его колени, прижала их к своей груди так, что он не мог шевельнуться. Все крепче и крепче прижимала она его к себе, казалось, что она причиняет себе этим боль. Она бурно дышала, из груди ее вырывались рыдания, глаза оставались закрытыми, запрокинутый рот дрожал. В этом цепком объятии сказалась женская способность отдавать себя всю. И именно это было сейчас для Хилери особенно тяжело и мешало ему обнять девушку — именно это полное ее самозабвение, как будто она уже не помнила, что делает. Это было бы слишком грубо, все равно, что воспользоваться слабостью ребенка.
Из тишины рождается ветер, из глади озера — водяная рябь, из небытия возникает жизнь — одно незаметно переходит в другое, и человеку не дано знать этой тайны. Момент самозабвения прошел, и в заплаканных главах девушки снова светилась ее несложная, привыкшая лукавить душа, как будто говорившая ему: «Не пущу тебя, не дам тебе уйти, не дам!»
Хилери вырвался из ее рук, и девушка упала ничком.
— Встаньте, дитя мое, ради бога, встаньте! — сказал он. — Поднимитесь с пола!
Она послушно встала, подавила рыдания, вытерла лицо маленьким грязным носовым платком. Вдруг она шагнула вперед, сжала кулаки, рывком опустила их вниз.
— Я пропаду, если вы не возьмете меня с собой, пропаду — и пусть!
Грудь у нее высоко вздымалась, волосы рассыпались — она смотрела ему прямо в лицо, и глаза ее были в красных ободках. Хилери отвернулся, взял с письменного стола книгу и открыл ее. Лицо у него снова налилось кровью, руки и губы дрожали, взгляд как-то странно застыл.
— Не сейчас, не сейчас, — бормотал он. — Сейчас уходите. Я приду к вам завтра.
Маленькая натурщица посмотрела на него так, как смотрит собака, когда хочет спросить, не обманываете ли вы ее. Подняв руку к груди, она сделала жест, похожий на крестное знамение, потом еще раз провела по глазам грязным платком, повернулась и вышла.
Хилери остался стоять на том же месте, читая книгу и не понимая ее смысла.
Послышались унылые звуки, будто кто-то с трудом дышал, запыхавшись. На пороге открытой двери стоял мистер Стоун.
— Она была здесь, — сказал он, — я видел, как она выходила из дома.
Хилери выронил книгу — нервы у него совсем разгулялись. Указав на стул, он предложил старику:
— Не хотите ли сесть, сэр?
Мистер Стоун подошел ближе.
— У нее неприятности?
— Да.
— Она слишком юна, чтобы иметь неприятности. Вы сказали ей это?
Хилери помотал головой.
— Тот человек обидел ее?
Хилери снова помотал головой.
— Тогда какие же у нее неприятности? — спросил мистер Стоун.
Хилери не мог выдержать этого прямого допроса, этого внимательного, пристального взгляда и отвернулся.
— Вы спрашиваете меня то, на что я не могу ответить.
— Почему?
— Это дело личного свойства.
В висках его все еще стучала кровь, дрожь в губах не унималась, еще живо было то ощущение, когда девушка сжимала его колени. Он почти ненавидел этого старика с его нелепыми вопросами.
И вдруг он заметил, что в выражении глаз мистера Стоуна произошла разительная перемена — такие глаза бывают у человека, который пришел в себя после долгих дней бессознательного состояния. Все лицо его осветилось пониманием — и в нем была ревность. То тепло, которое маленькая натурщица давала его старой душе, разогнало туман его Идеи, и он начал видеть происходящее перед его глазами.
Под этим новым взглядом Хилери, ища опоры, прислонился к стене.
По лицу мистера Стоуна медленно разлился румянец. Он говорил с неприсущим ему колебанием — он чувствовал себя потерянным, возвращаясь в этот мир реальности.
— Я больше не буду задавать вам вопросы. Я не буду касаться личных дел. Это было бы не…
Голос его стал еле слышен; мистер Стоун опустил глаза.
Хилери наклонил голову. Его тронуло возвращение к жизни этого старого человека, давно не сталкивавшегося с реальными фактами, тронуло выражение тактичности на этом старом лице.
— Я больше не буду выспрашивать вас о каких бы то ни было ваших неприятностях, — продолжал мистер Стоун. — Мне очень жаль, что и вы тоже несчастливы.
Очень медленно и больше не взглянув на зятя, он ушел.
Хилери все стоял на том же месте, прислонившись к стене.
ГЛАВА XXXVIII ХЬЮЗ СНОВА ДОМА
Хилери, очевидно, не ошибся: маленькая натурщица лгала, утверждая, что видела Хьюза, ибо только на следующий день рано утром трое людей шли по длинной извилистой улице от Вормвуд Скрабз к Кенсингтону. Они молчали — не потому, что на душе у них не было ничего, что можно было бы передать словами, но именно потому, что там было слишком всего много. Шли они «лесенкой», как обычно ходят люди из простонародья: впереди Хьюз, слева, в двух шагах позади него, — его жена, а в десяти шагах за ней, еще левее, — их сын Стэнли. Казалось, они не замечали никого вокруг, и никто вокруг, казалось, не замечал их. Но мысленно эти трое столь различных между собой людей спрягали, каждый при этом чувствуя свое, один и тот же глагол:
«Я был в тюрьме».
«Ты был в тюрьме».
«Он был в тюрьме».
У Хьюза, с его внешней покорностью человека, с колыбели привыкшего к подчинению, эти четыре слова вызывали такой водоворот бурлящих чувств, такую яростную горечь, злобу, негодование, что никакое словесное выражение этих чувств не принесло бы ему облегчения. Эти же самые четыре слова в душе миссис Хьюз породили странную смесь страха, сочувствия, преданности, стыда и острого любопытства к тому новому, что вошло теперь в жизнь их маленькой семьи, идущей «лесенкой» домой в Кенсингтон, и выразить все это для нее было равносильно тому, чтобы зимой окунуться в реку. Для их маленького сына эти четыре слова звучали романтической легендой: они не вызывали определенного образа, они лишь делали ярче сияние чуда.
— Не отставай, Стэнли. Иди рядом с отцом.
Мальчуган сделал три шага побыстрее и снова отстал. Его черные глаза как будто ответили матери: «Ты ведь сказала это только потому, что не знаешь, что говорить». И, не меняя порядка «лесенки», не раскрывая рта, все трое продолжали путь.
Неуверенность и опасения в сердце швеи постепенно перерастали в страх. Каким-то будет первое слово на губах мужа? О чем он спросит? И как ей отвечать? Заговорит ли он мирно или начнет буянить? Забыл ли он девушку, или за то время, пока находился в доме горести и молчания, жил своими греховными желаниями, лелеял их? Спросит ли он, где их младший сын? Скажет ли ей хоть одно ласковое слово? Но наряду с тревогой в ней держалась непреклонная решимость ни за что не уступить его этой девице — ни за что!
— Не отставай, Стэнли!
На этот раз Хьюз заговорил:
— Оставь ты его в покое! Ты скоро и младенца начнешь донимать своей воркотней!
Эти первые произнесенные им слова прозвучали хрипло и глухо, будто из подземелья. Глаза швеи наполнились слезами.
— Мне уж этого не доведется, — сказала она, запинаясь. — Его больше нет с нами.
Хьюз оскалил зубы, словно затравленный пес.
— Кто посмел его забрать? Говори, кто?
По щекам швеи катились слезы; она не в состоянии была ответить. Тут раздался тонкий голосок ее сына:
— Мой братик умер. Мы зарыли его в землю. Я сам видел. Мистер Крид ехал вместе с нами в карете.
В уголках рта Хьюза появилась белая пена. Тыльной стороной руки он обтер рот, и маленькая семья «лесенкой» двинулась дальше.
«Вест-министр» в потертом летнем пиджаке — день выдался теплый — уже давно стоял у порога комнаты миссис Баджен на нижнем этаже дома на Хаунд-стрит. Зная, что Хьюза должны выпустить из тюрьмы рано утром), он со свойственной ему дальновидностью рассудил так: «Мне и сна не будет и никакого спокойствия, пока не узнаю, как этот тип станет держаться со мной. И нечего откладывать. Не дожидаться ведь, когда он явится ко мне, нападет на старого человека! Выйду в коридор. Хромая позволит мне там постоять, я ей не помешаю. В случае чего, если он вздумает броситься на меня, она встанет между нами. Я его не боюсь!»
Но минуты шли, и мистер Крид, словно пес, ожидающий наказания, все чаще облизывал обесцвеченные, искривленные губы. «Вот что получается, когда якшаешься с солдатней, — размышлял он, — да еще с таким грубияном и невежей. Надо было мне в свое время перебраться на другую квартиру. Небось, начнет у меня выспрашивать, куда уехала девица. Все потерял — и место и уважение людей — все. А из-за чего? Из-за женщин».
Он смотрел, как миссис Баджен, широколицая женщина, в серых глазах которой, по счастью, никогда не гас боевой дух, с усилием прибирает комнату; немного погодя она оперлась о комод, где фарфоровые чашечки и собачки стояли кучками, как поганки у края канавы.
— Я велела моему Чарли держаться от Хьюза подальше, — проговорила она. — Из тюрьмы они выходят колючие, что твои ежи. Едва глянут на тебя, и уж готовы затеять ссору.
«Ничего себе утешает, боже ты мой!» — мысленно воскликнул Крид, но, храня достоинство, ответил:
— Я его поджидаю: хочу выяснить, как обстоит дело. Вы как думаете, ведь не накинется же он на меня с злостным умыслом с утра пораньше?
Женщина пожала плечами.
— Уж он, конечно, прежде чем домой прийти, обязательно куда-нибудь заглянет, выпьет. Там-то им, беднягам, капли в рот не перепадает.
Сердце бедного старого лакея ушло в пятки. Он поднес дрожащую руку к губам, стараясь собраться с мыслями.
«Да, надо было мне сменить комнату — забрать вещи и уехать. Но взять вот так и уехать, когда у бедной женщины и без того горя… Как-то оно нехорошо. Да и не хочется уезжать. Кто еще станет обо мне заботиться? А она ведь всегда все мое белье вычинит. Правду сказать, времени своего она на это не жалеет».
Хромая, отдохнув, отошла от комода и принялась застилать постель, хмуря лицо, как всегда, когда ей приходилось напрягать мышцы больной ноги.
— Не поможешь соседу, и сосед не поможет тебе, — сказала она наставительно.
Крид молча и пристально смотрел на нее сквозь очки в железной оправе. Вероятно, он раздумывал над тем, как можно с этой точки зрения рассматривать его соседские отношения с Хьюзом.
— Я ездил на похороны их младенца, — проговорил он. — Ох, господи, вон он, идет!..
В самом деле, у порога показалось семейство Хьюзов. Весь духовный процесс, через который прошел «вест-министр» на протяжении своей жизни, полностью дал о себе знать в последующие несколько секунд. «Мне главное это быть живым, — говорил взгляд старика. — Я знаю, какого сорта ты человек, но теперь, раз уж ты здесь, пугаться тебя толку мало. Хочешь не хочешь, приходится иметь с тобой дело. Так-то вот. Занимайся ты своим, а я своим, и не вздумай дурить, я этого не потерплю, имей в виду!»
На лбу у него на пятнистой коже выступили бусинки пота. Сжав губы, вытаращив глаза, он ждал, что скажет выпущенный на свободу узник.
Хьюз, у которого лицо за время пребывания в тюрьме приобрело нездоровый, землистый оттенок, а черные глаза совсем провалились, не спеша мерил старика взглядом. Но вот он снял фуражку, открыв свои коротко остриженные волосы.
— Это ты мне удружил, папаша, — проговорил он, — но я на тебя не в обиде. Пойдем-ка, выпей с нами чашку чая.
Повернувшись, он стал подниматься по лестнице; за ним двинулись жена и сын. Тяжело отдуваясь, старый лакей последовал за ними.
В комнате на верхнем этаже, где теперь уже не было младенца, на столе стояла треска с претензией на свежесть; вокруг нее были расставлены тарелки с ломтями хлеба, кусок масла в посуде для паштета, чайник, желтый сахарный песок в сахарнице и поставленные рядом небольшой молочник с холодным синеватым молоком и наполовину пустая бутылка красного уксуса. Возле одной из тарелок на грязной скатерти лежал пучок левкоев, словно оброненный и забытый здесь богом Любви. Их слабый запах примешивался к остальным запахам в комнате. Старый лакей уставился на цветы.
«Бедная женщина, ведь это она купила ему: хочет, чтобы он вспомнил прежние денечки, — подумал он. — Небось, на свадьбе-то у нее цветы были!» Эта его лирическая нотка удивила его самого, и он повернулся к мальчугану и сказал: «Вот будешь вспоминать, когда станешь старше».
Не произнеся ни слова, все сели за стол.
Ели молча, и старый лакей думал: «Треска-то не очень… но чай — лучше желать не надо. Хьюз ничего не ест. А он гораздо разумнее, чем я полагал. Да, смотреть на него теперь не очень большое удовольствие».
Взгляд мистера Крида скользнул туда, где прежде висел штык, и остановился на картинке, изображающей Рождество. «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им…» [24] вспомнилось ему. — Бедняга будет рад, когда узнает, что его сына провожали две кареты».
Мистер Крид долго прочищал горло, собираясь заговорить, но гробовое молчание к комнате смущало его, звуки, застревали у него в горле. Допив чай, он неуверенно поднялся. В уме у него мелькали слова, которые он мог бы им сказать: «Очень рад, что повидался с вами. Надеюсь, вы в добром здоровье. Ну, больше не буду вам мешать… Все мы помрем, раньше или позже…», — но они остались непроизнесенными. Сделав жест рукой, он направился к двери — на слабых ногах, но проворно. Уже дойдя до середины комнаты, он собрался с духом и сказал:
— Я ничего говорить не буду: это все лишнее… Но… До свиданья!
Он постоял за дверью, прислушался, потом взялся рукой за лестничные перила.
«Хоть и смирный, но тюрьма ему на пользу не пошла. Глаза-то, глаза-то какие! — думал он, медленно спускаясь, преисполненный глубокого удивления. Я неверно о нем думал. Он совсем безобидный, вот он какой. У всех у нас свои пре… предрассудки. Да, разбили они ему сердце, эти две, уж это ясно».
После его ухода в комнате царило асе то же молчание. Но, когда мальчуган ушел в школу, Хьюз встал из-за стола и лег на кровать. Так он лежал там неподвижно, повернувшись лицом к стене, обхватив голову руками, чтобы было ей легче. Швея тихонько ходила по комнате, занимаясь домашними делами, и время от времени останавливалась и украдкой поглядывала на мужа. Если бы он кричал на нее, буйствовал, — все было бы легче, чем это полное молчание, которого она не могла понять, — молчание человека, выброшенного морем на камни, распростертого безжизненного тела. Теперь, когда ребенок ее умер, вся ее невыраженная тоска, жажда иметь в этой серой, беспросветной жизни близкого человека, отгородиться с ним вместе непреодолимым барьером от всего мира — все это поднялось в ней, ринулось к этой стене молчания и отхлынуло назад.
Раза три она окликала мужа по имени или бросала пустяковое замечание. Он не отвечал, будто и в самом* деле стал всего лишь тенью того, прежнего человека. Несправедливость этого молчания терзала ее. Разве она ему не жена? Разве не родила она ему пятерых детей, разве не боролась за то, чтобы не пустить его к той девушке? Разве ее вина, что своей ревностью она сделала его жизнь адом, как он сказал ей в то утро, когда ранил ее и когда его забрали? Он ее муж. Это ее право — нет, долг!
А он все лежал и не раскрывал рта. С узкой улочки, где не было езды, в окна вместе с тяжелым воздухом врывались крики торговца овощами и отдаленные свистки. Под карнизом без умолку чирикали воробьи. Рыжий котенок вошел, крадучись, в комнату, остановился у двери и сидел, весь сжавшись, не спуская глаз с тарелки, на которой лежали остатки рыбы. Швея наклонила лицо над цветами на столе — она была больше не в силах переносить это непостижимое молчание, она плакала. Но темная фигура на кровати лишь еще крепче сжимала руками голову, как если бы в этом человеке жила сама смерть, от которой немеют уста.
Рыжий котенок прополз на животе по полу, прыгнул, вцепился в рыбий хребет и потащил его под кровать.
ГЛАВА XXXIX ПОЕДИНОК
После того раза, когда они вместе вернулись с Круглого Пруда, Бианка больше с мужем не виделась. В тот день она обедала в гостях, а на следующее утро избегала всякого общения с ним. Когда багаж Хилери снесли вниз и подъехал кэб, Бианка заперлась у себя в комнате. Некоторое время спустя в коридоре послышались шаги; они замерли возле ее двери. Хилери постучал, Бианка не отозвалась на стук.
Прощание было бы просто насмешкой! Пусть он уедет так, без всяких слов. Казалось, эта ее мысль проникла сквозь закрытую дверь, потому что шаги стали удаляться. Вскоре она увидела, как Хилери, опустив голову, вышел из дому и подошел к кэбу, видела, как он наклонился и погладил Миранду. Горячие слезы обожгли глаза Бианки. Затем послышался стук колес удаляющегося кэба.
Человеческое сердце подобно лицу женщины Востока: под многими слоями ткани оно пылает огнем. Каждое прикосновение перстов жизни обнажает еще какой-нибудь новый уголок, еще какой-нибудь доселе скрытый изгиб или поворот, который был неведом даже самому владельцу.
Когда кэб скрылся из виду, в сердце Бианки родилось ощущение чего-то непоправимого, и это ощущение таинственным образом переплелось с бесплодной болью — чувством какой-то горькой жалости. Что будет с несчастной девушкой теперь, когда Хилери уехал? Пойдет ли она по пути зла и порока, пока не станет жалким существом, вроде той девушки, изображенной в «Тени», — одной из тех, что стоят на улицах возле фонарных столбов? Из этих размышлений, горьких, как алоэ, в Бианке возникла тяга к чему-то мягкому, нежному, к выражению сочувствия, которое таится в груди каждого человека, какой бы дисгармоничной ни была его натура. Но к этому примешивалась еще и потребность оправдать себя, доказать, что она может быть выше ревности.
Бианка отправилась туда, где жила маленькая натурщица.
Дверь ей открыла девочка-подросток и впустила ее в мрачный коридор, служивший прихожей.
Странная путаница чувств в груди Бианки нисколько не отражалась на ее. лице, пока она стояла возле комнаты девушки, — оно носило свое всегдашнее чуть насмешливое выражение.
Голос маленькой натурщицы ответил едва слышно:
— Войдите!
Комната была в беспорядке, как будто ее собирались в скором времени покинуть. Посередине ее на полу стоял запертый, перевязанный веревками сундук; на незастеленной кровати лежал во всей своей неприглядности только линялый тиковый матрац. Таз и мыльница на умывальнике были перевернуты кверху дном. А возле умывальника маленькая натурщица в шляпке — той самой с яркими розами и павлиньим перышком — стояла вся съежившись, словно человек кинулся вперед в ожидании поцелуя, а вместо этого получил пощечину.
— Так, значит, вы уезжаете отсюда? — спросила Бианка спокойно.
— Да, — прошептала девушка.
— Что же, вам не нравится здешний район? Слишком далеко от места вашей работы?
И снова маленькая натурщица прошептала:
— Да.
Бианка медленно обвела глазами и стены в голубых цветочках и ржаво-красные двери; в тесной, пыльной, разоренной комнате держался тошнотворный запах мускуса и фиалок, как будто все вокруг было щедро полито дешевыми духами. На жалкого вида подзеркальнике стоял небольшой флакон из-под духов.
— Вы подыскали себе новую квартиру?
Маленькая натурщица придвинулась ближе к окну.
На ее испуганном, ошеломленном лице появилась настороженность.
Она помотала головой,
— Я не знаю, куда я уезжаю.
Повинуясь возникшему в ней желанию видеть все яснее, Бианка приподняла вуаль.
— Я пришла сказать вам, — проговорила она, — что готова всегда оказать вам помощь.
Девушка не ответила, но из-под черных ресниц метнула взгляд на свою посетительницу. Он как будто говорил: «Вы? Разве вы в состоянии помочь мне? Нет, едва ли!»
И, словно ужаленная этим взглядом, Бианка проговорила убийственно медленно:
— Разумеется, это моя обязанность теперь, когда мистер Даллисон уехал за границу.
При этих словах маленькая натурщица вздрогнула.
Казалось, они, как стрела, пронзили ее белую шею. На мгновение Бианка подумала, что девушка сейчас упадет, но та, вцепившись рукой в подоконник, снова выпрямилась. Ее взгляд, как у раненого животного, заметался во все стороны, потом застыл, уставившись на грудь гостьи. Этот неподвижный, словно ничего не видящий взгляд, за которым, однако, скрывались какие-то первостепенной важности расчеты, производил жуткое впечатление. Но вот к губам, глазам и щекам девушки вернулись прежние краски, — очевидно, расчеты ее были произведены успешно, и она снова воспрянула.
И вдруг Бианке все стало ясно. Так вот что означает упакованный сундук, разоренная комната!.. В конце концов он все же решил взять с собой эту девушку!
В сумятице чувств, порожденной этим открытием, Бианка могла произнести лишь одно слово:
— Понимаю.
Этого было достаточно. Лицо девушки сразу утратило выражение напряженной мысли, вспыхнуло, стало виноватым, а затем мрачным.
Враждебные чувства между этими двумя женщинами, таившиеся все эти прошедшие долгие месяцы, теперь заявили о себе — гордость Бианки не могла больше скрывать, покорность девушки не могла больше приглушать их. И вот они стояли, как дуэлянтки, по обе стороны сундука — простого, покрытого коричневым лаком железного сундука, перевязанного веревками. Бианка взглянула на него.
— Вы и мой муж? Ха-ха-ха!
Против этого жестокого смеха, действующего гораздо сильнее, чем десятки проповедей на тему о классовом различии, чем сотни презрительных слов, маленькая натурщица выстоять не могла; она опустилась на низкий стул, на котором, по-видимому, сидела, глядя на улицу, до прихода Бианки. Но, подобно тому, как запах крови приводит в ярость охотничьего пса, звук собственного смеха, казалось, лишил Бианку самообладания.
— Как вы думаете, почему он берет вас с собой? Только из жалости! Одного этого чувства мало для жизни на чужбине. Но этого вам не понять.
Маленькая натурщица поднялась на ноги. Лицо ее залил мучительный румянец.
— Я ему нужна, — сказала она.
— Нужна ему? Да, так, как ему нужен обед. А когда он съест его, тогда что? О, он, безусловно, никогда не бросит вас: у него слишком чувствительная совесть. Но вы же будете висеть у него на шее — вот так!
Бианка вскинула руки кверху, потом сцепила пальцы и начала медленно опускать руки, словно изображая, как русалки тянут на дно тонущего моряка.
Маленькая натурщица проговорила, запинаясь:
— Я буду делать все, что он прикажет… все, что он прикажет…
Бианка молча глядела на девушку: вздымающаяся грудь, павлинье перышко, нервно сжатые пухлые ручки, дешевые духи — все казалось Бианке оскорбительным.
— И вы полагаете, он скажет вам, что именно ему нужно? Вы воображаете, что у него — это у него-то! — хватит необходимой жестокости, чтобы отделаться от вас? Он будет считать себя обязанным содержать вас до тех пор, пока вы сами его не бросите, что вы, не сомневаюсь, в один прекрасный день и проделаете.
Девушка уронила руки.
— Я никогда не оставлю его, никогда! — произнесла она страстно.
— В таком случае да поможет ему небо.
Глаза маленькой натурщицы будто вовсе лишились зрачков; они стали, как цветы цикория, у которых нет темных сердцевинок. Через глаза и стремилось найти себе выход все то, что она в эту минуту чувствовала: слишком сложные для слов, эти чувства не могли сойти с ее губ, непривычных для выражения эмоций. Она лишь повторяла, заикаясь:
— Я не… я не… я буду….
И вновь и вновь прижимала руки к груди. Бианка скривила губы.
— Вот оно что! Вы считаете себя способной на самопожертвование! Ну что ж, вам предоставляется удобный случай. Воспользуйтесь им. — Она указала на перевязанный веревками сундук. — Вам! надо всего-навсего исчезнуть.
Маленькая натурщица прислонилась спиной к подоконнику.
— Я нужна ему, — прошептала она, — я знаю, что нужна ему!
Бланка до кроки прикусила губу.
— Ваша идея самопожертвования великолепна, — сказала она. — Уезжайте сейчас же и через месяц он перестанет вспоминать о вас.
Девушка всхлипнула. В движениях ее рук было что-то столь жалкое, что Бианка отвернулась. Несколько мгновений она простояла, устремив взгляд на дверь, затем, снова повернувшись, проговорила:
— Ну так как же?
Но лица девушки нельзя было узнать. Оно все было залито слезами, но на нем уже была всегдашняя неподвижная маска бесстрастности.
Бианка кинулась к сундуку:
— Нет-нет, вы уйдете отсюда! Забирайте это и уходите!
Маленькая натурщица не сдвинулась с места.
— Так, значит, вы не желаете?
Девушку всю трясло. Она облизала губы, сделала безуспешную попытку сказать что-то, снова облизала губы, и на этот раз ей удалось выговорить:
— Я уеду… только… только если это он велит мне…
— Так вы все еще воображаете, что он вам что-нибудь «велит»!
Но маленькая натурщица все повторяла:
— Я ничего, ничего не стану делать без его приказания…
Бианка захохотала.
— Совсем как собака, — сказала она.
Девушка резко повернулась к окну. Губы ее раскрылись. Она вся съежилась, задрожала; она и в самом деле вдруг стала похожа на спаньеля, завидевшего своего хозяина. Бианка без слов догадалась, что там, на улице, стоит Хилери. Она вышла в коридор и открыла входную дверь.
Он поднимался по ступеням, лицо у него было измученное, как у больного лихорадкой. При виде жены он замер и так стоял, глядя ей в лицо.
Не дрогнув, не выдав хотя бы малейшим намеком какие бы то ни было чувства, ничем не показав, что она его видит, Бианка скользнула мимо Хилери и медленно пошла прочь.
ГЛАВА XL КОНЕЦ КОМЕДИИ
Всякий, кто увидел бы Хилери, когда тот в кэбе направлялся к дому маленькой натурщицы, заключил бы по красным пятнам на его щеках, по слишком плотно сжатым, дрожащим губам; о присутствии в нем животной силы, которая лежит в основе даже самых культурных людей.
Проведя восемнадцать часов в чистилище сомнений, он не столько пришел к решению нанести обещанный визит, от которого зависело будущее двух жизней, сколько уступил своему влечению к девушке.
После того, как он в дверях столкнулся с Бианкой, в передней ему уже не встретилось никого, кто мог бы его видеть, но когда он вошел в комнату маленькой натурщицы, лицо его хранило мрачное, настороженное выражение, как у человека, чей эгоизм получил чувствительный щелчок.
Вид этого столь мрачного лица сразу после того, что ей только что пришлось выдержать, был выше ее сил. Самообладание покинуло девушку. Вместо того, чтобы подойти к Хилери, она села на перевязанный веревкой сундук и зарыдала. Это плакал ребенок, которому не позволили участвовать в школьном пикнике, девушка, чье бальное платье не поспело к балу. Ее слезы только рассердили Хилери: он был вконец измотан. Его трясло, эти пошлые рыдания били ему по нервам. Всем своим существом он вбирал в себя каждую черточку этой пыльной, надушенной комнаты — коричневый железный сундук, голую кровать, дверь цвета ржавчины.
И он понял, что она сожгла свои корабли, чтобы человек, обладающий чувствительной душой, был бы уже не в состоянии разбить ее надежды!
Маленькая натурщица подняла лицо и поглядела на Хилери. То, что она увидела теперь, очевидно, еще менее успокоило ее, потому что она перестала рыдать. Она встала и повернулась к окну, стараясь с помощью носового платка и пуховки устранить следы слез; покончив с этим, она продолжала стоять все так же, спиной к Хилери. От учащенного дыхания дрожало все ее юное тело — от талии до павлиньего перышка на шляпке. И каждым таким движением она как будто предлагала себя Хилери.
За окном на улице шарманка заиграла тот самый вальс, который она играла в день болезни мистера Стоуна. Но эти двое сейчас не слышали мелодии: они были слишком поглощены своими чувствами, и все же она незаметно добавляла что-то к облику девушки, как солнце наделяет ароматом цветок. Губы Хилери снова плотно сомкнулись, уши и щеки вспыхнули — так порыв сквозного ветра вновь раздувает угасшее было пламя. Не отдавая себе в том отчета, медленно, беззвучно, он двигался к ней, и она, будто сознавая это, хотя ничего не слышала, продолжала стоять неподвижно; до него доносилось только ее глубокое дыхание. В этом медленном приближении заключалась вся история жизни, вся тайна пола. Шаг за шагом он подходил к ней, и девушка покачнулась, как бы внушая ему, что он должен обвить ее руками, чтобы она не упала, внушая, чтобы он забыл обо всем, не помнил ничего, кроме этого, — ничего в целом свете, кроме ее стремящегося к нему юного тела!
Шарманка перестала играть — очарование исчезло. Маленькая натурщица обернулась. Как ветер покрывает темными серыми морщинками неподвижные, зачарованные зеленые воды, в которые гляделся какой-нибудь смертный, так вдруг разум Хилери охватил все это, сорвал покров с происходящего, показал подлинную сущность всего. Мгновенно подмечая каждую мелькнувшую на лице Хилери тень, девушка, казалось, готова была опять разразиться слезами, но, рассудив, очевидно, что слезы помогли ей мало, прижала руку к глазам.
Хилери смотрел на ее круглую, не очень чистую руку. Он заметил, что девушка глядит на него сквозь раздвинутые пальцы. Ему стало неприятно, почти жутко — будто перед ним была кошка, подкарауливающая птицу. Он стоял, потрясенный внезапно открывшейся ему неприглядностью его положения, он представил себе будущее с этой девушкой — с таким воспитанием, привычками, тысячью вещей, которых он не знал о ней и с которыми ему придется столкнуться, начни он с ней совместную жизнь. Прошла минута, показавшаяся вечностью, ибо в нее вместилась вся сила длительного преследования девушки, ее инстинктивное цепляние за то, что сулило надежную опору, возвышение в жизни, возможность обвиться вокруг сильного.
Сознавая все, сдерживаемый этим видением своего будущего, но влекомый к девушке силой желания, Хилери качался, как пьяный. И вдруг она кинулась к нему, охватила руками его шею, прижалась ртом к его губам. Прикосновение ее губ было горячим и влажным. От нее исходил, согретый теплом ее тела, тяжкий запах фиалковой пудры; запах этот проник в сердце Хилери, и он отпрянул в чисто физическом отвращении.
Получив такой отпор, девушка окаменела: грудь ее вздымалась, зрачки расширились, губы были еще раскрыты после поцелуя. Выхватив из кармана пачку банкнот, Хилери кинул их на кровать.
— Я не могу взять вас с собой! — почти простонал он. — Это безумие! Это невозможно!..
И он вышел в коридор, сбежал вниз по ступеням и сел в поджидавший его кэб. Казалось, прошло бесконечно много времени, прежде чем кэб наконец тронулся. Хилери сидел в углу, стиснув руки, не шелохнувшись, словно мертвый.
Квартирная хозяйка, возвращаясь после утреннего обхода лавок, увидела и узнала его. «У джентльмена такой вид, — подумала она, — будто он получил дурные вести». Она, естественно, связала его появление здесь со своей жиличкой. Постучав в дверь ее комнаты и не получив ответа, она вошла.
Маленькая натурщица лежала на голой кровати, прижавшись лицом к валику, обтянутому белым в голубую полоску тиком. Плечи ее сотрясались, слышались приглушенные рыдания. Хозяйка стояла и молча на нее смотрела.
Происходя из Корнуэлла, из сектантской семьи, она всегда недолюбливала эту девушку: инстинкт подсказывал ей, что та успела уже слишком многое повидать в жизни. А те, кто уже много чего повидал в жизни, — это всегда «любители удовольствий». Она знала, что такое деревня, и потому легко могла представить себе «историю» в жизни маленькой натурщицы — очень простую, очень распространенную. Иногда, правда, неприятности подобного рода быстро проходят и забываются, но иногда, если парень не загладил своей вины и родня девушки отнеслась к этому сурово, — ну, тогда… Таковы были мысли этой почтенной женщины. Происходя из того же слоя общества, она с самого начала смотрела на свою жиличку весьма трезво.
Но, видя ее сейчас в таком безысходном отчаянии — а где-то за гранитным лицом и холодными глазами у этой женщины были и теплота и мягкость, — она дотронулась до спины девушки.
— Ну, ну, чего уж так убиваться, — сказала она. — Что случилось-то?
Маленькая натурщица стряхнула ее руку, как раскричавшийся ребенок, который отталкивает от себя утешение.
— Оставьте меня в покое! — пробормотала она.
Квартирная хозяйка отошла.
— Обидел кто-нибудь? — спросила она.
Маленькая натурщица помотала головой. Растерявшись при виде этого немого горя, женщина молчала, не зная, что сказать, затем с флегматичностью, присущей всем тем, кто давно уже борется с судьбой, сказала вполголоса:
— Не очень приятно смотреть, когда вот так вот плачут.
И, видя, что девушка по-прежнему упорно отказывается принять выражение сочувствия, направилась к двери.
— Ну, ладно, — проговорила она с ироническим состраданием. — Коли что понадобится, я буду в кухне.
Маленькая натурщица осталась лежать на кровати. Время от времени она всхлипывала, словно ребенок, который лежит на траве в стороне от товарищей, стараясь побороть свой гнев, зарыть в землю этот миг своего детского горя. Всхлипывания постепенно становились реже, слабее и наконец совсем утихли. Она поднялась, села и смахнула на пол пачку банкнот, на которых лежала.
Увидев их, она снова разразилась рыданиями, снова бросилась на кровать, прижалась к мокрому валику щекой; немного погодя рыдания стихли, но она все не поднималась. Наконец поднялась, побрела к зеркалу, стала разглядывать свое заплаканное лицо, пятна на щеках, распухшие веки, тени под глазами; машинально привела себя в порядок. Сев на коричневый железный сундук, она подняла с пола пачку банкнот. Они издали, в ее руках легкий хрустящий звук. Пятнадцать десятифунтовых ассигнаций — все деньги Хилери, приготовленные ям для поездки. Глаза ее раскрывались все шире и шире, по мере того как она пересчитывала деньги. И внезапно на эти тонкие листки бумаги покатились слезы.
Затем она медленно расстегнула платье и начала засовывать за ворот банкноты, пока не осталось ничего, кроме сорочки, между ними и трепещущей, теплой кожей, скрывающей ее сердце.
ГЛАВА XLI ДОМ, ГДЕ ЦАРИТ ГАРМОНИЯ
В тот же вечер в половине одиннадцатого Стивн шел по выложенной каменными плитами дорожке к дому брата.
— Могу я видеть миссис Хилери?
— Мистер Хилери сегодня утром уехал за границу, сэр, а миссис Хилери еще не приходила домой.
— Пожалуйста, передайте ей вот это письмо. Впрочем, нет, я буду ждать. Что, если я подожду в саду?
— Пожалуйста, сэр!
— Отлично,
— Я оставлю дверь открытой, сэр, на случай, если вы пожелаете зайти в дом.
Стивн подошел к садовой скамье и сел на нее. Мрачно уставившись на свои лакированные штиблеты, он время от времени похлопывал конвертом по брюкам своего вечернего костюма. Через весь темный сад, где ветви деревьев висели тихо, не тревожимые ветром, из открытого окна мистера Стоуна лилась река бледного света, и в ней кружились, стремясь к ее истоку, мотыльки, вновь появившиеся вместе с жарой.
Стивн раздраженно смотрел на фигуру мистера Стоуна; тот стоял, нагнувшись над конторкой, совершенно неподвижно: вот так можно увидеть в «глазок» тюремной камеры заключенного, который стоит, уставившись на свою работу, — не шевелясь, онемев от одиночества.
«Старик начинает сдавать, — подумал Стивн. — Вот бедняга, его убивают его идеи. Они противны человеческой природе и всегда будут такими. — Он хлопнул конвертом по брюкам, словно заключавшийся в конверте документ подчеркивал этот факт. — Нельзя не пожалеть старого глупца с его возвышенными идеями».
Он встал, чтобы получше разглядеть тестя, не подозревавшего, что за ним наблюдают. Фигура старика казалась такой безжизненной, застывшей, будто душа мистера Стоуна последовала за одной из его идей куда-то в недра земли, а тело осталось ждать ее возвращения. Зрелище это подействовало на Стивна угнетающе.
«Можно поджечь дом, а старик и не заметит пожара», — подумал он.
Мистер Стоун пошевелился. Через затихший сад до Стивна долетел протяжный вздох. Стивн отвернулся, почувствовав, что как-то нехорошо подглядывать за старым человеком, и, встав, пошел в дом. В кабинете брата он постоял, повертел в руках стоявшие на письменном столе безделушки.
«Я ведь предупреждал Хилери, что он обожжется на этом», — думал он.
Услышав, что в парадной двери щелкнул американский ключ, Стивн вернулся в переднюю.
Он с самого начала втайне не одобрял Бианку; она всегда казалась ему колючей, всегда его раздражала, но сейчас он был поражен тем, какое измученное и несчастное у нее лицо. Стивну как будто впервые открылось, что не ее вина, если она не может быть иной. Это как-то сбивало его с толку, потому что подобный способ расценивать что бы то ни было казался ему неразумным.
— У тебя усталый вид, Бианка, — сказал он ей. — Мне очень жаль, но я все же счел нужным передать Тебе это письмо сегодня же.
Бианка глянула на конверт.
— Оно адресовано тебе, — ответила она. — Спасибо, но я не имею желания читать его.
Стивн сжал губы.
— Но я хочу, чтобы ты прослушала это письмо. Позволь я прочту тебе вслух:
«Вокзал Чэринг Кросс
Дорогой Стиви!
Вчера я сказал тебе, что еду за границу один. Позже я передумал: я решил взять ее с собой. Я пошел к ней. Но я слишком долго жил в мире чувств, чтобы принять такую порцию действительности. Мое классовое чувство спасло меня, класс восторжествовал над моими самыми примитивными инстинктами.
Я еду один — возвращаюсь в мир чувств. Бианка не скомпрометирована, но наш брак стал для меня насмешкой. Я больше не вернусь к ней. Ты сможешь разыскать меня по прилагаемому адресу, и я вскоре попрошу тебя прислать мне моих домашних богов.
Пожалуйста, передай Бианке содержание этого письма.
Любящий тебя брат
Хилери Даллисон».
Хмурясь, Стивн сложил письмо и сунул его во внутренний карман.
«Оно еще горше, чем мне показалось, — подумал Стивн, — но иного выхода у него не было».
Бианка стояла, положив локоть на каминную полку, повернувшись лицом к стене. Ее молчание раздражало Стивна, который жаждал проявить лояльность в отношении брата.
— Письмо это, разумеется, очень меня успокоило, — сказал он. — Если бы Хилери… Это было бы роковым.
Она не шевелилась, и Стивн ясно сознавал, что затронутая тема чрезвычайно деликатного свойства.
— Конечно, все это так, — начал он снова, — но, право, Бианка, ты, в общем… я хочу сказать… — И он снова умолк, потому что ответом ему было все то же молчание, абсолютная неподвижность. Чувствуя, что он не может уйти, так и не выразив лояльности к брату, он попытался еще раз: Хилери добрейшая душа. Не его вина, если у него не было достаточного контакта с реальной жизнью, что он… не умеет справляться с фактами. Он пассивен.
И, охарактеризовав брата, к собственному своему удивлению, всего одним этим словом, он протянул Бианке руку.
Ее рука, протянутая в ответ, была лихорадочно горячей. Стивн почувствовал раскаяние.
— Мне очень, очень жаль, что все так случилось, — сказал он, запинаясь. — Очень сочувствую тебе, Бианка.
Бианка отдернула руку. Пожав плечами, Стивн отвернулся. «Что поделаешь с такими женщинами?» — подумал он, но вслух сказал холодно:
— Спокойной ночи, Бианка.
И ушел.
Некоторое время Бианка сидела о кресле Хилери. Потом стала бродить по комнате при слабом свете, проникавшем из коридора через приотворенную дверь, касалась рукой стен, книг, гравюр — всех тех знакомых предметов, среди которых он жил столько лет.
Она брела в этом полумраке, как дух Дисгармонии, парящий в воздухе над тем местом, где лежит ее тело.
За спиной Бианки скрипнула дверь. Чей-то голос резко произнес:
— Что вы делаете в этом доме?
Подле бюста Сократа стоял мистер Стоун. Бианка подошла к отцу.
— Папа!
Мистер Стоун смотрел удивленно.
— Ты? Я решил, что забрался вор. Где Хилари?
— Уехал.
— Один?
Бианка наклонила голову.
— Уже очень поздно, папа, — прошептала она.
Мистер Стоун сделал движение рукой, будто хотел погладить дочь.
— Сердце человека — могила многих чувств, — пробормотал он.
Бианка обняла его за плечи.
— Тебе пора спать, папочка, — сказала она, стараясь направить его к двери, потому что в сердце у нее начало что-то таять.
Мистер Стоун споткнулся, дверь захлопнулась. Комната погрузилась во тьму. Рука, холодная, как лед, коснулась щеки Бианки. Собрав всю свою волю, Бианка удержала крик ужаса.
— Это я, — сказал мистер Стоун.
Рука его от лица Бианки спустилась к ее плечу, и Бианка схватила ее своей горячей рукой. Так, держась за руки, они выбрались из кабинета в коридор и пошли к комнате мистера Стоуна.
— Спокойной ночи, дорогой, — шепнула Бианка.
Через открытую дверь его комнаты шел свет, и мистер Стоун старался разглядеть лицо дочери, но она не хотела, чтобы лицо ее видели. Тихонько прикрыв дверь, она крадучись прошла наверх.
Она сидела в своей спальне у открытого окна, и ей казалось, что комната полна народу, — так расшатаны были у нее нервы. Этой ночью стены не могли защитить ее от людей. Она сидела, откинувшись в кресле, закрыв глаза, и призраки окружали ее застывшую фигуру — они то двигались, то были недвижимы, то были ясно видны, то скрывались будто за плотной вуалью. Эти дисгармоничные тени, носящиеся в комнате, издавали шорохи, как шелест сухой соломы или жужжание пчел над стеблями клевера. Она выпрямилась, и тени исчезла и звуки снова стали далеким шумом возвращающихся домой экипажей. Но стоило ей закрыть глаза, и тени опять прокрадывались в комнату, окружали Бианку, издавая странные, сухие, таинственные шорохи.
Вскоре она уснула, и вдруг проснулась, как от толчка. В мерцании бледного света стояла маленькая натурщица так, как на том роковом портрете, который писала с нее Бианка. Лицо девушки было мертвенно бело, и под глазами лежали тени. Из раскрытых губ, лишь чуть тронутых цветом, казалось, шло дыхание. На шляпке ее было крохотное павлинье перышко и рядом с ним две темно-красные розы. От девушки шел аромат — слабый, каким всегда бывает запах цветка цикория. Сколько времени она уже стоит здесь? Бианка вскочила на ноги, и видение исчезло.
Бианка подошла к тому месту, где оно только что стояло. Ничего не было в этом углу, кроме лунного света, запах же шел от деревьев за окном.
Но видение было таким живым, что Бианка стояла у окна, задыхаясь, проводя рукой по глазам.
Луна над темными садами висела круглая и почти золотая. Ее бледный свет лился на каждый сучок и лист, на каждый спящий цветок. Это мягкое мерцающее сияние, казалось, сплело все в одно единое целое, успокоило дисгармонию, и отдельная форма сама по себе уже ничего не значила.
Бианка долго смотрела на дождь лунного света, падающего на ковер земли ливнем рассыпанных цветов, из которых пчелы высосали мед. И вдруг внизу под окном в пронизанном светом пространстве она различила какую-то тень, мелькнувшую на траве, и со страхом услышала голос — ясный, дрожащий, который как будто искал свободы по ту сторону преграды из темных деревьев:
— Мой мозг окутан тьмой! О Великая Вселенная! Я больше не могу писать мою книгу! Я не могу раскрыть моим братьям истину, что они одно целое. Я не достоин оставаться здесь. Дай мне слиться с тобой, дай мне умереть!
Бианка увидела, как из рукавов белой рубашки высунулись простертые в ночь слабые руки отца, будто он ждал, что его немедленно подхватит струей воздуха и унесет к Всемирному Братству.
Наступило мгновение, когда, как по волшебству, все мельчайшие диссонансы города слились в одну гармонию молчания, как если бы все личное на земле умерло.
И тут, нарушая оцепенение, снова послышался голос мистера Стоуна; голос дрожал и был слаб, будто шел через тростинку:
— Братья!..
За кустами сирени у калитки Бианка увидела темный шлем полисмена. Полисмен стоял и, не отрываясь, смотрел туда, откуда шел голос. Подняв фонарь, он направил его поочередно во все уголки сада, думая найти тех, к кому обращался этот призыв. Убедившись, как видно, что сад пуст, он двинул фонарь вправо, влево, затем опустил его до уровня груди и медленно проследовал дальше.
1908 г.
СОДЕРЖАНИЕ
УСАДЬБА
Перевод М. Литвиновой-Юдиной
ЧАСТЬ I
Глава I. Гости в Уорстед Скайнесе…5
Глава II. Охота на фазанов…18
Глава III. Блаженный час…25
Глава IV. Земля обетованная…29
Глава V. Бал у миссис Пендайс…35
Глава VI. Влияние преподобного Хассела Бартера…40
Глава VII. День субботний в Уорстед Скайнесе…44
Глава VIII. Грегори Виджил предполагает…51
Глава IX. Мистер Парамор располагает…57
Глава X. Ресторан Блэфарда…73
ЧАСТЬ II
Глава I. Грегори начинает кампанию…79
Глава II. Еще о влиянии преподобного Хассела Бартера…89
Глава III. Зловещий вечер…99
Глава IV. Голова мистера Пендайса…103
Глава V. Священник и сквайр…113
Глава VI. Хайд-парк…121
Глава VII. Замешательство в Уорстед Скайнесе…127
Глава VIII. Военный совет в Уорстед Скайнесе…133
Глава IX. Определение «пендайсицита»…143
Глава X. Джордж идет ва-банк…147
Глава XI. Мистер Бартер выходит на прогулку…155
Глава XII. Сквайр принимает решение…162
ЧАСТЬ III
Глава I. Одиссея миссис Пендайс…171
Глава II. Сын и мать…179
Глава III. Миссис Белью платит долги…190
Глава IV. Вдохновение миссис Пендайс…192
Глава V. Мать и сын…201
Глава VI. Грегори смотрит на небо…207
Глава VII. Прогулка со спаньелем Джоном…213
Глава VIII. Острый приступ… «пендайсицита»…226
Глава IX. Белью склоняет голову перед истинной леди…231
БРАТСТВО
Перевод Н. Бехтеревой
Глава I. Тень…241
Глава II. Семейный разговор…254
Глава III. Хилери в раздумье…264
Глава IV. Маленькая натурщица…271
Глава V. Комедия начинается…276
Глава VI. Первое паломничество на Хаунд-стрит…284
Глава VII. Раскиданные мысли Сесилии…293
Глава VIII, Односторонний ум мистера Стоуна…302
Глава IX. Хилери идет по следу…315
Глава X. Приданое…320
Глава XI. Груша в цвету…327
Глава XII. Корабли в море…329
Глава XIII. Зов в ночи…334
Глава XIV. Поход в чужие края…339
Глава XV. Второе паломничество на Хаунд-стрит…348
Глава XVI. Под вязами…351
Глава XVII. Братья…356
Глава XVIII. Идеальная собака…367
Глава XIX. Бианка…370
Глава XX. Муж и жена…377
Глава XXI. День отдыха…382
Глава XXII. Хилери действует…395
Глава XXIII. Книга о всемирном братстве…402
Глава XXIV. Страна теней…407
Глава XXV. Мистер Стоун в ожидании…417
Глава XXVI. Третье паломничество на Хаунд-стрит…421
Глава XXVII. Личная жизнь Стивна…427
Глава XXVIII. Хилери слышит кукование кукушки…440
Глава XXIX. Возвращение маленькой натурщицы…449
Глава XXX. Похороны младенца…458
Глава XXXI. Лебединая песня…466
Глава XXXII. За вуалью Бианки…475
Глава XXXIII. Хилери решает проблему…481
Глава XXXIV. Приключение Тайми…488
Глава XXXV. Думы юной девушки…496
Глава XXXVI. Стивн подписывает чеки…501
Глава XXXVII. Цветение алоэ…511
Глава XXXVIII Хьюз снова дома…518
Глава XXXIX. Поединок…524
Глава XL. Конец комедии…530
Глава XLI. Дом, где царит гармония…534
Примечания
1
Перевод И. Гуровой.
(обратно)2
Тем самым (лат.).
(обратно)3
Отрывок из стихотворения австралийского поэта Эдама Линдсея Гордона (1833–1870) «Усталому путнику».
(обратно)4
Сильные золотые крылья (лат.).
(обратно)5
Знаменитый процесс {франц.).
(обратно)6
«Юбилей» королевы Виктории, в 1887 году праздновавшей пятидесятилетие своего царствования.
(обратно)7
Листер Джозеф (1827–1912) — английский хирург, разработавший метод обеззараживания ран.
(обратно)8
Начало песни из комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви» (перевод Ю. Корнеева); далее в ней высмеиваются мужья-рогоносцы.
(обратно)9
«На лошади сзади сидел Джэспер Белью.» (лат.) — Перефразировка вошедшей в поговорку строчки из оды Горация: «Позади всадника сидела черная забота».
(обратно)10
Герой охотничьих романов Роберта Сюртиза (1805–1864).
(обратно)11
Урожденная (франц.).
(обратно)12
Конец века; декадентский (франц.).
(обратно)13
Бианка — белая (итал.).
(обратно)14
В стороне от жизни (лат.).
(обратно)15
Двусмыслица; (здесь) двусмысленный намек (франц.).
(обратно)16
Поселок в Южной Африке, место одного из боев англо-бурской войны.
(обратно)17
Эгреджио синьор (итал. egregio signore) — высокоуважаемый синьор.
(обратно)18
Пятидесятилетний юбилей царствования Виктории (1887 г.).
(обратно)19
Слова из свадебного богослужения.
(обратно)20
Маккавеи — иудейский жреческий род; в 142—40 гг. до нашей эры — правящая династия в Иудее.
(обратно)21
Главное произведение, шедевр (лат.).
(обратно)22
Лишний (франц.).
(обратно)23
Миссис Грэнди — персонаж пьесы английского писателя Мортона (1798 год), олицетворение общественного мнения в вопросах приличия.
(обратно)24
«Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им; ибо таковых есть царствие божие» — Евангелие от Марка.
(обратно)
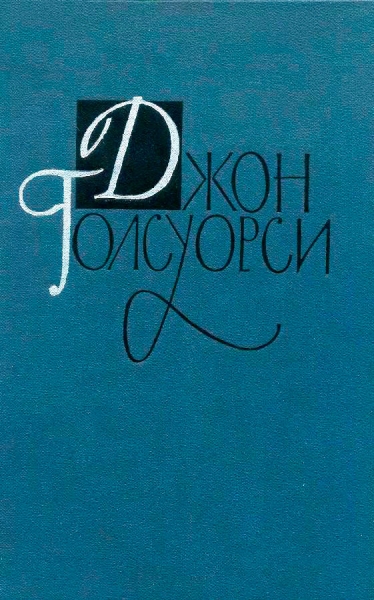



Комментарии к книге «Том 6», Джон Голсуорси
Всего 0 комментариев