Джон Голсуорси. Собрание сочинений в 16 томах. Том 12
ГОСТИНИЦА УСПОКОЕНИЯ
ГОСТИНИЦА УСПОКОЕНИЯ
Гуляя как-то после полудня среди сосен, можжевельника, кипарисов и олив под ослепительно голубым небом одиссеевой земли, мы набрели на розовый домик с вывеской «Osteria di Tranquillite» [1]; и то ли из-за этого названия, то ли потому, что мы совсем не ожидали найти человеческое жилье в этой роще над морем, населенной лишь дикими козами, мы остановились, чтобы осмотреться. Нельзя было не заметить некоторой дисгармонии между привычной простотой стиля итальянской постройки и всем окружающим: в подступавшей к самым дверям дома оливовой роще был устроен кегельбан, а два молодых кипариса подстрижены в форме петуха и курицы. В воздухе разносились звуки граммофона, словно повелительный голос самой высокой цивилизации. С восхищением оглядываясь кругом, мы вдруг почувствовали крепкий запах сигары. У кегельбана стоял человек в котелке, в светло-коричневом костюме, розовом галстуке и ярко-желтых ботинках. У него были круглая голова, румяные щеки и толстые красные губы под черными усиками; он разглядывал нас из-под полуопущенных припухших век.
Признав в нем владельца всех этих плодов высокоразвитой цивилизации, мы поклонились ему.
— Добрый день, — сказал он. — Я говорю по-английски. Жил в Америке.
— У вас тут просто чудесно.
Бросив взгляд в сторону кегельбана, он выпустил большое облако дыма и затем, галантно обращаясь к моей спутнице с самоуверенным видом человека, свободно владеющего иностранным языком, заметил:
— Слишком уж тихо.
— Вот именно, ведь название вашей гостиницы как раз…
— Я все это изменю, она будет называться «Англо-американский отель».
— О, да вы идете в ногу с веком!
Он прищурил один глаз и улыбнулся. Обменявшись еще несколькими любезностями, мы откланялись и двинулись дальше; дойдя до края обрыва, мы сели на землю, поросшую мятой и устланную сухими листьями. Певчих птиц здесь давно уже перестреляли и съели, и только шум волн, подгоняемых слабым южным ветром, доносился до нас. Казалось, какие-то резвые существа простирали к берегу белые руки, делая отчаянные усилия оторваться от этого безмятежного моря, и по их обнаженным плечам струились волосы, светлые в лучах заходящего солнца. Но если воздух поражал безмолвием, он был зато напоен запахами тонкими, бодрящими ароматами смол, трав и доносившимся издалека сладковатым дымком, а сквозь ветви олив и пиний на нас лились теплые золотистые лучи. Кругом росли огромные, красные, как вино, фиалки. На таком утесе некогда мог бы возлежать, слагая свои песни, Феокрит; эти священные волны, наверное, рассекал корабль Одиссея. И нам казалось, что из-за скалы вот-вот появится голова козлоногого бога.
Трудно было себе представить, что наш приятель в котелке живет и дышит совсем близко, — даже кукушка легко долетела бы оттуда до этого приюта Пана. На память невольно приходили слова Старого Бура: «Боже, чего только не увидит человек, выйдя из дому без ружья!» И вскоре этот странный контраст начал поразительным образом волновать меня, привел меня в какое-то философски-восторженное состояние. Все вокруг казалось слишком прекрасным, слишком романтичным, чтобы быть реальностью. Слышать звуки граммофона и тут же, рядом, тихий и нежный шелест олив, колеблемых вечерним ветерком; вдыхать вульгарный запах сигары и душистый фимиам земли, видеть чарующее название «Гостиница Успокоения» и слышать банальные разглагольствования ее владельца — все это не могло не наводить на размышления. Невольно пытаясь примирить эти противоречия, я задумался о других непримиримых противоречиях бытия: о странном и мучительном противоречии между молодостью и старостью, между богатством и бедностью, между жизнью и смертью, которые так непостижимо уживаются в нашем мире, — обо всех этих страшных контрастах, терзающих человеческую душу до того, что порой хочется воскликнуть: «Нет, лучше умереть, чем жить в таком мире!»
Я все думал и думал об этом, мысль моя, словно птица, летела все дальше, пока эта случайная встреча не осветилась для меня какими-то глубоким духовным смыслом. Этот итальянский джентльмен со своим котелком, кегельбаном и граммофоном, обосновавшийся в святилище первозданной гармонии, уж не олицетворение ли он самого Прогресса, слепца, с желудком, набитым всякими новыми продуктами, и с головой, полной грубых представлений? Не есть ли он истинное воплощение Цивилизации — этого поразительного ребенка, который каждый день хватается за новую игрушку и бросает ее, даже не успев научиться с ней обращаться, этого наивного создания, потерявшегося среди собственных открытий?! Не символ ли это постоянного расстройства пищеварения, сделавшего экономистов тощими, мыслителей бледными, художников бессильными, государственных деятелей лысыми? Разве этот славный, толстый, ни о чем не задумывающийся человек со своим американо-итальянским лоском не таит в себе все те грубые, примитивные инстинкты, удовлетворение которых приводит к нищете миллионы его собратьев; разве он не похож на всех толстых стяжателей, вызывающих ненависть всякого гуманного и отзывчивого человека? Моя мысль не могла на этом остановиться — это казалось невозможным.
Чуть выше нас, в сливовой роще, двое крестьян в синей одежде — мужчина и женщина — собирали маслины. Наш приятель в котелке был, несомненно, сыном таких же людей; но, более «мужественный» и предприимчивый, чем его братья, он не остался дома, среди этих рощ, а покинул родину, чтобы погрузиться в суету коммерции, и наконец вернулся назад тем, чем он стал. Он тоже когда-нибудь обзаведется детьми и, сколотив капитал на своем «Англо-американском отеле», оградит их от грубых влияний жизни, а потом они станут, быть может, вроде нас, солью землю и начнут презирать его! И я подумал: «Но ведь я не презираю этих крестьян, — нисколько. Не презираю, разумеется, и самого себя; так зачем же относиться с презрением к нашему приятелю в котелке, который в конце концов лишь необходимое звено между ними и мною? Я ведь не презираю ни оливы, ни солнечное тепло, ни запах сосен, ни всю ту природу, которая вырастила его таким здоровым и сильным; я не презираю золотого вихря легких образов, рожденных в моей душе видом этих деревьев, скал и моря. Так зачем же презирать кегельбан и граммофон, выражающие духовную сущность моего приятеля в котелке? Это же просто нелепо».
И тут я внезапно испытал какое-то радостное чувство, нечто похожее на откровение; оно исходило откуда-то извне, но пронизывало все мое существо, не нарушая гармонии окружающего мира. Мне словно вдруг открылся смысл бытия, истинный если не для всех, то, во всяком случае, для меня. И на меня снизошло радостное умиротворение, как это бывает, когда находишь нечто такое, отчего в тебе пробуждается все лучшее. «Если с моей стороны нелепо презирать этого человека, являющего собой воплощение чудовищных противоречий, — думал я, — то у меня так же мало оснований презирать что бы то ни было в мире. Если он всего лишь маленькое звено в непрерывной цепи бытия, если он такое же логически необходимое проявление одной из многообразных форм этого бытия, как и я сам, то, стало быть, в целом мире нет ничего, что не было бы такой же частицей бесконечности, одним из бесчисленных проявлений ее непреложных законов. Да, да, — продолжал я размышлять, — и он, мой приятель, и я, и эти оливы, и этот паучок на моей руке, и все, что только обладает своеобразием во Вселенной, — все это лишь выражение великого Начала, или Принципа, это лишь отдельные звенья огромной и всеобъемлющей цепи мироздания, которое должно быть совершенно в своем устройстве, своем бесконечном движении и превращениях. Если бы не это, мироздание рано или поздно пришло бы к концу, но этого человеческий разум не в состоянии себе представить. Следовательно, мы должны заключить, что мироздание совершенно и бесконечно. А раз оно совершенно и бесконечно, то все мы лишь частицы этой бесконечности, и нелепо одной из таких крошечных частиц с презрением относиться к другой. Итак, — подумал я, — мысли мои проделали длинный путь от моего приятеля в котелке вплоть до глубин Вселенной и снова вернулись к моему приятелю».
Я лежал на спине и глядел в небо. И небо вместе с белыми облачками, золотившимися в лучах солнца, как крылья белой птицы, словно улыбалось моим мыслям. «И все-таки, — думал я с удивлением, — хотя и я и мой приятель одинаково необходимы, он меня решительно раздражает и, конечно, будет раздражать всегда, как, впрочем, множество других людей и вещей. С другой стороны, разве должен я подавить в себе чувство любви и восхищения ко всему, что вызывает во мне чувство любви и восхищения, только потому, что все это лишь проявления того необходимого и совершенного Начала, многообразие которого беспредельно? Уж не заблуждаюсь ли я все-таки? Впрочем, — подумал я, — невозможно верить в существование великого и совершенного Начала, или Принципа, не видя отдельных его проявлений; ты сам частица великого целого, и, стало быть, ты не можешь не верить в эту индивидуальную частицу, в самого себя, а также и в то, что тебе нравится или не нравится, и у тебя, право, нет иной возможности выразить эту свою веру, как только выражая свои чувства. А поэтому досадуй с легким сердцем на своего приятеля в котелке и продолжай любоваться крестьянами, небом и морем. Но, раз приняв этот жизненный закон, ты уже не можешь ни к кому и ни к чему на свете относиться с презрением, даже к кегельбану, потому что все неразрывно связано с тобой самим и, отвергая что бы то ни было, ты восстал бы против непрерывной связи всего живого, а тем самым и против Вечности. В своей любви или ненависти ты не волен, но презирать что-либо было бы с твоей стороны величайшим безумием и кощунством!»
Рядом со мной на цветке мяты повисла пчела, а внизу у стебля примостилась уродливая сороконожка. Я залюбовался хлопотливой маленькой пчелкой, ее темным брюшком и подвижными, мохнатыми лапками, а извивающаяся сороконожка внушала мне одно отвращение; но мне было радостно сознавать, что сороконожка, как и пчела, — маленькая частица гармоничного целого, крошечный стежок в чудесной ткани Вселенной. И я взглянул на сороконожку с неожиданным интересом; мне показалось, что в ее странных, таинственных движениях мне открывается Высшая Тайна, и я подумал: «Если б я знал все об этой ползучей твари, я мог бы относиться к ней с презрением; но если б я мог познать ее до конца, моему познанию было бы доступно все на свете, — тогда для меня исчезла бы Тайна и жизнь стала бы несносной».
Я тронул сороконожку пальцем, и она уползла.
«Но как же быть с людьми, — подумал я, — которые не видят ничего нелепого в презрении к другим существам; как быть с теми, что в силу своего характера и религиозных взглядов не знают сомнений и считают, что сами они правы, а все другие заблуждаются? Они на ложном пути! — Мне на минуту стало жаль их, и я пал духом. — Впрочем, нет, конечно, нет! — спохватился я. Ведь если для таких людей чувство презрения естественно, значит, они вправе отдаваться этому чувству; и жалеть их не стоит, потому что в конце концов жалость — только благопристойная форма того же презрения. Они по-своему правы, раз их взгляды, их религия допускают презрение. Твоя же религия была бы для них китайской грамотой и, возможно, вызвала бы презрение у них.
Но ведь от этого жизнь становится еще интереснее. И если тебе, например, кажется невозможным благоговеть перед великой Тайной и одновременно стремиться ее объяснить, то тебя не должно беспокоить, что другим все это может представляться совсем по-иному; это только еще одно проявление все той же Тайны, без которой жизнь не была бы столь удивительна и прекрасна!»
Солнце теперь стояло совсем низко и освещало косыми лучами ветви сосен, которые стали огненно-красными и странным образом напоминали огромные руки язычников на картинах Тициана, а внизу под ними наяды, набегая на берег, казалось, все так же хотели заключить в свои объятия эту зачарованную рощу. Все растворилось в золотом сиянии заходящего солнца, море и земля слились в одну необычайную гамму света и красок, словно сама Тайна хотела благословить нас, являя все совершенство божественного Порядка, загадка которого останется для нас навеки неразрешимой. И я подумал: «Ни одна из твоих мыслей не нова, и даже тебе самому они уже приходили в голову раньше, только не с такой ясностью; но они все-таки принесли тебе некоторое успокоение».
Мысленно произнеся это роковое слово, я встал и предложил своей спутнице вернуться в город. Стараясь незаметно проскользнуть мимо «Гостиницы Успокоения», мы натолкнулись на нашего приятеля в котелке, за спиной у него было ружье. Указывая рукой на гостиницу, он сказал:
— Заходите недельки через две, к тому времени здесь все будет по-новому! А сейчас, — добавил он, — хочу пойти подстрелить нескольких птичек. — И он исчез в золотой дымке среди олив.
Через минуту раздался выстрел, а мы двинулись домой.
МАСТЕРСТВО
Я знал его еще в ранней юности: он шил обувь моему отцу. Он и его старший брат занимали две небольших, соединенных вместе мастерских на маленькой улочке, которая в те времена была одной из самых фешенебельных в Вест-Энде.
Все в этой мастерской дышало каким-то спокойным достоинством. На вывеске не значилось, что владельцы — поставщики кого-либо из членов королевской семьи. Только немецкая фамилия — «Братья Геслер», а в окне несколько пар обуви. Помню, меня всегда занимала мысль, откуда и каким образом попали сюда эти несменяемые образцы: ведь он всегда шил обувь только на заказ, никогда не делал ее впрок, и казалось совершенно невероятным, чтобы заказанная ему обувь смогла не подойти заказчику. Неужели он купил их, чтобы выставить в витрине? Это тоже казалось невероятным. Он никогда бы не потерпел у себя в мастерской и куска кожи, над которым не поработал сам. Кроме того, все они были очень уж хороши: пара бальных туфелек, таких удивительно изящных — лакированная кожа с матерчатой отделкой, — что при виде их просто слюнки текли; коричневые сапоги для верховой езды с изумительным темным глянцем, такие, как будто, хоть они и были совсем новые, их носили уже сотню лет. Все это мог создать лишь тот, кто постиг Душу Обуви: настолько они воплощали в себе самую сущность всего, что можно надеть на ноги. Я понял это, конечно, гораздо позднее, но даже тогда, когда я — лет в четырнадцать — получил право заказывать у него обувь, меня поражало то чувство собственного достоинства, которым были исполнены он и его брат. Потому что шить обувь, такую, какую шил он, казалось мне тогда — и до сих пор кажется — настоящим чудом.
Помню? как однажды, протягивая ему свою еще детскую ногу, я робко спросил у него:
— Не правда ли, мистер Геслер, шить обувь ужасно трудно?
И он ответил, хитро улыбнувшись в свою рыжую бороду:
— Это есть настоящий искусстф.
Сам он был весь какой-то маленький, как будто сделанный из кожи, с желтым морщинистым лицом, рыжими волнистыми волосами и бородой, с двумя глубокими складками на щеках, спускавшимися к уголкам рта, и с гортанным, однотонным голосом. Ведь кожа, — материал коварный, с трудом поддающийся обработке и медленно принимающий нужную форму. Именно таким и было его лицо, и только в серо-голубых глазах чувствовалась простодушная важность человека, тайно постигшего Идеал. Его старший брат был так похож на него — хоть и был бесцветнее, бледнее во всех отношениях, изнуренный тяжелой работой, — что в юности я не был уверен, с кем из них говорю, до самого конца разговора. А потом, если он не говорил: «Я будут спрашивайт мой брат», — я знал, что это он сам, а если говорил, значит, это был его старший брат.
Нередко люди, старея и становясь сумасброднее, начинали накапливать неоплаченные счета, но у них никогда не накапливались счета братьев Геслер. Просто невозможно было войти к ним в мастерскую, протянуть сапожнику ногу и встретить взгляд его голубых глаз, поблескивавших из-под очков в металлической оправе, зная, что ты должен ему больше, чем за две пары. Ну, а два неоплаченных счета давали приятную уверенность, что ты все еще остаешься его клиентом.
Да и ходить туда слишком часто было просто невозможно: его обувь не снашивалась ужасно долго: было в ней нечто неподвластное времени, как будто в каждом стежке была заключена сама сущность обуви.
В эту мастерскую заходили не так, как заходят в большинство других мастерских, с одной мыслью: «Обслужите меня, пожалуйста, поскорей, я спешу!» Нет, сюда входили торжественно, как входят в храм, и, сидя на единственном деревянном стуле, ждали, так как обычно в мастерской никого не было. Вскоре наверху, над мастерской, похожей на колодец, где было довольно темно и успокаивающе пахло кожей, показывалось его лицо или лицо его старшего брата. Гортанный голос, шлепанье плетеных домашних туфель по узкой деревянной лестнице — и он появлялся, без пиджака, с засученными рукавами, в кожаном фартуке, слегка сутулый, мигая глазами, как будто только что пробудился от сновидений, в которых он видел обувь, похожий на сову, вытащенную на дневной свет.
— Здравствуйте, господин Геслер! — приветствовал я его. — Не сошьете ли мне пару ботинок из юфти?
Не говоря ни слова, он оставлял меня одного и опять уходил наверх или в другую комнату, а я оставался сидеть на деревянном стуле, вдыхая запах кожи. Вскоре он появлялся снова с куском золотисто-коричневой юфти в худой, со вздутыми венами руке. Глядя на этот кусок, он говорил:
— Какой прекрасный кожа! — Я тоже выражал свое восхищение, после чего он продолжал: — Когда вы желайт иметь готовым заказ?
Я отвечал:
— Как можно скорее.
И он говорил:
— Через две недель.
Или, если это был его старший брат:
— Я буду спрашивайт мой брат.
После этого я говорил тихо:
— Благодарю вас! Будьте здоровы, господин Геслер!
— Будьте здороф! — отвечал он, все еще глядя на кусок кожи, который держал в руке.
И я, идя к двери, слышал шлепанье его плетеных туфель по ступенькам лестницы, — казалось, он возвращался в мир своей мечты. Когда же я заказывал ему какой-нибудь новый фасон, который он мне еще никогда не шил, это превращалось в настоящий ритуал: он снимал с моих ног старую пару, долго держал ее в руках, любовно и критически разглядывая. Он как будто бы снова переживал те минуты вдохновения, в которые создавал ее, и возмущался тем, что кто-то мог испортить его шедевр. Затем, поставив мою ногу на кусок бумаги, он два или три раза обводил ступню карандашом, ощупывал нервными пальцами мою ногу, пытаясь уловить именно то, что мне нужно.
Никогда не забуду тот день, когда мне пришлось сказать ему:
— Господин Геслер, вы знаете, та последняя пара ботинок, что вы мне сделали, растрескалась.
Некоторое время он смотрел на меня молча, как бы ожидая, что я возьму свои слова обратно или по крайней мере смягчу их смысл, потом сказал:
— Они не мог треснуть.
— К сожалению, это так.
— Вы намочил их раньше, чем одевайт?
— Нет, что вы!
Он уставился в пол, пытаясь, очевидно, припомнить эту пару обуви, и я пожалел, что завел такой неприятный и тяжелый для него разговор.
— Вы присылайт их назад, — сказал он. — Я буду посмотреть на них.
Мне даже как-то стало жаль мои треснувшие ботинки: до того явственно я представил себе тот горестный, испытующий взгляд, который он устремит на них.
— Некоторый ботинки, — сказал он медленно, — плохой от рожденья. Если нишево не могу делайть с ними, я спишу их с ваш счет.
Один-единственный раз я нечаянно зашел к нему в мастерскую в ботинках, которые мне пришлось срочно купить в большом магазине. Он принял у меня заказ, не показав мне даже образца кожи, и я чувствовал, как он ощупывает глазами мои ботинки, которые были далеко не лучшего качества. Наконец он сказал:
— Это не есть мои ботинки.
В его тоне не было ни злости, ни сожаления, ни даже презрения — лишь какое-то спокойствие, от которого я весь похолодел. Он коснулся левого ботинка и нажал пальцем там, где ботинок из-за претензии на моду был не совсем удобен.
— Он жмет вам в этот мест, — сказал он. — Эти большой магазин не уважай себя. Фуй!
И вдруг как будто что-то прорвалось в нем, и он заговорил быстро, с горечью. Впервые я услышал, как он жаловался на трудности своего ремесла.
— Они забрал все, — говорил он. — Они берут рекламой, а не хорошей работой. Они все отнял у нас, а мы так любим наш дело. И вот что полутшается — я почти не имей работа сейчас. И с каждый год ее все меньше; Вы понимайт?
Глядя на его вытянувшееся лицо, я вдруг понял многое такое, чего раньше не замечал, — горькую правду и жестокую борьбу за существование. И лишь теперь я заметил, сколько седых волос вдруг появилось в его рыжей бороде.
Я попытался объяснить ему, как мог, почему мне пришлось купить эти проклятые ботинки. Его лицо и голос произвели на меня такое сильное впечатление, что я сразу же заказал ему несколько новых пар. Но, о Немезида! Обувь, которую он мне сшил, носилась гораздо дольше, чем обычно. При всем моем желании мне незачем было ходить к нему почти два года.
Когда наконец я зашел к нему, меня удивило, что над одним из окон его мастерской стояла фамилия другого сапожника, который, конечно же, был поставщиком королевской семьи. Старая, знакомая обувь, уже не в почетном одиночестве, была втиснута в одну витрину. Уменьшившаяся теперь мастерская стала как будто более темной, и, казалось, еще сильнее пропахла кожей. Мне пришлось ждать дольше обычного, прежде чем послышалось знакомое шлепанье его плетеных туфель. Наконец он появился, взглянул на меня сквозь очки в поржавевшей металлической оправе и сказал:
— Вы господин ***, не так ли?
— А! Господин Геслер, — пробормотал я. — Видите ли, ваши башмаки слишком долго носятся. Взгляните, они еще вполне приличны. — И я вытянул ногу.
Он взглянул на нее.
— Да, — сказал он. — Люди больше не хотят хороши ботинки, так я думайт.
Не в силах выдержать его полный упрека взгляд, я поспешно спросил:
— Что вы сделали со своей мастерской?
Он спокойно ответил:
— Она слишком дорого стоил. Вы хотел заказать себе что-нибудь?
Я заказал три пары ботинок, хотя мне нужно было только две, и поспешно вышел. У меня было неясное чувство, что я, по его мнению, участвую в заговоре против него, или, вернее, даже не против него, а против его идеала. Впрочем, какое мне было до этого дело? Прошло много месяцев, прежде чем я снова появился у него в мастерской с мыслью: «А, черт! Не могу оставить старика без помощи… Пойду! Может быть, заказ у меня примет его старший брат».
Я знал, что его старший брат слишком мягкий человек, чтобы упрекать меня даже молча.
И, действительно, к моему облегчению, в мастерской, как мне показалось, стоял его брат, с куском кожи в руке.
— Здравствуйте, господин Геслер! Как поживаете?
Он подошел ко мне вплотную и взглянул на меня.
— Нитшево, — ответил он медленно. — Но мой старший брат умер.
Тут только я узнал его. Как он постарел и осунулся! Никогда раньше я не слышал, чтобы он упоминал о своем старшем брате. Потрясенный до глубины души, я пробормотал: «Какое несчастье!».
— Да, — сказал он. — Он был хороший человек, он шил такой хороший ботинки, и вот он умер. — И как бы указывая причину смерти несчастного, он коснулся головы. Тут я заметил, до чего поредели его волосы — совсем как у его брата. — Он не мог пережить, что мы потеряли второй мастерская. Вы хотел заказывать ботинки? — Он протянул мне кусок кожи. — Вот прекрасный кожа.
Я заказал несколько пар. Прошло много времени, прежде чем я получил их. Но они были еще лучше, чем раньше, их просто невозможно было износить. А потом я уехал за границу.
Я вернулся в Лондон лишь через год. И первым делом заглянул в мастерскую моего старого друга. Когда я уезжал, ему было не больше шестидесяти, а когда снова увидел его, ему можно было дать все семьдесят пять. Он стал дряхлым, сморщенным, руки его дрожали. Он даже не сразу узнал меня.
— Господин Геслер! — сказал я, и сердце у меня сжалось. — Какие прекрасные ботинки вы делаете! Смотрите, эту пару я носил почти не снимая все время, пока жил за границей, и они даже вполовину не износились, не правда ли?
Он долго смотрел на мои ботинки, сшитые из юфти, и его лицо снова ожило. Дотронувшись до подъема моей ноги, он спросил:
— Они не стал свободный вот здесь? Я помню, это был трудный пара.
Я заверил его, что мне в них очень удобно.
— Вы хотел заказать ботинки? — спросил он. — Я могу сделайт их очень быстро. У меня сейчас много свободный время.
Я поспешно сказал:
— Да, да, пожалуйста, мне нужно много всякой обуви.
— Я сделайт вам новый модель, ваша нога стал больше, я так полагайт.
И он медленно обвел карандашом мою ступню, потрогал пальцы, и только раз, взглянув на меня, спросил:
— Я вам уже сказайт, что мой брат умер?
На него было жалко смотреть: до того хилым он стал. Я поспешил уйти.
Я уж не надеялся, что получу когда-нибудь свой заказ, но в один прекрасный день мне все же была доставлена моя новая обувь. Развернув сверток, я извлек оттуда четыре пары обуви, поставил их в ряд и примерил их одну за другой. Сомнений не было. По форме и отделке, по фасону и качеству кожи, из которой они были сделаны, это была самая лучшая обувь из всех, какую он когда-либо шил для меня. В носке одного из ботинок я нашел счет.
Сумма была такая же, как обычно, но я очень удивился: прежде он никогда не посылал счетов до того, как начинался новый квартал года. Я сразу же спустился вниз, написал чек и тотчас же сам отослал его.
А неделю спустя, проходя по знакомой улочке, я решил зайти к нему и рассказать, как удивительно впору пришлись мне новые ботинки. Но, подойдя к тому месту, где была его мастерская, я больше не увидел его имени на вывеске. Зато в окне все еще стояли изящные бальные туфельки — лакированные, с матерчатой отделкой и коричневые, с темным глянцем сапоги для верховой езды.
Я вошел, очень встревоженный. Две маленькие мастерские снова были соединены в одну. Навстречу мне вышел молодой человек, судя по внешности, англичанин.
— Могу я видеть господина Геслера? — спросил я. Он бросил на меня какой-то странный, словно бы заискивающий взгляд.
— Нет, сэр, — сказал он. — Нет. Но мы с удовольствием обслужим вас. Мастерская принадлежит теперь нам. Вы, несомненно, уже видели наши имена над соседней витриной. Мы выполняем заказы для некоторых весьма почтенных людей.
— Да, да, — сказал он. — Но что с Геслером?
— Он умер.
— Умер! Но я только в прошлую среду получил от него эти ботинки.
— Ах да, это ужасно! Бедный старик умер с голоду.
— Боже мой!
— Доктор сказал — общее истощение организма. И в таком состоянии он работал! Да еще поддерживал порядок в мастерской: ни одной душе не давал притронуться к работе — все делал сам. Когда он получал заказ, он тратил очень много времени, чтобы выполнить его. А люди не хотят ждать. И он растерял всех своих заказчиков. Вот здесь он сидел и все работал, работал… Надо отдать ему должное, никто в Лондоне не шил обуви лучше него. Но подумайте о конкуренции! И он никогда не рекламировал свою работу! А ведь у него была лучшая кожа, которую он сам и выделывал. Да, так вот все и случилось. Да и что можно было ожидать от человека с такими понятиями…
— Но голодная смерть…
— Может, вам это покажется преувеличенным, но он сидел за работой день и ночь, до последнего вздоха. Я часто наблюдал за ним. У него никогда не хватало времени поесть; да в доме ни гроша и не было. Все, что он зарабатывал, уходило на плату за помещение и кожу для обуви. И то удивительно, как это он так долго протянул. Он даже огонь в камине не поддерживал. Это был какой-то особенный человек. Но он умел шить хорошую обувь.
— Да, — повторил я. — Он умел шить хорошую обувь.
Я повернулся и быстро вышел. Мне не хотелось показать молодому человеку, что я едва сдерживаю слезы.
СОРОКА НАД ХОЛМАМИ
В то лето я жил на Корнуоле и часто, лежа у моря на поросшем жесткой травой песчаном склоне, раздумывал, о чем бы написать. Там я и увидел их однажды, когда усиленно предавался этому занятию.
Они шли, держась за руки. На ней было голубое холстинковое платье, над юным личиком — ореол волос цвета меда. То была чистенькая, скромная девочка с трогательно доверчивым взглядом серьезных глаз, голубых, как цветы цикория, которые она держала в руке и иногда подносила к лицу, чтобы понюхать. Спутник ее был сильный, живой юноша лет четырнадцати, тоже очень серьезный. Его глубоко посаженные глаза с черными ресницами глядели на девочку покровительственно, с задумчивым интересом, и своим негромким, ломающимся голосом подростка он рассказывал ей, как пчелы собирают мед с цветов. Раза два этот хриплый, но очень приятный голос зазвенел от волнения, когда девочка отвлекалась и слушала его невнимательно. Казалось, юноша готов рассердиться, но знает, что сердиться нельзя, потому что она девушка и к тому же моложе его и потому, что он любит ее.
Они уселись на склоне чуть пониже того места, где лежал я, укрытый от чужих глаз, и принялись считать лепестки у цветка цикория. Девочка тихо опустила голову ему на плечо, и юноша обнял ее. Никогда не видел я столь спокойной и светлой любви, такой доверчивой у нее, такой бережной у него. Они при всей своей юности напоминали счастливых супругов, которые уже много лет живут вместе, но все еще смотрят друг на друга с доверчивой нежностью, хотя чувствуется, что страсти они не знают и не знали никогда.
Долго я смотрел на их спокойные, детские ласки. Они сидели полуобнявшись и тихо болтали, иногда улыбаясь друг другу, но ни разу не поцеловались. И вовсе не потому, что были слишком застенчивы, — казалось, они полностью принадлежат друг другу, и мысль о поцелуе просто не приходит им в голову. Ее головка все ниже и ниже клонилась к нему на плечо, и наконец сон сомкнул веки ее голубых, как цветы цикория, глаз. Как трогательно ее друг старался не разбудить ее, хотя я видел, что у него затекает рука! Этот славный юноша так долго сидел не шевелясь, поддерживая ее, что я не мог смотреть без сострадания на его онемевшее плечо. Но вот он осторожно высвободил руку, опустил голову девушки на траву и наклонился вперед, увидев что-то. Прямо перед ним на голой ветке боярышника качалась сорока. Эта птица с перьями цвета ночи и дня издавала странные крики и беспокойно махала крылом, как будто хотела привлечь к себе внимание. Слетев с ветки, она стремительно и бесшумно покружила над кустом боярышника и села на другой куст шагах в десяти от первого. Юноша встал, посмотрел на свою маленькую подругу, потом на птицу и стал к ней подкрадываться. Но сорока, издав свой странный крик, перелетела на соседнее дерево. Юноша на миг остановился, а птица снова взлетела и вдруг камнем ринулась вниз, скрывшись за холмом. Увидев, как юноша сорвался с места, я быстро вскочил и побежал вслед за ним.
Добежав до гребня холма, я увидел низко летящую над долиной черно-белую птицу и вихрем мчавшегося вниз по склону юношу с развевающимися волосами. Он сбежал к подножию холма и скрылся в зарослях. Я бросился за ним. Ни мальчик, ни птица не должны были знать, что за ними следят, и потому я шел бесшумно, крадучись между деревьев, пока не добрался до омута, осененного густым сводом ив, берез и дикого орешника, через который почти не пробивались солнечные лучи. Там, где низко над водой сплелись ветви, сидела не пестрая птица, а юная темноволосая девушка, болтая смуглыми обнаженными ногами. Притаившись у края омута, где на черной воде золотом горели опавшие листья, позабыв обо всем на свете, смотрел на нее юноша. Она качалась среди ветвей совсем близко и тоже глядела на него. Сколько ей было лет, этой девушке со смуглым телом и удлиненными к вискам блестящими глазами? Или над омутом качался всего лишь дух долины, лесная фея, одетая мокрыми листьями березы, окруженная ветвями и темной водой? Странное было у нее лицо — дикое, почти злое и вместе с тем такое нежное. Я не мог отвести от нее глаз. Пальцы ее обнаженных ног коснулись воды, и брызги упали на лицо юноши.
От его благоразумия и спокойной уверенности не осталось и следа. В нем вспыхнуло что-то столь же дикое, как и в ней, руки протянулись к ее ногам. Мне хотелось крикнуть ему: «Назад, мальчик, назад!» — но я не смог: в ее русалочьих глазах светилась такая дикая, самозабвенная нежность, что я промолчал.
Вдруг сердце у меня замерло — юноша соскользнул в воду. Каким взглядом смотрел он на нее, барахтаясь в глубоком омуте, у ее ног! В нем не было страха, нет, он был полон страстной тоски и отчаяния. А ее глаза! Какое в них сияло торжество, какое счастье!
Коснувшись ее ноги, он подтянулся и влез на сук. Наклонившись, она потянула его к себе, туда, где над водой сплелись ветви, и обняла его, совсем мокрого.
Я глубоко вздохнул. Средь темной листвы зажегся оранжевый солнечный луч и упал на юношу и девушку, которые качались над темной водой, приблизив губы к губам, растворившись друг в друге, полные упоения, светившегося в их глазах. И вдруг они поцеловались. Омут, листва, самый воздух — все вихрем закружилось вокруг меня, слилось, я уже ничего не видел ясно… Не знаю, сколько прошло времени, пока я снова увидел их. Его лицо — лицо прежнего благоразумного юноши — теперь было повернуто в сторону: он к чему-то прислушивался. С вершины холма сквозь шепот листьев доносился плач, и к этим звукам прислушивался юноша.
И вот он выскользнул из объятий лесной феи, бросился в воду и поплыл к другому берегу. Какая тоска выразилась на ее лице! Но она не плакала, не пыталась вернуть его. Ее гордое сердце шло навстречу неизбежному и не хотело цепляться за то, что утрачено. Недвижная, как ветви и вода, молча смотрела она, как удаляется юноша.
Он медленно доплыл до берега и упал на землю, тяжело дыша. А с холма все летели одинокие рыдания.
Он лежал, слушая их, но глядя в страстно тоскующие глаза, неотступно следовавшие за ним. Он устремился было обратно к омуту, но огонь в нем уже угас; руки бессильно опустились, на юном лице читалась растерянность.
Замерла в ожидании темная гладь воды, замерли деревья, ее печальные глаза, мое сердце. А на холме одиноко плакала светловолосая девочка…
И юноша медленно побрел наверх, спотыкаясь, ничего не видя вокруг и оглядываясь, то и дело оглядываясь назад. Он уходил, а покинутая им смуглая фея долины смотрела ему вслед, не отрываясь, обхватив руками свое гибкое тело.
Я тоже крадучись пошел прочь, и только когда выбрался на открытое место, где все было залито бледным светом вечернего солнца, оглянулся назад. Девушки уже не было под темными деревьями, а над черной водой с жалобными криками металась в этой клетке страсти сорока, птица, несущая на своих крыльях сумерки.
Повернувшись, я бросился бежать и бежал до самого холма, где под высоким голубым небом снова сидели юноша и маленькая девочка со светлыми волосами. Прижав залитое слезами лицо к его плечу, она что-то говорила, уже не помня о случившемся. А он… он обнимал ее одной рукой, но глаза его глядели мимо нее, как будто видели вдали что-то другое.
Я лежал, слушая их мирную болтовню, пока не проснулся и не понял, что эта аллегория о небесной и земной любви была всего лишь сном. И я вернулся к действительности, меньше чем когда бы то ни было способный ее понять.
ЭВОЛЮЦИЯ
Мы вышли из театра, и тут оказалось, что найти такси совершенно невозможно. Хотя моросил мелкий дождь, мы прошли через Лестер-сквер в надежде перехватить какую-нибудь машину, которая будет возвращаться с Пикадилли. Множество извозчичьих карет и кэбов проезжало мимо, останавливалось у тротуара; извозчики вяло окликали нас или даже не пытались привлечь наше внимание, но все такси, казалось, были заняты. Наконец у Пикадилли-Серкус, потеряв всякое терпение, мы подозвали извозчика и обрекли себя на томительную, долгую поездку. В открытые окна экипажа дул юго-западный ветер, и в нем чувствовалась перемена погоды, тот влажный запах перемен, который ветер приносит даже в самое сердце городов и вызывает у человека, наблюдающего их кипучую, деятельную жизнь, представление о какой-то неугомонной Силе, что всегда подгоняет: вперед, вперед! Но мерное цоканье лошадиных копыт, дребезжание окон, глухой стук колес навевали дремоту, и когда наконец экипаж подъехал к нашему дому, сон почти одолел нас. Плата за проезд была два шиллинга; отыскав при свете фонаря монету в полкроны и вручив ее извозчику, мы случайно глянули на него. Это был человек лет шестидесяти с длинным, худым лицом; подбородок его и седые обвисшие усы, казалось, никогда не отрывались от поднятого воротника старого синего пальто. Самой поразительной особенностью его лица были две морщины вдоль щек, настолько втянутых, что лицо как будто состояло из одних лишь костей; глаза запали так глубоко, что блеск их не был заметен. Старик сидел неподвижно, уставившись на хвост лошади. И почти невольно рука моя потянулась за оставшимся еще в кармане серебром, чтобы прибавить его к полукроне. Извозчик взял монеты, не сказав ни слова, но когда мы уже открыли калитку сада, вдруг проговорил:
— Благодарю, вы спасли мне жизнь.
Не зная, что ответить на эти странные слова, мы снова закрыли калитку и вернулись к экипажу.
— Разве ваши дела так плохи?
— Плохи, — ответил он. — Некуда нашему брату податься. Никому мы теперь не нужны. — И взяв кнут, он приготовился тронуться в путь.
— И давно это так?
Он опустил руку, видно, обрадовавшись возможности отдохнуть, и пробурчал невнятно:
— Вот уже тридцать пять лет я занимаюсь этим делом. — И снова погрузился в созерцание хвоста своей лошади. Очевидно, он от природы был неразговорчив и мог рассказывать о себе, только когда ему задавали вопросы.
— Я не виню такси, вообще никого не виню. Это просто напасть какая-то. Я вот уехал сегодня утром, а дома хоть шаром покати. Вчера жена меня спрашивает:
— Сколько же ты приносил домой последние четыре месяца?
— Ну, считай, шиллингов шесть в неделю, — говорю я ей, а она поправляет:
— Нет, семь.
Что ж, жене-то лучше знать: она все в книжечку записывает.
— Так вам на хлеб не хватает?
Извозчик улыбнулся, и эта улыбка между двух впадин, заменявших щеки, была, мне кажется, самой странной из всех улыбок, когда-либо освещавших человеческое лицо.
— Пожалуй, так оно и есть, — ответил он. — Хотите знать, как это получается? Вот сегодня я до вас заработал за весь день всего восемнадцать пенсов. За весь день. Вчера — пять шиллингов. Семь шиллингов в день я должен платить за кэб, и это еще дешево. Ведь сколько владельцев кэбов разорилось на этом деле — им, как и нам, очень туго приходится! Они, правда, стараются не обижать нас, но своя рубашка ближе к телу. — Извозчик снова улыбнулся. Мне жаль их, и лошадей тоже, хотя, пожалуй, лошадям-то легче, чем нам.
— А как же пассажиры? — спросил один из нас. Извозчик отвернулся и посмотрел в темноту.
— Пассажиры? — В голосе его слышалось легкое удивление. — Им всем подавай такси. И это понятно: на такси доедешь быстрее, а время — деньги. Вот до вас я семь часов прождал седока. Да ведь и вы искали такси. Когда не найти такси, то на худой конец нанимают нас, и седоки почти всегда злятся. Попадаются, правда, старухи, которые боятся машин, но у таких денег в обрез, и они не очень-то щедры. Это им не по карману, я думаю.
— Однако все вам сочувствуют. Значит, можно надеяться.
— На сочувствие хлеба не купишь, — спокойно остановил он меня. — А в былые времена никто меня не спрашивал, хватает ли хлеба. — Медленно покачав головой, он добавил: — Кроме того, что могут сделать люди? Помощи от них не жди, а как начнут задавать вопросы, им самим становится не по себе. Они, наверное, это понимают. К тому же нас так много; тем, у кого кареты, тоже несладко. Впрочем, с каждым днем все меньше и меньше нас, извозчиков, встретишь на улицах.
Не решаясь больше выражать сочувствие этому представителю отживающей профессии, мы подошли к лошади. Она, наверное, немало вынесла на своем веку: даже в темноте у нее можно было пересчитать все ребра. И вдруг один из нас сказал:
— Многие хотели бы видеть на улицах только такси — это из-за лошадей: жалко их.
Извозчик утвердительно кивнул,
— У этой старушки, — сказал он, — никогда не было лишнего мяса. И от корма, который ей теперь дают, резвости не прибавится. Правда, корм и не бог весть какой, но она все-таки сыта.
— А вы нет?
Извозчик снова взялся за кнут.
— Не думаю, — сказал он равнодушно, — чтобы мне могли подыскать теперь какую-нибудь другую работу. Слишком долго я был при лошадях. Пожалуй, придется идти в работный дом, если со мной не случится чего-нибудь похуже.
— Как это ужасно! — прошептали мы, и, услышав такие слова, он улыбнулся в третий раз.
— Да, не повезло нашему брату. И за что нам выпала такая доля? Но ничего не попишешь — одно вытесняет другое, а жизнь идет своим чередом. Я думал об этом; сидишь тут целый день, ну и поневоле начнешь раздумывать, все ли в этом мире правильно устроено. Нет, выходит, что не все. А извозчиков скоро совсем не останется — так долго тянуться не может. И я даже не знаю, будет мне обидно или нет, когда это наконец случится. Всю душу мне такая жизнь вымотала.
— Но ведь создали специальный фонд…
— Да, и это помогло кое-кому выучиться на шофера. Но какой от него прок старикам, вроде меня? Мне ведь шестьдесят, и таких сотни. Мы в шоферы не годимся: смелости не хватит. А денег, чтобы помочь нам, понадобилось бы пропасть. И вы правильно говорите, люди хотят, чтобы мы ушли с дороги. Им нужны такси, а наше время прошло. Я не жалуюсь, вы ведь сами завели этот разговор.
И он в третий раз поднял кнут.
— Скажите, а что бы вы делали, если бы сверх обычной платы получали еще шесть пенсов?
Извозчик опустил глаза; вопрос, как видно, поставил его в тупик.
— Что бы я делал? Да ничего. Что бы я мог делать?
— Но вы же сами сказали, что наши шесть пенсов спасли вам жизнь.
— Верно, сказал, — ответил он неторопливо. — У меня было тяжело на душе. Порою ничего с собой не поделаешь — нападет тоска, и не отделаешься от нее никак. Обычно стараешься не думать ни о чем. Прощайте. Премного благодарен!
Он тронул лошадь кнутом. Как бы очнувшись от сна, несчастное животное вздрогнуло, двинулось вперед, и экипаж стал удаляться. Медленно двигался он по дороге среди теней от деревьев, перемежавшихся со светом фонарей. Высоко над нами по черной реке неба плыли белые корабли облаков. Их подгонял ветер, в котором чуялась перемена. И когда экипаж уже исчез из виду, этот ветер все еще доносил до нас замирающий звук его колес.
ПРОГУЛКА В ТУМАНЕ
Уже отрастившая зимнюю шерсть, разгоряченная и вспотевшая кобыла цветом совсем сливалась с рыжими, как лисий хвост, кучами отсыревших листьев бука. Как всегда в такие туманные дни, она пританцовывала, высоко вскинув голову, слегка выгнув шею и насторожив уши, шарахалась ни с того ни с сего, притворяясь, будто не узнает знакомых предметов, и время от времени предпринимала энергичные попытки сбросить меня и убежать. Ей то и дело мерещились камни на дороге. Некогда, еще до того, как началась ее нынешняя легкая жизнь, такой камень подкатился ей под самые копыта и навсегда испортил ей норов.
День стоял безветренный. Там и сям пламенели оставшиеся на ветвях медно-красные листья буков, и казалось, что кто-то нарочно зажег вверху огоньки, чтобы хоть немного прогреть неуютную сырость леса. Большая часть листвы, впрочем, облетела, и усеянные жемчужными каплями голые сучья четко вырисовывались на сплошном сером фоне. Ягод было мало, и среди них выделялись красотой розовые плоды бересклета, которых как раз в этом году уродилось больше обычного. Глухие аллеи безмолвствовали, не слышно было тех сладостных вздохов, что раздавались откуда-то сверху вчера в этот час. Зато в воздухе была разлита какая-то особенная тишина, как бы немое роптание тумана. Мы проехали мимо дерева, и на самой верхушке его гордо восседал непомерно тяжелый для тоненькой веточки голубь. Погруженный в свой безмятежный голубиный мир, он не слышал ни топота копыт, ни скрипа седла. Туман сгустился в сплошное облако бесконечно мелкой дождевой пыли, и сквозь эту завесу деревья выглядели как-то странно, словно они заблудились и потеряли друг друга. Мимо нас, казалось, быстро и бесшумно скользили призраки, единственные обитатели мира, в котором мы очутились.
Возле какой-то фермы кобыла внезапно, как это с ней иногда бывало, остановилась. Четыре черных поросенка прошмыгнули мимо нас и тотчас растворились в белом воздухе. К этому времени мы оба были в испарине. Мы стали ближе друг к другу, наши отношения — фамильярнее. Я поделился с ней своими соображениями по поводу ее прозвища, нрава и внешнего облика, попутно прошелся насчет ее манер. Она же в ответ издала свой милый, хрипловатый вздох, который берет начало где-то под звездочкой на лбу. В пасмурную погоду она не чихает, такое проявление восторга она позволяет себе только в солнечные дни, когда дует морозный сухой ветерок. На развилке мы вдруг наткнулись на четырех лошадок — одну серую и трех рыжих. Они тут же повернулись и побежали, унося в поредевшую аллею свои красивые головки и стройные тела. Затем, спохватившись, что слишком оторвались от своих, встали поперек дороги, перескочили через живую изгородь и побежали к другим, которые паслись неподалеку на тонувшем в тумане лужку.
Мы спустились вниз по дороге и повстречали свору собак, возвращавшихся домой с охоты. Смутные очертания пегих тел, мягкие, бесшумно ступающие лапы, томные глаза, особый собачий мир. Спереди и сзади — алые полоски охотничьих курток.
Вскоре мы въехали в какие-то ворота и очутились среди торфяного поля, заросшего поблекшим дроком. Туман уплотнялся. Где-то, высоко в небе, посвистывал невидимый кулик. Казалось, пасмурный день внезапно обрел голос и изливает всю свою тоску в этих диких звуках. Стараясь не терять из виду поблескивавшую впереди полоску дороги, мы пустились в галоп. Мы оба радовались избавлению от скучного однообразия проселочных дорог.
Но вот умолк голос кулика; полоска дороги скрылась. На всем белом свете не было никого, кроме нас. Даже кусты дрока куда-то исчезли. Ничего не осталось — один черный торф под ногами да туман, густеющий с каждой минутой. Мы почувствовали себя такими же одинокими, как та птица, что пронеслась над нами в белом пустом небе, словно человеческая душа, блуждающая среди неисследованных полей своего будущего.
Кобыла перескочила через груду камней, которые, казалось, возникли непонятно откуда уже после того, как мы их миновали. Я подумал, что если бы мы невзначай попали в одну из ям старой каменоломни, мы бы неминуемо погибли. И эта мысль, что мы могли угодить в яму, а могли и не угодить в нее, была чем-то приятна. Мы оба вошли в азарт и, ныряя в эту плотную, неосязаемую массу, которая как бы пропускала нас вперед и тотчас смыкалась за нами, испытывали неподдельный восторг. Весело было скакать на просторе, с каждым ярдом убеждаясь, что мы еще живы, не знать, что нас ожидает впереди, — в каких-нибудь пяти ярдах, — и бросать вызов неизведанному! Сознание собственной безопасности нам было не нужно: мы были бесконечно выше этого. Мы скакали галопом, на лету заглатывая сырой воздух, который хлестал нам в лицо, и были счастливы. Вдруг земля под нашими ногами из ровной сделалась бугристой, начался подъем. Кобыла замедлила ход. Мы остановились. Всюду впереди, позади, слева и справа — белая мгла. Ни неба, ни горизонта, и даже земля под ногами едва различима. Ветер больше не бьет в лицо, ветра нет. Сперва мы просто обрадовались возможности перевести дух и, ни о чем не помышляя, перекинулись двумя-тремя словечками, потом вдруг у меня по сердцу прошел холодок. Кобылка фыркнула. Мы повернули и стали спускаться под гору. Туман между тем сгущался и почти неприметно темнел. Теперь уже мы двигались шагом, робея перед неизвестностью. Перед нами вставали видения — такие далекие и странные в этой туманной мгле — теплое стойло и кормушка, полная овса; дымящаяся чашка чаю и поленья, потрескивающие в камине. У тумана словно выросли пальцы — длинные, серо-белые, шарящие; а в самом его безмолвии слышалось какое-то грозное бормотание, что-то жуткое, затаенное, словно это дух неизвестности к нам подбирался, готовясь отомстить за то, что мы в упоении азарта так весело его дразнили.
Дальше спускаться уже было некуда, земля выровнялась. Мы не могли решить, куда нам ехать теперь. Мы остановились и стали прислушиваться. Кругом стояла полная тишина — ни всплеска воды, ни шелеста ветра в ветвях, ни человеческих шагов, ни звука голоса. Не слышно было, как пасутся лошади на пастбище; птицы — и те умолкли. А туман становился все темнее я темнее. Кобыла шла шагом, понуря голову и нюхая вереск. Время от времени она фыркала, и тогда сердце мое начинало радостно трепетать в надежде, что она отыскала дорогу. Вдруг она откинула голову, громко фыркнула и остановилась. Перед самым нашим носом прошла лошадка с жеребенком. Два скачущих сгустка сумерек, они промчались, как бесформенные тени на белой простыне. Высокий вереск скрадывал топот их копыт. Бесшумные, как призраки, они исчезли в мгновение ока. Кобыла рванулась вслед за ними. Впрочем, теперь ни в ее галопе, ни в биении моего сердца не было уже того восторга перед встречей с неизведанным, теперь нас подстегивал всего лишь холодный страх одиночества. Один и тот же аллюр, а какая разница между ощущениями!
Кобыла резко шарахнулась в сторону и остановилась. В трех ярдах от нас промчалась малорослая лошадка со своим жеребенком. Их очертания были еще смутнее, они уже почти не отделялись от фона, который успел еще больше потемнеть. Но бежали они все в том же направлении, что и первый раз! Неужели отныне нас будут преследовать эти жуткие призраки, неужели они будут вечно проноситься мимо нас все в одном и том же направлении? На этот раз кобыла не побежала за ними, а продолжала стоять на месте; она понимала не хуже меня, что мы безнадежно сбились с пути. Вскоре, однако, она тихонько заржала и, снова нюхая вереск, двинулась вперед. А туман все темнел!
И вдруг из глубины обступившего нас белесого сумрака донесся какой-то невнятный гул; мы остановились и, затаив дыхание, повернули головы. Я видел, как моя кобылка устремила взгляд в одну точку, пытаясь проникнуть им сквозь туман. Невнятный шум становился все громче, все отчетливее и, наконец, превратился в скрип колес. Кобылка рванулась вперед. Скрип, как назло, затих. Кобылка, однако, не останавливалась. Резко свернув влево, она было споткнулась, но устояла на ногах, затем куда-то вскарабкалась и перешла на рысь. Туман под нами словно побелел. Мы были на дороге. Я крикнул, сам не знаю, что — может быть, просто чертыхнулся. Кобылка покосилась на меня, чуть насмешливо, словно хотела сказать: «А ведь дорогу-то нашла я!» Теперь мы уже трусили размеренным, спокойным шагом, слегка сконфуженные, как это бывает с людьми и лошадьми, когда они чувствуют, что грозившая им опасность миновала. Теперь нам казалось, что это очень даже приятно — в какие-то полчаса проделать весь круг эмоций, от восторга беспечной удали до леденящего сердце страха. Впрочем, встречу, самый стык этих противоречивых чувств мы оставили там, на таинственном, поросшем белым дроком торфяном поле! Не странно ли: одну минуту нам кажется, будто на свете нет ничего прекрасней сознания, что мы, того и гляди, свернем себе шею, а в другую нас бросает в озноб при одной мысли, что мы заблудились в тумане и что на нас надвигается темная зимняя ночь!
И вот мы едем неспешной рысцой по проселкам, вспоминая прошлое, предвкушая будущее. Уже совсем близко от дома поднялся ветерок и началась песня ветвей, роняющих капли; где-то в тумане ухнула сова, медоточиво и мягко. Двое батраков чинили дорогу на самом ее повороте, а на обочине, блаженно свернувшись, лежал рыжий щеночек, ожидая, когда они окончат свой дневной урок. Задрав свою острую мордочку, он окинул нас влажным взглядом. Мы повернули и мягко зашагали по огненно-рыжему, как лисий хвост, настилу опавших буковых листьев, между тем> как те немногие листья, что остались на деревьях, медленно гасли в темнеющей белизне, уже ничуть не жуткой. Серо-зеленый призрак ворот пропустил нас на ферму. Курица с кудахтаньем перебежала нам дорогу и исчезла в сумерках. Кобыла издала свой протяжный вздох, означавший «приехали», и стала.
ДЕМОНСТРАЦИЯ
В одном из тех задымленных уголков нашей страны, где властно царствует промышленность, в этот день вдруг рассеялась всегдашняя тьма. Свежий ветер расколол вечно хмурое небо, эту крышу ада, и гнал по голубому своду, еще тусклому от дыма, стаи светлых облаков. Даже солнце засияло, бледное, удивленное солнце. И под его лучами в маленьком городке, заваленном кучами шлака, среди заводских труб, казалось, участился пульс жизни. В бесчисленных дворах и переулках, где работали женщины, дым от маленьких горнов поднимался и улетал, подхваченный ветром, с небывалой стремительностью, женщины встрепенулись, потому что и к ним заглянуло солнце, и закоптелые навесы с темными балками посветлели над ними и над их неизменными маленькими горнами. Женщины работали с семи утра; ногами приводили в действие кожаные мехи, раздувая пламя над конусообразными кучками раскаленного угля; руками совали в эту огненную массу тонкий железный прут, раскаляя и загибая его конец, откалывали этот конец молотком, подхватывали его клещами и нанизывали на цепь; ударом молота замыкали звено, и ни минуты не медля снова совали железный прут в раскаленный уголь. Работая, они болтали, иногда смеялись, иногда тяжко вздыхали. Здесь были представительницы всех возрастов и всех типов — от широкоплечей, смуглой, крепкой женщины, похожей на крестьянку из Прованса, до истощенной и бледной, чахоточной девчонки, от седых семидесятилетних старух до пятнадцатилетних девочек. В домашних кузницах работали в одиночку или самое большее вдвоем; в больших мастерских было по четыре или пять горнов, в которых пылали угли, и по четыре или пять закоптелых мехов. И не было мгновения, когда бы раскаленное звено не нанизывалось на растущие на глазах цепи, как не было мгновения, когда бы тонкий дымок от горнов, унося с собой дыхание жизни, капля за каплей расточаемой около каждого из них, не устремлялся из закопченных помещений, мимо темных балок, ввысь, на свободу.
Но в это утро воздух пронизывало нечто большее, чем бледный солнечный свет. Это было ожидание. И в два часа началось движение. Работа прекратилась, из дворов и переулков высыпали женщины. Одни в потрепанной рабочей одежке, другие в мало отличавшейся от нее праздничной, в чепцах, шляпках, простоволосые, с детьми на руках, беременные, они хлынули на главную улицу и выстроились позади оркестра. Странная, шумливая стая, пестревшая коричневыми, зелеными и голубыми пятнами. Они суетились, болтали, смеялись, словно сами не знали, зачем собрались здесь. Их было больше тысячи, и на лицах их была та страшная печать, которую накладывает на человека непосильный городской труд и полуголодное существование. И все же там не было ни одного порочного или жестокого лица. Видно, не так-то просто быть порочным или жестоким, когда едва зарабатываешь столько, чтобы не умереть с голоду. Больше тысячи обездоленных людей, в поте лица добывающих свой скудный хлеб, собралось тут.
На тротуаре, рядом с этой покорной и робкой толпой, вышедшей на демонстрацию протеста против тяжких условий жизни, стояла молодая женщина. Она была бедно одета, с непокрытой головой, но было что-то привлекательное в ее лице с высокими скулами и темными глазами. Женщина не примкнула к этой толпе, но по непонятной иронии судьбы только в ее взгляде — гордом, почти злобном, тревожном взгляде — чувствовался настоящий, неукротимый дух протеста. А тысяча остальных лиц не выражала ни горечи, ни злобы, ни даже энтузиазма, только покорность, в которой обычная апатия мешалась с оживлением, и еще — нетерпение детей, которых ведут на праздник.
Оркестр заиграл, и они зашагали, смеясь, болтая, размахивая флагами, стараясь идти в ногу, и одни и те же чувства медленно, но верно овладевали ими и отражались на их лицах: будущего нет, есть только настоящее, этот счастливый день их праздничного шествия под нестройную музыку оркестра, смех, движение, веселый гомон под открытым небом.
Мы — два-три десятка случайных людей вроде меня и высокая седая дама, интересовавшаяся «народом», да несколько добрых душ, организовавшие это «представление», — тоже шагали со всеми на глазах у любопытных зрителей, испытывая некоторую неловкость и повинуясь неясному желанию держать голову по-военному высоко, но не слишком. А зрители — почти сплошь мужчины — были настроены доброжелательно, хотя их лица, бледные от работы в мастерских или кузницах, не выражали ничего, кроме апатии. Да, они были настроены доброжелательно, но не находили слов перед лицом того нового, что предстало перед ними, словно им казалось странным, что женщины вздумали добиваться чего-то для себя, — странным и опасным. Несколько мужчин, правда, плелись между колонной и унылыми кузницами под закоптелыми фабричными крышами, а двое или трое шли с детьми на руках за своими женами. Время от времени нам навстречу попадался кто-нибудь из более зажиточных горожан — домашняя хозяйка, клерк из адвокатской конторы, торговец скобяным товаром; губы их были плотно сжаты, и они делали вид, что не замечают сборища на улице, словно вся эта затея была глупой и давно знакомой шуткой.
Так, под неумолкающий говор и смех пестрая толпа продолжала мерным шагом двигаться вперед, раскачиваясь и топая ногами в удивительном беспечном воодушевлении, счастливая тем, что она идет, не зная куда, едва ли понимая зачем, обласканная столь редким здесь солнцем, под звуки нестройной музыки. Каждый раз, когда смолкал оркестр, ряды смешивались, и колонна принимала такой же растрепанный вид, как и флаги и одежда, но ни на минуту не нарушался в ней порядок, словно все были уверены, что они, самые обездоленные люди на свете, — главные хранители чувств человеческого достоинства.
В самом первом ряду шагала высокая девушка, тоненькая и прямая, как стрела, без шляпки, с давно немытыми светлыми волосами, в блузке и юбке, которая сзади не сходилась. Она, не переставая, вертела красивой головкой на изящной тоненькой шейке, и диковатый, как полевой цветок, взгляд ее голубых глаз устремлялся то туда, то сюда — всюду, словно тайное слияние с тем, что она видела каждую секунду, не давало ей остановить взгляд на чем-нибудь и прервать это радостное бездумное шествие. Казалось, в беспокойные глаза этой слабенькой девушки вселился дух нашей демонстрации и быстро передавался каждому взволнованному ее участнику. Сразу за девушкой шла маленькая старушка; она, как говорили, уже сорок лет ковала цепи. Ее узкие, черные глаза сверкали, она размахивала обрывком ленты и, опьяненная радостью, то и дело подбегала к кому-нибудь из вожаков, всем своим видом показывая, как бесконечно радует ее сегодня жизнь. И каждый раз, как она что-нибудь говорила, женщина с ребенком на руках, шедшая рядом с ней, заливалась смехом. А другая, позади, возбужденная музыкой, покачивала в такт головой и размахивала палочкой.
Целый час процессия двигалась по пустынной улице, казалось, куда глаза глядят, пока не очутилась у груды шлака, где было решено начать выступления ораторов. И вся эта пестрая процессия, освещенная бледными лучами солнца, развернулась вокруг мрачного амфитеатра. По мере того, как я смотрел на нее, удивительные видения возникали перед моими глазами. Каждая растрепанная женская голова, казалось мне, была увенчана тонким язычком желтого пламени, которое спиралью поднималось ввысь. Может быть, это была игра солнечных лучей? Или жар их сердец, неугасимое дыхание счастья вырвалось наружу и трепетало на ветру?
Притихшие, жадно ловя каждое слово, обращенное к ним, неслыханно терпеливые, стояли они, и неведомое им доселе счастье озаряло золотым сиянием воздух между их лоскутными жалкими флагами. Если они и не могли толком объяснить, почему пришли сюда, или по-настоящему поверить, что они чего-нибудь этим добьются, если эта демонстрация и не имела такого большого значения, как этого хотелось красноречивому оратору, если они и были лишь самыми бедными, самыми приниженными женщинами во всем королевстве, все же мне казалось, что эти печальные, одетые в лохмотья люди, такие тихие, такие доверчивые, являют собой невиданную мной красоту. Все великолепие вещей, созданных трудом, все мечты эстетов, все чудеса романтики казались мне ничем рядом с этим неожиданно открывшимся моему взору безграничным великодушием, таящимся в смиренных сердцах.
ХРИСТИАНИН
Однажды летним днем, после второго завтрака, я отправился на прогулку со старым приятелем, с которым мы учились вместе в колледже. Нас всегда волнуют встречи с теми, кого мы много лет не видели; и, идя через парк, я искоса приглядывался к другу. Он сильно переменился. Худощав он был всегда, а теперь совсем похудел — просто кожа да кости. Держался так прямо, что воротник его пасторского сюртука подпирал затылок длинной и узкой головы с темными, седеющими волосами, еще не поредевшими над лбом от тяжких раздумий. В его гладко выбритом лице, очень худом и продолговатом, привлекали внимание только глаза: темные брови и ресницы подчеркивали их стальной блеск, взгляд был неподвижный, отсутствующий, неизвестно на чем сосредоточенный. Эти глаза наводили на мысль о тайной муке. А рот его всегда улыбался кротко, но словно бы принужденно — то был рот распятого, да, распятого!
Молча ступая по выжженной солнцем траве, я чувствовал, что, если мы заговорим, то непременно разойдемся во мнениях; его прямой узкий лоб свидетельствовал о непримиримой натуре, словно разделенной на железные клетки.
День был жаркий, и мы сели отдохнуть у пруда Серпентайн. Как всегда, молодые люди скользили в лодках подзеркальной его поверхности с обычной своей отчаянной энергией, а гуляющие лениво слонялись вокруг, глазея на них, и та же неизменная собака плавала, когда не лаяла, и лаяла, когда не плавала. Мой друг сидел улыбаясь, вертя в тонких пальцах золотой крестик, висевший на его шелковом жилете.
Потом мы вдруг разговорились; и это была не обычная светская беседа об особенностях редких видов уток или о карьере наших университетских товарищей — то, о чем говорили мы, никогда не обсуждается в изысканном обществе.
За завтраком наша хозяйка рассказала мне печальную историю об одном несчастливом браке, и я сгорал от желания узнать, что думает об этих вещах мой друг, который, казалось, отошел куда-то далеко от меня. И теперь я решил, что момент настал.
— Скажи мне, — начал я, — что, по-твоему, важнее, буква или дух христианского учения?
— Дорогой друг, — ответил он мягко, — что за вопрос? Как можно разделять их?
— Но разве сущность веры Христовой не в том, что дух — превыше всего, а форма ничего не значит? Разве этой мыслью не проникнута вся нагорная проповедь?
— Разумеется,
— В таком случае, — сказал я, — если учение Христа придает первейшее значение духу, считаешь ли ты, что христиане вправе держать других в тисках установленных правил поведения — независимо от того, что происходит в их душах?
— Да, если это делается для их блага.
— А как вы можете знать, в чем их благо?
— Нам это указано.
— «Не судите, да не судимы будете».
— О, да, мы же не судим сами; мы лишь слепые исполнители заповедей господних.
— Вот как! А разве общие правила поведения учитывают все особенности каждой души?
Он взглянул на меня сурово, будто почуял ересь.
— Лучше бы ты объяснил точнее, — сказал он. — Право, я не понял.
— Хорошо, возьмем конкретный пример. Мы знаем, Христос сказал о супругах, что они единая плоть! Но мы знаем и то, что некоторые женщины живут брачной жизнью со страшным чувством душевного отвращения — это жены, которые поняли, что, несмотря на все их усилия, у них нет духовной близости с мужьями. Отвечает это духу христианского учения или нет?
— Нам предписано… — начал он.
— Возьмем определенную заповедь: «И станут двое одной плотью». Нет ведь, кажется, ни одного более сурового, незыблемого закона; но как же вы примирите его с сущностью христианского учения? Откровенно говоря, я хочу знать, есть ли в нем последовательность, или это только собрание законов и предписаний, не составляющих духовной философии?
— Конечно, — сказал мой собеседник терпеливо, страдальческим голосом, мы не смотрим на вещи с этой точки зрения, и нам нет нужды рассуждать и сомневаться.
— Но как же вы все-таки примиряете с духом христианского учения такие браки, как тот, о котором я говорил? Могу я узнать это или нет?
— Да, разумеется, — отвечал он, — примирение идей через страдание. Страдания этой несчастной женщины ведут к спасению ее души. Это — духовное величие, и в нем оправдание закона.
— Получается, значит, — сказал я, — что жертва или страдание связующая нить христианской философии?
— Страдание, которое приемлется с радостью, — ответил он.
— А не думаешь ли ты, — спросил я, — что в этом есть что-то нелепое? Скажешь ли ты, к примеру, что несчастливый брак более угоден богу, чем счастливый, где нет страданий, а одна только любовь?
Он сдвинул брови.
— Хорошо! — сказал он наконец. — Я тебе отвечу. По-моему, женщина, с готовностью умерщвляющая плоть свою в угоду богу, стоит в его глазах выше той, что не приносит такой жертвы в своей брачной жизни.
У меня было такое чувство, словно его пристальный взгляд направлен сквозь меня к некой невидимой Цели.
— Значит, сам ты принял бы страдание как величайшее благо?
— Да, — ответил он, — я смиренно старался бы так его принимать.
— И, конечно, желал бы страданий другим?
— Боже избави!
— Но это же непоследовательно.
Он пробормотал:
— Понимаешь, я страдал.
Мы помолчали. Потом я сказал:
— Ну, теперь многое неясное стало для меня ясным,
— Вот как?
— Знаешь, немногие — даже среди людей твоей профессии — страдали по-настоящему. Вот почему им не так трудно, как тебе, требовать, чтобы страдали другие.
Он вскинул голову, как будто я ударил его в подбородок.
— Это слабость моя, я знаю, — сказал он.
— Скорее, это их слабость. Но допустим, что прав ты и не желать несчастий другим — это слабость. Тогда почему бы не пойти дальше и не сказать, что люди, не испытавшие тех или иных страданий, поступают по-христиански, навязывая их другим?
Он помолчал с минуту, очевидно, стараясь до конца продумать сказанное мною.
— Конечно, нет, — сказал он наконец. — Это миссия только служителей божьих.
— Значит, ты считаешь, что это не по-христиански, когда муж такой женщины заставляет ее страдать, если, конечно, он не служитель божий?
— Я… я… — Он запнулся. Да, я думаю, что это… это не по-христиански. Конечно, нет.
— Тогда такой брак, если он продолжается, делает жену истинной христианкой, а мужа — наоборот.
— Ответить на это просто, — спокойно сказал он. — Муж должен воздерживаться.
— Да, по твоей теории это, вероятно, будет последовательно и по-христиански: пусть страдают оба. Но брак-то, конечно, перестанет быть браком. Они больше не будут единой плотью.
Он посмотрел на меня почти раздраженно, будто хотел сказать: «Не заставляй меня зря тратить на тебя слова, замолчи!»
— Но, как ты знаешь, — продолжал я, — гораздо чаще муж отказывается от воздержания. Можешь ли ты утверждать, что это по-христиански — позволять ему с каждым днем все больше отходить от христианства из-за его нехристианского поведения? Не лучше ли избавить бедную женщину от страданий, пожертвовав тем духовным благом, которое она могла бы обрести? Почему же, в самом деле, вы предпочитаете то, а не это?
— Вопросы избавления, — отвечал он, — меня не касаются. Ибо сказано: «Отдайте кесарю кесарево».
Лицо его окаменело — похоже было, что я могу атаковать его вопросами, пока у меня язык не устанет, а лицо его останется таким же неподвижным, как скамья, на которой мы сидели.
— Еще один последний вопрос, — сказал я. — Так как христианское учение придает значение духу, а не плоти, и нить, связующая все воедино и делающая все последовательным, — это страдание…
— Искупление страданием, — прервал он.
— Если хочешь… Короче говоря, самоистязание… Я должен спросить тебя — и не принимай этого на свой счет, потому что я помню твои слова, — в жизни обычно люди не верят тому, кто не познал на собственном опыте провозглашаемых им истин. Веришь ли ты, что ваше христианское учение не теряет ценности, когда его проповедуют те, кто никогда не страдал сам и не шел на самопожертвование?
Минуту-другую он помолчал. Потом с тягостной медлительностью произнес:
— Христос благословил своих апостолов и разослал их по свету: те послали следующих, и так это бывает по сей день.
— Значит, ты считаешь это ручательством за то, что они страдали сами и, стало быть, душой верны своему учению?
Он храбро ответил:
— Нет… Не могу сказать, что это действительно так.
— В таком случае не выходит ли, что их учение возникло не от духа, что это только форма?
Он встал и, видимо, глубоко скорбя о моем закоснелом упорстве, промолвил:
— Нам не дано это знать. Так предопределено, и мы должны верить.
Он стоял, отвернувшись от меня, без шляпы, и я видел, как шея его залилась краской под крутым изгибом темноволосой головы. Чувство жалости всколыхнулось во мне. Может быть, не следовало добиваться победы в этом споре?
— Разум — логика — философия, — сказал он неожиданно. — Ты не понимаешь. Все это для меня ничто, ничто и ничто?
МОЙ ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК
Я не видел своего дальнего родственника много лет, собственно, с тех самых пор, как провалилась его затея на острове Ванкувер, и, однако, я его тотчас узнал, когда, склонив голову набок и высоко, словно для благословения, подняв руку с чашкой, он крикнул мне через весь курительный зал нашего клуба:
— И вы здесь?
Худой, как щепка, и такой же легкий, высокий, прямой, с бледным лицом, светлыми глазами и светлой бородой, он походил на бесплотную тень. Такое впечатление он производил и прежде. Когда он открывал рот и говорил что-нибудь своим тонким, немного гнусавым, подчеркнуто бесстрастным голосом резонера, казалось, что из его бледных уст вылетает бледное облачко оптимизма. Костюм его тоже не утратил своей поразительно бесцветной элегантности и по-прежнему храбро смотрел в лицо дневному свету.
— Что вы делаете в городе? — спросил я. — Я думал, что вы в Йоркшире, у тетушки.
На его круглые светлые глаза, устремленные в какую-то точку за окном, быстро, два раза кряду опустились веки — так подергиваются пленкой глаза у попугая.
— Мне обещано место, — сказал он, — и надо быть здесь.
Мне вдруг показалось, будто я уже прежде когда то слышал от него эти самые слова.
— Понимаю, — сказал я, — и что же, вы надеетесь, что вам посчастливится?
Мне тут же стало совестно за свой вопрос. Я вспомнил, сколько раз он в свое время так вот охотился за какой-нибудь должностью и как часто, едва успев добиться ее, снова оставался без работы.
— Да, конечно, — ответил он. — Они непременно должны предоставить мне это место. — И тут же, неожиданно прибавил: — Впрочем, кто их знает! Люди иной раз оказываются такими чудаками!
Скрестив свои тонкие ноги, он с поразительным бесстрастием принялся рассказывать о тех многочисленных случаях, когда люди оказывались чудаками и не давали ему работы.
— Видите ли, — сказал он в заключение. — Страна наша дошла до такого состояния… ведь каждый день из нее вывозят капитал… Предприимчивость убивается на каждом шагу. Рассчитывать-то, собственно, не на что.
— Вот как! — сказал я. — По-вашему, выходит, что стало хуже, чем прежде?
Он улыбнулся с оттенком снисхождения.
— Мы катимся вниз по наклонной плоскости с ужасающей быстротой. Английский национальный характер утратил всю свою твердость. И не удивительно, — ведь как у нас стали нянчиться с народом!
— Ну уж и нянчиться, — пробормотал я. — Мне кажется, вы преувеличиваете.
— Да вы присмотритесь: все только для них и делается! От былой их независимости не осталось и тени! Рабочий люд теряет чувство собственного достоинства с поразительной быстротой!
— Вы так полагаете?
— Уверен в этом! Да вот, к примеру…
И он принялся перечислять явные признаки вырождения, которые подметил в работниках его тетки и братьев, Клода и Алана.
— Они никогда ничего не делают сверх того, что с них требуется, сказал он в заключение. — Ведь они знают, что у них за спиной их союзы, пенсии и эта самая, понимаете ли, страховка…
Чувствовалось, что вопрос этот его глубоко волнует.
— Да, — повторил он, — народ разложился.
Я был изумлен тем, что общегосударственные дела волнуют его гораздо больше, чем его собственные. Голос его стал звучен, во взгляде появилось воодушевление. Он с живостью наклонился ко мне, и его длинная, прямая спина показалась мне еще длиннее и прямее. Он уже не казался больше тенью человека. Легкий румянец проступил на его бледном лице, и он энергично жестикулировал своими холеными руками.
— Да, да, — сказал он. — Страна катится в пропасть, это факт; а они не хотят этого понять и продолжают вовсю подтачивать дух независимости в народе. Если в работника вселяют уверенность, что кто-то его обеспечит, как бы он ни работал, все равно, — то, скажите на милость, что останется от его энергии, дальновидности и упорства?
Он говорил, все более возвышая голос, и к его изысканному выговору человека «из общества» примешивалась пикантная гнусавость, которой, насколько я помню, он был обязан тому, что ему в свое время не удалили аденоиды.
— Помяните мое слово, — продолжал он. — Пока мы не изменим своей линии поведения, мы не добьемся ничего. Мы пренебрегаем законом эволюции. Говорят, будто Дарвин устарел. А я скажу, что для меня он еще годится. Конкуренция вот единственный двигатель прогресса!
— Да, но конкуренция — очень жестокая вещь, — возразил я. — Не всякий в состоянии ее выдержать. — Тут я посмотрел на него в упор. — Неужели вы против оказания помощи тем, кому эта конкуренция не под силу?
— Эх, — сказал он и, как бы щадя мою наивность, понизил голос. — Тут дело коварное: только начни — конца не будет! Чем больше им дают, тем больше они требуют. А между тем они из-за этого теряют свой запал. Я довольно много об этом думал. Близорукая политика. Нет, нет, никуда это не годится!
— Но не хотите же вы, чтобы люди погибали от преждевременной дряхлости, от случайной болезни, от превратностей торговли и промышленности? — возразил я.
— Нет, зачем же, — сказал он, — я вовсе не против благотворительности. Тетя Эмма у нас по этой части молодчина. Клод тоже. Да я и сам стараюсь вносить свою лепту.
Странное, чуть ли не виноватое выражение мелькнуло в его взгляде, и я вдруг почувствовал к нему прилив симпатии: «А он, собственно, славный малый», — подумал я.
— Я только лишь хочу сказать, — продолжал он, — что считаю порочным самый принцип, когда люди приучаются рассчитывать на какие-то блага, которые сваливаются на них независимо от их собственных усилий. — Тут он повысил голос, и взгляд его снова стал неподвижным. — Я убежден, что вся эта помощь, вся эта возня со слабыми — вредный и ненужный вздор. Самая элементарная логика говорит нам об этом.
В своем негодовании на «порочный принцип» он даже вскочил и, казалось, позабыл о моем присутствии. Он стоял у самого окна, и резкий, безжалостный свет подчеркивал все убожество этой бесцветной фигуры, его бледного, длинного, узкого лица, вялость его холеных белых рук, — все, что делало его не человеком, а тенью человека. Зато его гнусавый, не допускавший возражений голос забирал все выше и выше.
— Нет, тут нужна решимость! Надо раз навсегда прекратить все виды государственной помощи; надо приучить людей рассчитывать на самих себя. А этак мы только разведем паразитизм в народе.
Я вдруг испугался, как бы не лопнула одна из голубых жилок, пересекающих его белый лоб, — уж очень он разгорячился! — и поспешил переменить тему разговора.
— Как вам нравится в деревне, у тетушки? — спросил я. — Не скучаете?
Он встрепенулся, словно я внезапно разбудил его своим вопросом.
— О! Так ведь это только временно, — ответил он, — пока не получу место, о котором вам говорил.
— Постойте… Сколько же лет прошло с тех пор, как?..
— Четыре года. Тетушка, разумеется, очень рада, что я живу у нее…
— Ну, а как ваш брат, Клод?
— Да он ничего, спасибо. Хлопоты, конечно, одолевают. Папаша, как вы знаете, оставил имение в довольно запущенном состоянии.
— Да, да, конечно. А чем еще он занимается?
— Он-то? Да в приходе всегда, знаете, дела найдутся.
— А как поживает Ричард?
— Ничего. Как раз вернулся в этом году. Кое-как сводит концы с концами благодаря пенсии. Накопить-то он, конечно, ничего не сумел.
— А Вилли? Прихварывает по-прежнему?
— Да.
— Бедняга!
— Ну, у него нетрудная работа. И даже, если здоровье вдруг откажет, приятели по колледжу — у него их много — подыщут ему синекуру. Его все любят, старину Вилли!
— А что Алан? Я о нем не слышал с тех пор, как лопнуло их предприятие в Перу. Говорят, он женился?
— Как же! На одной из дочерей Берли. Хорошая девушка и богатая наследница. У них много земли в Хемпшире. Все хлопоты по имению теперь на Алане.
— И, верно, у него уже ни на что другое времени не остается?
— Отчего же? Возится со своими коллекциями, как и прежде.
Больше расспрашивать было не о ком.
Но тут он, должно быть, решил, что сведения о процветании его родственников, которые я у него выудил, некоторым образом умаляют его собственные достижения, и разразился следующей тирадой:
— Если бы тогда, когда я разводил фруктовый сад, туда подвели железную дорогу, как это было задумано, мои дела сейчас были бы совсем неплохи.
— Конечно, — согласился я. — Вам просто не повезло. Ну, да вы скоро получите место, а покуда можете спокойно жить себе у тетушки.
— Конечно, — буркнул он в ответ.
Я поднялся.
— Что ж, — сказал я, прощаясь. — Очень приятно было узнать, как вы все живете.
Он проводил меня до дверей.
— Рад, рад, старина, — сказал он, — мы славно поболтали. А то я было приуныл. Не особенно весело сидеть да гадать: примут или не примут?
Он вышел со мной на крыльцо, затем на улицу. Возле дверцы ожидавшего меня кэба стоял какой-то бродяга, высокий оборванец, с бледным лицом и бесцветной бородой. Мой дальний родственник оттеснил его в сторону и, когда я уже сел в карету, сунул голову в окошко и шепнул:
— Ужас, сколько нынче развелось этих бездельников!
Я не мог удержаться и пристально, в упор, посмотрел на него. Однако на его лице я не заметил и тени смущения: ничего-то он не понял!
— Ну что ж, до свидания! — крикнул он. — Вы меня очень поддержали, спасибо!
Карета тронулась. Я оглянулся. Я видел, что между моим дальним родственником и бродягой происходил какой-то разговор, блеснула монета, но из-за своей близорукости не мог разобрать, кто кому дает деньги, — оба были издали похожи, высокие, светлые, бородатые. И вдруг по какому-то капризу воображения я представил себе страшную картину: будто все мы — я, мой дальний родственник и его братья — Клод, Ричард, Вилли и Алан — брошены на произвол судьбы. Я даже платок вынул, чтобы отереть им лоб! Но тут меня поразила другая мысль, и я спрятал платок в карман. Возможно ли, чтобы я и мои дальние родственники, и дальние родственники моих дальних родственников, и так далее до бесконечности, чтобы мы, родившиеся с готовым общественным положением, мы, которых провидение возвысило над прочей частью человечества, даровав наследственный капитал и доходы с него, предоставив образование, которое дает возможность избрать то или иное привилегированное занятие, поселив нас в надежных домах, снабдив нас надежными родственниками, возможно ли, чтобы кто-либо из нас когда-либо очутился в таком положении, при котором его благополучие зависело бы исключительно от его собственных усилий? Я размышлял над этим вопросом несколько минут, и в конце концов пришел к выводу, что это невозможно, разве что мы совершим преступление или нас чудом забросит на необитаемый остров. Как бы мы ни старались, никогда, ни при каких обстоятельствах ни один из нас не мог бы очутиться на месте тех, кому мой дальний родственник с таким жаром пророчил неминуемую пауперизацию. Для нас этот процесс начался уже давно. Того из нас, кто находится на государственной службе, ожидает пенсия. Тот, кто унаследовал земельную собственность, знает, что никто ее у него отнять не может. Кто принимает священный сан — пусть у него даже и нет никакого призвания к этому, — может рассчитывать на свою должность пожизненно. А кто избирает себе более рискованное поприще — адвоката, врача, художника или дельца-предпринимателя, — уверен, что на худой конец в случае неудачи ему все же найдется место где-нибудь в теплом гнездышке у близких, у друзей. Нет, нет! Так быть не может, чтобы мы вдруг очутились без всякой поддержки! Пауперизация нам не грозит: для нас она уже наступила!
Я внезапно прозрел: так вот отчего так горячился мой дальний родственник! Ну, конечно же, он потому и принимает все это так близко к сердцу, что лучше кого бы то ни было сознает, как тяжело было бы этим беднягам из рабочего сословия, если бы закон поставил их в то унизительное положение, в котором пребываем мы, в то ужасное положение, когда человек чувствует, что ему есть на что опереться и что он может рассчитывать на какие-то средства, не являющиеся прямым вознаграждением за его труды. Теперь мне было ясно все. Тайная гордость гложет его — оттого-то он и приходит в такую ярость всякий раз, как разговор коснется этой темы. Конечно же, он дни и ночи напролет мечтает о том, как было бы хорошо, если б отец его не имел земельных угодий, если б тетушка не получила в свое время наследства, которое позволяло ей предложить ему кров, пищу и возможность спокойно ожидать, когда подвернется подходящее место. Он, вероятно, глубоко чувствует всю унизительность положения своих братьев — Клода, которому достались земли отца; Ричарда, обеспеченного пенсией до конца своих дней за то лишь, что он прослужил определенное количество лет на государственной службе в Индии; болезненного Вилли, которому, как только его покинут силы, дружки по колледжу подыщут синекуру; Алана, который благодаря своему обаянию хорошо воспитанного человека завоевал руку и сердце богатой наследницы и теперь управляет ее имениями.
Всех-то их безжалостное провидение лишило энергии, дальновидности и упорства! Так вот что тайно мучит его, вот рана, которую воспитание не позволяет ему обнажать перед людьми! Теперь, когда я понял, какие он претерпевает муки, я исполнился к нему живейшего участия. Я понял, что честь обязывает его всеми силами противиться тому, чтобы другие оказались в его плачевном положении. Вместе с тем я должен был признаться себе, что сам я сейчас никоим образом не разделял гордых чувств своего дальнего родственника и не замечал, чтобы мое положение имело на меня тлетворное влияние. Я даже испытывал смутное чувство благодарности при мысли, что если к тому времени, как силы меня покинут, я не успею ничего скопить, я все же не буду брошен на произвол судьбы и что на старости лет мне не грозит унылая нищета. Должно быть, по малодушию, я не без удовлетворения думал о том, что в наше время кое-какая относительная обеспеченность впервые стала уделом людей, принадлежащих к низшим классам общества. Вместе с тем я понимал, что человеку более сильному и гордому духом, должно быть, в самом деле нелегко мириться с сознанием своей обеспеченности и еще тяжелее видеть, как эта обеспеченность, ведущая к неминуемому паразитизму, надвигается все ближе и ближе на других; ведь благородные души чужую беду чувствуют острее, нежели свою собственную. Несомненно, думал я, мой дальний родственник сгорает от желания поменяться местами с этим бродягой, который открывал мне дверцу кареты; несомненно, он не хуже меня понимает, что он сам, сброшенный со счетов царящей в мире конкуренцией, был бы вынужден так вот открывать дверцы карет, если б не то грустное обстоятельство, что благодаря своему происхождению он никогда не докатится до этого!
«Да, — сказал я себе, — сегодняшний день научил тебя кое-чему. Теперь ты видишь, что нельзя опрометчиво, не разобравшись, осуждать дальних родственников, разглагольствующих о пауперизации и о том, что мы слишком нянчимся с низшими классами! Нет, нет, тут нужно смотреть глубже! Надо быть снисходительней и шире!»
С этим я остановил кэб и вышел. Мне не хватало воздуха.
БОЛЬШОЙ СОВЕТ ПРИСЯЖНЫХ [2] (Два панно с обрамлением)
Повестку, обязывавшую меня явиться на заседание суда присяжных к началу предстоящей сессии, я читал, лежа в ложбине на берегу, а рядом бушевали волны океана, этого лона вечной свободы, несколько ограниченной здесь понятием «Атлантика». Помню, как, читая повестку, я думал, что в каждой нахлынувшей на берег волне есть некая капля, побывавшая у всех островов и материков, что каждая искорка жаркого солнца, возносящего эти синие воды к небесам, представляет собой микрокосм, в котором заключено все многообразие и вместе с тем все единство мира.
ПАННО ПЕРВОЕ
Как предписывала повестка, в должное время явился я в должное место, испытывая при этом немалую робость. Чем мне теперь заняться? Ведь в судебных делах у меня нет никакого опыта. Придя немного раньше назначенного часа, я бродил взад-вперед и разглядывал людей, вместе с которыми мне предстояло заняться очищением Общества. Истцы, свидетели, судебные чиновники, полисмены, сыщики, преступники, репортеры; адвокаты, праздношатающиеся секретари, просители, присяжные. Помнится, у меня было такое чувство, будто я заглянул в клоаку, не зажав носа. Всюду я видел лихорадочную торопливость, на всем лежал странный, тоскливый налет, какая-то духовная грязь, и во всех углах — эти рожи! И я подумал: а ведь, должно быть, им мое лицо кажется таким же, как мне — их лица.
Скоро меня вызвали вместе с другими и привели к присяге. Всю эту церемонию я помню плохо, мои мысли были заняты лишь одним: что за люди эти мои коллеги-присяжные? Но вот мы вошли в длинную комнату с длинным столом, на котором было разложено девятнадцать обвинительных актов, девятнадцать листков промокательной бумаги и девятнадцать ручек с перьями. Насколько я помню, мы почти не разговаривали, а, усевшись каждый на свое место, внимательно читали про себя обвинительные акты. В ту сессию нам предстояло рассмотреть восемьдесят семь дел и вынести решение, передавать их в суд или нет, причем секретарь объявил нам, что мы обязаны закончить эту работу в два дня, не более. Выглядывая из-за стопки обвинительных актов, я осмотрел восемнадцать своих сотоварищей. Мне страстно хотелось узнать, что же они думают о предстоящем нам занятии, и, помимо того, во мне шевелилось чувство жалости к ним, словно все мы были единой командой на корабле, которому предстояло отправиться в необычное и нелепое плавание. Мне было любопытно боюсь, что глаза у меня так и горели любопытством, — разделяют ли со мной мои коллеги то странное чувство, которое тревожило меня, будто я делаю что-то незаконное, что-то противоестественное, и вместе с тем я ощущал значительность и важность своей персоны и какой-то дьявольский интерес к этому беззастенчивому вмешательству в жизнь других людей. Разглядывая присяжных, я в конце концов пришел к выводу, что мне не стоило и любопытствовать. Все они, за исключением, пожалуй, двух — одного художника и одного еврея, — казались такими добропорядочными гражданами. Постепенно я утвердился в мысли, что они отнюдь не терзаются и не забивают себе голову всякой чепухой, что им неведомо волнующее чувство общности человеческого рода, что они застрахованы от сомнений и свободны от укоров нечистой совести.
Тут начался допрос сторон и свидетелей. Он проходил очень быстро. Сначала каждое дело, в чем бы оно ни состояло, мы рассматривали не без волнения, сознавал всю серьезность своей задачи. Разве не были мы вершителями человеческих судеб, очищающими Общество от скверны, разве мы не важнее любого судьи, любого присяжного, заседающего во время судебного процесса? Ведь достаточно нам вынести решение не передавать дела в суд, тут ему и конец, обвиняемый полностью оправдан.
Мы принялись за работу, сначала не спеша, затем стали действовать быстрее и быстрее, утверждая обвинительные акты один за другим, — после каждого рассмотренного дела мы ставили в своих списках галочку, чтобы знать, насколько мы продвинулись вперед. Мы утвердили обвинения в краже со взломом, в жульничестве, воровстве, мошенничестве, утвердили и обвинения в убийстве, изнасиловании, поджоге. Когда у нас накапливалось с десяток утвержденных актов, двое присяжных вставали с места и несли их в суд, на нижний этаж, чтобы положить эти акты перед самим судьей. Судья говорил: «Благодарю вас, господа» — или что-нибудь в этом роде, а двое присяжных снова шли наверх, и утверждение актов продолжалось. Я заметил, что по мере того, как мы брались за все новые и новые дела, допрашивая стороны, взволнованность наша улетучивалась, и держались мы уже далеко не так торжественно, как прежде, а галочки и заметки на полях своих листков ставили все небрежнее и небрежнее. Мы утвердили все обвинительные акты, какие в тот день полагалось рассмотреть, — их было пятьдесят семь. Это заняло у нас утро и несколько часов за полдень, после чего мы встали из-за стола и разошлись по домам.
На следующий день в назначенный час мы вновь были на своих местах и, не тратя много времени на взаимные приветствия, принялись утверждать обвинительные акты. Мы утверждали их уже не так быстро, словно теперь нас одолевало какое-то тайное уныние, точил некий червь недовольства. У нас как бы чесались руки что-то не утвердить, отвергнуть, нас смущало, что работа наша слишком уж безупречна. И вот тут-то подвернулось одно сомнительное дело. Это было дело об обмане некоей Софи Либерман, или Лауберман, — словом, какая-то иностранная фамилия. Этой особе всучили распространенную в ту пору рождественскую открытку в виде пятифунтового банкнота и получили с нее, как она утверждала, три соверена сдачи. Дело было довольно пикантное, и я хорошо помню, что, когда истица вошла, чтобы дать показания, мы все разом вытянули шеи и повернулись в ее сторону. Бледная, но спокойная, одетая во все черное, довольно миловидная, она держалась не слишком нагло и не слишком робко, по-английски говорила скверно; ее круглое, очень заурядное лицо с широко расставленными серыми глазами и припухлым носом и ртом показалось мне, насколько я припоминаю, глуповато-честным. Помнится, нам не стали объяснять, каково было занятие этой женщины, я не уверен также, что она сказала об этом сама, но по тому, как вели себя присяжные, у меня не оставалось сомнений, что ни для кого не секрет, какого рода услугу оказала истица обвиняемому, получив за это грошовый банкнот. Своим низким, но приятным голосом она отвечала на наши вопросы и, кажется, готова была расплакаться, — только природное равнодушие да, пожалуй, страх, что люди, призванные очищать Общество, не та аудитория, перед которой можно проявлять свои чувства, удержали ее от слез. Когда она вышла, мы пригласили для консультации сыщика, снова заговорили об этом щекотливом деле, уклончивыми намеками всячески стараясь показать, что у нас, как у людей, умудренных опытом, не может быть предубеждений, и сумели заставить его недвусмысленно сказать, чем занимается эта женщина.
— Если бы только она говорила правду, джентльмены, но, вы знаете, такие женщины всегда лгут, особенно иностранки! — добавил сыщик.
Когда вышел и он, мы переглянулись в тягостном молчании. Было очевидно, что никто не хочет сказать первое слово. Наконец заговорил наш старшина.
— По-моему, совершенно ясно, что мужчина действительно всучил ей этот банкнот. Конечно, он подло ее обманул, но мы не можем обвинять его лишь на этом основании: случай не совсем обычный и, как мне кажется, законом не предусмотрен. — Заметив наши улыбки, старшина тоже улыбнулся и продолжал:
— Вопрос, джентльмены, по существу, сводится к тому, можем ли мы поверить ей, что она действительно дала ему три соверена сдачи.
И снова все мы примолкли, а потом самый толстый из нас вдруг воскликнул:
— Полагаться на слово таких женщин очень опасно! И тут нас сразу как будто прорвало, все мы (за исключением двоих или троих) пришли в неистовство. Нет, нет, разве можно им верить! Ни в коем случае! Такие женщины способны бог знает на что!
Казалось, мы составили тайный заговор и безмолвно поклялись защитить Общество. Мы словно шептали друг другу: «Да, да, конечно, нам нужны такие женщины, но, несмотря на это, мы никак не можем признать их существование, законным, ведь тогда окажется под угрозой безопасность каждого из нас. В данном случае мы как бы охраняем интересы всех мужчин — и свои собственные интересы тоже, потому что нам самим могут в любую минуту понадобиться услуги подобных женщин, и до чего же будет дико, если их словам станут доверять наравне с нашими!» Никто из нас, разумеется, не высказался столь откровенно и резко, но большинство в душе испытывало именно такие чувства. А потом наш старшина, медленно обведя всех взглядом, произнес: «Ну, джентльмены, я полагаю, что мы единодушно отклоняем это обвинение», — и все присяжные, кроме художника, еврея и еще одного человека, пробормотали: «Да». Отвергнув этот акт, мы словно бы разом забыли о беспокойстве, которое недавно томило нас, и погрузились в работу, утверждая обвинение за обвинением еще быстрее, чем прежде. Около двух часов дня все было кончено, и мы гуськом стали спускаться в суд, чтобы оттуда идти домой. На лестнице ко мне подошел еврей и, испытующе поглядев на меня своими прищуренными бархатистыми глазами, словно боясь обмануться во мне, сказал:
— Не странно ли: мы утвердили восемьдесят шесть актов, и только один отвергли, а мы ведь прекрасно знаем, что как раз это обвинение справедливое, — и какая грязная история! Не странно ли?
— Да, — сказал я, — видно, мы слишком преклоняемся перед благопристойностью.
Но мы уже вошли в судейскую комнату, и здесь судья, мужчина с красивым, твердо очерченным лицом, в красной мантии и белом парике, встретил нас ослепительной улыбкой.
— Благодарю вас, джентльмены, — сказал он любезным, слегка насмешливым тоном, словно уже встречал нас когда-то раньше. — Благодарю вас за то рвение, с каким вы исполнили свой долг. Увы, я не могу вознаградить вас за ваши услуги ничем иным, кроме привилегии посетить одну из наших тюрем, — там вы своими глазами увидите, что ожидает многих из тех, чьи дела вы только что разбирали, посвятив этому немало вашего драгоценного времени. А теперь, джентльмены, вы свободны.
Едва взглянув друг на друга и испытывая в душе страх, как бы нам не встретиться снова, мы поспешно распрощались и стали расходиться.
Таким образом, я освободился — освободился от всего, к чему обязывала меня эта бумажка, лежавшая в кармане. Но она все еще действовала на меня. И я не спешил покинуть суд и стоял, пораженный мыслью, что судьба каждого будущего заключенного была в моих руках. Но я подавил в себе эти мысли и вышел. Проходя по коридору, я увидел женщину, которая показалась мне знакомой. Она сидела, уронив руки на колени, глядя прямо перед собой, бледная, довольно миловидная, с припухлыми губами и носом, — та самая женщина, иск которой мы сегодня отвергли. Зачем она тут сидит? Разве она не понимает, что ее дело проиграно, или же эта женщина, подобно мне, не может уйти из суда просто потому, что ее тянет под сень Закона? Поддавшись какому-то безотчетному порыву, я сказал ей: «Ваш иск отклонен, так, кажется?» Она тупо посмотрела на меня, и слеза, по-видимому, давно уже накипевшая, покатилась по ее щеке. «А я не знаю. Я хотела обождать, чем кончится, — сказала она своим низким голосом. — Тут ведь ошибка!» Мое лицо, несомненно, выдало те чувства, которые волновали меня после разбора ее дела, так как крупные слезы одна за другой покатились по ее пухлым щекам, а долго сдерживаемая горечь прорвалась в целом потоке торопливых слов:
— Я все время работала. Боже, как тяжко работала! А тут приходит этот противный челофек и обфоровывает меня. A они говорят: «Ах, да, да! Но ведь ты дурная женщина, мы тебе не верим — ты говоришь неправду». А я гофорю правду, я не дурная женщина — Я приехала из Гамбург».
— Да, да, — бормотал я, — да, да.
— Я мало знаю Англию, сэр. Я плохо гофорю по-английски. Может, они поэтому и не верят мне? — Она умолкла на минуту, жадно глядя мне в лицо, потом заговорила опять: — У меня такая тяшелая работа, а заработок всегда маленький: если меня будут грабить, я помру. Без мужчин разве мне прокормиться, я должна им верить, а они обфоровывают меня, как тот подлец. О, это так тяшело!
И крупные слезы все быстрее и быстрее катились из ее глаз, падая на руки, на черную юбку. Подняв на меня свой наивный взгляд, она, словно большой несчастный ребенок, спросила:
— Скашите, пошалуйста, сэр, почему они не притянули к ответу этого подлеца?
Я прекрасно знал, почему, но не мог сказать ей это.
— Беда в том, — ответил я, — что все обвинение основано лишь на ваших словах.
— О, нет! — возразила она с жаром. — Он ведь дал мне эту открытку разве я взяла бы эти пять фунтов, если бы не считала их настоящими? Это ведь ясней ясного. Ну, а пять фунтов — это не моя цена. И выходит, я долшна была обязательно сдать сдачу! Те дшентльмены, которые там сидели, это все деловые люди, они долшны знать, что пять фунтов не моя цена. Я хотела бы сказать об этом судье, — он, я думаю, тоже деловой человек и, конечно, сразу поймет, что это не моя цена. Я ведь не так молода. И я не так уж очень красива, как другие, — судья должен это понять, правда, сэр?
Я лихорадочно искал ответа на этот странный вопрос и в конце концов промямлил:
— Но, знаете ли, ваша профессия незаконна.
Тут ее лицо медленно покраснело от возмущения. Она опустила глаза, затем резко подняла грязную руку без перчатки и прижала ее к груди, словно давая клятву сказать истинную правду.
— Я не дурная женщина, — сказала она. — Тот подлый челофек, он ведь не лучше меня, а я свободная женщина, я не рабыня, захочу и завтра перестану это делать, чем же он лучше меня? Мушчины вроде него и сделали меня такой, какая я теперь есть; ему удовольствие, а мне работа. Он не дал мне ничего только отнял мои шалкие гроши и выставил меня перед чужими людьми дурной женщиной. Боже, я такая несчастная! У меня возникло внезапное желание дать ей денег, но оно тотчас же исчезло, — я почувствовал, что это снова только оскорбило бы ее. По тому, как дрожали ее пальцы, прижатые к груди, я понял, что горевала она отнюдь не о потерянных деньгах. Нет, это была невыразимая обида на несправедливость, след молчаливых раздумий о ее несчастной судьбе, которые теснились у нее в голове и терзали ей душу. Потеря денег была лишь как бы символом ее вечной беззащитности, которая теперь обнажилась перед ней самой и перед всем миром. И она вдруг почувствовала, что это глубочайшая несправедливость. Ведь тот негодяй неуязвим, его это словно и не касается. И все мы, мужчины, тоже неуязвимы — мы, которые довели эту женщину до такого положения. И не в силах объяснить ей, что все это естественно и обычно, я только пробормотал: «Мне, право, жаль, ужасно жаль», — и кинулся к выходу.
ПАННО ВТОРОЕ
Ровно через неделю, показав вместо пропуска свою повестку, я вошел в тюрьму, где мы пользовались правом наблюдать, как живут многие из тех восьмидесяти шести людей, которые попали сюда не без нашей помощи.
— Я так долго не приходил, — сказал я стражнику у ворот, — наверное, все другие присяжные уже…
— Что вы, что вы, сэр! — с улыбкой отозвался стражник. — Напротив, вы первый, и, простите, вы же, вероятно, будете и последним. Прошу вас, подождите вот здесь, а я позову старшего смотрителя — он покажет вам тюрьму.
И стражник провел меня в так называемую «Смотрительскую библиотеку» огражденную железной решеткой комнату, такую голую и унылую, каких я не видел со школьных дней. Пока я стоял и в ожидании смотрел в окно на тюремный двор, в ворота с грохотом вкатила «Черная Мария» [3]. Она подъехала ближе, и я разглядел за решетчатой дверцей девушку лет восемнадцати, одетую в грязновато-темное платье. Прижавшись лбом к решетке, она оглядывала незнакомый двор; в ее живых узких черных глазах сквозь внешнее безразличие проглядывало острое волнение, но бледное лицо и тонкие губы, казалось, не выражали никаких чувств. За желез* ной решеткой она очень походила на маленького зверька, какую-то дикую кошку, привезенную в зоологический сад. Меня она не замечала, но если бы и заметила, то, мне кажется, она бы не смутилась — разве наградила бы меня тем же острым, безразличным взглядом, каким смотрела на все окружающее. Полисмен, стоявший на подножке кареты, сразу ушел, а кучер слез с козел и, подойдя к девушке, завел с ней разговор. Я видел, как она повела глазами и улыбнулась ему и как он улыбнулся ей в ответ — рослый мужчина, довольно добродушный с виду. Вот он уже снова вернулся к своим лошадям, а она все стояла, как прежде, прижавшись лбом к решетке, и смотрела прямо перед собой. Незаметно наблюдая за девушкой, я будто проникал взглядом через эту маску с плотно сжатым ртом и рысьими глазами. Мне казалось, что я вижу ее насквозь, что я понимаю ее, как понимают человека, неожиданно застигнутого в то время, когда он погружен в свои самые заветные, тайные мысли. Мне чудилось, будто я вижу ее беспокойную, скрытную, безнравственную маленькую душу, и душа эта была так обнажена и беззащитна, словно девушка сама вынула ее из груди и протянула мне на ладони. Я видел, что девушка принадлежит к числу тех людей, которые залезают в чужие карманы с такой же легкостью, как и в свои; что ей незнакомы ни преданность, ни доверие; что она ловка и быстра, как кошка, и, как кошка, не способна ничем увлечься; что она всегда готова царапаться, мурлыкать, а потом царапаться снова; что она переменчива и в то же время тверда, как морская галька. И я подумал: «Вот мы запираем ее в зверинец (очевидно, в первый раз, если судить по ее поведению), мы посадим ее в клетку, заставим ее шить, дадим ей хорошие книги, которые она не станет читать; и она будет шить и ходить взад-вперед по своей камере, пока мы ее не выпустим; а потом она снова вернется в свои трущобы, снова будет бродяжить и возьмется за старое, и так до тех пор, пока мы вновь ее не схватим и не посадим в клетку. Таким образом мы и будем очищать Общество, пока девушка в один прекрасный день не умрет. И я подумал: если в самом деле она создана кошкой, кошкой душой и телом, то и обращаться с ней надо бы совсем иначе. Нам следовало бы сказать ей: «Живи себе, кошечка, как знаешь. Порой ты царапаешь нас, частенько крадешь, ты сладострастна, как сама ночь. И тут уж ничего не поделаешь. Такова твоя природа. Такой ты родилась, и мы хорошо знаем, что измениться ты не можешь, но ты забавляешь нас! Живи же, как знаешь, кошечка!» Разве не лучше, не честнее было бы сказать так ей, чья кошачья душа случайно воплотилась в человечьем теле? Разумеется, кошечка по-прежнему будет красть, будет царапаться, всю свою маленькую жизнь она будет ласковой и порочной, она никому не причинит большого зла, потому что много ли зла может причинить это существо с тонкими губами и лицом, похожим на маску. Что толку сажать под замок таких, как она? Разве мы не делаем из мухи слона? Куда делось наше чувство меры, где наш юмор? Зачем мы тщимся изменить творение Природы, пуская в ход свои жалкие орудия? Уж если мы должны позаботиться об этом существе и обезопасить себя, то, во имя неба, давайте сделаем это иным, лучшим путем. И вдруг я вспомнил, что я присяжный, призванный очищать Общество, что я утвердил обвинение против этой девушки. Желая убедиться в том, что такие мысли не могут унизить достоинство доброго гражданина, я перестал смотреть на арестантку и вынул из кармана список рассмотренных нами дел. Да, да, вот, несомненно, она, решил я: «Номер 42. Пилсон, Дженни; кражи, мелкое воровство». Я напряг память, стараясь восстановить обстоятельства дела, но не припомнил ни одной подробности, ни одного слова. На полях моего списка против ее имени было помечено: «Неисправима с детства; дурное окружение». И мной овладело сумасшедшее желание подбежать к окну и крикнуть ей сквозь железные прутья: «Дженни Пилсон! Дженни Пилсон! Ведь это я, я воспитал тебя и окружил злом! Я арестовал тебя только за то, что ты такова, какой я же тебя сделал! Я утвердил обвинение против тебя! Я осудил тебя, я посадил тебя в клетку! Дженни Пилсон! Дженни Пилсон!» Но когда я был уже у самого окна, дверь, по счастью, отворилась и чей-то голос произнес: «Ну, а теперь, сэр, я к вашим услугам!»
Я снова сидел в ложбинке на берегу, и рядом бушевали волны, а я зарывал в песок бумажку, обязывавшую меня явиться на заседание суда присяжных; те же самые мысли, что приходили ко мне раньше, когда перед моими глазами разбивалась о берег волна, тревожили меня и сейчас: в каждой волне есть некая капля, побывавшая у всех берегов, каждая искорка жаркого солнца, возносящего к небу синие воды, — это микрокосм, в котором заключено все многообразие и вместе с тем все единство мира.
УШЛА
Три года назад мы впервые услышали о несчастье в семье Хэрдов. Красоту того летнего дня вообразить почти невозможно. Мир словно был окутан сетью золотых паутинок; он был торжественно спокоен, и в то же время в нем звенел пьянящий смех. Мы шли к домику Хэрдов через верхнее поле. Далеко простерлась перед нами бескрайняя ширь долин, будто прекрасная птица, раскинув крылья, застыла в величавом покое и лишь в наших сердцах еще длился ее полет. В воздухе плыл аромат цветущих лип, сменив аромат сена, убранного вот уже несколько дней назад. Солнце уходило на ночлег, за верхушки сосен и буков. Вскоре о нем напоминало только теплое сияние.
Мы шли и удивлялись, как могло случиться, что до сих пор никто не сказал нам о тяжелой болезни миссис Хэрд. Удивляться было глупо: такие люди говорят о своих страданиях только тогда, когда уже слишком поздно.
Говорить о том, что грозило утратой жены и матери? Но разве могут слова передать все, что за этим таится? Либо быть здоровым, либо умереть! Такое у них правило. Держаться, пока не свалишься, а тогда сразу конец. Другого выхода нет для людей, живущих на жалкий заработок в бедных лачугах.
о лощине, за мельницей, стоял крытый соломой белый домик. Молча приближались мы к нему, охваченные трепетом, почти негодуя на столь изменчивый порядок вещей в этом мире.
У калитки стоял сам Хэрд, только что вернувшийся с работы. Деревенская страда не оставляет времени на уход за больными. Даже для того, чтобы отдать последний долг умершим, отпущено всего несколько часов, а детей рожать приходится и вовсе без чужих услуг. Тут уж ничего не поделаешь, чему быть, того не миновать; а за работой человек на время забывает о своем горе.
Горе и тревога удивительно изменили сурово застывшее, точно маска, лицо Хэрда. Полный смятения и мольбы взгляд его, казалось, спрашивал: неужели это правда?
Обыкновенный фермер, такой же рабочий человек, как и все здешние жители, сильный, медлительный, но энергичный. Однако в его осанке, в движениях прорывается подчас что-то неукротимое. О той же независимости говорят массивная челюсть, большой рот с толстыми губами. По-разному проявляется эта независимость у обитателей здешних, пока еще глухих и диких болотистых низин.
Чтобы наши голоса не потревожили больную в мансарде, под самой застрехой, мы все молча отошли в глубь двора.
— Да, сэр… Нет, сэр… Да, мэм… — Вот и все, что мы услышали от Хэрда. Но его неотрывный молящий взгляд запомнился нам надолго. Казалось, он боялся нас отпустить, как будто мы обладали чудодейственной способностью помочь ему. Такую силу бедняки порою приписывают тем, у кого есть деньги. Хэрд благодарил нас за обещание прислать другого доктора, специалиста, однако взгляд его говорил, что это лишь бесполезная попытка умилостивить судьбу.
Мы крепко пожали ему руку и пошли, но через несколько мгновений услышали его шаги за спиной: он шел за нами.
— Жена хочет вас видеть. Прошу вас, поднимитесь к ней.
Сестра миссис Хэрд и какая-то старушка провели нас из гостиной к узкой и отчаянно крутой лестнице. Хотя жили мы всего в четырехстах ярдах от их домика, нам ни разу не довелось встретиться с миссис Хэрд. Так уж заведено в этих краях, где каждый занят своим делом.
Мы увидели хрупкую, по-девичьи тонкую темноволосую женщину; болезнь сделала ее почти бесплотной, только в глазах трепетала душа. Так смотрят умирающие, чувствуя, что все кончено и душе осталось лишь отлететь. Больная лежала на двуспальной кровати, застеленной чистыми простынями. Выбеленные стены, низкий потолок — мы почти касались его головами, — цветы в кувшине. Оконце с частым свинцовым переплетом было открыто настежь, но в комнате было жарко. Она показалась нам гораздо лучше жилищ многих горожан, зарабатывавших вдвое больше Хэрда, потому что таких, как Хэрды, нужда не заставит поступиться чистотой и опрятностью.
В лице умирающей можно было прочесть то же выражение, что и в лице бедняги Хэрда; безнадежное отчаяние боролось с горячей надеждой, обмануть которую казалось нам ужасным. Но, пытаясь поддержать эту надежду, мы невольно чувствовали себя предателями. Благодеяние ли это — заставлять несчастную птицу биться о прутья решетки, когда двери ее тюрьмы крепко замкнуты? Но что еще нам оставалось? Мы не могли успокаивать умирающую туманными обещаниями вечного блаженства, на которые так щедры наивные люди.
Втайне, мы, кажется, понимали, что ее молчаливое приятие судьбы, это удивительное, неотвратимо растущее спокойствие, которое предшествует смерти, гораздо ближе нам по духу, чем общепринятые религиозные верования; и вместе с тем (так бывает, когда от тебя чего-то ждут), нам казалось ужасным, что мы не можем ее утешать обычными благочестивыми заверениями.
— Не теряйте надежды, — твердили мы. — Новый доктор поможет вам, он хороший специалист и очень дельный человек.
Она отвечала только: «Да, сэр… Да, мэм…» Но в глазах была немая мольба, словно ей хотелось услышать еще что-то. И тогда одного из нас осенило.
— Пусть ваш муж не беспокоится о расходах. Мы все уладим.
Она улыбнулась. Видимо, до последней минуты душу ее омрачали опасения, что долги тяжким бременем лягут на плечи того, с кем она более десяти лет делила эту кровать.
Мы спустились по лестнице и снова вышли в поле, унося в памяти теплоту и одухотворенность ее улыбки.
Вокруг стало еще прекраснее, начиналось таинство сумерек; в такой вечер еще сильнее хочется жить. И вечное недоумение, которое преследует человека с того дня, когда он стал человеком, которое преследует, наверное, даже животных, — этот неразрешимый вопрос: почему красота и радость идут рука об руку с уродством и страданием — мучил и нас среди этих полных жизни и очарования полей.
Наверное, это в порядке вещей, даже закономерно — ведь не бывает света без тени. Это всего лишь малая частица бесконечности, не имеющей разгадки, едва заметное колебание огромного маятника!
И все же… Примириться с таким чудовищным противоречием, не протестуя, без единого вопроса! Нет, друзья, все это было неутешительно! И то, что тридцатилетняя женщина должна умереть от подточившей ее болезни, хотя можно было бы излечить ее, если бы не тяжелый труд, заботы о муже, и детях, да и о себе тоже, если бы не этот поневоле принятый ими закон жизни: либо быть здоровым, либо умереть! Конечно, с точки зрения Высшего Равенства все было вполне объяснимо, однако мы, люди, которым дарованы и жизнь, и здоровье, и деньги, всем существом своим восставали против красоты этого вечера. В эти минуты нас нисколько не утешала мысль о том, что жизнь мимолетна, как блики солнца на воде, и что ни один из тучи мотыльков, пляшущих в лучах заходящего солнца, не доживет до завтрашнего утра.
Прошло три дня. Под вечер на каменных плитах нашей веранды раздались неуверенные шаги, мы услышали, как кто-то шарит по раме отворенного окна. Мы отдернули занавеску и в ярком лунном свете увидели Хэрда; он стоял без шапки, волосы беспорядочно спадали на лоб. Он вошел и, как слепой, подошел к камину, ухватился загорелой рукой за каминную полку. Затем, опомнившись, проговорил:
— Добрый вечер, сэр… Простите, мэм.
Потом целую минуту молчал. Машинально снял с каминной полки фарфоровую безделушку и все вертел и вертел ее в руке. Слезы вдруг потекли по его застывшему лицу.
— Она умерла, — неожиданно сказал он.
Пальцы его все вертели безделушку, слезы все бежали по щекам. Спотыкаясь и пошатываясь, словно пьяный, он шагнул за дверь, в лунный свет. Потом пересек лужайку, побрел по дорожке и отворил калитку, а мы все смотрели ему вслед, пока он не скрылся в густой тени изгороди из остролиста и шаги его не затихли где-то в поле.
А ночь была так прекрасна, так необычайно, победно прекрасна с ее цветами, тишиной, деревьями, озаренными лунным светом!.. Все было спокойно, как в безмятежном сне. Но, думая о несчастном Хэрде, мы не скоро еще утешились тем, что жена его ушла в мир чудесный, как греза.
Мертвые не ведают страданий, они спят блаженным сном.
Но живые!..
ВОСПОМИНАНИЯ
В один скучный февральский день мы отправились встречать его на вокзал Ватерлоо. Я, хозяин беспокойной мамаши щенка, довольно смутно представлял себе, каким он может быть, для моей же подруги он был совершеннейшим сюрпризом. Мы ждали на перроне (поезд из Солсбери запаздывал) и с горячим, не лишенным тревоги нетерпением гадали, какую же новую нить вплетет в нашу судьбу Жизнь. Мне думается, больше всего мы боялись, что у него окажутся светлые глаза, обычные желтые глаза китайских пестрых спаньелей. Поезд опаздывал, и с каждой минутой мы все больше сочувствовали щенку; ведь это его первое путешествие, первая разлука с матерью, а черному малышу всего два месяца! Наконец поезд прибыл, и мы кинулись разыскивать его.
— Не у вас наша собака?
— Собака? Не в моем вагоне, спросите в заднем.
— Не у вас наша собака?
— Здесь. Из Солсбери. Вот он, ваш дикий зверь, сэр.
Мы увидели сквозь прутья корзинки, как тычется во все стороны длинная черная мордочка, и услышали тихий, хриплый визг. Помню, мне сразу подумалось: не слишком ли длинный у него нос? Однако этот совсем опухший от слез, нос, который так беспомощно тыкался в стены тесной корзинки, сразу же покорил сердце моей подруги. Мы вынули щенка, мягкого, дрожащего, плачущего, поставили на все четыре лапы, которые еще плохо ему повиновались, и принялись разглядывать. Вернее, разглядывала его моя подруга, робко улыбаясь и склонив набок голову, а я смотрел на нее, зная, что таким образом получу более полное представление о щенке.
Он немного покружил у наших ног, но хвостом не вилял и рук нам лизать не стал, потом поднял глаза, и моя подруга сказала:
— Да он просто ангел!
Я не был в этом уверен. Голова его напоминала молоток, глаз совсем не было видно, и туловище, лапы, морда — все вместе выглядело как-то на редкость нескладно. Уши длиннющие, как и этот бедный нос. А всмотревшись повнимательнее в черный комочек, я разглядел белую звездочку, — такая же портила грудь его мамаши.
Взяв малыша на руки, мы отнесли его в экипаж и сняли с него намордник. Карие глазки-пуговки упорно смотрели в пространство, он отказался даже понюхать печенье, которое мы прихватили, чтобы порадовать его, и тогда мы поняли, что люди еще не вошли в его жизнь, где до сих пор существовали только мать, дровяной сарай и еще четверо таких же черных, мягких, дрожащих «ангелов», пахнувших своим особым запахом, теплом и стружками. Было отрадно думать, что он подарит нам свою первую любовь, если, конечно, полюбит. А вдруг мы ему не понравимся?
Но тут что-то в нем шевельнулось, он повернул свой распухший нос к моей подруге и внимательно посмотрел на нее, а немного погодя потерся шершавым розовым языком о мой палец. И этот взгляд, это инстинктивное беспокойное облизывание сказали нам, что ему ужасно не хочется быть несчастным и ужасно хочется поверить, что незнакомые существа, которые так странно пахнут и гладят его своими лапами, заменят ему мать; и я уверен — он понимал, что существа эти гораздо больше его матери и теперь уже неотвратимо, навсегда связаны с ним. Впервые шевельнулось в нем чувство, что он принадлежит кому-то и, возможно (кто знает?), что кто-то принадлежит ему. Это был его первый шаг по пути познания — блаженное неведение не вернется никогда.
Немного не доехав до дома, мы отпустили экипаж и остаток пути прошли пешком. Щенок, конечно, не мог сразу освоиться с запахами и мостовыми этого Лондона, где ему предстояло провести большую часть жизни. Никогда не забуду, как он впервые несмело пробирался по широкой тихой улице, как то и дело вдруг садился и разглядывал собственные лапы, как поминутно терял нас из виду. Тогда же он наилучшим образом продемонстрировал нам одну из своих, весьма неудобных, хоть и прелестных особенностей: стоило его кликнуть или свистнуть, и он сразу оборачивался в противоположную сторону. Сколько раз случалось потом, что, заслышав мой свист, он вскакивал на ноги, поворачивался ко мне задом, принимался, отыскивая направление, тыкаться в стороны носом и со всех ног пускался к далекому горизонту!
Во время нашей первой прогулки нам, по счастью, повстречалась одна только тележка пивовара. Именно в это мгновение он решил справить самое серьезное в жизни дело и преспокойно уселся прямо под ногами у лошади, так что пришлось унести его с дороги. С самого нежного возраста он был преисполнен чувства собственного достоинства, и стоило немало труда оторвать его от земли — он ведь был очень длинный.
Какие же неведомые чувства, должно быть, пробудились в его маленькой безгрешной душе, когда он впервые обнюхал ковер! Впрочем, в тот день все было для него незнакомо — он переживал, наверно, не меньше впечатлений, чем я, когда, впервые отправившись в закрытую школу, читал в дороге «дедушкины сказки», а управляющий отца усердно потчевал меня наставлениями и хересом…
Первую ночь, да и несколько ночей потом он спал со мной — спине моей становилось жарко, и он тихо скулил во сне и будил меня. Всю жизнь ему во сне что-то мерещилось, он куда-то спешил, дрался с собаками, гонялся за кроликами, ловил брошенную палку. И мы всегда были в нерешительности: будить или не будить щенка, когда он начинал вздрагивать и перебирать всеми четырьмя лапами. Сны он видел такие же, как и мы, — то хорошие, то дурные, порой счастливые, порой до слез печальные.
Он перестал спать со мной, когда мы обнаружили в нем целое поселение крошечных жителей — таких шустрых я никогда не видал. После этого он спал в самых разных местах, ибо случаю было угодно распорядиться, чтобы он вел жизнь кочевую. Этим, по-моему, и объясняется его философское безразличие к окружающей обстановке, что отличало его от большинства ему подобных. Он рано постиг, что для черной собаки с длинными шелковистыми ушами, пушистым хвостом и полной достоинства мордой дом всегда там, где обитают эти совершенно по-особому пахнущие существа, которым дозволено как угодно называть его и шлепать ночной туфлей, что возбранялось всем остальным смертным. Он готов был спать где угодно — лишь бы в комнате хозяев и где-нибудь поблизости, ибо то, чего он не мог унюхать, для него не существовало. Хотелось бы мне снова услышать, как он долго-долго, шлепая губами, ловит под дверью знакомый запах и на душе у него становится легче, с годами он все острее нуждался в нашей близости! Потому что у пса этого были устойчивые представления, и однажды усвоенное оставалось для него непреложным. Взять, например, его обязанности в отношении кошек, к которым он питал неестественное пристрастие, что и привело к первой в его жизни катастрофе: он отправился было на кухню, и оттуда его, несчастного и совершенно ошеломленного, принесли в комнаты с затекшим глазом и расцарапанной мордой: уродливый шрам украшал его глаз до конца дней. Чтобы больше такого никогда не случалось, его приучили при одном слове «кошка» бросаться на врага, преследуя его неизменным «рау-рау-рау», — так рычал он только на кошек. До самой смерти он не терял надежды догнать когда-нибудь кошку, но тщетно; впрочем, мы знали: даже догони он кошку, он бы остановился и завилял хвостом. Но я отлично помню, как однажды, когда он с важным видом вернулся с подобной вылазки, моя подруга до смерти напугала одну свою приятельницу, обожавшую кошек, нежно спросив нашего героя: «Так, значит, ты, моя радость, убивал в саду котят?»
Глаза и нос его не терпели отклонений от общепринятых норм. Тут он был истинным англичанином — люди должны всегда выглядеть так, а не этак, всякая вещь — пахнуть так, как ей положено, и вообще все должно идти определенным, надлежащим путем. Он не выносил одетых в лохмотья бродяг, ползающих на четвереньках детей и почтальонов, потому что из-за толстой сумки один бок у них неестественно раздувался, а на животе висел фонарь. Безобидные создания эти он неизменно провожал неистовым лаем. Он от рождения верил в авторитеты и непреложный, раз навсегда заведенный порядок. Всякие фантазии были ему чужды, и, однако, несмотря на эти твердые принципы, в глубине его сознания таились странные причуды. Так, например, он не желал бежать за коляской или лошадью, если же его к этому принуждали, сразу возвращался домой и, обратив к небесам свой длинный нос, испускал душераздирающие пронзительные вопли. И еще он совершенно не выносил, когда мы клали себе на голову палку, туфлю, перчатку или любой другой предмет, с которым он мог бы поиграть, — это сразу приводило его в ярость. И такая-то консервативная собака жила в доме, где царила анархия! Он никогда не сетовал на наши переменчивые привычки, но, едва зачуяв сборы в дорогу, клал голову на свою левую лапу и изо всех сил прижимался к земле. Всем своим видом он, казалось, говорил: «Ну, какая нужда в этих вечных переменах? Здесь мы были все вместе, и каждый день походил на другой, и я знал, где нахожусь, теперь же только вам известно, что произойдет дальше. А я? Я даже не знаю, буду ли я с вами, когда это произойдет». Непостижимо тяжкие минуты переживает в таких случаях собака подсознательно она не желает мириться с неизбежным и, однако, уже безошибочно все предугадывает. Неосторожно оброненное слово, прорвавшееся в голосе сочувствие, украдкой завернутые в бумагу башмаки, притворенная дверь, обычно открытая, взятый из комнаты на первом этаже предмет, который всегда лежит там, малейшая мелочь — и пес уже наверняка знает, что его с собой не берут. И он борется против того, что очевидно, как боремся мы с тем, чего не выносим. Он уже оставил надежду, но делает еще последнюю попытку, протестуя единственным доступным ему способом — тяжко-претяжко вздыхает. Эти вздохи собак! Они трогают нас гораздо сильнее, чем вздохи человека: ведь собака вздыхает непроизвольно, сама того не сознавая и не стараясь никого разжалобить! При словах: «И ты с нами!» — сказанных определенным тоном, в глазах нашего пса появляется полувопросительное, полусчастливое выражение, хвост слегка вздрагивает, но он еще не совсем отрешился от сомнения и от мысли, что вся эта затея лишняя, пока не подадут экипаж. Тут он пулей вылетает из окна или из дверей, и мы обнаруживаем его на дне коляски — он строго отворачивается от кучера, который смотрит на него с восхищением. Устроившись у нас в ногах, он путешествует с философским спокойствием, хотя его и поташнивает.
Мне думается, ни одна собака не была столь равнодушна к посторонним людям — и, однако, мало кто из собак одерживал столько побед! Особенно покорял он сердца незнакомых женщин, хотя имел обыкновение весьма презрительно смотреть мимо них. Тем не менее среди женщин у него были два-три особо близких друга — одной из них посвящен этот рассказ — и еще несколько, которых он узнавал. Вообще же говоря, во всем мире для него существовали только его хозяйка и всемогущий бог.
До шести лет его каждый год отправляли в августе в Шотландию, где разрешена охота, чтоб щенок окреп и мог утолять свои врожденные инстинкты. Во время охоты он весьма деликатно приносил в зубах подстреленную дичь. Однажды волею судьбы ему пришлось пробыть там почти целый год, и мы сами отправились за ним. Мы шли по длинной дорожке к домику егеря. Стояла поздняя осень, и после первых заморозков землю покрыли великолепные красные и желтые листья; и вот мы увидели его — он привычно выискивал среди опавших листьев дичь, двигаясь впереди нашего славного егеря с видом крайне деловым и сдержанным, как и полагается заправскому охотнику. Он не слишком разжирел, весь лоснился, как вороново крыло, а уши болтались, как сумка у маленького шотландского горца. Мы молча приблизились к нему. Вдруг нос его оторвался от воображаемого следа, и он кинулся нам под ноги. Вся непривычная серьезность в мгновение ока слетела с него, словно одежда с человека — он весь был трепетное нетерпение. Одним скачком, без капли колебания или сожаления, перенесся он из своего прежнего существования в новое. Ни горестного вздоха, ни взгляда на покинутый дом, ни намека на благодарность или сожаление о том, что приходится покидать этих славных людей, которые целый год его пестовали, мазали маслом его овсяную лепешку и разрешали спать, где ему вздумается. А он просто затрусил рядом с нами, держась как можно ближе, упиваясь нашей близостью и даже не обращая внимания на запахи, пока мы не вышли за ворота.
Оттого ли, что часто невольно поступаешь наперекор самому себе (да и он еще на беду целый год жил не с нами), меня вдруг охватило неодолимое отвращение — я не мог убивать этих птиц и зверюшек, гибель которых так его радовала. Потому я никогда и не ценил в нем охотничьего пса. Первый год он был еще совсем несмышленышем, и на охоте я, чтоб чего не случилось, привязывал его к себе, и стоило мне прицелиться, как он всякий раз тащил меня в сторону. Егерь сказал мне, что у него развился отличный нюх и хорошая пасть, — он мог, не попортив, принести самого крупного зайца. Я ничуть этому не удивился, зная, какими качествами обладала мать щенка, который по характеру своему был еще гораздо устойчивее ее. Но потому, что он год от году все больше жаждал убивать куропаток и кроликов, мне они становились все дороже живыми. Только это обстоятельство и портило нашу дружбу, и мы старались этого не показывать. Эх, да что там! Утешает меня лишь мысль, что я, несомненно, загубил бы его охотничьи качества, поскольку не обладаю одним особым свойством — настойчивостью, — а без этого непременно испортишь собаку.
Но, конечно, был бы он рядом, настороженный, весь дрожащий от охотничьего азарта, с серьезной, сосредоточенной мордой, это придало бы еще большую радость тем бодрящим утренним часам, когда ожидание шелеста крыльев навстречу твоему ружью, как ничто другое, обостряет в душе охотника почти чувственную любовь к природе, будит неистовый восторг от мягкого блеска листвы, белизны березовых стволов, тончайшего сплетения ветвей в голубом небе, запаха лесных трав, смолы и вереска; когда всем существом своим ловишь малейший шорох, и этот непостижимый трепет словно передается и папоротнику у тебя под ногами и стволу дерева, к которому ты прислонился.
Исподволь создает Судьба для каждого из нас святыню, которая прячется в сокровенных глубинах наших нервов, мы не можем шутить этим да и не осмеливаемся! Но как можно осуждать другого за чувства, некогда целиком владевшие и тобой? Пусть убивают те, кто не ведал этих удивительных наслаждений природой, — для меня это уже невозможно. Если б мог, я, вероятно, познал бы их снова, но если радость жизни в образе этих крылатых и пушистых созданий постучалась хоть раз вам в душу, сама мысль о том, что, нажав стальной крючок, ты вырвешь из них, живых, эту радость, станет тебе невыносима. Называйте это эстетством, слюнтяйством, дешевой сентиментальностью, называйте как угодно, — все равно это сильнее нас!
Да, кто хоть однажды, не оставшись равнодушным, видел, как жадно ловит воздух умирающая птица, как волочит перебитую лапку бедняга кролик и скрывается в норе, где потом долго-долго будет лежать, вспоминая заросли папоротника, куда ему больше не суждено добраться, — кто видел все это, тот неизбежно должен решить несложную арифметическую задачу: предположим, что все, кто стреляет, превосходные стрелки (чего, видит бог, никогда не бывает), тогда из четырех выстрелов три попадут в цель, остальные тоже не все промажут. Таким образом, из ста будет убито семьдесят пять животных, в двадцать пять тоже стреляли, и по крайней мере, половине тоже что-то «перепало», и они могут погибнуть, хоть и не сразу.
Эти подсчеты вносили почти единственный диссонанс в нашу жизнь; по мере того, как он подрастал, мы не могли уже больше надолго расставаться, и он перестал гостить в Шотландии. Но и после я часто чувствовал, особенно когда раздавались выстрелы, что его лучшие, сокровенные инстинкты были в нем подавлены. Да что было делать? Старый глиняный голубь его ни капли не интересовал — он пахнул домашней птицей. И, однако, всегда, даже в самые светлые, беззаботные дни, он сохранял важный и серьезный вид профессионала, чье дело — разыскивать вещи по запаху и приносить их. Он утешался играми вроде крикета, в который играл с большим знанием дела — едва подающий кинет мяч, как пес мой бросался вслед и приносил мяч обратно — иногда прежде, чем мяч попадал к отбивающему. Когда его бранили, он на минутку задумывался, высунув розовый язык и жадно глядя на мяч, а затем неторопливо отбегал в сторонку, где стоял крайний нападающий. Трудно сказать, почему он занимал всегда именно эту позицию. Возможно, там легче всего было притаиться подальше от глаз подающего и отбивающего. Как игрок, который ловит мяч, он был превосходен, но ему часто казалось, что он заменяет не только крайнего нападающего, но и всех других игроков, включая вратаря. Трудился он, не жалея сил, не пропуская ни одного движения, ибо игру знал до тонкостей, и редко случалось, чтоб он приносил укатившийся мяч позже, чем через три минуты. Если же мяч терялся по-настоящему, он приступал к поискам с величайшей энергией и тщательностью, портил множество кустов и получал истинное удовлетворение, оказавшись в центре всеобщего внимания.
Больше всего он любил плавать — только не в море; оно неприятно шумело и на вкус всегда было соленое, поэтому он недолюбливал море. Я так и вижу, как он пересекает Серпентайн, на морде у него написано: «Пропади все пропадом!», — и он изо всех сил старается схватить мою палку на лету, пока она еще не коснулась воды. Будучи всего-навсего крупным спаньелем, слишком юным, чтоб совершать геройские поступки, он спас на воде лишь одну жизнь свою собственную, когда у нас на глазах выбрался из темного потока форели, едва не затянувшего его в глубокую яму меж валунов.
Жажда свободы, весенняя лихорадка — называйте это, как хотите, которая обуревает людей и собак, редко завладевала им. Но часто мы замечали, как чувство это боролось в нем с привязанностью к нам, и, наблюдая этот немой спор, я снова и снова задавался вопросом, справедливо ли, что наша цивилизация так сковала его, и могла ли любовь к хозяевам, столь старательно нами привитая, хоть в какой-то мере заменить ему радость удовлетворения его первобытных стремлений. Он был подобен человеку, по природе своей склонному к полигамии, но женатому на одной только любимой женщине.
Ничего нет удивительного в том, что Пират — самая распространенная собачья кличка. Она бы годилась и для нашей собаки, если бы не наша неотступная боязнь лишиться чего-то своего, боязнь признаться даже самим себе, что мы жаждем быть оригинальными. Кто-то однажды сказал: «Странно, что два таких противоположных качества, как мужество и лицемерие, составляют главную черту англосаксов!» Но разве лицемерие не результат упорства, которое, в свою очередь, является частью мужества? И разве в лицемерии не проявляется настойчивое стремление защитить свое доброе имя, желание любой ценой соблюсти приличия, понимание того, что нельзя упускать из рук доставшееся слишком дорогой ценой — пусть даже в жертву принесена правда? Поэтому мы, англосаксы, не отзываемся на кличку Пират и воспитываем наших собак так, что и они вряд ли знают собственную натуру.
Разумеется, история одного из его странствий, для которого трудно найти основательную причину, так и останется неизвестной. Мы жили в Лондоне, и однажды октябрьским вечером нам сказали, что он улизнул из дому и пропал. И вот потянулись полные отчаяния часы — четыре часа пытались мы разыскать эту черную иголку в черном стоге сена. То были часы искреннего страха и терзаний — как не страдать, зная, что любимое существо поглотил безвыходный лабиринт лондонских улиц. Украли? Или попал под колеса? И что хуже? Заходили в ближайший полицейский участок, сообщили в Дом Собаки, отнесли заказ в типографию напечатать пятьсот объявлений о пропаже, обошли столько улиц! И вот когда мы устраиваем небольшой перерыв, чтобы перекусить, и стараемся уверить себя, что еще не все потеряно, мы слышим лай, который означает: «Никак не могу открыть эту дверь!» Выбегаем на крыльцо, а там он, собственной персоной, стоит себе на верхней ступеньке, необычайно оживленный, и, нимало не смутясь, без всяких объяснений требует свой ужин. Вслед за ним приносят счет за пятьсот объявлений «О пропавшей собаке»! В тот вечер моя подруга уже поднялась к себе, а я еще долго сидел и смотрел на него. И мне вспомнился другой вечер, несколько лет назад, — как нам повсюду мерещился тогда наш спаньель, пропадавший одиннадцать дней. И мне стало так горько! А он? Он спал, ибо совесть его не мучила.
Да что говорить! А тот раз, когда я вернулся поздно ночью и мне сказали, что он побежал разыскивать меня… И я в тревоге снова вышел из дому, среди пустынных полей зазвучал мой призывный свист. Внезапно в темноте послышался шорох, и он с разбега подкатился мне под ноги, явившись невесть откуда, где ждал, притаившись, повторяя про себя: «Ни за что не вернусь, пока не придет он». Бранить его я не мог: было что-то очень трогательное в появлении этого стремительного, истосковавшегося черного комочка из глухой ночной тьмы. Вообще, если наступало время сна, а кого-то из нас еще не было дома, он всегда выкидывал какую-нибудь штуку, — например, перерывал в знак протеста, как одержимый, свою подстилку, пока она не превращалась бог знает во что. А все оттого, что, несмотря на свою длинную серьезную морду и шелковистые уши, в нем было что-то от пещерного медведя — чуть рассердится, как начинает рыть ямы, в которые никогда ничего не прятал. Он не был «умной» собакой, не был повинен в различных проделках. И он никогда не «выставлялся». Нам и в голову не приходило подвергать его подобному испытанию. Разве наш пес — какой-то там клоун, игрушка, безделка, дань моде или перо на шляпе, чтоб мы ежегодно таскали его для всеобщего обозрения в душный зал и ранили подобным дурачеством его преданную душу? Он даже «и разу не слыхал от нас разговоров про свою родословную, никто не сетовал на длину его носа и не. говорил, что у него «умный вид». Дать ему почувствовать, что мы считаем его своей собственностью, которая может принести нам богатство и славу, — об этом было стыдно даже помыслить. Хотелось, чтобы между нами была такая же близость, как между одной овчаркой и фермером, который на вопрос о возрасте его собаки отвечал: «Тереза, моя дочь, родилась в ноябре, а она — в августе». Овчарка эта уже прожила восемнадцать весен, когда настал роковой для нее день — душа, покинувшая тело, воспарила вверх, чтобы слиться с дымком, который окутывает почерневшие балки кухни, где она провела столько лет у ног своего хозяина. Да! Раз уж человек не способен с самого начала не думать о том, будет ли ему от собаки польза, и просто от души радоваться, что она всегда с ним рядом, он никогда не почувствует всей прелести товарищества, которое не зависит от особенностей собаки, а проистекает из какого-то странного, непостижимого родства молчаливых душ. Именно молчание собаки делает ее для нас бесконечно дорогой, с ней чувствуешь себя спокойно — от нее никогда не услышишь горьких, обидных слов. Когда она просто сидит рядом, полная любви к тебе, и знает, что и ее любят, когда взор ее выражает искреннее обожание, и она чувствует, что и ты думаешь о ней, такие минуты очень ей, по-моему, дороги. А когда ты занят другим, она проявляет трогательное, поистине стоическое терпение. Тот, о ком я сейчас вспоминаю, всегда знал, когда я слишком занят и не могу быть к нему так близок, как ему бы хотелось; и никогда он в такие часы даже не пытался как-то привлечь к себе мое внимание. Конечно, это омрачало его настроение, и тогда краснота под глазами и складки обвислых щек — вероятное свидетельство того, что среди его далеких предков были ищейки, — делались глубже и заметнее. Если б он мог заговорить, он бы сказал в такую минуту: «Я давно уже томлюсь в одиночестве, и не могу же я спать целый день, но тебе виднее, и я не смею роптать».
Он ничего не имел против, если я бывал занят с гостями. Казалось, голоса, раздававшиеся со всех сторон, были ему даже приятны, и он различал в разговоре искренние интонации. Так, например, он не выносил, когда актеры начинали читать вслух роли, — он сразу постигал, что слова их не выражали подлинных чувств и мыслей; и тут, чтобы показать свое неодобрение, он принимался бродить по комнате, потом подходил к двери и упорно смотрел на нее, пока кто-нибудь не выпускал его. Правда, раз или два, когда кто-то из актеров громко декламировал весьма драматический кусок, он до того растрогался, что подошел к чтецу и, задрав морду, жарко задышал ему в лицо. Музыка тоже волновала его, он принимался вздыхать и вопросительно заглядывать в глаза. Иногда, заслышав первые аккорды, он подходил к окну и долго стоял там, высматривая Ее. А то просто ложился на правую педаль, и мы не знали — то ли это от избытка чувств, то ли ему казалось, что так музыка будет менее слышна. А слушая один из ноктюрнов Шопена, он всегда всхлипывал. Да, темперамент у него был поистине польский — веселился он безудержно, в другое же время бывал мрачен и задумчив.
Вообще-то для собаки, совершившей на своем веку не одну дальнюю поездку, жизнь его была на редкость бедна приключениями, хотя происшествия все же случались: так, однажды он выпрыгнул из окна кареты в Кенсингтоне, а в другой раз сел на змею. По счастью, приключилось это в воскресный полдень, и змея, как и все вокруг, дремала, так что ничего не произошло и шедший позади пса доброжелатель сбросил его со змеи своим здоровенным башмаком.
Если б только побольше знать о его внутреннем мире, об отношениях с другими собаками! Для них он, по-моему, всегда оставался загадкой — мы поглощали все его помыслы, он и не думал делиться ими с другими собаками, да и вообще в выборе знакомств был весьма щепетилен, хотя к дамам питал глубочайшее, воистину рыцарское пристрастие, так что нередко они оборачивались и огрызались на него. Тем не менее любовная связь у него была постоянная — с одной красновато-коричневой особой из нашей деревни; она была не так породиста, как он, но здоровая, не первой молодости, с нежными, загадочными глазами. К сожалению, дети их не выживали и, едва родившись, покидали этот мир.
Не был он и драчуном, но, если на него нападали, терял чувство реальности и не мог уже сообразить, с какой собакой он справится, а какая ему «не по зубам». В таких случаях следовало сразу вмешаться, особенно если противником оказывался охотничий пес, потому что наш так никогда и не забыл, что однажды в дни его молодости охотничий пес напал на него с тылу. Да, врагов он не забывал и не прощал им.
Всего за месяц до того дня, о котором я не в силах говорить, он, уже совсем старый и больной, ринулся на ирландского терьера, чья наглость давно была ему известна, и обратил врага в бегство. Драка всегда необычайно бодрила его!
Христианином он отнюдь не был, но для собаки держался настоящим джентльменом. И мне думается, большинство из нас, ныне живущих на земле, покинут ее, заслужив скорее всего именно такую оценку. Потому что человек, родившийся на Западе, не способен (если говорить начистоту) стать христианином в том смысле, как понимал это Лев Толстой, и в наши дни ни у кого больше не достает логики и любви к истине, чтобы до конца постигнуть смысл христианства. А что значит быть джентльменом? Это трудно, но не невозможно. И уж у моего пса, во всяком случае, не было мелочности, подлости и жестокости, и хотя поступки его не всегда были на должной высоте, душа оставалась преисполнена скромной, бесхитростной преданности.
Оживает целый рой воспоминаний, принося с собой аромат давно минувших дней!
Сколько волшебных восторгов, сколько долгих часов напряженного ожидания, сомнений и тайных страхов не разделил он с нами, наш черный любимец, и не принес нам успокоения своим видом, запахом и прикосновением. Не счесть, сколько раз мы совершали прогулки одни, без него, и все же каждый раз оборачивались и смотрели, не трусит ли он за нами, внимательно выслеживая невидимый след. И когда эти молчаливые друзья покидают нас, тяжко нам еще и оттого, что, уходя, они уносят с собой и многие годы нашей жизни. И все же совсем не жаль для них этих лет, с такой теплотой и любовью отданных служению нам. Все, что мы можем им дать, — это позволить лечь у своих ног, прижавшись подбородком к земле; и эту малость они, несомненно, заслужили.
Знают ли они, подобно нам, что пробьет и их час? Да, порой знают, только этим и можно объяснить то, что перед самым концом он иной раз подолгу сидел совсем неподвижно, подавшись немного вперед, понурив голову, целиком уйдя в себя; потом поднимет глаза и посмотрит мне в лицо. И взгляд этот яснее всяких слов говорил: «Да, знаю, я должен уйти!» Если бессмертна душа человека, бессмертна и душа собаки. Если после смерти мы знаем, кем были раньше, знают и они. По-моему, ни один человек, жаждущий правды, не может с легкостью сказать, что ждет после смерти собак и людей — исчезнет их сознание или нет. Одно несомненно: мучиться над разрешением этой вечной загадки — ребячество. Что бы нас ни ожидало, это то, что быть должно, единственно возможное. Я знаю, он тоже понимал это; и подобно своему хозяину, был, что называется, пессимистом.
Подруга моя говорит, что, оставив нас, он однажды все же вернулся. Случилось это в последнюю ночь старого года, она грустила в одиночестве, когда он явился ей в своем прежнем обличье, такой же черный; он обошел стол со стороны окна и направился к своему обычному месту — под столом, у ее ног. Она видела его совершенно ясно; слышала, как мягко ступал он по полу подушечками лап и как стучали его когти. Она почувствовала тепло его тела, когда он задел край ее юбки. И ей подумалось, что теперь он уляжется ей на ноги, но ему что-то помешало, и он постоял, прижавшись к ней, потом направился к тому месту, где обычно сидел я и где меня в ту ночь не было. Она видела, как он постоял там, словно в раздумье; внезапный шум или смех заставил ее очнуться, и медленно, очень медленно видение исчезло. Приходил ли он, чтобы сообщить нам о чем-то или дать совет, хотел ли сказать нам что-то в эту последнюю ночь уходящего года или он охранял нас? Придет ли он еще когда-нибудь?
На могиле его нет каменной плиты. Его жизнь запечатлена в наших сердцах.
РАДОСТЬ
Когда господь так щедро одаряет земные просторы, к чему слова, жалкая шелуха чувств? Благодать эту не изобразишь и кистью на полотне. Как передать живую, победную красоту природы? Один маленький лютик из двадцати миллионов, распустившихся на лугу, говорит человеческому сердцу больше, чем все сухие символы, в которых никак не воплотишь душу мая с его белоснежной пеной цветения, наплывающей из-за всех плетней, с хором птиц и пчел, с буйно заливающими луга волнами ветрениц и белогрудыми ласточками, которые без устали носятся в воздухе. На наших лугах нет жаворонков, но и без них такой радостью звенит все: песни птиц, шум листьев, поляны, словно освещенные деревьями в белом цвету, дубы, все еще золотисто-коричневые, и ясени, молитвенно устремленные ввысь. Да, здесь не слышно жаворонков, и славят день только дрозды, серые и черные, да кукушки где-то высоко над холмами.
Время бежит быстро — и вот уже с яблонь облетел почти весь цвет и в лугах вдоль веселых ручьев раскрыли свои чашечки стройные сабельники. Здесь, когда вблизи нет людей, Орфей, сидя на камне, звуками своей свирели приманивает диких пони. И, если притаишься на соседнем холме, часто удается подсмотреть, как Пан пляшет со своими нимфами в буковой роще, где всегда царит сумрак.
Разве можно поверить, что впереди нас ждет старость, когда вокруг кипит такой праздник красок, стремительной жизни и песен, когда мы можем созерцать эту невообразимую красоту? По лугу бродят кроткоглазые овцы, на плетне сушатся мешки для шерсти, а под ними копошатся стаи крохотных утят, таких доверчивых, что не одного уже утащили вороны.
Когда смотришь на голубые цветы, кажется, что все они заворожены мечтой. Ведь голубой цвет — цвет юности. Да и все вокруг так юно, слишком юно, чтобы трудиться. Занят только скворец — он то и дело пролетает у меня над головой, нося пищу своей семейке, и, наверное, за день совершает не меньше двухсот таких рейсов. Я думаю, что птенцы основательно разжиреют за лето.
Когда небо дышит ясной радостью и цветы блистают красками, не верится, что этот сияющий день скроют темные крылья ночи, уснет кукушка, устав восхвалять себя, и бешеная пляска мошкары в воздухе возвестит наступление вечера, задрожит трава под осыпавшей ее росой, утихнет ветер, и замрут птичьи голоса…
Не верится, но так оно есть. Уходит день с его волшебством, и песнями, и мельканием крыльев в поднебесье. Медленно кончается дивная мистерия.
Вот и ночь. Однако Радость не ушла, она только сменила свой дневной наряд на бархатную мантию мрака и жемчужный веер лунного света. Все уснуло, не спит только одна-единственная звездочка на небе да ночные фиалки на земле. Не знаю, почему они бодрствуют, когда все цветы спят. Наклонитесь к ним в сумерки и вы увидите, что они глядят на вас с милым лукавством. Должно быть, тут кроется какой-то заговор.
Все голоса дня смолкли. У ночи остался только один голос — журчание ручья во тьме.
К приходу ночи все готовится, как к священнодействию. Лютики все до единого свернули лепестки, от тисов уже протянулись длинные тени. В эту пору года ночных бабочек еще не видно, слишком рано появляться и козодоям, молчат еще совы. И кто решится сказать, что в этой тишине, в неверном, прозрачном сумраке и воздухе, благоухающем только свежестью, меньше того невыразимого очарования, перед которым бессильны слова?
Вслушайся, притаив дыхание, и с удивлением поймешь, что в этой ночной тишине, казалось бы, такой глубокой, продолжается жизнь. Вот в вереске заблеял ягненок; в дальнем поле мелодично щебечет какая-то птичка; все еще щиплют траву коровы. Сквозь ночную свежесть проникает вдруг благоухание это, думается мне, шиповник и жимолость, никакой другой аромат не вплетается так неуловимо в воздух. И даже в темноте розы не утратили своих красок, они еще прекраснее, чем днем. Говорят, окраска — это только воздействие света на различные волокна. Но ведь можно себе вообразить, что краски — та же мелодия, благодарственная песнь, которую поет каждый цветок солнцу и луне, звездам и огню. Эти розы лунного цвета, они поют очень тихо.
Я вдруг замечаю, что на небе зажглось уже много звезд, кроме той красноватой, что еще недавно одна озирала землю. А вот летит бумажный змей, сегодня он забрался очень высоко.
Боже, как тиха и безмятежна эта ночь! Как трудно себе представить, что она снова оживет, станет днем! Ведь сейчас на мир наконец сошел долгий и глубокий сон, и жемчужный свет луны, кажется, никогда не померкнет, дивная тишина не сменится шумом, а лиловатый мрак этой волшебной ночи не станет никогда светлым, как золото…
Однако невозможное свершается. Мистерия ночи кончилась, близится утро. В бледном свете зари я жду первых звуков. Небо еще — как серая бумага, на которой кое-где пробегают тени, это летят дикие гуси. Деревья похожи на призраки. Но вот он, первый голос какой-то птицы, ошеломленной возвращением дня! На ее призыв здесь и там с деревьев летят ответные голоса, сливаясь в чудесный беспечно-радостный птичий хор. А небо уже шафранного цвета. И снова наступает тишина — почему молчат птицы после первого хорала? Думают о своих грехах и предстоящих заботах? Или снова засыпают? Деревья быстро утрачивают призрачный вид, и уже слышен голос кукушки. Цветы опять пылают яркими красками, но еще пахнут росой.
Чары ночи рассеялись, ибо скворец уже принялся за дело, и солнце кропит золотом его темные, неугомонные крылья. День в разгаре. Но лик его немного поражает — он не похож на вчерашний! Не странно ли это: ни один день не похож на прошедший, ни ночь — на ту, что грядет! Так зачем же бояться смерти? Ведь и смерть — только ночь, наступающая после дня. О чем тревожиться, если у завтрашнего дня будет иной лик, иная душа?
Солнце озарило поляну, поросшую лютиками, ветерок налетел на липу. Да и меня коснулось что-то поднимаясь ввысь над моей головой.
Это Радость летит, раскинув крылья!
1910–1912 гг.
«МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» И ДРУГИЕ САТИРЫ
В ЗЕНИТЕ МОГУЩЕСТВА
И сказал ангел, ведущий запись деяний людских:
— Человек! Ты существуешь уже миллионы лет, и теперь, когда ты научился летать и голос твой без помощи проводов слышен с одного конца земли на другом, ты можешь смело сказать, что нет ничего, что было бы тебе не по силам. Ты добился таких триумфов архитектуры, музыки, литературы, живописи и науки, каких тебе, быть может, уже не превзойти. Ты подверг испытанию все ресурсы своей планеты и все движения своей души. Ты создал цивилизацию, в этом нет сомнений. Но что она собой представляет?
Ты ежегодно убиваешь и пожираешь больше биллионов других живых существ, чем когда-либо раньше на протяжении всей истории человечества. Это ты делаешь ради своего здоровья!
Ты украшаешь себя мехами и перьями, как это делали твои отдаленнейшие предки, и варварски истребляешь мириады живых существ, чей естественный покров вводит тебя в искушение. Это ты делаешь во имя красоты!
Ты облекаешься в одежды, сделанные руками других людей, чей труд настолько мизерно оплачивается, что они лишены всего, представляющего для тебя ценность в жизни. Это ты делаешь ради процветания коммерции!
Ты из года в год производишь орудия уничтожения, смертоноснее и страшнее тех, какие знали мрачнейшие века твоего существования. Это ты делаешь во имя мира!
Ты пускаешь в ход эти орудия уничтожения и с гораздо большей жестокостью уничтожаешь гораздо больше людей, чем когда-либо раньше. Это ты делаешь во имя своей чести!
Ты с каждым годом накапливаешь все более громадные состояния и создаешь объединения капитала, более могущественные, чем когда-либо знал мир, эксплуатируя труд других людей, таких обездоленных и несчастных, какими только могут быть люди, в городах, громаднее, мрачнее и беспокойнее всех когда-либо существовавших на земле. Это ты делаешь во имя прогресса!
Ты с неслыханной доселе быстротой и совершенством создаешь и распространяешь прессу, все более и более умело приспособленную к самым дурным вкусам общества. Это ты делаешь во имя просвещения!
Ты придумываешь зрелища — картинные галереи, представления, состязания, — которые давали бы полнейший отдых от умственного и физического напряжения. Это ты делаешь во имя культуры!
Ты окружаешь себя комфортом — в твоих домах, отелях, поездах — таким, о каком твои предки не мечтали даже в минуты наивысшего экстаза. Это ты делаешь, чтобы лучше сохранить себя!
Ты ведешь научные исследования и до тонкости изучил происхождение и способы лечения почти всех недугов. Это ты делаешь для успокоения своих нервов!
Ты так критикуешь все под солнцем, что больше уже не веришь ни во что. Это ты делаешь, чтобы обрести внутреннее удовлетворение!
Всем этим ты чрезвычайно гордишься. Человек! Ты в зените могущества!
И ответил Человек:
— О ангел, ведущий запись деяний людских! Ты судишь нас теперь, когда мы в зените могущества. Выслушай же наш ответ.
Когда на еще не отвердевшей поверхности нашей планеты впервые появилась протоплазма, ты, неисповедимый, наблюдал, как эта студенистая масса оскверняла дыханием жизни величие первозданного хаоса, как она развивалась, становилась рыбой, птицей, зверем, человеком. Ютясь в пещерах и свайных постройках, наши предки боролись за жизнь. По снежным пустыням и непроходимым лесам бродили они, бороздили неведомые моря и не знали надежд, знали лишь страх смерти, подстерегавшей их на каждом шагу. Ты же все время, сидя там, наверху, только хладнокровно наблюдал это.
В течение тысячелетий, в муках, пройдя через всяческое зло, преодолев все противодействия природы, наши предки обрели сознание своей силы. Ты же, оттуда, сверху, с неодобрением взирал на них!
Пройдя через невообразимые тяготы, узнав печаль чернее ночи и горечь горше воды морской, наши предки научились любить ближнего своего. Ты же там наверху, вынул перо из своего крыла!
Ощупью, еще не совсем прозрев, преследуемые и терзаемые звериными инстинктами, оступаясь и ошибаясь, наши предки положили начало человеческой справедливости. Ты же там, наверху, погрузил свое перо в багряное облако!
Отчаянно борясь с неумолимой смертью, страшась простиравшейся перед ними извечной пучины неведомого, наши предки из непролазных трясин, из непроходимых джунглей страхов и суеверий пробились к убежищу веры, веры в свое собственное сердце. Ты же там, наверху, только записывал их прегрешения!
А мы, их потомки, теперь в зените могущества — с той силой и верой, что мы унаследовали, не зная покоя и мечтая о совершенстве, рискуя и неистовствуя в лихорадке открытий, то апатичные, то полные буйной энергии, но всегда стремясь вперед, — делаем все, что под силу нам, бедным смертным. Ты же оттуда, сверху, читаешь нам перечень наших ошибок!
Ангел! Все человеческое нам дороже суда небесного!
ГОЛОС СВЫШЕ..!
Хозяин варьете «Парадиз» уверенно заявил, что «она ошеломит всех». Этому крупному, цветущему человеку, по глазам которого видно было, что он одарен воображением, все верили, когда он отзывался так о своих новых «звездах». И на этот раз чувствовалось, что он опять сделал отличное приобретение.
Днем, во время генеральной репетиции новой «звезды», все заметили, что он наблюдает за ней, сидя в первом ряду партера и спокойно покуривая сигару. Когда она закончила свое выступление и удалилась, дирижер-итальянец, складывая партитуру, почувствовал, как что-то защекотало ему ухо.
— Бенсони, это отличный товар!
Повернув бесцветное, помятое лицо с торчащими нафабренными усами, синьор Бенсони ответил:
— Да, удачный номер, босс!
— Так вот, сегодня вечером, когда они заревут от восторга, пришлите за мной в кабинет.
— Непременно.
Наступил вечер. Зал под высоким куполом с позолоченными звездами был переполнен. Здесь собрались солидные любители развлечений, занявшие все передние ряды, и обычная толпа тех, кто привык сюда «заглядывать»; постоянные посетители, лысые или с шевелюрами, во фраках и смокингах, пришедшие прямо из своих контор или со скачек; декольтированные дамы, которые рассаживались в креслах; дамы, которые никогда не садились, а стояли, глядя из-под своих огромных шляп куда-то в пространство, или расхаживали по залу и вдруг останавливались, тихонько напевая себе под нос; скучающие молодые люди в высоких воротничках, поджимая губы, беззастенчиво или украдкой рассматривали окружающих; элегантные иностранцы с эспаньолками, без устали дефилировали по залу. И, как всегда, у дверей стояли рослые служители в длинных, застегнутых на все пуговицы сюртуках.
Уже протанцевали перуанские медвежата. Труппа Вольпо в красных трико еще раз проделала без сучка и задоринки все свои акробатические трюки. Квартет Миллигатауни показал «несравненную игру на черепках». «Человек-осел» прокричал ослом. Синьор Бенсони довел до конца попурри и тем дал возможность очень многим размять ноги. Арсенико с поразительной безнаказанностью проглотил множество предметов, клоуны передрались и помирились. Пела очаровательная вокалистка фрейлейн Тици, а потом вдруг, сняв парик и корсаж, превратилась в мужчину. Никто не скучал, и все же в течение всего вечера в зале чувствовалось ожидание еще более интересного номера — выступления новой «звезды».
Наконец она вышла, блистая белизной плеч и рук на фоне черного платья. Красавица, прибывшая прямо из Бразилии. Высокая, с черными, как вороново крыло, волосами и прелестным лицом цвета слоновой кости. Она спокойно улыбалась одними глазами и, казалось, приглашала всех заглянуть в таинственные родники танца. Протянув руки, более прекрасные и округленные, чем у других женщин, она сказала: «Леди и джентльмены, я хочу показать вам новинку: «Бразильское пугало, или как ползает гусеница».
В свете прожектора, направленного на нее со средней галерки, она отступила в угол сцены. Движение в зале прекратилось. Глаза всех обратились на нее. Растянув рот чуть не до ушей, широко расставив ноги и судорожно подергивая животом, она двигалась по сцене боком к затемненному залу. Ее голова была повернута так резко, что, казалось, вот-вот переломится шея. Лицо исказилось так, что сразу стало из красивого неописуемо безобразным. Она достигла кулис и двинулась обратно. Кто-то выкрикнул: «Epatant» [4]. Ее руки, эти прекрасные белые руки, теперь казались желтыми и костлявыми. Вихляния ее стройных бедер стали неестественными. Все движения ее тела создавали законченную гармонию уродства. Дважды она так великолепно прошла по сцене. Зал затаил дыхание. Но вот музыка умолкла, лучи прожектора погасли, и она опять стояла перед зрителями, стройная и прекрасная. Глаза ее улыбались. Тишину сменил рев восторга, неумолкаемые взрывы аплодисментов, крики «браво» и возгласы одобрения.
«Превосходно!», «Оригинальный номер… послушайте… какой эксцентризм!», «Какой шик!», «Wunderschon!», [5] «Великолепно!».
И опять подняв руки, чтобы восстановить тишину, она сказала совсем просто:
— Хорошо! Теперь, леди и джентльмены, я спою вам новую патагонскую песенку «Вопль индианки». Но сначала исполню арию Орфея «Потерял я Эвридику» своим обычным голосом!.. чтобы вы могли сравнить.
И она низким приятным голосом запела: «Потерял я Эвридику, Эвридики нет со мной». Во всем зале слышались легкий шум и шарканье — все ждали следующего номера, и как только с ее широко раскрытых губ сорвались первые звуки ужасной какофонии, сразу наступила тишина. Это было похоже на пронзительные крики попугаев и мяуканье дерущихся в джунглях тигровых кошек; эти звуки приковывали к себе внимание даже тех, кто ничего не смыслил в музыке.
Не успела певица кончить первый куплет, как ее голос потонул в громе неудержимых аплодисментов; не кланяясь, она спокойно стояла и теперь улыбалась уже не только глазами, но и своим прелестным ртом. Подняв тонкий указательный палец, она начала второй куплет. С ее губ, еще более обезображенных, летели теперь еще более резкие и нестройные звуки. И как бы в тон им прожекторы светили все ярче, так что вся ее фигура казалась окутанной пламенем. И вдруг, прежде чем снова поднялась буря восторга в зале, с галерки раздался голос:
— Женщина! Ты кощунствуешь! Ты оскверняешь красоту!
Секунду в зале стояла мертвая тишина, а потом многоголосое, яростное «замолчи» обрушилось на кричавшего, и снова глаза всех обратились к сцене.
Там стояла она, прекрасное создание, стояла неподвижно, устремив глаза вверх. И снова послышался голос с галерки:
— Слепцы воздают тебе хвалу. Это понятно. Но ты сознательно извращаешь природу… Изыди!
Прекрасная женщина откинула назад голову, как от удара в челюсть, и с протянутыми руками убежала со сцены. Тогда под шум и крики тысячи голосов: «Вон! Негодяй!», «Выгнать его!», «Где распорядитель?», «Бис, бис!» — из-за кулис появился распорядитель. Он остановился посредине сцены, подняв голову, и смотрел туда, откуда лился яркий свет. Мгновенно установилась тишина.
— Эй! Там, наверху! Поймали?
С галерки донесся слабый голос:
— Здесь никого нет, сэр!
— Что? Эй, Лаймс! Кто кричал рядом с вами?
Другой голос так же глухо донесся с галерки:
— Здесь никто не шумел, сэр.
— Выключите прожекторы.
Снова сверху послышался дрожащий голос:
— Я их уже раньше выключил, сэр!
— Что?
— Да, да. Я все выключил…
— А это? — Указав на сверкающий луч, все еще падавший на сцену, от которой, казалось, поднимался дымок, распорядитель ушел за кулисы.
По залу пронесся шелест и тихое жужжание, как будто сотни людей шептались о чем-то, и вскоре из этого неясного шума возник тревожный возглас: «Пожар!»
Из каждого ряда зрители поодиночке уже прокрадывались к выходу. Женщины в больших шляпах собирались кучками и двигались к дверям. Через пять минут «Парадиз» опустел, остались только служащие театра. Но нигде не было и признаков пожара.
Распорядитель уже стоял внизу, в оркестре, чтобы лучше видеть, откуда струится таинственный поток света.
— Осветитель! — крикнул он.
— Да, сэр!
— Выключите весь свет.
— Слушаю, сэр.
Раздался характерный щелчок, и свет в зале погас. Все погрузилось во мрак, но золотая дорожка, падавшая сверху, все еще прорезала темноту. Некоторое время распорядитель молча смотрел на это таинственное свечение. Потом послышался его испуганный голос:
— Пошлите за хозяином… да поживей! Где Лаймс?
Сбоку появился смуглый быстроглазый человечек с привычной маской простака и нерешительно ответил:
— Я здесь, сэр.
— Что вы на это скажете?!
Утирая лоб, Лаймс внимательно посмотрел на сверкающий золотой луч, уже побледневший и серебрившийся по краям.
— Я выключил все прожекторы, а этот непонятный луч продолжает светить. Не знаю, что и делать. Ему неоткуда взяться. Можете пойти туда и сами убедиться сэр! — Он провел рукой по губам и добавил тихо: — А может, и этот луч и голос… я бы не удивился, если бы они… Это что-то сверхъестественное! Может, это голос свыше?..
Распорядитель резко перебил его:
— Не будьте ослом, Лаймс!
И вдруг они увидели хозяина, который прошел мимо будки суфлера, недалеко от того места, куда падал луч.
— Почему в театре темно? Куда девались зрители? Что случилось?
Распорядитель ответил:
— Мы как раз стараемся это выяснить, сэр. Какой-то сумасшедший обнаружить его не удалось — вызвал беспорядок. Он крикнул с галерки, что новый номер «извращает природу». А теперь вот чудеса с этим лучом. Все выключено, а он, видите, светит.
— Почему все разошлись?
Распорядитель указал на сцену:
— Подумали, что это от пожара… Беда с этим лучом! Мы не можем выяснить, откуда он берется.
Из-за спины распорядителя вдруг высунулось испуганное лицо сеньора Бензони.
— Босс, — сказал он, заикаясь, — это очень странно… потрясающе… ничего подобного я не видел… Лаймс думает, что…
— Да? — Хозяин повернулся и очень быстро спросил: — Ну, так что же думает Лаймс?
— Он думает… гмм… что голос был не с галерки. Что это был голос… свыше…
В глазах хозяина засверкал огонек.
— Вот как? — прошипел он. — Вот как?
— Да, что это был голос… Ох!
Луч света внезапно исчез. Наступила полная темнота.
Кто-то крикнул:
— Включите свет!
И когда в зале вспыхнул свет, все видели, что «босс» бросился к тому месту на сцене, куда раньше падал луч.
— Ну и чудеса! Эй!.. Там, наверху!.. Алло!
Но ни звук, ни луч не ответили на этот настойчивый призыв.
Босс завертелся на месте:
— Ну и осветитель! Проклятый осел! Держу пари, что это вы испортили мне все дело и разогнали клиентов, включив такой яркий свет! Голос свыше, как бы не так! Но ведь какой замечательный номер! Я бы дал за него тысячу в неделю! Какой номер! Эй, там, наверху! Алло!
Но из-под купола с позолоченными звездами ответа не было.
ЖИВ ИЛИ МЕРТВ?
Весной 1950 года один адвокат и его приятель беседовали за бутылкой вина, заедая его грецкими орехами. Адвокат сказал:
— На днях я просматривал бумаги отца и наткнулся на газетную вырезку декабря 19.. года. Довольно любопытный документ! Хотите прочту?
— Пожалуйста, — ответил его приятель. И адвокат начал читать:
— «Вчера в лондонском полицейском суде бедно одетый, но приличный на вид мужчина вызвал некоторую сенсацию, обратившись к судье за советом. Мы дословно приводим их разговор.
— Ваша милость, разрешите задать вам один вопрос?
— Пожалуйста, если это вопрос, на который я могу ответить.
— Скажите, я жив?
— Убирайтесь отсюда!
— Ваша милость, я говорю совершенно серьезно. Для меня это вопрос первостепенной важности, мне необходимо узнать правду. Видите ли, я канатчик…
— А вы в своем уме?
— Ваша милость, я совершенно здоров.
— Так зачем же вы явились сюда и задаете мне такие вопросы?
— Ваша милость, я безработный.
— Какое это имеет отношение к суду!
— Сейчас объясню, ваша милость. Я потерял работу не по своей вине. Это случилось два месяца назад. Вы, наверное, знаете, что сейчас сотни тысяч таких, как я.
— Ну и что же?
— Ваша милость, я не член профсоюза. Как вам известно, у людей моей профессии нет союза.
— Так, так… продолжайте.
— Ваша милость, три недели назад истощились мои сбережения. Я делал все возможное, чтобы найти работу, но безуспешно.
— Вы обращались в благотворительный комитет своего округа?
— Да, ваша милость, но к ним не протолкнешься.
— А в приходском комитете были?
— Да, ваша милость. Я побывал и у приходского священника.
— Неужели у вас нет родственников или друзей, которые могли бы помочь вам?
— Половина из них, ваша милость, в таком же положении, а из остальных я уже все выкачал…
— Что такое?
— Я говорю, выкачал… взял у них все, что они могли мне уделить.
— У вас есть жена и дети?
— Нет, ваша милость, и это даже хуже; поэтому меня везде принимают в последнюю очередь.
— Понятно… но ведь существует закон о бедных. И вы имеете право на…
— Ваша милость, я был в двух таких домах… Но вчера вечером десяткам таких, как я, было отказано: там нет больше мест. Ваша милость, я голодаю. Есть у меня право на работу?
— Только в соответствии с законом о бедных.
— Я уже сказал вам, сэр, что я не мог попасть туда вчера вечером. Нельзя ли мне где-нибудь еще потребовать работы?
— Боюсь, что негде.
— Ваша милость, я страшно голодаю. Может быть, вы разрешите мне просить милостыню?
— Нет, нет… Этого я не могу. Вы знаете, что это запрещено.
— Ну, тогда… красть мне можно, ваша милость?
— Перестаньте! Вы напрасно отнимаете у суда время.
— Но, ваша милость, для меня это очень важно. Поверьте, я умираю с голоду. Вы разрешите мне продать пиджак или штаны? — Проситель стал расстегивать пиджак, и под ним оказалось голое тело. — Больше продать мне нечего.
— Вы не имеете права появляться на улице в неприличном виде. Я не могу допустить нарушения закона.
— Хорошо, сэр, но разрешите мне хотя бы спать на улице! Иначе меня арестуют за бродяжничество.
— Я заявляю вам в последний раз, что не в моей власти разрешить вам подобные вещи.
— Но что же мне тогда делать, сэр? Я говорю вам чистую правду. Я не хочу нарушать закона. Может быть, вы посоветуете мне, как жить дальше, без еды?
— К сожалению…
— Тогда я вас спрашиваю, сэр: являюсь ли я перед лицом закона живым человеком?
— Это такой вопрос, на который я не могу вам ответить, мой друг. Если вы нарушите закон, с вами поступят, как с живым, но я верю, что вы этого не сделаете. Мне очень жаль вас. Можете получить в кассе суда шиллинг… Следующий!»
Адвокат замолчал.
— Да, — сказал его приятель, — это в самом деле очень интересно. Своеобразная была жизнь в те времена!
ПОЧЕМУ БЫ НЕТ?
Как-то раз по дороге от Эшфорда до Чаринг-Кросса я разговорился с одним господином в соломенной шляпе. После короткого вступления он спросил меня, чем я занимаюсь. Я удовлетворил его любопытство и, желая, в свою очередь, проявить дружеский интерес к собеседнику, задал тот же вопрос ему. На миг он замялся, потом ответил:
— Я агент по страхованию жен.
— По страхованию чего?
— По страхованию жен. — Он протянул мне свою визитную карточку и спросил: — Разве вы не слыхали о моей конторе?
Я ответил, что не имел удовольствия о ней слышать.
— Да что вы! — воскликнул он. — Удивительно! А мне казалось, что все уже обо мне знают.
— Простите, если не ошибаюсь, вы сказали: агент по страхованию жен?
— Именно так, — ответил он. — Разрешите, я объясню. Я, видите ли, был много лет стряпчим, и эта мысль осенила меня однажды во время исполнения моих профессиональных обязанностей. И поверьте, мне не пришлось долго думать, чтобы понять, какие тут открываются широкие возможности.
Несколько минут он молча курил, потом заговорил опять:
— Вначале меня беспокоил вопрос, как дать о себе знать широкой публике; ведь вопрос о женах — больное место, и я очень боялся его затронуть. Дело тонкое, сами понимаете. А вдруг твои намерения истолкуют превратно и газеты начнут тебя клевать… Да вы сами знаете, как это бывает! И, представьте себе, меня вывела из этого затруднения моя собственная жена! «Не надо, говорит, — никаких объявлений, лучше ты обойди потихоньку всех своих женатых знакомых. Это дело правильное, оно само пробьет себе дорогу!»
Мой новый знакомый помолчал, вынул сигару изо рта и улыбнулся.
— И верите ли, сэр, она оказалась права. Я в первый же год оформил пятьсот полисов. А дальше дела мои быстро пошли в гору: в прошлом году я застраховал четыре тысячи человек, а в нынешнем эта цифра обещает быть вдвое больше.
— Простите, — перебил я его. — Я все еще не понимаю, от чего вы страхуете.
Он посмотрел на меня так, словно хотел сказать: «Ну и балда же ты, братец!», — но ответил весьма вежливо:
— Сейчас я к этому перейду. Мысль о создании такой страховки возникла у меня однажды в суде. Я вел порученный мне бракоразводный процесс. Клиент мой был милейший человек, мой добрый знакомый, наилучший образец англичанина. Бедняга сказал мне — собственно говоря, это слышишь от многих: «Я не хочу подавать иск об убытках. Может быть, так нужно, но мне это почему-то кажется не совсем приличным». Я объяснил ему, что по закону так полагается, но добавил:
— Мне весьма понятны ваши чувства. Это действительно как-то неловко. Кстати, вы вовсе не обязаны это делать, если не хотите!
— Да нет уж, — сказал он, — видимо, придется, раз это принято.
— Ну вот, слушал я в тот день в суде его свидетельские показания, и вдруг меня осенила мысль: почему должен честный человек переживать мучительные колебания, прежде чем требовать денежного возмещения от соблазнителя жены, и потом долго еще ощущать неприятный осадок? Ведь, что ни говори, это в самом деле неловко, если у человека есть чувство собственного достоинства или чувство юмора, — право, не знаю, как лучше это назвать. Мне вот, например, вспоминается один из моих клиентов, светский человек, — вы, вероятно, помните его историю из газет. Он четыре дня подряд приходил ко мне — то решит, то передумает, и отважился он на возбуждение иска только тогда, когда ему случайно стало известно, что его жена действительно любит его соперника… Ну и вот, сидя в зале суда, я подумал так: «Почему бы не учредить страховку от подобных несчастных случаев? С точки зрения закона какая разница между несчастным случаем такого рода и любым другим? В данном случае тоже причинен ущерб чужой собственности, которая известным образом оценена и за которую уплачено наличными, не говоря уже об оскорбленных чувствах и нравственном ущербе. Что же, это меньше, чем потеря пальца на ноге из-за неисправности машины на фабрике? И сколько я ни размышлял, я не мог обнаружить никакой разницы, напротив — все больше убеждался, что мне пришла гениальная идея. И главное — все абсолютно просто! Надо было только узнать, какой процент составляют разводы по отношению к бракам. К счастью, я немного знаком со страховой статистикой и быстро и точно установил шкалу страховых премий. Принцип тот же, что и при страховании жизни, а в целом расход небольшой. Ну вот это я и считаю гениальной идеей, причем учтите, моей собственной! Если за двадцать пять лет застрахованный не развелся с женой., он получает солидную премию. Этим я опровергаю могущие возникнуть любые обвинения меня в том, что я поощряю безнравственность. Ведь вот как обстоит дело: закон позволяет вам извлечь материальную пользу из безнравственного поведения вашей супруги, и тот же принцип положен мною в основу моей страховки. Но зато закон не предоставляет мужу никакой материальной выгоды, если он помирится с женой, моя же страховка это предусматривает, если учесть премию, которая, по сути дела, является премией за мирную семейную жизнь. Правда, никто еще пока не получил у меня премии ведь сама-то страховка учреждена всего лишь три года назад! Но принцип будет твердо соблюден. Иначе говоря, вместо того, чтобы извлечь предусмотренную законом выгоду только от неверности вашей жены, вы теперь можете использовать и ее верность. Я особо подчеркиваю моральный фактор. Пожалуй, вы спросите, как я могу себе позволить выплату таких премий. О, у меня все точно рассчитано. Таким образом, моя система не только выше государственной в моральном отношении, она и в деловом отношении первоклассная. — Он сделал паузу, но так как я молчал, то снова заговорил он:
— Мне очень хотелось учредить еще один вид страховки — от нарушения брачного обещания. Но это еще не удалось осуществить. Пока брак не заключен, могут возникнуть всякие неожиданности, и, кроме того, имеется большая опасность тайного сговора для получения компенсации нечестным путем. И все же моя система будет иметь успех. Я не отчаиваюсь, ибо хорошо знаю, что иск о нарушении обещания жениться связан с тем же вопросом собственного достоинства, и женщины стесняются возбудить такой иск. Однако, как я уже сказал, риск от malafides [6] пока еще слишком велик. Конечно, вы можете возразить, что не меньше и риск при моем страховании жен, но здесь меня охраняет наше гражданское законодательство. — Он прижал палец к носу и заговорил полушепотом:
— Понимаете, если нет постановления суда о расторжении брака, я не выплачу страховку; я требую свидетельства суда, что жена тайно вела распутный образ жизни и что они с мужем жили, как кошка с собакой. Если это не доказано, суд не расторгнет брак; я же, не имея на руках решения суда, и не подумаю платить страховку…
Дальше он продолжал бодрым и громким голосом:
— Я горжусь тем, что строго придерживаюсь буквы закона и верен его духу. Моя система создана для того, чтобы оберегать деликатные чувства моих клиентов. Застраховавшись у меня, вы можете обратиться в суд, но не требовать возмещения убытков и обрести свободу, ничем не запятнав своей чести. У вас не будет того унизительного сознания, что вы выгадали на бесчестии вашей жены и что все это знают. А потом вы идете ко мне, и я исцеляю вашу рану. Подумайте, и вы поймете, что я предлагаю людям верное дело. Вы выходите из зала суда с чистыми руками. Возбудив иск, вы чувствовали бы, что над вами все смеются: мол, нажил деньги на неверности жены. А теперь — ни одна душа ничего не узнает, кроме меня. Само собой разумеется, я гарантирую полное сохранение тайны.
Тут мы подъехали к остановке, и он поднялся.
— Мне выходить, сэр, — сказал он, приподнимая шляпу. — Запомните мой девиз: что допускает закон, то допустимо и для меня. У вас есть моя визитная карточка. В случае чего я всегда к вашим услугам.
ХАТОР (Воспоминания)
Хатор, богиня древних египтян! Божественная корова [7] с кроткими, блестящими глазами, с горделивой и мягкой поступью — вечно желанная, неизменно плодовитая, ты словно окутана тем нежным лучезарным сиянием, которым светятся все великие творения искусства, вызывая у каждого, кто глядит на тебя, сладостный трепет, необоримое желание склониться перед тобой, благоговейно простирая к тебе руки. Далекая грубого земного вожделения, божественная корова с рогами, изогнутыми как полумесяцы, благая египетская Хатор!..
Когда лагерь у Сеннуреса, в Фаюмском оазисе, окутали сумерки и мы кончили обед, Махмуд Ибрагим позвал танцовщицу. До чего же она была красива, эта танцовщица, явившаяся в вечернем сумраке, — быстрая, как тигрица, легкая, как светлячок, нежная, как цветок гибискуса! Кожа у нее была лишь чуть смуглее, чем у нас, глаза — агатовые, с зеленым отливом, зубы — белые как кипень зубы — и в правой ноздре золотое кольцо полумесяцем; на чудесном, будто точеном, подбородке — синяя татуировка. Войдя, она поклонилась нам с изяществом светской дамы.
В шатре, который считался священным, ибо на нем были вышиты изречения из корана, а внутри обитал Халлила (праотец всех богов), кроме нас, сидел наш переводчик Махмуд Ибрагим, одетый в свое лучшее платье, Садик, в белом костюме официанта, и десяток людей в черных плащах — погонщик верблюдов по прозвищу Маргаритка со странным детским голосом, в чалме, закрывшей уши; пройдоха Мабрук с богатым прошлым и не менее богатым будущим; смуглый добродушный Клоун; святой Ахмет, которому не мешало бы быть поскромнее; погонщик араб, совсем еще желторотый, и белый погонщик-эти ждали представления, разинув рты; Карим со своей неизменной улыбкой; три темнокожих погонщика, которые торжественно и усердно дудели в дудки, — всего нас было пятнадцать человек, мы расположились, кто стоя на коленях, кто сидя на корточках, и ждали; не было только повара да ночного караульщика… ах, да, — не было еще и Самарры.
Скоро танцовщица снова появилась в шатре; на этот раз она вошла в сопровождении, барабанщика и своего брата, который играл на дудке. Глаза у него были еще красивее, чем у нее. Плащ девушка сняла, на ней была теперь только толстая темная юбка да бусы и шнуровка на груди; талия оставалась обнаженной. Встав у столба посреди шатра, она медленно оглядела зрителей. Затем, широко раскрыв рот, она запела; при этом нам был виден весь ее рот, а пела она как-то в нос, и звуки ее пения напоминали удары двух металлических дисков друг о друга. Она пела и медленно кружилась, широко раскинув руки, и на ее пальцах звенели маленькие колокольчики; при виде их на память приходили кастаньеты, но по сравнению с этими колокольчиками они показались бы вульгарными.
— А она хороша, эта плясунья, — сказал Махмуд Ибрагим.
Теперь девушка уже не пела, она начала танцевать. Ноги ее почти не двигались, она лишь сильно раскачивала пышными бедрами, скользя пылающим взглядом по лицам зрителей. И отовсюду со всех сторон на нее глядели лица с широко раскрытыми глазами и оскаленными зубами. А там, за полотнищем шатра, скрывшего эти искаженные темной страстью лица, небо сияло звездами и под двурогой луной трепетали на ветру ажурные кроны пальм. Там, во мраке, расхаживал взад и вперед, потупив глаза, долговязый угрюмый погонщик Самарра. Этот танец — ну, разве это не разврат, не блуд для тех, кто сидит в теплом шатре?
— А ведь она хоть куда, эта плясунья, — сказал Махмуд Ибрагим.
И вдруг мы увидели, что у входа в шатер среди других арабов сидит на корточках Самарра. Следя за каждым движением девушки, он один ни разу не улыбнулся и все время прижимал к худому темному лицу худую темную руку. Но вскоре, как видно, не выдержав этого зрелища, он вскочил, вышел из шатра и снова стал расхаживать в темноте, трепеща, как пламя на ветру.
А она — она все танцевала, извиваясь, раскачивая бедрами и позвякивая колокольчиками. А пройдоха Мабрук и остальные арабы смеялись и вопили от восторга и тянулись к девушке, а потом святой Ахмет, уже не в силах владеть собой, обхватил ее талию. Но кто это кинулся на него, кто бросил ему прямо в лицо слова, полные злобы, и опять выбежал из шатра?
— Поглядите на Самарру, — сказал Махмуд Ибрагим. — Он ревнует. Так и рычит: «Уходи отсюда!» А она хороша, эта плясунья, аллах свидетель!
И вот наконец она спела все свои песни, станцевала все танцы, даже тот, что назывался танцем спящей, выпила все вино, выкурила последнюю сигарету «турецкое развлечение» кончилось. Мы поблагодарили девушку и разошлись.
Когда лагерь затих, я вышел из своего шатра, чтобы полюбоваться пальмами, поблескивавшими под светлыми рогами Хатор, послушать, как жуют свою жвачку верблюды, как тихо переговариваются у костра погонщики. Ко мне подошел Махмуд Ибрагим.
— Почти все люди ушли в деревню, — и святой Ахмет и другие! Глупцы, как они распалились… Конечно, она недурна, эта плясунья, даже очень хороша собой, но уж больно тощая! — Махмуд Ибрагим вздохнул и посмотрел на звезды. — Вот лет десять назад в этом же лагере была красотка — лучше я никогда не видал. Я ехал за ней до самого Каира; мы платили ей за танец пятнадцать фунтов. Ах, до чего ж она была красива, а я был тогда очень молод. Однажды, когда она кончила танец, я подошел к ней; я дрожал от волнения, да, да, дрожал. Она была прекрасна, как цветок. Я умолял ее поговорить со мной хотя бы пять минут, но она посмотрела на меня — да, она посмотрела на меня так, как смотрят на пустое место. У меня, видите ли, было мало денег. А на прошлой неделе я встретил ее в Каире на улице. Я бы ни за что не узнал ее, ни за что. Но она сказала мне: «Ты не хочешь со мной говорить? Помнишь, как много лет назад я пришла к вам в лагерь в Фаюме танцевать?» Тогда-то я вспомнил ее, — мы платили ей пятнадцать фунтов. Куда делась теперь ее гордость! — Махмуд Ибрагим покачал своей красивой головой. — Да, она стала безобразной, и она плакала, бедная женщина, плакала!
Тишину нарушали только жующие жвачку верблюды; под пальмами, в сиянии двурогой луны мы увидели высокую темную фигуру человека. Прежде он был как пламя на ветру, а теперь стоял совсем неподвижно.
— Смотри, — сказал Махмуд Ибрагим, — это Самарра! Наша плясунья тоже не захотела с ним разговаривать. У него, видите ли, мало денег!
И еще раз в эту ночь я вышел из шатра. Погонщики спали подле своих верблюдов, тела их темными буграми выделялись на сером песке. Спал и караульщик. Даже ветер спал; лишь по небу плыл двурогий полумесяц…
Ах, Хатор! Любовь и Красота! Далекая грубого земного вожделения, бессмертная корова с кротким сияющим взглядом, с рогами, изогнутыми как полумесяцы!
СЕКХЕТ (Сон)
Секхет! О ты, пожирающая грешные души в преисподней! У тебя темная голова львицы и смуглое тело обнаженной женщины; одна нога протянута вперед, руки прижаты к бедрам, а глаза, каких не бывает ни у женщины, ни у львицы, устремлены во тьму, выискивая очередную жертву! Она стоит там, бодрствуя днем и ночью, вечно окутанная мраком. Не диво, что простой народ думает, будто она пожирает детей.
И вот, после того как я увидел Секхет в ее темной нише в Карнаке, мне приснился сон…
Пятеро судей, призванные судить мертвых, сидели в лимонной роще у стен Карнака. А за опушкой рощи стояли мы, мертвые, ожидая суда, — тысячи и тысячи нас теснились на земле египетской, по всей Фиванской равнине. Пятеро судей сидели рядом. Сомбор, этот маленький вершитель правосудия, худой, с длинным, желтым, как пергамент, лицом, со впалыми щеками и жгучими черными щелками глаз, держал в тонких пальцах цветок папируса. Диарнак, рослый, с осанкой воина, сидел прямо, не шевелясь, с серьезным выражением лица, обрамленного острой бородкой, а над его головой среди бела дня кружила летучая мышь. Мемброн, чье широкое, жреческое лицо блестело так, словно он на ночь умащивал его благовониями, то улыбался, то принимал торжественный вид, держа в одной руке золотую монету, а в другой — маленького идола. Марроскуин, самый просвещенный из них, с пухлым, расплывшимся телом и морщинистым, дряблым, хитрым лицом, гладил кошку, свернувшуюся на его круглых коленях. Бутта, коренастый, краснолицый, деловитый человек с седой бородой и маленькими кабаньими глазками, носивший на пальце массивное золотое кольцо с печаткой, казалось, дремал.
И вот заговорил Сомбор.
— Братья, Секхет ждет!
И тут я увидел, что первый из нас уже стоит перед ними, — высокий молодой человек с беспомощным выражением приятного лица. На его губах, слегка пузырившихся пеной, блуждала слабая улыбка, а глаза, полные отчаяния, слезились от яркого солнца.
— Я здесь, господа, — сказал он. И допрос начался.
Сомбор. Твое имя? Вархет? Ты умер прошлой ночью? Говори правду, нам ведь и без того она известна. Пьянствовал?
Вархет. Да, господа.
Диарнак. Сколько раз был под судом?
Вархет. Ни разу, господа. В нашей деревне и полицейского-то нет.
Диарнак. А как называется твоя деревня?
Бутта. Послушай, Диарнак! Давай ближе к делу! Скажи-ка нам, молодой человек, отчего ты стал пьянствовать?
Вархет. Да я и сам не знаю, господа. Когда выпьешь, все кажется не таким мрачным.
Бутта. Что ж, я и сам не хуже всякого другого люблю выпить шотландского виски — только в меру. Продолжай, молодой человек.
Вархет. Слушаюсь, господин. Чем больше я пил, тем менее был счастлив; а чем менее я был счастлив, тем больше пил.
Бутта. Что ж, понимаю. Тебе хотелось весело пожить. Я и сам это люблю; и, уверяю тебя, когда я много работаю, играю в кегли и изредка молюсь, я доволен жизнью, как большинство людей.
Вархет (с живостью). Да, господа, в том-то и дело. Я хотел только счастья себе и другим. А когда я понял, что это невозможно, я взял ружье и застрелился.
Бутта. Ну нет! Этого ты не должен был делать! Это сумасбродство. Вот уж чего не переношу, так это сумасбродства.
Сомбор. Застрелился. Ха!
Марроскуин. И такая мучительная смерть! Почему ты не избрал себе смерть полегче, Вархет?
Вархет. Господин, я жил в деревенской глуши.
Mемброн. Но ведь ты разрушил храм своего тела.
Вархет. Господин, он все ветшал и ветшал, от него не было пользы ни мне, ни другим. Вот я и подумал…
Диарнак. Меньше всего это пристало солдату! Тебе нет прощения.
Сомбор. Можешь ты сказать что-нибудь вразумительное в свою защиту, Вархет?
Вархет. Господа, с тех пор как я умер, мне все кажется, что если бы я мог описать счастье, когда был несчастен, это спасло бы меня.
Марроскуин. Ты хочешь сказать, что из тебя мог выйти романтический писатель? Это любопытно! Я всегда полагал, что оптимизм в искусстве возможен только в том случае, если художник болен или несчастен.
Бутта. Эй! Ближе к делу, Марроскуин,
Сомбор. Голосуем! Кто за Секхет?
Марроскуин. Одну секунду! По его собственному признанию, этот человек мог бы стать художником. Мне кажется, нам следовало бы…
Сомбор. Марроскуин! Если оставить безнаказанным этого несчастного пьяницу, лишившего себя жизни, множество несчастных последует его примеру. А кто они, эти несчастные? Те самые люди, которых я призван судить, из которых Диарнак вербует своих солдат, перед которыми Мемброн произносит свои проповеди; это они дают тебе возможность наслаждаться культурой, Марроскуин, и создают богатство Бутты, основу его страны. Эти люди, которые стали бы безрассудно убивать себя, — опора общества. Нет, этому нужно положить конец. Голосуем! Кто за Секхет? Все, кроме Марроскуина. Уведите его!
Вархет все улыбался, и его влажные, трагические глаза блуждали по лицам судей. Его отвели в сторону, поставили под самым большим лимонным деревом. И тогда из нашей толпы выступил второй подсудимый, загорелый, весь в грязи; на вид ему было лет пятьдесят. Его черные глаза сверкали из-под спутанных волос, все лицо заросло бородой, а одет он был в такое отрепье, что походил на матерчатую швабру.
Диарнак. Твое имя? Наин? Говори, Наин!
Наин. Я бродяга.
Диарнак. Это мы видим.
Наин. Я умер час назад.
Диарнак. Отчего?
Наин. Оттого, что вынужден был оставаться на одном месте.
Бутта. Что? Как это так?
Наин. Они схватили меня и держали все время в одном месте. Я терпел это целый месяц. А потом меня одолела тяга к странствиям, и я сбежал от них навсегда.
Диарнак. Но в таком случае, что означают эти лохмотья? По закону…
Наин. Я упросил их отдать мне мою одежду, чтобы я мог умереть в ней, и они смиловались надо мной.
Мемброн. Уважая свободу личности, общество вынуждено однако ограничивать нежелательных субъектов.
Марроскуин. Это пахнет вар-р-р-варством.
Сомбор. Так, значит, ты один из тех жалких негодяев, которые не хотят работать?
Наин. Ну и что же?
Сомбор. Никакой приговор не будет для тебя слишком суровым.
Диарнак. Почему ты не пошел в солдаты?
Бутта. Диарнак, не оскорбляй знамя! Мой друг, ты сумасброд. По-моему, ты заслужил то, что ожидает тебя. Ты, видно, родился усталым.
Наин. Да.
Диарнак. Что ты можешь сказать в свою защиту?
Наин. Ничего. Только вот тяга к странствиям…
Сомбор. Голосуем!
Марроскуин. Одну секунду! Ведь это и в самом деле любопытно — тяга к странствиям! Друг мой, расскажи, что это такое!
Наин. Как бы мне вам объяснить… Ну, скажем, ты делаешь какую-нибудь мерзкую работу — качаешь воду, или кладешь кирпичи, или подметаешь улицу, и так целый месяц; и вдруг вот здесь у тебя защемит. И ты говоришь себе: «Ах, да что же это!» И снова качаешь воду или кладешь кирпичи. Но назавтра — все брошено и ты уже в пути.
Марроскуин. Мой дорогой друг, ты говоришь невразумительно. Что… что именно ты чувствуешь в такие минуты?
Наин. Господин мой, если вам угодно, я скажу: это словно запах дождя в пустыне. Почуешь его — и уже не можешь оставаться там.
Марроскуин. Ага! Теперь я понимаю. Это очень к-р-р-асиво! Ты мог бы стать художником. Я даже думаю, нам следовало бы…
Диарнак. Марроскуин! По моим новым законам этот человек должен был осесть и постоянно работать на одном месте. Он умер и нарушил эти законы. Если мы оставим его поступок безнаказанным, мои новые законы тоже будут мертвы.
Марроскуин. И все же — тяга к странствиям! Это так поэтично!
Бутта. Никогда не испытывал ничего такого!
Сомбор. Большинство людей не хочет работать; и если мы не осудим этого человека, большинство решит, что работать незачем.
Mемброн. Мы должны смотреть правде в глаза, но не быть циничными. Лично я хочу работать, все мы хотим работать, разве только за исключением Марроскуина.
Диарнак. Но ведь мы правители.
Сомбор. Да. Мы делаем то, что нам нравится, а большинство людей — нет.
Mappocкуин. Это правда; и все же не так легко…
Бутта. Марроскуин, если б тебя с детства приучили к трудолюбию, как меня, ты не стал бы церемониться с этими слюнтяями, которые не могут заставить себя заниматься делом.
Марроскуин. Боже сохрани!
Диарнак. Голосуем! Кто за Секхет? Все, кроме Марроскуина. Увести осужденного!
Наина поставили под лимонным деревом, и вперед выступила из толпы третья. Это была молодая женщина, высокая, хорошо сложенная, в платье с глубоким вырезом, таком коротком, что оно не закрывало даже лодыжки. Светловолосая, круглолицая, она была хороша собой и мила; но в голубых, как незабудки, подведенных глазах таилось что-то трагическое. Ласково и вместе с тем испуганно перебегали они с одного лица на другое.
Mемброн. Твое имя? Талете? Тебе незачем и говорить нам, кто ты такая. Мы готовы принять во внимание любое смягчающее обстоятельство. Хоть ты и совершила смертный грех, мы должны быть милосердны. Говори!
Талете. Господин, то, что сделала я, сделал и мужчина.
Сомбор. И ты посмела это сказать! Голосуем!
Бутта. Ну, ну, Сомбор; ты слишком торопишься решить судьбу этой девочки. Расскажи нам, дорогая, отчего ты умерла?
Талете. От страха.
Марроскуин. Господи боже!
Талете. Да, господин. В последнее время полиция часто сажает нас за решетку, бедной девушке деваться от нее некуда. А нервы у меня уж не те, что раньше; и позавчера, когда они снова меня посадили, я умерла.
Бутта. Ты не должна была делать это! Сколько тебе лет?
Талете. Двадцать четыре.
Бутта. Ай-ай! Такая молодая!
Mемброн. Смерть — неизбежное воздаяние за грех.
Сомбор. Одним источником зла меньше.
Диарнак. Ты знаешь закон?
Талете. Да, господин. Мужчинам нужны такие девушки, как я, а по закону нас должны арестовывать, не то люди скажут, что мужчины сами поощряют веселую жизнь.
Марроскуин. Это просто безоб-р-р-азие, что мужчины, которые издают законы, ради своего удовольствия губят других.
Диарнак. Во всяком случае, на улицах должен быть порядок.
Бутта. Ну, дорогая, расскажи, как ты дошла до этого? В лучшем случае ты, можно сказать, зря растратила свою жизнь.
Талете. Я вышла замуж, когда мне было шестнадцать лет; с мужем мы не ладили; а потом я встретила человека, которого, как мне казалось, полюбила по-настоящему; но я ошиблась. Потом я встретила еще одного и была уверена, что уж это тот самый, настоящий, а он был совсем не тот; и после этого мне было почти все равно, но хотя я никому не отказывала, чтобы как-то прокормиться, я всегда искала его.
Марроскуин. По-р-р-азительно! Поиски совершенства. Эта девушка художник. Я думаю, нам следовало бы…
Mемброн. Братья! Голосуем!
Сомбор. Секхет!
Бутта. Нет, мне это не нравится; у нас с миссис Бутта есть дочери. Давайте оправдаем ее.
Талете. И вот еще что, господин: я никогда не выдавала ни одного мужчины.
Диарнак. Секхет!
Марроскуин. Она так трогательна. Я не могу…
Mемброн. Два против двух. Мой голос решающий — дайте мне подумать. Если мы простим эту падшую дщерь, — а строго придерживаясь наших принципов и не пересматривая их критически, нам, вероятно, все-таки следовало бы это сделать, — что нас ждет? Мы уже не сможем сказать народу: грешите, но помните — вы погубите свои души! А это, братья, очень опасно. Мы не должны забывать, что наш символ веры — любовь и сострадание, но нужно с большой осторожностью относиться ко всякой сентиментальности и мягкосердечию. Должен сказать, положа руку на сердце, что я не осуждаю ее, но, тем не менее, не могу воздержаться от голосования. Ибо, братья, мы должны помнить, что если мы не осудим ее, то уж, верно, никто ее не осудит; а если кто случайно и осудит, то это будет унизительно для нашего достоинства, ибо мы признали себя арбитрами морали. Поэтому, сознавая, сколь много значит сострадание, я считаю своим профессиональным долгом сказать: Секхет! Решено тремя голосами против двух. Уведите ее!
Когда Талете отошла в сторону, я увидел, как голубь слетел к ней на плечо и сидел там, воркуя, а она, все еще глядя на судей с тайной мольбой во взоре, потерлась щекой о крыло птицы. Ее место занял молодой человек, темноволосый, с блестящими глазами, черными усиками, которые он то и дело подкручивал, и удивительно прямым затылком.
Марроскуин. Твое имя? Арва? Так! Каким же образом ты покинул нашу землю?
Арва. Я улетел.
Марроскуин. Ты что, летчик?
Арва. Нет, не совсем. Зато через все прочее я прошел.
Марроскуин. Так, так. Наслаждался ли ты морфием, был ли в Монте-Карло?
Арва. Было и то и другое. Да еще тотализатор.
Марроскуин. Понятно; случай безнадежный. Нынче это так часто бывает: «Ludum insolentem ludere pertinax» [8]. Да, да!
Бутта. Насколько я понимаю, этот юноша — игрок. Позвольте же мне сразу сказать ему, что здесь он не найдет сочувствия. Очень уж много развелось этих азартных игроков.
Марроскуин. И все же мы должны попытаться поставить себя на его место. Лично мне неведомы такие искушения.
Сомбор. У тебя просто не хватает смелости!
Марроскуин. Я тебя не просил вмешиваться! (Обращаясь к Арве.) Расскажи нам, чего ради ты прошел через все это.
Диарнак. И покороче.
Арва. Таким уж неугомонным я уродился.
Марроскуин. Восхитительно сказано. Этот юноша- художник.
Арва. А тут еще газеты…
Mемброн. Порицая склонность прессы разбрасываться и ее пристрастие к сенсациям, мы должны по справедливости отметить некоторые ее безусловные достоинства.
Бутта. Я многое могу простить молодежи, но эта лихорадка-совсем не английская черта. Сам я никогда не был ей подвержен, кроме разве одного случая, — помнится, тогда миссис Бутта живо поставила мне горчичники. Вот из-за таких, как ты, цены на акции и скачут то и дело.
Диарнак. Это переходит всякие границы.
Mемброн. Это питает наш национальный порок.
Арва. Ну, чего вы хотите, ежели теперь вокруг — настоящая ярмарка.
Марроскуин. Мы прекрасно понимаем, что ты по натуре — человек неуравновешенный. Можешь ты сказать что-нибудь еще в свое оправдание?
Арва. Ставлю шесть против четырех, что я могу обскакать Секхет на первом же круге.
Бутта. Молодой человек! Не будь легкомысленным!
Mемброн. Боюсь, что он безнадежен.
Марроскуин. Признаться, я готов восхищаться подобными людьми. Сам я, пожалуй, не стану голосовать за Секхет, но мне хотелось бы послушать, что скажут другие.
Бутта. Секхет!
Диарнак. У армии украден еще один солдат. Секхет!
Мемброн. А у церкви — сын. Секхет!
Сомбор. Мне нравится его мужество. Поэтому я считаю, что он заслуживает снисхождения.
Марроскуин. Душой я на вашей стороне, молодой человек, но приговор гласит: «Секхет», и он принят тремя голосами против двух!
Арва. Отлично! Я вижу, что сделал ставку не зря.
И Арву тоже поставили под лимонным деревом. А потом я увидел, что они подошли и вывели вперед того, кто стоял рядом со мной. Какое зло мог совершить человек с таким благородным лицом? Облаченный в белые одежды, высокий, с красивой головой, глубокими глазами и длинной бородой, он вызывал у меня чувство почтения. Он спокойно ждал допроса, и мне показалось, что судьям нашим стало не по себе. Наконец Бутта, возведя свои маленькие глазки к небу, заговорил:
Бутта. Ну-с, почтеннейший. Не угодно ли вам назвать свое имя? Ханци? А как это пишется? Ага. Так вот, мистер Ханци, не соблаговолите ли вы рассказать, почему вы «сбросили бремя жизни» [9], как сказал поэт?
Ханци. Для меня больше не было места.
Бутта. Значит, если я правильно понял, вас просто-напросто вытеснили?
Ханци. Я умер, потому что меня нигде не пускали на порог.
Mемброн. Ах! Кажется, я… Служитель, задерните шторы.
Диарнак. Ханци, я тебя знаю.
Бутта. А я — нет, и, пожалуй, знать не хочу. Если ты желаешь высказаться, я не стану тебе препятствовать; но не думаю, чтобы это произвело на нас большое впечатление. Ты кажешься мне диковинным субъектом.
Ханци. Братья!
Сомбор. Не зови нас братьями, не то тебе же будет хуже.
Ханци. Друзья! Изо дня в день, из года в год я скитался по свету, как скитается ветер меж ветвей дерев. Я шел от озера к озеру и видел, как мой образ сияет и меркнет в черной глубине. Я человек темный, у меня нет иных достоинств, кроме любви ко всему живому. Выпадала роса, и на небо выходили звезды, и я, передохнув, шел дальше. Ах, если бы я мог навеки остаться с каждым живым существом!
Бутта. Но они не принимали тебя? В этом все дело?
Xанци. У меня нет имущества, у меня нет имени. Я слышал, как они говорили: «Если мы впустим его в дом, то лишимся всего. У нас не будет ни власти, ни богатства, одна только любовь. А что в ней проку?»
Когда Ханци произнес эти слова, наступило долгое молчание. Судьи сидели, закрыв руками лица. Наконец Бутта заговорил.
Бутта. Ну, что нам с ним делать? Слышал я об этой самой любви, но ни разу еще не встречал странствующего торговца, который возил бы с собой этот товар. Господа, у вас есть к нему вопросы? Служитель, подай мне мой парик; солнце так палит — нет мочи терпеть.
Сомбор. Выходит, ты разрушитель?
Ханци. Ветер сметает и развеивает все на свете, но ветер же все соединяет.
Сомбор. Говори проще. Ты против тех, кто судит, или нет?
Ханци. Благородный господин, тому, кто дал мне приют, суд не нужен, так велика его любовь.
Сомбор. Без суда! Без власти! Все ясно!
Диарнак. Ханци! Повинуешься ты приказам или нет?
Xанци. Господин, я повинуюсь воем приказам, но там, где я пребываю, приказов не отдают… Все служит любви.
Диарнак. Без приказов! Ну, довольно!
Mемброн. Ханци! Помнится, однажды мы решили испытать тебя, и ты не выдержал испытания. Любовь, без сомнения, идеал, но куда действеннее изнурять тела и души людей; долгий опыт научил нас проповедовать первое, а делать второе. Можешь ли ты объяснить нам, во имя чего столько веков спустя мы должны во второй раз тебя испытывать?
Xанци. Брат, мне запрещено просить или оставаться там, где хотят от меня избавиться. Я могу лишь появляться то тут, то там, подобно дождю, или пению птиц, или солнечному свету, падающему на землю сквозь листву. Если вы не готовы принять меня всем сердцем, тогда гоните меня прочь!
Meмброн. Ты хочешь невозможного. Так не бывает — чтобы всем сердцем!
Марроскуин. Ханци! Всякий раз, как я читаю о тебе в книгах, вижу твои изображения, слышу твой голос в музыке, это трогает и даже восхищает меня, и теперь, когда я вижу тебя во плоти, я хочу, чтобы ты остался с нами, если это возможно. Но я должен задать тебе один вопрос. Разрушишь ли ты то утонченное благополучие жизни, ту культуру, которая, признаюсь, есть sine qua non [10] моего существования? Искренне надеюсь, что ты ответишь «нет».
Ханци. Друг, что такое благополучие? Значит ли это все делить с ближними, не причинять зла ни одному живому существу? Значит ли это страдать вместе с одним и радоваться с другим? Если это и есть благополучие, и утонченность, и культура, я охотно останусь с тобой.
Марроскуин. Ах! Уйди, прошу тебя!
Бутта. Господин Ханци! Скажу откровенно, — я человек ничем не примечательный; таких, как я, сотни и тысячи, нам пришлось самим прокладывать себе дорогу в жизни. И я спрашиваю себя: как бы мог я это сделать, если б взял тебя в товарищи? Как бы я выбился в люди, если б заботился обо всех, как о самом себе? Нет, брат, это не практично, это не по-английски, и потому — не по-христиански. Как бы ни была сильна добрая воля в мире, чем скорее Секхет сожрет тебя, тем лучше для нас всех. И я голосую за Секхет!
Сомбор (не отнимая рук от лица). Ханци! Из всех преступлений против общества твое преступление самое ужасное. Ибо там, где ты, наше общество не может существовать. Там, где ты, не нужен ни я, ни Диарнак, ни Мемброн, ни Марроскуин, ни Бутта. А это просто немыслимо. И поскольку это немыслимо для нас, судьба, твоя решена. Секхет! Секхет!
Диарнак. Ты больше не будешь сеять смуту в рядах моих солдат. Секхет!
Мемброн. Ханци! Я сочувственно выслушал все, что ты сказал о себе, но, мне кажется, усматриваю во всем этом тайное посягательство на меня самого. Я от всей души хотел бы терпимо отнестись к твоему учению и даже приветствовать его, но я не вижу, как можно примирить все это с моими собственными интересами. Поэтому я вынужден скрепя сердце — служитель, ставни! — сказать: Секхет.
Марроскуин. Увы! Увы! Секхет!
И тут все судьи, закрыв лица, замогильными голосами еще раз крикнули: «Секхет!» А Ханци, глядя на них своими глубокими глазами, поднял руку в знак того, что он слышал это, и отошел к тем, кто стоял под лимонным деревом.
Наступила моя очередь! Но когда я шагнул вперед, Сомбор встал.
— Уведите этих пятерых под пальмы и спустите Секхет с цепи, — сказал он. — Довольно на сегодня, мои справедливые и высокоученые собратья. Посмотрим, как будут приводить в исполнение наш приговор.
И, сопровождаемый остальными судьями, он скрылся меж пальм. Вархета, Наина, Талете, Арву и Ханци увели из лимонной рощи. И вдруг над землей начала сгущаться какая-то странная мгла, и небо стало темно-оранжевым. И море черных голов позади нас, на Фиванской равнине, вдруг усеялось белыми пятнами лиц, словно пенными бурунами, вздымаемыми налетевшим штормом. Вдруг в дальнем конце лимонной рощи я увидел своего переводчика, Махмуда Ибрагима. Подобрав полы желтой одежды, он бежал во всю прыть. На его широком, жизнерадостном лице было выражение и ужаса и удовольствия. Указывая через плечо большим пальцем, он крикнул, едва переводя дух:
— Секхет! Она ошиблась! Она пожирает не тех! Пожирает судей! Умница Секхет, — она уже сожрала четырех, а теперь гонится за Буттой! Боже мой! Он бежит, да, да, бежит! Вот это здорово! Вот это жизнь!
И он покатился со смеху. Мы услышали вдали протяжный вопль: «О-о-о!» А потом наступила тишина, она разлилась над всей Фиванской равниной, до самых гор. И небо снова стало голубым… Я проснулся…
Секхет! Ты, что пожираешь грешные души в преисподней!
Днем и ночью, в вечной тьме, ты бодрствуешь!
ПРОСТАЯ ПОВЕСТЬ
Однажды утром, когда зашел разговор об антисемитизме, Ферран сказал мне по-французски:
— Да, мосье, множество наших современников считают себя христианами. Но я только раз в жизни встретил истинного христианина — и он считал себя евреем, Это престранная история, сейчас я вам ее расскажу.
Дело было в Лондоне, осенью. Так как сезон прошел, я, конечно, сидел на мели и вынужден был избрать своей резиденцией один «дворец» в районе Вестминстера, где платил четыре пенса за ночь. Соседнюю койку занимал тогда почтенный старец, такой худой, словно он был создан не из плоти, а из воздуха. Был ли он англичанин, шотландец, или, может, ирландец или валлиец, — не могу сказать с уверенностью: я, должно быть, никогда не научусь подмечать незначительные различия между этими представителями вашей нации. Думаю, впрочем, что мой сосед был англичанин. Этот очень дряхлый и слабый старик с длинной седой бородой и бескровными, белыми, как бумага, запавшими щеками, говорил со всеми обитателями ночлежки мягко и ласково, как с женщиной. Для меня было полнейшей неожиданностью встретить такого вежливого и благожелательного человека в нашем «дворце». Свою койку и тарелку супа он отрабатывал, убирая грязные конуры за всякого сорта людишками, приходившими сюда ночевать. Днем он всегда находился здесь, но каждый вечер, в половине одиннадцатого, куда-то уходил и возвращался около двенадцати. Досуга у меня было достаточно, и я охотно беседовал с ним. Он, правда, был немного «тронут», — Ферран постучал себя по лбу, — но меня пленяло в этом беспомощном старике то, что он никогда не заботился о самом себе, хлопоча целый день, как муха, которая с утра до вечера носится под потолком. Что бы ни понадобилось субъектам, ночевавшим во «дворце», — пришить ли пуговицу, выколотить трубку, поискать у них вшей или постеречь вещи, чтобы их не стащили, — старик все это делал со своей неизменной улыбкой, такой ясной и кроткой, и даже всегда готов был уступить другому свое место у камина. А в свободные часы наш старик читал библию! Он вызывал во мне чувство живейшей симпатии — ведь не часто можно встретить таких добрых и отзывчивых старых людей, хотя бы и «тронутых». Несколько раз мне случалось видеть, как он мыл ноги кому-нибудь из этих пьянчуг или делал примочки тем, которые, как водится у таких субъектов, приходили с подбитым глазом. Да, вот чем занимался этот поистине замечательный человек тонкой души и в одежде столь же тонкой, до того уж истонченной, что сквозь нее видно было тело. Говорил он мало, но слушал каждого с ангельским терпением и никогда ни о ком не злословил. Зная, что сил у него не больше, чем у воробья, я недоумевал, зачем он выходит каждый вечер во всякую погоду и так долго бродит где-то. Но когда я задавал ему этот вопрос, он только улыбался рассеянно, как человек не от мира сего, и, казалось, не совсем понимал, о чем я говорю. Любопытство мое было сильно возбуждено, и как-то раз я сказал себе: «Если не ошибаюсь, тут кроется что-то интересное! Ну, милейший старик, не сегодня-завтра я отправлюсь вслед за тобой. Да, да, буду тебя сопровождать, как ангел-хранитель, во время этих твоих ночных вылазок». Вы же знаете, мосье, как меня интересует все необычное. Разумеется, когда целыми днями шагаешь по улицам с досками реклам на спине и груди, изображая собой нечто вроде сэндвича, то, сами понимаете, нет особого желания еще и вечером фланировать по городу. Тем не менее однажды вечером в конце октября я наконец вышел вслед за стариком. Следить за ним не составляло труда: ведь он был бесхитростен, как дитя. Сначала, идя за ним, двигавшимся, как тень, я очутился в Сент-Джеймс-парке, где гуляют солдаты, выпятив грудь и стараясь прельстить молодых нянек. Старик мой шел очень медленно, опираясь на трость, похожую на посох, — я таких ни у кого никогда не видал; она была высотой футов в шесть и загнута на верхнем конце, как палка пастуха или рукоять меча. Уличных мальчишек, вероятно, немало смешил вид этого старца с его посохом, и даже я не удержался от улыбки, хотя я не охотник смеяться над старостью и нищетой. Ясно помню этот вечер — очень уж он был хорош. Темное небо казалось прозрачным, звезды сияли так ярко, как они редко сияют в больших городах, центрах «высокой цивилизации», а от листьев платанов на тротуары ложилась тень цвета темного вина — жалко было наступать на нее. В такие вечера на душе легко, и даже полисмены смотрят на всех благодушно и немного мечтательно. Ну-с, как я уже говорил, мой старик брел медленно, не оглядываясь, походкой лунатика. Дойдя до большой церкви, которая, как все подобные сооружения, имеет вид холодный, отчужденный и, кажется, ничуть не благодарна бедным смертным, построившим ее, он прошел в Итон-сквер, где, должно быть, живут очень богатые люди. Здесь мой старик, перейдя улицу, остановился у ограды парка, сложив руки на своем посохе и немного наклонясь, так что его длинная седая борода касалась их. Он стоял очень спокойно, ожидая чего-то. Но чего? Этого я никак понять не мог. Был тот час, когда богатые буржуа возвращаются домой из театра в собственных экипажах, с кучерами, которые, как манекены, сидят на козлах над разжиревшими лошадьми, а в окошко можно увидеть какую-нибудь сладко задремавшую леди, у которой на лице написано, что она слишком много ест и слишком мало любит. Мимо проходили джентльмены, вышедшие подышать свежим воздухом, весьма comme il faut [11], в сдвинутых назад цилиндрах и с пустыми глазами. Мой старик, за которым я издали наблюдал, все стоял не двигаясь и смотрел на прохожих, пока к дому напротив не подкатил экипаж. Тут старик сразу торопливо зашагал через улицу, таща за собой свою палку. Я видел, как кучер дернул колокольчик у входа и затем открыл дверцы экипажа. Из него вышли трое — пожилой мужчина, дама и юноша. Это были явно представители хорошего общества — какой-нибудь судья, мэр или даже баронет — кто его знает? — с женой и сыном. В то время как они уже стояли у двери, мой старик дошел до нижней ступени крыльца и, низко поклонясь, как проситель, заговорил с ними. Те трое сразу повернули к нему удивленные лица. Мне не слышно было, что говорит старик, но, как я ни был заинтересован, подойти ближе я боялся ведь старик, увидев меня, понял бы, что я шпионю за ним. Я слышал только его голос, кроткий, как всегда, и видел, как он утирал лоб, как будто прошел долгий путь с тяжелой ношей. Дама что-то шепнула мужу и вошла в дом, юноша, закуривая на ходу сигарету, последовал за ней. На крыльце оставался только почтенный отец семейства, мужчина с седыми бакенбардами и ястребиным носом. Судя по выражению его лица, он вообразил, что старик смеется над ним. Торопливо отмахнувшись от него, он тоже спасся бегством, и дверь захлопнулась. Кучер тотчас вернулся на козлы, экипаж умчался, и, казалось, здесь ничего не произошло — только старик все еще стоял не двигаясь. Но скоро и он поплелся обратно, с видимым трудом волоча за собой свою палку. Я укрылся в подворотне, чтобы остаться незамеченным, и видел его лицо, когда он проходил мимо. Оно выражало такую тяжкую усталость и печаль, что у меня сердце сжалось. Должен вам признаться, мосье, я был несколько возмущен тем, что этот почтенный старец явно просил милостыню. Вот уж до чего я ни разу в жизни не унизился, — даже когда бывал в крайней нужде! Не в пример вашим «джентльменам», я всегда что-то делал за те деньги, которые получал, — ну хотя бы провожал домой какого-нибудь пьяницу.
В тот вечер, возвращаясь в ночлежку, я усиленно ломал голову над этой загадкой, которая казалась мне неразрешимой. Зная, когда обычно возвращается старик, я поспешил улечься раньше, чем он придет. Он вошел, как всегда, на цыпочках, чтобы никого не разбудить, и лицо его показалось мне снова ясным и немного «отрешенным». Как вы уже, вероятно, заметили, я не из тех, кто пропускает всякие вещи мимо своего носа, не пытаясь рассмотреть, что в них скрыто. Для меня первейшее удовольствие — так сказать, заглянуть жизни под юбки, узнать, что таится под внешней видимостью явлений, — ведь они далеко не всегда таковы, какими нам кажутся. Так сказал ваш славный поэт, а поэты они и философы тоже и, кроме того, труженики, не в пример всем тем господам, что воображают, будто это они и только они трудятся, сидя в председательском кресле или целый день крича в телефон, — таким путем они набивают себе карманы. Я же коплю только одно — наблюдения, которые помогают узнать человеческое сердце. Этого золота никто не может у меня отнять.
И вот в ту ночь мне не спалось: я не мог удовлетвориться тем, что увидел, не мог понять, зачем этот старик, самоотверженный и добрый до святости, всегда думающий только о других, каждый вечер ходит побираться, тогда как ему всегда обеспечена койка в нашем «дворце» и то немногое, что ему требуется, чтобы душа держалась в теле. Конечно, все мы грешны, и. даже самые уважаемые господа потихоньку делают то, что вызвало бы у них многозначительное покашливание, если бы на их глазах это сделал другой. Однако поведение старика совсем не вязалось с его натурой альтруиста (ибо, по моим наблюдениям, нищие — не меньшие эгоисты, чем миллионеры). Эта загадка не давала мне покоя, и я решил опять последить за стариком.
Второй вечер совсем не походил на первый. Дул сильный ветер, и белые облака бежали по освещенному луной небу. Старик сначала шел мимо здания Парламента, по направлению к Темзе. Мне очень нравится эта ваша большая река. Она течет так величаво. Она безмолвна, но знает многое и не выдает тайн, доверенных ей.
Так вот, старик направился к длинному ряду тех весьма респектабельных домов, что выходят окнами на набережную неподалеку от Челси. Жаль было смотреть, как бедняга сгибается чуть не вдвое, борясь с сильным западным ветром. Экипажей здесь встречаешь не так уж много, а прохожих и того меньше. Пустынная улица освещается высокими фонарями; в этот вечер предметы не отбрасывали теней: так ярко светила луна. Как и в прошлую ночь, старик остановился в конце улицы и стал высматривать какого-нибудь «льва», который возвращается в свое логово. Скоро я увидел такого «льва» в компании трех «львиц» выше его ростом. Бородат, в очках — сразу видно было, что ученый муж. Даже шагал он с важностью человека, который знает жизнь и людей. «Должно быть, какой-то профессор со своим гаремом», — подумал я. Они подошли к дому шагах в пятидесяти от старика. И пока ученый муж отпирал дверь, его три дамы, задрав головы, любовались луной. Немного эстетики, немного науки известный рецепт для людей этого типа! Вдруг я заметил, что мой старик переходит улицу, шатаясь под ветром, как серый стебель чертополоха. Лицо у него было такое страдальческое, словно на него легло бремя всех скорбей мира. Увидев его, три дамы мигом перестали созерцать небо и, словно спасаясь от чумы, убежали в дом, крича: «Генри!» Бородатый и очкастый «Генри» снова вышел на крыльцо. Я рад был бы подслушать предстоящий разговор, но этот Генри уже меня приметил, и я не двинулся с места, чтобы он не заподозрил, будто я заодно со стариком. Мне удалось только расслышать слова: «Нельзя, никак нельзя! Для этого есть дома призрения, ступайте туда». И, сказав это, бородач запер дверь. Старик, оставшись один, все еще стоял, держа свой посох на плече и сгорбившись, словно этот посох был из свинца. Потом зашагал в обратный путь, съежившись и весь дрожа, похожий скорее на тень, чем на живого человека. Ничего не видя, он прошел мимо меня, словно мимо пустого места.
В этот вечер я тоже поспел в ночлежку раньше и улегся до того, как он вошел. Сколько я ни раздумывал, я теперь еще меньше способен был объяснить себе поведение старика и решил еще раз пойти за ним. «Но теперь уж я во что бы то ни стало подойду так близко, чтобы все услышать», — твердил я себе. Видите ли, мосье, на свете есть два сорта людей. Одни не успокаиваются до тех пор, пока не завладеют всеми игрушками, которые обеспечивают роскошную жизнь, а какова природа этих вещей, им неинтересно. А есть другие — им была бы только корка хлеба, табачок да возможность во всем разбираться, — и тогда душа у них покойна. Признаюсь, я именно такой человек. Не угомонюсь, пока не докопаюсь до сути всего, что вижу в жизни. Для меня загадки жизни — соль ее, и мне обязательно надо вволю наесться этой соли.
И вот я в третий раз пошел за стариком. В тот вечер он избрал грязные улочки вашего великого Вестминстера, где все перемешано, как в хорошем пудинге, где можно увидеть лордов и всяких бедняг, которых покупают по грошу дюжина, котов и полисменов, керосиновые фонари и монастыри, и все вокруг пропахло жареной рыбой. Ох, эти глухие улицы вашего Лондона, как они ужасны! Здесь меня, как нигде, охватывает чувство безнадежности. И любопытно, что они так близко от здания Парламента, великого Дома, который служит для всего мира примером разумного управления государством. В этой близости такая жестокая ирония, что в каждом стуке колес, в каждом выкрике торговца, продающего всякую дрянь, чудится насмешливый хохот доброго бога вашей буржуазии, а в коптящем свете каждого фонаря, в огонь ках свечей, горящих в соборе, видится его усмешка — он ухмыляется, словно говоря: «А хорошо я создал этот мир. Ну, разве мало в нем разнообразия? Чего-чего в этой каше не найдешь!»
На сей раз я шел за стариком неотступно, как тень, и так близко, что слышал его вздохи, — казалось, и ему была нестерпима атмосфера этих улиц. Но вдруг, неожиданно для меня, он завернул за угол, и мы очутились на самой тихой и самой красивой из всех знакомых мне улиц Лондона. Два ровных ряда небольших домов словно склонялись перед серевшей в лунном свете большой церковью в конце улицы, а она стояла над ними, как мать над детьми. На улице не было ни души; я не знал, где укрыться — здесь все было, как на ладони. Но я рассчитывал, что старик меня не заметит, даже если я стану рядом, — в прошлые вечера я убедился, что он во время своего паломничества ничего не замечает вокруг. Право, когда он стоял здесь, опираясь на свой посох, он напоминал старую птицу пустыни, которая отдыхает, стоя на одной ноге у пересохшего источника, и сгорает от жажды. А я глядел на него с тем чувством, с каким наблюдаешь редкие явления жизни, — я думаю, это самое чувство побуждает художников творить.
Простояли мы так с ним недолго, и я увидел двоих людей, шедших сюда с конца улицы. Увидел и подумал: «Вот счастливые молодожены возвращаются в свое гнездышко». Этой веселой, цветущей на вид парочке, должно быть, не терпелось очутиться у себя дома. Из-под пальто у молодой женщины белела открытая шея, у ее мужа — ослепительная крахмальная сорочка. Знаю я их хорошо, эти молодые пары в больших городах, — они беззаботно и бездумно принимают все, что происходит в окружающем мире, — очень влюблены друг в друга, детей у них еще нет. Им, веселым и безобидным, еще только предстоит узнать жизнь, а это, поверьте, довольно печальная перспектива для девяти из десятка таких кроликов.
Молодые супруги подошли к дому, соседнему с тем, у которого стоял я. И, так как старец мой уже спешил к ним обратиться, я немедленно сделал вид, будто звоню у входной двери. На этот раз мне повезло — я все слышал. Я видел к тому же лица всех троих, — у меня выработалась привычка наблюдать людей так внимательно, словно у меня глаза и на затылке. Голубки очень спешили попасть в свое гнездо, и старик успел выговорить им вслед только одну фразу: «Сэр, позвольте мне отдохнуть под вашим кровом». Ох, мосье, до этой минуты никогда я не видел такого выражения безнадежности и в то же время кроткого достоинства, как на истомленном усталостью лице старика, когда он произносил эти слова. В его лице светилось что-то такое, что не дано понять нам, людям «нормальным» и циничным, какими жизнь неизбежно делает всех, кто обитает в этом земном раю. Старик все еще держал палку на плече, и мне вдруг почудилось, что эта ноша сейчас раздавит, вгонит в землю его почти бесплотное тело. Не знаю, почему в моем мозгу возникло мрачное видение проклятый посох вдруг показался мне тяжелым крестом, возложенным на плечи старца. Я с трудом удержался от желания повернуться и проверить, так ли это. В эту минуту молодой человек сказал громко: «Вот вам шиллинг, голубчик», но старик не двинулся с места и все повторял: «Сэр, позвольте мне отдохнуть под вашим кровом». Вы легко можете себе представить, что все мы онемели от удивления. Я продолжал дергать колокольчик у двери, но он не звонил, так как я принял для этого нужные меры. А молодые супруги таращили на старика круглые от удивления глаза с порога своей голубятни (очень мило убранной, как я успел заметить). Я угадывал, что они переживают душевную борьбу: в их возрасте люди еще впечатлительны. Жена стала что-то шептать мужу, но тот сказал вслух только три слова, обычную фразу ваших молодых джентльменов: «Очень сожалею, но…», — затем протянул старику уже не шиллинг, а другую монету, размером с блюдечко. Но старец опять сказал: «Сэр, позвольте мне отдохнуть под вашим кровом». И тогда молодой человек, словно устыдившись, поспешно отдернул руку с подаянием и, буркнув «извините», захлопнул дверь.
Много вздохов я слышал на своем веку, они — хороший аккомпанемент к той песне, что мы, бедняки, поем всю жизнь. Но вздох, который вырвался у моего старца, — как это вам объяснить? — казалось, исходил от Нее, нашей верной спутницы, которая шагает рядом, крепко держа за руки мужчин и женщин, чтобы они ни на миг не совершили страшной ошибки — не вообразили себя господом богом. Да, мосье, этот вздох, казалось, испустила сама Скорбь Человеческая, ночная птица — не зная устали, летает она по всему миру, а люди вечно толкуют, что ей надо подрезать крылья.
Этот вздох придал мне решимости. Я тихонько подошел сзади к старику и сказал:
— Что вы тут делаете, дружище? Не могу ли я чем-нибудь быть вам полезен?
Но он, не глядя на меня, заговорил словно сам с собой:
— Нет, никогда я не найду человека, который пустит меня отдохнуть под его кровом. За мой грех я обречен скитаться вечно.
И в этот миг, мосье, меня вдруг осенило! Я даже удивился, как это раньше не пришло мне в голову. Да он воображает себя Вечным Жидом! Догадка казалась мне верной. Конечно, такова мания этого выжившего из ума бедного старика!
— Друг мой, знаете, что я вам скажу? Делая то, что вы делаете для людей, вы уже уподобились Христу в этом мире, полном тех, кто гонит его от своего порога!
Но он как будто не слышал моих слов. И, как только мы вернулись в наш «дворец», он стал опять тем кротким, самоотверженным стариком, который никогда не думал о себе.
За дымом сигареты я видел, как улыбка растянула красные губы Феррана под его длинным носом.
— Согласитесь, мосье, что я прав. Если существует тот, кого прозвали Вечным Жидом, то, скитаясь столько веков, обивая пороги людей, гнавших его, он, несомненно, уже уподобился Христу. Да, да, видя, как рушится добродетель в мире, он, конечно, проникся самым глубоким милосердием, какое когда-либо знал этот мир, А все те господа, у кого он каждую ночь просит приюта, объясняют, куда ему идти и как жить, даже предлагают деньги, как это было на моих глазах. Но оказать ему доверие, пустить к себе в дом, как друга и брата, чужого человека, скитальца, жаждущего отдыха, — нет, этого они ни за что не сделают, так никогда не поступают добрые граждане христианских стран. И повторяю: мой старец, — хоть голова у него и не в порядке, — вообразивший себя тем, кто некогда отказал в приюте Иисусу Христу и был проклят навеки, стал более подобен Христу, чем все, кого я встречал в этом мире, — почти все они сами поступают ничуть не лучше, чем когда-то поступил Вечный Странник, о котором рассказывает легенда.
Выпустив струйку дыма, Ферран добавил:
— Не знаю, продолжает ли бедный старик, одержимый своей навязчивой идеей, обивать чужие пороги. Я на другое утро уехал и больше никогда не видел его.
ULTIMA THULE [12]
Ultima Thule! Эти слова пришли мне на память сегодня, в зимний вечер. Поэтому я и решил рассказать вам историю одного старичка.
Впервые я увидел его в Кенсингтонском саду, куда он приходил днем с очень маленькой девочкой. Можно было видеть, как они порой молча стоят перед каким-нибудь кустиком или цветком, как, закинув голову, смотрят на какое-нибудь дерево или же, склонившись над водой, провожают глазами проплывающих мимо уток, а то, растянувшись на траве, наблюдают за копошащимся рядом жучком или подолгу глядят в небо. Они часто кормили птиц хлебными крошками, а те садились им на руки, на плечи и, случалось, даже роняли на них маленькие белые кучки-знаки расположения и доверия. Надо сказать, оба они были весьма приметные. Девочка, с ее темными глазами, светлыми волосами и острым подбородком, была похожа на эльфа, а одежда, которую она носила, никак не вязалась с ее обликом. Если они не стояли на месте, девочка нетерпеливо тащила его куда-то за руку. Он был маленьким подвижным старичком, и казалось, ноги то и дело обгоняют его. Помнится, на нем было потертое коричневое пальто и мягкая широкополая серая шляпа, а видневшиеся из-под пальто брюки были заправлены в узкие черные гетры, едва доходившие до изрядно поношенных коричневых ботинок. Одним словом, костюм его не свидетельствовал о большом богатстве. Но особенно привлекало к себе внимание его лицо. Худое, красное, как вишня, и высохшее, точно старое дерево, оно было по-своему ярким. Острые черты, лучистые голубые глаза и волны серебристых волос делали его необычайно выразительным. «Старик смахивает на сумасшедшего», — думал я. Стоя у садовой ограды, он выводил иногда удивительные трели и рулады, ловко подражая разным птицам. При этом его увядшие губы округлялись, а щеки так втягивались внутрь, что, казалось, ветер вот-вот пронижет их насквозь.
С людьми, которые вызывают к себе интерес, обычно заговариваешь не сразу — удерживает какая-то робость. Так что прошло довольно много времени, прежде чем я познакомился с ним. Однажды я увидел его неподалеку от пруда Серпентайн. Он шел один и, видимо, был чем-то очень опечален, но весь его облик по-прежнему оставался поразительно ярким. Он присел на скамью рядом со мной, положил свои маленькие высохшие руки на худые колени и стал разговаривать сам с собой тихо, почти шепотом. Мне удалось уловить несколько слов: «Бог не может быть похожим на нас». Я боялся, что он и дальше будет изрекать такие же бесценные истины, которые нет смысла подслушивать. Мне следовало либо уйти, либо заговорить с ним.
— Почему? — повинуясь какому-то порыву, спросил я.
Он взглянул на меня без всякого удивления и сказал:
— Я потерял девочку моей хозяйки… Она умерла! Ей было только семь лет!
— Та самая девчушка, которую я не раз видел с вами?
— Вы ее видели?.. Правда? Я очень рад этому.
— Я часто видел, как вы смотрели с ней на цветы, на деревья, на этих уток.
Его лицо засветилось грустью.
— Да, — вздохнул он, устремив взгляд на гладь пруда. — Она была хорошим товарищем такому старику, как я.
У него была необычная манера разговаривать, которая очень подходила к его забавному маленькому лицу.
Потом он посмотрел на меня своими голубыми, по-юношески живыми глазами, которые сверкали, точно два огонька, окруженные густой сетью морщинок. А когда он заговорил снова, голос его звучал бодрее, и я порадовался этому.
— Мы были большие друзья… А этого я никак не мог ожидать. Но ничто не вечно. Правда?.. Прежде я служил в оркестре театра «Хармони», и в те времена мне даже в голову не приходило, что наступит день, когда я не буду там больше играть. Я чувствовал себя, как птица, и это благодаря музыке, сэр. Вы забываете обо всем на свете, подобно вон тому дрозду.
И он стал подражать дрозду, да так искусно, что я не был уверен, кто ж из них начал первым.
— Птицы и цветы! Какое же это чудо, — продолжал старик, указывая ногой на маленький золотистый цветок. — Даже этот лютик!.. Ну, видели ли вы когда-нибудь такое удивительное творение природы? — Потом, обернувшись ко мне, он добавил: — И все же я как-то слышал, что коровам эти цветы вредны. Неужели это возможно? Сам-то я не сельский житель, хоть и родился в Кингстоне.
— В моих краях коровы охотно едят их, — заметил я. — Да и фермеры говорят, что они любят лютики.
— Я рад слышать это. А то обидно было думать, что такие прелестные цветы приносят вред.
Когда я поднялся, чтобы уйти, он тоже встал.
— Как мило с вашей стороны, что вы заговорили со мной.
— Мне это доставило только удовольствие… Здесь, в парке, я обычно бываю днем. Если вам когда-нибудь захочется поболтать со мной еще, вы можете найти меня здесь.
— Чудесно! — воскликнул старик. — Чудесно!.. Я стараюсь дружить с животными и цветами, но мне не всегда удается понять их.
Тут мы распрощались, и он опять уселся на скамью, положив руки на колени.
Когда я в следующий раз встретил его, он стоял у ограды, держа на руках старую, очень несчастную с виду кошку.
— Терпеть не могу мальчишек, — сказал он, даже не поздоровавшись. Знаете, что они вытворяли с этой бедной старой кошкой? Тащили ее на веревке и хотели утопить. Видите, как глубоко врезалась веревка вот здесь! Мне кажется, мальчишки презирают всех старых и слабых.
Он протянул мне кошку, которая в его маленьких высохших руках казалась почти мертвой. Более несчастного существа мне еще не приходилось видеть.
— Я думаю, — сказал он, — что кошка — одно из самых изумительных созданий в мире. Как глубоко заложена в ней жизнь!
Пока он говорил, кошка приоткрыла пасть, словно протестуя. Вид у нее был самый плачевный.
— Что же вы думаете с ней делать?
— Возьму домой. Ведь тут она может умереть.
— А вы не считаете, что для нее это было бы куда лучше?
— Как знать! Я подумаю. Полагаю, что немножко ласки и тепла пошло бы ей на пользу. Она ведь очень умная: я вижу это по ее глазам.
— Можно мне пройтись с вами немного?
— О, я буду счастлив!
Мы пошли рядом, привлекая к себе насмешливые взгляды чуть ли не всех прохожих: уж очень лицо его напоминало лицо матери, кормящей ребенка!
— Вот увидите, — заверил он меня, — завтра эту кошку нельзя будет узнать. А сейчас мне нужно пробраться к себе так, чтобы моя хозяйка не заметила. Странная она женщина. Я уже подобрал несколько бездомных животных.
— Могу ли я чем-нибудь вам помочь?
— Благодарю вас… Я сейчас позвоню у черного хода, и когда хозяйка пойдет вниз открывать, я проскочу наверх через парадное. Она подумает, что это мальчишки. Они ведь часто так делают.
— Но разве она не убирает ваши комнаты, не прислуживает вам?
От улыбки лицо его еще больше сморщилось.
— У меня всего одна комната, и я сам убираю ее. О, мою хозяйку никак нельзя допускать до этого дела, даже если б это и было мне по карману… Не откажите мне в любезности, пойдемте со мной. Вы могли бы отвлечь ее внимание, спросив, где живет мистер Томсон. Это я. В музыкальном мире я был известен под фамилией Моронелли. Но, по правде сказать, в моих жилах нет итальянской крови.
— А наверх мне можно подняться?
— Это будет большой честью для меня. Но я живу очень скромно.
Мы вышли из парка у Ланкастерских ворот, там, где все дома такие богатые, и углубились в узкую улочку, чем-то похожую на грязного ребенка, который прячется за материнской юбкой. Здесь он вынул из кармана газету и завернул в нее кошку.
— Странная она женщина, моя хозяйка, — повторил старик. — Родом из Шотландии, знаете ли.
Потом он решительно позвонил и стремглав бросился вверх по лестнице.
Но уловка не удалась. Когда он открыл дверь, я увидел в передней невысокую худую женщину, одетую в черное, с суровым, бугристым лицом. Ее голос прозвучал резко и решительно:
— Что это у вас, мистер Томсон?
— Газета, миссис Марч.
— Вот как! Но эту кошку вам все равно не удастся протащить наверх.
И тут в голосе этого маленького тщедушного старичка вдруг зазвучала отчаянная решимость.
— Отойдите, прошу вас. Если вы меня не пустите, я съеду с квартиры. Кошку необходимо отнести наверх. Она больна, и я возьму ее к себе.
Тут вмешался я:
— Скажите, здесь живет мистер Томсон?
В ту же секунду он проскочил мимо нее и кинулся наверх.
— Это он, — ответила хозяйка. — До чего же он мне надоел со своими грязными кошками! Он что, вам нужен?
— Да.
— Он живет на самом верху, — сказала она, а затем неохотно, и как бы извиняясь, добавила: — Ничего не могу поделать, он всегда меня раздражает.
— Это не удивительно.
Она взглянула на меня. Неудержимое желание поболтать, одолевающее тех, кто целыми днями открывает на звонки дверь, и присущая шотландцам страсть оправдываться одновременно отразились на ее лице, которое было похоже на холмистый берег, иссушенный восточным ветром.
— Еще бы! — воскликнула она. — Я не отрицаю, человек он добрый. Но у него нет ни капли здравого смысла. Одному богу ведомо, что творится у него там, наверху. Даже не знаю, зачем я держу его у себя. Такому старику следовало бы быть разумнее. Сам недоедает, а их кормит.
Она замолчала, бесцеремонно разглядывая меня своими холодными, блестящими глазами.
— Если вы пойдете наверх, — продолжала она, — постарайтесь образумить его. Меня он никогда к себе не пускает. Не знаю, зачем я только держу его.
Я поднялся на третий этаж. Лестница была узкая, но чистая и пахла клеенкой. Выбрав наугад одну из двух дверей, я постучал. Из-за двери осторожно высунулось его выразительное сморщенное лицо.
— Ах, это вы! — обрадовался он. — А я боялся, что это она.
Комната была довольно большая. Вся обстановка состояла из складной кровати и комода, на котором стояли кувшин и таз. Пол ничем не был застлан. На стене висела птичья клетка с настежь открытой дверцей. В комнате пахло мылом да еще животными и птицами. Из стен, побеленных поверх зеленых продранных во многих местах обоев, торчали гвозди без шляпок. На гвозди высоко над полом были насажены деревянные жердочки, служившие насестом для птиц. Открытое окно было завешено проволочной сеткой. Небольшая спиртовка и старый халат, висевший на вешалке, завершали убранство комнаты, в которую я вошел не без опаски. Старик не преувеличивал. Кроме новой кошки, здесь были еще три кошки и четыре птицы. Все птицы, кроме снегиря, были искалеченные. Кошки жались к стене, стараясь держаться от меня подальше, но внимательно следили за каждым движением своего хозяина. Больные птицы забились в клетку, и только снегирь сидел у него на плече.
— Что за чертовщина! — удивился я. — Как это вам удается держать кошек и птиц в одной комнате?
— Да, это опасно, — согласился он. — Но до сих пор у меня не было никаких неприятностей. Пока у них не залечатся лапки или крылья, они почти не вылезают из клетки. А потом они сидят на этих жердочках. Но вы не думайте, они не останутся здесь долго. Стоит им окрепнуть, и они упорхнут. Окно я завесил сеткой только на время. Завтра я уберу ее, и путь для всей компании будет открыт.
— И тогда они улетят?
— Да. Сначала воробей, а потом и оба дрозда.
— А этот красавец?
— Спросите у него… Эй, забияка, ты тоже упорхнешь?
Но снегирь не удостоил его ответом.
— Ну, а кошки тоже больные? — полюбопытствовал я.
— Да, — ответил старик. — Иначе зачем бы я им понадобился?
Затем он принялся разогревать молоко, почему-то отливавшее синевой, то и дело поглядывая на новую кошку, которую уложил в круглую корзину, поближе к спиртовке. Снегирь тем временем перебрался к нему на голову.
Мне пора было уходить.
— Я всегда рад видеть вас, сэр, — сказал он, а потом, указывая на снегиря, прибавил: — Ну, где вы найдете более очаровательное существо, чем эта птичка? У нее такое доброе маленькое сердечко!.. Просто чудо!
Когда я вышел из его комнаты и стал спускаться вниз, мне казалось, что все еще слышу, как он восторженно говорит: «Просто чудо», — и вижу перед собой этого необыкновенного человека с птичкой, сидящей на его густых серебристых волосах.
Хозяйка все еще стояла внизу у лестницы.
— Значит, вы побывали у него! — заговорила она. — Не знаю, зачем только я держу его… Правда, он любил мою девочку. — На глазах у нее навернулись слезы. — И зачем только я держу его, вместе с его птицами и кошками? Но подумайте сами, куда ж ему деться? Ведь у него нет ни родных, ни друзей — ни одного близкого человека в целом мире. Чудак он! Сам, можно сказать, воздухом питается, а кошек кормит! Терпеть их не могу, только и знают, что объедать его. Он никогда меня к себе не пускает. Кошки и птички! И зачем я его держу? Совсем о себе не думает из-за этих негодных тварей. Я убеждена, что он всегда был таким. Поэтому-то и сидел всю жизнь у разбитого корыта. У него нет ни капли здравого смысла.
И она испытующе посмотрела на меня. Видно было, что ей ужасно хочется узнать, что меня сюда привело.
После этого я довольно долго не встречал старика в парке и в конце концов решил навестить его. Если завернуть за угол грязной маленькой улочки, на которой он жил, то сразу натыкаешься на извозчичий двор. У ворот я увидел группу людей, столпившихся вокруг медведя, — одного из тех медведей, которых иногда водят по окраинам наших больших городов. Бурый зверь сидел на задних лапах, почтительно поглядывая на кнут своего хозяина. Время от времени он ворчал и, задрав голову, неуклюже тыкался мордой из стороны в сторону. Зрелище это забавляло зрителей, но раскошеливаться они явно не собирались.
— Позвольте вашему медведю встать на все четыре лапы, и я дам вам пенни, — услышал я чей-то голос и тут же увидел моего старика в его серой шляпе с обвислыми полями. Он тоже оказался среди толпы зевак, каждый из которых был на добрую голову выше него.
Но хозяин медведя только ухмыльнулся и сильно ткнул зверя в грудь. Он, видимо, сразу смекнул, чем тут пахнет.
— Я дам вам два пенса, только не мучьте его.
— Маловато! — Хозяин осклабился еще шире и снова ткнул медведя в грудь.
Зрители развеселились.
— Три пенса! А если вы не сделаете этого, я вас стукну.
— Идет! — крикнул хозяин и протянул руку. — Так и быть: за три пенса согласен.
Я видел, как хозяин взял монеты и как затем зверь опустил передние лапы на землю. Как раз в эту минуту показался полицейский. Хозяин поспешил увести медведя, зеваки разошлись, и мы с моим стариком остались одни.
— Как бы мне хотелось взять к себе этого медведя, — сказал он. — У меня ему было бы хорошо… Но даже если бы я и мог купить его, что стал бы я с ним делать там, наверху, у себя? Ведь она такая странная женщина!
Мы шли по улице, и его мрачное настроение постепенно рассеивалось.
— Медведь — поистине необыкновенное животное, — сказал он. — Какие у него умные маленькие глазки! Я совершенно убежден, что это чудо природы!.. М-да, теперь моим кошечкам придется обойтись без обеда. Я собирался купить им еду на те три пенса.
Я попросил старика позволить мне купить что-нибудь его питомцам.
— Ну, что ж! — обрадовался он. — Зайдем вот сюда. Больше всего они любят тресковые головы.
В рыбной лавке хозяин посматривал на него с той же насмешливой улыбкой, какую он обычно вызывал и у других. Но мой друг ничего не замечал: он был слишком занят, разглядывая рыбу.
— Рыба — удивительное создание, уверяю вас, стоит только над этим задуматься, — пробормотал он. — Взгляните на ее чешуйки. Видели ли вы когда-нибудь такое совершенство?
Мы купили пять тресковых голов, которые он тут же сунул в кошелку. Затем мы распрощались, и он ушел, видимо, предвкушая удовольствие, с которым будет любоваться своими кошками, уплетающими эти головы.
После этого я часто виделся с ним. Иногда мы ходили вместе покупать какую-нибудь еду для его кошек, которых, кажется, становилось все больше. Он только и говорил, что о своих питомцах, о чудесах природы и о той поре в его жизни, когда он играл на флейте в театре «Хармони». Старик был без работы, если не ошибаюсь, больше десяти лет. И когда его об этом спрашивали, только вздыхал:
— Пожалуйста, оставим это!
Его хозяйка с бугристым лицом никогда не упускала случая поговорить со мной. Она была из тех женщин, которые всегда поступают по совести, но потом негодуют и злятся на свою совестливость.
— Я никуда не хожу, — говорила она.
— А почему?
— Не могу оставить дом.
— Но ведь дом не убежит.
А она, бывало, уставится на меня, будто думает, что дом и в самом деле может убежать, и повторяет:
— Ах, я никуда не хожу! Поистине шотландский темперамент!
Однако, несмотря на бойкий нрав, жилось ей, видимо, нелегко: вечно надо было что-то убирать, мыть, чистить, выбегать к двери на звонки, безвыходно сидеть дома и самой удивляться, зачем она держит у себя этого старика. Точно так же и ему жилось нелегко: надо было ходить по улицам, подбирать бездомных животных, всюду отыскивать чудеса природы и называть ее странной женщиной. Казалось, только умершая девочка связывает их.
И все же, когда в июле я снова зашел к ним, хозяйка была очень расстроена. Оказалось, что еще три дня назад бедный старик серьезно заболел.
— Он там, у себя, — сказала она. — Ни к чему не притрагивается. Я уверена, что он сам во всем виноват — все эти годы отказывал себе в еде ради своих кошек. Я сегодня выгнала вон этих мерзких тварей; духу их здесь больше не будет.
— Напрасно вы это сделали, — сказал я. — Это только огорчит его.
Она вскинула голову.
— Ха!.. Не знаю, зачем я вообще держала его у себя столько лет вместе с этими птицами и кошками, которые загадили весь дом. А теперь он лежит там и бормочет что-то совсем непонятное. Он заставил меня написать какому-то мистеру Джексону, в какой-то театр. Нет у меня никакого терпения. Да еще этот плюгавый снегирь все время торчит у него на подушке! Я бы и с ним расправилась, попадись только он мне в руки.
— А что говорит доктор?
— Двухстороннее воспаление легких. Наверно, промочил ноги, когда гонялся за какой-нибудь бездомной тварью. Мне теперь приходится за ним ухаживать. Его нельзя оставлять одного.
Когда я вошел к нему в комнату, он лежал совсем тихо. Солнечный свет падал на его постель, а снегирь и вправду сидел на подушке. От сильного жара у старика пылали щеки, и поэтому лицо его казалось еще краснее обычного. И он не то чтобы бредил, но и не владел полностью своими мыслями.
— Мистер Джексон!.. Он скоро приедет… Мистер Джексон! Он это сделает для меня. Я вправе попросить его, раз уж приходится умирать… Странная женщина!.. Мне не хочется есть!.. Только бы вздохнуть…
Тут снегирь вспорхнул с подушки и стал кружить по комнате, очевидно, напуганный непривычными тревожными нотками, прозвучавшими в голосе хозяина.
Старик, должно быть, узнал меня.
— Кажется, я умираю, — сказал он. — Я очень ослабел… Как хорошо, что некому горевать обо мне… Хоть бы он пришел поскорее… Пожалуйста… — Тут он с трудом приподнялся на постели. — Пожалуйста, уберите эту сетку с окна… чтобы мои кошки могли вернуться… Она их прогнала. Я хочу, чтоб он пообещал взять их к себе… и этого маленького забияку… чтоб кормил их на мои деньги, когда я умру…
Понимая, что такое волнение для него опасно, я убрал сетку. Тогда он снова упал на подушку и сразу же успокоился. Вскоре все его кошки, одна за другой, крадучись, влезли в окно и, спрыгнув на пол, расселись у стены. А снегирь, как только он умолк, вернулся на подушку.
Старик, не отрываясь, смотрел на солнечные блики, игравшие на его постели, и глаза его излучали какое-то неземное сияние.
— Видели ли вы что-нибудь более прекрасное, чем этот солнечный свет? тихо, но вполне внятно спросил он. — Это поистине чудо природы!
Затем он не то забылся, не то впал в оцепенение. А я продолжал сидеть у окна, чувствуя облегчение и в то же время несколько обиженный тем, что заботу о кошках и снегире поручили не мне.
Вскоре с улицы донесся шум легковой машины. И почти сразу же в комнате появилась хозяйка. Эта женщина, всегда такая резкая и порывистая, вошла совсем тихо и сказала шепотом:
— Он приехал.
Я вышел навстречу гостю и увидел человека лет шестидесяти, в черном пиджаке и ярком жилете, из карманчика которого свисала золотая часовая цепочка, в светлых брюках, лакированных ботинках и глянцевитой шляпе. У него было пухлое, красное лицо и нафабренные седые усы. Казалось, весь он лоснится, только глаза были тусклые, с желтоватым налетом, как у человека, страдающего болезнью печени.
— Мистер Джексон?
— Он самый. Как наш старик?
Я открыл дверь в соседнюю комнату, которая, как мне было известно, всегда пустовала, и жестом пригласил его войти.
— Он тяжело болен. Если вы не возражаете, я расскажу вам, зачем он хотел вас видеть.
Мистер Джексон бросил на меня выразительный взгляд, который, вероятно, должен был означать: «Меня не проведешь!»
— Ну, ладно! — буркнул он. — В чем дело? Я рассказал ему обо всем и добавил:
— Он, должно быть, думает, что в случае его смерти вы, по доброте сердечной, согласитесь опекать его питомцев.
Мистер Джексон ткнул тростью с золотым набалдашником в облезлый умывальник.
— Он что, и впрямь собирается отдать богу душу?
— Боюсь, что так. Он страшно исхудал — кожа да кости. В чем только душа держится!
— Гм! — хмыкнул мистер Джексон. — Бездомные кошки, говорите, да еще снегирь! Ну что ж, ничего не поделаешь. Он всегда был немножко с придурью. Так-то… Когда я получил письмо, то подумал: «Что за черт!» Мы регулярно выплачивали ему пять фунтов каждые три месяца. И сказать по правде, он заслужил это. Тридцать лет работал в нашем заведении и не пропустил ни одного дня. Был первоклассным флейтистом. Ему не следовало бросать работу, и я всегда считал, что сделал он это с болью в сердце. Если человек не заботится о себе, — пропащее дело. На этот счет у меня твердое мнение. Поверьте, я был таким же, как он, когда начал свою карьеру. Но я не стоил бы и ломаного гроша, если б пошел по его стопам. Это уж точно! — Мистер Джексон самодовольно крякнул и продолжал: — Бывали у нас в «Хармони» и трудные времена. Приходилось от многого отказываться. Но самое главное у нас все же осталось — музыка. Старина Моронелли — мы называли его так, потому что, видите ли, тогда были в моде итальянские фамилии — считался у нас лучшим флейтистом. Однажды я пришел к нему и говорю: «Послушайте, Моронелли, с кем из наших молодых флейтистов нам проще всего расстаться?» «Ах, мистер Джексон, — говорит он. Как сейчас, помню его смешную сморщенную физиономию. — Неужели одного из них придется уволить? У Тимминсани — это тот, что был постарше, — жена, семья. А Сметони — то есть Смит, значит, — у него только сынишка. Плохие времена настали для флейтистов». «Да, — говорю, — знаю, нелегко пойти на это, но наш театр вынужден сейчас сократить расходы. Одному из них придется уйти». «Боже мой!» — закричал он. Смешной он все-таки старикашка!.. М-да, так что ж вы думаете? На следующий день он сам попросил, чтобы его уволили. Даю вам слово, я сделал все, чтобы отговорить. В то время ему было ни много, ни мало шестьдесят лет. А в таком возрасте не так-то просто найти работу. Но он стоял на своем и только твердил: «Ничего, я найду себе место». Но ведь вы знаете, ничего он не нашел. Слишком долго проторчал в одном заведении. Как-то случайно я узнал, что он очень нуждается. Вот тогда-то я и стал выплачивать ему это пособие. Но что за неисправимый старик! Никогда не думает о себе… Кошки!.. Ну, ладно, я позабочусь о его кошках. Пусть не беспокоится. И птичку тоже возьму. Не знаю только, будет ли им у меня так же хорошо, как здесь? — Мистер Джексон оглядел маленькую пустую комнату и, снова крякнув, продолжал: — Он проработал с нами в «Хармони» тридцать лет. Сами понимаете, срок немалый. А я там нажил себе состояние.
— Я уверен, что ваше согласие очень его утешит! — заметил я.
— Ах, да что вы! — воскликнул он и, помолчав немного, протянул мне свою визитную карточку: «М-р Сирил Портес Джексон, «Ultima Thule», Уимблдон». Приезжайте как-нибудь ко мне. Посмотрите, как я их там устрою. А сейчас, если старичок и в самом деле собирается протянуть ноги, я бы хотел взглянуть на него… просто так, в память о старой дружбе.
Мы пошли в комнату больного, причем мистер Джексон старался как можно бесшумнее ступать в своих лакированных ботинках. Там мы застали хозяйку, которая не спускала с кошек сердитого взгляда. При нашем появлении она встала и молча вышла из комнаты, покачав головой, словно хотела сказать: «Ну, теперь вы сами видите, что мне приходится здесь выносить. Даже отлучиться из дому нельзя».
Наш старик лежал совсем тихо все в том же странном оцепенении. Мы подумали, что он без сознания, хотя его голубые глаза не были закрыты и, казалось, пристально смотрели на что-то для нас невидимое. Серебристые волосы и слабый румянец на маленьком, худом лице придавали ему какой-то неземной облик. Постояв минуты три молча возле его постели, мистер Джексон прошептал:
— У него и вправду чудной вид. Бедный старик! Скажите ему, что я позабочусь о его кошках и птичке. Пусть не тревожится. Ну, мне пора, машина ждет… Мне его жаль чуть не до слез, поверьте… Вы не уходите, он еще может прийти в себя.
И, перенеся всю тяжесть своего массивного тела на носки лакированных скрипящих ботинок, он на цыпочках двинулся к двери. Потом, ослепив меня брильянтовым кольцом, проговорил хриплым шепотом: «Пока! Все будет в порядке!» — и исчез. Вскоре я услышал шум мотора и, выглянув в окно, увидел, как мелькнула на узкой улочке его сверкавшая на солнце шляпа.
Я пробыл у больного еще некоторое время в надежде передать ему то, что сказал мистер Джексон. Это было какое-то таинственное жуткое бдение при угасавшем свете дня в присутствии пяти кошек — да, да, их было не меньше пяти! — которые, словно сфинксы, лежали или сидели вдоль стен и глазели на своего недвижного покровителя. Я не мог понять, чем же они были так зачарованы: то ли его неподвижностью и блестящими глазами, то ли сидевшей у него на подушке птичкой, которая, как им, наверно, казалось, скоро станет их добычей. Я обрадовался, когда хозяйка снова вошла в комнату и я мог передать ей слова мистера Джексона.
На следующий день, когда хозяйка, как обычно, открыла мне дверь, я сразу понял, что его уже нет. У нее был такой скорбный и многозначительный вид, по которому безошибочно угадываешь особое траурное волнение, царящее в доме, куда входит смерть.
— Да, — сказала она, — он скончался сегодня утром. Так и не пришел в себя после вашего ухода. Хотите взглянуть на него?
Мы поднялись наверх.
Он лежал, прикрытый простыней, в полутемной комнате. Хозяйка отдернула оконную занавеску, и комнату залил солнечный свет. Его лицо, теперь почти такое же белое, как и его седые волосы, излучало мягкое сияние, словно лицо спящего ангела. На разгладившихся, точно фарфоровых, щеках не было и следа волос, которые часто продолжают расти на лицах у покойников. А на груди сидел снегирь и смотрел ему прямо в лицо.
Хозяйка задернула занавеску, и мы вышли.
— Кошек я загнала сюда, — сказала она, указывая на комнату, где я разговаривал с мистером Джексоном. — Этот джентльмен может прислать за ними в любое время. Не знаю только, что делать с этой птицей; никак не могу поймать ее. И вообще все это кажется мне таким странным.
Мне тоже все это казалось странным.
— После него не осталось денег даже на похороны. Он никогда не думал о себе. Как это ужасно! И все же я рада, что держала его у себя.
Тут она неожиданно расплакалась, и это не удивило меня.
Я послал мистеру Джексону телеграмму, а в день похорон отправился в «Ultima Thule», Уимблдон, чтобы узнать, сдержал ли он свое обещание.
Он сдержал обещание. В саду, за теплицей, где выращивали виноград, стоял небольшой сарайчик. Его привели в порядок — вымыли, вычистили, разложили вдоль стен подушки, а на пол поставили корытце с молоком. Более удобное и роскошное помещение для кошек трудно было найти.
— Ну как? — спросил меня мистер Джексон. — Кажется, все сделано основательно.
И все же я заметил, что настроен он довольно мрачно.
— Вот только сами кошки… — снова заговорил мистер Джексон. — В первый день они чувствовали себя как будто хорошо. Но на второй день их осталось только три. А сегодня садовник сказал мне, что они все исчезли. Дело тут не в еде. У них было сколько угодно требухи, печенки и молока. Были и тресковые головы; вы же знаете, они их любят. Должен признаться, я немного огорчен.
Между тем на пороге появилась рыжая кошка, которую я очень хорошо запомнил по оторванному левому уху. Она остановилась и, припав к полу, посмотрела на нас своими зелеными глазами. А когда мистер Джексон едва слышно позвал ее: «Кис, кис!», — кошка бросилась наутек и вскоре исчезла в кустах.
— Упрямые бестии! — вздохнул мистер Джексон и повел меня назад к дому через оранжерею, где было множество великолепных орхидей. Там висела позолоченная птичья клетка, — такую большую клетку мне не часто доводилось видеть. Она была до того хороша и удобна, что могла порадовать сердце любой птицы.
— Это что, для снегиря? — спросил я.
— Разве вы не знаете? — удивился он. — Этот маленький бродяга никак не давался в руки. А на следующее утро его нашли мертвым на груди у старика. Как это все-таки трогательно! Ну, а клетку я решил не снимать до вашего прихода: хотелось, чтоб вы видели, какая жизнь ждала его здесь. О, я уверен, ему было бы неплохо в «Ultima Thule».
И мистер Джексон протянул мне красивую кожаную коробку с сигарами.
Тут с языка у меня сорвался вопрос, который я давно уже хотел задать:
— Скажите, мистер Джексон, почему вы назвали свой дом «Ultima Thule»?
— Почему? — Он улыбнулся и отрывисто крякнул: — Вы прочли это название на воротах. И, наверно, считаете его distingue [13]. Не правда ли?
— Несомненно, — ответил я. — Да и весь ваш дом — последнее слово комфорта.
— Мне очень приятно, что вы так думаете. Я вложил в него немало денег. У человека должен быть теплый уголок, где он может дожить свой век. Да, «Ultima Thule» — это мое прибежище. И оно почему-то всегда приносит мне удачу.
Когда я возвращался в город, эти слова долго еще звучали у меня в ушах, а перед глазами неизменно вставал образ маленького тщедушного старичка в его «Ultima Thule» с мертвым снегирем на сердце, которое никогда не знало удачи,
1908–1915 гг.
ПЯТЬ РАССКАЗОВ
ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ
И будут первые последними,
а последние — первыми.
Священное писаниеI
К шести часам вечера в комнате становилось темно, и только единственная керосиновая лампа на столе бросала из-под зеленого абажура пятна света на турецкий ковер, на обложки снятых с полок книг и открытые страницы той, что была выбрана для чтения, на темно-синий с золотом кофейный сервиз, расставленный на низеньком столике, покрытом вышивкой в восточном вкусе. Зимой, когда шторы опускались, в этой комнате с обшитым дубовыми панелями потолком и такими же стенами, с рядами тяжелых томов в кожаных переплетах было совсем темно. Комната к тому же была очень большая, так что освещенное место у камина, где сидел Кит Даррант, казалось крохотным оазисом. Но это нравилось ему. После трудового дня, усердного изучения судейских «дел» по утрам, после волнений и напряженных часов в суде те два часа перед обедом, что он проводил за книгами, кофе и трубкой, а порой и в легкой дремоте, были для него отдыхом. В своей старой куртке коричневого бархата и красных турецких туфлях Кит хорошо гармонировал со своим обрамлением — смесью света и темноты. Художника живо заинтересовало бы его желтоватое, резко очерченное лицо, изгиб черных бровей над глазами, серыми или карими — трудно было сказать, — темные, с проседью волосы, все еще густые, несмотря на то, что в суде он весь день не снимал парика. Сидя здесь, Кит редко думал о своей работе, с привычной легкостью отвлекаясь от утомительных размышлений, которые требовались, чтобы распутывать бесчисленные нити доводов и показаний. Для его ясного ума, научившегося почти бессознательно отбрасывать все несущественное и из множества человеческих поступков и путаных подробностей отбирать юридически важное, работа в суде была глубоко интересна и только иногда скучна и неприятна. Вот, к примеру, сегодня он заподозрил одного клиента в лжесвидетельстве и почти решил отказаться от ведения его дела. Ему сразу не понравился этот хилый, бледный человек, его нервные, сбивчивые ответы и испуганные глаза навыкате — слишком обычный тип в наши дни лицемерной терпимости и сентиментальной гуманности. Нехорошо, нехорошо!
Сняв с полки три книги: томик Вольтера — в этом французе, несмотря на его разрушительную иронию, было какое-то удивительное очарование, «Путешествия» Бэртона и «Новые арабские ночи» Стивенсона, Кит выбрал последнюю. В этот вечер он испытывал потребность почитать что-нибудь успокоительное, ему ни о чем не хотелось думать. В суде весь день толпился народ, было душно. Он пошел домой пешком, но слабый, влажный ветер с юго-запада ничуть не бодрил и не освежал. Кит устал, был раздражен, и впервые пустота его дома показалась ему чужой и неприютной.
Привернув фитиль лампы, он повернулся к камину. Может быть, немного поспать, прежде чем идти на скучный обед к Телассонам? Как жаль, что сейчас не каникулы и из школы не приедет Мэйзи. Он уже много лет был вдовцом- и отвык от присутствия женщины в доме, но сегодня он испытывал сильное желание побыть со своей юной дочерью, увидеть ее быстрые движения и темные блестящие глаза. Удивительно, что некоторые мужчины постоянно нуждаются в обществе женщины. Вот как брат Лоренс. Опустился… стал совсем безвольным… и все из-за женщин! Стоит на краю пропасти, живет чуть не впроголодь, утратил все таланты! Можно было думать, что шотландская выдержка спасет его, но когда шотландец начнет катиться вниз, его не остановишь.
Странно, что в двух таких разных людях, как они с братом, течет одна кровь. Он, Кит, всегда думал, что только этой крови их матери он обязан всеми своими успехами.
Мысли его внезапно перескочили на одно дело, которое тревожило его профессиональную совесть. Он, как всегда, не сомневался в своем всестороннем знании дела, но на этот раз отнюдь не был уверен, что дал правильный совет. Ну что ж! Без умения решать и отстаивать свои решения, не поддаваясь никаким опасениям, трудно рассчитывать на прочное положение в адвокатуре, трудно рассчитывать вообще на что-либо. С годами он все более убеждался в необходимости действовать решительно, по-мужски, во всех житейских делах. Слово и натиск, но первым делом — натиск! Никаких сомнений и колебаний, никаких тошнотворных сентиментов, этого порождения нынешнего угасающего века!
Красивое лицо Кита исказилось почти дьявольской усмешкой — впрочем, это, быть может, была игра мерцающего огня камина. Усмешку медленно стерла дремота, Кит уснул…
Он проснулся внезапно, ощутив чье-то присутствие в темноте, и спросил, не поворачивая головы: «Что такое?» Ему показалось, что кто-то тяжело переводит дух. Кит прибавил свет в лампе.
— Кто тут?
Голос у двери ответил:
— Это я, Ларри!
То ли потому, что его внезапно разбудили, то ли голос брата звучал как-то необычно, но Кит невольно задрожал.
— Я спал. Входи.
Он не поднялся и даже не повернул головы, узнав, кто пришел, а сидел, не сводя полузакрытых глаз с огня, и ждал, пока Лоренс подойдет к нему: посещение брата не сулило ничего хорошего. Кит слышал его прерывистое дыхание и уловил запах виски. Неужели он не может воздержаться, хотя бы когда идет сюда? Это было так по-детски, говорило о полном отсутствии чувства меры и приличия! И он резко спросил:
— Ну, что случилось, Ларри?
С Лоренсом всегда что-нибудь случалось. Кит нередко удивлялся силе того покровительственного чувства, которое заставляло его терпеливо сносить хлопоты, доставляемые просьбами братца. Или это узы крови и шотландская преданность родне (устарелое качество, которое и разум его и отчасти инстинкты отвергали как слабость), несмотря ни на что, привязывали его к брату-неудачнику? Что он там мешкает у двери: должно быть, пьян? И Кит произнес уже мягче:
— Что ж ты не проходишь? Садись.
Лоренс подошел ближе, держась стен и избегая света, — нижняя половина его туловища, по пояс, была ярко освещена, а лицо, искаженное тенью, напоминало таинственный лик призрака.
— Ты болен?
Лоренс и на этот раз не ответил, только покачал головой и приложил руку к бледному лбу под всклокоченными волосами. Запах виски еще усилился, и Кит подумал:
«А он действительно пьян! Хорошенькое зрелище для моего нового лакея! Уж если не умеешь себя вести…»
Фигура у стены испустила вздох. То был вздох отчаявшегося сердца, и Кит вдруг подумал с тревогой, что еще не знает причины этого жуткого молчания. Он поднялся и, стоя спиной к камину, сказал жестко — жесткость была невольная, вызванная нервным раздражением:
— Ну в чем же дело? Чего стоишь и молчишь, как рыба? Уж не убил ли ты кого?
Секунду никакого ответа, Кит не слышал даже дыхания. Затем шепот:
— Да.
Ощущение нереального, которое так помогает в минуты бедствия, заставило Кита с силой произнести:
— Боже! Ты действительно пьян!
Но им уже овладел смертельный ужас.
— О чем ты говоришь? Подойди сюда, чтобы я мог тебя видеть. Что с тобой, Ларри?
Пошатываясь и спотыкаясь, Лоренс вышел из укрывавшей его темноты и плюхнулся в освещенное кресло. Опять послышался долгий, прерывистый вздох.
— Со мной ничего, Кит! А то, что я сказал, — правда.
Кит быстро шагнул вперед, пристально посмотрел в лицо брату и сразу же понял: да, это правда, не мог быть притворным этот полный ужаса и удивления взгляд. Глаза казались чужими на лице Ларри. У Кита сжалось сердце — так может смотреть только большое настоящее несчастье. Но нахлынувшая на него щемящая жалость тут же сменилась сердитым замешательством.
— Ради бога, что значит вся эта чепуха?
Однако он заметно понизил голос, потом отошел и проверил, заперта ли дверь. Лоренс придвинул кресло к камину и, сгорбившись, всем своим худым телом наклонился к огню. Его испитое скуластое лицо с ввалившимися голубыми глазами под шапкой вьющихся волос все еще сохраняло некоторую привлекательность.
— Полно, Ларри! Успокойся… не преувеличивай.
— Говорят тебе, это правда! Я убил человека.
Этот громкий, запальчивый ответ подействовал на Кита, как холодный душ. Да как он может кричать громко такие слова? Вдруг Лоренс заломил руки. В этом жесте было столько страдания, что у Кита судорожно задергалось лицо.
— Почему ты решил признаться именно мне?
Отблески огня пробегали по лицу Ларри, придавая ему какое-то сверхъестественное выражение.
— Кому же еще? Я пришел узнать, что мне делать, Кит. Заявить полиции или нет?
От такого внезапного перехода к практическим вопросам у Кита екнуло сердце. Так это не сон? Но он сказал спокойным тоном:
— Ну, расскажи… Как… как все это случилось?
После этого вопроса тягостный, отвратительный кошмар превратился в действительность.
— Когда это произошло?
— Прошлой ночью.
В лице Ларри было — Кит и раньше замечал это выражение — что-то детское, правдивое. Нет, адвоката из него бы не вышло! Кит продолжал:
— Как? Где? Расскажи все по порядку, с самого начала. Вот, выпей кофе, это прочистит тебе мозги.
Ларри взял голубую чашечку и осушил ее.
— Да, — начал он. — Вот как это было, Кит… Несколько месяцев назад я познакомился с девушкой…
«Опять женщины!»
— Дальше, — процедил Кит сквозь зубы.
— Отец ее, поляк, умер здесь, когда ей было шестнадцать лет, и она осталась совсем одна. В том же доме жил некто Уолен, полуамериканец. Она очень хорошенькая, и Уолен женился на ней или сделал вид, что женился… Вскоре он бросил ее с шестимесячным ребенком на руках, когда она ожидала уже второго. Новорожденный умер, и она чуть не умерла. Потом она голодала, пока не сошлась с другим человеком. Они прожили вместе два года, потом вдруг появляется Уолен и заставляет ее вернуться к нему. Этот негодяй ни за что ни про что избивал ее до крови. Потом снова бросил. В то время, как я встретился с ней, старший ее ребенок тоже умер, и она спала с кем попало.
Лоренс вдруг посмотрел Киту в лицо.
— Клянусь тебе, я никогда не встречал такой милой и доброй женщины. Женщина! Да ей только двадцать лет! Когда я вчера пришел к ней, этот скот Уолен опять разыскал ее. Он увидел меня и начал хулиганить, задевать меня. Потом кинулся на меня. Смотри! — Ларри дотронулся до ссадины на лбу. — Ну, я схватил его за горло, и когда отпустил…
— Ну?
— Он был мертв. Я только потом узнал, что она повисла на нем сзади.
Он снова заломил руки. Кит сурово спросил:
— И что же ты сделал потом?
— Мы долго сидели около него. Потом я взвалил его на плечи и отнес за угол, под арку.
— Далеко?
— Ярдов пятьдесят.
— …Кто-нибудь видел тебя?
— Нет.
— Когда это случилось?
— В три часа ночи.
— Что было потом?
— Я вернулся к ней.
— Зачем же?.. О боже!
— Она боялась остаться одна, и я тоже, Кит.
— Где это?
— В Сохо. Дом сорок два по Борроу-стрит.
— А арка?
— На углу Глав-Лейн.
— Что?! Да ведь я читал об этом в газете!
Схватив лежавшую на столе газету, Кит прочел: «Сегодня утром под аркой на улице Глав-Лейн, Сохо, обнаружено тело неизвестного. Следы пальцев на горле свидетельствуют о примененном насилии. Труп, по-видимому, был обобран, и ничего не найдено, что могло бы помочь установить личность убитого».
Значит, все — истинная правда! Убийство! Его родной брат — убийца! Он обернулся и сказал:
— Ты узнал об этом из газет, и тебе все приснилось… Слышишь, тебе приснилось!
Ларри ответил грустно:
— Если бы это было так, Кит!
Теперь Кит сам готов был в отчаянии заломить руки.
— Ты что-нибудь взял… с тела?
— Когда мы боролись, выпало вот это.
Ларри протянул пустой конверт с южноамериканской маркой, на конверте был адрес: «Патрик Уолен, отель Саймона, Фэррьер-стрит, Лондон». У Кита снова екнуло сердце.
— Брось это в камин, — сказал он, но вдруг нагнулся, чтобы вытащить конверт из огня. Ведь тем самым он становился как бы сообщником этого… этого… Однако он не тронул конверта. Бумага потемнела, покоробилась и превратилась в пепел.
Кит повторил вопрос:
— Что заставило тебя прийти и рассказать все это мне?
— Ты разбираешься в таких вещах. Я ведь не хотел убивать его. Я люблю эту девушку. Что мне делать, Кит?
До чего же он прост! Спрашивает, что ему делать! Как это похоже на Ларри! И Кит спросил:
— Как ты думаешь, тебя никто не видел?
— Улица темная и глухая, и никого там не было.
— Когда ты совсем ушел от нее?
— Около семи.
— И куда пошел?
— Домой.
— На Фицрой-стрит?
— Да.
— Кто-нибудь видел, как ты входил?
— Нет.
— Что ты делал с тех пор?
— Сидел у себя.
— Никуда не выходил?
— Нет.
— И не виделся с этой женщиной?
— Нет.
— Значит, ты не знаешь, что она делала все это время?
— Нет.
— Она способна тебя выдать?
— Никогда!
— А она не истеричка, себя не выдаст?
— Нет.
— Кто еще знает о ваших отношениях?
— Никто.
— Никто?
— Кто же может знать, Кит?
— Кто-нибудь видел тебя, когда ты вечером шел к ней?
— Нет. Она живет на первом этаже. У меня есть ключи.
— Дай-ка их сюда. Что у тебя есть еще, что указывало бы на вашу связь?
— Ничего.
— А дома?
— Ничего.
— Никаких фотографий, писем?
— Нет.
— Припомни хорошенько!
— Ничего нет.
— Никто не видел тебя, когда ты вернулся к ней?
— Нет.
— А когда уходил утром?
— Никто.
— Удачно! Сиди, я должен подумать.
Да, надо обдумать это проклятое дело, столь немыслимое, невероятное! Но Кит не мог сосредоточиться. Мысли разбегались. И он снова начал расспрашивать брата:
— Это была первая встреча с ней Уолена после ею возвращения?
— Да.
— Так она сама сказала тебе?
— Да.
— Как он узнал, где она живет?
— Не знаю.
— Ты был здорово пьян?
— Вовсе не пьян.
— Сколько же ты выпил?
— Пустяки, около бутылки кларета.
— Так говоришь, ты не хотел убивать его?
— Видит бог, нет!
— Ну, это уже кое-что. Почему ты выбрал арку?
— Это было первое попавшееся темное место.
— По лицу видно, что человек задушен?
— Не надо, Кит!
— Я спрашиваю, видно?
— Да.
— Очень обезображено?
— Да.
— Ты не посмотрел, есть ли метки на одежде?
— Нет.
— Почему?
— Почему? Господи! А ты представь себе: если бы ты это сделал!..
— Ты говоришь, что лицо обезображено. Но человека можно опознать?
— Не знаю.
— Когда она жила с ним, где это было?
— Кажется, в Пимлико.
— А не в Сохо?
— Нет.
— Сколько времени она живет в Сохо?
— Около года.
— И все время на той же квартире?
— Да.
— Кто-нибудь из живущих в ее доме или на этой улице знавал ее как жену Уолена?
— Не думаю.
— Что он собой представлял?
— По-моему, он был профессиональный сутенер.
— Понимаю. И вероятно, большую часть времени проводил за границей?
— Да.
— Ты не знаешь, он известен полиции?
— Ничего не слышал об этом.
— Теперь слушай, Ларри. Отправляйся прямо домой и никуда не выходи до моего прихода. Я буду у тебя утром. Обещаешь?
— Обещаю.
— Я сегодня обедаю в гостях, но я все обдумаю. Не пей! Не болтай лишнего! Возьми себя в руки.
— Не держи меня взаперти дольше, чем это нужно, Кит!
О, это бледное лицо, эти глаза, эта трясущаяся рука!
Охваченный жалостью, несмотря на всю свою неприязнь, возмущение, страх, Кит, положил руку на плечо брата.
— Мужайся!
И вдруг подумал: «О Боже! Мне самому понадобится немало мужества!»
II
Выйдя из дома брата на Адельфи, Лоренс направился в северную часть города. Он шел то быстро, то медленно, потом снова быстро. Есть люди, которые усилием воли заставляют себя заниматься только одним делом, пока не доведут его до конца, и есть другие, которые из-за отсутствия воли с одинаковой энергией бросаются от одного дела к другому. Таких людей даже Немезида, подстерегающая людей безвольных, не заставит владеть собой. Напротив, эта обреченность подтверждает их излюбленный довод: «Не все ли равно? Завтра все умрем!» То усилие воли, которое потребовалось Ларри, чтобы пойти к Киту, дало ему некоторое облегчение, но окончательно измучило и даже ожесточило его, и он шагал, обуреваемый по очереди этими чувствами, то быстрее, то медленнее. От брата Ларри вышел с твердым намерением отправиться домой и спокойно ждать. Он был у Кита в руках; Кит решит, что надо делать. Но не прошел он и трехсот ярдов, как ощутил такую усталость душевную и физическую, что, окажись у него, в кармане пистолет, он застрелился бы тут же на улице.
Даже мысль о юной и несчастной девушке и ее слепой привязанности к нему, о той, которая так поддерживала его последние пять месяцев и вызвала к себе такое сильное чувство, какого он не знал никогда, не смогла бы противостоять этой страшной подавленности. Зачем тянуть дальше ему, беспомощной игрушке своих страстей, соломинке, гонимой то туда, то сюда любым душевным порывом? Почему не покончить с этим и не заснуть навсегда?
Ларри приближался к дому на злополучной улице, где он и его возлюбленная просидели все утро, тесно прижавшись друг к другу и стараясь хоть ненадолго найти в любви убежище от ужаса перед случившимся. Зайти к ней? Но он обещал Киту не делать этого. Зачем, зачем он это обещал? В освещенной витрине аптеки Ларри увидел свое отражение. Жалкое животное! И он неожиданно вспомнил собачонку, которую когда-то подобрал на улицах Перы. Собачонка была какой-то незнакомой породы, белая с черным, совсем не похожая на других собак, пария из парий, которая неизвестно как пристала к ним. Не считаясь с обычаями страны, Ларри взял ее в дом, где остановился, и скоро привязался к ней так, что скорее дал бы застрелить себя, чем бросить бедняжку на улице на милость бродячих собак. Двенадцать лет назад. Он вспомнил те запонки из мелких турецких монет, что он привез в подарок девушке из парикмахерской, где он обычно брился, прелестной, как цветок шиповника. Взамен он попросил поцелуй. Когда она подставила лицо его губам, ее красота, и доверчивая благодарность, и жар вспыхнувшей щечки как-то удивительно взволновали Ларри — в нем смешались пылкая нежность и стыд. Девочка скоро уступила бы ему. Но он больше не ходил в ту парикмахерскую, сам не понимая, почему. Он и сейчас не знал, жаль ему или, напротив, радостно, что он не сорвал этот цветок. Должно быть, он сильно изменился с тех пор! Странная штука — жизнь, очень странная: живешь и не знаешь, что сделаешь завтра. Вот быть бы таким, как Кит, — устойчивым, неуклонно делающим карьеру, этакой шишкой, столпом общества. Однажды, будучи еще мальчишкой, он чуть не убил Кита за его насмешки. В другой раз, в Южной Италии, он готов был убить одного извозчика, нещадно хлеставшего свою лошадь. А теперь этот смуглый подлец, который погубил приглянувшуюся ему девушку. И он, Ларри, убил его! Он, который и мухи не обидит. Убил человека.
По дороге, увидев витрины аптеки, Лоренс вдруг вспомнил, что дома у него есть нечто, могущее спасти его, если его арестуют. Теперь он ни разу не выйдет из дома без этих беловатых таблеток, зашитых в подкладку пиджака. Какая успокоительная, даже веселящая мысль! Говорят, человек не должен убивать себя. Пусть бы они, эти бойкие на язык людишки, испытали такой ужас! Пусть бы они пожили, как жила эта девушка, как живут связанные их ханжескими догматами миллионы людей на всем земном шаре! Лучше уйти из жизни, чем видеть их проклятую бесчеловечность.
Он зашел к аптекарю за бромом, и пока тот готовил лекарство, Ларри стоял, отдыхая, на одной ноге, как усталая лошадь.
Да, он отнял жизнь у того человека, но какая это была жизнь! А ведь в конце концов ежедневно умирает биллион живых существ, и скольких из них до этого доводят. Пожалуй, не найти человека, который так бы заслуживал смерти, как этот грязный негодяй. Жизнь! Дуновение, вспышка, ничто! Но почему же тогда такой холод сжимает сердце?
Аптекарь принес лекарство.
— У вас бессонница, сэр?
— Да.
«Прожигаете жизнь? Понимаю!» — как будто говорили глаза аптекаря. Чудное у них занятие: целые дни готовить порошки и пилюли, чтобы поддерживать человеческий организм. Чертовски странное ремесло!
Выходя, Ларри увидел себя в зеркало — лицо его было слишком спокойно для человека, который убил. В нем заметна была живость и ясность, и даже сейчас, омраченное, оно выражало доброту. Как может быть такое спокойное лицо у человека, который сделал то, что сделал он? Ларри почувствовал, что голова его прояснилась, ноги ступают легче, и он быстро зашагал дальше. Какое удивительное ощущение угнетенности и облегчения одновременно! Стремиться к людям, к беседе, которая могла бы отвлечь его от тяжких дум, и бояться людей. Как это ужасно! Она, она и Кит — теперь единственные, кто не вызывает в нем страха. Нет, пожалуй, Кит не… что может быть общего у него, Ларри, с человеком, который никогда не ошибается, с преуспевающим праведником? Он устроен так, что ничего не знает и не хочет знать о себе, вся его жизнь — уверенные действия. Разумеется, плохо быть зыбучим песком, в котором увязают все твои решения, но походить на Кита, этот сгусток воли, который неуклонно движется, топча все чувства и слабости?.. Никогда! Нельзя быть товарищем такого человека, даже если он твой брат. Для Ларри теперь единственным в мире близким существом была Ванда. Только она понимала и разделяла его чувства, только она могла примириться с его слабостями и любить его, что бы он ни сделал и что бы с ним ни случилось.
Ларри вошел в чей-то подъезд, чтобы закурить сигарету.
Внезапно у него возникло опасное желание пройти через арку, куда он вчера отнес тело, желание пугающее, которое не имело ни смысла, ни цели, ничего — просто безотчетная, но страстная потребность снова увидеть то мрачное место. Он пересек Борроу-стрит и вошел в переулок. Там было пустынно, и лишь в другом конце переулка он увидел невысокую темную фигуру съежившегося от ветра мужчины; человек этот направился к нему в мигающем свете уличного фонаря. Ну и внешность! Желтое, испитое лицо, заросшее седой щетиной, бегающие воспаленные глаза, темные испорченные зубы. Одетый в лохмотья, тощий, одно плечо выше другого, немного прихрамывает. Лоренса охватил порыв жалости к этому человеку, более несчастному, чем он сам. Видно, есть еще более глубокие степени падения, чем та, до которой докатился он, Ларри.
— Ну, брат, — сказал он. — Тебе, видно, не очень везет!
Усмешка, осветившая лицо незнакомца, была неправдоподобна, как улыбка чучела.
— Удача что-то не попадается мне на пути, — отвечал он хриплым голосом. — Мне всегда не везло. А ведь когда-то… я был священником… Трудно поверить, правда?
Лоренс протянул ему шиллинг, но незнакомец отрицательно покачал головой.
— Оставьте ваши деньги у себя, — сказал он. — Поверьте, сегодня у меня их больше, чем у вас. Но я благодарен за внимание. Такому пропащему человеку, как я, это дороже денег.
— Вы правы.
— Да, — продолжал незнакомец. — Лучше умереть, чем жить так, как я. К тому же я теперь перестал уважать себя… я часто размышлял, надолго ли у голодающего хватит человеческого достоинства? Ненадолго. Можете мне поверить. — И также монотонно, скрипучим голосом он добавил:
— Вы читали об убийстве? Именно здесь оно и произошло. Я пришел посмотреть на это место.
«Я тоже!» — чуть было не вырвалось у Ларри, но он с каким-то ужасом проглотил эти слова.
— Желаю вам удачи в жизни. Доброй ночи! — пробормотал он и быстро ушел. Он еле сдерживал жуткий смех. Что же это, все в Лондоне уже говорят об убийстве, которое он совершил? Даже это чучело?
III
Есть люди, которые, зная, что в десять часов их повесят, в восемь могут спокойно играть в шахматы. Люди этого типа всегда преуспевают в жизни, из них выходят хорошие епископы, редакторы, судьи, импрессарио, премьер-министры, ростовщики и генералы; им, безусловно, доверяют власть над своими согражданами. Они обладают достаточным количеством душевного холода, в котором отлично сохраняются их нервы. Такие люди не обладают (или обладают в очень незначительной степени) неуловимыми, но устойчивыми склонностями к тому, что обычно туманно называют поэзией, философией. Это люди фактов и решений, люди, которые по желанию включают и выключают воображение, подчиняя чувства рассудку… о них не вспоминаешь, когда смотришь, как колышутся под ветром колосья в поле, как носятся в небе ласточки.
Во время обеда у Теллассонов Кит Даррант по необходимости вел себя, как человек такой породы. Пробило одиннадцать, когда он вышел из большого дома Теллассонов на Портлэнд-Плейс. Он не нанял кэб и пошел пешкам, чтобы по дороге все обдумать. Сколько жестокой иронии в его положении! Ему, уже почти достигшему звания судьи, стать духовником убийцы! Презирая слабости, которые доводили людей до падения, он считал все это дело настолько грязным и невероятным, что с трудом заставлял себя думать о нем. И все же он должен взять его в свои руки — из-за двух сильнейших инстинктов: самосохранения и уз крови.
Дул ветер, еще пропитанный теплотой угасшего дня, но дождя все не было. Киту стало жарко, и он расстегнул шубу. Мрачные мысли делали его лицо еще более суровым: тонкие, красиво вырезанные губы были плотно сжаты, как будто для того, чтобы удержать в себе каждую мелькнувшую мысль. Он уныло брел по заполненным людьми тротуарам. То таинственное и праздничное, что приходит вечерами на освещенные улицы, только раздражало Кита, и он свернул в улицу, где было темнее.
Какой ужасный случай! Убежденный в его реальности, Кит не мог себе, однако, представить, как это произошло: убийство существовало в его уме как неопровержимый факт, а не как живая картина. Ларри не имел злого умысла, это несомненно. Но убийство есть убийство, что ни говори. Люди, подобные Ларри, безвольные, порывистые, сентиментальные, склонные к самоанализу, разве они способны на хладнокровно обдуманные поступки? Убитый Уолен вполне заслужил смерть, о нем и думать не стоит! Но преступление… нарушение Закона… отвратительно! Преступление скрыто и он, Кит, участник этого сокрытия. И все же… предать брата… Разумеется, никто не станет требовать действий от него, Кита! Вопрос лишь в том, что посоветовать Ларри. Молчать и скрыться? Удастся ли это? Может быть… если Ларри ничего от него не утаил. Но эта девушка! Можно ли поручиться, что она не выдаст Ларри, если обнаружится ее связь с убитым? Женщины такого сорта все одинаковы — легкомысленны, безрассудны, переменчивы, как ветер… настоящий бич общества. А что потом? Все дальнейшее существование Ларри будет омрачено этим преступлением, оно будет преследовать его по пятам, куда бы он ни скрылся, висеть на нем тяжким грузом, ожидать удобного момента, когда тайна слетит у пьяного с губ. Об этом подумать страшно. А может быть, ему лучше сознаться? Кит содрогнулся: «Брат мистера Кита Дарранта, видного Королевского адвоката…» И дальше посещение женщины легкого поведения, драка с ее мужем, непреднамеренное убийство, тело, вынесенное из дома и спрятанное под аркой. Какой скандал! Если даже просить помилования, то и тогда пожизненное заключение! Неужели он завтра утром посоветует такое Ларри?
Ему вдруг вспомнились бритые наголо люди с землистыми лицами — то было в Пентонвилле, где он навещал одного заключенного. И Ларри будет среди этих бывших людей! Кит помнил его малышом, только начинавшим ходить, потом мальчиком, которого он опекал в школе; потом и в колледже, где Ларри учился с грехом пополам. Ларри стал взрослым, он, Кит, частенько одалживал ему деньги и при этом читал ему наставления. Ларри на пять лет моложе его, и мать, умирая, поручила ему заботиться о нем. Так неужели же Ларри станет на всю жизнь одним из тех людей в желтой полосатой арестантской одежде, у которых лица — как разъеденные болезнью листья, а вместо волос густая щетина, людей, которых, как стадо баранов, гоняют хамы-надсмотрщики. Джентльмен, его родной брат, изо дня в день, из года в год будет влачить эту жизнь раба, которым все помыкают? Что-то словно оборвалось в душе Кита. Нет, невозможно! Этого он не посоветует. Но в таком случае он должен все проверить, все разузнать, чтобы иметь твердую почву под ногами. Глав-Лейн, арка… это где-то здесь, неподалеку. Он огляделся, ища, у кого бы спросить. На углу стоял полисмен, фонарь освещал его массивное лицо; сразу видно прекрасный служака, сообразительный и наблюдательный. Но Кит молча прошел мимо. Странно, что человеку становится так жутко и не по себе в присутствии Закона. Вот когда дошел до него мрачный смысл происшедшего! Неожиданно Кит заметил, что за поворотом влево начинается Борроустрит. Он прошел по ней вперед, пересек улицу, вернулся. Миновал номер сорок два — небольшое здание с вывесками деловых контор у безмолвных окон второго и третьего этажа; внизу окна плотно занавешены… но в одном углу, кажется, чуть-чуть пробивается свет? Куда же отсюда направился Ларри, сгибаясь под тяжестью своей страшной ноши? Ему пришлось пройти только полсотни шагов по этой грязной улочке, узкой и, слава богу, темной и безлюдной! Вот и Глав-Лейн. Коротенький переулок а, там… Переулок уперся в арку — кирпичный свод, соединяющий две части какого-то склада. Под ней действительно было очень темно.
— Правильно, сэр! Как раз здесь! — Киту понадобилась вся его выдержка, чтобы спокойно обернуться к говорящему. — Вот тут и нашли тело… оно лежало вот так… А убийцу пока не поймали! Последние новости, сэр!
Маленький оборванец протягивал ему измятую газету, напечатанную на скверной желтоватой бумаге. Сквозь космы спутанных волос смотрели рысьи глаза, а в голосе слышалась нотка собственника, набивающего цену на свой товар. Кит дал ему два пенса и взял газету. Его даже успокоило, что здесь болтается этот юный полуночник: значит, и других влечет сюда нездоровое любопытство. При тусклом свете фонаря он прочитал: «Тайна удушения на Глав-Лейн. Личность убитого пока не установлена. Покрой костюма позволяет предположить, что он иностранец». Мальчишка с газетами куда-то исчез, и Кит увидел полисмена, медленно шагавшего по этой улице — к арке. После минуты колебания полисмен остановился. Конечно, только эта «тайна» могла привести его сюда, и он стал внимательно разглядывать арку. Затем он поравнялся с Китом, и Кит увидел, что это тот самый, мимо кого он только что проходил. Как только полисмен заметил белоснежную манишку под расстегнутым меховым воротником Кита, в глазах его погас холодный, оскорбительный вопрос. Указывая на газету, Кит спросил:
— Это здесь было обнаружено тело?
— Да, сэр.
— Пока все остается неразгаданным?
— Не всегда можно верить газетам. Впрочем, не думаю, чтобы расследование подвигалось успешно.
— Как здесь темно. Неужели тут ночуют?..
Полисмен кивнул.
— В Лондоне нет ни одной арки, где бы мы их не находили.
— Мне кажется, я читал, что на трупе ничего не было?
— Ни фартинга. Карманы были вывернуты. В этом квартале живут подозрительные люди — греки, итальянцы… всякие.
Как приятен доверительный тон полисмена!
— Ну что ж, доброй ночи! — Спокойной ночи, сэр.
У Борроу-стрит Кит оглянулся. Полисмен все еще стоял там, подняв фонарь и всматриваясь в проход, как будто пытался разгадать его тайну.
Теперь, когда он сам побывал в этом мрачном и заброшенном месте, шансы на успех его плана показались ему гораздо выше. «Карманы были вывернуты!» Это значит, что либо у Ларри достало ума поступить предусмотрительно, или кто-то ограбил труп до того, как он был обнаружен полицией. Второе более вероятно. Ну и глушь! За те пять минут, которые потребовались, чтобы дойти до арки и вернуться, Ларри мог остаться незамеченным! Три часа ночи — самое глухое время. Теперь все зависело от этой женщины, от того, видели ли Ларри, когда он приходил или уходил от нее, от ее молчания, если обнаружится ее связь с убитым. На улице не видно было ни души, даже в окнах не было света, и тогда Кит принял отчаянное решение, на которое способен лишь тот, кто привык действовать быстро, полагаясь на себя. Надо пойти к этой девушке и увидеть все самому. Он подошел к подъезду дома номер сорок два — такие дома запираются только на ночь — и одним из ключей попробовал открыть дверь. Ключ подошел, и Кит оказался в коридоре с газовым освещением, пол был покрыт линолеумом, слева — единственная дверь. Кит остановился в нерешительности. Надо дать ей понять, что он все знает. Но в то же время нельзя назвать себя. Он — один из приятелей Ларри, не больше! Пугать ее не следует, но надо добиться от нее полной откровенности. Подойти к этой опасной свидетельнице как к стороннице — тонкая задача!
На его стук никто не отозвался.
Не отказаться ли от этой рискованной, требующей напряжения всех нервов попытки докопаться до сути дела? Просто уйти, а Лоренсу сказать, что он ничего не может ему посоветовать? Хорошо, а потом? Нет, что-нибудь сделать необходимо. Кит постучал еще раз. Ответа не было. Кита всегда ужасно раздражали препятствия. Развитию этой черты способствовали условия его жизни. Он нетерпеливо попробовал открыть дверь другим ключом. Ключ подошел.
Из глубины темной комнаты послышался вздох облегчения, и голос с иностранным акцентом произнес:
— Ах, это ты, Ларри! Зачем же ты стучал? Я так испугалась. Зажги свет, дорогой. Ну, входи же!
Ища в полной темноте выключатель, Кит почувствовал, как к нему прижалось теплое полуодетое тело и чьи-то руки обвили его шею. Но в тот же миг женщина отпрянула, и Кит услышал полный ужаса, задыхающийся шепот:
— Кто это?
По спине у Кита пробежала холодная дрожь.
— Не пугайтесь! Я друг Лоренса.
Стало так тихо, что он слышал тиканье часов и движение своей руки, нащупывающей на стене выключатель. Наконец зажегся свет, и у темной занавески, очевидно, отделявшей спальню, Кит увидел девушку: она стояла, придерживая у самого подбородка рукой длинное черное пальто, и оттого ее голова с копной коротко остриженных, вьющихся каштановых волос казалась отделенной от туловища. Лицо девушки было так бледно, что испуганные, широко раскрытые глаза — темно-синие или карие — и приоткрытые бледно-розовые губы напоминали мазки акварели на гипсовой маске. Лицо ее поражало той удивительной тонкостью, правдивостью и одухотворенностью, какие придает только страдание. Даже невосприимчивый к красоте Кит почувствовал волнение.
— Не бойтесь, я не причиню вам зла, — мягко сказал он, — скорее напротив. Разрешите сесть и поговорить с вами? — Показывая ей ключи, он добавил. — Если бы Ларри не доверял мне, он не дал бы мне это, правда?
Девушка не шевелилась, и Киту почудилось, что перед ним дух, покинувший тело. И в то мгновение эта дикая мысль не показалась ему хоть сколько-нибудь странной. Он огляделся: безвкусно убранная, но чистенькая комната, зеркало в тусклой золоченой оправе, столик с мраморной доской у стены, плюшевый диван. Больше двадцати лет он не посещал подобных мест.
— Сядьте, прошу вас, — сказал он. — И простите, что я вас напугал.
Девушка прошептала, не двигаясь:
— Кто же вы?
Испуг в ее голосе тронул Кита и, забыв осторожность, он ответил:
— Я брат Ларри.
Она вздохнула с облегчением, и этот вздох дошел до сердца Кита. Все так же придерживая пальто у подбородка, она подошла к дивану и села. Кит заметил, что ее ноги в ночных туфлях голы. Короткие волосы и наивные испуганные глаза делали ее похожей на высокую девочку. Кит придвинул себе стул и сказал, садясь:
— Извините меня за столь позднее посещение. Но дело в том, что он все рассказал мне.
Он ожидал, что она вздрогнет или ахнет. Но она крепко сжала руки, лежавшие на коленях, и спросила:
— Да?
Тревога и раздражение снова овладели Китом.
— Ужасное дело!
Ее шепот был, как эхо:
— Да! Ужасное, ужасное!
У Кита внезапно мелькнула мысль, что тот человек, наверное, упал мертвым как раз здесь, где сидит он. И он замолк, глядя в пол.
— Да, — прошептала девушка, — здесь. Я все время вижу, как он падает!
Как это было сказано! С каким непонятным и трогательным отчаянием! Что в этой женщине, которая вела дурную жизнь и принесла им такую большую беду, вызывало у него невольное сострадание?
— У вас такой юный вид, — проговорил он.
— Мне двадцать лет.
— Вы… любите моего брата?
— Ради него я пойду на смерть.
Нет, нельзя было сомневаться в искренности ее голоса, в искренности этих глубоких глаз славянки, темно-карих, а не синих, как ему показалось вначале. Либо жизнь этой женщины еще не успела наложить на нее свой отпечаток, либо страдания последних часов и, может быть, привязанность к Ларри стерли следы прошлого, — лицо ее было прекрасно. И сидя перед этим двадцатилетним ребенком, Кит, сорокалетний, многоопытный мужчина, в силу своей профессии знакомый со всеми сторонами человеческой натуры, чувствовал себя неуверенно. Немного запинаясь, он сказал:
— Я пришел выяснить, что вы можете сделать, чтобы спасти его. Слушайте и отвечайте на мои вопросы.
Она сжала руки и тихо сказала:
— Хорошо! Я отвечу на все ваши вопросы.
— Этот… ваш… муж был дурной человек?
— Ужасный!
— Сколько времени вы не видели его до того, как он вчера пришел к вам?
— Полтора года.
— Где вы жили с ним?
— В Пимлико.
— А кто-либо здесь знает вас как миссис Уолен?
— Нет. Я приехала сюда после смерти моей девочки. С тех пор вела плохую жизнь. Я живу одна. У меня нет знакомых.
— Если его опознают, то полиция станет разыскивать его жену?
— Не знаю. Он никому не говорил, что мы женаты. Я была слишком молода. Он, наверное, со многими поступал так, как со мной.
— Как вы думаете, известен он полиции? Она покачала головой.
— Он был очень хитрый.
— Какое имя вы теперь носите?
— Ванда Ливинска.
— Так вас звали до замужества?
— Ванда — мое настоящее имя. А фамилию Ливинска… я себе придумала.
— С тех пор, как вы переехали сюда?
— Да.
— Ларри до вчерашнего вечера когда-нибудь видел этого Уолена?
— Ни разу.
— Но вы рассказали Ларри, как он обращался с вами?
— Да. И, кроме того, Уолен первый кинулся на Ларри.
— Да. Я заметил у Ларри ссадину. Кто-нибудь видел, как Ларри пришел к вам?
— Не знаю. Ларри говорит, что нет.
— А как вы думаете, видели его, когда он нес… это?
— Я смотрела в окно. На улице никого не было.
— А когда он возвращался? — Никого.
— Может быть, видели, как он уходил утром?
— Вряд ли.
— А вам кто-нибудь прислуживает?
— Каждое утро в девять часов приходит уборщица. Она бывает здесь не больше часа.
— Она знает Ларри?
— Нет.
— У вас есть друзья, знакомые?
— Нет, никого. Я люблю быть одна. А с тех пор, как встретилась с Ларри, и вовсе никого не вижу. Ко мне давно уже, кроме него, никто не приходит.
— Сколько времени?
— Вот уже пять месяцев.
— Вы сегодня выходили из дому?
— Нет.
— Что же вы делали?
— Плакала, — с пугающей простотой ответила она и, сжав руки, продолжала:
— Из-за меня он в опасности. Я так боюсь за него. Успокоив ее жестом, Кит сказал:
— Посмотрите на меня!
Она устремила на него свои темные глаза. Накинутое на плечи пальто распахнулось, и Кит увидел, как от волнения дергалось ее горло.
— Если случится худшее и поиски преступника приведут полицию сюда, вы уверены, что не выдадите Ларри?
Глаза ее заблестели. Она встала и подошла к камину:
— Посмотрите сюда! Я сожгла все, что он мне подарил, даже его фотографию. У меня не осталось ничего.
Кит поднялся.
— Очень хорошо! И еще один вопрос: вы… известны полиции, как… ну, из-за вашего образа жизни?..
Она отрицательно покачала головой, пристально глядя на него своими печальными правдивыми глазами. Киту стало стыдно.
— Я был вынужден спросить это. Вы знаете, где живет Ларри?
— Да.
— Вам не следует больше бывать у него, а он не должен приходить к вам.
Губы у нее задрожали, но она покорно кивнула головой. Потом подошла вплотную к Киту и заговорила почти шепотом:
— Пожалуйста, не отнимайте его у меня совсем. Я буду очень осторожна. Я не сделаю ничего, что может повредить ему. Но я должна видеть его хоть изредка, иначе я умру. Прошу вас, не отнимайте у меня Ларри! — Она схватила его руку обеими руками и сжала ее. Кит ответил не сразу.
— Можете на меня положиться. Я повидаю брата и что-нибудь придумаю. Но я все сделаю сам, понятно?
— Вы пожалеете меня, неправда ли?
Она поцеловала ему руку, и прикосновение ее мягких влажных губ вызвало у него странное чувство, покровительственное и вместе с тем недоброе, с оттенком чувственности. Он отдернул руку. Как бы получив предупреждение не быть такой настойчивой, Ванда робко отступила. И вдруг насторожилась и застыла на месте, чуть слышно прошептав:
— Тише! Там кто-то есть!
Она бросилась к двери и погасила свет.
Почти одновременно раздался стук в дверь. Кит почти физически ощутил страх Ванды. Ему тоже стало страшно. Кто же это? Она сказала, что, кроме Ларри, никто не бывает здесь. Но тогда кто же это? Стук повторился, на этот раз громче Кит почувствовал у щеки ее дыхание: «А если это Ларри? Я открою!» Отступив к стене, он слышал, как она отперла дверь и тихо сказала: «Кто там? Входите!»
На противоположной стене дрожала полоска света. Голос, уже знакомый Киту, ответил:
— Это я, мисс! У вас открыта входная дверь. Следует запирать ее после наступления темноты.
Боже, опять этот полисмен! А виноват он, Кит: не закрыл дверь с улицы, когда входил! Он услышал робкие слова Ванды: «Благодарю вас, сэр!», шаги удаляющегося полисмена, стук затворяемой двери. Потом Ванда снова очутилась подле него в темноте. Теперь, когда он не видел ее, ее молодость и миловидность, все то, что: раньше смягчило его, уже не могло умерить его раздражения. Все они одинаковы, эти женщины, все лгут!
— Вы же сказали, что неизвестны полиции! — сказал он резко.
Ответ был как вздох:
— Я думала, что они не знают, сэр! Я очень давно не… не выходила. С тех пор, как встретила Ларри.
Отвращение, бурлившее где-то в глубине души, теперь снова поднялось в Ките, когда он услышал эти слова. Его брат, сын его матери, джентльмен, достался этой девке, связан с ней теперь душой и телом из-за этой проклятой случайности! Ванда снова зажгла свет. Быть может, она чувствовала, что темнота против нее! Да, ничего не скажешь, хороша! Это нежное лицо, совсем белое, если бы не губы и темные глаза, так детски трогательно, в нем такая удивительная доброта!
— Я ухожу, — проговорил он. — Но помните, Ларри не должен приходить сюда, и вам нельзя ходить к нему. Я завтра увижу его. Если вы действительно его любите, то будьте осторожны, очень осторожны.
— Да, да, буду! — вздохнула она; Кит пошел к двери. Она стояла у стены и только повернула голову, глядя ему вслед; ее лицо, с выражением голубиной кротости, лицо, на котором жили только глаза, казалось, молило вместе с этими глазами: «Вглядитесь в нас. Мы ничего не таим. Все, все в нас открыто».
Кит вышел.
В коридоре перед входной дверью он остановился. Ему не хотелось снова встретиться с полисменом. Совершая свой обход, тот, вероятно, успел уйти далеко. Подумав так, Кит осторожно повернул ручку, выглянул на улицу. Никого. Он помедлил, решая, куда идти — направо или налево, потом быстро перешел улицу. Справа раздался чей-то голос:
— Доброй ночи, сэр.
У подъезда одного из домов стоял все тот же полицейский! Этот субъект, конечно, видел, как он выходил!
Кит от неожиданности вздрогнул и, пробормотав «Доброй ночи», поспешно пошел прочь.
Он прошел добрых четверть миля, и лишь тогда неприятное ощущение испуга уступило место желчному раздражению — его, Кита Дарранта, приняли за постоянного посетителя проститутки! Как все это гадко и отвратительно! Он казался себе загрязненным, мозг его словно застыл, ожидая, пока снова обретет способность четкого логического мышления. Он, разумеется, узнал все, что ему было нужно. Опасность оказалась меньше, чем он предполагал. Глаза этой женщины! Она, безусловно, предана Ларри и не выдаст его. Да! Ларри должен бежать, в Южную Америку, на Восток — куда угодно. Но Кит не испытывал облегчения. Мысли его то и дело возвращались к плохонькой, безвкусно убранной комнатке, где обитала эта печальная любовь, где чувства были заперты, как в клетке, в желтых стенах среди мебели, обитой красной материей. Какое лицо у этой женщины! И преданность, и искренность, и редкая, трогательная красота в окружении тьмы и ужаса, в этом гнезде порока!..
Темный проход под аркой, уличный мальчишка, его веселое восклицание: «Его еще не поймали!» Потом — ее обнаженные руки, закинутые ему, Киту, на шею, приглушенный от страха шепот в темноте. И снова ее детское лицо, обращенное к нему так доверчиво… Кит внезапно остановился. Что с ним творится, черт возьми! Что за нелепая пляска воображения, что за непонятная, жуткая эксцентричность? И в ту же минуту реальность повседневной жизни, сила рутины снова завладели им и смели все. То был страшный сон, что-то нереальное! Смешно! Он, он. Кит Даррант, оказался втянутым в такое темное и необычайное дело.
Кит подошел к Стрэнду, улице, по которой он каждое утро ходил в суд на свою ежедневную работу, солидную, почетную, упорядоченную. Нет, все это просто чудовищный кошмар! Он исчезнет — стоит только сосредоточиться на знакомых предметах, читать вывески магазинов, смотреть на лица прохожих. Вдали, в самом конце проспекта, виднелась старая церковь, а еще дальше неясно вырисовывалось здание суда. Послышался звук пожарного колокола, и мимо промчались лошади — сверкающий металл, дробный стук копыт, хриплые голоса. Это происшествие было реальным и безобидным, приличным и привычным! Из-за угла, покачивая бедрами, вышла женщина и подмигнула ему: «Добрый вечер!» Даже это было обычно, даже с этим можно мириться. Прошли двое полисменов, ведя под руки пьяного, который отбивался от них и отчаянно бранился. Зрелище успокаивало, оно было заурядным событием, которое вызывало лишь любопытство, неудовольствие, отвращение. Стал накрапывать дождик, и Кит с удовольствием почувствовал его капли на лице: дождь тоже был чем-то реальным, знакомым, тем, что случалось каждый день!
Он стал перебираться через улицу. Уже прошел последний омнибус, и кэбы мчались теперь с бешеной скоростью. Реальная, обычная опасность, которой человек подвергается так часто всякий день, отвлекла его от мрачных мыслей. В лицо ему бил дождь, мимо проносились экипажи, и, пересекая Стрэнд, Кит вновь обрел уверенность в себе, стряхнул с себя странное ощущение чего-то, что держало его как в тисках, и решительно направился к углу, чтобы свернуть домой. Но, войдя в темный переулок, он опять остановился. Полисмен на другой стороне тоже свернул сюда. Не может быть… да нет же! Какая глупость! Они так похожи друг на друга, эти ребята. Абсурд! Кит стремительно зашагал вперед и вошел в дом. И все же, поднимаясь по лестнице, он не удержался, приподнял край шторы и выглянул на улицу. Полисмен торжественно шествовал ярдах в двадцати пяти от дома и, очевидно, ни на что не обращал внимания.
IV
Кит проснулся, как обычно, в пять часов, не вспоминая о вчерашнем. Но когда он вошел в кабинет и увидел зажженную лампу, огонь в камине и приготовленный на столе кофе, его снова охватило ужасное воспоминание — в кабинете все было точно так же, как и вчера, когда там, у стены, стоял Ларри. Какое-то мгновение Кит боролся с неприятными мыслями, потом, выпив кофе, сел к бюро и принялся за привычный трехчасовой просмотр назначенных на сегодня судебных дел.
Он читал, не понимая ни слова. Фразы мешались с какими-то смутными образами, и добрых полчаса он провел в состоянии умственного оцепенения. Наконец явная необходимость знать хоть что-нибудь о деле, по которому ему предстояло выступить в половине одиннадцатого, заставила Кита сосредоточиться, однако malaise [14] в уголке сердца не проходила. И все же, когда в половине девятого Кит поднялся и пошел принимать душ, он испытывал мрачную гордость своей выдержкой. К половине десятого он должен быть у Ларри. Пароход в Аргентину отплывает завтра. Чтобы Ларри мог немедленно уехать, следует позаботиться о деньгах. Просматривая за завтраком газету, Кит наткнулся на заметку:
«УБИЙСТВО В СОХО
Поздно вечером стало известно, что полиция опознала человека, который вчера утром был найден задушенным под аркой в Глав-Лейн. Произведен арест».
К счастью, Кит уже кончил завтракать, иначе от сообщения его могло бы стошнить. В эту самую минуту Ларри, может статься, уже под замком и ждет обвинения! Быть может, его арестовали еще до того, как он, Кит, был вечером у той девицы. Если Ларри арестован, она тоже будет замешана. В каком же положении окажется он сам? Дурак, что пошел к арке и виделся с этой женщиной! Неужели полисмен следил за ним, когда он возвращался домой? Косвенный соучастник преступления! Кит Даррант, человек с положением, Королевский адвокат! Усилием воли, в котором было нечто героическое, он заставил себя подавить страх. Паника никогда не ведет к добру. Надо твердо смотреть в глаза опасности, все взвесить. Кит принуждал себя не спешить, спокойно собрал необходимые бумаги и даже просмотрел два-три письма, прежде чем вышел. Подозвав кэб, он поехал на Фицрой-стрит.
В это туманное утро, стоя у дома Ларри в ожидании, пока ему отопрут, Кит являл вид человека, полного решимости, человека, который знал, что ему делать. Правда, ему потребовалось собрать все свое самообладание, чтобы спокойно осведомиться: «Мистер Даррант дома?» и бесстрастно выслушать ответ: «Он еще не вставал, сэр».
— Ничего, я пройду к нему. Мое имя мистер Кит Даррант.
По пути в спальню Ларри у него достало спокойствия подумать: «Этот арест как нельзя более кстати. Он собьет их с пути, а Ларри тем временем уедет. Девчонку тоже нужно отправить, но не с ним вместе». Смятение прошло и только подкрепило решимость Кита. В спальню он вошел с неприязнью и некоторым отвращением. Закинув голые руки за взъерошенную голову, Ларри лежал, уставившись в потолок, и курил сигарету; на стуле подле него валялись окурки, в комнате стоял тяжелый запах табака. Бледное лицо, выступающие скулы и подбородок, впалые щеки, ввалившиеся голубые глаза — обломок человека.
Ларри посмотрел на Кита сквозь сизый дым и спросил негромко:
— Ну, что ты думаешь, какой будет приговор?.. Пожизненная каторга и штраф сорок фунтов?
Его детское легкомыслие возмутило Кита. Да, это Ларри с головы до пят. Вчера робкий и запуганный, сегодня петушится: «А, все равно!» Он ответил сердито:
— Ты еще способен шутить?
Лоренс отвернулся к стене.
— Вынужден.
Фаталист! Как ему ненавистны такие характеры!
— Я ходил к ней.
— Да?
— Вчера вечером. Ей можно доверять.
Лоренс усмехнулся.
— Я же говорил тебе.
— Мне нужно было убедиться. Ларри, ты должен немедленно уехать. Она может отправиться следующим пароходом. Вместе вам ехать нельзя. Деньги у тебя есть?
— Нет.
— Я оплачу твои расходы и одолжу тебе деньги, чтобы ты мог прожить год. Но надо действовать. Когда ты устроишься, только мне одному сообщи, где ты.
Глубокий вздох был ему ответом.
— Ты очень добр ко мне, Кит. И всегда был добр. Не могу понять, почему.
Кит сказал сухо:
— И я тоже. Завтра отплывает пароход в Аргентину. Тебе везет, полиция кого-то задержала. Это сообщается в газетах.
— Что?!
Сигарета упала на пол, тонкая фигура в пижаме заметалась, и в следующее мгновение Ларри был уже на ногах, судорожно вцепившись в спинку кровати.
— Что ты сказал?
Кит с досадой подумал: «Дурак я! Зачем сказал? Он реагирует на это как-то странно. Что теперь будет?» Лоренс провел рукой по лбу и сел на кровать.
— Об этом я не подумал, — пробормотал он. — Теперь мне крышка.
Кит пристально смотрел на брата. Он был слишком рад, что арестовали не Лоренса, и не ожидал, что дело может принять такой оборот. Какое безумие!
— Почему? — поспешно начал он. — Невиновному ничего не грозит. Они всегда берут сначала не того, кого надо. Просто тебе повезло, вот и все. Мы выиграем время.
Как часто он замечал это выражение на лице брата — печальное, вопрошающее, как будто Ларри пытался посмотреть на вещи его, Кита, глазами и подчиниться его трезвому суждению! Кит продолжал почти ласково:
— Послушай, Ларри. Это слишком серьезно, с этим шутить нельзя. О том человеке не тревожься. Предоставь все мне и готовься к отъезду. Я закажу каюту, обо всем позабочусь. Вот деньги, купи что надо. Между пятью и шестью я заеду и сообщу тебе все. Возьми себя в руки, брат. Когда Ванда приедет к тебе, вам лучше всего перебраться в Чили: чем дальше, тем безопаснее. Вы оба должны просто исчезнуть. Ну, мне пора. Я еще должен зайти в банк перед судом.
И, глядя в глаза брату, он добавил:
— Видишь ли, тебе следует подумать и обо мне, не так ли? Держи себя в руках. Понимаешь?
Все так же грустно и вопросительно смотрел на него Ларри. И лишь повторив еще раз «Понимаешь?», Кит услышал «Да».
По пути он сказал себе: «Страдный человек. Не понимаю его и, верно, никогда не пойму». И принялся обдумывать предстоящие практические действия.
В банке он выписал чек на 400 фунтов, но пока кассир отсчитывал деньги, у Кита снова возникли опасения. Боже мой, какая грубая работа! Будь у него достаточно времени! Мысль «косвенный соучастник» отравляла все. По банкнотам! можно выследить кого угодно. Но как иначе избавиться от Ларри? Приходится идти на малый риск, чтобы избежать большого. Из банка Кит поехал в контору пароходной компании. Он обещал Ларри заказать билет, но так делать нельзя. Не называя себя, он просто спросит, есть ли места на пароход. Узнав, что свободные каюты имеются, он поехал в суд. Будь у него время, он заглянул бы в полицию и узнал, как обстоит дело с обвинением арестованного. Но и это небезопасно: его слишком хорошо знают. К чему приведет этот арест? Да ни к чему! У полиции в обычае сразу арестовать кого-нибудь, чтобы успокоить публику.
Вдруг все происшедшее опять представилось ему страшным кошмаром: Ларри не делал этого, арестован настоящий убийца! Но в тот же миг в памяти его выплыло искаженное ужасом лицо Ванды, ее скорчившаяся на диване фигурка, слова «Я все время вижу, как он падает!». Боже, ну и дела!
В то утро, выступая в суде, Кит говорил особенно убедительно и логично. Выйдя днем позавтракать, он купил самую ходкую вечернюю газету. Но последних сообщений еще не поступало, и он вернулся в суд, не узнав об аресте ничего нового. После того, как, сбросив наконец парик и мантию, Кит ответил на вопросы репортеров и сделал все неотложные дела, он пошел на Чансери-Лейн, купив по пути газету. Там он кликнул кэб и опять поехал на Фицрой-стрит.
V
После ухода Кита Лоренс долго сидел на кровати. Невиновному ничто не грозит! Так сказал Кит, знаменитый адвокат! Но можно ли полагаться на это? Уехать с Вандой за 8000 миль и бросить человека, которому грозит, быть может, смерть за поступок, который совершил он, Ларри?
Прошлой ночью Ларри совсем пал духом и пришел к выводу: надо быть готовым ко всему. Когда вошел Кит, он решил безропотно последовать его совету: «Отдайся в руки полиции!» Он уже приготовился отбросить остаток жизни, как бросают окурок. Но вдруг он услышал то, что наполнило его радостью и надеждой. Уехать в другую страну, начать новую жизнь! Вместе с нею! Там ему будет все равно, там он даже будет радоваться, что раздавил это насекомое. Там! Под новым солнцем, где кровь быстрей струится в венах, не то, что на этом туманном острове, где люди сами вершат суд и расправу.
Это был суд справедливый, хотя он, Ларри, и не хотел убивать негодяя. И вдруг этот арест! Сегодня того человека будут судить. Он мог бы пойти и посмотреть, как беднягу обвинят в убийстве, которое он, Ларри, совершил! Ларри горько рассмеялся. Уж не пойти ли послушать, как они решат повесить кого-то вместо него? Ларри оделся, но бриться не мог: дрожали руки, — и пошел к парикмахеру.
Там он прочитал заметку, о которой говорил Кит. Газета сообщала имя арестованного: «Джон Ивэн, без адреса». Судить его будут на Бау-стрит. Да, надо пойти! Ларри трижды прошел мимо входа в помещение суда, прежде чем вошел и спрятался в толпе.
Зал был полон, и из разговоров он понял, что это убийство в Сохо привлекло сюда так много народу. Смутно, будто во сне, видел он, как с молниеносной быстротой разбираются одно дело за другим. Неужели они никогда не доберутся до его дела? И вдруг он увидел встреченного вчера под аркой незнакомца: щуплый, похожий на пугало и еще более оборванный и жалкий при свете дня, он, как старое измученное животное между упитанными гончими, брел в сопровождении двух полисменов к скамье подсудимых.
В зале послышался удовлетворенный шепот, и Лоренс с ужасом осознал, что это и есть тот человек, которого обвиняют вместо него, — странное и жалкое существо, которому он мимоходом выказал дружеское сострадание. Потом все чувства уступили место болезненному интересу к показаниям. Допрос свидетелей продолжался недолго. Показания хозяина гостиницы, где жил Уолен, опознание трупа и кольца в виде змеи, что он видел у Уолена в тот день за обедом. Ростовщик показал, что вчера утром первым его клиентом был обвиняемый, отдавший ему в заклад это самое кольцо. Показание полисмена, что человека, которого сейчас зовут Ивэн, он несколько раз видел в Глав-Лейн и дважды даже не разрешил ему ночевать под аркой. Показание другого полисмена, который заявил, что когда в полночь он арестовал Ивэна, тот сказал: «Да, я снял кольцо у него с руки. Но он уже был мертвый… Я знаю, делать этого не следовало… Я образованный человек; закладывать кольцо было глупо. Я нашел убитого с вывернутыми карманами».
Как страшно и вместе притягательно смотреть на человека, чье место ты должен был бы занять; ожидать, когда его маленькие, светло-серые в красных прожилках глаза отыщут тебя в толпе, и думать, как ты выдержишь этот взгляд.
Старик, как затравленный енот, забился в угол — печальный, настороженный; морщинистое, обрюзгшее и желтое лицо его имело злое и циничное выражение; седая борода и волосы торчали, глаза блуждали по толпе. Лоренс изо всех сил старался не выдать себя, потом раздались слова: «Рассмотрение дела отложить», — и обвиняемого — он еще больше стал похож на загнанного зверя — увели.
Лоренс все еще не вставал с места, холодный пот выступил у него на лбу. Значит, кто-то наткнулся на труп и очистил карманы еще до того, как Джон Ивэн снял кольцо. Такой, как Уолен, не мог выйти вечером без денег. Кроме того, найди Ивэн деньги, он никогда не рискнул бы взять кольцо. Да, кто-то первым наткнулся на труп. Теперь этот «кто-то» должен выйти и сказать, что он видел кольцо на руке убитого, должен спасти Ивэна. Лоренс ухватился за эту мысль; она уменьшала его ответственность за то положение, в котором очутился несчастный, она как бы отодвигала на задний план его, Ларри, и его преступление. Если найдут того, кто взял деньги, невиновность Ивэна будет доказана. Лоренс вышел из суда в состоянии какого-то транса, с неудержимым желанием напиться. Он больше не может так, надо найти в чем-нибудь забвение. Если б он мог оставаться пьяным до тех пор, пока не закончится дело, пока он не будет наверное знать, следует ли ему заявить о себе полиции! Сейчас он совсем не боялся подозрений: он боялся себя, боялся, что признается. Теперь можно пойти к Ванде — эта опасность ничтожна по сравнению с той, что таится в его совести. Он обещал Киту не встречаться с ней. Кит мягок и снисходителен к нему — добрый старик Кит! Но он никогда не поймет, что эта девушка теперь для него, Ларри, все, чем он дорожит в жизни, что он скорее расстанется с жизнью, чем с нею. Вместо того, чтобы стать ему чужой, она с каждым днем была ему все ближе, роднее — волнующее и радостное чувство! Благодаря ему она из глубоко несчастной женщины превратилась в счастливую, благодаря любви к нему, только к нему одному, она вновь расцвела душой после жалкого и унизительного существования! Это было чудо! Она ничего не требовала, она обожала его, как ни одна женщина прежде, и его переменчивая натура нашла пристанище в этом обожании и в ее мягкой дружеской проницательности, в пламенной привязанности женщины, которая долго служила лишь игрушкой для животных страстей мужчин и которая наконец полюбила.
Поборов желание напиться, Ларри направился в Сохо. Какой он дурак, что отдал Киту ключи! Ванду, должно быть, встревожило его посещение. Теперь она, верно, вдвойне несчастна — ничего не знает, строит разные предположения. Конечно, Кит запугал ее. Бедняжка!
Он почти бежал по той улице, где крался в темноте с трупом, на спине, бежал под кров Ванды. Он не успел постучать — дверь отворилась, и Ванда обвила его руками, прижалась губами к его лицу. Камин потух, видно, она забыла о нем. К окну был придвинут стул, и, как птица, запертая в клетке, она, вероятно, долго сидела там, глядя на серую улицу. Ей сказали, что он не придет, но какой-то инстинкт или трогательная и страдальческая надежда на чудо, с которой никогда не расстаются влюбленные, удерживала ее у окна.
Вот он пришел, и первым ее побуждением было позаботиться о нем. Она разожгла камин. Он должен поесть, выпить вина, покурить. В ее заботах никогда не чувствовалось: «Я делаю это для тебя, но ты должен был бы делать это для меня», — что часто таится в заботах жен и любовниц. Ванда напоминала преданную рабыню, которая так полюбила свои цепи, что не ощущает их тяжести. И Лоренс, которому чувство собственности было чуждо, испытывал за это еще большую нежность и привязанность к ней. Он решил было не говорить ей о новой опасности, навстречу которой толкала его совесть. Но поступки Лоренса всегда противоречили принятым решениям, и у него вскоре вырвалось: «Они арестовали одного человека».
По лицу Ванды он понял, что она сразу (возможно, еще до того, как он сказал) угадала, что ему грозит. Она молча положила руки ему на плечи и поцеловала его, И Ларри понял, что это мольба поставить их любовь превыше всего, даже его совести. Кто бы мог подумать, что он способен так полюбить женщину, которую обнимало столько мужчин! Опороченное, печальное прошлое любимой женщины вызывает у иных мужчин только рыцарское великодушие, у других, более «респектабельных», бешеное желание и грызущую ревность к тому, что раньше было отдано другим. Иногда приходит и то и другое. Когда он держал Ванду в объятиях, он не раскаивался в убийстве того красивого и грубого животного, сломавшего ей жизнь. Он даже испытывал жестокую радость при мысли, что сделал это, когда она положила голову к нему на плечо и подняла к нему бледное лицо с чуть покрасневшими веками и щеками; когда он увидел ее приоткрытые губы и широко расставленные карие глаза, устремленные на него в самозабвенном счастье, он почувствовал только нежность и желание защитить ее.
Ларри вышел от Ванды в пять часов, но не прошел он и двух кварталов, как в его памяти снова возник маленький седой бродяга, который стоял, забившись в угол, как затравленный енот, его печальный хриплый голос; и в груди у Ларри поднялась ненависть к миру, в котором человека, не желавшего сделать ничего дурного, заставляют столько страдать.
У дверей своего дома он увидел Кита, выходившего из кэба. Они вошли вместе и остались стоять — Кит спиной к тщательно закрытой двери, Ларри у стола, — как будто они оба знали, что предстоит схватка. Кит начал:
— Места на пароходе есть. Сходи и закажи себе каюту, а то контора закроется. Вот деньги!
— Я не поеду, Кит.
Кит шагнул вперед и положил на стол пачку банкнот.
— Послушай, Ларри, я читал протокол полицейского суда. Ничего страшного нет. На воле или несколько недель в тюрьме — какая разница для такого бродяги? Выкинь все из головы, ведь для обвинения почти нет улик. Это только дает тебе лишний шанс на спасение. Воспользуйся же им как мужчина и начни новую жизнь.
Лоренс усмехнулся, но в усмешке его сквозили гнев, озлобление. Он взял банкноты.
— Скройся и спаси честь брата? Так, что ли, Кит? Положи деньги обратно в карман, или я брошу их в огонь. Ну, берешь? — Подойдя к камину, он поднес банкноты к решетке. — Бери, или они будут там!
Кит взял деньги.
— Во мне еще сохранилось чувство чести, Кит. А если я скроюсь, от него не останется ничего, даже самой малости. А я им дорожу, быть может, больше, чем… Я не могу пока сказать. Не могу…
Они долго молчали, потом Кит произнес:
— Еще раз говорю: ты ошибаешься, никакой суд присяжных не обвинит его в убийстве. А если и обвинит, то судья не поддержит обвинения. Негодяй, который грабит трупы, должен сидеть в тюрьме. Его поступок страшнее твоего, если уж на то пошло!
Лоренс поднял голову.
— Не суди, брат, — отвечал он. — Чужая душа — потемки.
Пергаментное лицо Кита покраснело и напряглось. Как будто он пытался сдержать приступ кашля.
— Что же ты собираешься делать? Полагаю, что могу просить тебя не забывать о нашем имени. Или это соображение ничто перед твоим «чувством чести»?
Лоренс опустил голову. Это движение говорило яснее слов: «Лежачего не бьют».
— Не знаю, что я буду делать… Пока ничего. Мне очень жаль, Кит… Ты меня извини.
Кит посмотрел на него и, не сказав ни слова, вышел.
VI
Бесчестье, независимо от того, падет ли оно на семью или на него самого, угрожает репутации каждого, исключая философов.
Кит всегда был готов бороться с любой опасностью. Но этот удар, будет ли он результатом расследования или признания Ларри, он отразить не мог. Как на розе неизвестно откуда появляется ржавчина, так на его имя ляжет темное пятно скандальной истории. Отбить удар невозможно! Нельзя даже ускользнуть из-под него! Брат убийцы, повешенного или сосланного на каторгу! Его дочь племянница убийцы! Умершая мать — мать убийцы! То была слишком жестокая кара — день за днем, неделя за неделей ждать, когда на тебя обрушится это несчастье. И ему, человеку строгой нравственности, несправедливость ее с каждым днем представлялась все более чудовищной.
Отсрочка разбора дела дала возможность установить, что убитый в день смерти много пил и что обвиняемый является профессиональным бродягой и нищим; выяснилось также, что арка в Глав-Лейн была его излюбленным местом ночлега. Слушание дела было назначено на январь. Несмотря на опасения, Кит на этот раз решил пойти в полицейский суд. Ларри, к его великому облегчению, там не было. Но главным свидетелем, не раз видевшим обвиняемого в Глав-Лейн, оказался тот самый полисмен, который подошел к нему, Киту, когда он осматривал арку, а после так напугал его в комнате Ванды. И хотя Кит держал свой цилиндр у самого подбородка, его не покидало неприятное ощущение, что полисмен узнал его.
Кита почти, а то и совсем, не терзали угрызения совести, хотя он сам допустил, чтобы этот человек жил под тяжестью такого обвинения. Он искренне верил, что улик для приговора недостаточно, а мучений бродяги, оказавшегося под замком, он был неспособен понять. Бродяга этот ограбил труп и заслужил наказание; во всяком случае, такому чучелу лучше посидеть в тюрьме, нежели спать в декабре под арками. Сентиментальность была чужда натуре Кита и его пониманию справедливости — справедливости тех, кто подчиняет судьбы слабых и бездомных интересам сильных и обеспеченных.
На рождественские каникулы приехала из пансиона его дочь. Киту было невыносимо трудно, ибо стоило ему отвести взгляд от ее живых глаз н розовых щечек, он снова видел тень над их спокойной и упорядоченной жизнью — так иногда в ярко освещенной комнате паутина тянется по потолку в углу и нависает угрозой темноты.
Днем в канун рождества они с дочерью отправились по ее желанию в церковь в Сохо, чтобы послушать рождественскую ораторию, и на обратном пути нечаянно вышли на Борроу-стрит. Уф! Что он пережил, когда в темноте дочь вдруг прижалась к нему и испуганно прошептала: «Кто это?» Опять, опять это ужасное дело! После суда он снова постарается избавиться от тех двоих. И, схватив дочь под руку, он поспешил уйти с этой улицы, где даже морозный воздух, казалось, был наполнен призраками.
Вечером, когда дочь ушла спать, Кита охватило беспокойство, которого он не мог сдержать. Он не виделся с Ларри уже несколько недель. Что тот собирается делать? Какой еще безрассудный поступок зреет в его смятенном мозгу? Ему, верно, сейчас нелегко, или, может быть, он беспробудно пьет? И у Кита снова появилось желание защитить Ларри, знакомое теплое чувство, родившееся в давние рождественские сочельники, когда чулки, что они вывешивали на ночь, наполнялись подарками, когда добрые руки Сайта-Клауса бережно кутали их в одеяла и они засыпали, успокоенные его прощальным поцелуем.
Над рекой сияли звезды, небо было темное и по-зимнему ясное. Колокола еще не звонили. Подчиняясь смутному, но сильному побуждению, Кит закутался в меховое пальто, нахлобучил велосипедную шапочку и вышел на улицу.
На Стрэнде он нанял кэб и приказал везти себя на Фицрой-стрит. В окнах у Ларри не было света, на них висела наклейка с надписью: «Сдается внаем». Уехал! Неужели он все-таки скрылся навсегда? Но как, без денег? А та женщина? По притихшим морозным улицам разносился колокольный звон. Сочельник! «Если б я только мог выбросить из головы эту проклятую историю, думал Кит. — Нелепо страдать за ошибки других».
Он направился к Борроу-стрит. Там было пустынно, и он быстро шагал по улице, внимательно глядя с противоположной стороны на дом, где жила Ванда. Между шторами в ее окне пробивалась узкая полоска света. Кит перешел улицу и, посмотрев по сторонам, осторожно заглянул внутрь.
Он постоял у окна полминуты, не больше, но бывает, что образ, схваченный одним взглядом, живет дольше, чем то, что видишь изо дня в день. Электрическая лампа не горела, горели четыре свечи на столике посреди комнаты, а перед ним на коленях, в ночной рубашке, стояла Ванда, скрестив руки на груди; свет падал на ее стриженые светлые волосы, изгиб белой шеи, линию щеки и подбородка.
Сначала Кит подумал, что она одна, потом, приглядевшись, увидел в глубине комнаты брата. Ларри, в пижаме, стоял, прислонясь к стене, и, тоже скрестив руки на груди, смотрел на Ванду. Лицо у него было такое, что глубоко западало в память, и спустя много-много лет Кит без труда мог представить эту маленькую сцену и выражение лица брата, какое никогда не бывает у человека, если он подозревает, что за ним следит хоть одно живое существо. Казалось, вся душа Ларри, все, что он чувствовал, отразилось у него на лице. Тоска, насмешка, любовь, отчаяние! Его глубокая нежность к Ванде, угнетенность, страхи, надежды, его неустойчивые хорошие и дурные качества — все запечатлелось в тот миг на лице Ларри. Отблески свечи дрожали на его губах, сложенных в непонятную усмешку; глаза его, более мрачные и более тоскливые, чем должны быть у живых людей, словно молили о чем-то и в то же время насмехались над женщиной, одетой в белое, которая неподвижно стояла на коленях, как изваяние, как символ набожности. Губы Лоренса, казалось, шептали: «Да, молись за нас. Браво! Отлично! Молись за нас!» И вдруг Кит увидел, как она в экстазе протянула руки и подняла лицо, а Лоренс шагнул вперед. Что она там увидела за пламенем свечи? Неожиданное всегда придает остроту впечатлениям, а Кит никогда в жизни не видел ничего более необычного, чем это пристанище печали и беззакония. Потом, испугавшись, что его застанут заглядывающим в чужое окно, он побежал прочь.
Итак, Ларри живет здесь с ней! Когда нужно будет, он найдет брата здесь.
На площадке у своего дома Кит остановился и, облокотившись на парапет, добрых пять минут смотрел на усыпанное звездами морозное небо, на темную реку между деревьями и плавающие по ней отсветы фонарей с набережной.
И вдруг где-то в глубине души он ощутил странную, непонятную боль. За пределами всего, что он увидел, услышал и передумал, Кит ощущал теперь нечто такое, чего он не мог постичь.
Ночь была холодна, и колокола уже молчали: давно пробило двенадцать. Кит вошел в дом и неслышно прокрался наверх.
VII
Если для Кита те шесть недель, что оставались до слушания дела об убийстве в Глав-Лейн, были периодом беспокойства и уныния, то для Лоренса это были, пожалуй, самые счастливые дни со времен его юности. С тех пор, как он оставил свою квартиру и переехал жить к Ванде, Лоренс упивался мирным блаженством. Не то, чтобы он усилием воли стряхнул висевший над ним кошмар или нашел забвение в любви, — нет, он скорее впал в какое-то душевное оцепенение. Перед лицом судьбы, непомерно властной для его характера, исчезли смятение, тревога и все душевные волнения; дни его текли в пустоте и безразличии: «Будь что будет». Но порой он снова впадал в беспросветное отчаяние. Так случилось и в ночь перед рождеством. Когда Ванда поднялась с колен, он спросил:
— Что ты там видела?
Она прижалась к нему, увлекла к камину, и они уселись прямо на пол, обхватив колени руками, как дети, пытающиеся разглядеть край света.
— Я видела пресвятую деву. Она стояла у стены и улыбалась. Мы скоро будем снова счастливы.
— Послушай, Ванда, — вдруг сказал Лоренс. — Если придется умереть, давай умрем вместе, а? Вдвоем нам будет теплее там.
Она прошептала, прильнув к нему:
— О, да, да! Я не могу жить без тебя.
Сознание того, что есть человек, чья жизнь всецело от него зависит, что он этого человека спас, привязывало его к жизни, придавало твердость духа. Тому способствовала и уединенная жизнь в маленькой квартирке. Лишь на час, с девяти до десяти утра, сюда приходила уборщица, в остальное же время не было ни души. Ларри и Ванда никогда не выходили из дому вместе. Утром, когда Ванда отправлялась за покупками, он, закинув руки за голову, подолгу лежал в постели, вспоминая ее лицо, ее стройную, гибкую фигуру, ее движения, когда она одевалась, не стесняясь его; он снова чувствовал на губах ее поцелуй, видел блеск ласковых глаз, таких темных на бледном лице. Он лежал словно в забытьи, пока не возвращалась Ванда. Около двенадцати он вставал, завтракал тем, что она приготовила, пил кофе. После полудня выходил и часами бродил по улицам Ист-Энда. Там Ларри всегда видел страдания других, и это успокаивало, ибо он понимал, что его горести — только частица большого несчастья, что, пока существуют эти измученные, жалкие люди, похожие на тени, он не одинок. В западной же части города на него нападало уныние. Вест-Энд был похож на Кита — преуспевающий, упорядоченный, безупречный, решительный. Устав, Ларри возвращался домой и, отдыхая, наблюдал, как Ванда стряпает их скромный обед. Вечера были посвящены любви. Так они жили в своем зачарованном мире, и оба боялись разрушить его. Ванда и виду не подавала, что она скучает по развлечениям, которые, как принято считать, необходимы девушкам, хотя бы немного вкусившим от той жизни, что Ванда вела прежде. Она ни разу не попросила Ларри сводить ее куда-нибудь; ни разу ни словом, ни жестом, ни взглядом не выражала ничего, кроме восторженного удовлетворения. И все же и он и она сознавали, что в глубине души они ждут, когда судьба решит их участь. В эти дни Ларри совсем не пил. Получив трехмесячное содержание, он уплатил все долги: расходы их были невелики. Он ни разу не сходил к Киту, не написал ему, вряд ли даже вспоминал о нем.
Порой приходили ужасные видения — труп задушенного Уолена, жалкий, маленький старичок на скамье подсудимых, — и тогда Ларри прятался от этих призраков, как человек, который должен спрятаться или погибнуть. Но каждый день он покупал газету и лихорадочно, тайком от Ванды, изучал ее столбцы.
VIII
В полдень 28 января, после успешного завершения одного чрезвычайно трудного дела о наследстве, Кит, выходя из суда, увидел на тумбе газету и, прочтя заголовок «Убийство в Глав-Лейн: суд и приговор», в смятении подумал: «Боже, я ведь сегодня не читал газет!» То, что он два дня был всецело поглощен этим процессом, и подъем духа, который он только что испытал после нелегкой победы на суде, внезапно показались ему ничтожными до отвращения. Как же, черт возьми, он смел забыть хоть на минуту о том страшном деле? Кит стоял в толпе на тротуаре и не мог, физически не мог заставить себя купить газету.
Но когда он наконец шагнул вперед и протянул газетчику пенни, лицо у него было каменное. Ну да, это здесь, в экстренных сообщениях! «Убийство в Глав-Лейн. Присяжные признали обвиняемого виновным. Приговор — смертная казнь».
Первое, что он почувствовал, было простое раздражение. Как они пришли к такому идиотскому решению? Чудовищно! Улики… Затем вдруг с жестокой ясностью понял, что все тщетно: не стоило даже читать отчет, не стоило думать о том, почему вынесен смертный приговор. Свершилось, и, что ни делай, что ни говори, этим ничего не изменить, никакие протесты не заставят их пересмотреть этот идиотский приговор. Положение отчаянное!
Пятиминутный переход от суда до его дома показался Киту самым долгим в его жизни.
Решительные люди не обдумывают заранее, как им поступить в том или ином случае. Воображение таких натур не способно представить в достаточной степени реальность того, что может случиться. Кит до сих пор так и не решил, что же он предпримет, если бродяга будет осужден. Как часто за эти недели он говорил себе: «Если они признают его виновным, тогда, разумеется, другое дело!» Но теперь, когда случилось почти невозможное, его вновь осаждали те же знакомые доводы и соображения и снова возникало то же безотчетное чувство верности и потребность защитить и Лоренса и себя, чувство, которое усилилось сейчас, когда страшная опасность была близка.
И все же… этот несчастный, которого повесят ни за что! От этого не уйти! Но он же бродяга, ограбивший труп. Разве более справедливо было бы осудить Ларри? Убить негодяя, который ударил тебя, убить случайно, потому только, что твои руки оказались у него на горле на несколько секунд дольше, — так ли велика эта вина? Можно ли ее даже сравнить с преднамеренным ограблением мертвого?
У тех людей, для которых успех превыше всего, преклонение перед порядком! правосудием, перед установленным фактом часто идет рука об руку с иезуитством.
В узком проходе, ведущем к его дверям, Кита окликнул приятель: «Браво, Даррант! Вы здорово выпутались, поздравляю!» «Меня поздравляют», — с горькой усмешкой подумал Кит.
Улучив момент, он поспешил обратно, нанял на Стрэнде кэб и приказал везти себя до поворота на Борроу-стрит.
Дверь открыла Ванда и удивленно всплеснула руками при виде его. В черной юбке и бледно-розовой блузке из какой-то мягкой материи она казалась Киту какой-то новой. Ее полная, немного длинная шея была обнажена, короткие каштановые волосы вились у затылка; Кит с неудовольствием заметил золотые серьги у нее в ушах. Глаза ее, черневшие на бледном лице, казалось, вопрошали и молили одновременно.
— А мой брат?
— Он еще не вернулся, сэр.
— Вы не знаете, где он?
— Нет.
— Он живет здесь, у вас?
— Да.
— Значит, вы его все еще так любите?
Она молча сжала руки на груди, как человек, который не в силах словами выразить свои чувства.
— Понятно, — сказал Кит.
Он испытывал сложное чувство — жалость, смешанную с легким чувственным влечением, — такое же, как и в первое их свидание, и тогда, когда в щелку между занавесками он видел ее, стоявшую на коленях посреди комнаты. Подойдя к камину, он спросил:
— Вы мне разрешите подождать его?
— Разумеется! Пожалуйста, присядьте.
Кит отрицательно покачал головой. Она спросила, задыхаясь:
— Вы не уведете его от меня? Одна я умру.
Кит круто повернулся к ней.
— Я как раз и не хочу, чтобы его отняли у вас! Я хочу помочь вам сохранить его. Готовы вы уехать в любой день, когда это потребуется?
— О да, конечно!
— А он?
Она отвечала почти шепотом:
— Да. Но тот несчастный…
— Тот несчастный — просто кладбищенский вор, гиена; что о нем говорить!
Кит был сам удивлен резкостью своего тона.
— Мне жаль его, — вздохнула Ванда. — Может, он голодал. Я знаю, что такое голод, — приходится делать то, чего не хочешь. Или, может быть, у него нет близких. Когда человеку некого любить, он может стать очень плохим. Я часто думаю о нем… как он там, в тюрьме.
Кит процедил сквозь зубы:
— А Лоренс?
— Мы никогда не говорим с ним об этом. Мы боимся.
— Значит, он не сказал вам, что уже был суд? Она широко открыла глаза.
— Суд? Нет, не говорил. Вот почему он вчера вечером был такой странный. А утром рано встал. Суд… закончился?
— Да.
— Что они постановили?
— Виновен.
На секунду Киту показалось, что Ванда теряет сознание: она закрыла глаза, покачнулась. Он шагнул вперед, взял ее за плечи.
— Послушайте! — заговорил он. — Помогите мне, не спускайте глаз с Лоренса. Надо выиграть время. Я узнаю, что они намерены делать. Они не могут его повесить. Мне нужно время, слышите? Вы должны помешать Лоренсу отдаться в руки полиции.
Кит все еще держал ее за плечи, впиваясь сквозь бархат пальцами в нежное тело, а она стояла и смотрела ему в лицо.
— Вы меня поняли?
— Да… Но если он уже был там?
Кит чувствовал, что она вся дрожит. В голове вдруг пронеслась мысль: «Боже! А если нагрянет полиция и застанет меня здесь? Что, если Ларри уже у них в руках? Что, если тот полисмен, который ночью, после убийства, видел меня, снова обнаружит меня здесь, сразу после приговора!» Он сказал почти свирепо:
— Могу я надеяться, что вы будете следить за Ларри? Отвечайте быстро!
Прижав руки к груди, она отвечала покорно:
— Я попытаюсь.
— Если он не сделал еще этого, следите за ним в оба глаза! Никуда не пускайте одного. Я приду завтра рано утром. Вы католичка, не так ли? Поклянитесь же, что ничего не позволите ему сделать, пока я не приду.
Она молчала, глядя мимо него на дверь; Кит услышал, как в замке щелкнул ключ. Вошел Ларри, держа в руках большой букет красных лилий и белых нарциссов. Лицо у него было бледное, осунувшееся.
— Алло, Кит! — тихо произнес он.
Ванда не сводила глаз с Ларри, и Кит, глядя то на нее, то на брата, понял, что сейчас, как никогда, от него требуется осторожность.
— Ты видел? — спросил он.
Лоренс кивнул. Выражение его лица, по которому всегда можно было прочитать все чувства, совершенно озадачило Кита.
— Ну и что?
— Я ждал этого.
— Дело так не останется, это ясно. Но мне нужно будет просмотреть протокол и тогда подумать, что предпринять. Понимаешь, Ларри, мне нужно время!
Кит знал, что говорит он что-то не то, наудачу. Единственный выход заставить их немедленно уехать, не дать им возможности признаться, но этого он не осмелился сказать.
— Обещай мне ничего не делать и не выходить из дому, пока я не приду завтра утром.
Лоренс снова кивнул. Кит посмотрел на Ванду. Убедит ли она Ларри сдержать слово? Она по-прежнему неотрывно смотрела в лицо Ларри. Кит шагнул к двери; он понял, что больше ничего не добьется.
— Так обещай же, — повторил он.
Ларри ответил:
— Обещаю.
Он улыбался. Киту была непонятна и его улыбка и выражение глаз Ванды. И, сказав: «Так я полагаюсь на твое слово», — он вышел.
IX
Скрыть от любящей женщины свое настроение трудно, так же трудно, как помешать музыке тронуть человеческое сердце. А уж если женщина после тяжелых страданий впервые узнала счастье любви, тогда, как бы ни пытался ее возлюбленный скрыть от нее свою душу, он этого не сумеет. И почти всегда любовь ее так самоотверженна, что она и виду не подаст, будто догадывается о чем-нибудь.
После того как Кит ушел, Ванда не стала задавать вопросов, сделала все, чтобы Ларри не заподозрил, что она знает правду. Весь вечер она вела себя так, как будто и не подозревала, что зреет в его душе, а следовательно, и в ее собственной.
Его слова, ласки, усердие, с которым он помогал ей готовить ужин, принесенные им цветы и то, что он убедил ее выпить вина и что он избегал слов, которые могли бы нарушить их счастье, — все, все подтверждало ее догадку. Он был сегодня так щедр в своей веселости и любви! И она, для которой каждое слово и каждый поцелуй имел скорбный смысл последнего слова и последнего поцелуя, не могла лишить себя их, и потому ни знаком, ни жестом не выдала своего предвидения. Она принимала все, она приняла бы больше, во сто крат больше. Ей не хотелось пить вино, которое он то и дело подливал в ее бокал, но покорность, которой научили ее женщины, жившие, как она, не позволяла ей отказываться. Она никогда ни в чем не отказывала Лоренсу.
Лоренс пил много. Вино придавало остроту этим недолгим часам удовольствия и подъема духа. Кроме того, вино заглушало жалость. А больше всего он боялся пожалеть себя и Ванду.
Он думал: чтобы даже эта безвкусно убранная комнатка выглядела красиво — огонь в камине, свечи, темное янтарное вино в бокалах, стройные красные лилии на длинных стеблях, осыпающие желтую пыльцу, их терпкий аромат, Ванда и он, Ларри, должны сегодня быть на высоте. Даже музыка была на их пиршестве: в доме напротив кто-то играл на пианоле, и мелодия проникала сюда. Казалось, звуки, то усиливаясь, то замирая, то веселые, то грустные, жили какой-то своей, далекой, иной жизнью, так же как и отблески огня в камине, перед которым они с Вандой лежали, прижавшись друг к другу, и нежные лилии между свеч на столе.
Вслушиваясь в эти звуки и поглаживая пальцами голубоватые жилки на груди Ванды, Ларри как будто приходил в себя после тяжелого забытья. Не расставаться, нет! Уснуть, как засыпает камин, когда угасает пламя, как на покинутых струнах засыпает мелодия.
А Ванда не спускала с него глаз.
Было уже около десяти, когда он сказал ей, чтобы она ложилась спать. Она послушно ушла в спальню, а он, взяв чернила и бумагу, вернулся к камину. Этот неустойчивый, безвольный, никчемный человек сейчас не колебался. Раньше он думал, что, когда дело дойдет до развязки, он растеряется, отступит, но сейчас какое-то ожесточение вело его к цели. Если он, признавшись, останется жив, его посадят под замок, отнимут у него единственное, что ему дорого, Ванду, засыплют песком его единственный родничок в пустыне. Будь они прокляты! И он начал писать при свете камина, смягчавшем белизну бумаги. А у темной занавески в одной рубашке, не чувствуя холода, стояла Ванда и смотрела на него.
Когда человек тонет, ему вспоминается прошлое. Как погибший поэт, он «уносится вместе с ветром». Теперь наступило время для Ларри быть верным себе. Человек может сомневаться долгие недели — сознательно, подсознательно, даже в снах, — но потом наступает момент, когда больше колебаться невозможно. Черная шапочка судьи, седой, загнанный человечек, с удивлением смотревший на нее снизу вверх, — нет, дольше колебаться нельзя!
Ларри кончил писать и долго сидел, глядя в камин. Огонь свечи… Да, огонь горит ровно, нет больше вспышек и угасаний.
А у темной занавески стояла женщина и смотрела на него.
X
Кит пошел не домой, а в клуб, и там, сидя в гостиной, пустой в этот час, прочитал протокол суда. Эти дураки представили дело в очень мрачном виде. Кит, размышляя, долго ходил взад и вперед по толстому, мягкому ковру, заглушавшему его шаги. Он мог повидаться с адвокатом защиты и поговорить с ним как специалист, который считает, что совершена судебная ошибка. Они должны обжаловать приговор, в крайнем случае можно даже подать просьбу о помиловании. Пока все еще можно, нет, должно поправить, если только Ларри и эта женщина ничего не предпримут!
Киту есть не хотелось, но привычка обедать взяла верх. Он сидел за столом и с раздражением посматривал на знакомых членов клуба. У них был такой беззаботный и благополучный вид. Как это несправедливо, что темная туча нависла над ним, человеком столь же безупречным, как любой из них! К нему подходили товарищи — адвокаты, знатоки своего дела, среди них один судья, и все выражали восхищение тем, как он провел процесс о наследстве. Сегодня Кит имел все основания гордиться, но не чувствовал гордости. Все же в этой теплой комнате, залитой мягким светом, среди людей, которые ели и беседовали пристойно, он незаметно обрел некоторое душевное равновесие. Все вокруг было реальной действительностью, а то мрачное происшествие — лишь порыв буйного ветра, который надо не впускать в жилища так же, как нищету и грязь, которые попросту не существуют для тех, кто обеспечен и процветает.
Кит выпил шампанского — оно помогало крепче уверовать в реальное и делало призраки еще более призрачными. Внизу, в курительной, он сел у камина, в одно из тех кресел, что навевают приятную послеобеденную дремоту. В кресле ему захотелось спать, и только в одиннадцать он поднялся, чтобы идти домой. Когда он сошел вниз по мраморной лестнице и вышел через вращающуюся дверь, которая не пропускала сквозняков, его снова охватил страх, как будто он вдохнул его с январским воздухом. Вспомнилось лицо Ларри и женщина, смотревшая на это лицо! Почему она гак смотрела? Улыбка Ларри, цветы у него в руках… Покупать цветы в такой момент! Та женщина — его рабыня, она сделает все, что он скажет. Она не сумеет удержать его. И может быть, сейчас Ларри мчится в полицию.
Рука, засунутая в карман шубы, нащупала там вдруг что-то холодное: ключи, что ему дал Ларри. Так они и лежали, забытые, с тех пор. Это случайное прикосновение заставило Кита решиться. Он быстро зашагал к Борроу-стрит. Он не мог не пойти и не проверить, что там творится. Он лучше уснет, если будет знать, что сделал все возможное. На углу той злополучной улицы ему пришлось немного подождать, пока скроются прохожие, потом он направился к дому, который сейчас проклинал и ненавидел смертельно. Он отпер парадную дверь, вошел и закрыл ее за собой. Потом постучал в дверь комнаты, но никто не откликнулся. Может, они уже легли? Он постучал еще и еще, затем вошел внутрь и осторожно прикрыл дверь. Свечи были зажжены, в камине горел огонь; перед камином на полу лежали диванные подушки, на них были рассыпаны цветы! На столе тоже были цветы и остатки еды. Через не совсем задернутую занавеску он видел, что и в спальне горит свет. Неужели они ушли и все так оставили? Ушли! Сердце у него забилось… Бутылки! Значит, Ларри пил!
Неужели случилось то, чего он так боялся? Что же, уйти с позором, зная, что его брат сознался и теперь заклеймен как убийца? Кит быстро подошел к занавеске и заглянул в спальню. У стены он увидел кровать, в ней лежали те двое. В изумлении он отпрянул и вздохнул с облегчением. Спят, не задернув занавесок, не погасив свет? Спят, несмотря на его настойчивый стук! Они, верно, оба пьяны. Кровь бросилась в лицо Киту. Спят! И, ринувшись к кровати, он позвал: «Ларри!» Потом подошел ближе. «Ларри!» Ни слова в ответ, ни движения! У него перехватило дыхание. Схватив брата за плечо, он сильно потряс его. Плечо было холодное. Они лежали, обнявшись, сблизив губы, и лица их были неестественно белы при свете свечи на ночном столике. Такой ужас потряс Кита, что он, чтобы не упасть, схватился за медную перекладину в изголовье кровати. Потом нагнулся и, смочив палец, поднес к их губам. Двое не могут впасть одновременно в такой глубокий обморок, даже пьяный сон не может быть так крепок. Он не почувствовал на пальце ни малейшего дуновения: пульс ни у Ларри, ни у Ванды не бился. Ни дыхания, ни жизни! Глаза Ванды были закрыты. Какое удивительно чистое, невинное лицо! У Ларри глаза были открыты — он как будто всматривался в ее опущенные веки, — но Кит видел, что в глазах брата нет жизни. Всхлипывая, он закрыл глаза Ларри. Затем невольно, сам не зная зачем, положил одну руку на голову брата, другую — на светлые волосы девушки.
Простыня немного сползла, обнажив ее плечо; Кит подтянул ее кверху, как бы укрывая Ванду от холода, и тут заметил блеск металла: крошечный, с ноготь, позолоченный крестик на стальной цепочке соскользнул у нее с груди под руку, закинутую за шею Ларри. Кит осторожно спрятал крест под простыни и увидел конверт, приколотый к одеялу; нагнувшись, он прочитал: «Прошу немедленно передать в полицию. Лоренс Даррант». Кит сунул конверт в карман. Как растянутая сверх предела резина, все в нем обмякло: ум, воля, способность взвешивать, решать. В голове пронеслась единственная мысль: «Я ничего не должен об этом знать. Мне нужно уйти!» И, прежде чем он осознал это, ноги сами вынесли его на улицу.
Кит ни за что не сумел бы сказать, о чем он думал, пока брел домой. Только войдя в свой кабинет, он немного пришел в себя. Трясущейся рукой налил в стакан виски и выпил. Не зайди он случайно туда, на Борроу-стрит, уборщица нашла бы их утром и отнесла бы письмо в полицию! Кит вынул из кармана конверт. Он имеет, да, имеет право узнать, что там написано! Он распечатал конверт.
«Я, Лоренс Даррант, прежде чем умереть от собственной руки, заявляю, что это письмо — искреннее и полное признание. Ночью 27 ноября прошлого года я совершил убийство, которое известно под названием «Убийство на Глав-Лейн…»
И так далее до заключительных слов: «Мы не хотим умирать, но мы не вынесем разлуки, и я не могу допустить, чтобы из-за меня был повешен невинный человек, иного выхода я не вижу. Прошу не вскрывать наши трупы. Остатки того яда, который мы приняли, лежат на столике. Прошу похоронить нас вместе.
Лоренс Даррант.
Январь 28, около десяти часов вечера».
Тикали часы, в деревьях за окном стонал ветер, огонь в камине лизал дрова, они легонько потрескивали и шипели. А Кит, не двигаясь, целых пять минут стоял, держа в руках эти листки бумаги. Потом, очнувшись, присел и начал читать снова.
Все было так, как Ларри рассказывал ему, ничего не утаил, все верно; были даже адреса людей, которые могли бы опознать женщину, бывшую женой или любовницей Уолена. Письмо убедительно. Да! Очень убедительно.
Листки выпали у Кита из рук. До него медленно доходил страшный смысл происшедшего: на полу у его ног лежала жизнь или смерть еще одного человека, и он понял, что, взяв это признание, он взял в свои руки судьбу того бродяги, ожидающего выполнения смертного приговора; он понял также, что не может вернуть ему жизнь, не запятнав своей репутации и, больше того, не подвергнув себя опасности. Если письмо попадет в руки властей, то наверняка возникнет серьезное подозрение, что ему, Киту, вот уже два месяца все известно. Начнется следствие, ему тоже придется выступить свидетелем; тот полицейский признает в нем джентльмена, который приходил посмотреть место под аркой, где лежал труп, и который был у этой женщины на другой вечер после убийства. Кто поверит, что эти факты — случайное совпадение, когда дело касается брата убийцы? Но даже независимо от этих подозрений такое сенсационное происшествие скандально — оно испортит ему карьеру, омрачит его жизнь и жизнь его дочери! Самоубийство Ларри и этой женщины само по себе вызовет нежелательные толки, но не более. В такой смерти есть что-то романтическое, она ничем не грозила ему — скорбящий брат, и только. И, кроме того, всю эту историю можно будет даже замять! А если отдать письмо, тогда уж ничего не скроешь, о нем самом будут кричать на всех перекрестках. Кит поднялся с кресла и долго мерил шагами комнату, стараясь сосредоточиться. Перед ним проплывали видения: служитель, который каждое утро подавал ему мантию и парик, — он никогда не замечал на его одутловатом, любопытном лице такой ехидной усмешки; удивленно поднятые брови, его юной дочери, ее тревожные глаза и скорбно опущенные уголки рта; крошечный золоченый крестик, блестевший на плече у мертвой женщины; потухший взгляд приоткрытых глаз брата и даже его собственные пальцы, большой и указательный, закрывающие умершему веки. Потом ему привиделась улица, люди, проходящие по ней бесконечной чередой; все они оборачиваются и разглядывают его. Кит остановился и произнес вслух: «Да ну их всех к черту! Неделю посплетничают и успокоятся!» У него в руках признание, оно ему доверено! В конце концов он ничего постыдного не сделал, ему нечего стыдиться, хотя он все скрывал. Ведь родной брат! Кто станет винить его? И Кит бережно собрал с полу листки письма. Но вдруг как будто огромная грязная рука сплетни обвилась вокруг него, и он уже слышал хриплый злорадный крик: «Новости!.. Новости!.. Убийство на Глав-Лейн! Признание и самоубийство брата известного королевского адвоката… Известного королевского адвоката… Убийство и самоубийство… Новости!»
Неужели он допустит этот взрыв людской злобы? Неужели он, который не сделал ничего дурного, осквернит память брата, память матери, неужели он испортит жизнь своей дочурки, запятнает себя, свое большое, блестящее будущее? И все это ради какой-то крысы, роющейся в отбросах! Пусть его повесят, раз это необходимо. Да, может, еще и не повесят. Можно обжаловать или просить о помиловании! Его можно — нет, нужно спасти! Боже, зайти так далеко, пережить все это и погубить себя собственными руками!
Кит бросился к камину и сунул письмо в горячие угли. По складкам его сурового лица медленно, поползла усмешка, так и пламя ползло по листкам бумаги, пока они не свернулись и не потемнели. Носком ботинка он растер ее черные покоробившиеся остатки. Топчи их. Топчи жизнь человека! Сожжено! Нет больше сомнений, нет грызущего страха. Сожжено! Человек… невинный… А, грязная крыса! Кит отшатнулся от каминной решетки, схватился за голову. Какая она горячая!
Итак, свершилось! Только глупцы, не имеющие ни воли, ни цели, способны сожалеть о сделанном. И вдруг он рассмеялся. Значит, Ларри умер напрасно! У него не было воли, не было цели, и вот он мертв! Он и эта девушка могли бы жить, могли бы любить друг друга жаркими ночами где-нибудь на другом конце мира, а не лежать здесь мертвыми в холодную ночь. Глупцы и слабые людишки терзаются сожалениями страдают от угрызений совести. А сильный мужчина, что бы ни стряслось, твердо шагает к цели.
Кит подошел к окну и поднял штору. Что это там? Виселица и качающийся труп? Ах, нет, это только деревья… черные деревья… Зимние скелеты деревьев. Он отшатнулся от окна, подошел к камину и сел в кресло. Слабый свет лампы, его кресло у огня — все как в тот вечер, два месяца назад, когда сюда пришел Ларри… Нет, нет. Он не приходил! Это был дурной сон. Ему все приснилось. Как горит голова! Кит вскочил, посмотрел на календарь, стоявший на столе. «Январь 28». Нет, это не сон! Лицо его потемнело, стало жестким. Вперед! Не так, как Ларри! Вперед!
СТОИК
ГЛАВА I
«Aequam memento rebus in arduis
Servare mentem» [15].
Гораций1
Январским днем 1905 года в Ливерпуле комната правления Британской судовладельческой компании словно отдыхала после дневных трудов. На длинном столе в беспорядке стояли чернильницы, лежали перья, промокательная бумага, документы, оставленные шестью джентльменами, — покинутое поле сражения умов. А в председательском кресле во главе стола, закрыв глаза, неподвижный и внушительный, как идол, сидел старый Сильванес Хейторп. Одна пухлая слабая рука с дрожащими пальцами покоилась на подлокотнике кресла, седые волосы на большой голове серебрились в свете лампы под зеленым абажуром. Хейторп не спал: румяные щеки его то и дело надувались, и с толстых губ, прикрытых седыми усами, над кустиком седых волосков на раздвоенном подбородке, срывался не то вздох, не то ворчание. Квадратное, грузное туловище в коротком сюртуке, обшитом черной тесьмой, утопало в кресле, и оттого казалось, что у него нет шеи.
Войдя в затихшую комнату, молодой Гилберт Фарни, секретарь судовладельческой компании, быстро подошел к столу, собрал кое-какие бумаги и остановился, глядя на председателя. Фарни было лет тридцать пять, не больше, и волосы, борода, глаза, даже щеки были у него светлых, жизнерадостных тонов, но у носа и рта пролегли иронические складки. Ибо, по глубокому убеждению секретаря, он был компанией, а правление существовало только затем, чтобы умалять его роль. Пять дней в неделю по семь часов в день он думал, писал, плел нити дела, а эти приходили сюда раз в неделю на два-три часа и воображали, будто могут научить кого-нибудь чему-нибудь. Секретарь пристально смотрел на дремлющего в кресле седого розовощекого старика, но в усмешке его было меньше презрения, чем можно было ожидать. Что ни говори, а председатель — удивительный старикан! Энергичный и разумный человек не может не уважать его. Восемьдесят, подумать только! Почти разбитый параличом, по уши в долгах, он с молодости — по крайней мере так утверждали! — умел жить и вести дела, пока история с шахтой в Эквадоре не подкосила его, — Фарни тогда еще здесь не служил, но, разумеется, слышал о том случае. Старик приобрел шахту на риск (de l'audace, toujours de l'audace! [16], любил он говорить), половину суммы выложил наличными, на другую половину выдал векселя, но предприятие не окупилось, и на руках у него осталось на 20 тысяч фунтов стерлингов обесцененных акций. Но он стойко перенес неудачу и не объявил себя банкротом. Неукротимый старикан и не хнычет, как остальные! Хотя молодой Фарни был секретарем, он не потерял еще способность привязываться к людям: в глазах у него читалось участие. Сегодня заседание правления было долгим и бурным: окончательно улаживали ту покупку у Пиллина. Удивительно, как председатель уломал их! И секретарь удовлетворенно подумал: «А ведь он не сумел бы этого сделать, если бы я не понял, что это действительно выгодная сделка!» Расширять дела компании — значит расширять собственное влияние. И все-таки идея купить четыре грузовых судна как раз в тот момент, когда сокращаются перевозки, может кое-кого испугать, и на общем собрании следует, разумеется, ожидать возражений. Ничего, обойдется! Они с председателем как-нибудь протолкнут это дело, непременно протолкнут.
Тут секретарь вдруг заметил, что старик смотрит на него.
Только по выражению глаз, этих густо-синих родничков, словно сквозь круглые, весело поблескивающие оконца, можно было заметить, что в немощном теле председателя еще бурлили жизненные силы.
Откуда-то из глубины, через пласты плоти, донесся вздох, и старик спросил едва слышно:
— Они уже здесь, мистер Фарни?
— Да, сэр. Я просил их подождать в комнате, где оформляются сделки. Сказал, что вы сейчас выйдете к ним. Но я не намеревался будить вас.
— А я не спал. Помогите мне встать.
Дрожащими руками ухватившись за край стола, старик подтянулся и с помощью секретаря, который поддерживал его сзади, поднялся с кресла. Ростом он был в пять футов десять дюймов, а весил добрых девяносто килограммов одна большая круглая голова его была тяжелее, чем иной младенец, но он не выглядел тучным, был лишь очень плотно сбит. Закрыв глаза, он, казалось, пытался выдержать собственную тяжесть, а затем медленно, переваливаясь по-утиному, направился к двери. Секретарь смотрел на него и думал: «Ну и старик! Просто чудо, как он еще передвигается без посторонней помощи. И уйти в отставку не может: только на свое жалованье, говорят, живет!»
Председатель раскрыл дверь, обитую зеленым сукном, черепашьей походочкой пересек канцелярию — молоденькие клерки, оторвавшись от бумаг, перемигивались за его спиной — и вошел в комнату, где сидели восемь джентльменов. Семеро из них поднялись с места, один остался сидеть. Вместо приветствия старый Хейторп приподнял руку до уровня груди и, подойдя к креслу, тяжело опустился в него.
— Я вас слушаю, джентльмены.
Один из них встал снова.
— Мистер Хейторп, мы поручили мистеру Браунби изложить наше мнение. Мистер Браунби, прошу вас! — И сел на место.
Поднялся мистер Браунби, полный мужчина лет семидесяти, с небольшими седыми бакенбардами и спокойным, решительным лицом, какие можно встретить только в Англии, — в них отражается передаваемый из поколения в поколение, от отца к сыну дух деловитости. Когда смотришь на такие лица, кажется невероятным, что существуют сильные страсти и свободный полет мысли. Лица эти вызывают доверие и вместе с тем будят желание встать и выйти из комнаты.
Мистер Браунби поднялся и начал учтивым тоном:
— Мистер Хейторп, мы, собравшиеся здесь, представляем около 14 тысяч фунтов стерлингов. Как вы, вероятно, припоминаете, когда мы имели удовольствие видеть вас в июле прошлого года, вы предсказывали более приемлемое состояние наших дел к рождеству. Теперь у нас январь, время идет, и смею вас заверить, никто из нас не становится моложе.
Возникшее где-то в глубинах тела старого Хейторпа ворчание докатилось до поверхности и облеклось в слова:
— Не знаю, как вы, а я чувствую себя юношей. Восемь джентльменов не сводили с председателя глаз.
Неужели он снова хочет отделаться от них шуткой? Мистер Браунби невозмутимо продолжал:
— Мы, безусловно, рады слышать это. Однако вернемся к сути дела. Мы полагаем, мистер Хейторп, что наилучшее для вас решение — и я убежден, что вы не сочтете его неразумным, — объявить себя банкротом. Мы ждали довольно долго, и теперь хотим точно знать, на что можем рассчитывать. Ибо, говоря по совести, мы не видим никакой возможности улучшить положение. Скорее, даже опасаемся обратного.
— Думаете, что я скоро отправлюсь к праотцам?
Прямота, с какой он высказал затаенные их мысли, вызвала у мистера Браунби и его коллег нечто вроде химической реакции. Они закашляли, зашаркали ногами, опустили глаза, и лишь один из них, тот, который не встал при появлении председателя, стряпчий по имени Вентнор, отрезал:
— Ну что ж, считайте, что так, если угодно.
В маленьких, глубоко посаженных глазках старого Хейторпа засветился огонек.
— Мой дед прожил до ста, отец — до девяноста шести, а ведь оба были порядочные распутники. Мне же пока только восемьдесят, джентльмены, я человек безупречного поведения, если сравнивать меня с ними.
— Мы тоже надеемся, что вы еще долго проживете, — отозвался мистер Браунби.
— Во всяком случае, дольше здесь, чем там.
Все молчали, пока старый Хейторп не заговорил снова:
— Вам отчисляют тысячу фунтов ежегодно из моего жалованья. Глупо резать курицу, которая несет золотые яйца. Я согласен выплачивать тысячу двести. Если же вы принудите меня к отставке и, значит, к банкротству, то не получите ни гроша. Вы это знаете.
Мистер Браунби откашлялся:
— Мы полагаем, что вы должны увеличить эту сумму, по крайней мере, до тысячи пятисот. Тогда мы могли бы, вероятно, подумать…
Хейторп покачал головой.
— Вряд ли можно согласиться с вашим утверждением, будто мы ничего не получим в случае банкротства. Мы предполагаем, что вы сильно преуменьшаете возможности. Тысяча пятьсот в год — это самое меньшее, на что мы можем пойти.
— Никогда не соглашусь, черт вас побери!
Снова пауза. Затем Вентнор, стряпчий, буркнул сердито:
— В таком случае мы знаем, что нам делать.
Мистер Браунби с нервной поспешностью перебил его:
— Значит, тысяча двести фунтов в год — это ваше… ваше последнее слово?
Старый Хейторп кивнул.
— Зайдите через месяц. Я посмотрю, что можно для вас сделать.
Он закрыл глаза.
Шесть джентльменов окружили мистера Браунби, переговариваясь тихими голосами. Мистер Вентнор поглаживал ногу и сердито косился на старика, который не открывал глаз. Наконец мистер Браунби подошел к мистеру Вентнору, посовещался с ним, потом, прочистив горло, объявил:
— Сэр, мы обсудили ваше предложение и решили принять его в качестве временной меры. Мы явимся через месяц, как вы желаете. Надеемся, что к тому времени вы придете к более основательному решению, дабы избежать того, о чем мы все будем сожалеть, но что может оказаться печальной необходимостью.
Старый Хейторп кивнул. Восемь джентльменов взяли шляпы и один за другим вышли из комнаты; мистер Браунби галантно замыкал шествие.
Старик, задумавшись, сидел в кресле: он не мог встать без посторонней помощи. Итак, он обвел их вокруг пальца и получил месяц сроку, а через месяц снова проведет их. К тому времени будет улажено и дело Пиллина и все то, что с ним связано. Трусливый тип этот Джо Пиллин! Старый Хейторп захихикал. Прошел ровно месяц с того вечера, как он приходил сюда. Слуга объявил: «Мистер Пиллин, сэр!» — и он проскользнул в дверь, точно тень.
Аккуратный, худой, как щепка, и желтый, как пергамент, руки — словно птичьи когти, шея, закутанная в кашне, дрожащий голос:
— Здравствуй, Сильванес. Боюсь, что ты…
— Чувствую себя превосходно. Садись. Выпей портвейна.
— Что ты! Я не пью портвейн. Это яд для меня.
— Напрасно, он был бы тебе полезен.
— Знаю, ты это всегда говоришь. Но у тебя железный организм. А если бы я пил портвейн, курил сигары и сидел до часу ночи, то завтра был бы уже в могиле. Я уже не тот, каким был. Послушай, я пришел чтобы узнать, не можешь ли ты помочь мне. Я становлюсь стар, нервничаю…
— Ты всегда был мокрой курицей, Джо.
— Ну что ж, у меня не твой характер. Так вот, я хочу продать свои суда и уйти на покой. Мне нужно отдохнуть. Фрахт сильно снизился. Я вынужден думать о семье.
— Выкинь штуку: объяви себя банкротом. Это встряхнет тебя как нельзя лучше.
— Я говорю серьезно, Сильванес!
— Ты всегда серьезен, Джо.
Джо покашлял, затем неуверенно произнес:
— Одним словом… не купит ли ваша компания мои суда?
Пауза, огонек в глазах, клуб сигарного дыма.
— Стоит ли их покупать?
Он сказал это в шутку, но тут мелькнула неожиданная мысль: Розамунда и малыши! Вот она, возможность оградить их от нужды, когда он отойдет к праотцам! Но вслух он сказал:
— Очень нам нужны твои дрянные суденышки!
Протестующе взметнулась лапка с коготками.
— Это очень хорошие суда… И дают приличный доход. Если бы не мое подорванное здоровье… Будь я покрепче, и не подумал бы их продавать.
— Сколько ты хочешь за них?
Господи! Задаешь простой вопрос, а он так и подпрыгнул на месте. Нервен, как цесарка!
— Вот цифры за последние четыре года. Ты сам видишь, что я не могу взять за них меньше семидесяти тысяч.
Джо Пиллин облизывал пересохшие губы и посасывал таблетку, а окутанный сигарным дымом старый Хейторп медленно рассматривал цифры. Затем он сказал:
— Шестьдесят тысяч. И если я протолкну дело, ты сверх того выплачиваешь мне десять процентов. Решай.
— Дорогой Сильванес, но это почти… цинизм.
— Цена хорошая, без меня столько не получишь.
— Но… комиссионное вознаграждение. Если это выплывет наружу?
— Это уже моя забота. Подумай. Фрахт будет еще снижаться. Выпей портвейна.
— Нет, нет, благодарю тебя! Ни в коем случае. Так ты думаешь, что стоимость перевозок снизится?
— Убежден.
— Ну, мне пора идти. Право, не знаю, что делать. Это… это… Я должен подумать.
— Подумай хорошенько.
— Подумаю. До свиданья. Понять не могу, как ты в твои годы сосешь эти отвратительные сигары и тянешь портвейн.
— Встретимся в могиле, Джо, — поговорим. Какая жалкая улыбка у него! Нет чтобы засмеяться как следует! И, оставшись снова один, Хейторп задумался над осенившей его идеей.
Сильванес Хейторп, для того, чтобы находиться в центре судоходства, двадцать лет прожил в Ливерпуле, но он был из восточного графства, из столь древнего рода, что предки его, по фамильным преданиям, сражались еще с норманнами. Каждое поколение этого рода жило почти вдвое дольше, чем менее цепкие люди. Ведя свое происхождение от древних датчан, мужчины в этой семье обладали, как правило, светло-каштановыми волосами, красными щеками, у них были круглые головы, крепкие зубы и слабые понятия о нравственности. Они делали все от них зависящее, чтобы увеличить население любого графства, где они селились, и их отпрыски обитали повсюду. Родившись в начале двадцатых годов девятнадцатого века, Сильванес Хейторп после нескольких лет учения, то и дело прерываемого разными эскападами в школе и колледже, обосновался, наконец, в простодушном Лондоне конца сороковых годов, где в ту пору задавали тон любители кларета и оперы, люди, получавшие восемь процентов годовых. Когда ему не было и тридцати, его сделали партнером в фирме, где он служил, и он беспечно, на всех парусах плыл по течению: танцовщицы, кларет, шампанское, карты, экипаж с ливрейным лакеем, путешествия. Словом, он обладал восхитительной, поистине викторианской способностью не думать ни о чем, кроме развлечений. Годы текли так приятно и насыщенно, ему стукнуло уже сорок, когда он пережил свое первое и сколько-нибудь серьезное любовное увлечение — он тщательно скрывал эту щекотливую, ставившую его в неловкое положение связь с дочерью его собственного клерка. Через три года она умерла, оставив ему незаконнорожденного сына, и ее смерть причинила ему самое сильное, пожалуй, единственное горе в жизни. Пять лет спустя он женился. Зачем? Одному богу известно, — как он любил говорить. Его жена была холодная, черствая светская дама с большими связями; она подарила ему двух законных детей, мальчика и девочку, и с каждым годом становилась все более черствой и суетной, все менее красивой. После переезда в Ливерпуль, который они предприняли, когда ему было шестьдесят, а жене — сорок два, она чуть не умерла от огорчения, но еще тянула лет двенадцать, находя утешение в бридже и в своем презрении к Ливерпулю. А потом Хейторп без особых сожалений проводил ее к месту вечного успокоения. Он никогда не любил ее да и не питал никаких нежных чувств к детям от нее: они были, по его мнению, бесцветными и надоедливыми существами, и многое в них его удивляло. Сына, Эрнста, служившего в морском министерстве, он считал трусом и тупицей. Его дочь, Адела, из которой получилась отличная домоправительница, обожала умные разговоры и общество «прирученных» мужчин и не упускала случая поставить на вид отцу, что он неисправимый язычник. Они виделись редко — только когда это было необходимо. Адела была обеспечена: пятнадцать лет назад, задолго до кризиса в делах — не совсем неожиданного — он переписал на ее мать часть имущества. Совсем иначе относился он к своему внебрачному сыну. Мальчика, который носил фамилию матери — Ларн, после ее смерти отправили на воспитание к родственникам в Ирландию. В Дублине, когда настал срок, он получил право адвокатской практики, женился совсем молодым на девушке, в жилах которой текла смесь ирландской и корнуэльской крови, и вскорости, обойдясь старику Хейторпу в кругленькую сумму, умер в нужде, оставив на руках тридцатилетней красавицы Розамунды девочку восьми лет и пятилетнего мальчугана. Через полгода вдова приехала из Дублина — добиться, чтобы старик взял их под свою опеку. Эта удивительно хорошенькая, как распустившаяся роза, женщина с зелено-карими глазами появилась в одно прекрасное утро в конторе Компании свекор не сообщал ей своего домашнего адреса, — ведя за руки своих детей. С тех пор Хейторп был вынужден так или иначе содержать их. Он навещал их в небольшом домике на окраине Ливерпуля, где они поселились, но не приглашал к себе, в Сефтон-парк: дом этот фактически принадлежал его дочери, и ни она, ни его друзья не знали о существовании этой второй семьи.
Розамунда Ларн была из тех неунывающих дам, которые перебиваются случайными заработками, пописывая рассказы, страдающие длиннотами и многословием. При самых мрачных обстоятельствах она умела сохранять жизнерадостность, граничащую с неприличием, и это забавляло старого циника Хейторпа. Что до Филлис и Джока, он сильно привязался к своим резвым, как жеребята, внучатам. Возможность одним ловким ходом обеспечить их суммой в шесть тысяч фунтов стерлингов казалась ему просто манной небесной. Обстоятельства складывались так, что если он «отдаст концы», — а это могло, разумеется, случиться в любой момент, — то они не получат ни гроша. А ведь после него останется в худшем случае тысяч пятнадцать. Сейчас он выдавал им триста фунтов в год из своего жалованья, но мертвые директора, увы, не получают жалованья. Шесть тысяч фунтов стерлингов, помещенные так, чтобы мамаша не могла растранжирить их, при четырех с половиной процентах годовых будут приносить им двести пятьдесят фунтов в год — это лучше, чем ничего. Чем дольше он думал, тем больше нравилось ему это дельце. Только бы тот слабонервный тип Джо Пиллин не струсил в последний миг, когда он уже так настроился.
Через четыре дня «слабонервный тип» снова появился вечером в доме в Сефтон-парк.
— Сильванес, я подумал. Мне не подходят твои условия.
— Еще бы! И все-таки ты согласишься.
— Почему я должен жертвовать собой? Пятьдесят четыре тысячи за четыре судна — это, знаешь, серьезно уменьшит мои доходы.
— Зато гарантирует их, дорогой.
— Так-то оно так, но, понимаешь, я не могу участвовать в незаконной сделке. Если это выплывет наружу, что будет с моим именем и вообще…
— Это не выплывет…
— Ты вот уверяешь, а…
— Единственное, что от тебя требуется, — сделать дарственную запись на третьих лиц, которых я тебе назову. Сам я не возьму ни пенса. Пусть твой стряпчий подготовит бумаги, сделай его доверенным лицом. А ты подпишешь документы, когда сделка будет заключена. Я доверяю тебе, Джо. Какие из твоих акций дают четыре с половиной процента?
— Мидлэнд…
— Отлично. Не продавай их.
— Хорошо, но кто эти люди?
— Женщина и ее дети. Я хочу оказать им услугу. («Как вытянулось лицо у этого типа!») Боишься связываться с женщиной, Джо?
— Тебе смешно… А я в самом деле боюсь связываться с чужими женщинами. Нет, не нравится мне все это дело, решительно не нравится. Я человек иных правил и прожил жизнь не так, как ты.
— Тебе повезло, иначе ты давно бы сошел в могилу. Скажи своему стряпчему, что это твоя старая пассия, хитрец!
— Ну вот! А что, если меня начнут шантажировать?
— Пусть он держит язык за зубами и переводит деньги на них каждые три месяца. Они решат, Что благодетель — я, а ведь так оно и есть на самом деле.
— Нет, Сильванес, не нравится мне это, не нравится.
— Тогда забудь о нашем разговоре, и дело с концом. Возьми сигару!
— Ты же знаешь, я не курю… А нет какого-нибудь иного способа?
— Есть. Продай в Лондоне акции, вырученную сумму помести в банк, а после принеси мне банкнотами шесть тысяч. Они будут; у меня до общего собрания. Если дело не выгорит, я верну их тебе.
— Ну нет, это мне еще меньше по душе.
— Не доверяешь?
— Ну что ты, Сильванес! Просто все это — обход закона.
— Нет такого закона, который запрещал бы человеку распоряжаться собственными деньгами. Мои дела тебя не касаются. И запомни: я действую совершенно бескорыстно, мне не перепадет ни полпенни. Ты просто помогаешь вдове и сиротам — как раз в твоем духе!
— Удивительный ты человек, Сильванес. Ты, кажется, вообще не способен принимать что-либо всерьез.
— Принимать все всерьез — рано в могилу лечь!
Оставшись один после второго разговора, Хейторп подумал: «Он клюнет на эту удочку».
Джо и в самом деле клюнул. Дарственная запись была оформлена и ожидала подписи. Сегодня правление решило произвести покупку, оставалось добиться одобрения общего собрания акционеров. Только бы ему разделаться с этим и обеспечить внуков, и плевать он тогда хотел на лицемерных сутяг, мистера Браунби и компанию! «Мы надеемся, что вы еще долго проживете!» Как будто их интересует что-либо, кроме его денег, точнее — их денег. Он встрепенулся, поняв, как долго просидел в задумчивости, ухватился за подлокотники кресла и, пытаясь встать, нагнулся вперед; лицо и шея у него побагровели. А доктор запретил ему делать это во избежание удара — как и сотни других вещей! Чепуха! Где Фарни или кто-нибудь из тех молодчиков, почему никто не поможет ему? Позвать — значит уронить свое достоинство. Но неужели сидеть тут всю ночь? Трижды он пытался встать и после каждой попытки подолгу сидел неподвижно, красный и выбившийся из сил, В четвертый раз ему удалось подняться, и он медленно направился к канцелярии. Проходя комнату, он остановился и сказал едва слышно:
— Молодые люди, вы забыли обо мне.
— Вы просили, чтобы вас не беспокоили, сэр, — так нам сказал мистер Фарни.
— Очень любезно с его стороны. Подайте мне пальто и шляпу.
— Слушаюсь, сэр,
— Благодарю вас. Который час?
— Ровно шесть, сэр.
— Попросите мистера Фарни прийти ко мне завтра в полдень насчет моей речи на общем собрании.
— Непременно, сэр.
— Доброй ночи.
— Доброй ночи, сэр.
Своей черепашьей походочкой старик прошел между стульями к двери, неслышно открыл ее и исчез. Клерк, закрывший за ним дверь, произнес:
— Совсем немощным стал наш председатель! Еле ноги волочит.
Другой отозвался:
— Чепуха! Этот старик из крепких. Он и умирая будет драться.
2
Выйдя на улицу, Сильванес Хейторп направился к перекрестку, где всегда садился на трамвай, идущий в Сефтон-парк. На переполненной улице царило деловое оживление, характерное для города, где встречаются Лондон, Нью-Йорк и Дублин, где люди ловят и упускают свои возможности. Старому Хейторпу нужно было перейти на противоположную сторону улицы, и он бесстрашно тронулся вперед, не обращая внимания на уличное движение. Он тащился медленно, как улитка, и всем своим невозмутимо-величественным видом будто говорил: «Попробуйте сшибить, я все равно не стану торопиться, будьте вы неладны». Раз десять на дню какой-нибудь истинный англичанин, соединяющий в себе флегматичность со склонностью брать людей под свою защиту, спасал ему жизнь. Трамвайные кондукторы на этой линии давно привыкли к нему и всякий раз, когда он дрожащими руками цеплялся за поручни и ремни, подхватывали его под мышки и, точно мешок с углем, втаскивали в вагон.
— Все в порядке, сэр?
— Да, благодарю вас.
Он проходил в вагон, и там ему неизменно уступали место из любезности или из опасения, что он свалится прямо на колени к кому-нибудь. Он сидел неподвижно, плотно закрыв глаза. Видя его румяное лицо, кустик седых волос на квадратном, гладко выбритом раздвоенном подбородке, огромный котелок с высокой тульей, который казался еще слишком тесным для такой головы с шапкой густых волос, его можно было принять за идола, выкопанного откуда-то и выставленного напоказ в слишком узком одеянии.
Один из тех особенных голосов, какими говорят молодые люди из закрытых школ или служащие на бирже, где беспрерывно что-то покупается и продается, сказал у него над ухом:
— Добрый вечер, мистер Хейторп!
Старый Хейторп открыл глаза. А, это тот прилизанный молокосос, чадо Джо Пиллина! Только поглядите на этого круглоглазого и круглолицего щенка: маленькие усики, меховое пальто, гетры, бриллиантовая булавка в галстуке.
— Как отец? — спросил он.
— Спасибо, неважно себя чувствует. Все беспокоится насчет судов. А у вас, наверно, нет еще для него новостей?
Старый Хейторп кивнул. Молодой человек всегда вызывал в нем чувство отвращения, как воплощение самодовольной посредственности нового поколения. Он был из тех скроенных на один манер чистюль, которые трижды примеряются, прежде чем взяться за что-нибудь, ничтожеств, не обладающих ни умом, ни энергией, ни даже пороками, и Хейторпу не хотелось удовлетворять любопытство этого молокососа.
— Зайдем ко мне, — сказал он. — Я напишу ему записку.
— Спасибо. Очень хотелось бы подбодрить старика. Старика! Нахальный ублюдок! Закрыв глаза, старый
Хейторп сидел неподвижно, пока трамвай, петляя, тащился в гору. Он размышлял.
Чего только он не переделал, когда ему было столько же, как этому щенку, — лет двадцать восемь, наверное, или около того! Взбирался на Везувий, правил четверкой лошадей, проигрался до нитки на скачках в Дерби и вернул все до последнего пенни в Оуксе; знал всех знаменитых тогда танцовщиц и оперных певиц; в Дьеппе дрался на дуэли с одним янки, который на редкость противным гнусавым голосом заявил, что старушка Англия больше ни на что не способна, и ранил его в руку; был уже членом правления судовладельческой компании; мог перепить полдюжины завзятых выпивох в Лондоне; чуть не свернул себе шею на скачках с препятствиями; прострелил грабителю ногу; едва не утонул, прыгнув в воду на пари; стрелял бекасов в Челси; вызывался в суд за свои грехи, мог смутить самого Чифта; путешествовал с испанкой. Этот же щенок успел, быть может, только в таких путешествиях и тем не менее воображает себя светским львом…
Кондуктор дотронулся до его рукава:
— Вам выходить, сэр.
— Благодарю.
Он сошел с подножки и двинулся в синеющих сумерках к воротам дома своей дочери. Боб Пиллин шагал рядом и думал: «Бедный старикан, еле ноги волочит». А вслух сказал:
— Мне кажется, вам лучше брать извозчика, сэр. Мой старик сразу свалился бы, прогуляйся он в такой вечер!
Сквозь туман прозвучал ответ:
— Твой отец всегда был дохлятиной.
Боб Пиллин рассмеялся тем сальным смешком, который нередко слышишь от определенного типа людей, и старый Хейторп подумал: «Смеется над отцом, попугай!»
Они подошли к подъезду. Стройная, темноволосая женщина с тонким, правильным лицом расставляла в холле цветы. Она обернулась и сказала:
— Вам, право же, не следовало бы задерживаться так поздно, папа. Это вредно в такое время года. Кто это? А-а, мистер Пиллин! Здравствуйте. Вы уже пили чай? Может быть, пройдете в гостиную или хотите поговорить с папой?
— Благодарю! Ваш отец…
Хейторп перешел холл, не обращая ни малейшего внимания на дочь. Боб Пиллин подумал: «Клянусь, старик и в самом деле чудит»; потом сказал на ходу: «Премного благодарен! Мистер Хейторп хочет кое-что передать моему отцу», — и последовал за стариком. Мисс Хейторп была совсем не в его вкусе, он даже побаивался этой худощавой женщины, у которой был такой вид, словно она никому никогда не позволит расстегнуть свой корсаж. Говорили, что она очень набожная и все такое.
Оказавшись в своем святилище, старый Хейторп направился к письменному столу, спеша, по-видимому, сесть и отдохнуть.
— Вам помочь, сэр?
Тот покачал головой, и Боб Пиллин, остановившись у камина, стал наблюдать за Хейторпом. Старикан, видно, не любит зависеть от других. И как только он садится в такое кресло! Когда доходишь до такого состояния, лучше уж загнуться сразу и уступить место молодым. И как это в его Компании терпят этакое ископаемое в качестве председателя — чудеса! Тут ископаемое заворчало и проговорило почти неслышным голосом:
— Наверное, ждешь не дождешься возможности прибрать к рукам отцовские дела.
У Боба Пиллина отвисла челюсть. Старик продолжал:
— Куча монет, и никакой ответственности! Посоветуй ему от моего имени пить портвейн. Лет на пять дольше протянет.
Боб Пиллин ответил только смешком на этот неожиданный выпад, так как в кабинет вошел слуга.
— Миссис Ларн, сэр! Вы примете ее?
Молодому человеку показалось, что, услышав это имя, старик попытался встать. Но он только кивнул и протянул ему записку. Боб Пиллин взял записку — при этом ему почудилось, что старик пробормотал что-то вроде «Ну, теперь держись!» — и пошел к двери. Мимо него, словно согревая воздух вокруг, проскользнула стройная женская фигура в меховом пальто. Лишь в холле он спохватился, что забыл в кабинете шляпу.
У камина на медвежьей шкуре стояла молоденькая хорошенькая девушка и смотрела на него круглыми наивными глазами. «Ну и хорошо! — мелькнуло у него в голове. — Я уж не стану беспокоить их из-за шляпы». — Потом, приблизившись к камину, он сказал:
— Сегодня здорово холодно, правда?
Девушка улыбнулась.
— Да, очень.
Он заметил, что у нее пышные русые волосы, короткий прямой нос, большие серо-синие глаза, веселый, открытый взгляд; на груди был приколот букет фиалок.
— М-м… — начал он. — Я оставил там свою шляпу.
— Забавно!
При звуке ее негромкого чистого смеха что-то шевельнулось вдруг в Бобе Пиллине.
— Вы хорошо знаете этот дом?
Она покачала головой.
— Чудесный дом, правда?
Боб Пиллин, который этого не находил, ответил неопределенно:
— Вполне о'кей.
Девушка откинула голову и снова рассмеялась:
— О'кей? Что это такое?
Боб Пиллин увидел ее белую округлую шею и подумал: «Какая она прелесть!» Потом, набравшись смелости, сказал:
— Моя фамилия Пиллин. А ваша — Ларн, не так ли? Вы родственница мистеру Хейторпу?
— Он наш опекун. Он славный старик, правда?
Боб Пиллин вспомнил, как старик едва слышно пробормотал что-то вроде «Ну, теперь держись!», и уклончиво ответил:
— Ну, вы-то его лучше знаете.
— Разве вы не внук ему и не родственник?
Боб Пиллин не пришел в ужас от этого предположения.
— Да нет, мой отец и он — старые знакомые. Вот и все.
— А ваш папа такой же, как он?
— Н-не совсем…
— Жалко! Если бы они были вроде двойников — вот было бы забавно!
Боб Пиллин подумал: «Ого, у нее острый язычок! Как ее зовут?» Потом спросил:
— Как ваши крестные нарекли вас?..
Девушка снова рассмеялась — казалось, все вызывало у нее смех.
— Филлис!
Может быть, сказать: «Вот имя, которое я люблю»? Нет, лучше не надо! А, может, все-таки стоит? Если упустить момент, то никогда уж не встретить ее! Он сказал:
— Я живу в доме на краю парка, в красном таком, знаете? А вы где?
— Я далеко, Миллисент Виллас, 23. Я ненавижу наш убогий домишко. Но мы там очень весело живем.
— Кто это мы?
— Ну, мама, я и Джок. Ужасный мальчишка! Вы даже представить себе не можете. И волосы у него почти рыжие. Когда состарится, он, наверное, будет таким же, как дедушка Хэйторп. Нет, Джок просто невозможен!
Боб Пиллин пробормотал:
— Интересно было бы познакомиться с ним.
— Правда? Я спрошу у мамы, не разрешит ли она. Но вы сами не обрадуетесь. Он вечно вспыхивает, как фейерверк.
Она откинула голову, и у Боба Пиллина снова поплыло все перед глазами. Взяв себя в руки, он спросил, растягивая слова:
— Разве вы не пойдете повидаться со своим опекуном?
— Нет, у мамы к нему секретный разговор. Мы здесь в первый раз. Чудак он, правда?
— Чу-дак?
— Ну да! Но он очень хорошо ко мне относится. Джок называет его последним стоиком.
Из кабинета старого Хейторпа крикнули:
— Филлис, поди сюда!
Этот голос принадлежал, несомненно, женщине с красивым ртом, у которой нижняя губа чуть-чуть прикрывала верхнюю; в нем была и теплота, и живость, ласкающая слух, и что-то неискреннее.
Девушка бросила Пиллину через плечо смеющийся взгляд и скрылась в комнате.
Боб Пиллин прислонился спиной к камину, уставив круглые щенячьи глаза на то место, где только что стояла девушка. С ним происходило что-то непонятное. Поездки с дамой сердца, возможность которых допускал старый Хейторп, утоляли лишь чувственность этого молодого человека; они прекратились в Брайтоне и Скарборо и были лишены малейшего намека на любовь. Рассчитанная до мелочей карьера и «гигиеничный» образ жизни избавляли от беспокойства и его самого и его отца. А сейчас у него застучало в висках и что-то большее, нежели просто восхищение, стеснило ему горло как раз над высоким стоячим воротничком — то были первые признаки рыцарской влюбленности! Но светский человек нелегко поддается нахлынувшим чувствам, и кто знает, окажись под рукой шляпа, не поспешил ли бы он вон из этого дома, бормоча себе под нос: «Ну нет, дорогой, Миллисент Виллас вряд ли подойдет тебе, если у тебя серьезные намерения». А то кругленькое, смеющееся личико, блестящая прядка на лбу и широко раскрытые серые глаза как-то не вызывали намерений иного рода: невинная юность неотразимо действует на самых трезвых молодых людей. Охваченный каким-то смятением, Пиллин думал: «Удобно ли, осмелюсь ли предложить проводить их до трамвая? А может, лучше сбегать нанять автомобиль и отправить их домой? Нет, они могут уйти тем временем! Надо ждать здесь! Боже, как она смеется! Не личико, а загляденье: цветом точно клубника со сливками, волосы, словно сено, и все такое! Миллисент Виллас…» И он торопливо записал адрес на манжете.
Дверь растворилась, и он услышал тот теплый переливчатый голос: «Пойдем, Филлис!», потом девичий голосок: «Хорошо, иду!» и ее звонкий, веселый смех. Он быстро пошел к входной двери, в первый раз в жизни испытывая подлинный трепет. Он проводит их до трамвая без шляпы — это еще более по-рыцарски! Но тут же он услышал:
— Молодой человек, у меня ваша шляпа!
А затем раздался голос ее матери, живой, притворно возмущенный:
— Филлис, как тебе не стыдно! Вы когда-нибудь видели такую скверную девчонку, мистер…
— Пиллин, мама.
Потом — он сам не знал, как это произошло, — он шагал между ними к трамваю, защищенный от январского холода смехом и ароматом мехов и фиалок. Это было похоже на сказку из «Тысячи и одной ночи» или что-нибудь в этом роде, какое-то опьянение, когда уверяешь, что тебе — по пути, хотя потом всю дорогу назад придется снова трястись на этом дурацком трамвае. Никогда в жизни он не чувствовал такого воодушевления, как сейчас, когда восседал на скамье между ними, забыв и о записке в кармане и о своем желании подбодрить отца. На конечной остановке они вышли. Мурлыкающее приглашение зайти как-нибудь, отчетливое «Джок будет рад познакомиться с вами!», низкий грудной смех. «Ах ты, скверная девчонка!» И вдруг хитрая мысль молнией осенила его, когда он снимал шляпу.
— Большущее спасибо, зайду непременно! — Он снова вскочил на подножку трамвая, деликатно намекая этим, как безмерно он был галантен.
— Вы же сказали, что вам по пути! Ну, зачем вы так?..
Слова ее были точно музыка, а раскрытые от удивления глаза казались самыми прекрасными на земле. Миссис Ларн снова засмеялась низким, теплым, но и каким-то рассеянным смехом, а девушка помахала ему рукой на прощание. Он глубоко вздохнул и пришел в себя только в клубе, за бутылкой шампанского. Пойти домой? Ну, нет! Ему хотелось пить и мечтать. Ничего, «старик» узнает новости завтра.
3
Эти слова «Сэр, вас хочет видеть миссис Ларн!» могли бы смутить человека с более слабыми нервами. Что привело ее? Она же знает, что ей не следует приходить сюда. Старый Хейторп с циничным любопытством наблюдал, как вошла его сноха. Каким- взглядом она окинула этого щенка, когда проходила мимо! Он отдавал должное вдове своего сына и спрятал улыбку между усами. Она взяла его руку, поцеловала, прижала к своей великолепной груди и проговорила:
— Вот видите, наконец-то я здесь! Вы не удивлены? Старый Хейторп покачал головой.
— Мне, право, очень нужно было повидать вас. Вы не заходили к нам целую вечность. Да еще эта ненастная погода! Как вы себя чувствуете, дорогой опекун?
— Как нельзя лучше. — И, посмотрев ей прямо в серо-зеленые глаза, добавил: — У меня нет для вас ни пенса.
Она и глазом не моргнула, только беспечно рассмеялась.
— Неужели вы думаете, что я пришла за этим? Хотя я в самом деле сильно на мели, дедушка!
— Как всегда.
— Я вам все расскажу, дорогой, мне станет легче. Если бы вы знали, как туго мне сейчас приходится!
Стараясь принять печальный вид, она опустилась в низкое кресло, распространяя сильный аромат фиалок.
— Мы в ужаснейшем положении. В любую минуту имущество наше может пойти с молотка, а мы — оказаться на улице. У меня не хватает духу открыться детям — они так счастливы, бедняжки. Джока придется взять из школы, а Филлис прекратит уроки музыки и танцев. Полнейший кризис. И все из-за синдиката «Мидлэнд». Я рассчитывала получить по крайней мере двести фунтов за новый рассказ, а они его не взяли.
Крошечным платочком она смахнула слезинку с глаза.
— Это очень обидно, дедушка. Я просто мозги иссушила, работая над рассказом.
Старый Хейторп проворчал что-то похожее на «вздор!».
Испустив глубокий вздох, свидетельствующий лишь о большом объеме ее легких, миссис Ларн продолжала:
— Не могли бы вы дать мне хотя бы сто фунтов?
— Ни шиллинга.
Она снова вздохнула, глаза ее скользнули по комнате, и она проговорила тихим голосом:
— Вы же отец моего дорогого Филипа. Я никогда на это не намекала, но вы же отец, поймите. Он был так похож на вас, и Джок тоже.
Ни один мускул не дрогнул на лице старого Хейторпа. Легче было добиться ответа от языческого идола, которому приносят цветы, песни, жертвы: «Мой дорогой Филип!» Провалиться мне на этом месте, если она сама не заездила его! И какого дьявола она ворошит старое?» Взгляд миссис Ларн все еще блуждал по комнате.
— Какой чудесный дом! Все-таки вы должны помочь мне, дедушка. Представьте, а если ваших внуков выкинут на улицу!
Старик усмехнулся. Он вовсе не собирался отречься от родства — это она так думает, а не он. Но он и не допустит, чтобы на него наседали.
— А это может случиться. Неужели вы останетесь равнодушным? Ну, пожалуйста, спасите меня еще раз. Ведь вы, наверное, можете что-нибудь для них сделать.
Он шумно вздохнул:
— Надо подождать. Сейчас не могу дать ни пенса. Я сам беден, как церковная крыса.
— Не может быть, дедушка!
— Да, да, так оно есть.
Миссис Ларн снова испустила энергичный вздох. Она, разумеется, не верила ему.
— Ну что ж! — проговорила она. — Вас будет мучить совесть, когда мы все вместе придем как-нибудь вечером и станем петь под вашими окнами, вымаливая милостыню. Да, кстати, вы не хотите повидать Филлис? Она в холле. Такая хорошенькая растет. Ну хотя бы пятьдесят фунтов, дедушка, милый!
— У меня ничего нет.
Миссис Ларн в отчаянии воздела руки.
— Вы в этом раскаетесь. Я вишу на волоске.
Она глубоко вздохнула, и от нее снова повеяло фиалками. Потом, поднявшись, она подошла к двери и позвала:
— Филлис!
Когда девушка вошла, у старого Хейторпа впервые за много лет дрогнуло сердце. Ее появление было точно весенний день в январе — какая противоположность этой надушенной кукле, ее матери! Как приятно ощущать прикосновение ее губ к своему лбу, слышать ее звонкий голос, видеть грациозные движения и знать, что этой девочкой он может гордиться! Она хорошей породы, как и тот бездельник, ее братец Джок (не в пример тем внукам, которые родятся у этой святоши, его законной дочери, если найдется идиот, который женится на ней, или у тупицы Эрнеста).
После их ухода он с особым удовольствием думал о шести тысячах фунтов, которые перепадут им от сделки с Джо Пиллином. На общем собрании ему придется расписать выгоду этой покупки. Следует ожидать серьезных возражений: ведь грузооборот падает. Нерешительный народ пошел, все какие-то вялые, осторожные. А эти типы в правлении — как они пытались отвертеться от ответственности! Пришлось уговаривать их поодиночке. Чертовски трудно протолкнуть это дело! А оно стоящее: если умело взяться, суда будут приносить доход, и немалый.
Старик спал, когда пришел камердинер, чтобы одеть его к обеду. Слуга восхищался им, насколько можно восхищаться человеком, который не способен без посторонней помощи надеть штаны. Он не раз говорил горничной Молли: «Хозяин-то был, видать, большой любитель женского пола, такого нужно было поискать. Он и сейчас заглядывается на тебя, это уж точно!» А горничная, хорошенькая ирландка, отвечала: «Ну и пусть себе на здоровье, если ему это доставляет удовольствие. Лучше пусть так на меня смотрят, чем сверлят глазами, как наша хозяйка».
За обедом старый Хейторп всегда сидел на одном конце большого стола розового дерева, а его дочь — на другом. Это было самое важное событие дня. Заткнув салфетку за верхний вырез жилета, старик со страстью принимался за еду. Он нисколько не утратил вкуса к пище, и желудок его работал отлично. Он и сейчас мог есть за двоих и пить больше, чем выпивает обычно один человек. Во время обеда он избегал разговора и наслаждался каждым куском и глотком. «Святоша» не могла сказать ничего такого, что заинтересовало бы его, и он тоже — ничего, что было бы интересно ей. Она испытывала ужас перед «застольными радостями», как она выражалась, перед вожделениями здоровой плоти. Он знал, что она незаметно старается ограничить его рацион. Черта с два он допустит это! Какие еще удовольствия остались в его возрасте? Посмотрим, какова она будет, когда ей стукнет восемьдесят. Впрочем, она не доживет: слишком тощая и добродетельная!
Однако сегодня, когда подали куропатку, Адела заговорила:
— Кто это к вам приходил, папа?
Уже разнюхала? Уставив на нее маленькие синие глаза, он пробурчал с набитым ртом:
— Дамы!
— Это я видела. Но кто они?
Он испытывал сильное искушение сказать: «Члены одной из моих внебрачных семей». В действительности то были самые лучшие члены его единственной внебрачной семьи, но желание преувеличить брало верх. Он, однако, сдержался и продолжал есть, и лишь побагровевшие щеки выдавали его скрытое раздражение. Он смотрел в ее серые, ясные и холодные глаза и знал, что она думает: «Он слишком много ест».
— Мне жаль, папа, что вы не считаете нужным посвящать меня в свои дела, — сказала она. — И вам не следует пить рейнвейн.
Старый Хейторп взял высокий зеленый бокал, осушил его до дна и, сдерживая гнев, продолжал разделываться с куропаткой.
Адела поджала губы, выпила глоток воды и продолжала:
— Я знаю, что их фамилия — Ларн, но это ничего не говорит мне. И, может быть, это к лучшему?
Сдерживая гнев, старик сказал с усмешкой:
— Они — моя сноха и внучка.
— Как, разве Эрнест женат? Нет, ты шутишь! Старик рассмеялся и покачал головой.
— Уж не хотите ли вы сказать, папа, что вы были женаты до того, как женились на моей маме!
— Нет.
Какую рожу она скорчила!
— Значит, это был не брак… — сказала дочь с презрением. — И они сидят у вас на шее. Не удивительно, что вы вечно без денег. И много у вас этой родни?
Усилием воли старик снова сдержал гнев, но на лбу и шее угрожающе вздулись вены. Если бы он сейчас заговорил, то наверняка бы задохнулся. Он перестал есть, положил руки на стол и попытался встать. Ему не удалось это, и, осев в кресло, он уставился на неподвижную, чопорную фигуру дочери.
— Не делай глупостей, папа, и не устраивай сцен в присутствии Меллера. Доедай обед.
Он молчал. Он не останется здесь, раз его оскорбляют и пытаются им командовать! Никогда еще не ощущал он так остро свою беспомощность. Это открытие поразило его. Колода, которой приходится терпеть что угодно! Колода! И, решив подождать, пока вернется слуга, он взял в руку вилку.
Снова раздался ханжеский голос дочери:
— Вы, папа, вероятно, не догадываетесь, какой это удар для меня. Не знаю, что подумает Эрнест…
— Эрнест может проваливать ко всем чертям!
— Только без ругани, папа, прошу вас.
Гнев старого Хейторпа прорвался. Он зарычал. Как он мог все эти годы жить в одном доме с этой женщиной и есть с ней за одним столом!
Вернулся слуга, и старый Хейторп, отложив вилку, приказал:
— Помогите мне встать!
Тот медлил, как громом пораженный, держа поднос со сладким. Встать из-за стола, не закончив обед, — это неслыханно!
— Помогите мне встать!
— Меллер, мистеру Хейторпу нехорошо. Поддержите его с другой стороны.
Старик стряхнул руку дочери.
— Я вполне здоров. Помогите мне встать. Впредь буду обедать у себя в комнате.
Слуга помог ему встать на ноги, и он медленно вышел, но, оказавшись в своем святилище, не сел, подавленный острым сознанием собственной беспомощности. Он стоял, ухватившись за стол, немного покачиваясь, ожидая, пока слуга закончит подавать обед и принесет портвейн.
— Вы хотите сесть, сэр?
Проклятие, это он и сам как-нибудь способен сделать! Надо немедленно подумать, как укрепить свои позиции против этой женщины.
— Пошлите мне Молли!
— Хорошо, сэр.
Слуга поставил бутылку на стол и вышел.
Старый Хейторп наполнил бокал, выпил, снова наполнил. Потом взял из ящика сигару и раскурил ее. Вошла горничная, сероглазая, темноволосая девица, и остановилась перед ним, сложив руки, наклонив голову немного набок и чуть-чуть приоткрыв рот. Старик спросил:
— Вы — человек?
— Полагаю, что так, сэр.
— Так вот, я хочу попросить вас кое о чем именно как человека, а не как служанку, понимаете?
— Нет, сэр, но я буду рада сделать все, что нужно.
— Тогда заглядывайте сюда иногда — посмотреть, не нужно ли мне чего-нибудь. Меллер часто уходит. Не надо ни о чем спрашивать — просто загляните, и все.
— Хорошо, сэр, непременно. Мне будет только приятно.
Он кивнул и, когда девушка вышла, умиротворенно опустился в кресло. Недурна! Приятно видеть хорошенькую мордашку — не то, что бледную строгую физиономию, как у Аделы. В нем опять поднялась волна раздражения. Значит, она делает ставку на его беспомощность, уже сделала эту ставку? Но он покажет ей, что у старого коня есть еще силы! И эта жертва — нетронутое суфле, и грибы, и мятная конфета, которой он обычно заключал обед, — словно бы освятила его решимость. Они все думают, что он старая развалина без гроша в кармане! Вот сегодня днем он видел, как двое из правления переглядывались и пожимали плечами, как бы говоря: «Только посмотрите на него!» Молодой Фарни жалеет его. Жалеет, ишь ты! А неотесанный грубиян, стряпчий, — как он кривил рот на собрании кредиторов, словно хотел сказать: «Что с него взять одной ногой в могиле!» Сколько раз он замечал, как клерки прячут ухмылки, а тот щенок Боб Пиллин в тесном, как собачий ошейник, воротничке надменно щурится. Надушенная кукла Розамунда боится, как бы он не загнулся, прежде чем она успеет обобрать его до нитки. Камердинер все время как-то странно посматривает на него. А уж эта святоша!.. Ну нет, погодите! Не очень-то скоро дождетесь своего! И в четвертый раз наполнив бокал, он маленькими глотками тянул темно-красную жидкость, которую обожал, а потом, глубоко затянувшись сигарой, закрыл глаза.
ГЛАВА II
1
Комната в отеле, где обычно происходили общие собрания акционеров «Британской судовладельческой компании», была уже почти переполнена, когда секретарь вошел туда через дверь, отделявшую акционеров от директоров. Осмотрев приготовленные для директоров кресла, чернила, бумагу и кивнув кое-кому из акционеров, секретарь, держа в руках часы, стоял, наблюдая за присутствующими. Ни разу не собиралось так много народу! Это вызвано, конечно, снизившимися дивидендами и предполагаемой покупкой судов у Пиллина. Секретарь усмехнулся. Он презирал правление, за исключением председателя, но вдвойне презирал акционеров. Если вдуматься, забавное это зрелище — общее собрание! Единственное в своем роде! Восемьдесят или сто мужчин и пять женщин пришли сюда только потому, что поклоняются деньгам. Что еще на свете делается с таким единодушием? Церковь не идет ни в какое сравнение: слишком много мотивов, помимо поклонения всевышнему, переплетается в душе у человека. Иронические мысленные комментарии доставляли удовольствие этому высокообразованному молодому человеку, почитателю Анатоля Франса и других писателей. Неужели эти люди думают, что их приход что-нибудь изменит? Половина третьего! Секретарь спрятал часы в карман и пошел в комнату правления.
Возбужденные завтраком и предварительным обменом мнений, директора, очевидно, чувствовали себя весьма уютно, несмотря на февральскую погоду. Четверо из них еще оживленно беседовали у камина, пятый расчесывал бороду. Председатель сидел с закрытыми глазами и, мерно двигая губами, сосал леденец; в руках он держал листки бумаги с заготовленной речью. Секретарь бодро произнес:
— Пора, сэр!
Старый Хейторп проглотил конфету, поднялся, опираясь на руку секретаря, и проследовал к своему креслу в центре стола. Пять директоров последовали за ним. Стоя справа от председателя, секретарь, четко, тщательно выговаривая слова, прочел повестку заседания. Потом он помог председателю подняться и, окинув взглядом ряды, подумал: «Не надо было показывать, что он не может сам встать. А он должен был бы разрешить мне прочитать его речь — все равно я ее написал».
Председатель начал:
— Леди и джентльмены! Я рад снова, как делал последние девятнадцать лет, предложить вашему вниманию отчет правления за истекшие двенадцать месяцев. Вы обратите особое внимание, разумеется, на одно мероприятие, которое намечает правление и для проведения которого мы сегодня испросим вашего одобрения, — я вернусь к этому в конце своего доклада…
— Простите, сэр, здесь ничего не слышно!
«Ну вот, — подумал секретарь. — Я так и знал». Председатель невозмутимо продолжал речь. Однако скоро встали еще несколько акционеров, и тот же раздраженный голос произнес:
— В таком случае лучше отправляться по домам. Неужели никто не может прочитать за председателя, если он потерял голос?
Председатель выпил глоток воды и снова заговорил… Но теперь уже почти все в последних рядах встали с мест, поднялся нестройный гул. Тогда председатель протянул секретарю листки с речью и тяжело сел в кресло.
Секретарь начал читать с самого начала и после каждой фразы думал: «Отлично сказано!» «На редкость ясная мысль!» «Тонкий ход». «Это проймет их». «Обидно: никто не знает, что речь сочинил я». Дойдя до сделки с Пиллином, он сделал паузу.
— Теперь я перехожу к мероприятию, о котором упомянул вначале. Правление решило — расширить деятельность компании, купив у «Акционерного общества Пиллин» весь его грузовой флот. В результате этой операции мы становимся владельцами четырех пароходов: «Смирна», «Дамаск», «Тир» и «Сидон» — судов в отличном состоянии, общей грузоподъемностью в пятнадцать тысяч тонн, за весьма невысокую цену — шестьдесят тысяч фунтов стерлингов. «Vestigia nulla retrorsum» [17], джентльмены! — (Эту фразу председатель собственноручно вставил в речь, и секретарь отдавал ей должное.) — Мы переживаем трудные времена, но правление убеждено, что есть все признаки улучшения и настал удобный момент для новых решительных усилий. Члены правления с уверенностью рекомендуют вам принять этот курс и одобрить покупку, которая, по их убеждению, в недалеком будущем значительно увеличит прибыли Компании.
Секретарь неохотно сел. По его мнению, речь следовало бы заключить кое-какими воодушевляющими фразами, и он тщательно их заготовил, но председатель все вычеркнул, сказав: «Они должны быть рады такой возможности». Секретарь полагал, что это было ошибкой.
Затем поднялся тот директор, который расчесывал бороду, представительный господин, не умевший говорить долго и дипломатично. Пока он говорил, секретарь наблюдал за присутствующими, стараясь определить, откуда следует ждать оппозиции. Большинство сидело с осовелым видом — хороший признак, но человек десять листали отчет, и трое-четверо делали пометки: Уэстгейт, например, который сам хотел пролезть в правление, и потому можно было поручиться, что он строит какую-нибудь каверзу — испытанный способ сутяг; потом Баттерсон, который тоже хотел попасть в правление и потому наверняка будет поддерживать директоров — испытанный способ льстецов; кроме того, элементарное знание людей подсказывало секретарю, что тот субъект, который заявил, что лучше отправляться по домам, тоже выскочит с чем-нибудь неприятным. Директор закончил выступление, погладил пальцами бороду и сел на место.
Последовала секундная пауза. Затем встали одновременно Уэстгейт и Баттерсон. Увидев, что председатель кивнул Баттерсону, секретарь подумал: «Ошибка! Надо было сначала дать слово Уэстгейту и тем самым ублажить его». Но в том-то и беда, что старик не имеет представления о suaviter in modo! [18] Поощренный мистер Баттерсон, сказал, что он «хотел бы, если будет позволено, поздравить правление с тем, что оно, как опытный кормчий, так плавно провело корабль Компании по бурным водам прошлого года. До тех пор, пока у руля находится достойный председатель, он, Баттерсон, не имеет ни малейшего сомнения, что, хотя барометр все еще стоит низко и… гм… критический период не миновал, они могут рассчитывать на усмирение крепкого ветра, можно даже сказать… гм… шторма. Надо признать, что нынешний дивиденд — четыре процента — отнюдь не может удовлетворить всех присутствующих («Слушайте, слушайте!»), но лично он — и он надеется, что и другие — здесь мистер Баттерсон оглядел собрание — понимают, что при сложившихся обстоятельствах четыре процента прибыли — это все, на что они имеют основание… гм… надеяться. Он полагает, что реализуя смелые, ко, по его мнению, надежные мероприятия, которые намечены правлением, они могут с некоторой уверенностью ожидать наступления более отрадного будущего. («Нет, не можем!») Кто-то из акционеров сейчас сказал: «Нет, не можем!». Это, вероятно, указывает на известное сомнение в том, что планы, предложенные нашему собранию, целесообразны. («Вот именно!») В таком случае хотелось бы сразу отмежеваться от маловеров. Их председатель, человек, который неоднократно доказывал свою проницательность, предусмотрительность и мужество во многих и сухопутных и… гм… морских делах, не стал бы участвовать в этом начинании, если бы не имел на то достаточно веских оснований. По его, мистера Баттерсона, глубочайшему убеждению, их Компания находится в надежных руках, и он счастлив полностью поддержать предложенные мероприятия. Как хорошо сказал председатель в своей речи: «Vestigia nulla retrorsum!» Акционеры согласятся с ним, что это лучший девиз для англичанина. Кхе-м!»
Мистер Баттерсон сел на место. Поднялся мистер Уэстгейт.
Он сказал, что хочет узнать подробнее, гораздо подробнее об этом предложении, которое, на его взгляд, является весьма и весьма сомнительным… («Да, — подумал секретарь, — я же говорил старику, что надо побольше рассказать…») Кому первому, например, было сделано предложение со стороны Пиллина? Председатель говорит, что ему. Отлично! Но почему Пиллин продает суда, если стоимость морских перевозок должна, как нас уверяют, возрасти?
— Значит, он другого мнения.
— Совершенно верно! Так вот, и по моему мнению, стоимость перевозок упадет, и Пиллин прав, что хочет продать суда. Отсюда следует, что покупать их нам нельзя («Слушайте, слушайте!» «Нет, нет!»). У Пиллина в правлении сидят толковые люди. Что там председатель говорит? Нервы? Неужели он в самом деле хочет уверить нас, что эта продажа вызвана слабыми нервами?
Председатель кивнул.
— Это мне кажется по меньшей мере фантастическим предположением, но сейчас оставим это в стороне и ограничимся вопросом: на чем конкретно основана уверенность председателя? Что именно побуждает правление навязывать нам в такое неблагоприятное время то, что я не колеблясь назову скоропалительным решением? Одним словом, я хочу ясности, полной ясности в этом деле.
Мистер Уэстгейт сел.
Как же теперь поступит председатель? Положение затруднительное: председатель беспомощен, другие директора как-то равнодушны. И тут секретарь острее, чем всегда, почувствовал нелепость того, что он, который несколькими продуманными фразами мог так легко обвести собрание вокруг пальца, — всего лишь мелкая сошка. Но вдруг он услышал глубокий рокочущий вздох, который предшествовал обычно выступлениям председателя.
— Кто-либо еще из джентльменов хочет что-нибудь сказать, прежде чем я поставлю вопрос на голосование?
Так он только раздразнит их! Ну, конечно, тот субъект, который кричал, что можно идти по домам, уже вскочил на ноги. Какую гадость он еще надумал?
— Мистер Уэстгейт требует полной ясности. Мне тоже не нравится это дело. Я никого ни в чем не обвиняю, но мне кажется, что за этим что-то кроется и акционеры должны обо всем знать. И не только это! Говоря по совести, мне отнюдь не доставляет удовольствия терпеть самоуправство человека, который — каков бы он ни был в прошлом — теперь совсем не находится в расцвете сил.
У секретаря перехватило дыхание: «Так я и знал! Этот скажет — ножом отрежет!»
Подле себя он снова услышал ворчание. Председатель побагровел, поджал губы, маленькие глазки его стали совсем синими.
— Помогите мне встать! — сказал он.
Секретарь помог ему подняться и затаил дыхание. Председатель выпил воды, и его голос, неожиданно громкий, разорвал зловещую тишину.
— Ни разу в жизни мне не приходилось выслушивать подобных оскорблений. На протяжении девятнадцати лет я отдавал все силы для вашего блага, леди и джентльмены, и вы знаете, каких успехов достигла наша Компания. Я самый старший по возрасту среди присутствующих здесь и смею надеяться, что мой опыт по части морских перевозок несколько богаче, чем у двоих джентльменов, которые выступали здесь. Леди и джентльмены, я делал все, что мог, и если говоривший последним джентльмен действительно думает то, что сказал, то вам решать, поддержите ли вы обвинение, задевающее мою честь, или нет. Эта операция вам выгодна. Успех всегда в движении, и лично я никогда не соглашусь коснеть в бездеятельности. Если вам угодно коснеть, поддержите этих джентльменов, и больше не о чем разговаривать. Повторяю: стоимость перевозок возрастет еще до конца года, покупка выгодна, более чем выгодна, я, во всяком случае, так считаю. Ваше право отвергнуть это предложение. В таком случае я подаю в отставку.
Председатель сел. Украдкой посмотрев на него, секретарь с воодушевлением подумал: «Браво! Кто бы мог поверить, что он сумеет так поднять голос как раз в нужный момент? И какой тонкий ход насчет чести! Удар наверняка, что и говорить! А все-таки дела могут принять иной оборот, если тот субъект в заднем ряду возьмет слово: у старика просто не хватит сил отразить второй удар. Кто это там? А, старик Эпплпай хочет что-то сказать. Ну, этот не подведет!»
— Я без колебаний заявляю, что являюсь старым другом председателя, многие из нас — старые его друзья, и потому мне, как, несомненно, и другим, больно было слышать эти незаслуженные оскорбления. Если он и стар годами, то ума и мужества у него больше, чем у молодого. Нам бы всем быть такими энергичными, как он. Мы обязаны поддержать председателя, да, да, обязаны! («Слушайте, слушайте!»)
Секретарь облегченно вздохнул: «Пронесло!» — и почувствовал какое-то непонятное волнение, когда председатель, точно деревянная игрушка, качнулся в поклоне в сторону старого Эпплпая, и тот тоже качнулся в ответ. Потом он заметил, что поднялся акционер, сидевший у двери. «Кто это? Знакомое лицо… А, Вентнор, стряпчий, один из кредиторов председателя! Они как раз сегодня собираются снова прийти к нему. Что-то будет!»
— Я не могу согласиться с предыдущим оратором: личные симпатии и антипатии не должны сказываться на нашем суждении в этом деле. Вопрос крайне прост: как оно отразится на наших карманах? Не скрою, я шел сюда с некоторыми опасениями, но поведение председателя рассеяло их. Я поддерживаю предложение правления.
Секретарь думал: «Все как будто верно, но он как-то странно говорит, очень странно».
После длительного молчания председатель объявил, не поднимаясь с места:
— Предлагаю утвердить отчет и счета. Кто «за», прошу голосовать обычным путем. Кто против? Принято.
Секретарь записал имена тех, кто голосовал против, — их было шестеро. Мистер Уэстгейт воздержался.
Четверть часа спустя секретарь стоял посреди быстро пустеющей комнаты и называл имена репортеру. Тот бесстрастно вопрошал:
— Так вы говорите, «Хейторп» пишется через «э»? Через «е»? Понятно. Он, видимо, очень стар. Благодарю вас. Вы позволите мне взять эти листки с речью? Гранки вам прислать? Так вы сказали: через «э»? Ах, да, «е», простите! До свидания!
Секретарь думал: «Что происходит с этими людьми? До сих пор не знать председателя!..»
2
По возвращении в контору Компании старый Хейторп сидел, покуривая сигару и жмурясь, как сытый кот. Он вспоминал одержанную победу, отсеивая своим старческим, но еще тонким и гибким умом ценное зерно от соломы недоверия. Уэстгейт не страшен: он вечно будет недоволен до тех пор, пока они не заткнут ему рот, предоставив место директора, но этого не случится, пока бразды правления в его руках! А у того субъекта, что сидел в заднем ряду, просто дурной характер. «За этим что-то кроется». Неужели подозревает что-нибудь? Да, кроется, ну и что? Они должны считать это удачей — получить за такую цену четыре судна, и все благодаря ему. Вызывало сомнения последнее выступление. Этот Вентнор, которому он должен деньги, — что-то странное проскальзывало в его тоне, как будто он хотел сказать: «Я чую недоброе». Ну что ж, через полчаса придут кредиторы, и все выяснится.
— Мистер Пиллин, сэр.
— Просите!
Вошел Джо Пиллин; его тощая фигура совершенно терялась в меховом пальто. Седеющие бакенбарды окаймляли худое, покрасневшее от мороза лицо: на улице шел снег.
— Как ты себя чувствуешь, Сильванес? Не страдаешь от этого холода?
— Мне жарко, как в печке. Снимай пальто, садись!
— Нет, боюсь простудиться. У тебя, наверное, огонь внутри. Итак, покупка утверждена?
Старый Хейторп кивнул. Скользя, как тень, Джо Пиллин подошел к двери и проверил, закрыта ли она. Потом возвратился к столу и тихо сказал:
— Ты знаешь, это большая жертва с моей стороны. Старый Хейторп улыбнулся.
— Ты подписал обязательство?
Джо Пиллин вытащил из кармана бумаги, осторожно развернул их и показал подпись:
— Не нравится мне все это. Но теперь уже ничего не отменишь.
Старый Хейторп ответил со смешком:
— Как не отменишь смерть.
Голос Джо Пиллина зазвенел дискантом:
— Мне страшно неприятно, когда что-нибудь нельзя вернуть. Ты взял меня на испуг, сыграл на моих слабых нервах.
Рассматривая подписи, старый Хейторп пробурчал:
— Скажи своему юристу, чтобы он ненадежнее припрятал эту бумагу. Он, должно быть, считает тебя донжуаном, Джо.
— Представь, что после моей смерти это станет известно жене!
— Ну, пилить тебя она уже не сможет, и тебе там в аду не станет жарче.
Джо Пиллин убрал документ под пальто и издал странный, всхлипывающий звук. Он не выносил, когда шутили такими вещами.
— Все вышло, как ты хотел, всегда получается по твоему. Но кто эта миссис Ларн? Я ведь должен это знать. Боб, кажется, видел ее в твоем доме. А ты говорил, что она не бывает там.
Старый Хейторп заговорил, смакуя каждое слово:
— Муж этой дамы был моим сыном от женщины, которую я любил до женитьбы. Ее дети — мои внуки. Ты помог обеспечить их. Это лучшее, что ты сделал в жизни.
— Н-не уверен. Мне не нужно было спрашивать. Теперь сомнения совсем одолеют меня. Как только передача будет закончена, я уеду за границу. Этот холод — смерть для меня. Ты бы дал мне рецепт, как не мерзнуть.
— Смени внутренности.
Джо Пиллин смотрел на своего друга с какой-то тоской.
— Хоть ты и сильный человек, долго тебе не протянуть, жизнь на ниточке висит.
— Ниточка еще крепкая, дорогой.
— Ну, прощай, Сильванес! Мне пора домой. Ты плохой утешитель!
Он надел шляпу и, потерявшись в своем меховом пальто, вышел в коридор. На лестнице ему встретился человек и сказал:
— Как поживаете, мистер Пиллин? Я знаком с вашим сыном. Были у председателя? Продажа, как я понимаю, утверждена. Надеюсь, мы не прогадаем, но вы, разумеется, думаете иначе?
Джо Пиллин внимательно посмотрел на собеседника из-под полей шляпы.
— Мистер Вентнор? Благодарю вас! Сегодня очень холодно, не правда ли?
И, сделав это осторожное замечание, он пошел вниз.
Оставшись один, старый Хейторп размышлял: «Ей-богу, дрожит, как осиновый лист! Такому жизнь — сплошные неприятности! Он боится всего, прямо-таки сжился со страхом, бедняга!» Чувство подъема и легкости, которого он не знал вот уже много месяцев, наполнило ему грудь. Теперь те двое ребятишек избавлены от нужды!
Сейчас он разделается с проклятыми кредиторами и отправится навестить внуков. Имея двести фунтов в год, мальчишка поступит в армию — самое подходящее место для такого сорванца. Девчонку в любой момент можно сбыть с рук, но ей нет необходимости выскакивать замуж за первого попавшегося бездельника. Что до их мамаши, то пусть она сама заботится о себе: ей нужно иметь каждый год не меньше двух тысяч, чтобы распутываться с постоянными долгами. Но будьте покойны, она наглостью и лестью сумеет вывернуться из любой переделки! Следя за тем, как вился и пропадал дымок от сигары, он внезапно почувствовал, в каком напряжении находился последние шесть недель, как старательно гнал мысли о сегодняшнем общем собрании. Да, дела могли принять совсем иной оборот. Он хорошо знал расстановку сил в правлении и вне его и особенно тех, кому до смерти хотелось бы от него избавиться. А если бы ему пришлось уйти, другие две компании тоже дали бы ему отставку, и тогда плакало его жалованье, все до последнего пенса; он будет нищим, зависеть от дочки-святоши. А сейчас он безбедно протянет еще год, если сумеет отбиться от кредиторов-акул. На сей раз это окажется труднее, но ему везет, должно повезти и теперь. И, сделав глубокую затяжку, он позвонил.
— Зовите их сюда, мистер Фарни, и принесите мне, пожалуйста, чашку китайского чаю покрепче.
— Слушаю, сэр. Вы сами посмотрите оттиск газетного отчета или поручите это мне?
— Вам.
— Хорошо, сэр. Собрание прошло удачно, как вы считаете?
Старый Хейторп кивнул.
— И удивительно, как это в самый нужный момент к вам вернулся голос! Я уж опасался, что будет трудно убедить их. Вы, конечно, не могли не ответить на оскорбление. Нужно же додуматься до такой чудовищной вещи! Мне хотелось стукнуть его.
Старый Хейторп кивнул опять и, глядя в красивые голубые глаза секретаря, повторил:
— Просите их.
Снова на минуту оставшись один, старый Хейторп подумал: «Как это поразило его! Если бы он только знал — пощады не жди».
Кредиторы — на этот раз их было десять — входили, кланяясь своему должнику, и явно недоумевали, какого дьявола они должны быть вежливы с человеком, который не хочет возвращать им деньги. Потом секретарь принес чай, и они ждали, пока председатель выпьет всю чашку. Руки у председателя дрожали, и потому операция эта требовала немалой ловкости. Сумеет ли он не расплескать чай себе на грудь и не поперхнуться? Тем, кто не знал председателя в частной жизни, показалось, что тут не обошлось без вмешательства сверхъестественных сил. Наконец он благополучно отставил чашку, неверными пальцами снял несколько желтых капелек с седого кустика на подбородке, зажег сигару и начал:
— Джентльмены, буду говорить без обиняков. Я могу предложить следующее: пока я жив и состою членом нескольких правлений, я ежегодно буду выплачивать вам тысячу четыреста фунтов и ни пенса больше. Если вы не можете согласиться на это, я буду вынужден объявить себя банкротом, и тогда вы получите около шести пенсов за фунт. За мои акции по рыночной цене можно получить около двух тысяч. Больше у меня ничего нет. Дом, в котором я живу, и все, что есть в нем, за исключением одежды, вина и сигар, принадлежит моей дочери, согласно дарственной записи, сделанной пятнадцать лет назад. Вы можете получить полную информацию у моих юристов и банкиров. Таково в двух словах положение вещей.
Несмотря на то, что все десять джентльменов были опытны в делах, они с трудом скрывали свое изумление. Человек, который так много задолжал, скажет, естественно, что у него ничего нет, но решится ли он ссылаться на юристов и банкиров, если это неправда? Мистер Вентнор спросил:
— Вы позволите нам ознакомиться с вашими банковскими книжками?
— Нет, но я уполномочу своих банкиров представить вам справку о моих доходах за последние пять лет или больше, если угодно.
Кредиторы были умышленно рассажены вокруг большого стола, за которым собирались члены правления, — и этот стратегический ход лишил их возможности свободно, не опасаясь быть подслушанными, обменяться мнениями. Наклоняясь поочередно друг к другу, они переговаривались тихими голосами, и наконец мистер Браунби выразил общее мнение:
— Мистер Хейторп, мы полагаем, что при ваших дивидендах и жалованье вы можете выделить большую сумму. Вы должны выплачивать нам тысячу шестьсот фунтов ежегодно. Вы понимаете, что эта перспектива не из блестящих. Но мы все-таки надеемся, что вы проживете еще несколько лет. Мы исчисляем ваши доходы в две тысячи фунтов.
Старый Хейторп покачал головой.
— Тысяча девятьсот тридцать фунтов в хороший год. А я должен есть и пить, должен держать слугу, чтобы ухаживал за мной, — я немного сдал. Меньше, чем пятью сотнями, не обойтись, значит, тысяча четыреста фунтов это все, что я могу вам предложить, джентльмены. На две сотни больше, чем прежде. Это мое последнее слово.
Молчание нарушил мистер Вентнор.
— Эта сумма меня не удовлетворяет, и это мое последнее слово. Если остальные джентльмены примут ваше предложение, я буду вынужден действовать самостоятельно.
Старик пристально посмотрел на него и ответил:
— Разумеется, сэр! Посмотрим, чего вы добьетесь.
Кредиторы встали с мест и собрались кучкой у противоположного конца стола; остались сидеть только Хейторп и мистер Вентнор. Старик выпятил нижнюю губу, так что волоски на подбородке встали точно щетина. «Ах ты, пес! — думал он. — Воображаешь, будто можешь поймать меня на чем-то. Ну, что ж, действуй!» Стряпчий встал и присоединился к остальным. Закрыв глаза, старый Хейторп сидел в полной неподвижности, зажав между зубами потухшую сигару. Мистер Браунби обернулся и, прочистив горло, сообщил ему принятое решение.
— Мистер Хейторп, если юристы и банкиры подтвердят ваше заявление, мы примем это предложение, faute de mieux [19] в расчете на то… — Но, встретив взгляд старика, в котором отчетливо читалось: «К черту твои расчеты!» — запинаясь докончил: — Может быть, вы будете так добры и предоставите нам полномочия, о которых говорили?
Старый Хейторп кивнул, и мистер Браунби, поклонившись, с прижатой к груди шляпой, двинулся к двери. Девять джентльменов последовали за ним. Мистер Вентнор, шедший позади, оглянулся. Но старик уже закрыл глаза.
Как только кредиторы ушли, Хейторп позвонил.
— Помогите мне встать, мистер Фарни. Сколько у этого Вентнора акций?
— Акций десять, я думаю, не больше.
— Угу! Который час?
— Четверть четвертого, сэр.
— Наймите мне такси.
Заехав в банк и к юристу, он еще раз втиснулся в автомобиль и приказал ехать на Миллисент-Виллас. Сидел полусонный и торжествующий, не замечая, как мчится автомобиль, как его трясет и подбрасывает. Итак, эти акулы не станут приставать к нему, пока он держится в правлениях, и ему будет каждый год еще перепадать сотня или побольше — деньги пригодятся для Розамунды и внуков. Сам он может прожить на четыре сотни, а то и на три с половиной, не поступаясь своей независимостью. Он не вынесет жизни в доме той святоши, если не будет в состоянии оплачивать свое содержание. Неплохо сегодня поработал! Лучше, чем за много-много месяцев.
Автомобиль остановился перед одной из вилл.
3
Есть комнаты, которые не выдают своих владельцев, а есть такие, которые, кажется, сразу же выбалтывают: «Вот они какие!» К последним принадлежала комната Розамунды Ларн. Она словно говорила всем и каждому, кто входил: «Что ей нравится? Смотрите сами — все яркое и веселое. Привычки? Она сидит здесь по утрам в халате, курит, пачкает все чернилами — поглядите, будьте добры, «а ковер. Обратите внимание на пианино: у него такой вид, точно его то и дело уносят и приносят вновь — в зависимости от состояния кошелька. Широкий диван с подушками всегда стоит на месте, и за акварели на стенах не приходится беспокоиться — они писаны хозяйкой. Вы заметили, что пахнет мимозой? Она любит цветы с сильным запахом. Конечно, никаких часов. Посмотрите на бюро. Она, очевидно, переворачивает все вверх дном, ища какую-нибудь пропажу, и ворчит: «Эллен, где то и где это? Опять ты прибирала здесь, несносная девчонка!» Киньте взгляд на груду рукописей, и вы поймете, что хозяйка имеет, по всей видимости, склонность к сочинительству, слова так и бегут у нее с кончика пера, и, как Шекспир, она никогда не зачеркивает написанного. Да, она провела электрический свет вместо этого ужасного газового, но не пытайтесь зажечь хоть одну лампу: за последние месяцы, разумеется, не уплачено, и оттого она пользуется керосиновой лампой — это можно угадать по закопченному потолку. А вот собачонка, которая не откликается на имя «Кармен», — это китайский спаньель, похожий на джина, с выпученными глазами и почти без носа; у этой Кармен такой вид, будто она понятия не имеет, что случится через секунду, и бедняжка права: ее то ласкают, то гонят прочь! Посмотрите, что стоит на подносе, довольно стареньком и неказистом (правда, не оловянном). И должна вам прямо сказать, что ни у одного миллионера на подносе, несмотря на все великолепие последнего, не стоит бутылка ликера».
Слуга доложил: «Мистер Эзоп» — и старый Хейторп вошел в эту комнату, что тянулась от передней до задней стены крошечного домика и сейчас гудела от шума: здесь Филлис играла на фортепьяно, мальчишка Джок на коврике перед камином время от времени неистово дудел в окарину, миссис Ларн болтала на диване с Бобом Пиллином, а тот бормотал из вежливости: «Да-да! Конечно! А как же иначе!» — и, выворачивая шею, украдкой поглядывал на Филлис. А на подоконнике, подальше от всего этого гомона, собачонка Кармен отупело вращала глазами.
Увидев посетителя, Джок извлек из окарины душераздирающий звук, метнулся за диван и, опершись подбородком о его спинку, выставил круглое, розовощекое, неподвижное личико, а Кармен попыталась вскарабкаться по шнуру на шторы.
Поддерживаемый сзади обнявшей его Филлис, старый Хейторп двинулся за благоухающей миссис Ларн к дивану. Диван был низкий, и когда он плюхнулся на него, Джок издал какой-то утробный стон. Боб Пиллин первым нарушил молчание.
— Как поживаете, сэр? Надеюсь, все уладилось?
Старый Хейторп кивнул. Взгляд его был устремлен на бутылку ликера, и миссис Ларн проворковала:
— Дорогой опекун, вы непременно должны отведать нашего нового ликера. Джок, скверный мальчишка, вылезай оттуда, принеси дедушке рюмку!
Джок приблизился к столу, взял рюмку и, посмотрев ее на свет, быстро наполнил.
— Ах ты, негодник! Ты же видишь, что из этой рюмки пили.
Ангельским голоском Джок ответил:
— Не сердись, мамочка. Я это сейчас сам выпью. — И, мгновенно вылив желтую жидкость себе в рот, достал другую, чистую рюмку.
Миссис Ларн рассмеялась:
— Ну что с ним поделаешь?
Громкий визг не дал старому Хейторпу ответить. Филлис, которая взяла было братца за ухо, чтобы вывести его за дверь, отпустила его и схватилась за укушенный палец. Боб Пиллин поспешил к ней, а миссис Ларн улыбнулась и, кивнув в сторону молодого человека, сказала:
— Видите, какие ужасные дети! А он симпатичный юноша. Нам он очень нравится.
Старик усмехнулся. Она уже лебезит перед этим щенком? Не сводя с него глаз, миссис Ларн проворковала:
— Опекун, вы такой же своенравный, как и Джок. Он весь в вас пошел. Только посмотрите на форму головы. Джок, подойди сюда!
Мальчик подошел с невинным видом и остановился перед матерью. Розовощекий, голубоглазый, с прелестным ртом — настоящий херувим. Вдруг он отчаянно задудел в окарину. Миссис Ларн размахнулась, чтобы дать ему пощечину, но он угадал ее намерение и ничком растянулся на полу.
— Вот как он себя ведет! Убирайся, негодный, мне нужно поговорить с опекуном.
Джок пополз прочь и уселся у стены, скрестив ноги и неподвижно глядя своими круглыми невинными глазами на старого Хейторпа. Миссис Ларн вздохнула.
— Дела все хуже и хуже. Ломаю голову, как бы перебиться эти три месяца. Вы не одолжили бы мне сотню фунтов под мой новый рассказ? В конце концов я наверняка получу за него пару сотен.
Старик покачал головой.
— Мне удалось кое-что сделать для вас и детей. Дня через два-три вас известят. Больше ни о чем не спрашивайте.
— Правда? Опекун, дорогой! — Взгляд ее остановился на Бобе Пиллине. Филлис снова села за фортепьяно, и он склонился над нею.
— Зачем вы пригрели этого олуха? Хотите, чтобы она попала в руки первому попавшемуся ничтожеству?
Миссис Ларн шепотом согласилась:
— Конечно, девочка еще слишком молода. Филлис, иди сюда, поговори с дедушкой!
Когда девушка уселась подле него на диване, он почувствовал, как в нем поднимается та волна нежности, которую может вызвать единственно близость юного существа.
— Ну, как ты ведешь себя? Пай-девочкой?
Она мотнула головой.
— Когда Джок не в школе, это невозможно. А у мамы нет денег, чтобы заплатить за его учение.
Услышав свое имя, мальчик опять начал дуть в трубу, но миссис Ларн выпроводила его из комнаты, и Филлис продолжала:
— Вы даже представить себе не можете, до чего несносен этот мальчишка. Неужели папа был похож на него, опекун? Мама так таинственно говорит о папе. Вы, наверное, его хорошо знали?
Старый Хейторп невозмутимо ответил:
— Не очень.
— А кто был его отец? Я думаю, этого и мама не знает.
— Он был светским человеком в старые времена.
— В старые времена жилось очень весело, правда? Вы носили что-то вроде галифе и бакенбарды?
Хейторп кивнул.
— Как интересно! Вы, наверное, играли в карты, и у вас были всякие приключения с танцовщицами. Теперь молодые люди такие примерные. — Она посмотрела на Боба Пиллина. — Этот, например, воплощенная добродетель.
Старый Хейторп хмыкнул.
— Я не знала, какой он примерный, пока мы не проехали с ним через тоннель, — продолжала Филлис задумчиво. — Там его в темноте обняли за талию, а он сидел, не шелохнувшись. Когда же тоннель кончился, оказалось, что это Джок, а вовсе не я. Какое у него было лицо, если бы вы видели. Ха, ха! — Она откинула голову, открыв белую круглую шейку. Затем, придвинувшись поближе, прошептала:
— Он, конечно, любит изображать из себя настоящего мужчину. Обещал пригласить меня с мамой в театр, а потом ужинать. Вот забавно будет! Только мне не в чем ехать.
Старый Хейторп спросил:
— А что тебе нужно? Ирландский поплин, например?
От восторженного удивления она даже раскрыла рот.
— О опекун! Лучше белый шелк.
— Сколько ярдов тебе нужно на платье?
— Наверное, ярдов двенадцать. Мы сами сошьем. Какой ты милый!
Он услышал запах ее волос, ароматных, как душистое сено, она чмокнула его в нос, и в душе у него возникло такое же чувство, как и тогда, когда он смаковал первый в его жизни глоток вина. Этот дом — жалкое строение, ее матушка — кукла, братец — негодный сорванец, но ему было здесь так тепло, как никогда в том большом особняке, который принадлежал его жене, а теперь дочери-святоше. И он еще раз испытал удовольствие от мысли, что, злоупотребив доверием правления, сумел добыть деньги, и эти юные существа обрели какую-то почву под ногами в суровом, безжалостном мире. Филлис прошептала у него над ухом:
— Опекун, погляди. Он все время таращит на меня глаза. Точь-в-точь вареный кролик!
Боб Пиллин, вынужденный слушать болтовню миссис Ларн, повернув голову, неотрывно смотрел на девушку. Помешался парень, ясно! Было даже что-то трогательное во взгляде этих щенячьих глаз. Старый Хейторп подумал: «Ах ты, бродяга! Мне бы твои годы!» Как это несправедливо: тело дряхлое, немощное, а страсть к наслаждениям не стихает! Говорят, мужчине столько лет, сколько он сам в себе чувствует. Дурачье! Все зависит от того, как действуют руки и ноги! Внезапно он услышал, как Филлис словно всхлипнула, личико ее затуманилось, и, казалось, вот-вот на глазах выступят слезы. Соскочив с дивана, она подошла к окну, взяла на руки собачонку и зарылась лицом в коричневый с белым мех. Старый Хейторп думал: «Она отлично понимает, что хитрая мамаша использует ее как приманку». Филлис скоро вернулась; собачонка страшно вращала глазами и, отчаянно пытаясь вырваться, забралась, как кошка, к девушке на плечо, чтобы спрыгнуть на пол, но та крепко держала ее за лапу. Старый Хейторп вдруг спросил:
— Ты очень любишь мать?
— Ну, конечно, опекун. Я обожаю ее.
— Гм! Так вот, слушай меня. Когда достигнешь совершеннолетия и выйдешь замуж, ты будешь ежегодно получать тысячу двести фунтов. Не поддавайся ничьим уговорам, делай, как сама решишь. И помни: твоя мать-мотовка, деньги у нее как сквозь решето уходят. Береги свои деньги. Хотя это жалкие гроши, они очень тебе понадобятся, все до пенса пригодятся.
Филлис широко раскрыла глаза — он даже усомнился, поняла ли она, что он сказал.
— Ох, опекун, деньги — ужасная штука!
— Ужасно, когда их нет.
— Нет, и они ужасны. Если бы мы были, как птицы! Или вот каждый выставлял бы на ночь тарелку, а утром она у него была бы полна, и на весь день хватало бы.
Старый Хейторп вздохнул:
— Главное в жизни — независимость. Потерять независимость — потерять все. Вот зачем нужны деньги. Помоги мне встать.
Филлис протянула руки, и собачонка, соскочив на пол, снова заняла свое место на подоконнике у штор.
Встав, старый Хейторп сказал:
— Поцелуй меня. Шелк будет завтра.
Потом, посмотрев на Боба Пиллина, спросил:
— Вам не в мою сторону? Могу подвезти.
Молодой человек, кинув на Филлис умоляющий взгляд, нехотя протянул: «Благодарю-ю!» — и они вышли вместе к такси. Они сидели молча в наглухо закрытой машине, испытывая глубочайшее презрение друг к другу, свойственное старости и молодости. Хейторп злился на этого юнца, который имел какие-то намерения в отношении его племянницы, а тот, в свою очередь, клял «старого идола», который увез его, хотя он никак не хотел уходить. Наконец старый Хейторп буркнул:
— Ну?
Вынужденный ответить что-нибудь, Боб Пиллин пробормотал:
— Я рад, что собрание прошло удачно, сэр. Вы взяли верх.
— Не понимаю?
— Я полагал, что у вас будет сильная оппозиция. Старый Хейторп посмотрел на него.
— Расскажите об этом своей бабушке, — буркнул он. Затем, переходя по привычке к нападению, добавил: А вы не теряете времени, как я вижу.
Огорошенный его грубой прямотой, молодой человек постарался придать своему розовощекому лицу выражение достоинства.
— Я не понимаю, что вы имеете в виду, сэр. Миссис Ларн очень любезна ко мне.
— Еще бы! Но не пытайтесь сорвать цветок.
Окончательно потрясенный, Боб Пиллин упрямо молчал. Эти две недели, промелькнувшие с тех пор, как в доме старого Хейторпа он встретил Филлис, казались ему самым значительным событием в его жизни. Он ни за что не поверил бы, что человека можно так быстро выбить из колеи, принудить покориться без всякого сопротивления, — у него даже не возникало желания сопротивляться. На него, который придерживался принципа: «Наслаждайся жизнью, но не заходи слишком далеко», — эта встреча подействовала, как сильнейший и в то же время такой сладкий нокаут. Если бы только не терзание насчет того, есть ли у него шансы надеяться! Если бы он знал, нужно ли ему брать в расчет старика! Сказать: «У меня самые серьезные намерения», казалось ему старомодным, и, кроме того, обязан ли он отчитываться перед Хейторпом? Они звали его дедушкой, но имеет ли старый скряга право вмешиваться в их дела?
— Вы их родственник, сэр?
Старый Хейторп кивнул.
Набравшись храбрости, Боб Пиллин выпалил:
— Мне хотелось бы знать, что вы имеете против меня?
Старик насколько мог повернул к нему голову, и от недоброй усмешечки ощетинились усы, зажегся какой-то огонек в глазах. Что он имеет против? Да все! Ему не нравилась прилизанная шевелюра, щенячьи глаза, пухлые розовые щеки, высокий воротничок, бриллиантовая булавка в галстуке, не нравилась эта манера тянуть слова, тупая, самодовольная рожа. Эти трусы и неженки с рыбьей кровью — никакой напористости, никакого размаха, одно стремление к безопасному благополучию. И, тяжело, с присвистом вздохнув, он ответил:
— Эх! Молоко с водой, выдающее себя за портвейн!
Боб Пиллин нахмурился.
Это было уже слишком даже для его светской выдержки. То, что дряхлый паралитик открыто не верит в его мужественность, — это переходит всякие границы! Конечно, можно не принимать его всерьез… Но тут же Боб Пиллин подумал: «А что, если он вправе прекратить мои визиты туда и намеревается восстановить ее против меня?» И сердце молодого человека екнуло.
— Очень сожалею, сэр, что кажусь вам чересчур «примерным». Я сделаю все, что могу, чтобы доказать вам обратное. — Старик что-то пробурчал. Довольный собственным остроумием, Боб Пиллин продолжал:
— Увы, у меня приличный доход и нет долгов, нет предосудительных связей, передо мной неплохая карьера и все такое. Но я, конечно, могу все это изменить, если это нужно для того, чтобы вы признали меня подходящей партией.
То была, верно, его первая попытка иронизировать, и он невольно подумал, как удачно это у него получилось.
Но старый Хейторп хранил гробовое молчание. Он сидел, словно какое-то чучело: старческий румянец на щеках, жалкие волосенки, квадратное туловище совсем без шеи — не хватает только трубки во рту! Неужели этот старый идол может представлять опасность? Вдруг «идол» заговорил:
— Я дам тебе совет. Перестань там околачиваться, если не хочешь обжечься! Передай привет отцу. Спокойной ночи.
Такси остановилось перед домом на Сефтон-парк. Безрассудное желание продолжать спор боролось в Бобе Пиллине с желанием выскочить из автомобиля, погрозить кулаком этому дому и убежать. Но он сказал только:
— Спасибо за то, что подвезли. Спокойной ночи! Не спеша вышел из машины и зашагал прочь. Старый Хейторп ждал, пока шофер поможет ему
встать с места, и думал: «Такой же трус, как и отец. Только потолще».
Пройдя кабинет, он сразу же опустился в кресло. В этот час здесь было удивительно тихо, слышалось лишь потрескивание угля в камине, и из парка доносился шелест ветра в ветвях. Было тепло, уютно, пламя в камине освещало комнату. Старика охватило полусонное блаженство. Неплохо он сегодня поработал. «Взял верх», — так, кажется, сказал этот щенок? Да, настоящий успех! Он выдержал натиск и победил. Впереди еще обед. А пока вздремнуть! И скоро послышалось ровное, негромкое дыхание — старик спал, иногда как-то смешно вздрагивая, словно видел блаженные сны.
ГЛАВА III
1
Десять дней спустя Боб Пиллин выходил из крошечного садика перед домом 23 на Миллисент-Виллас в смятенных чувствах: он никак не мог ухватиться за какую-нибудь ниточку, чтобы распутать клубок своих мыслей.
Он застал миссис Ларн и Филлис в гостиной, и, судя по всему, Филлис плакала, он был уверен в этом, и чувства, которые вызвали последующие события, были окрашены воспоминанием о том случае. Старый Хейторп сказал: «Смотри, не обожгись!» Предсказание начало сбываться. Отослав дочь под каким-то пустячным предлогом, надушенная миссис Ларн усадила его рядом с собой на диване и заставила выслушать длиннейшую историю о материальных затруднениях, обрушила на него такую массу нынешних горестей и розовых перспектив, что у него голова пошла кругом, и лишь одно он уловил ясно: ей позарез нужно пятьдесят фунтов, которые она непременно вернет по истечении срока. Дело в том, что дедушка Хейторп сделал дарственную запись, по которой она вплоть до совершеннолетия детей будет получать шестьдесят фунтов каждые три месяца. Это вопрос каких-нибудь нескольких недель, он может справиться у господ Скривена и Коулза — они подтвердят, что обеспечение гарантировано. Боб, конечно, мог справиться у господ Скривена и Коулза: по чистой случайности то были поверенные его отца, — но это вряд ли относилось к делу. Боб Пиллин был весьма осторожный молодой человек, и теперь ему предстояло выбирать: одалживать ли деньги женщине, которая, как он прекрасно понимал, могла занимать еще и еще, до бесконечности, пользуясь его увлечением ее дочерью. Не слишком ли она злоупотребляет этим обстоятельством? В то же время, если он откажет, то может потерять ее расположение, и что тогда делать? Кроме того, не укрепит ли это маленькое одолжение его позиций? Но эта мыслишка показалась ему тут же недостойной: любовь благотворно действует даже на нынешнее молодое поколение.
Если он и даст в долг, то единственно из великодушия, и к черту всякие побочные мотивы! При воспоминании о следах слез на хорошеньких бледно-розовых щечках Филлис и о ее горькой реплике: «Деньги — противная вещь» — у него заскребло на сердце, и мысли стали разбегаться. И все-таки пятьдесят фунтов — сумма немалая, и одному господу известно, сколько за ней последует еще. А что в конце концов он знает о миссис Ларя, если не считать того, что она родственница старому Хейторпу, пишет рассказы и, насколько ему известно, мастерица рассказывать басни тоже. Может быть, все-таки посоветоваться в конторе Скривена? Но тут он снова поддался приступу нелепого благородства. Филлис, Филлис! Кстати, разве дарственные могут служить обеспечением? В полнейшем смятении, так ничего и не решив, он нанял извозчика. Сегодня он обедал у Вентнора, в Чешайре, и если немедленно не отправится домой переодеться, то непременно опоздает к обеду.
В жилете и белом галстуке, он катил в отцовском автомобиле и несколько высокомерно думал о младшей дочери Вентнора, каковую считал хорошенькой до знакомства с Филлис. А за обедом, сидя подле нее, он с удовлетворением сознавал, что не подвластен ничьим чарам и может беззаботно болтать и поддразнивать девушку. Но ему с трудом удавалось подавлять желание, которое теперь почти не покидало его, — думать и говорить о Филлис. У Вентнора было вдоволь неплохого шампанского, мадера тоже оказалась первоклассной, а помимо хозяина и его самого, присутствовал еще один мужчина, да и тот непьющий священник, который, встав из-за стола, удалился с дамами поговорить о приходских делах.
Вентнор казался любезным собеседником, обстоятельства благоприятствовали, и Боб Пиллин поддался тайному желанию завести разговор о предмете своей страсти.
— Вы случайно не знаете миссис Ларн? — спросил он небрежно. — Она родственница старого Хейторпа. Красивая женщина и пописывает рассказы.
Мистер Вентнор покачал головой. Человек более наблюдательный, чем Боб Пиллин, заметил бы, однако, что он навострил уши.
— Старого Хейторпа? Не знал, что у него есть родственники, кроме дочери и сынка, что служит в морском министерстве.
Боб Пиллин испытывал нестерпимый зуд оседлать любимого конька.
— Она… Правда, она живет довольно далеко. Имеет сына и дочь. Я думал, что, может быть, вы знаете ее рассказы. Неглупая женщина.
Вентнор улыбнулся.
— Уж эти мне дамы-сочинительницы, — загадочно сказал он. — И что же, она зарабатывает деньги своими рассказами?
Боб Пиллин знал, что когда сочинительством зарабатывают деньги, то это называют успехом, а когда не зарабатывают, о таком человеке говорят, что он причастен к искусству, и при этом, подразумевается, что у человека есть состояние, и, значит, он подлинно светский человек. И он ответил:
— О, у нее есть какое-то состояние.
Вентнор потянулся за бутылкой мадеры.
— Так, значит, она родственница старого Хейторпа? Он давний друг вашего отца. Знаете, он скоро обанкротится.
Бобу Пиллину, разгоряченному страстью и возлияниями, мысль о том, что родственник Филлис может обанкротиться, показалась нелепой. Да и старику Хейторпу далеко до этого. Он ведь только что оформил дарственную на миссис Ларн.
— Думаю, что вы ошибаетесь. Это уже в прошлом.
Вентнор улыбнулся.
— Пари?
Боб Пиллин тоже улыбнулся.
— Я выиграю.
Вентнор провел рукой по бакенбардам.
— Не скажите, у старого Хейторпа нет ни гроша. Налейте себе мадеры.
Боб Пиллин с ноткой обиды в голосе возразил:
— Я случайно узнал, что он только что оформил дарственную на пять или шесть тысяч фунтов. Если это у вас называется банкротством…
— Что? Дарственную на имя этой миссис Ларн?
Боб Пиллин смутился: он не мог решить, сделал ли глупость, сказав то, что роняет достоинство Филлис, или, наоборот, сказанное им поднимает ее в глазах других. Помявшись, он ограничился кивком. Вентнор встал и подошел к камину.
— Дорогой мой, этого не может быть.
Не привыкший к прямым возражениям, Боб Пиллин даже покраснел.
— Готов держать пари на десять фунтов. Можете спросить у Скривена.
— Скривен? Но он же не… — воскликнул Вентнор, затем, пристально взглянув на молодого человека, добавил: — Я не стану держать пари. Быть может, вы и правы. Ваш отец тоже пользуется услугами Скривена? Жаль, что он ни разу не навестил меня… Может быть, мы присоединимся к дамам?
Неуверенной походкой и в полнейшей неуверенности насчет того, что думать, Боб последовал за хозяином в гостиную.
Чарлз Вентнор принадлежал к тем людям, которые никогда не выдают того, что творится у них на душе. Но в тот вечер было много событий, и после разговора с молодым Пиллином Чарлз Вентнор то и дело отворачивался и потирал руки.
Когда закончилась вторая встреча кредиторов со старым Хейторпом, Вентнор, спускаясь по лестнице в контору «Судовладельческой Компании», усиленно размышлял. Невысокого роста, коренастый и плотный, с большими рыжими бакенбардами и усами, красным лицом и в несколько кричащем костюме, он поражал с первого взгляда только истинно британской вульгарностью. Чувствовалось, что это шумный, грубоватый человек, который любит поесть, проводит летний отпуск в Скарборо, держит в черном теле супругу, совершает с дочкой лодочные прогулки и никогда не болеет.
Чувствовалось, что он исправно, каждое воскресенье ходит в церковь, почитает тех, кто выше его, презирает неудачников и распоясывается после второй рюмки. При более пристальном взгляде на его покрытое щедрой растительностью лицо и карие глаза с рыжими ресницами возникало ощущение: «Нет, этот не простак. Что-то в нем есть лисье». При следующем взгляде напрашивалась мысль: «Порядочный, видно, наглец!»
Вентнор был не крупным кредитором старого Хейторпа. Учитывая проценты с первоначального вклада, он исчислял долг старика в сумме 300 фунтов обесцененные акции шахты в Эквадоре. Он сам никак не мог понять, каким образом он соглашается ждать своих денег так долго — целых восемь лет. Конечно, для того, кто привык почитать важных персон, личность старого Хейторпа еще не утратила своего обаяния, он сохранял влияние в судовладельческих кругах и репутацию местного аристократа. Но за последний год Чарлз Вентнор понял, что звезда старика закатилась, а когда это случается, человек теряет обаяние, и настает пора выколачивать из него свои денежки. Чарлз Вентнор презирал слабости и в себе и в других. Кроме того, визит к старику дал ему достаточно пищи для размышлений; и вот сейчас, спускаясь по лестнице, он обдумывал случившееся. У Вентнора был прямо-таки собачий нюх на всякие закулисные делишки. От Боба Пиллина, на которого он имел виды, как на будущего мужа своей младшей дочери, он знал, что Пиллин и Хейторп вот уже лет тридцать считаются друзьями. Это неизбежно наводило проницательного человека на предположение, что за продажей судов что-то кроется. Такая мысль уже приходила ему в голову, когда он читал отчет правления. Тут, конечно, не просто комиссионное вознаграждение: это означало бы злоупотребить доверием, но всегда можно найти способ обойти правила. Старику приходится чертовски туго, а люди, что ни говори, остаются людьми. Склонный к юридическим тонкостям ум Чарлза Вентнора привычно сопоставлял факты. Старик недаром назначил встречу с кредиторами сразу же после общего собрания, которое должно было одобрить покупку, и обещал, что попытается что-нибудь сделать для них. Разве это ни о чем не говорило?
Так что Чарлз Вентнор пришел на собрание с твердым решением глядеть во все глаза и не раскрывать рта. Он внимательно следил за происходящим. Любопытно: слабый, тучный старик, которого в любую минуту может хватить удар, заявляет, что он делает ставку на эту покупку, хотя он прекрасно знал, что если проиграет, то останется нищим. Почему ему так хотелось протолкнуть это дело? Ведь он-то от него никакой выгоды не имеет, если только… Ну, конечно же, Чарлз Вентнор уходил с собрания с убеждением, что старому Хейторпу кое-что перепало от этой сделки, и это позволит ему предложить кредиторам что-нибудь солидное. Но когда тот объявил, что не в состоянии намного увеличить отчисления, в душе у него поднялось раздражение, и он сказал себе: «Ну хорошо же, старый пройдоха! Ты еще не знаешь Чарлза Вентнора». Бесцеремонное обхождение, которое позволила себе эта старая развалина, вызывающий взгляд его голубых глаз обострили враждебность Чарлза Вентнора, который гордился тем, что никто не способен взять над ним верх. Вечером он сидел у камина, напротив миссис Вентнор и, слушая, как дочь выводила смычком серенаду Гуно, размышлял и иногда улыбался едва заметно. Он пока не знал, как будет действовать, но почти не сомневался, что скоро найдет способ. Теперь уже нетрудно скинуть этого деревянного идола с насиженного местечка. Среди акционеров были здоровые настроения: многие считали, что работа председателю не под силу и от него пора избавиться. Старик увидит, что не ему тягаться с Чарлзом Вентнором, что если уж он вцепится во что-нибудь зубами, то ни за что не выпустит. Так или иначе, он вынудит старика либо уйти из правления, либо вернуть ему долг, и тогда он оставит его в покое. Кошелек или жизнь — старику придется выбирать, что дороже. Вентнор не забыл вызывающего поведения председателя, и ему почти хотелось, чтобы тот выбрал второе. Повернувшись к миссис Вентнор, он вдруг сказал:
— Устрой в пятницу небольшой обед, пригласи молодого Пиллина и помощника священника.
Чарлз Вентнор сознательно выбрал помощника священника — таким образом у каждой дамы оказывался кавалер (у него было две дочери), и тот был непьющий, так что его можно услать после обеда обсуждать с дамами приходские дела, а он сам спокойно посидит с Бобом Пиллином за рюмочкой вина. Он пока даже еще не знал, что собирается выудить у молодого человека.
В тот день, прежде чем отправиться в контору, Вентнор спустился в винный погреб. Трех бутылок «Перье Жуэ» хватит. Или стоит добавить бутылочку выдержанной мадеры? Он решил не рисковать. На него лично не подействует бутылочка-другая шампанского, но для молодого Пиллина этого может оказаться больше чем достаточно.
Мадера сделала свое дело: направила разговор в желанное русло, но очень скоро Вентнор прекратил его, опасаясь, что молодой Пиллин выпьет чересчур много или что-нибудь заподозрит. Когда гости ушли, а жена и дочери отправились спать, он задумчиво уставился на пламя камина, мучительно стараясь решить загадку. Итак, пять или шесть тысяч фунтов… Ну, конечно же! Шесть — как раз десять процентов от шестидесяти! Молодой Пиллин сказал, что у Скривена… Но ведь старый Хейторп пользуется услугами фирмы «Крау и Донкин», а не фирмы «Скривен и Коулз». Старик оформил это тайное комиссионное вознаграждение у юристов, которые не знали состояния его дел. Что это означает, как не желание замести следы? Но почему именно у юристов Пиллина? Они прекрасно знали о предполагаемой покупке и не могли не заподозрить недоброе. Неужели он просчитался? Сам он на месте старика обратился бы к какой-нибудь лондонской фирме, которая не знает здешних людей. Он был сбит с толку и разочарован, да еще начала беспокоить печень вечная история после выдержанной мадеры. И прежде чем уснуть, он разбудил жену, чтобы спросить, почему она не каждый день готовит такой отличный суп.
Назавтра он целый день ломал голову, но разгадка не давалась. Выискав какое-то дело, которое его фирма вела со Скривеном, он решил самолично отправиться туда в надежде разузнать что-нибудь еще. Зная по опыту, что наиболее щекотливые дела находятся s руках ответственных лиц, он попросил, чтобы его принял сам Скривен. И уже взяв шляпу и собираясь уходить, спросил как бы между прочим:
— Кстати, вы не ведете какие-нибудь дела старого Хейторпа?
— Нет, — приподняв брови, ответил Скривен таким тоном, к какому всегда прибегал сам Вентнор, когда хотел дать понять, что хотя он и не ведет дел, но скоро, вероятно, будет вести. Поэтому он понял, что собеседник говорит правду. Оказавшись в затруднительном положении, он все-таки рискнул заметить:
— Ах, вот как! А я полагал, что ведете — для миссис Ларн.
На этот раз ему, кажется, удалось расшевелить Скривена. Тот нахмурился и сказал:
— Миссис Ларн?.. Нам известно это имя, но в другой связи. А что такое?
— Пустяки. Молодой Пиллин сказал мне…
— Молодой Пиллин? Так это его… — Скривен на мгновение запнулся, потом докончил: — Насколько мне известно, мистер Хейторп пользуется услугами фирмы «Крау и Донкин».
Вентнор протянул руку.
— Совершенно верно. До свидания. Я рад, что мы уладили это дело, проговорил он и быстро вышел. Он шагал по улице, улыбающийся, исполненный чувства собственного достоинства. Черт побери, он все понял! Скривен хотел было сказать: «Так это его отец!» Теперь никаких сомнений! Тонко они сработали, ох, тонко! Старый Пиллин сделал дарственную запись непосредственно на имя той особы; юристы ничего не знали, и потому за них он не беспокоился. Пиллин не передал старому Хейторпу ни пенса. Тонко, что и говорить! И все-таки недостаточно тонко для Чарлза Вентнора, у него просто чутье на такие вещи. Но тут же улыбка застыла у него на губах: ведь все это — чистейшие предположения, на них далеко не уедешь. Что же делать? Надо так или иначе повидать эту миссис Ларн или, еще лучше, старого Пиллина. Надо убедиться, связана ли она непосредственно с ним. Совершенно очевидно, что молодой Пиллин ничего об этом не знает: он говорил, что дарственная — дело рук старого Хейторпа. Клянусь, умен же этот старый хитрюга — тем большее удовольствие доказать, что он не так умен, как Чарлз Вентнор. Разоблачить старого мошенника уже казалось ему каким-то общественным долгом. Но под каким предлогом посетить Пиллина? Что если сделать вид, будто интересуешься подпиской на постройку дома призрения в Уиндитте? Старик наверняка разговорится, не следует только чересчур нажимать на него. И он приказал извозчику везти себя к дому Пиллина, в Сефтон-парк. Когда его провели в жарко натопленную, на американский манер, комнату на первом этаже, Вентнор расстегнул пальто. Человеку с его телосложением нелегко было переносить эту тепличную атмосферу. Сочувственно выслушав Джо Пиллина, который с явной неохотой отказал в просьбе («Да, да, я понимаю вас. Нельзя до бесконечности растягивать срок подписки — даже ради самого благого дела»), он сказал вкрадчиво:
— Между прочим, вы случайно не знакомы с миссис Ларн?
Впечатление, которое этот простой вопрос произвел на собеседника, превзошло все ожидания Вентнора. Джо Пиллин никогда не отличался хорошим цветом лица, но тут оно стало серым. Он раскрыл от изумления тонкогубый рот, потом быстро, точно птица клюв, захлопнул его, тонкая шея его напружилась, словно он с трудом проглотил что-то застрявшее в горле. Впадины на щеках, которые появляются у людей во время нервного напряжения, обозначились еще больше. Он был бледен, как смерть. Облизав пересохшие губы, он с трудом произнес:
— Ларн… Ларн? Мне кажется, я не…
Мистер Вентнор сделал вид, будто старательно натягивает перчатки.
— Нет, я только думал… Ваш сын знаком с ней. Это родственница старого Хейторпа, — небрежно бросил он и посмотрел на Джо Пиллина.
Тот прижал ко рту платок и закашлялся, сначала негромко, потом сильнее и сильнее.
— Я так скверно себя чувствую, — едва выговорил он наконец, не отнимая ото рта платок. — Собираюсь за границу. Этот холод погубит меня. Как, вы сказали, ее зовут?
Вентнор повторил:
— Ларн. Пишет рассказы.
Джо Пиллин бормотал через платок:
— Гм! Нет, я не… У моего сына очень много знакомых. Попробую поехать в Ментону. Вы уже уходите? До свидания! Прошу простить… Кхе-кхе! Этот кашель… кхе! Пугает меня, очень пугает! Кхе-кхе!
Усевшись в экипаж, Вентнор глотнул морозного воздуха. Сомнений больше не оставалось. Эти два имени подействовали, как заклинание. У этого дрожащего от страха субъекта можно добиться каких угодно показаний, он просто сдрейфит при разбирательстве. Какая противоположность старому грешнику Хейторпу! Тот не теряет наглости при любых обстоятельствах. Да, нешуточные вещи он узнал. Вопрос теперь в том, как наилучшим образом воспользоваться этими сведениями. А что, если миссис Ларн — всего лишь любовница старика Пиллина, или внебрачная дочь, или кое-что знает о нем и занимается вымогательством? Опыт подсказывал Вентнору, что любая из этих возможностей отнюдь не исключена, и тогда понятны и смятение старика и его нежелание признать, что знаком с ней, и полное неведение его сына. Непонятно только одно: молодой Пиллин сказал, что дарственную запись сделал старый Хейторп. Он мог узнать это единственно от самой миссис Ларн. Чтобы быть уверенным, ему, Чарлзу Вентнору, непременно надо добиться встречи с ней. Но как? Просить Боба, чтобы он познакомил его с ней? После разговора со старым Пиллином это невозможно. Придется полагаться только на себя и действовать наудачу. Так она писательница? Может быть, в газетах знают ее адрес. А нет ли его в адресной книге: имя-то необычное! И он по горячим следам помчался на почтамт. Так оно и есть, вот он, адрес: «Ларн, миссис Р. — 23, Миллисент-Виллас». «Более подходящего момента не выпадет», — подумал он и отправился по адресу. Задача была не из легких. Нужно было постараться не раскрыть преждевременно карты и сохранить за собой возможность в любой момент предать гласности то, что он узнал. И все же щекотливое дельце! Отныне каждый его шаг должен иметь соответствующее юридическое обоснование. С какой стороны ни посмотреть, он имеет полное право расследовать это мошенничество, совершенное по отношению к нему как акционеру «Судовладельческой Компании» и кредитору старого Хейторпа. Справедливо! Да, но если предположить, что эта миссис Ларн и в самом деле связана со старым Пиллином, а дарственная запись — просто благотворительность? Что же, значит, не было закулисного комиссионного вознаграждения, ему нечего предавать гласности и он не станет предпринимать никаких дальнейших шагов. Так что в любом случае он прав. Остается только решить, как представиться ей. Он, конечно, может сказать, что он из газеты, им нужны рассказы. Нет, это опасно! Не следует выдавать себя не за того, кто ты есть на самом деле. Ведь если ему придется впоследствии публично объяснить свои поступки — а это всегда нелегко, — надо быть крайне осторожным. И тут ему вспомнилось, что вчера вечером Боб Пиллин спросил: «Кстати, под дарственную, кажется, нельзя занимать? Есть на этот счет какое-нибудь общее положение?» По-видимому, эта женщина пыталась взять у него деньги в долг, предложив в качестве обеспечения дарственную запись. В этот момент Вентнор подъехал к дому 23 и вышел из экипажа, не зная пока, как ему нажать тайные пружины. Природная и профессиональная дерзость помогли ему. Он подошел и спросил у горничной:
— Миссис Ларн дома? Скажите, что ее хочет видеть мистер Чарлз Вентнор.
Быстрым взглядом карих глаз он оглядел убранство коридора, который одновременно служил холлом: синие обои на стенах, на дверях — портьеры с узорами в виде цветов сирени, известный эстамп с изображением обнаженной молодой женщины, смотрящей через плечо. Он подумал: «Гм! Во всем заметен вкус!». Он увидал маленькую собачонку с коричневой в белых пятнах шерстью, которая забилась в угол, и приветливо позвал: «Пушок, Пушок! Поди сюда!», но Кармен дрожала от страха и не двигалась с места.
— Войдите, сэр.
Вентнор огладил бакенбарды и, входя, был сразу же поражен каким-то особенно домашним уютом комнаты. На диване у швейной машины, на которой была разложена белая ткань, сидели красивая женщина и хорошенькая девушка. Девушка только посмотрела на него, а дама поднялась навстречу.
Вентнор без церемоний начал:
— Вы, кажется, знакомы с моим юным другом, мистером Робертом Пиллином?
Пышные формы хозяйки привели Вентнора в полнейший восторг. Она отвечала приятным грудным голосом, чуть растягивая слова:
— О, да! Вы не от мистера Скривена?
У Вентнора промелькнула мысль: «Так я и думал!»
— Э-э… Не совсем. Хотя я тоже стряпчий. Мне хотелось бы уточнить кое-что насчет дарственной записи на ваше имя. Мистер Пиллин сказал мне…
— Филлис, дорогая!
Видя, что девушка отложила материю и собирается встать, Вентнор быстро сказал:
— Не беспокойтесь, прошу вас. Просто маленькая формальность. — Его удивило, что дама так свободно говорит в присутствии третьего лица, своей дочери. Он продолжал: — Полагаю, запись сделана совсем недавно. И это будет ваше первое получение такого рода — на сумму шесть тысяч фунтов? Так?
Звучный, очаровательный голос с готовностью подтвердил это обстоятельство, и он подумал: «Восхитительная женщина! Какие глаза!»
— Благодарю вас. Этого достаточно. Подробности я могу разузнать у Скривена. Приятный молодой человек — Боб Пиллин, как вы считаете?
Он заметил, что девушка опустила голову, а на губах у миссис Ларн заиграла улыбка.
— Да, интересный юноша. Мы очень дружны с ним.
Вентнор продолжал:
— Я довольно давно с ним знаком. А вы?
— Нет, не очень. Филлис, когда мы познакомились с ним у опекуна? Около месяца назад. Но он такой простой, чувствует себя у нас, как дома. Милый, очень милый.
Вентнор поинтересовался:
— Он, кажется, не похож на своего отца?
— Правда? С отцом мы не знакомы. Он, насколько я знаю, судовладелец.
Вентнор потер руки.
— Да-а… — протянул он. — Хочет уехать: не любит холода. Молодой Пиллин — счастливчик. Единственный сын. Значит, вы познакомились с ним у старого Хейторпа? Я тоже его знаю. Наверное, ваш родственник?
— Он наш опекун. Милейший человек.
— Весьма, весьма, — откликнулся Вентнор. — Настоящий римлянин.
— Он такой добрый! — Миссис Ларн дотронулась до материи. — Посмотрите, что он подарил этой несносной девчонке.
— Очаровательно, очаровательно! — восторгался Вентнор. — Надеюсь, Боб Пиллин сообщил вам, что дарственную сделал мистер Хейторп.
В глазах у миссис Ларн на какое-то мгновение мелькнуло небольшое облачко, туманящее иногда лица женщин, которые в свое время не знали нужды. Глаза ее, казалось, говорили: «Не слишком ли много вы хотите знать?» Потом облачко пропало.
— Может быть, вы присядете? И простите нас: мы тут занялись работой.
Вентнор покачал головой: ему нужно было немедленно разобраться в массе новых впечатлений.
— Благодарю вас! Я очень спешу. Значит, мистер Скривен может… Пустая формальность, понимаете? До свидания. До свидания, мисс Ларн. Я убежден, что платье очень пойдет к вам.
Девушка как-то пристально посмотрела на Вентнора, а ее мать крепко пожала ему руку; он попятился к выходу, и, едва вышел за дверь, как одновременно раздались два восклицания:
— Какой симпатичный этот адвокат!
— Какой ужасный человек!
В экипаже он снова потер руки. Итак, она незнакома со старым Пиллином! Это было видно по ее лицу, не только по тому, что она сказала. Но она хочет познакомиться с ним или хотя бы разузнать о нем побольше. Намерена подцепить Боба для своей девчушки — это ясно, как божий день! Гм, юный друг весьма удивится, когда узнает о его визите. Пусть себе знает! Самые разные чувства охватили Вентнора. Теперь он отчетливо видел все обстоятельства сделки и не мог не отдать должное хитрости старого Хейторпа. Как ловко он обошел закон! Никто не может запретить человеку переписать какую-то сумму на имя женщины, которую он в жизни не видел, так что под дарственную Пиллина не подкопаешься. А вот под старого Хейторпа подкопаться можно. Но чистая, однако, работа — почти не придерешься! А какая восхитительная женщина! Просто удивительно! Вентнор даже пожалел, что дарственная оформлена по всем правилам — если бы она была под угрозой, можно было бы договориться с этой очаровательной женщиной. Он был убежден, что с ней можно было бы договориться. Какие глаза! Жаль, но ничего не поделаешь! Миссис Вентнор была не той женой, которая отвечает всем требованиям. Но, увы, дарственная была в полнейшей безопасности, и вожделениям мистера Вентнора не суждено было осуществиться. Это пробудило в его душе взрыв благородного негодования. Старик еще почувствует его коготки! Неплохо он распутал этот клубок. Совсем неплохо. Конечно, ему повезло. Нет, даже не это! Просто он делал в нужные моменты то, что нужно было делать, — отличительная черта делового таланта.
В поезде, который вез его к миссис Вентнор, он снова подумал: «Такая женщина была бы…» — и глубоко вздохнул.
2
На другой день после визита мистера Вентнора Боб Пиллин явился в дом 23 на Миллисент-Виллас; в кармане у него лежал аккуратно выписанный чек на пятьдесят фунтов. Рыцарские чувства взяли верх. Он позвонил у двери с таким воодушевлением, что сам подивился: он знал, что поддается непростительной слабости.
— Миссис Ларн ушла, сэр. Мисс Филлис дома.
Сердце его бешено заколотилось.
— Какая жалость! Спросите, примет ли меня мисс Филлис.
— Она кажется, мыла голову, сэр, — ответила молоденькая горничная. — Но волосы, наверно, уже высохли. Я узнаю.
Боб Пиллин застыл, как вкопанный, под тем самым эстампом, на котором была изображена молодая женщина. У него перехватило дыхание. Чертовски обидно, если волосы у нее не высохли! Тут он внезапно услышал восклицания и разговор, но не мог разобрать слов. Вбежала молоденькая горничная.
— Подождите минутку, сэр, мисс Филлис сейчас выйдет. И мне велено сказать вам, что мистер Джок словно с цепи сорвался.
— Спаси-ибо! — протянул Боб Пиллин и прошел в гостиную. Там он подошел к бюро, взял конверт, положил туда чек и, надписав: «Миссис Ларн», — положил его в карман. Потом он поглядел на себя в зеркало. Никогда в жизни, вплоть до минувшего месяца, он не жаловался на собственную внешность, но теперь видел, чего не хватало его лицу. Оно слишком полное и розовое. На нем не написана страсть. Это серьезный недостаток. Он попытался восполнить его узеньким белоснежным кантом на вырезе жилета и туберозой в петлице. Но как он ни старался, он постоянно испытывал какую-то неловкость и не мог научиться непринужденно держаться в присутствии Филлис. А ведь до последнего времени он отнюдь не страдал недостатком самоуверенности.
— А-а, любуетесь собой? — произнес сзади звонкий и насмешливый голос.
Быстро обернувшись, он увидел в дверях Филлис. Ее каштановые волосы пышными прядями падали на плечи. Он почувствовал какую-то томительную слабость и нечленораздельно пробормотал:
— Ох, это очень красиво!
— Что вы, ужасно неприлично! Вы хотели повидать маму?
Разрываясь между страхом и дерзостью, опьяненный запахом свежего сена, вербены и ромашки, Боб Пиллин пролепетал:
— Да… Но я рад, что ее нет дома.
Смех девушки показался ему до крайности бесчувственным.
— Не говорите глупостей! Садитесь. Неприятно мыть голову, правда?
Боб Пиллин ответил едва слышно:
— У меня мало опыта в таких вещах. Глаза ее широко раскрылись.
— Мало опыта? Как же это может быть?
Он судорожно размышлял: «А что, если… Может быть, нужно взять ее за руку или обнять?» А вместо этого сидел с негнущейся спиной на краешке дивана. Она удобно расположилась на другом краю. На Боба Пиллина словно нашел столбняк, который иногда находит на влюбленных.
Эти дни он не раз вспоминал прошлые увлечения, когда он беззаботно болтал и даже целовался, когда девицы казались ему лишь приятной забавой, вспоминал и думал: «Так ли уж она наивна? Может быть, она хочет, чтобы я поцеловал ее?» Увы, то были минутные колебания перед очередным порывом благоговения и рыцарских чувств, и он снова подпадал под власть непонятной роковой чувствительности — такого ему еще не доводилось переживать. Филлис неожиданно спросила:
— Зачем вы знаетесь с такими противными людьми?
— С какими противными людьми? Ни с кем я не знаюсь.
— Нет, знаетесь. Один вчера даже приходил сюда. Такой, с бакенбардами неприятная личность.
— С бакенбардами? — Боб Пиллин возмутился до глубины души. — Мне кажется, я знаю только одного человека с бакенбардами, стряпчего.
— Вот-вот, это он. До чего противный! Маме он даже как будто понравился. А по-моему, нахал!
— Вентнор! Зачем он приходил? Не может быть!
— Нет, может! По какому-то вашему делу. — Личико ее затуманилось. Последние дни Боб Пиллин вконец измучился, сочиняя поэму. Начиналась эта мертворожденная поэма так:
Верхом я ехал на коне, Вдруг вижу: дева на пороге.Дальше никак не клеилось. Этот шедевр возник, когда Боб открыл, что лицо Филлис — как апрельское утро. И то облачко, что набежало сейчас на ее лицо, было апрельское облачко, из которого вот-вот брызнет слепой дождик. Отмахнувшись от назойливо звучащих в ушах строчек, он заговорил:
— Послушайте, мисс Ларн. Филлис, послушайте же!
— Я слушаю!
— Что все это значит, зачем он приходил? Чего он хотел?
Она помотала головой, волосы ее разлетелись, и он снова услышал запах ромашки, вербены и свежего сена. Опустив голову, она прошептала:
— Мне очень не хочется, чтобы вы… мне очень не хочется, чтобы мама… Эти деньги — как я их ненавижу! — Она всхлипнула, и у Боба Пиллина начали медленно краснеть уши.
— Послушайте, не надо… И скажите мне все, потому что…
— Вы и сами знаете.
— Да нет же, я ничего не знаю!
Филлис посмотрела ему в лицо.
— Зачем вы обманываете меня? Вы же знаете, что мама хочет одолжить у вас денег, и мне стыдно!
Желание прибегнуть к спасительной лжи, хотя в кармане похрустывал конверт с чеком, возмущение несправедливостью, жалость, недоумение и раздражение по поводу визита и намерений Вентнора — все смешалось в душе Боба Пиллина, и он пробормотал:
— Черт меня побери! — И, не заметив взгляда, что бросила на него Филлис из-под полуопущенных ресниц, словно говоря: «Так-то лучше!», повторил: Черт меня побери! Послушайте, Филлис, вы говорите, что Вентнор приходил по поводу тех денег, что я хотел одолжить?.. Но я и словом ему не обмолвился.
— Ну вот видите! Значит, вы все-таки хотите дать в долг.
Он схватился за голову.
— Ой, какой вы смешной сейчас! Я ни разу не видела вас растрепанным.
Боб Пиллин поднялся и стал мерить шагами комнату. Даже охваченный крайним волнением, он не удержался, украдкой посмотрел на себя в зеркало и, делая вид, будто схватился за голову, отчаянно пытался поправить прическу. Потом, остановившись, заявил:
— Допустим, я и в самом деле хотел одолжить вашей матери деньги. Что тут такого? Ведь это только на небольшой срок. Всякому могут понадобиться деньги.
Филлис сказала, не поднимая глаз:
— А почему вы это делаете?
— Потому что… потому что… А почему бы и нет? — и кинувшись вдруг к девушке, схватил ее за руки.
Она вырвалась; в полнейшем отчаянии Боб Пиллин вытащил конверт.
— Если хотите, я могу порвать это. Я не стану давать их в долг, если вы против. Но я думаю… я полагал…
Филлис откинула голову.
— Вот именно! Вы думали, что я… Вот это и противно!
Наконец он все понял.
— Да нет же! Клянусь, я и не думал…
— Нет, думали! Вы думали, что это я хочу, чтобы вы одолжили деньги.
Она соскочила с дивана и подбежала к окну.
Значит, она решила, что ее используют как приманку! Как некрасиво вдвойне некрасиво, потому что правда. Он прекрасно знал, что миссис Ларн стремилась извлечь все, что могла, из его поклонения ее дочери, но сказал пылко:
— Какая ерунда!
Филлис молчала. Тогда, лихорадочно соображая, что же делать, он воскликнул:
— Филлис, если вы не хотите… Смотрите! — Девушка обернулась Боб разорвал конверт пополам и клочки бросил в камин. — Ну, вот!..
Она легонько охнула, глаза ее округлились. В порыве честности он признался:
— Это не деньги — чек! Добились своего.
Отвернувшись к огню, она медленно произнесла:
— Вам лучше уйти, пока не пришла мама.
У Боба Пиллина отвисла челюсть. Втайне он был согласен с Филлис, но пожертвовать хотя бы минуткой наедине с ней — невыносимо, и он сказал решительно:
— Нет, я останусь!
Филлис чихнула.
— У меня не совсем просохли волосы. — Она присела на каминную решетку спиной к огню.
Лицо Боба Пиллина приняло одухотворенное выражение. Если бы только он решился сказать: «Филлис, радость моя!» или даже «Филлис, не согласились бы вы… позвольте мне…» Но он не мог выжать из себя ни слова.
— Не сопите, пожалуйста! — неожиданно сказала она. — Это ужасно.
— Я не сопел, это неправда!
— Нет, сопели, как моя Кармен, когда спит.
Он пошел было к двери, сделал три шага и остановился: «Какое это имеет значение! От нее я и не такое снесу». И сделал три шага назад.
— Бедняжка! — проворковала она.
— Надеюсь, вы догадываетесь, что видите меня, вероятно, в последний раз? — спросил он мрачно.
— Как же так? Вы же обещали пригласить нас в театр.
— Я не уверен, что ваша мама согласится… После всего.
Филлис рассмеялась от души.
— Вы не знаете маму. Ей все равно.
Боб Пиллин пробормотал:
— Понимаю. — Он ничего не понимал, но это не имело ни малейшего значения. И снова мысль о Вентноре вытеснила все остальные. Какого черта?! Как это получилось? Он мучительно вспоминал, что он мог сболтнуть тогда вечером. Он наверняка ни о чем не просил его и не давал адреса. Очень странная история, надо хорошенько разобраться.
— Вы уверены, что его имя Вентнор? Того типа, что приходил вчера?
Филлис кивнула.
— Невысокий такой, с бачками?
— Рыжие бачки и рыжие ресницы.
— Очевидно, он самый, — задумчиво протянул Боб Пиллин, — Порядочный нахал. Ума не приложу… Надо съездить к нему. А где он узнал ваш адрес?
— Я думала, вы дали.
— Ничего подобного! За кого вы меня принимаете? Филлис вскочила.
— А вот и мама!
По саду шла миссис Ларн. Боб Пиллин кинулся к двери.
— До свидания, я ухожу.
Но миссис Ларн была уже в холле. Она возникла перед ним, разодетая в меха, во всем своем великолепии, и увлекла его в гостиную; французское окно было распахнуто — Филлис исчезла.
— Надеюсь, эти несносные дети не слишком докучали вам. Вчера приходил ваш юрист — милейший человек. Он был, кажется, вполне удовлетворен.
Боб Пиллин пробормотал, краснея до корней волос:
— Я не просил его приходить. Это не мой юрист. Я не знаю, чего он хотел.
Миссис Ларн улыбнулась.
— Не расстраивайтесь, мой дорогой. И не нужно быть щепетильным. Я хочу, чтобы все было на сугубо деловой основе.
Бобу Пиллину очень хотелось крикнуть: «Ни на какой основе этого не будет!» — но он сдержался и пробормотал:
— Мне пора идти, я опаздываю,
— А когда сможете…
— Я… Я пришлю… Я напишу… До свидания!
Но миссис Ларн крепко держала Боба Пиллина за лацкан, обдав его запахом меха и фиалок. У молодого человека мелькнула мысль: «Наверно, и от библейского Иосифа та женщина хотела только денег». Не оставлять же пиджак у нее в руках! Что делать? Миссис Ларн проворковала:
— Было бы крайне любезно с вашей стороны, если бы вы могли устроить это сегодня. — Ее рука скользнула у него по груди. — О, вы все-таки захватили чековую книжку. Какой милый!
В отчаянии Боб Пиллин вытащил книжку и, присев к бюро, заполнил такой же чек, какой он разорвал и бросил в огонь. Потом он почувствовал на лбу горячий поцелуй, голову его на мгновение прижали к меху жакетки, рука взяла чек, голос сказал: «Очаровательно!», — послышался вздох, и его снова обдало запахом духов. Пятясь к двери, он бормотал:
— Хорошо, хорошо… Пожалуйста, не говорите только Филлис. До свидания!
Выйдя за калитку, он подумал: «Черт побери! Не устоял я. И Филлис обо всем знает. Ах, эта собака Вентнор!»
Лицо его помрачнело. Он немедленно отправится к нему и потребует объяснений.
3
Вентнор был еще у себя в кабинете, когда ему принесли визитную карточку его юного друга. На мгновение у него появилось искушение сказать, что его нет. Но он тут же решил: «Какая разница? Все равно когда-нибудь придется встретиться!»
Мистеру Вентнору, может быть, и недоставало мужества, но зато он обладал той особой самоуверенностью и невосприимчивостью, что по необходимости отличают служителей закона; кроме того, он ни на секунду не забывал, что правда на его стороне.
— Просите, — сказал он.
Он решил быть вполне обходительным, хотя молодой Пиллин может потребовать объяснений. Мистер Вентнор не забыл тех пышных форм и красивых губ и все еще лелеял надежду на более близкое знакомство.
Пожимая молодому человеку руку, он сразу же заметил своим рыжим глазом, что тот встревожен, хотя и прикрывает это внешним спокойствием и самоуверенностью. Опустившись во вращающееся кресло, которое давало явное преимущество перед неподвижно сидевшими собеседниками, Вентнор сказал:
— Вы отлично выглядите. Чем могу служить?
Боб Пиллин сидел на жестком стуле, предназначенном для клиентов, и теребил котелок на коленях.
— Я только что от миссис Ларн.
Вентнор спокойно смотрел на него.
— А-а! Великолепная женщина, и дочка хороша!
О дочке он упомянул с умыслом, так как предпочитал нападать первым. Боб Пиллин чувствовал, как у него закипает кровь.
— Послушайте, Вентнор, я хочу, чтобы вы объяснили свое поведение.
— Что вы имеете в виду?
— Зачем вы ходили туда, ссылались на меня и прочее…
Вентнор дважды качнул кресло.
— Я не собираюсь ничего вам объяснять.
Не ожидая такого оборота, Боб Пиллин замолк, потом решительно произнес:
— Это недостойно джентльмена!
У каждого есть свои иллюзии, и никто не хочет расставаться с ними. Рыжеватое лицо Вентнора побагровело, даже белки глаз налились кровью.
— Вот как? Не суйте нос в чужие дела.
— Но это прямо касается меня. Вы прикрываетесь моим именем, и я не желаю…
— А мне наплевать! Послушайте, что я вам скажу… — Мистер Вентнор наклонился вперед. — Попридержите-ка лучше язык, не выводите меня из себя. У меня добродушный характер, но я не потерплю дерзости.
Единственно догадка, что за словами Вентнора что-то кроется, удержала Боба Пиллина на месте.
— И вы еще говорите о дерзости? — горячился он, сжимая котелок. — После всего, что натворили? Это переходит всякие границы.
— Вот как? Вы еще не то увидите.
Боба Пиллина сбивали с толку загадочные намеки собеседника.
— Я не сообщал вам их адреса. Мы же говорили только о старом Хейторпе.
У Вентнора между бакенбардами зазмеилась усмешка. Боб Пиллин вскочил на ноги и закричал:
— Вы так просто не отделаетесь! Я настаиваю на объяснении!
Вентнор откинулся на спинку кресла, скрестил короткие йоги и соединил на животе кончики пухлых пальцев — в такой позе он чувствовал себя особенно уверенным.
— Настаиваете?
— Да, настаиваю! Должна же быть какая-то причина…
Вентнор посмотрел на него в упор.
— Хотите я вам дам совет, петух вы несчастный? Причем бесплатно. Не задавайте вопросов, если не хотите, чтобы вам говорили неправду. И еще один совет: уходите, а то опять забудетесь!
Флегматичность, свойственная лицу Боба Пиллина, едва устояла перед этой тирадой. Он сказал хрипло:
— Если вы еще раз поедете туда и будете ссылаться на меня… Поблагодарите господа, что ваш возраст не позволяет мне… Считайте, что мы незнакомы. Прощайте! — Он пошел к двери.
Вентнор вскочил.
— Отлично! — бросил он громко вслед. — Скатертью дорога. Вы скоро узнаете, где собака зарыта.
Боб Пиллин вышел, а Вентнор стоял покрасневший, раздраженный, смутно чувствуя, что он говорил что-то не то. С уходом молодого Пиллина рушились его любовные намерения. Он не мечтал больше о миссис Ларн — теперь, как мужчина и истинный англичанин, он думал только о том, как бы вернуть пошатнувшееся чувство собственного достоинства и наказать злоумышленников. «Это недостойно джентльмена!» Неслыханная дерзость — сказать такое о нем, который был джентльменом не только по рождению, но и в соответствии с Актом парламента! И Чарлз Вентнор дал себе торжественную клятву отомстить за оскорбление. Это его долг, и он исполнит его, черт побери!
ГЛАВА IV
1
Сильванес Хейторп редко ложился раньше часа ночи, а поднимался не раньше одиннадцати. И если его камердинер не отказывался от места, то именно благодаря второй привычке хозяина, тогда как первая почти каждую ночь толкала его на это.
Откинувшись на подушки, свежевыбритый, в темно-красном халате, он напоминал римлянина более чем когда бы то ни было, исключая разве те минуты, когда лежал в ванне. Покончив с кофе, он обычно читал письма и газету «Морнинг пост», потому что всегда был тори, но платить полпенни за газетные новости считал непозволительной роскошью. Писем бывало не так уж много когда человек дожил до восьмидесяти лет, кто станет писать ему, кроме просителей и кредиторов?
Был Валентинов день. Из окна спальни Хейторп мог видеть деревья в парке; на них распевали птицы, но он не слышал их. Природа никогда не интересовала его: ею редко интересуются полнокровные мужчины с короткой шеей.
Этим утром пришло два письма; одно благоухало, и он начал с него. Внутри лежала поздравительная открытка вроде рождественской, но на ней голый младенец держал в руках лук и стрелы, а изо рта у него летели слова: «Хочу быть твоей возлюбленной». Кроме того, в конверте лежала розовая записочка с голубой незабудкой. Он прочел:
«Дорогой опекун! Простите за такую гадкую открытку, но сама я не могла выйти и купить другую, потому что жутко простудилась. Я попросила Джока — и вот что принес этот поросенок! Атлас просто великолепен! Приходите скорей взглянуть на меня в новом платье, а не то я явлюсь к вам сама. Моя верхняя губа от простуды страшно распухла, и я жалею, что у меня не растут усы, чтобы ее прикрыть, но зато до чего же приятно завтракать в постели! Мистер Пиллин послезавтра обещает сводить нас в театр. То-то повеселимся! Сейчас буду лечиться — выпью рома с медом.
До свидания.
Ваша Филлис».
Значит, «валентинка», дрожавшая в его пальцах, так онемевших, что он и не ощущал ее, предназначалась ему! Сорок лет назад он получил последнюю от бабушки этого юного существа. До чего же он, оказывается, стар! Сорок лет! Неужели то был он? Неужели это он приехал сюда юношей в сорок пятом году? И следа не осталось от мыслей и чувств того времени. Говорят, тело человека каждые семь лет меняется. Вероятно, и ум вместе с ним. Во всяком случае, теперь-то он дожил до последнего изменения своего тела! А «святоша» требует, чтобы он повез это тело в Бат, и лицо у нее при этом вытягивается, оно такое длинное, как чайный поднос, а доктор городит ему всякий вздор: «Слишком полнокровны… живите спокойнее… ни капли спиртного — в любую ночь можете умереть от удара». Умереть — нет, только не он! Впрочем, лучше уж умереть, чем стать трезвенником! Когда у человека только и осталось в жизни, что его обед, его бутылка, его сигара и те мечты, что они дарят ему, — доктора непременно норовят отнять все это. Нет уж! Carpe diem [20]. Пока жив, пользуйся жизнью! И теперь, когда он сделал все, что мог, для обеспечения этих ребятишек, его жизнь принадлежит ему одному; и лучше сразу протянуть ноги, чем перестать наслаждаться тем, что еще осталось, или не быть уже в силах сказать: «Я буду делать то-то и то-то, и мне наплевать на вас!» Не теряй мужества, пока не все потеряно, а там — уходи с чистой совестью!
Он позвонил два раза — Молли, а не Меллеру. Горничная вошла и остановилась — хорошенькая, в передничке из набивного ситца, пышные темные волосы выбивались из-под чепчика. Он молча смотрел на нее.
— Да, сэр?
— Хотел поглядеть на тебя, вот и все.
— Ой, а я не прибрана, сэр.
— Неважно. Получила «валентинку»?
— Нет, сэр. Да и кто ж мне ее пришлет?
— Разве у тебя нет ухажера?
— Есть вообще-то. Только он там, в нашей деревне.
— А эта тебе нравится?
Он протянул ей открытку с младенцем. Горничная взяла ее и с благоговением рассмотрела; потом прикинулась равнодушной, сказала:
— Да, красивенькая.
— Хочешь взять ее себе?
— Ой, если только она вам не нужна!
Старый Хейторп качнул головой и указал на туалетный стол.
— Там вон лежит соверен. Маленький подарочек для славной девочки.
Она глубоко вздохнула.
— Ох, сэр, больно уж много, прямо по-царски.
— Бери.
Она взяла монету и подошла опять, сжимая руки с открыткой и совереном так, словно молилась. Старик с удовольствием смотрел на нее.
— Люблю хорошенькие личики и терпеть не могу кислых рож! Скажи Меллеру, чтоб приготовил мне ванну.
Когда она вышла, он взял другое письмо — адрес был написан почерком юриста — и, с трудом распечатав, прочел:
«13 февраля 1905 г.
Сэр!
Мне стали известны некоторые факты, и я считаю своим долгом созвать специальное собрание акционеров «Британской судовладельческой Компании» для выяснения обстоятельств, связанных с приобретением судов у мистера Джозефа Пиллина. Предупреждаю вас, что на этом собрании будет поставлен вопрос о вашем поведении.
Остаюсь, сэр,
преданный вам
Чарлз Вентнор.
Сильванесу Хейторпу, эсквайру».
Прочтя это письмо, старый Хейторп несколько минут не шевелился. Вентнор, этот стряпчий, который так вызывающе вел себя на собрании кредиторов!
Есть люди, которых плохие новости мгновенно лишают всякой энергии и ясности мыслей. И есть другие, которые сначала просто не воспринимают их. До старого Хейторпа все дошло достаточно быстро; хуже этой угрозы, исходящей от юриста, и быть не могло! Но сразу старый мозг его лихорадочно заработал со всей расчетливостью стоика. Что в действительности известно этому субъекту? И что именно он может предпринять? Одно было ясно: если даже он знает все, не в его власти расторгнуть дарственную. О детях беспокоиться нечего. Старик понимал, что на карту поставлено только его положение. Но, по правде говоря, и этого достаточно; имя, известное всем целых полвека, состояние, независимость, а может, и еще кое-что большее. В его годы и при его слабости немного потребуется, чтобы все компании, в которых он состоит членом правления, выбросили его. Но что известно этому субъекту? На что решиться? Предоставить ему действовать — пусть из кожи лезет! — или попробовать войти с ним в переговоры? И ради чего Вентнор старается? У него всего десять акций! Стоило ли поднимать такую кутерьму из-за покупки судов, тем более, что для компании это первоклассная сделка. Да! Совесть его чиста. Он не предал своей Компании, наоборот, оказал ей отличную услугу, добыл по дешевке четыре исправных судна, и то после сильного сопротивления. То, что он мог оказать Компании услугу еще большую и купить суда всего за 54 тысячи, ничуть его не смущало: шесть тысяч пойдут на другое дело, более путное, а сам он при этом не прикарманил ни гроша! Но какое побуждение у этого адвоката? Злоба? Похоже на то. Он зол, потому что ему не удается разбогатеть, и вот теперь бросает ему вызов. Хм! Если это так, то, может, еще удастся вывернуться. На глаза ему случайно попалась розовая записочка с голубой незабудкой. Казалось, это все, что осталось ему от жизни, а письмо в другой руке… боже мой, можно ли пасть ниже? С глубоким, прерывистым вздохом он подумал: «Нет, не сдамся я этому типу».
— Ванна готова, сэр.
Смяв и сунув оба письма в карман халата, он сказал:
— Помогите мне подняться и позвоните мистеру Фарни, попросите его заглянуть ко мне…
Через час, когда явился секретарь, его председатель сидел у камина, внимательно просматривая бумаги Компании. И пока секретарь ждал, чтоб его заметили, и смотрел, как дрожат листы в слабой пухлой руке, на него вдруг нашло философское настроение, которое не часто посещает людей его склада. Кто-то сказал, что человек только тогда и бывает счастлив, когда его не одолевают страсти, не на что надеяться и не для чего жить. Но удалось ли кому-нибудь достичь этого? У старого председателя, например, до сих пор осталась страсть добиваться своего, он до сих пор сохранил свой престиж и чрезвычайно дорожил им. И секретарь сказал:
— Доброе утро, сэр. Надеюсь, этот восточный ветер не повредил вам? С покупкой судов все закончено.
— Это лучшее, что когда-либо сделала Компания. Слыхали вы об акционере по фамилии Вентнор? Вы знаете его, я думаю.
— Нет, сэр. Не знаю.
— Ладно! Может быть, вы получите письмо, которое откроет вам глаза. Бесстыжий мерзавец! Пишите, я продиктую.
«14 февраля 1905 г.
Чарлзу Вентнору, эсквайру.
Сэр,
я получил ваше письмо от вчерашнего числа, содержание которого мне непонятно. Мои стряпчие получат указания принять необходимые меры».
«Фью! Что все это значит?» — подумал секретарь.
— «Искренне ваш…» Давайте подпишусь.
И на лист легли дрожащие буквы: «Сильванес Хейторп».
— Отправьте это письмо, когда уйдете.
— Что-нибудь еще, сэр?
— Нет. Но дайте мне знать, если узнаете что-либо об этом типе.
Когда секретарь вышел, старик подумал: «Так! Этот мерзавец еще не созвал собрания. Если ему нужны деньги, он живо прибежит сюда, подлый шантажист!»
— Мистер Пиллин, сэр. Подождете с завтраком или накрыть в столовой?
— В столовой.
При виде этого живого мертвеца старый Хейторп даже пожалел его. Джо и так выглядит скверно, а эти новости совсем его доконают. Джо Пиллин взглядом проверил, закрыты ли обе двери.
— Как чувствуешь себя, Сильванес? Я — ужасно. — Он подошел ближе и зашептал: — И зачем ты заставил меня подписать эту дарственную? Я, видно, с ума сошел. У меня был какой-то Вентнор. Не понравился он мне. Спрашивал, знаю ли я миссис Ларн.
— Ха! А ты что?
— Что я мог сказать? Я же и вправду ее не знаю. Но зачем он узнавал?
— Пронюхал что-то.
Джо Пиллин обеими руками ухватился за край стола.
— Ох! — пробормотал он. — Ох! Не может быть!
Старый Хейторп протянул ему смятое письмо. Прочтя его, Джо Пиллин свалился в кресло у камина.
— Возьми себя в руки, Джо. Тебя они не тронут и не смогут ни расторгнуть сделку, ни отменить дарственную. Они могут свалить меня, вот и все.
Губы Джо Пиллина задрожали.
— Как ты можешь сидеть здесь как ни в чем не бывало? Ты уверен, что меня не тронут?
Старый Хейторп угрюмо кивнул.
— Они сошлются на Акт, но он еще не вошел в силу. Они могут обвинить меня в злоупотреблении доверием. Но я обведу их вокруг пальца. Не вешай носа, уезжай за границу.
— Да, да. Конечно. Я очень плох. Я думал ехать завтра. Но не знаю, как быть, — из-за того, что это висит надо мной. И еще хуже, что мой сын знаком с ней. Он и Вентнора знает. А я просто не смею сказать Бобу правду. О чем ты думаешь, Сильванес? Ты на себя не похож.
Старый Хейторп будто вышел из оцепенения.
— Есть хочу, — сказал он. — Оставайся, позавтракаем вместе.
— Завтракать! Да у меня кусок в рот не идет. Что же ты думаешь делать, Сильванес?
— Надую подлеца.
— А если не сможешь?
— Куплю его. Он ведь тоже мой кредитор.
Джо Пиллин снова поглядел на него.
— Ты всегда был таким энергичным и храбрым, — сказал он с тоской. Скажи, тебе не случалось просыпаться ночью между двумя и четырьмя? Я просыпаюсь, и все кругом черным-черно.
— А ты хлебни чего-нибудь покрепче на ночь, мой мальчик.
— Надо бы. Иногда и самому противно быть таким трезвенником. Но я не выношу алкоголя. Говорят, твой доктор запретил тебе пить?
— Вот именно. Оттого я и пью.
Задумчиво глядя в огонь, Джо Пиллин сказал:
— Это собрание… как ты думаешь, оно состоится? Неужто этот человек в самом деле все знает? Если мое имя попадет в газеты…
Но, встретившись с маленькими, глубоко посаженными глазками старого друга, Джо умолк. — Так ты советуешь мне ехать завтра?
Старый Хейторп кивнул,
— Завтрак подан, сэр.
Джо Пиллин сильно вздрогнул и встал.
— Ну, до свидания, Сильванес, до свидания! Вряд ли вернусь до лета, если вообще вернусь. — Он понизил голос: — Я полагаюсь на тебя. Ты удержишь их, да?
Старый Хейторп приподнял руку, и Джо Пиллин вложил в эту отечную, дрожащую лапу свои длинные бледные пальцы.
— Мне бы твое мужество, — сказал он уныло. — До свидания, Сильванес. И, повернувшись, вышел из комнаты.
А старый Хейторп подумал: «Слабонервный он, бедняга! Разлетелся вдребезги при первом же ударе!» И за завтраком ел еще больше, чем обычно.
2
Придя в свою контору и разобрав корреспонденцию, Вентнор, как и ожидал, нашел письмо от «этого старого проходимца». Из содержания письма Вентнору было ясно, что надо твердо решать, чего же ему добиваться. К счастью, он не примешивал к этим расчетам заботу о собственном достоинстве — просто ему не хотелось оказаться в дураках. Вопрос был в том, что ему дороже — деньги или… справедливость? Если справедливость, то надо созвать экстренное собрание и сообщить ему, что м-р Пиллин, продавший свои суда за 60 тысяч фунтов, сделал дарственную запись на шесть тысяч фунтов на имя дамы, с которой даже незнаком, — а она приходится дочерью, опекаемой или еще бог знает кем председателю Компании, который, кстати, заявил на общем собрании, что от этой сделки зависит, останется ли он в правлении; надо лишь сделать это и потребовать, чтоб старик объяснил такое поразительное совпадение. Убежденный, что объяснения его делу не помогут, Вентнор не сомневался в скорой гибели этого старого чучела, к тому же навеки погибнет репутация старого Пиллина и его многообещающего сына. Но, с другой стороны, триста фунтов — большие деньги, и если старый Хейторп скажет ему: «Зачем затевать весь этот шум? Вот примите мой должок!», — может ли человек дела, умудренный житейским опытом, позволить чувству справедливости (хоть у него и было сильное желание удовлетворить его) взять верх над тем, что, в конечном итоге, тоже было справедливо — ведь старик чертовски давно не платит ему своего долга. При этих обстоятельствах решающую роль сыграли слова: «Мои стряпчие получат указания», — потому что Вентнор недолюбливал других стряпчих и был хорошо знаком с законом о клевете; если же, паче чаяния, дело сорвется, он, Чарлз Вентнор, сядет в лужу, а этого он терпеть не мог как по роду занятий, так и по складу характера. Тем не менее после напряженных размышлений он наконец ответил Хейторпу следующее:
«15 февраля 1905 г.
Сэр,
Я получил ваше письмо. Полагаю, что до того, как предпринять дальнейшие шаги в этом направлении, будет правильно просить вас лично разъяснить мне обстоятельства, которые я имею в виду. Позвольте посетить вас завтра в пять часов в вашем доме.
Искренне ваш,
Чарлз Вентнор.
Сильванесу Хейторпу, эсквайру».
Отправив письмо и подытожив в уме изобличающие, хоть и косвенные улики, им собранные, он ждал назначенного часа без колебаний, ибо в натуре его не было недостатка в британской самоуверенности. Однако он особенно тщательно оделся в этот день, надел жилет в белую и голубую полоску и кремовый галстук, выгодно оттенявшие его рыжеватые бакенбарды и ярко-голубые глаза; и позавтракал он плотнее обычного, ел более острый сыр и выпил кружку особого, Клубного эля. Он намеренно опоздал, рассчитывая показать старику, что приход его уже сам по себе — акт милосердия. В холле сильно пахло гиацинтами, и м-р Вентнор, большой любитель цветов, наклонился над роскошным букетом, невольно вспомнив при этом о миссис Ларн. А ведь жаль, что приходится расставаться в этой жизни с изящными женщинами и со многим другим! Очень жаль! Эта мысль своевременно пробудила его гнев, и он последовал за слугой, не собираясь выслушивать никакой чепухи от «этого паралитика, старого мошенника».
Вентнор вошел в комнату, освещенную ярким пламенем камина и электрической лампой с оранжевым абажуром, стоявшей на черной атласной скатерти. Он увидел тускло мерцавшие на стенах картины, старинный медный канделябр без свечей, тяжелые темно-красные занавеси, почувствовал смешанный запах горелых желудей, кофе, сигар и старческого тела.
В глубине, у камина, он заметил светящееся пятно, — это пламя освещало пышные седины старого Хейторпа.
— Мистер Вентнор, сэр.
Светящееся пятно зашевелилось. Голос сказал: «Садитесь».
Мистер Вентнор сел в кресло по другую сторону камина и, ощущая какую-то сонливость, ущипнул себя. Надо быть начеку!
Старик заговорил обычным своим угасшим голосом, и Вентнор довольно раздраженно прервал его:
— Простите, ничего не разберу.
Голос старого Хейторпа прозвучал с неожиданной силой:
— Ваши письма для меня — китайская грамота.
— Вот как! Ну, ничего, скоро мы переведем их на английский.
— Чем скорее, тем лучше.
Вентнор испытал минутную нерешимость. Выкладывать карты на стол? Рисковать было не в его привычках. Но, зная, что можно в любой момент взять карты обратно, так как игра идет без свидетелей, он решился.
— Так вот, мистер Хейторп, коротко говоря, дело вот в чем: наш друг мистер Пиллин заплатил вам десять процентов комиссионных за покупку его судов. Да, да, я знаю! Он закрепил деньги не за вами, а за вашей родственницей миссис Ларн и ее детьми. Известно ли вам, что это злоупотребление доверием Компании?
Слова старика: «Откуда вы выкопали эту бессмыслицу?» — заставили адвоката вскочить на ноги.
— Так дело не пойдет, мистер Хейторп. У меня есть свидетели: мистер Пиллин, миссис Ларн и мистер Скривен.
— Зачем же вы пришли ко мне — шантажировать?
Вентнор оправил жилет; лицо его покраснело от прилива оскорбленной гордости.
— Ах, вот вы как? — сказал он. — Рассчитываете, что можете заправлять всем, как вам вздумается? Ну, так очень ошибаетесь. Будьте повежливей! Советую вам учесть ваше положение, не то я пущу вас по миру. К тому же я не убежден, что ваш поступок — не уголовное преступление.
— Вздор!
Чарлз Вентнор от ярости замолчал, потом его прорвало:
— Никакой не вздор! Вы должны мне триста фунтов, должны уже много лет, и у вас еще хватает нахальства разговаривать со мной таким тоном! Я никогда не хвалюсь попусту. Скажу, что думаю. Слушайте. Или немедленно платите деньги, или я созову собрание, и оно все узнает. Тогда увидите, что будет. И поделом вам — такому беспринципному, бессовестному… — Он задохнулся.
В возбуждении он не заметил, как изменилось лицо старика. Бородка встала дыбом, багровый румянец разлился со щек до самых корней его седых волос. Он вцепился в подлокотники, пытаясь встать; распухшие руки дрожали, в углу рта показалось немного слюны. И слова его прозвучали так, будто у него лязгали зубы:
— Значит… значит… вы… вы… грозите мне!
Увидев, что стадия переговоров нарушена, Вентнор сурово взглянул на противника. Он увидел дряхлого разгневанного, багроволицего старика, прижатого к стенке, обуреваемого всеми страстями человека, которому всегда везло. Жалкий старый индюк, апоплексическое чучело!
— Вам же будет хуже, не горячитесь так. В ваши годы, при вашем-то здоровье надо вести себя сдержаннее. А теперь либо соглашайтесь на мои условия, либо сами знаете, что будет. Меня ничем не запугать. — И, видя, что гнев лишил старика речи, он продолжал: — Мне наплевать, как вы решите, — я хочу показать вам, кто из нас хозяин положения. Если вы в вашем старческом слабоумии думаете, что еще можете командовать, ладно, поглядим, чья возьмет. Так что же вы намерены делать?
Старик весь обмяк в своем кресле, и живыми казались только его темно-голубые глаза. Потом он поднял руку, и Вентнор увидел, что он пытается нашарить кнопку электрического звонка, висевшего на шнуре. «Я ему покажу!» подумал он и, подойдя, отвел звонок так, чтобы тот не мог дотянуться.
Уничтоженный этим, старик сидел неподвижно, уставясь в пространство. Слово «шантаж» снова зажужжало в ушах Вентнора. Нет, какова наглость, какова чудовищная наглость у этого мошенника, старого негодяя, который одной ногой на краю банкротства, а другой в могиле, если не на скамье подсудимых!
— Да, — сказал он, — учиться никогда не поздно; на этот раз вам попался орешек не по зубам. Верно? Лучше бы вы кричали «Peccavi» [21].
Потом сознание морального превосходства своей позиции и полного поражения противника пробудило в нем легкие угрызения совести, и в мертвой тишине комнаты он раз-другой прошелся по турецкому ковру, приводя в порядок свои мысли.
— Вы старик, и я не хочу быть жестоким с вами. Просто я намерен показать вам, что вы больше не способны на двойную игру, словно вы еще всемогущи. Слишком много лет вы добивались своего. А теперь с этим кончено, ясно? — И когда старик в кресле наклонился вперед, Вентнор добавил: — Ну, ну, не беснуйтесь опять, успокойтесь. Предупреждаю: это ваш последний шанс. Мое слово твердо. Что сказал, то и сделаю.
Неожиданно старик, сделав огромное усилие, дотянулся до кнопки. Вентнор услышал звонок и резко сказал:
— Запомните, мне все равно, что вы решите. Я пришел сюда для вашего же блага. Делайте, как хотите. Ну?
Щелкнула дверь, и хриплый голос Хейторпа приказал:
— Вышвырните вон эту собаку и вернитесь сюда!
У Вентнора хватило самообладания не погрозить ему кулаком. Бормоча: «Прекрасно, мистер Хейторп! Очень хорошо!» — он с достоинством двинулся к двери. Лакей, заботливо сопровождавший его, снова разжег его гнев. Собака! Это его назвали собакой!
3
Выпроводив мистера Вентнора, слуга Меллер вернулся к хозяину. Лицо у того было странное, «все в пятнах», как объяснял он потом слугам. Казалось, кровь, прилившая к голове, навсегда запятнала мраморную белизну его лба. Неожиданно слуга услышал:
— Приготовьте горячую ванну с хвоей.
Когда старик погрузился в воду, камердинер спросил:
— Когда прийти за вами, сэр?
— Через двадцать минут.
— Слушаю, сэр.
Лежа в коричневой, дымящейся, благоухающей жидкости, старый Хейторп хрипло вздохнул. Дав волю гневу в стычке с этим злобным щенком, он себя доконал. Да, теперь песенка его спета. Если бы… о, если бы только он мог схватить за шиворот этого молодца и выбросить его из комнаты! Дожить до того, что с тобой так разговаривают, а ты не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой, не можешь слова сказать — нет, уж лучше умереть! Да, лучше умереть! Немое, безграничное волнение все еще кипело в пухлом старческом теле — в темной воде это тело казалось серебристо-коричневым, и он глубоко втягивал воздух хрипящими легкими, словно ища духовного утешения. Быть побежденным такой скотиной! Позволить этому хаму, этому крючкотвору сбить его наземь и пинать ногами! Затоптать в грязь имя, стоявшее так высоко! Во власти этого типа сделать его притчей во языцех, превратить в нищего! Трудно поверить! Однако это так. И завтра он начнет свое грязное дело — а может, и сегодня. Дерево его рухнуло с треском! Восемьдесят лет — восемьдесят славных лет! Он не жалел ни об одном из них, он вообще ни о чем не жалел; и меньше всего о злоупотреблении доверием Компании для обеспечения своих внуков — лучшее из всего, что он сделал за всю свою жизнь. А этот тип — трусливая шавка! Подумать, что он вырвал у него звонок — презренный пес! И такому типу суждено поставить штамп «уплачено» на счете Сильванеса Хейторпа, «вычеркнуть» его из жизни, когда и без того всего лишь шаг до могилы! Рука его, поднявшаяся над темной водой, снова опустилась на живот, а два-три пузырька выскочили на поверхность. Но напрасно он так торопится, напрасно! Стоит только поскользнуться, дать воде сомкнуться над головой и — прощай победа мистера Вентнора! Мертвецов не выгоняют из правления Компании. Мертвецы не могут стать нищими, они не могут потерять независимость.
Старый Хейторп ухмыльнулся и плескался в ванне, пока не подмокла его седая бородка. Как чудесно пахнет хвоя! Он вдохнул в себя ее запах. Хорошая жизнь прожита, отличная! И при мысли, что он в любой момент может натянуть нос мистеру Вентнору, победить наглеца, на него нахлынуло чувство покоя и благополучия. Даже кровь словно равномернее потекла по жилам. Глаза закрылись. Загробная жизнь… да, о ней толкуют люди вроде той святоши. Вздор! Вы засыпаете — и это долгий сон без сновидений. Как дремота после обеда… Обед! Он провел языком по небу. Да, он с удовольствием пообедает! Этому псу не вышибить его из колеи! А все-таки лучшим обедом в его жизни был тот, что он устроил Джеку Херрингу, Чайчестеру, Торнуорфи, Нику Треффри и Джолиону Форсайту у Поля. Бог ты мой! В 60-м это было или в 65-м? Как раз перед тем как он влюбился в Элис Ларн, за десять лет до переезда в Ливерпуль. Вот это был обед! Обошелся в 24 фунта на шестерых, и при этом Форсайт почти ничего не пил. Только Ник Треффри и он могли каждый перепить троих! И все они умерли! Все, как один. Неожиданно он подумал: «У меня хорошая репутация — никогда до сих пор меня не могли сбить с ног!»
Голос за стеной пара сказал:
— Двадцать минут прошли, сэр.
— Хорошо, выхожу. Вечерний костюм!
Вынимая костюм и рубашку, Меллер размышлял: «И для чего старику наряжаться? Лег бы в постель да и обедал там. Если человек впал в детство, ему место в люльке…»
Через час старый Хейторп опять стоял в комнате, где произошла его битва с Вентнором; стол уже накрыли к обеду, и он внимательно оглядывал все. Занавеси были подняты, в комнату лился свежий воздух, за окном виднелись темные очертания деревьев и лиловатое небо. Тихий, сырой вечер благоухал. Старик был разгорячен после ванны, с ног до головы в свежей одежде, и в нем заговорила чувственность. Чертовски давно не обедал он во всем блеске! Хорошо, если бы за столом напротив сидела женщина — но только не эта святоша, боже упаси! — хотелось бы ему еще раз увидеть, как падает свет на женские плечи, увидеть сверкающие глаза! Черепашьей походкой он подошел к камину. Здесь только что спиной к огню с видом хозяина стоял тот хвастун будь проклято его нахальство! И внезапно перед ним возникли лица трех секретарей, особенно молодого Фарни, — что бы они сказали, если б видели, как этот бандит схватил его за горло и бросил наземь! А директора? Старый Хейторп! Как легко повалить могущественных! И этот торжествующий пес!
Камердинер перешел комнату, закрыл окно и спустил занавеси. И этот тоже! А ведь придет день, когда он больше не сможет платить ему жалованье и не найдет в себе сил сказать: «Ваши услуги больше не нужны». День, когда он больше не сможет платить своему доктору за то, что тот изо всех сил старается отправить его на тот свет! Все ушло: власть, деньги, независимость! Его одевают и раздевают, кормят кашкой, как ребенка, прислуживают, как им вздумается, и хотят только одного: чтобы он поскорей убрался с дороги — разбитый, обесчещенный! Старики имеют право на жизнь, только если у них есть деньги! Имеют право есть, пить, двигаться, дышать! Когда денег не будет, святоша немедля доложит ему об этом. Все ему доложат, а если нет — это будет только из жалости. Раньше его никогда не жалели, слава богу! И он сказал:
— Принесите бутылку Перье Жуэ. Что на обед?
— Суп жермен, сэр, рыбное филе, сладкое мясо, котлеты субиз, ромовое суфле.
— Пусть несут hors-d'œuvre [22], и приготовьте что-нибудь острое на закуску.
— Слушаю, сэр.
Когда слуга вышел, он подумал: «Поел бы я устриц — жаль, поздно вспомнил!» — и, подойдя к секретеру, на ощупь выдвинул верхний ящик. Там было немного: всего несколько бумаг, деловых бумаг его Компаний, и список его долгов; не было даже завещания, он не делал его — нечего завещать! Писем он не хранил. Полдюжины счетов, несколько рецептов и розовенькая записка с незабудкой. Вот и все. Старое дерево перестает зеленеть весной, и корни его иссыхают, а потом оно рушится под порывами ветра. Мир медленно уходит от стариков, и они остаются одни во мраке. Глядя на розовую записочку, он подумал: «А напрасно я не женился на Элис — лучшей возлюбленной было не найти!» Он задвинул ящик, но все еще устало слонялся по комнате; против обыкновения, ему не хотелось садиться: мешали воспоминания о той четверти часа, которую пришлось ему высидеть, пока эта собака грызла ему горло. Он остановился против одной из картин: Она поблескивала своей темной живописью, изображавшей кавалериста из полка Грея Скотта, взвалившего на своего коня раненого русского, взятого в плен в сражении при Балаклаве. Он купил ее в 59-м. Очень старинный друг эта картина! Висела у него еще в холостой квартире, в Олбени, — и с тех пор он с ней не расставался. К кому она попадет, когда его не станет? Ведь святоша наверняка выкинет ее, а взамен повесит «Распятие на кресте» или какое-нибудь модное, высокохудожественное произведение. А если ей вздумается, она может сделать это хоть сейчас. Картина-то принадлежит ей, как, впрочем, все в этой комнате — вплоть до бокала, из которого он пьет шампанское; все это передано ей пятнадцать лет назад — перед тем, как он проиграл последнюю свою крупную игру. «De l'audace toujours de l'audace». Игра, которая выбила его из седла и довела до того, что он теперь попал в руки этого хвастливого пса! «Повадился кувшин по воду ходить…» Попал в руки!.. Звук выстрелившей пробки вывел его из задумчивости. Он вернулся к столу, занял свое место у окна и сел обедать. Вот удача! Все-таки принесли устрицы! И он сказал:
— Я забыл челюсть.
Пока слуга ходил за ней, он глотал устриц одну за другой, педантично посыпая их майеннским перцем, поливая лимоном и чилийским уксусом. Вкусно! Правда, не сравнить с устрицами, которые он едал у Пикша в лучшие дни, но тоже недурно, и весьма! Заметив перед собой синюю мисочку, он сказал:
— Передайте поварихе благодарность за устрицы. Налейте мне шампанского. — И взял свою расшатанную челюсть. Слава богу, хоть ее-то он может вставить без посторонней помощи! Пенистая золотистая струя медленно наполнила доверху его бокал с полой ножкой; он поднес его к губам, казавшимся особенно красными из-за белоснежных седин, выпил и поставил на стол. Бокал был пуст. Нектар! И заморожено в меру!
— Я держал его на льду до последней минуты, сэр.
— Прекрасно. Что это за цветы так пахнут?
— Это гиацинты, сэр, на буфете. От миссис Лари, днем принесли.
— Поставьте на стол. Где моя дочь?
— Она уже отобедала, сэр. Собирается на бал, кажется.
— На бал!
— Благотворительный бал, сэр.
— Хм! Налейте-ка мне к супу чуточку старого хереса.
— Слушаю, сэр. Надо откупорить бутылку.
— Хорошо, идите.
На пути в погреб слуга сказал Молли, которая несла в столовую суп:
— Хозяин-то раскутился сегодня вовсю. Не знаю, что с ним после этого будет завтра.
Горничная тихо ответила:
— Пусть потешится бедный старик. — Идя через холл, она замурлыкала песенку над дымящимся супником, прижатым к ее груди, и подумала о новых кружевных сорочках, купленных на тот соверен, что хозяин дал ей.
А старый Хейторп, переваривая устрицы, вдыхал запах гиацинтов в предвкушении своего любимого супа сен-жермен. В это время года он, конечно, будет не совсем то — ведь в него надо класть зеленый горошек. В Париже — вот где его умеют готовить. Да! Французы не дураки поесть и смело смотрят в глаза опасности! И не лицемерят — не стыдятся ни своего гурманства, ни своего легкомыслия!
Принесли суп. Он глотал его, пригнувшись к самой тарелке, салфетка, как детский нагрудник, закрывала его манишку. Он полностью наслаждался букетом этого хереса — обоняние его в этот вечер было необычайно тонким; да, это редкий, выдержанный напиток — прошло уж больше года, как он пил его в последний раз. Но кто пьет херес в наши дни? Измельчали люди!
Прибыла рыба и исчезла в его желудке, а за сладким мясом он выпил еще шампанского. Второй бокал лучше всего — желудок согреет, а чувствительность неба еще не притупилась. Прелесть! Так, значит, этот тип воображает, что свалил его, — каков, а? И он сказал:
— Там у меня в шкафу есть меховое пальто, я его не ношу. Можете взять себе.
Камердинер ответил довольно сдержанно:
— Благодарю вас, сэр, очень вам признателен. («Значит, старый хрыч все-таки пронюхал, что в пальто завелась моль!»)
— Не очень ли я утруждаю вас?
— Что вы, сэр, вовсе нет! Не больше, чем необходимо.
— Боюсь, что это не так. Очень жаль, но что поделаешь? Вы поймете, когда станете таким же, как я.
— Да, сэр. Я всегда восхищался вашим мужеством, сэр.
— Гм! Очень мило с вашей стороны.
— Вы всегда на высоте, сэр.
Старый Хейторп поклонился.
— Вы очень любезны.
— Что вы, сэр! Повариха положила немного шпината в соус к котлетам.
— А! Передайте ей, что обед пока что великолепен.
— Благодарю, сэр.
Оставшись один, старый Хейторп сидел не двигаясь, мозг его слегка затуманился. «На высоте, на высоте!» Он поднял бокал и отхлебнул глоток. Только сейчас у него разыгрался аппетит, и он прикончил три котлеты. весь соус и шпинат. Жаль, что не удалось отведать бекаса — свеженького! Ему очень хотелось продлить обед, но оставались только суфле и острое блюдо; И еще ему хотелось поговорить. Он всегда любил хорошую компанию, и сам, как говорили, был душой общества, а в последнее время он почти никого не видел. Он давно заметил, что даже в правлении избегают разговаривать с ним. Ну и пусть! Теперь ему все равно: он заседает в последнем своем правлении. Но они не вышвырнут его, не доставит он им этого удовольствия, — слишком долго он видел, как они ждут не дождутся его ухода. Перед ним уже стояло суфле, и, подняв бокал, он распорядился:
— Налейте.
— Это особые бокалы, сэр. В бутылку входит только четыре.
— Наливайте.
Поджав губы, слуга налил.
Старый Хейторп выпил и со вздохом отставил пустой бокал. Он был верен своим принципам кончать бутылку до десерта. Отличное вино — высшей марки! А теперь за суфле. Оно было восхитительно, и он мгновенно проглотил его, запивая старым хересом. Значит, эта святоша отправляется на бал, а? Чертовски забавно! Интересно, кто будет танцевать с такой сухой жердью, изъеденной благочестием, которое есть не что иное, как сексуальная неудовлетворенность? Да, таких женщин много, часто встречаешь их и даже жалеешь, пока не приходится иметь с ними дело, а тогда они делают вас такими же несчастными, как они сами, и вдобавок еще садятся вам на шею. И он спросил:
— А что есть еще?
— Сырный рамекин [23], сэр.
Как раз его любимый!
— Дайте к нему мой портвейн 65-го года.
Слуга вытаращил глаза. Этого он не ожидал. Конечно, лицо старика горело, но это могло быть и после ванны. Он промямлил:
— Вы уверены, что это вам можно, сэр?
— Нет, но я выпью.
— Не возражаете, если я спрошу у мисс Хейторп, сэр?
— Тогда вы будете уволены.
— Как угодно, сэр, но я не могу взять на себя такую ответственность.
— А вас об этом просят?
— Нет, сэр.
— Ну, значит, несите. И не будьте ослом.
— Слушаю, сэр! («Если не потакать старику, его наверняка хватит удар!»)
И старик спокойно сидел, глядя на гиацинты. Он был счастлив, все в нем согрелось, размягчилось и разнежилось, — а обед еще не кончен! Что могут предложить вам святоши взамен хорошего обеда? Могут ли они заставить вас мечтать и хоть на минутку увидеть жизнь в розовом свете? Нет, они могут только выдавать вам векселя, по которым никогда не получишь денег. У человека только и есть что его отвага, а они хотят уничтожить ее и заставить вас вопить о помощи. Он видел, как всплескивает руками его драгоценный доктор: «Портвейн после бутылки шампанского — да это верная смерть!» Ну и что ж, прекрасная смерть — лучше не придумаешь. Что-то вторглось в тишину закрытой комнаты. Музыка? Это дочь наверху играет на рояле. И поет! Что за писк!.. Он вспомнил Дженни Линд, «Шведского соловья», — ни разу он не пропустил ни одного ее концерта. Дженни Линд!
— Он очень горячий, сэр. Вынуть его из формы? А! Рамекин!
— Немного масла и перцу!
— Слушаю, сэр.
Он ел медленно, смакуя каждый кусок, — вкусно, как никогда! А к сыру портвейн! Он выпил рюмку и сказал:
— Помогите перейти в кресло.
Он уселся перед огнем; графин, рюмка и колокольчик стояли на низеньком столике сбоку. Он пробормотал:
— Через двадцать минут — кофе и сигару.
Этим вечером он воздаст должное своему вину — не станет курить, пока не допьет его. Верно сказал старик Гораций: «Aequam memento rebus in arduis Sefvare mentem» [24]. И, подняв рюмку, он медленно отхлебывал, цедя по капле, зажмурив глаза.
Слабый, тонкий голос святоши в комнате наверху, запах гиацинтов, усыпляющий жар камина, где тлело кедровое полено, портвейн, струящийся в теле с ног до головы, — все это на минуту увело его в рай. Потом музыка прекратилась; настала тишина, только слегка потрескивало полено, пытаясь сопротивляться огню. Он сонно подумал: «Жизнь сжигает нас — сжигает нас. Как поленья в камине!» И он снова наполнил рюмку. До чего небрежен этот слуга на дне графина осадок, а он уж добрался до самого дна! И когда последняя капля увлажнила его седую бородку, рядом поставили поднос с кофе. Взяв сигару, он поднес ее к уху, помяв толстыми пальцами. Отличная сигара! И, затянувшись, сказал:
— Откройте бутылку старого коньяку, что стоит в буфете.
— Коньяку, сэр? Ей-богу, не смею, сэр.
— Слуга вы мне или нет?
— Да, сэр, но…
Минута молчания. Слуга торопливо подошел к буфету и, достав бутылку, вытащил пробку. Лицо старика так побагровело, что он испугался.
— Не наливайте, поставьте здесь.
Несчастный слуга поставил бутылку на столик. «Я обязан сказать ей, думал он, — но раньше уберу графин и рюмку, все-таки будет лучше». И, унося их, он вышел.
Старик медленно попивал кофе с коньячным ликером. Какая гамма! И, созерцая голубой сигарный дымок, клубящийся в оранжевом полумраке, он улыбался. Это был последний вечер, когда его душа принадлежала ему одному, последний вечер его независимости. Завтра он подаст в отставку, не ждать ведь, когда его выкинут! И не поддастся он этому субъекту!
Как будто издалека послышался голос:
— Отец! Ты пьешь коньяк! Ну, как ты можешь, это же просто яд для тебя! — Фигура в белом, неясная, почти бесплотная, подошла ближе. Он взял бутылку, чтоб наполнить ликерную рюмку — назло ей! Но рука в длинной белой перчатке вырвала бутылку, встряхнула и поставила в буфет. И, как в тот раз, когда там стоял Вентнор, бросая ему в лицо обвинения, что-то подкатило у него к горлу, забурлило и не дало говорить; губы его шевелились, ко на них лишь пенилась слюна.
Его дочь снова подошла. Она стояла совсем близко, в белом атласном туалете. Узкое желтоватое лицо, поднятые брови. Ее темные волосы были завиты — да, завиты! Вот тебе и святоша! Собрав силы, старик пытался сказать: «Так ты грозишь мне — грозишь — в этот вечер!» — но вырвалось только «так» и неясный шепот. Он слышал, как она говорила: «Не раздражайтесь, отец, ни к чему это — только себе вредите. После шампанского это опасно!» Потом она растворилась в какой-то белой шелестящей дымке. Ушла. Зашуршало и взревело такси, увозя ее на бал. Так! Он еще не сдался на ее милость, а она уже тиранит его, грозит ему? Ну, мы еще посмотрим! Глаза его засверкали от гнева; он опять видел отчетливо. И, слегка приподнявшись, позвонил дважды горничной, а не этому Меллеру, который с его дочерью в заговоре. Как только появилась хорошенькая горничная в черном платье и белом передничке, он сказал:
— Помоги мне встать!
Два раза ее слабые руки не могли поднять его, и он валился обратно. На третий он с трудом встал.
— Спасибо. Иди. — И, подождав, пока она уйдет, подошел к дубовому буфету, нащупал дверцу и вынул бутылку. Дотянувшись, схватил рюмку для хереса; держа бутылку обеими руками, налил жидкость, поднес к губам и отпил. Глоток за глотком коньяк увлажнял его небо — мягкий, очень старый, старый, как он сам, солнечного цвета, благоухающий. Он допил рюмку до дна и, крепко обняв бутылку, черепашьей походочкой двинулся к своему креслу и весь ушел в него.
Несколько минут он просидел неподвижно, прижимая бутылку к груди, думая: «Так джентльмены не поступают. Надо поставить бутылку на стол, на стол», — но тяжелая завеса встала между ним и всем окружающим. Он хотел поставить бутылку на стол сам, своими руками! Но он не мог найти рук, он их не чувствовал. В его мозгу будто раскачивались качели — вверх-вниз: «Ты не можешь двигаться». «Нет, буду!» «Ты разбит». «Нет, не разбит». «Сдайся». «Нет, не сдамся!» Казалось, не будет конца напряженным поискам рук, — он должен найти их! После этого — хоть на тот свет, но уйти в полном порядке! Все было красно вокруг него. Потом красное облако слегка рассеялось, и он услышал тиканье часов: тик-так. Он ощутил, как оживают его плечи и руки до самых ладоней; да, теперь он ощущал в них бутылку! Он удвоил усилия, чтобы податься вперед в кресле, — надо же поставить бутылку! Джентльмены так себя не ведут! Он мог уже двигать одной рукой; но еще не мог ухватить бутылку достаточно крепко, чтобы поставить. Из последних сил, толчками подвигаясь вперед, он шевелился в кресле, пока не смог наклониться, — и бутылка, скользнув по его груди, косо стала на край низенького столика. Тогда он отчаянно рванулся вперед всем телом и руками — и бутылка выпрямилась. Он это совершил, совершил! Губы его искривились в улыбке, тело в кресле медленно оседало. Он это совершил! И он закрыл глаза…
В половине двенадцатого горничная Молли, отворив дверь, взглянула на него и тихо сказала: «Сэр, там пришли дамы и господин!» Он не ответил. Держась за дверь, она зашептала в холл:
— Он спит, мисс.
Ей зашептали в ответ:
— О! Только впустите меня, я не разбужу его, разве что он сам проснется. Мне так хочется показаться ему в новом платье!
Горничная отодвинулась, и на цыпочках вошла Филлис. Она направилась туда, где свет лампы и огонь камина могли осветить ее с ног до головы. Белый атлас — ее первое взрослое платье, упоение первым выездом в свет, гардения на груди, другая — в руке! Ох, какая жалость, что он спит! И какой же он румяный! До чего забавно старики дышат! И таинственно, как ребенок, она прошептала:
— Опекун!
Молчание. Надув губки, она вертела гардению. Вдруг ее осенило: «Вставлю-ка я цветок ему в петлицу! Когда он проснется и увидит ее, то-то обрадуется!»
И, подкравшись ближе, она наклонилась и вложила цветок в петлицу. Из-за двери выглядывали два лица; она слышала подавленный смешок Боба Пиллина и мягкий, легкий смех ее матери. Ой, какой у него багровый лоб! Она дотронулась до него губами, отпрянула назад, молча покружилась, послала воздушный поцелуй и ускользнула, как ртуть.
В холле раздались шепот, хихиканье и короткий переливчатый смех.
Но старик не проснулся. И пока в половине первого не пришел, как обычно, Меллер, никто не знал, что он больше никогда не проснется.
ПРИСЯЖНЫЙ
1
В то утро во время «Великой войны» мистер Генри Босенгейт, делец с лондонской биржи, уселся в собственную машину с чувством обиды. Он был майор Добровольческого корпуса, член всех местных комитетов и часто предоставлял эту самую машину в распоряжение госпиталя, расположенного по соседству, даже иной раз в этих случаях сам ее водил; он подписывался на займы, насколько позволяли его уменьшившиеся доходы, и поэтому считал себя ценным для своей страны гражданином, настолько ценным, что зря отнимать у него время было недопустимо. Его вызывают в окружной суд присяжным заседателем, и даже не в большой совет присяжных!
Это просто безобразие!
Он был крепкий и осанистый мужчина с черными бровями и карими глазами под белым, красиво очерченным лбом, с большими залысинами, розовато-смуглыми щеками, с тщательно приглаженными седоватыми волосами и аккуратно подстриженными усами. Его можно было принять не за майора, а за полковника, и он действительно мог им стать очень скоро.
Его жена, гибкая и стройная, в сиреневом полотняном платье, вышла вслед за ним и стояла на крыльце. Красные вьющиеся розы короной обрамляли ее темные волосы. Лицом цвета слоновой кости она чуточку походила на японку.
Мистер Босенгейт сказал сквозь шум мотора:
— Думаю, что вернусь не поздно, дорогая. Все это просто нелепо. В такое время не должно быть никаких преступлений.
Его жена — ее звали Кэтлин — улыбнулась. Мистер Босенгейт подумал: «Как она красива и как холодна!» Человеку, едущему по столь скучным и нудным делам, все вокруг радовало глаз: клумбы с геранями около посыпанной гравием аллеи; длинный, сложенный из красного кирпича дом, благопристойно притаившийся среди плюща и душистого горошка; башенка с часами над конюшней, теперь превращенной в гараж; голубятня, которая заслоняла дальний конец оранжереи, примыкавшей к бильярдной.
Из кустов акаций около кирпичной привратницкой выбежали его дети Кэйт и Гарри, вскарабкались, сверкая голыми ногами, на низкую, красную, увитую плющом стену, ограждавшую одиннадцать акров его владений, и помахали ему руками. Мистер Босенгейт помахал в ответ, подумав: «Боже мой! Какие славные ребятишки!» Сквозь ветви деревьев над их головами ему открывался вид до самых меловых холмов, маячивших в жарком мареве июльского дня. И он подумал: «Красивей местечка, да еще так близко к городу, и не сыщешь!»
Несмотря на войну, он в эти два года был счастливее, чем когда-либо за последние десять лет, когда, построив Чармлей, он поселился здесь с молодой женой и стал вести полудеревенский образ жизни.
Когда страна была в опасности и приходилось стольким жертвовать, исполнять столько общественных обязанностей, жизнь приобрела какую-то пикантность, остроту. Шофера не было, один садовник работал за троих. Босенгейту нравилась — определенно нравилась — его деятельность в различных комитетах; и даже серьезный упадок в делах и рост налогов не могли сильно беспокоить человека, все время помнившего о тяжелом положении страны и четко осознавшего свое место. Страну давно следовало встряхнуть, научить, как напрягать силы и экономить. И чувство, что он не жалеет себя в это напряженное время, придавало особый вкус тем тихим радостям в постели и за столом, которым в его возрасте могли предаваться с чистой совестью даже самые патриотически настроенные граждане. Он отказывал себе во многом: в новом костюме, в подарках Кэтлин и детям, в путешествиях и в новой оранжерее для выращивания ананасов, которую он собирался построить, когда разразилась война; пришлось отказаться от пополнения винного погреба, от запаса сигар и выйти из двух клубов, в которых он раньше никогда не бывал. Каждый час казался ему полнее и длиннее, сон — заслуженнее. Удивительно, без скольких вещей, оказывается, можно обойтись в случае нужды! Он свернул на шоссе и поехал не спеша, потому что времени у него было много. На фронте теперь дела шли неплохо; он, конечно, не какой-нибудь дурацкий оптимист, но теперь, когда вошел в силу закон о всеобщей воинской повинности, можно не без основания надеяться, что война не продлится больше года. А затем настанет бум, и можно будет развернуться. Театры, потом ужины с женой в «Савое» и снова уютные ночные поездки домой, в благоухающую деревню, с шофером за рулем, — такие картины дразнили воображение, которое даже сейчас не могло вырваться из рамок семейных развлечений. Он представлял свою жену в новых платьях от Джея — она была на 15 лет моложе его, и, как говорится, «ее стоило одевать». Как и всех мужей, которые старше своих жен, его всегда радовало обожание, которым окружали ее те, кто был лишен счастья наслаждаться ее прелестью. Со своей несколько странной и иронической красотой она, холодное олицетворение безупречной жены, была для него неиссякаемым источником утешения. Они снова будут давать обеды, приглашать друзей из города, и опять он будет, радуясь, восседать за столом, а на другом конце, напротив него, за цветами, которыми она так оригинально украшает стол, и вазами с фруктами, выращенными им самим в оранжереях, будет сидеть Кэтлин, и мягкий свет будет ласкать ее плечи цвета слоновой кости. Он снова сможет на законном основании интересоваться вином, которым станет потчевать гостей, и снова сможет разрешить себе наполнить сигарами свой китайский ящичек. Да… эти невзгоды приносили даже какое-то удовлетворение, хотя бы уже потому, что рождали такие приятные ожидания.
Редкие виллы по обе стороны шоссе слились в одну, непрерывную линию, все чаще попадались женщины, спешившие в магазин, рассыльные из лавчонок, разносившие продукты по домам, и молодые люди в военной форме.
Изредка мелькала фигура хромающего или перебинтованного человека — еще один обломок крушения! И мистер Босенгейт невольно думал: «Еще один из этих несчастных! Интересно, разбирали ли мы его дело?»
Оставив машину в лучшем во всем городе гараже, он не спеша пошел в суд. Здание суда было за рынком. Его уже омывало целое море людей, разгоряченных и не совсем трезвых, чем-то похожих на тех, что толкутся позади трибун и заняты такими делами, на которых лучше не попадаться. Мистер Босенгейт не удержался и поднес платок к носу. Он предусмотрительно смочил платок лавандовой водой и, пожалуй, именно поэтому и не был выбран старшиной присяжных, ибо, что вы там ни говорите об англичанах, у них очень тонкий деловой нюх.
Он сидел вторым с краю в первом ряду присяжных, окутанный ароматом «Санитаса», и разглядывал неподвижное лицо судьи, который напоминал гипсовый бюст в парике. Его коллеги с виду принадлежали к двум характерным разновидностям присяжных. На мистера Босенгейта они не произвели впечатления. По одну сторону от него сидел старшина, известный обойщик, которого в городе знали под прозвищем Джентльмен Лис. Его черные, безукоризненно приглаженные и напомаженные волосы и усы, его белоснежное белье, золотые часы с цепочкой, белые отвороты его жилета, а также обыкновение никогда не говорить «сэр», обращаясь к клиентам, давно уже выделили его из среды людей попроще; он брался также хоронить покойников, избавляя родственников от хлопот, и вообще был незауряден. По другую сторону от мистера Босенгейта сидел один из тех людей, которых никогда не увидишь без коричневого саквояжика, кроме тех случаев, когда они исполняют роль присяжных, и которые всегда выглядят так, как будто их только что вытащили прямо с попойки. Он был бледный, весь лоснящийся, с большими бегающими глазами, тихим голосом и беспокойными, морщинистыми руками. Мистеру Босенгейту было неприятно сидеть рядом с ним.
Около коммивояжера сидел бледный черноволосый молодой человек в очках, а за ним — низенький старик с седыми усами, баками и с бесчисленными морщинами на лице; последним в этом ряду присяжных был аптекарь. Троих, сидевших прямо у него за спиной, мистеру Босенгейту не удалось разглядеть как следует, но троих остальных в конце второго ряда он запомнил в том порядке, в каком они сидели: пожилой мужчина в сером костюме, который то и дело подмигивал; затем какой-то безжизненный субъект, похожий на усатую треску, с тремя клочками влажных волос на высокой лысине, и, наконец, высохший, подвижный, остриженный под машинку человек, у которого на губах все время играла улыбка. Чтобы вынести первый и второй вердикты, им не потребовалось удаляться в совещательную комнату, и когда началось третье дело, мистер Босенгейт почувствовал, что его клонит ко сну, однако при виде военной формы на подсудимом он несколько оживился. Но что это был за тощий субъект!
Вид у обвиняемого был измученный, жалкий и унылый. Если у него и была когда-либо военная выправка, то в тюрьме она исчезла. Его бесформенный коричневый френч, на котором бронзовые пуговицы, казалось, старались вымученно улыбаться, показался мистеру Босенгейту коротким до смешного, хотя он и привык к подобным зрелищам. «Глупо, — подумал он. — Верный ишиас, как раз это место и следует прикрывать!» Но в нем проснулся офицер и джентльмен, и он добавил про себя: «Однако какое-то различие должно все-таки быть». Лицо солдатика, когда-то, как видно, загорелое, теперь было цвета прокисшего теста; взгляд больших карих глаз с белыми полосками вокруг зрачков, как это часто бывает у очень нервных людей, блуждал по лицам судьи, адвоката, присяжных и публики. У него были впалые щеки, волосы казались мокрыми, а шея была перевязана. Коммивояжер слева от мистера Босенгейта повернулся и прошептал: «Попытка к самоубийству! Боже мой, что за тип!» Мистер Босенгейт притворился, что он не слышит: он видеть не мог этого человека, — и медленно написал на кусочке бумажки: «Оуэн Льюис». Валлиец! Ну что ж, похоже на то совсем не английское лицо. И пытаться покончить с собой — это так не по-английски. Сделать такую попытку — значит сдаться, капитулировать перед Роком, уж не говоря о религиозной стороне дела. А самоубийство военного казалось мистеру Босенгейту особенно отвратительным. Это все равно что побежать от врага, и этот человек почти заслуживал участи дезертира. Он посмотрел на обвиняемого, пытаясь быть беспристрастным. А обвиняемый как будто смотрел прямо на него, хотя это, возможно, ему только казалось.
Прокурор — маленький, седой, проворный и решительный человечек, старше призывного возраста — начал подробно излагать обстоятельства дела. Мистер Босенгейт, обычно не глядевший по сторонам, все же заметил, что по залу прошло какое-то движение. Казалось, и у присяжных и у публики появилось то же предвзятое мнение, что и у него. Даже этот судья, похожий на бюст Цезаря и восседающий там, наверху, при всем своем бесстрастии, казалось, поддался общему чувству.
— Господа присяжные, прежде чем вызвать свидетелей обвинения, я хочу обратить ваше внимание на повязку, которую обвиняемый носит до сих пор. Он сам нанес себе эту рану казенной бритвой и этим, если так можно выразиться, нанес своей стране не только ущерб, но и оскорбление. Он не признает себя виновным и заявил суду, что не мог выдержать разлуки с женой. — Плотно сжатые губы прокурора тронула улыбка. — Ну, господа, если придавать в наше время значение подобным оправданиям, то я просто затрудняюсь сказать, что ждет нашу империю в будущем.
«И я тоже, черт возьми», — подумал мистер Босенгейт.
Показания первого свидетеля, соседа по койке, успевшего удержать руку обвиняемого, а также сержанта, которого тут же вызвали на место происшествия, были исчерпывающими, и мистер Босенгейт начал лелеять надежду, что они вынесут вердикт, не покидая зала суда, и он успеет домой до пяти часов. Но тут случилась заминка. Когда вызвали полкового врача, его не оказалось на месте, и судья, впервые в этот день проявляя человеческие чувства, объявил, что он переносит заседание на следующий день.
Мистер Босенгейт принял это сообщение невозмутимо. Он будет дома даже раньше! Собрав листки, на которых он делал записи, он встал. В это время незадачливого самоубийцу — ссутулившегося человека в грязно-коричневой одежде, едва волочившего ноги, — выводили из зала. Ну на что годятся подобные люди в такое время? На что? Обвиняемый поднял голову, и мистер Босенгейт встретился глазами со взглядом этих больших карих глаз с белыми полосками. Какое страдальческое, несчастное, жалкое лицо! И что за манера смотреть на людей подобным образом! Обвиняемый спустился по лестнице и исчез. Мистер Босенгейт вышел и направился через рынок к гаражу, где он оставил машину. Солнце палило немилосердно, и он подумал: «Надо полить сад». Он вывел машину из гаража и уже собирался завести мотор, когда какой-то прохожий заговорил с ним:
— Послушайте! Этот последний обвиняемый — опустившийся тип, правда? Нам не нужны люди такого пошиба.
Это был его сосед по скамье — коммивояжер, уже с коричневым саквояжем в руке, в соломенной шляпе и с пеной от недопитого пива на усах. Холодно ответив «Всего доброго!» и подумав: «Но и такие, как ты, тоже не нужны», мистер Босенгейт завел мотор, наделав много ненужного шума. Но фигура обвиняемого, как будто ожившая от слов коммивояжера, казалось, неслась рядом с ним, обратив на него взгляд своих несчастных, жалких глаз. Не мог выдержать разлуки с женой! Странное объяснение для поступка, которым он хотел навсегда лишить себя возможности увидеться с ней. И потом полбулки, даже один кусочек, все же лучше, чем остаться совсем без хлеба. Но, слава богу, в армии не так уж много этих неврастеников. Печальная фигурка исчезла, и вместо нее мистер Босенгейт представил себе фигуру собственной жены, склоненную над розами «Слава Дижона» в розарии, где она обычно работала немного перед чаем, потому что один садовник не справлялся со всеми делами. Он представил ее себе такой, какой часто видел: вот она выпрямилась и стоит, склонив голову набок, положив одну руку в перчатке на стройное бедро, и поглядывает чуть насмешливо из-под полуопущенных век на бутоны, которые никак не распускаются. И французское слово Caline (ласковая) — он немного занимался французским — мелькнуло у него в голове: «Кэтлин — Калин!» Если, приехав, он застанет ее там, то подкрадется к ней по мягкой траве и… ах!.. Но только осторожно, чтобы не помять ей платье и прическу! «Если бы только она не была такой замкнутой, — думал он, — а то, как кошка, к которой близко не подойдешь, во всяком случае, по-настоящему близко».
Машина, мчавшаяся назад быстрее, чем утром, когда он ехал в город, уже миновала пригородные виллы и теперь переваливала через холм, туда, где среди полей и старых деревьев, в стороне от обыденной жизни, раскинулся Чармлей. Сворачивая на свою аллею, мистер Босенгейт спросил себя с некоторым удивлением: «Интересно, а о чем все-таки она думает? Интересно!» Оставив перчатки и шляпу в прихожей, он прошел в умывальную, чтобы плеснуть на лицо прохладной воды и вымыть его душистым мылом, испытывая при этом сладостное чувство, словно мстил той нечистой атмосфере, в которой ему пришлось париться столько часов. Он снова вышел в прихожую, мыло щипало ему глаза, и он ничего не видел в тусклом свете. Вдруг послышался тоненький голосок: «Папа! Посмотри!» Его маленькая дочурка стояла на лестнице, на полпути наверх, держась одной рукой за перила. Вот она вскарабкалась на них и съехала вниз. Платьице у нее задралось на голову, а панталончики голландского полотна оказались чуть ли не подмышками. Мистер Босенгейт сказал, растаяв:
— Ну, это просто замечательно!
— Чай подали в беседку. Мамочка ждет. Пошли!
Держа ее ручонку в своей, мистер Босенгейт, пройдя через гостиную, длинную и прохладную, с опущенными шторами, через бильярдную, высокую и тоже прохладную, и через оранжерею, зеленую и душистую, вышел на террасу, а оттуда на верхнюю лужайку. Никогда прежде не испытывал он такой ясной и веселой радости, созерцая свои владения, такие чудесные и зеленые под июльским солнцем, и он сказал:
— Ну, Кит, что вы тут без меня поделывали?
— Я покормила своих кроликов и Гарриных, и мы лазили на чердак, Гарри провалился ногой сквозь застекленную крышу!
Мистер Босенгейт шумно вздохнул.
— Это ничего, папочка, мы ногу вытащили, у него только маленькая царапина. И мы делали тампоны, я сделала семнадцать, мамочка тридцать три, а потом она поехала в госпиталь. А ты много людей посадил в тюрьму?
Мистер Босенгейт кашлянул. Вопрос показался ему неуместным.
— Только двоих.
— А как в тюрьме, папочка?
Мистер Босенгейт, который знал об этом не больше своей маленькой дочурки, ответил рассеянно:
— Не очень хорошо.
Они проходили под молодым дубком, там, где тропинка сворачивала к розарию и беседке. Что-то мелькнуло в воздухе и вцепилось в шею мистеру Босенгейту. Его дочурка запрыгала и стала давиться от смеха.
— Ой, папочка! Как здорово мы тебя обманули! Я нарочно тебя привела сюда!
Подняв голову, мистер Босенгейт увидел своего маленького сына, который растянулся на суку, как леопард, которым он себя и объявлял во всеуслышание (во избежание ошибки), и весело подумал: «До чего же подвижной мальчишка!»
— Дай я прыгну тебе на плечи, папочка! Как леопард на оленя!
— Да, да! Побудь, пожалуйста, оленем, папочка!
Мистер Босенгейт не пожелал быть оленем, потому что он только что причесался. Вместо этого, окруженный своим потомством, он бодро вошел в розарий. Его жена в открытом бледно-голубом платье с узким черным поясом и плиссированной юбкой стояла именно в той позе, в какой он себе ее представлял. Сегодня она была еще холодней, чем обычно. Она повернула голову с такой улыбкой, словно не могла принимать мистера Босенгейта всерьез. Он коснулся губами ее щеки. Даже щека пахла розами. Дети начали плясать вокруг матери, и он, в их тесном кольце, тоже был вынужден присоединиться к танцу, пока она не сказала:
— Когда вы кончите, давайте пить чай!
Это была не совсем та встреча, которую он себе представлял в машине. В беседке, какой они пользовались, пожалуй, всего раза два в год, но совершенно обязательной для всякой усадьбы, было множество уховерток, и мистер Босенгейт обрадовался предлогу, чтобы снова выйти на воздух. И хотя все было как нельзя лучше, он чувствовал странное беспокойство, он почти задыхался. Раскурив трубку, он стал прогуливаться меж розами, окуривая табачным дымом насекомых — во время войны человек никогда не бывает без дела! И неожиданно он сказал:
— Мы судим одного несчастного солдата.
Его жена, склонившаяся над розой, подняла голову.
— За что?
— Пытался покончить самоубийством.
— Почему же?
— Не мог выдержать разлуки с женой.
Она посмотрела на него, тихо засмеялась и сказала:
— Ну и ну!
Мистер Босенгейт был озадачен. Почему она засмеялась? Он оглянулся, увидел, что дети уже ушли, вынул трубку изо рта и приблизился к ней.
— Ты сегодня так красива, — сказал он. — Поцелуй меня.
Жена нагнулась к нему и, вытянув губы, коснулась ими его усов. Мистер Босенгейт почувствовал себя так, словно встал утром из-за стола, не съев джема. Но он подавил неприятное чувство и сказал:
— Эти присяжные — странная публика.
Веки его жены дрогнули.
— Как бы мне хотелось, чтобы и женщины могли быть присяжными.
— Почему?
— Было бы что вспомнить потом.
Уже не в первый раз она говорит эти странные слова! И в то же время ее жизнь далеко не скучна, насколько он мог себе представить; война принесла ей новые интересы, да и домашние дела постоянно требовали забот, так что жизнь ее была полезной и деятельной. Опять у него в голове мелькнула неожиданная мысль: «Но она никогда со мной ничем не поделится!» И вдруг из-за розовых кустов возникла печальная фигурка в военной форме. «Нам и без этого есть за что благодарить бога! — сказал он отрывисто. — Но мне надо идти работать». Жена, приподняв одну бровь, улыбнулась: «А! мне — проливать слезы!» Мистер Босенгейт засмеялся: она за словом в карман не полезет! И, поглаживая холеный ус, который она поцеловала, он вышел на солнце.
Остаток дня был у него заполнен работой, которой в тот день накопилось немало, и ему пришлось наверстывать время, потерянное в суде. Но что бы он ни делал, его не покидало беспокойное чувство наслаждения всем, что его здесь окружало. Он вдруг бросал косить нижнюю лужайку, чтобы полюбоваться сквозь деревья на свой дом, или отрывался от комитетских бумаг и выходил из кабинета в гостиную только для того, чтобы вдохнуть ее утонченный аромат; зашел в классную комнату, где ужинали дети, только для того, чтобы пожелать им доброй ночи, а перед тем несколько раз заглядывал в спальную полюбоваться женой, когда она переодевалась к обеду. Обедал он, всякий раз предвкушая следующее блюдо и пространно рассуждая о войне. И даже после обеда, когда он прошел в бильярдную выкурить трубку, заменявшую ему теперь сигару, он не мог усидеть на месте и бродил по дому, заходя то в оранжерею, то в гостиную, где его жена и гувернантка продолжали делать тампоны. Казалось, он никак не мог насытиться. Около одиннадцати он вышел прогуляться — погода стояла прекрасная и было еще не очень темно, так как по новому декрету о времени ночь теперь начиналась рано, — направляясь к маленькому круглому пруду около террасы. Жена играла на рояле. Мистер Босенгейт посмотрел на воду и темные плоские листья водяных лилий, перевел взгляд на дом, где, согласно «Правилам затемнения», виднелись только узенькие полоски света. Сквозь них просачивалась мечтательная музыка, пахло гелиотропом. Он отошел назад и сел на детские качели под старой липой. Прелесть, блаженство — сидеть так в теплой, благоухающей темноте! Это время перед сном, пожалуй, было самым приятным за весь день. Он увидел, как в спальне жены зажегся свет и горел в незашторенном окне целую минуту, и подумал: «Ага! Если б я сегодня дежурил, то мне следовало бы оштрафовать ее за это». Она подошла к окну, вся ярко освещенная, подняла к затылку руки, и они, казалось, тоже засветились в темноте. Зная, что его никто не видит, мистер Босенгейт послал ей воздушный поцелуй.
«Я счастливец, — думал он. — Она — редкое счастье!» Ее рука поднялась и штора упала, дом снова погрузился в темноту. Он глубоко вздохнул.
«Еще десять минут, — подумал он, — а потом пойду и лягу. Бог мой! Липы уже пахнут!» И для того, чтобы полнее насладиться этим апофеозом своего благополучия, он отнял ноги от земли и качнулся вверх, к душистому липовому цвету. Ему захотелось раствориться в благоухании этого цвета, и он закрыл глаза. Но вместо семейной идиллии, которую он хотел увидеть, перед ним возникло темное, измученное и жалкое лицо валлийского солдатика с испуганными, как у зайца, глазами. Видение появилось с такой ошеломляющей ясностью, что мистер Босенгейт сразу же открыл глаза. Проклятье! Этот парень преследует человека, как привидение! Где он сейчас, бедняга? Лежит в камере и думает… думает о своей жене! Мистеру Босенгейту стало не по себе, он остановил качели. Нелепость какая-то! Ощущение благополучия и предвкушение блаженства покинули его. «Проклятая жизнь! — подумал он. — Сколько страданий! Почему я должен судить этого несчастного парня и упечь его в тюрьму?» Он прошел на террасу быстрым шагом, стараясь стряхнуть с себя это настроение, прежде чем он войдет в дом. «А этот коммивояжер? — думал он. Да и все они там ничего не понимают». Он быстро перешагнул через три каменные ступени, вошел в оранжерею, запер ее, прошел в бильярдную и выпил ячменного настоя. Одна из картин висела криво — он подошел ее поправить. Натюрморт. Виноград, яблоки и… омары! Впервые это его удивило. Почему омары? Картина казалась мертвой, безжизненной. Погасив свет, он поднялся наверх, прошел мимо дверей жены в свою комнату и разделся.
Уже в пижаме он открыл дверь между их спальнями. При свете, падавшем из его комнаты, он мог разглядеть ее темную голову на подушке. Спала ли она? Нет… определенно не спала. Настал миг наивысшего наслаждения — венец его гордости и довольства своим домом. Но он все стоял на пороге. Гордость, чувство довольства, желание — все исчезло, и осталось только какое-то тупое отвращение ко всему на свете. Он отвернулся, закрыл за собой дверь и, встав между тяжелой шторой и открытым окном, вгляделся в ночь. «Мир полон страданий! — подумал он. — Полон страданий, будь они прокляты!»
2
На другое утро, проходя к скамьям присяжных, мистер Босенгейт слегка задел низенького человека, чью квадратную фигуру с жесткими желто-рыжими волосами он лишь смутно разглядел накануне. Человек этот, кажется, рассердился, и мистер Босенгейт подумал: «Какой невоспитанный тип».
Он быстро сел и, чтобы избежать дальнейших разговоров со своими коллегами, уставился прямо перед собой. По субботам он всегда выглядел настоящим военным, потому что во второй половине дня его Добровольческий корпус проходил подготовку. Джентльмен Лис, как и он состоявший в Добровольческом корпусе, тоже смотрел куда-то в пустоту, но коммивояжер по другую сторону от мистера Босенгейта, казалось, был еще более подозрительным и еще более, чем вчера, походил на человека, застигнутого врасплох за каким-нибудь постыдным занятием. Только близость Джентльмена Лиса мешала мистеру Босенгейту отодвинуться. Но вот ввели подсудимого, чье мрачное, темное лицо лишь еще больше подчеркивали сверкающие пуговицы его френча. Мистер Босенгейт вздрогнул: эта фигура была точь-в-точь как та, что несколько раз являлась ему в воображении. Он почему-то надеялся, что новая встреча с обвиняемым сразу рассеет все то, что его преследовало, он надеялся, что сможет снова воспринимать эту личность как внешнее явление, а не как частицу своей жизни. И он уставился на неподвижное, словно у изваяния, лицо судьи, пытаясь удержать равновесие, как это делает пьяный, глядя на яркий свет. Полковой врач, нисколько не смутившись, когда судья сделал ему замечание по поводу его отсутствия накануне, дал показания с видом человека, у которого и без того много дел, после чего прокурор произнес короткую речь. Дело, заявил он, яснее ясного. Люди, носящие форму Его Величества и облеченные ответственностью и честью защищать свою родину, не имеют права дезертировать из армии, лишая себя жизни, так же как они не имеют права делать это никаким другим путем. Он требовал признать подсудимого виновным. Мистер Босенгейт услышал, как весь зал одобрительно зашаркал ногами. Судья заговорил:
— Подсудимый, вам предоставляется выбор: либо занять место для свидетелей и давать показания под присягой, в каковом случае вас могут подвергнуть перекрестному допросу, либо вы можете сделать свое заявление прямо со скамьи подсудимых, в этом случае перекрестному допросу вас подвергать не будут. Что вы выбираете?
— Отсюда, милорд.
Сейчас, взглянув прямо в лицо подсудимому, который вдруг словно ожил, пытаясь словами объяснить свои чувства, мистер Босенгейт вдруг как-то совсем по-иному увидел этого человека. Казалось, он сбросил с себя военную форму и живым, трепетным существом выступил из своей собственной тени. Его измученное, чисто выбритое лицо казалось еще более диким и огрубевшим, большие карие глаза потемнели и приобрели мрачный блеск; он дергал руками, дергался всем телом, как человек, только что избавившийся от судороги или скинувший с себя доспехи. Говорил он быстро, решительно, довольно резким голосом и, как полагается истинному уроженцу Уэльса, громко произнося гласные и оглушая согласные.
— Милорд судья и господа присяжные, — сказал он. — Я был парикмахером, когда пришло мне время идти в армию. У меня был маленький домик и жена. Я никогда не задумывался над тем, каково мне будет вдалеке от них, никогда… И мне стыдно рассказывать перед вами, как это может давить и давить человека, может свести его с ума, особенно, когда он такой нервный, как я. Не все любят свой очаг; сколько хочешь таких, что и вовсе не хотят больше видеть своих жен. Но для меня это все одно, что быть запертым в клетке.
Мистер Босенгейт увидел, как просвечивали пальцы обвиняемого, когда тот резко выбросил вперед руку.
— Я не могу сидеть взаперти, далеко от жены и дома, как приходится в армии. И вот, когда я в то утро взял в руки бритву, я был в исступлении… и я не был бы здесь, если бы тот парень не схватил меня за руку. Я признаю, что это не причина для самоубийства. Это было глупо. Но погодите, а вдруг вам придется испытать то же чувство, что было у меня, тогда вы увидите, как оно захватывает человека! Господа присяжные, не посылайте меня обратно в тюрьму: там еще хуже. Если у вас есть жены, вы поймете, каково многим из нас. Но не у всех нервы выдерживают. Клянусь вам, господа, я не мог ничего с собой поделать… — Опять человечек выбросил вперед руку, а мистер Босенгейт испытал то же чувство, что в тот день, когда задавил собаку. — Господа присяжные, желаю вам, чтобы никогда в жизни вам не пришлось так тяжко, как пришлось мне…
Маленький человечек умолк, глаза его спрятались в глазницах, и сам он скрылся в своей мрачно-коричневой оболочке с блестящими пуговицами. Мистер Босенгейт смутно слышал напутствие судьи присяжным и вскоре, оказавшись за столом красного дерева в совещательной комнате, услышал голос человека с рыжей шевелюрой: «Ну и чушь же он порол, этакая зануда!» А почувствовав запах винного перегара, он понял, что слева от него — опять слева! — сидит коммивояжер, который вытирает лоб платком и бормочет: «Ф-фу, ну и жара же сегодня!» Потом усатый человек с тремя кустиками волос на лысине сказал:
— Непонятно, зачем мы ушли в совещательную комнату, господин старшина!
Мистер Босенгейт посмотрел туда, где во главе стола, в белом жилете, неприступный в своем аристократизме, восседал Джентльмен Лис. Он кротко произнес:
— Я буду очень рад услышать мнение господ присяжных.
Наступило короткое молчание, после чего аптекарь сказал:
— У него, вероятно, то, что называется клайстрофобией.
— Что за чепуха! Парень просто увиливает, вот и все! Соскучился по жене — хорошенькая причина! По-моему, это просто непристойно!
Это сказал тот самый маленький человечек с жесткими волосами; мистер Босенгейт вскипел. Какой невежа! Он ухватился обеими руками за край стола.
— Мне кажется, это вполне естественно! — пробормотал он. Но не успели слова сорваться с его губ, как он почувствовал ужас: «Что он сказал, он, без пяти минут полковник Добровольческого корпуса, одобряет такой антипатриотизм!» И услышав, как коммивояжер вполголоса поддержал его: «Правильно!» — сильно покраснел.
Человек с жесткими волосами грубо сказал:
— Слишком много развелось этих негодяев, которые увиливают, и с ними слишком уж много нянчатся!
Смятение в душе мистера Босенгейта росло. Он произнес ледяным тоном:
— Я буду голосовать против всякого вердикта, по которому этого человека снова посадят в тюрьму.
Все сидевшие за столом вздрогнули, словно уже представили себе, что наступило время завтракать, а они все еще заседают. Потом высокий седой человек, имевший привычку подмигивать, сказал:
— Ну что вы, сэр, и это после того, что говорил судья! Что вы! А ваше мнение, господин старшина?
Джентльмен Лис, с видом человека, который хочет сказать: «Это замечательный товар, но я вам его не навязываю», — ответил:
— Нам следует учитывать только факты. Пытался он лишить себя жизни или нет?
— Ну, конечно, он сам это признал, — услышал мистер Босенгейт голос человека с жесткими волосами, и он один не присоединился к согласному хору голосов. Виновен? Да, конечно. Не признать это просто невозможно, но все его существо протестовало против того, чтобы предоставить этого «бедного малого» милосердию английского правосудия. Он не мог заставить себя согласиться с этим невежей да и со всей этой разношерстной компанией. Он почувствовал желание встать и выйти, бросив на ходу: «Делайте, как хотите! Всего хорошего».
— Мне кажется, сэр, — говорил Джентльмен Лис, — что мы все, кроме вас, считаем его виновным. С вашего позволения, я не могу понять, как вы можете отрицать то, что признал сам подсудимый.
Вынужденный защищаться, мистер Босенгейт, покраснев, как рак, засунул руки глубоко в карманы и, глядя прямо перед собой, сказал:
— Хорошо. Тогда вынесем такой вердикт: виновен, но заслуживает снисхождения.
— Как вы считаете, господа, виновен, но заслуживает снисхождения?
— Правильно, правильно! — крикнул коммивояжер, а аптекарь проговорил вполголоса:
— От этого вреда не будет.
— Ну, а я думаю, что будет. На фронте дезертиров расстреливают, а мы хотим отпустить этого парня. Я бы его повесил, как собаку.
Мистер Босенгейт пристально посмотрел на бессердечного человечка с жесткими волосами. Ему хотелось сказать: «Неужели у вас нет никакого сочувствия к людям? Неужели вы не понимаете, как бедняга страдает?» Но сказать это перед десятью посторонними людьми было невозможно; лоб его покрылся испариной, и он взволнованно ударил кулаком по столу. Это сразу же возымело действие. Все посмотрели на человечка с жесткими волосами, как бы говоря: «Да, ты, кажется, далеко зашел». Тот помолчал немного, потом сказал угрюмо:
— Что ж, пусть так, заслуживает снисхождения. Мне наплевать.
— Верно! Все равно на эту оговорку никогда не обращают внимания, сказал седой человек, добродушно подмигивая, и мистер Босенгейт вместе со всеми вернулся в зал суда.
Но самое тяжелое чувство он испытал, когда, сидя на скамье присяжных, еще раз посмотрел на подсудимого. Почему должен этот несчастный так страдать ни за что, ни про что, в то время, как он, мистер Босенгейт, и все остальные — и злобный прокурор, и судья, похожий на Цезаря, — отправятся к своим очагам и женам, веселые, как пчелы в летний день, и, скорее всего, никогда в жизни больше о нем и не вспомнят? Неожиданно до его сознания дошел голос судьи:
— Вы вернетесь в свой полк и приложите усилия к тому, чтобы беззаветно служить своей стране. Вы должны благодарить присяжных за то, что вас не посылают в тюрьму, и милостивую судьбу за то, что вы были не на фронте, когда пытались свершить этот малодушный поступок. Вам повезло: вы остались в живых.
Полисмен потянул солдатика за рукав, и бесцветная фигурка с остановившимся, потухшим взглядом спустилась с возвышения и вышла из зала. Мистеру Босенгейту захотелось перегнуться через перегородку и от всего сердца сказать: «Не унывай! Не унывай! Я тебя понимаю».
Было почти десять часов вечера, когда он приехал домой после строевых занятий. Физическую усталость он преодолел, перекусив в отеле и выпив стаканчик виски с содовой, но морально он был в странном состоянии. Жажда телесная была удовлетворена, жажда духовная требовала утоления. В эту ночь он желал не поцелуев жены, а ее сочувствия. Ему хотелось подойти к ней и сказать: «Я многому научился сегодня, познал вещи, о которых прежде никогда не задумывался. Жизнь — чудесная штука, Кэйт, ее нельзя прожить, думая только о себе, надо делиться с другими, так, чтобы, когда кто-то другой страдает, страдал и ты. Я вдруг понял: важно не то, чем человек владеет, а лишь то, что он делает и насколько он сочувствует другим людям. Я понял это с необычайной ясностью, когда заседал в суде и смотрел, как этот солдатик метался, словно мышь, попавшая в мышеловку. Впервые в жизни я ощутил… знаешь… истинный дух Христа. Это чудесно, Кэйт… чудесно! Ты и я, мы никогда не были близки друг другу, по-настоящему близки, так, чтобы один понимал другого. А знаешь, ведь это главное, — понимание, сочувствие, это бесценный дар. Когда я увидел, как этого беднягу увели, чтобы отправить в часть, где он заново должен переживать свое горе, рваться к жене, снова и снова думать о ней, точно так же, как я бы думал и рвался к тебе, я понял, какой отчужденной жизнью мы живем, никогда не поверяя друг другу того, что мы действительно думаем и чувствуем, никогда не достигая полного слияния друг с другом. Я уверен, что тот парень и его жена ничего друг от друга не скрывали, наверное, жили душа в душу. Вот так и мы должны жить. Нам нужно по-настоящему почувствовать, что самое важное — понимать и любить ближнего, а не только говорить об этом, как все мы это делаем, — и присяжные и даже этот бедняга судья — ведь как это ужасно — судить ближнего! С той минуты, как я сегодня утром в последний раз увидел этого солдатика, я весь день стремился домой, чтобы тихо посидеть с тобой, излить тебе свою душу и положить начало новой жизни. В этом чувстве есть что-то чудесное, и мне хочется, чтобы и ты им прониклась, как я, потому что ты так много значишь для меня».
Все это он хотел сказать жене, не притрагиваясь к ней, не целуя ее, а просто глядя ей в глаза и видя, как они смягчатся и засияют, непременно засияют, согретые его жаром. И желание высказать все это как подобает коротко, спокойно, передав всю искренность и теплоту объявшего его чувства, — настолько взволновало его, что ноги у него подкосились, и он чуть не упал.
Коридор не был освещен, потому что еще не стемнело. Он направился в гостиную, но у самых дверей пугливо свернул к кабинету и остановился в нерешительности под картиной «Человек, ловящий блоху» (голландская школа), которая досталась ему в наследство от отца. Жена сейчас там занята с гувернанткой! Придется подождать. Очень важно было бы пойти прямо к Кэтлин и сразу же выложить ей все, иначе он никогда не сможет сделать это. Он нервничал ничуть не меньше выпускника перед экзаменом. Это было так грандиозно, так ошеломляюще важно. Он вдруг начал испытывать страх перед женой, бояться ее холодности и красоты, и этого ее странного сходства с японкой, словом, всего того, чем он привык восхищаться. И больше всего он боялся ее обаяния. Он чувствовал себя сегодня юным, почти мальчишкой. Неужели она не увидит, что он, право же, вовсе не на пятнадцать лет старше ее, неужели не поймет, что она не просто часть его собственности, всей этой восхитительной обстановки его дома, а духовная подруга человека, жаждущего именно духовной близости?
В этом состоянии душевного волнения он, как и вчера, в смятении чувств, не мог стоять на месте и пошел бродить по дому. Зайдя в столовую, он увидел на столе изысканный ужин — бутерброды, кусок торта, виски, сигареты и даже ранний персик. Мистер Босенгейт посмотрел на персик скорее с грустью, чем с отвращением. Персик этот, во всем своем совершенстве, был как бы частью того, что вытеснило внезапно нахлынувшее новое чувство. Прелестный пушок на его кожице, казалось, еще острее заставил мистера Босенгейта почувствовать высоту стены, окружавшей его и состоявшей из вещей, которыми он так восхищался, которые так заботливо берег все эти долгие годы. Он не стал ужинать, а подошел к окну. Все погружалось в темноту — фонтан, старая липа, клумбы и лужайки, раскинувшиеся внизу, где пасутся джерсейские коровы, его коровы. Вот она, стена, медленно темнеющая, теряющая очертания, расплывающаяся в мягкой черноте ночи, исчезающая, но все-таки существующая стена его собственности!
В гостиной отворилась дверь, и до него донеслись из коридора голоса жены и гувернантки, собиравшихся идти наверх спать. Только бы они не зашли сюда! Только бы!.. Голоса затихли. Теперь все было в порядке. Оставалось только немного погодя подняться наверх, чтобы застать Кэтлин одну. Он обернулся и через столовую, через длинный стол палисандрового дерева, посмотрел на себя в висевшее над сервантом зеркало, где отражалась темным пятном его фигура. Он прошел вдоль стола и стал вплотную к зеркалу. От волнения у него пересохли горло и рот. Он дотронулся пальцем до своего лица в зеркале. «Ты осел! — подумал он. — Возьми себя в руки и действуй! Она поймет. Ну, конечно же, она поймет!» Он проглотил слюну, пригладил усы и вышел из комнаты. Когда он поднимался по лестнице, у него болезненно стучало сердце, но отступать было поздно, и он твердым шагом прошел прямо в ее спальню.
В свободном голубом халате она расчесывала перед зеркалом свои черные волосы. Мистер Босенгейт подошел к ней и встал рядом, молча глядя на нее сверху вниз. Как пчелиный рой, жужжали у него в голове заготовленные слова, но ни одно не желало слететь с его губ.
Жена продолжала расчесывать волосы, и ее гладкие локти блестели в свете лампы. Приподняв бровь, она поглядела на него.
— Что, дорогой? Устал?
С какой-то особой страстностью вырвалось у него одно-единственное слово: «Нет». Едва заметная насмешливая улыбка промелькнула на ее лице; она мягко, очень мягко пожала плечами. Этот жест он уже видел не раз! Обуреваемый отчаянным желанием заставить ее понять все, он положил ладонь на ее поднятую руку.
— Кэтлин, постой… послушай меня!
Волнуясь, порываясь поведать ей о своем великом прозрении, он крепко стиснул пальцы. Но прежде чем он сумел сказать хоть слово, он вдруг отчетливо увидел, как эта прохладная белая рука, эти полузакрытые глаза, эти губы, тронутые улыбкой, и эта шея в вырезе халата потянулись к нему. Заикаясь, он сказал:
— Я хочу… я должен… Кэтлин, я…
Она опять чуть пожала плечами.
— Да… я знаю, хорошо…
Горячая волна стыда и бог знает чего еще захлестнула мистера Босенгейта. Он упал на колени, прижался лбом к ее руке и застыл в безмолвии. С губ его не сорвалось ни слова, только два глубоких вздоха. Неожиданно он почувствовал, что она гладит его по щеке, как ему показалось, с состраданием. Она чуть-чуть подалась к нему, ее губы встретились с его губами, и больше он ничего не помнил!..
А потом мистер Босенгейт сидел у себя в комнате возле распахнутого настежь окна и курил сигарету. В комнате было темно. Мимо окна пролетали мотыльки; по небу медленно ползла луна. Он сидел очень спокойный, пуская клубы дыма в ночной воздух. Любопытная это штука — жизнь! Любопытный мир! Странные в нем действуют силы, силы, которые заставляют человека делать как раз обратное тому, что он хотел сделать. Да, кажется, всегда, всегда заставляют делать именно обратное! Лунный свет, украдкой пробравшись сквозь ветви деревьев, потихоньку заполнил сад.
«Словно в насмешку, — думал он, — никогда нельзя поступить так, как хочешь. Я хотел, попытался… Но похоже, что человек не изменяется так вот вдруг. Да, жизнь слишком серьезная штука! И все же я не тот, каким был вчера… не совсем тот!» Он закрыл глаза и, как это бывает, когда чувства успокаиваются, вдруг увидел мгновенную картину: увидел самого себя далеко-далеко внизу, бредущим по тесной, как могила, высокой, как гора, улице, улице, похожей на бездонную темную щель, — карлик среди таких же карликов: своей жены, солдатика, судьи, присяжных, этих марионеток, бродящих на тоненьких прямых ногах по темной, бесконечно высокой и узкой улице. «Это уж слишком для человека, — думал он. — Слишком высоко: наверх не выберешься. Мы должны быть добрыми и помогать друг другу, не ожидать слишком многого и не думать слишком много. Вот и все!» Погасив сигарету, он раз шесть глубоко вздохнул и лег в постель.
ЦВЕТ ЯБЛОНИ
«Цвет яблони и золото весны…»
Еврипид, «Ипполит».В день своей серебряной свадьбы Эшерст с женой поехали на автомобиле поросшей вереском долиной, собираясь переночевать в Торки, где они встретились впервые. Этот план принадлежал Стелле Эшерст, всегда немного склонной к сентиментальности. Она давно уже утратила ту нежную синеглазую прелесть, ту свежесть красок, напоминавшую цвет яблони, ту чистую линию строгой и стройной девичьей фигурки, что так внезапно и странно околдовали Эшерста двадцать шесть лет тому назад. Но и в сорок три года она оставалась привлекательной и милой спутницей жизни с чуть поблекшим румянцем и серо-голубыми глазами, ставшими глубже и вдумчивей.
Она сама остановила машину у поворота. Шоссе круто подымалось влево, а небольшой перелесок, где среди лиственниц и буков темнели сосенки, спускалось к долине, у подножия высокой гряды холмов, за которыми шла вересковая пустошь. Стелла искала места, где можно было бы позавтракать, Эшерст никогда ни о чем не заботился — и это место, среди золотого боярышника и пушистой зелени лиственниц, пахнувших лимоном под нежарким апрельским солнцем, место, откуда открывался вид на широкую долину и на длинную гряду холмов, очень понравилось Стелле, писавшей акварелью этюды с натуры и любившей романтические уголки. Захватив свои краски, она вышла из автомобиля.
— Здесь хорошо, правда, Фрэнк?
Высокий, длинноногий, похожий на бородатого Шиллера, с поседевшими висками и большими задумчивыми серыми глазами, которые иногда становились особенно выразительными и почти прекрасными, с чуть асимметричным носом и слегка приоткрытыми губами, Эшерст — сорокавосьмилетний молчаливый человек взял корзинку и тоже вышел из машины.
— О Фрэнк, смотри: могила!
У перекрестка, где тропинка пересекала шоссе под прямым углом и убегала через изгородь дальше, к опушке рощицы, виднелся холмик футов в шесть длиной и в фут шириной, с большим замшелым камнем. Кто-то бросил на камень ветку шиповника и пучок синих колокольчиков. Эшерст взглянул на могилу, и поэтическая струна дрогнула в его душе. На перекрестке… могила самоубийцы… Бедные смертные: сколько у них предрассудков! Но тому, кого похоронили, — не лучше ли ему лежать здесь, где нет рядом безобразных памятников, исписанных напыщенными пустыми словами, а только простой камень, широкое небо да участливая жалость прохожих…
В лоне семьи Эшерста не особенно поощряли философствования, поэтому он ничего не сказал про могилу и, вернувшись к шоссе, поставил у каменной изгороди корзинку с завтраком, разостлал плед для жены — она должна была вернуться со своих этюдов, когда проголодается, — а сам вынул из кармана «Ипполита» в переводе Мэррея. Он прочел о Киприде и злой ее мести и задумчиво уставился в небо. И в этот день, день его серебряной свадьбы, от бега белых облаков в чистой синеве Эшерста вдруг охватила тоска, он и сам не знал о чем. Как мало приспособлен к жизни человеческий организм! Какой бы полной и значительной жизнь ни была, всегда остается какая-то неудовлетворенность, какая-то подсознательная жадность, ощущение уходящего времени. Бывает ли такое чувство у женщин? Кто знает? И все же люди, которые вечно рвались к новизне в ненасытной жажде новых приключений, новых дерзаний, новых страстей, — такие люди, несомненно, страдали от чувства, противоположного неудовлетворенности, — от пресыщения.
Да, от этого не уйдешь. Какое все-таки плохо приспособленное к жизни животное — цивилизованный человек! Для него не существует блаженного успокоения в прекрасном саду, где «цвет яблони и золото весны», как поет дивный греческий хор в «Ипполите», нет в жизни достижимого блаженства, тихой гавани счастья, — ничего, что могло бы соперничать с красотой, плененной в произведениях искусства, красотой вечной и неизменной. И читать о ней, смотреть на нее — значит испытывать ни с чем не сравнимый восторг, счастливое опьянение… Правда, и в жизни бывают проблески той же нежданной и упоительной красоты, но они исчезают быстрее, чем мимолетное облако, скользнувшее по солнцу. И невозможно удержать их, как удерживает красоту высокое искусство. Они исчезают подобно золотым, сверкающим видениям, что всплывают в сознании человека, погруженного в созерцание природы, проникающего в сокровенные ее недра. И сейчас, когда солнце горячо прильнуло к его лицу и зов кукушки звенел из зарослей боярышника, когда медвяный воздух колыхался над молодой зеленью папоротника и звездочками терновника, а высоко над холмами и сонными долами плыли светлые облака, Эшерсту казалось, что близко полное познание природы. Но он знал: это ощущение исчезнет, как лик Пана, выглянувшего из-за скалы, исчезает при виде человека.
Вдруг Эшерст привстал. Необычайно знакомым показался ему весь пейзаж длинная лента дороги, старая каменная ограда, узкая тропа. Он ничего не заметил, когда они проезжали, — совершенно ничего, он думал совсем о другом, или, вернее, ни о чем не думал. Но сейчас он вспомнил все. Двадцать шесть лет тому назад, в такой же весенний день, он ушел по этой самой дороге с фермы, лежавшей в полумиле отсюда, ушел в Торки и никогда больше не возвращался. И вдруг острая боль сжала его сердце: он вспомнил нечаянно о той минуте в прошлом, когда он не сумел удержать настоящую красоту и радость, ускользнувшую от него в неизвестное. Нечаянно он воскресил угасшее воспоминание о сладком, диком счастье, оборванном так быстро и неожиданно. Он лег в траву и, подперев голову руками, стал разглядывать молодые стебельки, среди которых цвел голубой ленок. Вот что вспомнилось ему.
1
Первого мая Фрэнк Эшерст и его друг Роберт Гартон, только что окончившие университет, были в пути. Они совершали большую прогулку и в этот день вышли из Брента, собираясь дойти до Шегфорда. Но колено Эшерста, поврежденное во время игры в футбол, давало о себе знать, а судя по карте ям оставалось идти еще около семи миль. У дороги, где тропа углублялась в лес, они присели, чтобы дать отдохнуть больной ноге Эшерста, и стали обсуждать мировые вопросы, как это всегда делают молодые люди. Оба были ростом в шесть футов с лишним и худые, как жерди; Эшерст — бледный, мечтательный, рассеянный; Гартон — диковатый, порывистый, курчавый и мускулистый, как первобытный зверь. Оба питали склонность к литературе, оба ходили без шапок. Светлые, мягкие и волнистые волосы Эшерста вились вокруг лба, как будто их все время откидывали, а темные непокорные кудри Гартона походили на гриву. На много миль кругом они не встретили ни души.
— Дорогой мой, — говорил Гартон, — жалость — просто следствие копания в себе. Это болезнь последних пяти тысяч лет. Мир был гораздо счастливее, когда не знал жалости.
Эшерст задумчиво следил за облаками.
— Но, во всяком случае, жалость — жемчужина мира.
— Нет, мой друг, все наши современные несчастья происходят от жалости. Возьми, к примеру, животных или краснокожих индейцев, их волнуют только собственные беды, а мы вечно мучаемся от чужой зубной боли. Давай перестанем жалеть других, и мы будем куда счастливей.
— Ты сам на это не способен.
Гартон задумчиво взъерошил свою густую шевелюру.
— Кто хочет познать жизнь по-настоящему, тот не должен быть слишком щепетильным. Морить голодом свое эмоциональное «я» — ошибка. Всякая эмоция только обогащает жизнь.
— Да? А если она противоречит чести?
— О, как это характерно для англичанина! Когда заговариваешь об эмоциях, о чувстве, англичане всегда подозревают, что речь идет о физической чувственности, и это их страшно шокирует. Они боятся страсти, но не сладострастия, — о нет! Лишь бы все удалось скрыть.
Эшерст ничего не ответил. Он сорвал голубенький цветок и стал сравнивать его с небом. Кукушка закуковала в зеленой гуще ветвей. Небо, цветы, птичьи голоса… Роберт говорит вздор.
— Пойдем поищем какую-нибудь ферму, где мы могли бы переночевать, сказал Эшерст и в эту минуту заметил девушку, шедшую в их сторону. Четко вырисовывалась она на синем небе, под согнутой в локте рукой — она несла корзинку — тоже виднелся кусочек неба. И Эшерст, невольно и бескорыстно отмечавший все прекрасное, сразу подумал: «Как красиво» Ветер вздувал ее темную шерстяную юбку и трепал синий берет. Ее серая блуза была изношена, башмаки потрескались, маленькие руки огрубели и покраснели, а шея сильно загорела. Темные волосы в беспорядке падали на высокий лоб, подбородок мягко закруглялся, короткая верхняя губка открывала белые зубы. Ресницы у нее были густые и темные, а тонкие брови почти сходились над правильным, прямым носом. Но настоящим чудом казались ее серые глаза, влажные и ясные, как будто впервые открывшиеся в этот день. Она глядела на Эшерста: ее, вероятно, поразил странный хромой человек без шляпы, с откинутыми назад волосами, уставившийся на нее своими огромными глазами. Он не мог снять шляпы, ибо на нем ее не было, а просто поднял руку в знак приветствия и сказал:
— Не укажете ли вы нам поблизости какую-нибудь ферму, где бы мы могли переночевать? У меня разболелась нога.
— Здесь неподалеку только наша ферма, сэр, — проговорила она без смущения приятным, очень нежным и звонким голосом.
— А где это?
— Вон там дальше, сэр,
— Не приютите ли вы нас на ночь?
— Да, я думаю, можно будет.
— Вы нам покажете дорогу?
— Да, сэр.
Эшерст молча захромал вслед за ней, а Гартон продолжал расспросы:
— Вы уроженка Девоншира?
— Нет, сэр.
— А откуда же вы?
— Из Уэльса.
— Ага! Я так и думал, что в вас кельтская кровь. Значит, это не ваша ферма?
— Нет, она принадлежит моей тетке, сэр.
— И вашему дяде?
— Он умер.
— А кто же там живет?
— Моя тетка и три двоюродных брата.
— Но дядя ваш был из Девоншира?
— Да, сэр.
— Вы давно здесь живете?
— Семь лет.
— А вам здесь нравится больше, чем в Уэльсе?
— Н-не знаю, сэр.
— Вы, верно, плохо помните те края!
— О нет! Но там как-то все по-другому.
— Охотно верю.
Эшерст вдруг спросил:
— Сколько вам лет?
— Семнадцать, сэр.
— А как вас зовут?
— Мигэн Дэвид, сэр.
— Это — Роберт Гартон, а я — Фрэнк Эшерст. Мы хотим попасть в Шегфорд.
— Как жаль, что у вас болит нога!
Эшерст улыбнулся, а когда он улыбался, его лицо становилось почти прекрасным.
За небольшой рощицей сразу открылась ферма — длинное низкое каменное здание с широкими окнами и большим двором, где копошились куры, свиньи и паслась старая кобыла. Небольшой зеленый холм за домом порос редким сосняком, а старый фруктовый сад, где яблони только что стали распускаться, тянулся до ручья и переходил в большой запущенный луг. Мальчуган с темными раскосыми глазами тащил свинью, а из дверей навстречу незнакомцам вышла женщина.
— Это миссис Наракомб, моя тетушка, — проговорила девушка.
Быстрые темные глаза «тетушки» и ее длинная шея придавали ей странное сходство с дикой уткой.
— Мы встретили вашу племянницу на дороге, — обратился к ней Эшерст. Она сказала, что вы нас, может быть, приютите на ночь.
Миссис Наракомб оглядела их с ног до головы.
— Пожалуй, если вы удовольствуетесь одной комнатой. Мигэн, приготовь гостевую комнату да подай кувшин сливок. Наверно, вам захочется чаю.
Девушка вбежала в дом через крыльцо, у которого росли два тиса и кусты цветущей смородины. Ее синий берет весело мелькнул в темной зелени среди розовых цветов.
— Войдите в комнаты, отдохните, — пригласила хозяйка. — Вы, наверно, из университета?
— Да, были в университете, недавно окончили.
Миссис Наракомб с понимающим видом кивнула головой.
В парадной комнате было так невероятно чисто, кирпичный пол, полированные стулья у пустого стола и большой жесткий диван так блестели, что казалось, здесь никогда никто не бывал. Эшерст сразу уселся на диван, обхватив больное колено руками, а миссис Наракомб стала пристально его разглядывать. Он был единственным сыном скромного преподавателя химии, но людям он казался высокомерным, быть может, потому, что мало обращал на них внимания.
— А где здесь можно выкупаться?
— Есть у нас за садом ручеек, только если даже стать на колени — и то с головой не окунешься.
— А какая глубина?
— Да так — фута полтора, пожалуй, будет.
— Ну и чудесно, вполне достаточно. Как туда пройти?
— Прямо по дорожке, а потом через вторую калитку направо. Там, около большой яблони, которая стоит отдельно, есть маленький затон. В нем даже форели водятся, может, вы их спугнете.
— Скорее они нас спугнут.
Миссис Наракомб улыбнулась.
— Когда вернетесь, чай будет готов.
В затоне, образованном выступом скалы, было чудесное песчаное дно. Большая яблоня росла так близко, что ее ветви почти касались воды. Она зазеленела и вот-вот должна была расцвести: уже наливались алые почки. В узком затоне не хватало места для двоих, и Эшерст дожидался своей очереди, растирая колено и оглядывая луг — камни, — всюду заросли терновника, полевые цветы, а дальше, на невысоком холме, буковая роща! Свежий ветер трепал ветви деревьев, солнце золотило траву, звонко заливались весенние птицы, и Эшерст думал о Феокрите, о реке Черрел, о луне и девушке с глазами прозрачными, как роса, думал сразу о стольких вещах, что ему казалось, будто он ни о чем не думает, а просто блаженно и глупо счастлив…
2
Во время долгого и обильного чаепития со свежими яйцами, сливками, вареньем и тоненьким домашним печеньем, пахнущим шафраном, Гартон рассуждал о кельтах. В то время воскрешали кельтскую культуру, и Гартон, считавший себя кельтом, пришел в восторг, открыв в семье своих хозяев кельтских предков. Растянувшись в мягком кресле, с самокруткой в зубах, он пристально уставился на Эшерста своими холодными, пронзительными, как иглы, глазами и превозносил утонченность валлийцев. Перебраться из Уэльса в Англию все равно что променять китайский фарфор на глиняную посуду. Конечно, Фрэнк, чертов англичанин, не обратил внимания на необыкновенную утонченность и очарование этой валлийской девушки. И, ероша свои еще мокрые от купания темные волосы, он стал объяснять, какой замечательной иллюстрацией могла бы служить эта девушка к произведениям валлийского барда Моргана-оф-Имярека, жившего в двенадцатом веке.
Эшерст, во всю длину вытянувшийся на коротком диване так, что свешивались ноги, курил темную трубку и, почти не слушая, видел перед собой лицо девушки, которая только что приходила с тарелкой свежего печенья. Смотреть на нее было все равно что любоваться цветком или каким-нибудь чудесным явлением природы, — и он смотрел на нее, пока она не опустила глаза, дрогнув ресницами, и не вышла из комнаты тихо, как мышь.
— Пойдем на кухню, — предложил Гартон, — посмотрим на нее подольше.
В чисто выбеленной кухне с перекладин свисали копченые окорока; на окнах стояли цветы в глиняных горшках; по стенам висели ружья, портреты королевы Виктории, полки со старинной посудой, с медными и глиняными кувшинами. На узком деревянном столе были приготовлены миски и ложки, длинные связки репчатого лука спускались с потолка до самого стола. Две овчарки и три кошки лежали на полу. У очага тихо и смирно сидели два мальчугана. По другую сторону очага коренастый светлоглазый и краснолицый юноша чистил ружье паклей, совершенно похожей по цвету на его волосы и ресницы. Тут же миссис Наракомб готовила в большой чашке какое-то вкусно пахнущее месиво. Еще двое парней с такими же, как у мальчуганов, раскосыми темными глазами, темными волосами и лукавыми лицами о чем-то тихо говорили, прислонясь к стене. Пожилой невысокий чисто выбритый человек в куртке из вельвета сидел на подоконнике и просматривал старый журнал. Одна Мигэн все время хлопотала: расставляла посуду, наливала сидр в кружки, быстро переходя от бочонка к столу.
Видя, что они собираются ужинать, Гартон сказал:
— Если можно, мы придем, когда вы поужинаете.
И, не дожидаясь ответа, оба вернулись в большую комнату. Но после ярко освещенной кухни, где было тепло, вкусно пахло, где сидели люди, их начищенная до блеска комната показалась им холодной и неуютной, и они уныло уселись в свои кресла.
— Настоящий цыганский тип у этих мальцов. Из всех один только парень, который чистил ружье, — настоящий англосакс. А эта девочка весьма интересный психологический объект.
Губы Эшерста дрогнули. Какой осел этот Гартон! «Интересный объект»! Она просто дикий цветок, которым радостно любоваться. «Объект»!
Гартон продолжал:
— В ней таятся необычайные эмоциональные возможности. Ее нужно только разбудить, и тогда она станет изумительной.
— А ты что, собираешься ее разбудить?
Гартон посмотрел на него и усмехнулся. «Вот грубая английская натура!» — как будто говорила его презрительная усмешка.
Эшерст запыхтел трубкой. Разбудить ее! Этот глупец довольно высокого мнения о себе. Он открыл окно и выглянул в сад. Сумерки сгустились до черноты. Стены сараев и конюшни смутно синели, сад казался непроходимой чащей. Из кухни тянуло душистым дымом. Какая-то птица, очевидно, засыпавшая позже других, робко щебетала, испугавшись темноты. Из конюшни доносился топот и фырканье жующей лошади. А дальше лежала туманная пустошь, а еще дальше мерцали первые звезды, светлыми точками проколовшие темно-синее небо. Прокричала сердитая сова. Эшерст глубоко вздохнул. Как чудесно бродить такой ночью! Застучали некованые копыта, и на лугу показались три темных силуэта: жеребят гнали в ночное. Их черные мохнатые головы мелькнули над изгородью. Эшерст стукнул трубкой — и от снопа мелких искр они шарахнулись прочь и поскакали по лугу. Летучая мышь бесшумно скользнула в воздухе, еле слышно пискнув. Эшерст протянул руку — на ладони он ощутил росистую влажность. Вдруг он услышал над головой детские голоса, стук сброшенных башмаков и другой голос, нежный и звонкий, — очевидно, девушка укладывала мальчишек спать.
Четко послышалось: «Нет, Рик, нельзя класть с собой в постель кошку», потом хохот, взвизги, мягкий шлепок и смех, такой мелодичный и чистый, что Эшерст даже слегка вздрогнул. Кто-то дунул, и тонкие полосы света, словно пальцами хватавшие из окна темноту, вдруг исчезли. Все стихло, Эшерст отошел от окна и сел в кресло. Колено болело, и на душе стало тоскливо.
— Ты иди на кухню, если хочешь, — проговорил он, — а я ложусь спать.
Эшерсту казалось, что сон подхватил его в бесшумном и быстром кружении, но на самом деле он не спал и слышал, как пришел Гартон. Еще долго после того, как Гартон, улегшись на другую кровать в низкой мансарде, стал прославлять тьму тонким носовым храпом, Фрэнк слышал крик совы. Если не считать ноющей боли в колене, он чувствовал себя отлично: жизненные заботы не омрачали его ночное бдение. И действительно, о чем было заботиться? Он только что получил диплом юриста, обладал недюжинным литературным талантом, семьи у него не было, и четыреста фунтов в год его обеспечивали вполне: весь мир был ему открыт. Кому какое дело, где он, что делает, куда отправится. Твердая постель давала ощущение прохлады. Он лежал, вдыхая ночные запахи, проникавшие сквозь открытое окно над его головой. В эту бессонную ночь воспоминание Эшерста были ясны и ласковы, а мечты — увлекательны. Правда, какое-то раздражение по отношению к Гартону давало себя знать, но это так часто бывает, когда пробудешь с человеком три дня подряд. Потом совершенно неизвестно почему перед глазами Фрэнка ясно встало лицо юноши, чистившего ружье, его пристальный и вместе с тем удивленный взгляд, каким он их встретил в дверях кухни и потом посмотрел на девушку, которая принесла кувшин с сидром. Загорелое лицо, синие глаза с белесыми ресницами и волосы цвета пакли, врезались в память Эшерста так же прочно, как и просто свежее личико девушки. В темном квадрате незанавешенного окна начинало светлеть. Вдали сонно к глухо замычала корова. Снова все стихло, пока не совсем еще проснувшиеся дрозды не попытались робким щебетом разбить тишину. И, отведя глаза от светлеющего окошка, Эшерст крепко заснул.
На следующее утро колено Эшерста сильно распухло: их поход, очевидно, кончился. Гартону нужно было вернуться в Лондон, он ушел около полудня с иронической улыбкой, царапнувшей Эшерста. Но эта царапина сразу зажила, как только длинная фигура Гартона скрылась за поворотом. Весь день Эшерст отдыхал, вытянув больную ногу, на зеленой деревянной скамье, стоявшей на лужайке, где от солнца сильнее чувствовались запахи левкоев и гвоздики и чуть слышный аромат смородины. Он блаженно курил, мечтал, смотрел кругом.
Весной на ферме начинается настоящее пробуждение жизни. Из яиц вылупляется молодняк, распускаются почки, и люди с трепетом следят за новорожденными растениями и животными, холят, кормят и поят их. Фрэнк сидел так тихо, что важная старая гусыня вперевалку подвела к самым его ногам свой выводок, и шесть желторотых серых гусят стали клевать молодую травку, оттачивая свои маленькие клювы. То и дело миссис Наракомб или Мигэн подходили и спрашивали, не нужно ли ему чего-нибудь. Он улыбался и говорил: «Нет, нет, спасибо, здесь замечательно хорошо». Перед чаем они вместе пришли к нему с длинной теплой повязкой, смоченной в какой-то темной жидкости, и после долгого, внимательного осмотра опухшей ноги сделали ему перевязку. Когда они ушли, Фрэнк стал думать о том, какой жалостью наполнились глаза девушки при виде его колена, как она нахмурила брови и тихонько протянула: «О-о-о!» И снова его охватило непонятное раздражение против ушедшего приятеля: какую чушь он болтал об этой девушке! Когда она принесла чай, Эшерст спросил:
— Как вам понравился мой друг, Мигэн?
Она прикусила верхнюю губку, стараясь не улыбнуться, — очевидно, она считала это невежливым.
— Чудной джентльмен, рассмешил нас всех. Наверно, он очень умный.
— Чем же он вас так рассмешил?
— Он сказал, что я дочь бардов. А кто они такие?
— Валлийские поэты, жившие сотни лет назад.
— Но почему же я их дочь?
— Он хотел сказать, что вы похожи на девушек, которых они воспевали.
Она нахмурила брови.
— По-моему, он просто любит шутить. Разве я и в самом деле похожа на них?
— А вы поверите тому, что я скажу?
— О, конечно!
— Думаю, что он сказал правду.
Она улыбнулась.
И Эшерст подумал: «Да ты очаровательное существо!»
— Потом он сказал, что Джо — саксонский тип. Что это значит?
— Который это Джо? Тот, голубоглазый, с таким красным лицом?
— Да. Племянник тетиного мужа.
— Значит, он вам не двоюродный брат?
— Нет.
— Видите, он хотел сказать, что Джо похож на тех людей, которые пришли в Англию тысяча четыреста лет тому назад и завоевали ее.
— А-а, про это я знаю. А он, правда, похож?
— Гартон помешан на истории. Но, по правде говоря, Джо действительно немного похож на древнего сакса.
— Да, конечно.
Это «да, конечно» совершенно покорило Эшерста. Так грациозно, вежливо и мило она подтвердила то, что для нее явно было китайской грамотой.
— А потом он сказал, что оба других мальчика похожи на цыганят. Не надо было так говорить. Моя тетушка смеялась, но ей, конечно, было неприятно, а братья даже рассердились. Дядя был фермер — фермеры вовсе не цыгане. Нехорошо обижать людей.
Эшерсту страшно хотелось схватить и пожать ее руку, но он только сказал:
— Конечно, нехорошо, Мигэн. Кстати, я слыхал, как вы вчера вечером укладывали малышей спать.
Она слегка покраснела.
— Пожалуйста, пейте чай, он стал совсем холодный. Принести вам горячего?
— А у вас когда-нибудь бывает время что-либо сделать для себя?
— О да.
— А я вот все смотрю и ни разу этого не видел,
Она смущенно нахмурила брови и еще больше покраснела.
Когда она ушла, Эшерст подумал: «Неужели ей показалось, что я ее дразню? Вот чего бы мне не хотелось ни за что на свете».
Он был в том возрасте, когда красота кажется, по словам поэта, «небесным цветком» и пробуждает только рыцарские чувства. Эшерст, обычно не обращавший внимания на то, что делается вокруг, не заметил, что парень, которого Гартон назвал «саксонским типом», стоял около дверей конюшни. Он очень красочно выделялся на темном фоне в своих испачканных брюках из коричневого плиса, грязных сапогах и синей рубахе. Его медно-красные руки и лицо резко оттенялись светлыми волосами, напоминавшими на солнце уже не паклю, а лен. Без улыбки, неподвижно и тупо он смотрел вдаль. Поймав на себе взгляд Эшерста, он повернулся и пошел той типичной походкой крестьянских парней, когда они стесняются идти быстро и неуклюже топают ногами. Он исчез за углом, у кухонной двери. Эшерсту стало как-то не по себе. Чурбаны! Как трудно при всем желании подойти близко к этим людям, как они чужды ему! А вместе с тем посмотреть на эту девушку! Башмаки рваные, руки огрубели, но разве это важно? Причиной ли тому ее кельтская кровь, как говорит Гартон, но она кажется прирожденной леди. Настоящая жемчужина! А ведь она, наверное, едва умеет читать и писать.
Пожилой чисто выбритый человек, которого он видел вчера на кухне, прошел по двору с собакой. Он гнал доить коров. Эшерст увидел, что он хромает.
— Коровы у вас отличные!
Лицо хромого человека просияло. Он смотрел слегка исподлобья, как часто смотрят много испытавшие люди.
— Да, они у нас красавицы. И молока много дают.
— И молоко замечательное.
— Надеюсь, вашей ноге лучше, сэр?
— Спасибо, как будто заживает. Хромой дотронулся до своей больной ноги.
— Я-то знаю, что это за штука. Хуже нет, чем больное колено. Мое тоже вот уже десятый год болит.
Эшерст сочувственно покачал головой: жалость так легко дается людям обеспеченным! Хромой старик улыбнулся:
— Впрочем, мне-то жаловаться грех. Хорошо, что эту ногу не отняли.
— Ого!
— Да, да! Теперь-то что — вот раньше болело, так болело, а теперь как новенькое!
— Мне сегодня сделали примочку из какой-то замечательной настойки.
— Это девочка собирает. Она в травах знает толк. Есть такие разбираются, какие травы лечебные. Моя матушка покойная на редкость все это понимала. Ну, пожелаю вам скорее выздороветь, сэр. Эй, ты пошла!
Эшерст улыбнулся. Знает толк в травах. Сама она как полевая травинка…
Вечером, когда он поужинал холодной уткой, творогом и сидром, вошла девушка.
— Извините, сэр, тетя спрашивает, не попробуете ли вы кусочек нашего пирога?
— Если мне позволят пойти на кухню.
— О, конечно! Но вам будет скучно без вашего друга.
— Мне? Ну нет! А никто не будет возражать?
— Кто же? Мы будем очень рады.
Эшерст вскочил слишком поспешно, забыв о больной ноге, споткнулся и упал. Девушка ахнула и протянула к нему обе руки. Эшерст схватил их маленькие, грубые, загорелые — и, с трудом подавив желание поднести их к губам, позволил ей помочь ему встать. Она поддержала его, подставила ему плечо. Опершись на него, Эшерст пошел к двери. Он испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие от этой живой опоры. Но он вовремя сообразил, что лучше взять по дороге свою палку и снять руку с плеча девушки перед тем, как войти в кухню.
В эту ночь он спал как убитый, и, когда проснулся, опухоль на колене почти прошла. Снова он провел все утро на лужайке, в кресле, записывая обрывки стихов. После полудня он уже мог пойти побродить с мальчиками Ником и Риком. Была суббота, они рано вернулись из школы. Темноглазые, черноволосые маленькие шалуны — одному было семь, другому шесть — скоро перестали дичиться Эшерста и болтали без умолку, — он умел разговаривать с детьми. Часа в четыре дня он уже был знаком со всеми способами, какими они уничтожали всякую живность; только ловить форелей они не научились. Подвернув штанишки, они лежали на животах у ручья, пытаясь поймать их руками, как настоящие рыболовы. Конечно, они ничего не поймали, потому что их визг и хохот распугал всех форелей. Эшерст сидел на большом камне у берега, смотрел на детей и слушал кукушку. Старший, Ник, более смелый, подошел к нему и встал рядом.
— А на этом камне всегда сидит страшный цыган,
— Какой страшный цыган?
— Не знаю. Никогда не видел. Мигэн говорит, что он тут сидит, старый Джим его видел своими глазами. Он сидел тут в ту ночь, когда лошадь разбила отцу голову. Он играет на скрипке.
— А что он играет?
— Не знаю!
— А какой он?
— Весь черный. Старый Джим говорил — он весь волосатый! Страшный-престрашный. Ходит по ночам. — Темные раскосые глаза мальчугана испуганно забегали. — А он меня может забрать? Мигэн его боится.
— А она его видела?
— Нет! Зато вас-то она не боится.
— Конечно, не боится. Чего ж ей меня бояться?
— Она вечерами за вас молится!
— Откуда ты знаешь, плут ты этакий?
— Когда я засыпал, она сказала: «Боже, благослови нас всех и мистера Эшеса!» Сам слышал, как она шептала.
— Ты маленький предатель, зачем рассказывать то, что ты подслушал!
Мальчуган замолк, потом вдруг вызывающе сказал:
— А я умею обдирать кроликов. Мигэн вот не может видеть, как их обдирают. А я люблю кровь,
— Ах ты маленькое чудовище!
— Что это такое?
— Чудовище — это существо, которое любит делать другим больно.
Мальчик обиделся:
— Да ведь мы-то едим только мертвых кроликов!
— Ты прав, Ник, прошу прощения.
— А я и лягушек умею обдирать.
Но Эшерст уже не слушал. «Боже, благослови нас всех и мистера Эшеса!» Ник, удивленный его молчанием, побежал назад к ручью, оттуда снова послышались визг и плеск.
Когда Мигэн принесла чай, Эшерст спросил:
— Что это за страшный цыган, Мигэн?
Она испуганно взглянула на него:
— Он приносит несчастье.
— Но ведь вы не верите в привидения?
— Дай бог мне его никогда не видеть!
— Не бойтесь, не увидите. Никаких привидений нет. Старый Джим, наверно, видел просто лошадь.
— О нет! В горах бродят привидения — тени людей, тех, что жили здесь в давние времена.
— Но жили-то здесь не цыгане. Те люди умерли гораздо раньше, чем появились цыгане.
— Все цыгане злые, — коротко ответила девушка.
— Почему? Даже там, где они еще есть, это просто дикие существа, вроде кроликов. В природе много дикого — цветы, например, дикий шиповник, их никто не сажал, Они выросли сами по себе, а ведь вы не скажете, что они дурные, злые. Вот погодите, я сегодня ночью пойду подкараулю вашего страшного цыгана и поговорю с ним.
— Ой, нет, не надо!
— Нет, пойду и непременно сяду на его камень.
Она умоляюще сложила руки.
— Ну, пожалуйста, не надо!
— Почему? А потом, не все ли вам равно, если даже со мной что-нибудь случится?
Она не ответила, и он вдруг бросил как будто невзначай:
— Только, пожалуй, мне его не придется увидеть, скоро я должен буду уехать.
— Почему скоро?
— Ваша тетушка, должно быть, не захочет меня дольше держать.
— О, нет, у нас летом всегда бывают жильцы. Он пристально посмотрел на нее.
— А вам хотелось бы, чтоб я остался?
— Да, — прошептала она.
— Ну, сегодня вечером я буду молиться за вас!
Она вся залилась румянцем, нахмурилась и вышла из комнаты. И все время, пока готовили чай, он проклинал себя за неосторожность. Словно толстыми подошвами сапог он растоптал куст синих колокольчиков. Зачем он сказал эту идиотскую фразу? Неужели он такой же пошлый фат, как Роберт Гартон, и тоже не понимает эту девушку?
3
Всю следующую неделю Эшерст упражнял свое больное колено, делая недалекие прогулки. Весна в этом году была для него настоящим откровением. В каком-то восторге он созерцал бело-розовые почки нераспустившихся буков, залитых золотом солнца на фоне синего неба, рыжие стволы сосен; смотрел на согнутые бурями вязы на холмах, следя, как ветер треплет молодую зелень, оттененную ржавой чернотой коры. Или, лежа на берегу ручья и глядя на распускающиеся цветы, на побуревший папоротник, на перелески, перебирая пальцами прозрачно-розовые завязи ежевики, он слушал зовы кукушки, стук дятла и бисерную, рассыпчатую трель взлетевшего ввысь жаворонка. Да, такой весны он еще никогда не знал: она была в нем самом, внутри него.
Днем он редко видел своих хозяев, и когда Мигэн приносила ему поесть, она всегда была так занята возней по дому или с молодняком во дворе, что не могла с ним долго разговаривать. Но по вечерам он усаживался у окна в кухне, курил трубку и болтал со старым хромым Джимом или с миссис Наракомб, а девушка шила или убирала со стола, бесшумно двигаясь по кухне. Иногда, с чувством того удовольствия, какое испытывает кошка, когда она мурлычет, он замечал, что глаза Мигэн, эти серые влажные глаза, устремлены на него, и он ловил их грустный нежный взгляд, чувствуя себя необычайно польщенным.
Однажды в воскресенье вечером, когда Эшерст, лежа в саду и слушая дрозда, сочинял любовные стихи, он услышал, как хлопнула калитка, и увидел, что Мигэн убегает от неуклюжего краснощекого Джо. Шагах в двадцати от него они остановились друг против друга, не замечая его в густой траве. Эшерст видел сердитое, растерянное лицо девушки, пытающейся уклониться от объятий Джо. А он! Даже представить себе нельзя было, что этот краснорожий чурбан мог прийти в такое волнение.
Эшерста так больно задела эта сцена, что он вскочил на ноги. Они увидели его. Мигэн опустила руки, отшатнулась и спряталась за дерево. Парень что-то сердито буркнул, перепрыгнул через забор и исчез. Эшерст медленно подошел к девушке. Она стояла, кусая губы, необычайно красивая, с растрепавшимися темными волосами и опущенными ресницами.
— Простите меня! — сказал он.
Она быстро глянула на него исподлобья расширенными зрачками и, вздохнув, пошла прочь. Эшерст бросился за ней.
— Мигэн!
Но она не остановилась. Он взял ее за плечо и мягко повернул к себе.
— Постойте, давайте поговорим!
— Почему вы извинились передо мной? Не у меня вам просить прощения.
— Ну, значит у Джо.
— Как он смеет бегать за мной?
— Влюблен, как видно.
Она топнула ногой. Эшерст коротко засмеялся.
— Хотите, я разобью ему голову?
— Вы смеетесь надо мной, вы смеетесь над всеми нами! — вскрикнула она вдруг с неожиданной горячностью.
Он схватил ее руки, но она все отступала, вся раскрасневшись, пока темные пряди ее волос не запутались в цветущих ветвях старой яблони. Эшерст поднес одну из ее рук к губам. Он почувствовал себя истинным рыцарем, стоящим неизмеримо выше этого чурбана Джо, — да, он только чуть-чуть коснулся губами маленькой загрубелой руки. Мигэн вдруг остановилась. Казалось, она дрогнула и потянулась к нему. Теплота и нежность захлестнули Эшерста: неужто этой тоненькой девушке, такой простой, прелестной и трогательной, было приятно прикосновение его губ? Поддавшись неожиданному порыву, он обнял ее, прижал к себе, поцеловал в лоб — и сразу испугался. Она внезапно побледнела и закрыла глаза, так что длинные ресницы темной каймой легли на бледные щеки. Руки ее бессильно повисли вдоль тела. Прикосновение полудетской груди дрожью пронзило Эшерста. «Мигэн», — шепнул он и выпустил ее из объятий. В тишине резко прозвенел дрозд. Вдруг девушка схватила руку юноши, поднесла ее к своей щеке, к сердцу, к губам, страстно поцеловала и помчалась прочь меж обомшелыми стволами яблонь, пока они не скрыли ее от Эшерста.
Эшерст уселся на кривой ствол дерева, пригнувшийся почти к самой земле, и растерянно, охваченный дрожью и волнением, уставился на яблоневые ветки, которые только что венчали ее головку. Там среди розовых бутонов одинокой звездой белел распустившийся цветок…
Что он наделал! Как он мог дать красоте так околдовать себя? Или тут виною весна?.. Он чувствовал себя странно счастливым, несмотря на угрызения совести, и торжествовал. Его тело снова пронзила сладостная дрожь, неясное предчувствие. Это было началом — чего? Его кусали комары, танцующие мошки лезли ему в рот, но весна жила и дышала вокруг. Звонче куковали кукушки, пели дрозды, громче стучали дятлы, и солнце запуталось в яблоневых ветвях, как только что запутались ее волосы…
Он встал и вышел из сада: ему нужно был пойти на простор, в открытое поле, чтобы привыкнуть к новым ощущениям. Он ушел далеко в заросли вереска, и сорока, сорвавшись с высокого бука, веселым вестником помчалась впереди него.
Ни об одном мужчине (любого возраста, начиная с пяти лет) нельзя с уверенностью сказать, что он никогда не был влюблен. Эшерст был влюблен в своих партнерш на уроках танцев, в свою гувернантку, в разных барышень во время летних каникул, — пожалуй, он никогда не жил без любви, постоянно испытывая какое-нибудь более или менее выдуманное увлечение. Но то, что охватило его сейчас, не было выдумкой. Это было совсем новое чувство, до жути прекрасное сознание своей совершенной мужской силы. Держать в руках такой дикий цветок, прижимать его к своим губам, ощущать дрожь этого тонкого тела — какое наслаждение… и как неловко… Что делать? Как встретиться с ней? Его первая ласка была осторожной, почти холодной, но дальше так идти не могло. Он знал, знал по тому, как ее поцелуй обжег ему руку, по тому, как она прижалась к нему, что она любит его. Одних людей ожесточает слишком большая любовь по отношению к ним, но других, таких, как Эшерст, она размягчает, обезволивает, увлекает горячей волной чужого чувства, которое кажется им почти чудом.
И тут среди скал его охватило страстное желание еще полнее пережить те новые ощущения, которыми захлестнула его весна, и смутное, но весьма настойчивое беспокойство. То он вспыхивал от гордости, радуясь, что завоевал это чудесное доверчивое сероглазое существо, то вдруг говорил себе серьезно и трезво: «Это все хорошо, мой мальчик… Но ты понимаешь, что делаешь? Знаешь, чем это кончается?»
Он не заметил, как наступили сумерки, как помрачнели темные скалы, похожие на древнеассирийские постройки. И голос природы шептал: «Перед тобой открывается новый мир!» Так иногда человек, встав в четыре часа утра, выходит в поле весенним утром: звери, деревья, птицы — все удивленно глядят на него, и ему кажется, будто вселенная только что создана заново…
Эшерст сидел на камнях, пока не прозяб, потом спустился по обомшелым глыбам на заросшую вереском тропу, прошел лугом и снова вернулся в сад. Там он зажег спичку и посмотрел на часы. Скоро двенадцать. Сад казался темным и страшным, совсем не похожим на приветливый, полный птичьих голосов солнечный мир, каким он был шесть часов назад. И вдруг Эшерст взглянул на свою «идиллию» чужими глазами, ему представилось, как миссис Наракомб, вытянув свою змеиную шею, быстро озирается вокруг и недовольно хмурится; он увидел насмешливо-недоверчивые грубые лица двоюродных братьев Мигэн, разъяренного тупого Джо. И только хромой Джим как будто смотрел тем же мягким страдальческим взглядом. А деревенская толпа! Сплетничающие кумушки, мимо которых он часто проходил, а потом его собственные друзья! Он вспомнил ироническую улыбку Роберта Гартона, с которой тот покинул его десять дней тому назад. Как противно! Эшерст вдруг возненавидел этот жестокий бескрылый мир, в котором он волей-неволей принужден жить.
Калитка, к которой он прислонился, стала серой, что-то забрезжило впереди, разлилось в синеватой тьме. Неужели луна? Он увидел ее за оградой, она была совсем красной, почти полной — странная луна! Он пошел через сад, по дорожке, пахнущей молодыми листьями, навозом и ночной сыростью. В глубине скотного двора сбились в кучу коровы. В темноте их загнутые рога казались бледными маленькими полумесяцами, упавшими концами вверх. Он осторожно открыл калитку. В доме было темно. Стараясь заглушить шаги, он прошел к крыльцу и, прислонясь к молодому тису, стал смотреть на окно Мигэн. Оно было открыто. Спала ли она, или, может быть, бодрствовала, огорченная его долгим отсутствием? Сова закричала в лесу, ее крик, казалось, наполнил собой ночь такая тишина стояла вокруг. Только неумолчное журчание ручья за садом нарушало ее. Днем — кукушка, а ночью — зловещие совы… Как удивительно они вторили смятению и восторгу в его душе! И вдруг Эшерст увидел девушку в окне. Он подошел немного ближе и шепнул: «Мигэн». Она отшатнулась, на миг скрылась, потом снова показалась в окне, наклонилась вниз. Он тихонько прокрался по траве, ушиб ногу о зеленую деревянную скамейку и затаил дыхание, испугавшись шума. В темноте смутно и неподвижно белело ее лицо, ее протянутая вниз рука. Он пододвинул скамью и бесшумно встал на нее. Вытянув руку, он как раз мог достать до ее руки, в которой она держала огромный ключ от входной двери. Он сжал эту горячую руку и почувствовал в ней холодное железо ключа. Он едва мог рассмотреть ее лицо, блеск зубов меж полуоткрытыми губами, растрепанные волосы. Она все еще была одета — бедняжка не спала, несомненно, ожидая его. «Мигэн, милая!» Ее горячие шершавые пальцы прильнули к его руке, лицо было грустное, растерянное. Если бы только можно было дотянуться до нее, хотя бы тронуть это лицо. Снова ухнула сова, потянуло запахом шиповника. Где-то залаяла собака, пальцы девушки разжались, и она отодвинулась в глубину комнаты.
— Покойной ночи, Мигэн!
— Покойной ночи, сэр!
Она исчезла. Вздохнув, он спрыгнул со скамьи и, усевшись на нее, стал снимать башмаки. Ничего не оставалось, как тихонько войти и лечь спать. Но он долго сидел неподвижно. Его ноги коченели от росы, но он ничего не замечал, опьяненный воспоминанием о растерянном, испуганно-улыбающемся лице и жарком пожатии горячих пальцев, вложивших холодный ключ в его ладонь.
5
Эшерст проснулся с таким ощущением, как будто он слишком много съел на ночь, хотя на самом деле он не ел ничего. Какой далекой, нереальной казалась ему вчерашняя романтика. Но утро было совсем золотое. Весна внезапно расцвела полным цветом; в одну ночь лютики — «золотики», как называли их дети, — заполонили весь луг, а в окно можно было видеть сад, сплошь залитый бело-розовым цветом яблонь.
Эшерст спустился вниз, почти боясь встретить Мигэн, но когда не она, а миссис Наракомб принесла ему завтрак, он был огорчен и разочарован. Быстрые глаза и тонкая шея женщины стали в это утро как будто еще подвижнее. Неужели она что-нибудь заметила?
— Значит, при луне гулять изволили, мистер Эшерст? А ужинали вы где-нибудь?
Эшерст покачал головой.
— Мы-то вам оставили поужинать, да у вас, видно, голова не тем была занята, а?
Неужели она издевалась над ним? В ее голосе еще была валлийская мягкость, не испорченная западным выговором. Если бы она знала! И он тут же решил: «Нет, нет, пора мне убираться. Не желаю я ставить себя в такое дурацкое, фальшивое положение».
Но после завтрака ему захотелось видеть Мигэн, и с каждой минутой это желание становилось все сильнее, хотя к нему примешивался страх, что ей наговорили неприятностей и испортили этим все. Нехорошо, что она не пришла, даже не показалась хоть на минутку. Любовные стихи, которые он с таким увлечением писал вчера после обеда под яблоней, показались ему столь жалкими, что он разорвал листок и раскурил от него трубку. Что он знал о любви, пока Мигэн не схватила и не поцеловала его руку? А теперь — чего он только не знает… Но писать об этом казалось безвкусицей. Он прошел в свою комнату, чтобы взять книгу, и сердце у него заколотилось: она была там и застилала постель. Он остановился в дверях и следил за ее движениями. И вдруг радость хлынула в его душу: он увидел, как она нагнулась и поцеловала подушку в том месте, где была вмятина от его головы. Как показать ей, что он видел это трогательное проявление любви! Но если она вдруг услышит, что он потихоньку уходит, — будет еще хуже. Она подняла подушку, как будто не решаясь сгладить отпечаток его щеки, но вдруг уронила ее и быстро обернулась.
— Мигэн!
Она приложила ладони к щекам, но глаза ее прямо и бестрепетно погрузились в его глаза. Никогда раньше он не видел так ясно глубину, чистоту и трогательную преданность этих влажных, как будто росой омытых глаз. Он еще нашел силы пролепетать:
— Спасибо, что вы… так мило с вашей стороны было ждать меня вчера вечером!
Она ничего не ответила, и он растерянно забормотал:
— Я… я бродил в скалах… ночь была замечательная. Я… мне только нужно тут взять книжку…
Но при мысли о том, как она только что целовала его подушку, у него закружилась голова, и он бросился к девушке. Касаясь губами ее глаз, он подумал в странном восторге: «Теперь все кончено… вчера все было случайно, а сейчас — все кончено!» Девушка не уклонялась от его губ, а они уже двигались вниз, пока не встретились с ее губами. Этот первый настоящий поцелуй любви — необычайный, чудесный, все же почти невинный — чье сердце он поразил больше?
— Приходи сегодня ночью под большую яблоню, когда все лягут спать. Мигэн, обещай…
— Обещаю! — шепнула она чуть слышно.
Но, испугавшись ее бледности, испугавшись того, что случилось, он отпустил ее и ушел вниз. Да, теперь кончено. Он принял ее любовь, он дал понять, что любит ее.
Он прошел к зеленой скамье, без книги, за которой ходил, и сидел, бесцельно глядя вдаль, торжествуя и раскаиваясь, не замечая, как кипит за его спиной работа на ферме. Он не представлял себе, сколько он просидел так, вне времени и пространства, как вдруг увидел Джо, стоявшего справа от него за его спиной. Парень, очевидно, только что вернулся с тяжелых полевых работ. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, громко сопя, с красным, как заходящее солнце, лицом, с засученными рукавами синей рубахи, открывавшими мускулистые руки, цветом и рыжим пушком напоминавшие кожу персика.
Его красные губы были полуоткрыты, голубые глаза с льняными ресницами устремлены на Эшерста.
— Ну, Джо, вам что-нибудь надо от меня? — насмешливо спросил тот.
— Да.
— А что такое?
— Уезжайте отсюда. Вы нам не нужны.
Лицо Эшерста, всегда несколько высокомерное, приняло самое надменное выражение.
— Очень мило с вашей стороны, но я, знаете ли, предпочитаю, чтобы мне об этом сказали другие.
Парень подошел еще ближе, так что Эшерст почувствовал залах его разгоряченного работой тела.
— Зачем вы тут живете?
— Потому что мне так нравится.
— Вам, небось, перестанет нравиться, когда я вам прошибу голову…
— Да что вы? А когда вы изволите это сделать?
Джо не ответил и только еще пуще засопел. Его глаза сверкали, как у разъяренного молодого бычка. Вдруг судорога исказила его лицо.
— Мигэн вас знать не хочет…
Порыв ревности, презрения и злобы к этому толстому сопящему мужлану смел все самообладание Эшерста. Он вскочил и отбросил скамью ногой.
— Убирайтесь к чертям, слышите?
И не успел он договорить, как в дверях дома показалась Мигэн с крохотным коричневым щенком на руках. Она быстро подошла к Эшерсту.
— У него синенькие глазки! — сказала она.
Джо отвернулся и пошел прочь. Его затылок побагровел.
Эшерст поднес палец к мордочке маленького коричневого существа, свернувшегося в ее руках. Как уютно ему было около нее!
— Он уже любит вас. О Мигэн, все любят вас!
— Пожалуйста, скажите, что вам говорил Джо?
— Он велел мне уехать, потому что вы не хотите, чтобы я здесь жил.
Она топнула ногой и взглянула на Эшерста. От этого взгляда, полного обожания, у него дрогнули все нервы, как будто он увидел бабочку, обжегшую крылья.
— Сегодня ночью, — шепнул он. — Не забывайте!
— Нет. — И, прижавшись лицом к толстому тельцу щенка, она убежала в дом.
Эшерст пошел по дорожке. У изгороди на лугу он увидел хромого пастуха с коровами.
— Чудесный день, Джим!
— Ага… Хороша погода для травы. Нынче дуб будет цвести раньше, чем ясень, а когда дубы цветут раньше…
Эшерст лениво перебил его:
— Скажите, где вы видели страшного цыгана, Джим?
— Да как будто он прошел вон там, под большой яблоней.
— И вы действительно верите, что он был там?
Хромой ответил не сразу.
— Да как сказать… не пойму, был он там или нет. Показалось, будто так, а кто его знает…
— А как вы думаете, отчего он вдруг появился?
Хромой понизил голос.
— Болтают-то, будто старый мистер Наракомб сам был из цыган. Может, это все сказки… Да, цыгане, знаете, такой народ: держатся друг за друга крепко. Может, они знали, что он помирает, — вот и послали привидение за ним. Так мне думалось…
— А какой он был?
— У него все лицо волосами обросло, и шел он вот так, будто скрипку держал. Говорят, что привидений не бывает, да я-то заметил, как у этого вот моего пса шерсть дыбом встала… А сам-то я плохо видел…
— А луна тогда была?
— Да, почти полная… Только она едва-едва поднялась и там, за деревьями, будто золотом тронула.
— Вы верите, что привидения предвещают несчастье?
Хромой сдвинул шапку на затылок. Его пронзительные глаза строго посмотрели на Эшерста.
— Мы об этом ничего сказать не можем. Только всегда от них беспокойство. Есть вещи, каких нам не понять, вот что! И которые люди все видят, а которые не видят ничего. Вон наш Джо, к примеру сказать, он у себя под носом ничего не увидит, да и те, другие парни тоже ничего не понимают. А возьмите нашу Мигэн: она все насквозь видит, где что есть и даже больше, чем есть, все видит…
— Она очень чуткая, это верно.
— Как вы сказали?
— Чуткая, говорю, значит, чувствует все очень тонко.
— А-а… Да… да… Сердце у ней любящее.
Эшерст почувствовал, как краска залила его лицо, и вытащил кисет, чтобы скрыть смущение.
— Закуривайте, Джим!
— Благодарствуйте, сэр. Да, таких, как она, вряд ли одна на сотню найдется.
— Наверно, — коротко ответил Эшерст, затянул кисет и пошел прочь.
«Любящее сердце…» Да. А он-то что делает? Какие у него намерения, как принято говорить, по отношению к этой девушке с любящим сердцем? Эта мысль преследовала его, когда он бродил по полю, где среди желтых лютиков паслись рыжие телята, а высоко в небе летали ласточки. Да, в этом году дубы зацветут прежде ясеней. Уже ветви стали золотисто-коричневыми, и каждое дерево отливало другим тоном. Куковала кукушка, тысячи птичьих голосов звенели в саду, светлыми переливами играли ручьи. Древние верили в золотой век, в сад Гесперид… На рукав Эшерста уселась оса — «осиная матка». «Если убить ее, то на две тысячи ос меньше будет в конце лета точить яблоки». Но кто мог бы в такой день, с сердцем, переполненным любовью, убить живое существо? На лужайке пасся крепкий рыжий бычок. Эшерст нашел в нем необычайное сходство с Джо. Но бычок не обратил никакого внимания на чужого. Он тоже, вероятно, был слегка опьянен пением птиц и золотом луговых цветов под его короткими ногами. Эшерст пошел к ручью, туда, где подымался холм с каменистой вершиной. Под серой скалой трава была расцвечена синими колокольчиками, и дикие яблони стояли в полном цвету.
Эшерст бросился в траву. Так непохож был тихий тенистый уголок под скалой на яркий блеск полей, залитых золотом расцветающих дубов, лютиков и солнца… только зовы кукушек и журчание ручья были те же. Долго он лежал так, следя за солнечными пятнами, пока яблоневые деревья не бросили длинную тень на синие колокольчики. Вокруг никого не было, только жужжали пчелы. Утренний поцелуй и свидание под большой яблоней, которое ждало его этой ночью, кружили ему голову. Вот в таком уголке, наверно, жили фавны и дриады, прятались нимфы, белые, как цветы яблони, а остроухие, коричневые, как обомшелые камни, фавны, лежа в траве, подстерегали их….
Кукушки все еще куковали, и ручей шумел, когда Эшерст проснулся. Солнце зашло за серую скалу, прохладная тень одела холм, и кролики выбежали на лужок. «Сегодня ночью…» — подумал он. В нем что-то трепетало, распускалось и оживало, как оживала и распускалась природа под чьей-то невидимой рукой. Он встал и сорвал веточку дикой яблони. Бутоны походили на Мигэн — свежие, дикие, розоватые, как редкостные ракушки, и распускающиеся цветы были, как ока, — чистые, дикие, трогательные. Он продел ветку в петлицу. И радость, весенняя радость вылилась в громком счастливом вздохе.
Кролики испуганно ускакали прочь.
6
Было почти одиннадцать часов, когда Эшерст, спрятав в карман «Одиссею», которую он, не читая, целый час держал в руках, пробрался через дворик к саду. Месяц, совсем золотой, только что встал над холмом и властным дозорным оком глядел сквозь темную сетку полунагих ветвей ясеня. Под яблоневыми деревьями было темно, и Эшерст остановился, ища тропу, чувствуя несмятую траву под ногами. Позади него с глухим хрюканьем зашевелилось что-то темное, и потом три большие свиньи снова улеглись одна рядом с другой у ограды. Он прислушался. Ветра не было, но журчащий тихий лепет ручейка слышался еще яснее, чем днем. Какая-то птица, он не смог бы сказать, какая, кричала: «Пип-пип… Пип-пип…», неумолчно и однообразно; он мог слышать далекий-далекий крик козодоя, уханье совы. Эшерст сделал шаг или два и снова остановился, пораженный живой матовой белизной у себя над головой. На темных, неподвижных деревьях бесчисленные цветы и почки, неясные и нежные, ожили под ворожбой вкрадчиво льющегося лунного света. Странное ощущение их живого присутствия возникло у него, будто миллионы белых ночных бабочек или духов прилетели и опустились меж темным небом и еще более темной землей, раскрывая и складывая крылья у самых его глаз. Восхищенный этой красотой, беззвучной, лишенной аромата, мимолетной, он чуть не позабыл, зачем пришел в сад. Изменчивое очарование, одевавшее землю днем, теперь, когда опустилась ночь, не исчезло, а лишь приняло новый облик. Он пробирался сквозь чащу стволов и ветвей, покрытых этой живой, рассыпающейся белизной, пока не подошел к огромной яблоне. Да, это она, даже в темноте ее не спутать с другими: почти вдвое толще и выше всех, она низко наклонилась над ручьем, над всей лужайкой. Под густыми ветвями он остановился, прислушиваясь. Все те же звуки да еще слабое хрюканье сонных свиней. Он положил руку на сухое, почти теплое дерево — от шероховатого, замшелого ствола шел слабый, чуть влажный запах. Придет ли она? Придет ли? И среди этих трепещущих, призрачных, околдованных месяцем деревьев его охватило тревожное сомнение. Все здесь казалось неземным, не для земных влюбленных, все было как будто создано для фавна и нимфы, для небожителей, а не для него и этой молоденькой деревенской девушки. Может быть, ему стало бы легче, если б она не пришла? Но все время он прислушивался. Все та же неизвестная птица тянула на одной ноте: «Пиппип… Пип-пип…», слышалась озабоченная болтовня ручья, на который луна бросала взгляды сквозь сплетенные ветви деревьев, словно сквозь решетку тюрьмы. Цветы у самого его лица, казалось, оживали с каждым мгновением в таинственной белой красоте, точно ожидая чего-то вместе с ним. Он сорвал веточку, прижал ее к лицу. Три цветка… Какое святотатство сорвать цветок плодового дерева, нежный, нетронутый, юный цветок, и отбросить его. Вдруг он услышал, как скрипнула калитка; потом раздался шорох, хрюканье свиней; прислонившись к стволу, он прижал руки к обомшелой коре и затаил дыхание. Бесшумно, словно дух, она скользнула меж деревьями. Он увидел ее совсем рядом — ее темная фигура слилась со стволом яблони, бледное лицо — с цветущими ветвями. Она стояла совсем тихо, пристально глядя на него. «Мигэн!» — шепнул он и протянул руки. Она бросилась прямо к нему на грудь. Эшерст услышал биение ее сердца совсем близко, и тут он испытал всю полноту страсти, всю силу рыцарского чувства. Она была не из его круга, так проста, так молода и опрометчива, такая влюбленная и беззащитная; как же он мог не быть ее защитником в темноте? Но она была самой природой во всей ее простоте и красоте, такой же частью весенней ночи, как и эти живые лепестки, — как же не взять все, что она отдавала ему, как не отпраздновать весну в ее и своем сердце? И, колеблясь между этими двумя чувствами, он крепко обнял ее и поцеловал ее волосы. Как долго они простояли так, не говоря ни слова, он не знал. Ручей продолжал свою болтовню, по-прежнему кричала сова, и луна взбиралась все выше и становилась все бледнее; цветы вокруг них и над ними сияли задумчивой живой красотой. Их губы отыскали друг друга. Стоило только заговорить — и все было бы нарушено. У весны нет речей, а только шорох и шепот. У весны есть то, что лучше всяких слов, в распускающихся цветах и листьях, в беге ее потоков, в нежном неустанном стремлении. Иногда весна приходит наяву и стоит, как тайный свидетель, обнимая влюбленных, возлагая на них свои волшебные персты, так что, прижав губы к губам, они забывают все, кроме поцелуя. Сердце девушки билось у его груди, губы трепетали на его губах, и Эшерст ни о чем не думал — он испытывал одно блаженство: да, Судьба предназначила ее для него, нельзя шутить с Любовью! Но когда их губы со вздохом разомкнулись, снова началось раздвоение. Только страсть теперь вспыхнула сильнее всех рыцарских чувств, и он вздохнул.
— О Мигэн! Зачем ты пришла?
В ее глазах отразились обида, удивление.
— Сэр, ведь вы же меня просили.
— Не зови меня «сэр», моя радость!
— Как же мне вас звать?
— Просто Фрэнк.
— Я не могу… Нет, нет…
— Но ты меня любишь, да?
— Как же мне не любить вас? Мне бы только быть с вами… и все…
— Все…
Так тихо, что он едва расслышал, она прошептала:
— Я умру, если не смогу быть с вами. Эшерст вздохнул всей грудью.
— Тогда останься со мной!
— О-о!
Взволнованный обожанием и восхищением, зазвеневшим в ее голосе, он продолжал шепотом:
— Мы уедем в Лондон. Я покажу тебе свет. И я позабочусь о тебе, даю слово, Мигэн. Я никогда не буду груб с тобою…
— Только бы мне быть с вами, только бы видеть вас… Он погладил ее волосы и горячо заговорил:
— Завтра я поеду в Торки и достану денег: куплю для тебя платье, чтобы тебе не выделяться из толпы, я мы убежим. А когда мы попадем в Лондон, если ты меня и вправду любишь, мы, может быть, сейчас же и обвенчаемся.
В темноте он почувствовал, как взметнулись ее волосы, когда она тряхнула головой.
— Нет, нет. Я не могу. Я только хочу быть с вами… Я не стою вас…
Опьяненный собственным великодушием, Эшерст зашептал еще горячее:
— О нет, это я не стою тебя… Ах, Мигэн, милая, скажи, когда ты меня полюбила?
— Когда я увидела вас на дороге и вы взглянули на меня. В первый же вечер я полюбила вас, но я никогда не думала, что буду вам нужна…
Она опустилась на колени, пытаясь поцеловать его ноги,
Эшерст в ужасе содрогнулся, он поднял ее и крепко обнял, слишком потрясенный, чтобы говорить.
Она прошептала:
— Почему вы не позволяете?
— Нет, это я должен целовать твои ноги!
Она так улыбнулась, что у него на глазах выступили слезы… Ее бледное, озаренное лунным светом лицо было совсем близко от его лица, розовые полураскрытые губы были прекрасны нежной живой красотой яблоневого цвета.
И вдруг ее глаза расширились; с болезненным ужасом глядя мимо него, она вырвалась из его рук и прошептала:
— Смотрите!
Эшерст видел только сверкающий ручей, позолоченный месяцем терновник, влажный блеск буков, а за ними — неясные очертания озаренного луной холма. Позади него раздался ее леденящий шепот:
— Привидение… Страшный цыган!
— Где?
— Там, у камня, под деревьями…
Рассердившись, он перепрыгнул ручей и побежал к деревьям. Игра лунного света! Никого! Он бегал, спотыкаясь среди валунов и кустов терновника, ругаясь вполголоса и все же чувствуя что-то похожее на страх. Какая чушь! Как глупо! Он вернулся к яблоне. Но Мигэн уже не было: он услышал лишь шорох, хрюканье свиней, скрип калитки. Вместо нее — только старая яблоня. Он обхватил руками ствол. Какой контраст с ее гибким телом! Шершавый мох у лица — вместо ее нежных щек, и только запах, дикий, лесной, чуть-чуть похож на запах ее волос…
А над ним и вокруг него цветы яблони, еще более живые, еще ярче залитые лунным светом, казалось, сияли и дышали.
7
Выйдя из поезда на вокзале в Торки, Эшерст нерешительно пошел по набережной; этот курорт — один из лучших в Англии — был ему мало знаком. Он совсем позабыл о своем костюме и не замечал, что в нарядной толпе его толстая куртка, пыльные башмаки и помятая шляпа обращают на себя всеобщее внимание. Он отыскал отделение своего Лондонского банка и там наткнулся на первое препятствие. Его спросили, знает ли он кого-нибудь в Торки, кто мог бы удостоверить его личность. Он никого не знал. Тогда его попросили протелеграфировать в Лондон, в банк. По получении ответа отделение в Торки будет радо услужить ему. Подозрительность холодного делового мира слегка омрачила его радужные мечты. Но телеграмму он послал немедленно.
Почти напротив почты он увидел магазин дамского платья и со странным чувством стал разглядывать витрину. Покупка одежды для его деревенской красавицы показалась ему более чем неприятным занятием. Он вошел. Молоденькая продавщица подошла к нему. У нее были синие глаза и слегка озабоченное лицо.
Эшерст молча смотрел на нее.
— Что вам угодно, сэр?
— Мне нужно платье для молодой девушки.
Продавщица улыбнулась. Эшерст нахмурился: неуместность его просьбы показалась ему вдруг чудовищной.
Продавщица торопливо спросила:
— Какой фасон вы бы хотели? Что-нибудь модное?
— Нет, попроще.
— Какого роста эта девушка?
— Не знаю, приблизительно дюйма на два ниже вас.
— Вы мне не можете сказать объем ее талии?
Талия Мигэн…
— Н-ну, приблизительно средний размер.
— Хорошо, сию минуту!
Она ушла. Он растерянно разглядывал модели в окне, и внезапно ему показалось невероятным, что Мигэн — его Мигэн — может надеть другой наряд, вместо толстой шерстяной юбки, холщовой блузы и синего берета, в которых он привык ее видеть. Продавщица вернулась, неся целую охапку платьев, и Эшерст смотрел, как она прикидывала их к своей модной фигурке. Одно ему понравилось, вернее — понравился его серебристо-серый цвет, но представить себе Мигэн в этом платье было свыше его сил. Продавщица снова ушла и снова принесла несколько платьев. Но на Эшерста напало какое-то оцепенение. Как выбрать? Ведь ей еще нужна шляпа, и башмаки, и перчатки. А вдруг во всем этом наряде она будет вульгарной: нарядные платья как-то всегда простят деревенских людей. Почему бы ей не поехать в своей одежде? Нет! Это вызовет слишком много подозрений… Ведь он хочет увезти ее по-настоящему, тайно. Он поглядел на продавщицу. «Интересно, угадала ли она, в чем дело, не считает ли она меня негодяем?» — подумал он.
— Нельзя ли отложить для меня вот это серое, — смущенно проговорил он. — Я не могу сейчас решить. Я зайду еще попозже.
Продавщица вздохнула.
— О, пожалуйста. Это очень изящный костюм. Не думаю, чтоб вы нашли что-либо более подходящее.
— Конечно, конечно… — пробормотал Эшерст и вышел из магазина.
Он снова ушел от холодной подозрительности окружающих и, облегченно вздохнув, погрузился в мечты. Ему виделось доверчивое прелестное существо, с которым он свяжет свою жизнь. Он представлял себе, как ночью он потихоньку выскользнет с ней из дома и по залитому лунным светом лугу пойдет, обнимая ее одной рукой, а в другой неся ее новое платье, и как на рассвете, в дальнем лесу, она переоденется и ранний поезд с маленькой станции увезет их в свадебное путешествие, как их поглотит огромный Лондон, где мечты о счастье станут явью.
— Фрэнк Эшерст! Откуда ты? С самого регби не видались с тобой, старина!
Нахмуренное лицо Эшерста прояснилось: навстречу ему улыбались синие глаза на веселом молодом лице. Казалось, они излучали такое же солнечное сияние, как то, что покрыло легким загаром щеки юноши.
— Фил Холлидэй, какая встреча! — обрадовался Эшерст.
— Ты что здесь делаешь?
— Да ничего, просто приехал за деньгами. Я живу на ферме.
— Ты где завтракаешь? Пойдем завтракать к нам. Я тут со своими сестрицами. Они поправляются после кори.
И подхваченный ласковой рукой друга, Эшерст пошел за ним. Они поднялись на холм, спустились вниз и вышли за пределы города. В голосе Холлидэя, как солнце на его лице, играла неудержимая радость жизни. Он рассказывал, что, кроме плавания и гребли, «в этой заплесневелой дыре заняться нечем». Так они подошли к небольшой группе домов, стоявших над морем. Холлидэй повел его к своему отелю.
— Пойдем в мою комнату, там можешь умыться. Завтрак мигом будет готов.
Эшерст посмотрел на себя в зеркало. После комнатки на ферме, где он обходился одной гребенкой и двумя рубашками на смену, эта комната со щетками, гребнями, грудой одежды показалась ему необычайно роскошной.
«Странно, — подумал он, — как-то не отдаешь себе отчета…» — но в чем именно он не отдавал себе отчета, он сказать не мог.
Он прошел с Холлидэем в столовую, и три синеглазые белокурые головки разом обернулись, когда Холлидэй весело крикнул:
— Вот Фрэнк Эшерст, — а это мои маленькие сестренки.
Две были действительно маленькие: лет одиннадцати и десяти. Третьей, высокой и светловолосой, было лет семнадцать. Ее тонкие брови казались темнее волос и слегка подымались к вискам. Нежную бело-розовую кожу чуть тронуло солнце. Голоса у всех трех были звонкие и веселые, как у их брата. Они встали, быстро подали Фрэнку руки и, критически окинув его взглядом, сразу отвели глаза и стали говорить о том, что предполагалось делать в этот день. Настоящая Диана с подругами-нимфами! После жизни на ферме их живой, звонкий и чистый говор, непринужденные и все-таки изысканные манеры показались Эшерсту сначала странными, а потом настолько привычными, что сразу отдалили от него все, с чем он только что расстался. Маленьких девочек звали Сабина и Фрида. Старшую — Стелла.
— Послушайте, — вскричала вдруг Сабина, — пойдемте с нами ловить креветок, это страшно весело!
Этот неожиданно дружеский тон смутил Эшерста.
— Боюсь, что мне придется к вечеру уехать, — пробормотал он.
— О-о-о… Какая жалость!
— А разве нельзя задержаться?
Это сказала Стелла. Эшерст посмотрел на нее и с улыбкой покачал головой. Какая она хорошенькая!
— Ну останьтесь! — жалобно протянула Сабина.
Потом разговор перешел на плавание.
— А вы далеко умеете плавать?
— Мили две проплыву.
— Ого!
— Вот здорово!
— Неужели…
И три пары синих глаз, восторженно устремленных на него, вдруг подняли его в собственном мнении. Ощущение было необычайно приятным.
— Послушай, ты просто обязан остаться и пойти с нами на пляж… Здесь бы и переночевал, — сказал Холидэй.
— Да, да, непременно!
Но Эшерст в ответ только улыбнулся и покачал головой. Его засыпали расспросами относительно его спортивных достижений. Выяснилось, что он в университете греб на гонках, играл в футбольной университетской команде и получил первый приз за бег на одну милю. Он встал из-за стола героем. Обе девочки стали настаивать, чтобы он посмотрел их пещеру в скале, и все отправились туда — Эшерст впереди с младшими, а Стелла с братом сзади.
Полутемная, сыроватая пещера была похожа на все пещеры, но зато там было озерцо, где копошились таинственные существа, которых можно было поймать и посадить в бутылку.
На стройных и загорелых ножках Сабины и Фриды не было чулок. Они быстро вошли в воду и стали уговаривать Эшерста присоединиться к ним, чтобы ловить всякую всячину. Он тоже снял башмаки и носки. Тот, кто чувствует красоту, часто забывает о времени, особенно когда рядом барахтаются в воде прелестные дети, а юная Диана, стоя на краю озерца, с восторгом встречает пойманную добычу. Эшерст вообще никогда не замечал, как бежит время. Он ахнул, когда, случайно вынув часы из кармана, увидел, что уже четвертый час. Сегодня, значит, не придется ему получить деньги: банк закроется прежде, чем он успеет добежать.
Девочки заметили выражение его лица и радостно запрыгали.
— Ура! Теперь вам придется остаться.
Эшерст ничего не ответил. Ему представилось лицо Мигэн, представилось, как она вздрогнула, с какой жадностью ловила его слова, когда он шепнул ей во время завтрака: «Я еду в Торки, милая, все куплю и к вечеру вернусь. Если будет хорошая погода, мы можем уйти сегодня ночью. Жди меня!»
Что она теперь подумает! Он вдруг заметил, что на него спокойно, испытующе смотрят глаза молодой девушки, такой стройной, такой белокурой и так похожей на Диану. Если бы эти синие глаза под слегка приподнятыми бровями могли проникнуть в его мысли, могли увидеть, что он собирался сделать этой ночью! Легкий возглас возмущения — и он остался» бы один в пещере. И со странным чувством стыда, недовольства и непонятной грусти Эшерст спрятал часы в карман и отрывисто сказал:
— Да. На сегодня я застрял.
— Ура-а! Значит, вы можете пойти с нами купаться.
Невозможно было устоять перед радостью этих хорошеньких девочек, перед улыбкой Стеллы, перед веселым возгласом Холлидэя: «Вот здорово, старина! Я тебе дам все, что нужно на ночь». Но тоска и угрызения совести вдруг охватили Эшерста, и он угрюмо сказал:
— Мне нужно послать телеграмму.
Ловля была забыта, все пошли в гостиницу. Эшерст послал телеграмму на имя миссис Наракомб: «Сожалею, задержался до утра, вернусь завтра». Наверно, Мигэн поймет, что у него было много дел. Ему стало легче на душе. День был чудесный, теплый, море спокойно синело, плавать Эшерст любил до самозабвения. Ему льстило внимание прелестных детей, радостно было смотреть на них, на Стеллу, на солнечную улыбку Холлидэя. Все ему казалось слегка нереальным и все же самым естественным на свете — как будто, перед тем как убежать с Мигэн, он в последний раз окунулся в нормальную жизнь.
Холлидэй дал ему купальный костюм, и все пошли к морю. Мужчины раздевались за одной скалой, девочки за другой. Эшерст первым бросился в воду и поплыл широкими бросками в море, стараясь оправдать свою репутацию хорошего пловца. Обернувшись, он увидел Холлидэя, плывшего вдоль берега, и трех девочек, которые брызгались, окунались и плескались на мелком месте. Он всегда презирал таких купальщиц, но сейчас их беспомощность показалась ему очаровательной: он даже гордился, что среди них он — единственный настоящий пловец. Он поплыл к ним, но вдруг, подумал, что им, может быть, неприятно вторжение чужого в их веселую компанию, и ему тоже было неловко подплывать близко к светловолосой тоненькой русалке. Однако Сабина тотчас начала упрашивать его научить ее плавать, и обе маленькие девочки настолько завладели им, что он даже не разглядел, стесняется ли его Стелла или нет. Вдруг он услышал легкий вскрик и обернулся. Стелла стояла по пояс в воде, с испуганным, мокрым лицом, протянув вперед тонкие белые руки.
— Посмотрите на Фила… ему кажется, плохо… посмотрите…
Эшерст сразу увидел, что Филу действительно нехорошо. Он изо всех сил старался выбраться с глубокого места, ярдах в ста от берега. Вдруг он вскрикнул, взмахнул руками и пошел ко дну. Эшерст увидел, как Стелла бросилась к нему, и, крикнув: «Назад, Стелла, назад!» — сам кинулся к Холлидэю. Никогда он еще не плавал так быстро. Он подплыл к Холлидэю как раз в тот миг, когда юноша вторично всплыл на поверхность. Очевидно, его схватила судорога. Вытащить его было нетрудно, так как он совсем не сопротивлялся.
Стелла, остановившаяся от окрика Эшерста, помогла ему вытащить брата на песок и вместе с Фрэнком стала растирать его неподвижное тело. Младшие испуганно следили за ними. Скоро Холлидэй стал улыбаться и слабым голосом заявил, что считает это большим свинством со своей стороны. Если Фрэнк даст ему руку, он сможет дойти до скалы, где лежит его платье. Эшерст помог ему встать и взглянул в мокрое, заплаканное и раскрасневшееся лицо Стеллы, на котором не было и тени прежнего спокойствия. «Я назвал ее просто Стеллой, подумал Эшерст, — интересно, не рассердилась ли она?»
Когда они одевались, Холлидэй тихо сказал:
— А ведь ты спас мне жизнь, дружище!
— Чушь!
Одевшись, но еще не вполне успокоившись, все отправились в отель и сели пить чай. Холлидэй ушел в свою комнату полежать. Сабина вдруг перестала есть хлеб с вареньем и объявила:
— Послушайте, ведь вы настоящий герой!
— Ну, конечно! — подхватила Фрида.
Эшерст заметил, что Стелла опустила глаза. Он встал и смущенно отошел к окну. Он услышал, как Сабина горячо зашептала: «Знаете, давайте все заключим кровный союз. Где твой ножик, Фрида?» Краешком глаза Эшерст видел, как все три девочки торжественно укололи себе палец и выдавили по капле крови на бумажку. Он повернулся и пошел к двери. Но его моментально поймали.
— Вот упрямец! Не удирайте!
Две младшие повисли на его руках и потащили к столу. На клочке бумаги была кровью нацарапана какая-то фигурка и три имени: Стелла Холлидэй, Сабина Холлидэй и Фрида Холлидэй, — тоже выведенные кровью, лучами сходились к ней.
— Вот это вы, — объяснила Сабина, — нам надо еще поцеловать вас!
— О-обязательно, — серьезно подтвердила Фрида.
И прежде чем Эшерст успел опомниться, к его щеке прильнули мокрые волосы. Кто-то укусил его в нос, ущипнул в левую руку, маленькие зубки мягко захватили его щеку. Потом его выпустили, и Фрида крикнула:
— Ну, а теперь Стелла!
Эшерст, красный и растерянный, уставился через стол на красную и растерянную Стеллу. Сабина фыркнула.
— Ну, скорее, — крикнула Фрида, — а то вы нам портите все дело!
Странное смущение горячей волной охватило Эшерста, но он сказал почти спокойно:
— Замолчите, бесенята!
Сабина снова фыркнула.
— Ну, если не хотите целоваться, пусть она поцелует свою руку, а вы ее приложите к носу. Так тоже считается!
К удивлению Эшерста, девушка поцеловала свою руку и протянула ему. Он торжественно взял эту тонкую прохладную ладонь и приложил к щеке. Обе девочки захлопали в ладоши.
— Теперь мы обязаны всегда спасать вам жизнь! — объявила Фрида. Стелла, дай мне еще чашку чаю, только не такого слабого.
Все вернулись к чайному столу, а Эшерст свернул бумажку с подписями и спрятал в карман. Разговор перешел на корь и ее хорошие стороны — вволю апельсинов, меда и никаких уроков.
Эшерст молча слушал, обмениваясь со Стеллой дружескими взглядами. Ее лицо снова стало ясным, золотисто-розовым под легким загаром. Эшерсту было необычайно приятно, что эта прелестная семья так ласково приняла его в свою среду, и он с упоением любовался хорошенькими личиками девочек. После чая обе младшие начали возиться с гербарием, а он подошел к креслу у окна, где сидела Стелла, и, разговорившись с ней, стал рассматривать ее акварельные рисунки. Все казалось ему чудесным сном. Время остановилось, все было забыто, все, что, не касалось настоящего, потеряло свое значение. Завтра он вернется к Мигэн, и от этого чудесного сна останется только клочок бумаги, где кровью нацарапаны имена этих детей. Детей… но Стелла уже не ребенок, она одних лет с Мигэн!
В ее голосе, смущенном, сдержанном, отрывистом, проскальзывали дружеские нотки, и когда Эшерст умолкал, ей говорилось как-то легче. В ней было что-то целомудренно чистое и холодное — спящая красавица…
За обедом, к которому Холлидэй, наглотавшийся морской воды, не вышел. Сабина неожиданно объявила:
— А я буду называть вас просто Фрэнк.
— Фрэнк, Фрэнк, Фрэнк! — запела Фрида. Эшерст засмеялся и поклонился.
— Каждый раз, как Стелла назовет вас «мистер Эшерст», она заплатит штраф. Глупые церемонии!
Эшерст посмотрел на Стеллу. Ее лицо медленно стал заливать румянец. Сабина расхохоталась, а Фрида крикнула:
— Го-го! Смотрите на нее! Пожар! Пожар!
Эшерст схватил обеими руками по пряди светлых волос.
— Послушайте, шалуньи! Оставьте Стеллу в покое, не то я вас свяжу друг с другом.
— Ух, — завизжала Фрида в восторге, — какой злюка!
А Сабина лукаво заметила:
— Вы-то зовете ее просто Стеллой!
— А разве нельзя? Имя чудесное!
— Пожалуйста! Мы вам позволяем.
Эшерст выпустил белокурые пряди. Стелла! Как она назовет его после этих шуток? Но она не обращалась к нему по имени, и позже, когда все собрались идти спать, он нарочно сказал:
— Спокойной ночи, Стелла!
— Спокойной ночи, мист… спокойной ночи, Фрэнк. Знаете, все-таки вы молодец…
— Ну, ерунда!
Ее рука внезапно крепче сжала его руку и тотчас же отпустила.
Эшерст неподвижно стоял в опустевшей столовой. Прошлой ночью под ожившей яблоней он прижимал к себе Мигэн, он целовал ее глаза и губы. И он вздохнул от нахлынувших воспоминаний. Этой ночью должна была начаться его жизнь с ней — с ней, которая только и мечтала быть с ним! А теперь пройдут еще сутки, даже больше, только оттого, что он забыл взглянуть на часы. Зачем он подружился с этими чистыми девочками как раз тогда, когда он собирается распроститься с чистой, невинной жизнью? «Но ведь я хочу жениться на ней, подумал он, — я обещал…»
Он взял Свечу, зажег ее и поднялся к себе в спальню. Когда он проходил мимо дверей смежной комнаты, где лежал Холлидэй, тот его окликнул:
— Это ты, дружище? Зайди ко мне на минутку. Холлидэй сидел в постели, курил трубку и читал.
— Посиди со мной!
Эшерст сел в кресло у открытого окна.
— Знаешь, — заговорил Фил, — я все думаю о том, что случилось. Говорят, что, когда человек тонет, перед ним сразу проносится вся жизнь. А со мной ничего этого не было. Видно, я еще не совсем тонул.
— А о чем ты думал?
Холлидэй на минутку смолк.
— Знаешь, — проговорил он очень спокойно, — я подумал об очень странной вещи: вспомнил одну девушку в Кембридже, с которой я бы мог… ну, ты понимаешь… И я обрадовался, что у меня по отношению к ней совесть чиста. Во всяком случае, дружище, тем, что я теперь вот здесь, я обязан тебе одному. Быть бы мне сейчас на дне. Ни постели, ни трубки — ничего бы не было… Послушай, как ты думаешь, что с нами делается после смерти?
— Угасаем, как гаснет пламя, — пробормотал Эшерст.
— Фу-у-у!
— Может быть, мы гаснем не сразу, померцаем и потухнем.
— Гм. Знаешь, это все ужасно мрачно… Кстати, надеюсь, мои сестрицы были милы с тобой?
— Необычайно милы!
Холлидэй положил трубку, закинул руки за голову и повернулся к окну.
— Да, они славные девчурки! — проговорил он.
Эшерст взглянул на улыбающееся лицо приятеля, освещенное слабым светом свечи, и вдруг вздрогнул. Да, Фил прав: он мог бы лежать там, на дне, и улыбка навеки покинула бы его ясное лицо. Его засосал бы морской песок… и ждал бы он воскресения из мертвых, — на девятый день, что ли, как говорится в писании. И улыбка Холлидэя показалась Эшерсту чудом, как будто в ней воочию виделось то, что отличает жизнь от смерти, — маленькое пламя, такое живое. Эшерст встал и мягко проговорил:
— Ну, тебе, по-моему, не мешает поспать. Потушить свечу?
Холлидэй схватил его руку.
— Послушай, старина, я не знаю, как это выразить, но, наверно, очень противно лежать мертвым! Покойной ночи, дружище!
Эшерст растроганно и взволнованно пожал ему руку и снова спустился вниз. Входная дверь была еще открыта, и он вышел на лужайку перед домом. Звезды ярко блестели на темной синеве неба, и в их неверном свете цветы сирени приобрели какой-то неописуемый, необычайный оттенок. Эшерст прижался лицом к душистой ветке, и перед его глазами встала Мигэн с крохотным коричневым щенком на руках. Он вспомнил слова Холлидэя: «Я подумал об одной девушке… ты понимаешь… и обрадовался, что у меня по отношению к ней совесть чиста». Эшерст отвел ветку сирени и стал ходить по лужайке, словно серая тень, которая обретала плоть, когда на нее падал свет фонарей. Снова он был с Мигэн у живой белизны распустившихся яблонь, у болтливого ручья, у синего, как сталь, затона, блестевшего при луне. Снова его охватило очарование ее поцелуев, ее обращенного к нему лица, на котором светилась горячая, преданная любовь, снова он чувствовал красоту и волнение той языческой ночи. Он остановился у сиреневого куста. Здесь ночь говорила не голосом ручья, а мощным гулом морского прибоя. Не было слышно птичьего щебета, уханья совы, крика козодоя, жужжания жуков. Где-то бренчал рояль, белые дома тяжелой громадой поднимались в темное небо, запах сирени наполнял воздух. В верхнем этаже отеля было освещено окно. На занавеске двигалась чья-то тень. И в чувствах Эшерста был такой сумбур, такая путаница, как будто любовь и весна, придавленные новыми переживаниями, пытались вновь найти дорогу к его сердцу и заглушались чем-то более острым и сильным. Эта девушка, которая назвала его Фрэнком и так порывисто пожала ему руку, — что бы сказала она, такая чистая и спокойная, о его дикой, беззаконной любви?
Эшерст опустился на траву и долго сидел, скрестив ноги в позе Будды, спиной к отелю. Неужто он действительно собирался украсть честь и невинность? Вдохнуть аромат полевого цветка… а потом, может быть, бросить его. «Вспомнил одну девушку в Кембридже, с которой я мог бы…» Он приложил ладони к траве, — она была еще теплая, чуть влажная и ласково коснулась его рук. «Что мне делать?» — подумал он. Быть может, Мигэн ждет его сейчас у окна и думает о нем, глядя на цветущие яблони. Бедная маленькая Мигэн. «Но почему бедная? — подумал он. — Ведь я люблю ее! Да люблю ли я ее действительно или просто меня тянет к ней, потому что она так хороша и так любит меня?.. Что же делать?..»
Рояль звучал глуше, звезды мигали чаще. Эшерст неподвижно, как зачарованный, смотрел на темное море. Когда он встал, он почувствовал, что совсем закоченел. Во всех окнах потух свет. Он вернулся в дом и лег спать.
8
Глубокий, без сновидений сон Эшерста был прерван громким стуком в дверь.
— Эй, завтрак готов! — послышался чей-то звонкий голос.
Он вскочил. Где он? Ага…
Когда он спустился вниз, все уже ели хлеб с вареньем. Ему было оставлено место между Сабиной и Стеллой. Сабина искоса следила за ним и вдруг нетерпеливо проговорила:
— Послушайте, давайте есть поскорее, ведь нам в половине десятого выезжать!
— Мы едем в Берри-Хэд, дружище, ты непременно должен ехать с нами.
«Поехать? — подумал Эшерст. — Нет, это невозможно. Мне нужно все купить и вернуться обратно». Он взглянул на Стеллу.
— Поедем с нами! — быстро проговорила она.
— Без вас никакого веселья не будет, — прибавила Сабина, а маленькая Фрида вскочила и стала за стулом Эшерста:
— Поедем, или я дерну вас за волосы.
«Один день… только день, — подумал Эшерст. — Надо все обдумать… Только один день». И он решительно сказал:
— Ну ладно! Оставь в покое мою гриву, шалунья.
— Урра-а…
Со станции он хотел послать вторую телеграмму на ферму, но порвал ее, сам не понимая почему. От Бриксэма они ехали в очень тесной коляске. Стиснутый между Сабиной и Фридой, Фрэнк касался коленями колен Стеллы. Девочки затеяли игру, и среди всеобщего смеха, шума и шуток его подавленное настроение совершенно исчезло: ему стало легко и радостно. В этот день, в который он решил было «все обдумать», он вообще ни о чем думать не желал. Они бегали взапуски, боролись, плескались в воде — плавать после вчерашнего никому не хотелось, — пели хором, играли в разные игры и съели дочиста все, что привезли с собой. На обратном пути обе маленькие девочки заснули, прислонившись к Фрэнку, а его колени снова касались колен Стеллы. Ему казалось невероятным, что всего сутки назад он никогда не видел этих трех белокурых головок. В поезде он говорил со Стеллой о стихах, узнал ее любимых поэтов и рассказывал ей о своих любимцах с приятным чувством превосходства. Вдруг она совсем тихо проговорила:
— Фил говорит, будто вы не верите в загробную жизнь, Фрэнк. Ведь это ужасно.
— Я не то что верю или не верю, я просто не знаю, что там, — в замешательстве сказал Эшерст.
— Я бы не перенесла этого, — быстро продолжала она. — Какой смысл тогда жить?
Эшерст видел, как хмурились ее тонкие красивые брови.
— Нельзя верить только ради того, чтобы утешать себя, — снисходительно заметил он.
— Но почему человек так хочет жить в будущем, если этого нет на самом деле?
И она пристально посмотрела ему в глаза.
Эшерст не хотел обижать ее, но желание выказать свое умственное превосходство заставило его сказать:
— Пока человек жив, он хочет жить до бесконечности, — это и есть сущность жизни. Но, должно быть, ничего другого за этим не кроется.
— Значит, вы совсем не верите в евангелие?
«Вот сейчас я ее по-настоящему обижу!» — подумал Эшерст.
— Я люблю Нагорную проповедь, потому что она красива и выдержала испытание временем, — сказал он.
— Но вы не верите в божественную сущность Христа?
Фрэнк отрицательно покачал головой, и когда она быстро отвернулась к окну, ему почему-то вспомнилось, как Ник передавал ему молитву Мигэн: «Боже, благослови нас всех и мистера Эшеса». Кто еще так будет молиться за него, кто, кроме той, которая, наверно, сейчас ждет его там, у дороги? «Какой я негодяй!» — вдруг подумал он.
Несколько раз в течение вечера он мысленно повторял эту фразу, так что в конце концов он, как это часто бывает, стал почти привыкать к мысли, что он негодяй. И, странно, он не мог сказать наверное, почему он негодяй: потому ли, что не собирается вернуться к Мигэн, или потому, что все-таки хочет вернуться к ней.
Вечером играли в карты, пока детей не услали спать. Тогда Стелла села за рояль. Эшерст сидел у окна, где было почти темно, и смотрел, как ее светлая головка и гибкая шея, освещенные двумя свечами, склонялись в такт движению рук. Она играла бегло и не особенно выразительно. Но какая это была картина! Золотистые волосы светлым нимбом окружали ее головку — настоящий ангел! Кто мог сгорать от диких желаний и страстных мыслей в присутствии этой светлой девушки, похожей на серафима? Она играла шумановское «Зачем?». Потом Холлидэй принес флейту, и очарование было нарушено. Они заставили Эшерста петь шумановские песни, и Стелла аккомпанировала ему, как вдруг, когда он пел «Я не сержусь…», показались две маленькие фигурки в голубых халатиках, пытавшиеся незаметно пробраться к роялю. Музыкальная часть вечера закончилась хохотом, беготней, и, как сказала Сабина, «было ужас до чего весело».
В эту ночь Эшерст почти совсем не спал. Он ворочался, думал и передумывал все без конца. Уютная домашняя обстановка, в которой он жил эти дни, обаяние этой семьи целиком захватили его, и жизнь на ферме, люди с фермы, — все, даже Мигэн, казалось ему чем-то нереальным. Неужто он действительно объяснялся ей в любви, и действительно обещал увезти ее, жить с ней вместе? Его, наверно, околдовала весенняя ночь и цветущие яблони. Но весеннее это безумие могло только погубить их обоих. Мысль о том, что эту простую и милую девушку, почти ребенка, он собирался сделать своей любовницей, приводила его сейчас в ужас, хотя кровь жарко волновалась при воспоминании о ней. «Ах, что я наделал, какой ужас, какой ужас!» — бормотал он. Обрывки шумановской мелодии звенели в его распаленном мозгу, и перед глазами снова вставала спокойная светловолосая головка Стеллы, ее тонкая фигурка в белом платье и ангельское сияние рассыпавшихся волос над гибкой шейкой. «Нет, я, наверно, сошел с ума… я сумасшедший, — в ужасе думал он. — Бедная маленькая Мигэн». «Боже, благослови нас всех и мистера Эшеса»… «Мне бы только быть с вами, только бы всегда с вами». И, уткнувшись лицом в подушку, Фрэнк не смог подавить внезапно нахлынувшие слезы. Не вернуться к ней — ужасно. А вернуться — еще того хуже…
В молодости всегда так: стоит только дать выход волнению, как оно постепенно теряет свою мучительность. Когда Фрэнк стал засыпать, у него мелькнула мысль:
«А что в сущности было? Несколько поцелуев… она забудет их через месяц!»
На следующее утро он получил деньги по чеку, но старательно избегал даже смотреть в сторону магазина, где продавалось то светло-серое платье. Вместо этого он купил для себя кое-что из необходимых вещей. Целый день он был в каком-то нелепом настроении, как будто злясь на себя. Вместо страстного томления последних двух дней наступила какая-то пустота, словно вся тоска изошла в слезах. После чая Стелла подошла к нему и, протягивая какую-то книгу, робко спросила:
— Вы читали это, Фрэнк?
Это была книга Фаррера «Жизнь Христа». Эшерст улыбнулся. Ее забота о его душе казалась ему смешной, но трогательной и вместе с тем заразительной: ему хотелось хотя бы оправдаться перед ней, если уж нельзя обратить ее в свою веру. Вечером, когда девочки вместе с братом чинили рыболовные снасти, он сказал:
— В основе всякой официальной религии, насколько я понимаю, всегда лежит идея о воздаянии — что ты получишь, если будешь хорошим. Как будто выпрашиваешь себе какие-то милости. По-моему, все это началось со страха.
Сидя на диване, Стелла училась делать морской узел на куске веревки. Она вскинула глаза:
— А по-моему, все это гораздо глубже.
Эшерсту снова захотелось показать свое превосходство.
— Вам так кажется, — сказал он, — но в нас сильнее всего именно желание получить сторицей. Вообще трудно в этом разобраться!
Она задумчиво сдвинула брови.
— Я не совсем вас понимаю! Но он упрямо продолжал:
— А вы подумайте и тогда вы поймете, что самые религиозные люди — те, кто чувствует, что жизнь не дала им всего, о чем они мечтали. Я верю в то, что надо делать добро, потому что добро само по себе прекрасно.
— Значит, вы все-таки верите, что надо делать добро, быть хорошим?
Как она была прелестна в эту минуту! Да, с такой как она, легко быть хорошим! Эшерст кивнул головой и перевел разговор на другую тему.
— Вы лучше покажите, как делать морской узел, — попросил он.
Дотрагиваясь до ее тонких пальцев, он чувствовал какое-то успокоение, даже радость. И перед сном он сознательно думал только об этой девушке, как будто отгораживаясь от всего, он искал защиты в ее спокойном, ласковом сестринском внимании.
На следующий день он узнал, что решено поехать поездом до Тотнеса и устроить пикник у замка Берри-Помрой. Все еще напряженно стараясь позабыть прошлое, Эшерст уселся в экипаж рядом с Холлидэем, спиной к лошадям. И вдруг на набережной, почти у самого поворота к вокзалу, у него чуть не выскочило сердце. Мигэн, — сама Мигэн, — шла по дороге в своей старой юбке и блузе, в синем берете, — шла и заглядывала в лица прохожих. Эшерст невольно поднял руку, чтобы закрыть лицо, и сделал вид, будто вынимает соринку из глаза. Но сквозь пальцы он видел ее, видел неуверенную походку, так непохожую на обычный ее легкий шаг, жалобное, недоумевающее лицо, как будто она, словно собачонка, потеряла своего хозяина и не знает, бежать ли вперед или назад, не знает, куда ей броситься. Как могла она прийти сюда? Как удалось ей ускользнуть из дома? На что она надеялась? С каждым поворотом колеса экипажа, увозившего его от нее, сердце Эшерста сжималось сильнее, что-то в нем возмущалось и требовало, чтобы он остановил экипаж, выскочил, догнал ее. Когда экипаж повернул за угол к вокзалу, Эшерст вдруг вскочил и забормотал, открывая дверцу: «Простите… я… я забыл одну вещь… не ждите меня… Я нагоню вас следующим поездом…» Он прыгнул, споткнулся, чуть не упал, но сохранил равновесие и пошел по дороге, а экипаж покатил дальше, увозя удивленных и растерянных Холлидэев.
За углом Эшерст увидел Мигэн — она уже ушла далеко вперед. Он сначала побежал, потом остановился и пошел обычной своей походкой. И с каждым шагом, приближавшим его к ней и удалявшим от Холлидэев, он шел все медленнее и медленнее. Разве что-нибудь изменится оттого, что он увидит ее? Как сделать их встречу и последующее объяснение не такими ужасными? Ведь скрывать было нечего: с тех пор как он встретился с Холлидэями, он почувствовал, что никогда не женится на Мигэн. Просто будет необузданная страсть, тревожная, трудная, полная угрызений совести, а потом… потом ему надоест ее жертвенность, надоест ее доверчивость и простота, свежая, как утренняя роса. А роса высыхает…
Берет Мигэн ярким пятном мелькал далеко впереди. Она шла, заглядывая в лицо всем прохожим, то и дело поднимая глаза к окнам. Приходилось ли другим испытывать такие страшные минуты? Эшерст чувствовал, что, как бы он ни поступил, он будет скотиной. И он застонал так, что какая-то служанка, шедшая впереди, обернулась в недоумении. Он увидел, как Мигэн остановилась у парапета набережной и стала смотреть на море. Эшерст тоже остановился. Может быть, она никогда прежде не видела моря и даже теперь, поглощенная своим горем, была поражена этим зрелищем. «Да, она ничего не видела, — подумал он, — у нее вся жизнь впереди. И ради мимолетного увлечения, на несколько недель, я собираюсь сломать эту жизнь! Нет, лучше повеситься, чем сделать такое!» Вдруг ему представились спокойные глаза Стеллы, ее светлые пушистые волосы, растрепанные ветром. Нет, это будет чистейшим безумием, это значит отказаться от всего, что он ценит, потерять уважение к себе самому. Он вдруг остановился и быстро пошел обратно к вокзалу. Но мысль об этой маленькой растерянной фигурке, об этих испуганных глазах, вглядывающихся в прохожих, как обухом стукнула его по голове, и он снова повернул на набережную. Но беретик Мигэн исчез: яркое пятнышко утонуло в толпе гуляющих. И охваченный внезапным порывом раскаяния и тоски, с решимостью, так часто просыпающейся в человеке, когда ему кажется, что жизнь уносит от него что-то дорогое, он кинулся в толпу. Девушки нигде не было. Больше получаса он искал ее, потом вышел на берег и бросился ничком в теплый песок. Он знал, что найти ее легко — стоит только пойти на вокзал и подождать, пока она вернется после своих бесплодных поисков. Или, еще лучше, сесть самому в поезд и поехать на ферму, чтобы она застала его там, когда вернется. Но он неподвижно лежал на песке, а вокруг него весело играли детишки с лопатками и ведерками. Кровь в нем пылала, и жалость к маленькой, растерянно ищущей фигурке потонула в безудержном, диком желании, охватившем его. Все его рыцарское отношение к ней исчезло. Он жаждал снова держать ее в объятиях, снова чувствовать ее нежное тонкое тело, ее поцелуи, горячую первобытную покорность. Он хотел снова испытать несравненное чувство, нахлынувшее на него под яблоней, залитой лунным сиянием. И это желание было таким нестерпимым, таким напряженным, как желание фавна догнать нимфу. Торопливая болтовня светлого ручья, золото лютиков, скалы, где прячутся привидения, «страшные цыгане», голоса кукушек, стук дятла, уханье сов, красный месяц в бархатной тьме, живая белизна цветов, ее лицо высоко в окне, робкие влюбленные глаза, ее губы на его губах, сердце к сердцу, под большой яблоней… Воспоминания осаждали его — и все же он не двигался. Что боролось в нем, что подавляло жалость и жаркое желание, приковывало его к теплому песку?.. Три белокурые головки, девичье лицо с приветливыми серо-голубыми глазами, тонкая рука, пожимающая его руку, высокий голос, который спрашивает: «Значит, вы верите в то, что надо быть хорошим?» Да, все это и та атмосфера, какая бывает за высокой оградой старого английского сада, где цветут гвоздики, васильки и розы, где пахнет лавандой и сиренью, та свежесть, чистота, спокойствие все, что он с детства привык считать светлым, хорошим. Вдруг он вскочил. «Что, если она вернется и увидит меня!» — подумал он и быстро пошел вдоль берега к отдаленной скале. Он сел у самой воды, и прибой обдал его мелкими брызгами, — тут он мог по крайней мере думать спокойнее. Вернуться на ферму, любить там Мигэн, жить в лесах, среди скал — он знал, что это невозможно, абсолютно невозможно. А перевезти ее в большой город, держать такое дикое растение в какой-нибудь маленькой квартирке или меблированных комнатах… нет, вся его поэтическая душа возмущалась этим. Его страсть скоро пройдет, как проходит всякий порыв чувственности. В Лондоне ее простота, нетронутость ее ума сделают из нее лишь тайную его прихоть — и только. Чем дольше он сидел у скалы и глядел в зеленоватые волны, разбивавшиеся у его ног, тем яснее он видел все. Ему казалось, что ее руки и все ее тело медленно-медленно отделяются от него, медленно соскальзывают в море, и волны уносят ее прочь. И ее лицо, жалкое, испуганное лицо с умоляющими глазами, с мокрыми темными прядями волос, мучило, преследовало, изводило его. Он встал, перепрыгнул низкую гряду камней и спустился еще ниже, в маленькую закрытую бухту. Может быть, море вернет ему самообладание, охладит этот горячечный бред. Сняв одежду, он бросился в воду и поплыл. Ему хотелось устать до потери сознания, так, чтоб ничего не помнить, не ощущать. Он плыл не оглядываясь, быстро и далеко. Потом его охватил страх. А вдруг он не сможет вернуться к берегу, вдруг его завертит течение или, как Холлидэя, схватит судорога? Он поплыл обратно. Красные скалы казались страшно далекими. Если он утонет, там найдут его платье. Холлидэи узнают об этом, но Мигэн никогда: газет на ферме не читают. В сотый раз он вспоминал слова Фила Холлидэя: «Девушка из Кембриджа… рад, что у меня по отношению к ней совесть чиста». И в этот миг, под влиянием безотчетного страха, Эшерст поклялся, что жизнь Мигэн не будет у него на совести. Он сразу почувствовал себя лучше. Он доплыл до скалы, обсох на солнце, оделся. Острая боль в сердце уступила место смутной тоске, и чувство прохладной свежести охватило тело.
Когда человек молод, жалость не может долго держаться в нем. Эшерст, вернувшись в отель, жадно набросился на чай, как человек, только что вставший после тяжелой болезни. Все казалось новым и привлекательным; чай, хлеб с маслом и варенье никогда еще не были так вкусны, никогда табак так хорошо не пахнул. Эшерст походил по комнате, потрогал вещи, посмотрел кругом. Он взял рабочую корзинку Стеллы, повертел в руках катушки и моток пестрого шелка, понюхал маленький мешочек с сухими травами, лежавший между нитками, потом подошел к роялю и одним пальцем сыграл какую-то песенку. «Сегодня вечером она будет играть, а я буду смотреть на нее. Как хорошо становится на душе, когда на нее смотришь!» Он взял книгу, которую она положила для него, попытался читать. Но грустное личико Мигэн снова возникло перед ним, он встал и подошел к окну. В парке пели дрозды, шумели деревья, за ними расстилалась сонная синева моря. Вошла горничная и убрала чай со стола, а он все стоял, вдыхая вечерний воздух, пытаясь ни о чем не думать. Он увидел, как в ворота вошли Холлидэи — Стелла впереди, а Фил и младшие девочки с корзинками сзади. Эшерст невольно отшатнулся от окна. Он был так расстроен, что и хотел и боялся встречи с друзьями, его брало зло на них — и все же он тянулся к ним, к их невинному спокойствию, к радости смотреть в глаза Стеллы.
Он стоял за роялем, когда она вошла и оглянулась растерянно, чуть разочарованно. Но, увидев его, улыбнулась ясной, живой улыбкой, согревшей и все-таки рассердившей Эшерста.
— Отчего вы не приехали, Фрэнк?
— Не мог.
— Посмотрите, какие чудесные поздние фиалки мы нашли.
Она протянула ему букетик, Эшерст поднес его к лицу, и смутное желание проснулось в нем. Но как холодной водой окатило его сразу воспоминание об испуганном личике Мигэн, ищущей его среди прохожих.
— Очень мило! — отрывисто бросил он, повернулся и вышел.
Он поднялся к себе в комнату, избегая девочек, бежавших по лестнице, и бросился на постель, закрыв лицо руками. Теперь, когда он почувствовал, что решительный шаг сделан и Мигэн навсегда потеряна, он ненавидел себя и почти ненавидел Холлидэев за их влияние на него, за эту здоровую, безмятежно счастливую, чисто английскую домашнюю обстановку. Зачем они оказались здесь, зачем исковеркали его первую любовь и, сами не сознавая, показали ему, что он вел себя как пошлый соблазнитель. Какое право имела Стелла своей чистой, робкой красотой как бы убеждать его, что ему нельзя жениться на Мигэн, какое право она имела уничтожить его чувство, пробудить в нем такую горькую тоску, такую жалость? Мигэн теперь уже дома, измученная бесплодными поисками, бедная, маленькая! Наверно, надеялась застать его уже на ферме! Эшерст впился зубами в рукав, чтоб не застонать вслух от тоски и угрызений совести. Он спустился к обеду мрачный и молчаливый, и даже девочки притихли и погрустнели. Вечер прошел весьма уныло, дети устали, скверное настроение Фрэнка передалось всем. Он несколько раз ловил обиженный, недоумевающий взгляд Стеллы и испытывал какое-то злорадство. Спал он отвратительно, встал совсем рано и вышел из дому. Он спустился к морю, и там наедине с солнечной ясной синевой ему стало немного легче. Какой он, однако, самодовольный дурак! Отчего он решил, что Мигэн так близко примет это к сердцу? Через неделю-другую она, несомненно, его забудет. А он… ну, а он будет вознагражден за добродетель! Добродетельный молодой человек! Если бы Стелла знала, она, наверно, благословила бы его за то, что он воспротивился искушению дьявола, в которого она верит. Эшерст злобно рассмеялся. Но спокойная красота неба и моря, полет одиноких чаек как-то смягчили его, и ему стало стыдно. Он искупался и быстро пошел домой.
Стелла сидела в саду на складном стуле и рисовала. Он тихонько подкрался к ней. До чего же она была мила вот так, с прилежно наклоненной головкой, прикидывая кистью размеры и хмуря брови.
— Простите, что я вчера так по-свински себя вел, Стелла, — мягко проговорил он.
Она быстро обернулась, густо покраснела и сказала торопливо:
— Ну, пустяки. Я поняла — что-то случилось. На друзей нельзя обижаться, правда?
— На друзей, — повторил Эшерст. — А мы с вами друзья, да?
Она взглянула на него, торопливо закивала головой, и ее зубы снова сверкнули в быстрой улыбке.
Через три дня Эшерст вернулся в Лондон вместе с Холлидэями. На ферму он не написал ни строчки. Что он мог написать?
В конце апреля следующего года он обвенчался со Стеллой…
Вот о чем вспомнил Эшерст в день своей серебряной свадьбы, сидя в зарослях дрока у старой ограды. Здесь, на том самом месте, где он разложил завтрак, он впервые увидел Мигэн на фоне синего неба. Странные бывают совпадения. И ему захотелось пойти к ферме, снова увидеть сад и луг, где бродил «страшный цыган». Он успеет: наверно, Стелла вернется не раньше чем через час.
Как хорошо он помнил все — и сосновую рощицу и холм, поросший травой! Он остановился у ворот фермы. Низкий каменный дом, тисы у крыльца, цветущие тамариски — ничто не изменилось! Даже старая зеленая скамья стояла на траве под окном, как будто только вчера он доставал с нее ключ из окна. Он прошел по двору и прислонился к калитке сада — к той же серой ветхой калитке. Черная свинья бродила под деревьями. Как тогда… Неужели и вправду прошло двадцать шесть лет — или то был сон, а сейчас он проснулся и снова Мигэн ждет его у старой яблони? Машинально он тронул седеющую бороду и вспомнил о своих годах. Он открыл калитку и вошел в сад. Сквозь кусты и траву он пробрался к старой яблоне. Все такая же… Только больше серо-зеленого мха на стволе да две-три сухие ветви, а так… Так могло показаться, что только прошлой ночью он обнимал мшистый ствол, после того как Мигэн ускользнула от него, только вчера вдыхал лесной запах, а над его головой дышали и трепетали в лунном сиянии белые лепестки цветов яблони. Сейчас тоже начинали распускаться ранние почки, заливались дрозды и куковали кукушки, а солнце ярко сияло и грело. Невероятно, но все осталось прежним: болтливый ручей, где водятся форели, узкий затончик, где он каждое утро лежал на спине, поливая себя из горсти прозрачной водой. А там дальше, где начинался луг, по-прежнему растут буки и стоит камень, на котором будто бы сидел по ночам «страшный цыган». И тоска по ушедшей юности, по любви, утерянной навеки, по угасшей красоте сжала горло Эшерста. Да, здесь, где жизнь первобытно прекрасна, нужно было удержать это счастье, эту красоту, как удержали ее небо и земля! А он не удержал…
Он спустился к ручью и, глядя в темный затон, пробормотал: «Весна и молодость… А что же сталось здесь со всеми?» И вдруг, испугавшись встречи с людьми, боясь, что они исковеркают его воспоминания, Эшерст торопливо пошел по тропинке и вернулся к перекрестку.
У автомобиля стоял, опираясь на палку, старый седобородый крестьянин и разговаривал с шофером. Он сразу смолк, увидев Эшерста, и, виновато притронувшись к шляпе, заковылял было дальше по дороге.
Эшерст спросил его, указывая на маленький зеленый холм:
— Не можете ли вы сказать мне, что это такое?
Старик остановился, и на его лице появилось такое выражение, как будто он хотел сказать: «Угадали, сударь, кого спросить».
— Это могила, — ответил он.
— А отчего она здесь? Старик улыбнулся.
— Это, как говорится, целая история. Мне уж не впервой ее рассказывать, здесь много людей ходит, все спрашивают. Мы зовем это место «Девичья могилка».
Эшерст протянул кисет.
— Закуривайте, — предложил он.
Старик снова дотронулся до шляпы и медленно набил свою старую глиняную трубку. Его глаза под лохматыми седыми бровями, окруженные целой сетью морщин, все еще блестели, как у молодого.
— Ежели вы ничего не имеете против, сэр, я присяду. Что-то у меня нынче нога побаливает, — сказал он и уселся подле холмика.
— Здесь на могилке всегда лежат цветы. И не так скучно здесь; добрые люди ездят и ходят, автомобили и всякое такое… не то, что в старые годы. Теперь-то ей не так обидно… Сама на себя руки наложила, бедняжка!
— Вон оно что… — проговорил Эшерет. — Оттого ее и похоронили на перекрестке. А я и не знал, что этот обычай до сих пор сохранился.
— Да это случилось давным-давно! У нас тогда священник был очень строгий. Погодите, мне под святого Михаила семьдесят шестой пошел, что ли. А тогда мне всего пятьдесят годов было. И ни один человек не знает того, что знаю я. Она, эта девушка то есть, была отсюда, с той же фермы, где я работал, от миссис Наракомб теперь ферма перешла к Нику Наракомбу. И я нынче, бывает, для него кое-что делаю…
Эшерст, прислонясь к стене, раскуривал трубку, прикрыв ее от ветра рукой. Спичка уже потухла, а он все еще не отнимал рук от лица.
— Да? — сказал он, и его голос даже ему самому показался хриплым и чужим.
— Таких, как она, бедняжка, на всем свете не найти! Всегда кладу цветок ей на могилку. Красивая была и добрая, да вот не позволили ее похоронить у церкви — и там, где она хотела, тоже не дали. — Старик умолк и погладил жилистой волосатой рукой дерн холма, где росли колокольчики.
— Да? — сказал Эшерст.
— Ежели говорить начистоту, — продолжал старик, — так я думаю, что тут любовь замешалась, не иначе, хоть наверняка никто ничего не знает. Разве узнаешь, о чем девушка думает, но, по-моему, дело было так… — Он снова провел рукой по холмику. — Очень я любил эту девочку, да, по правде сказать, кто ее не любил? Только сердце у нее было любящее, — оттого все и случилось. — Старик поднял глаза.
— Да? — снова пробормотал Эшерст дрожащими губами.
— Дело было весной, в эту же пору… нет, пожалуй, попозже, когда все зацвело… Жил у нас тогда один студент, славный малый, только ветер в голове… Мне-то он понравился, и ничего я между ними не примечал, но, видать, вскружил он девочке голову. — Старик вынул трубку изо рта, сплюнул и продолжал: — Видите ли, он вдруг уехал и больше не возвращался. У них до сих пор остались кое-какие его вещи, заплечный мешок… Это-то меня и удивило: он так за вещами и не прислал. Звали его Эшес или вроде того.
— Да? — сказал Эшерст в четвертый раз.
Старик пожевал губами.
— Она ничего не говорила, только с того дня на нее словно наваждение нашло, стала будто не в себе. Никогда в жизни не видал я, чтоб люди так сразу менялись. У них на ферме работал один молодой парень, Джо Биддафорд его звали, он был от нее без ума, изводил ее, наверно, своими приставаниями. А она стала совсем дикая. Я ее, бывало, видел по вечерам, когда телят загонял. Стоит под большой яблоней и глядит прямо перед собой. Ну, думаю, кто знает, что с тобой стряслось, да только вид у тебя больно нехороший, просто жалость берет, вот что!..
Старик снова раскурил трубку и задумчиво затянулся.
— Ну?.. — прошептал Эшерст.
— Как-то раз я ее и спросил: «Что с тобой, Мигэн?» Ее звали Мигэн Дэвид, она была из Уэльса, как и ее тетка, старая миссис Наракомб. «Ты все о чем-то горюешь», — говорю. «Нет, Джим, говорит, ни о чем я не горюю». «Нет, горюешь», — говорю я, а она: «Нет, нет!», а у самой слезы так и катятся. «А чего ж ты плачешь?» — говорю, а она прижала руку к сердцу: «Здесь, говорит, болит, только ничего, это скоро пройдет, но если, говорит, со мной что случится, пусть меня похоронят под большой яблоней, Джим». А я смеюсь: «Да что с тобой случится, глупенькая?» «Нет, говорит, я не глупенькая». Я-то знаю, что девушки иногда зря болтают, и думать об этом не стал. А дня через два, часов в шесть вечера, гоню я телят и вижу — в ручье, у самой яблони, что-то темное лежит. А я и думаю: «Не свинья ли это, вот чудно, куда забралась!» Подошел — и увидел, что там…
Старик замолчал. Он поднял глаза, блестящие и печальные:
— Это была она, в маленьком затоне под скалой, где раза два купался тот молодой джентльмен. Она лежала в воде ничком. А над ее головой — куст лютиков, так прямо и свешивался с камня. Поднял я ее, посмотрел ей в лицо ну прямо как у ребенка, спокойное да красивое, просто до того красивое, что и сказать нельзя. Доктор ее осмотрел, сказал, что ей никогда бы не утонуть на таком мелком месте, если бы не нашло на нее затмение. И правда, посмотреть на ее лицо, так сразу было видать, что она не в себе. Я просто от слез не мог удержаться — до того она лежала красивая. Уже июнь месяц пошел, а она где-то отыскала веточку яблоневого цвета и воткнула себе в волосы. Вот я и думаю: верно, на нее нашло наваждение, оттого она так весело и пошла на смерть. Там совсем мелко было — фута полтора, не больше… Да я-то знаю, что это место нечисто, и она знала, меня и теперь не уговоришь, что это не так… Только зря я всем передал наш с ней разговор насчет того, чтоб ее похоронили под большой яблоней. Все и решили, что она нарочно покончила с собой, — потому-то ее здесь и схоронили. Священник у нас на этот счет был строгий.
Старик снова погладил рукой холмик — Просто удивительно, чего только девушка от любви не сделает. А у нее сердце было любящее. И мне думается, что его разбили. Ну, да кто его знает, как оно было…
Он взглянул на Эшерста, как бы ожидая одобрения, но тот прошел мимо старика, словно не видя его.
Эшерст поднялся на холм, мимо места, где был приготовлен завтрак, спустился вниз и там, где никто его не мог увидеть, бросился ничком в траву. Так вот как была вознаграждена его добродетель, вот как отомстила злая Киприда, богиня любви! И перед глазами его, мокрыми от слез, встало лицо Мигэн и веточка яблони во влажных ее кудрях. «В чем моя вина? — подумал он. — В чем я поступил неправильно?» Но ответа он не находил. Была весна, вспыхнула страсть. Цветы и пенье птиц… весна в его сердце, в сердечке Мигэн… Может быть, просто Любовь искала жертву. Значит, прав греческий поэт — и сегодня в его стихах звучит та же истина:
Безумие — сердце любви, И золотом блещет крыло. Покорно ее колдовству. Все в мире весной расцвело. Где молодость в дикой красе Смеется, сияет, растет, Весенней порою земля Под солнцем любовью цветет. Ликуй, человек! Надо всем вознесен, Киприда, Киприда, твой царственный трон!Да, греческий поэт прав. Мигэн, бедная маленькая Мигэн, поднимающаяся на холм, ждущая его под старой яблоней, Мигэн, не потерявшая и в смерти своей красоты…
— Ах, вот ты где! — послышался голос жены. — Посмотри-ка!
Эшерст встал, взял набросок, который протягивала ему Стелла, и долго молча смотрел на него.
— Передний план хорош, Фрэнк?
— Да.
— Но чего-то не хватает, правда?
Эшерст кивнул. Не хватает? Да, исчезли «цвет яблони и золото весны»…
1914–1916 гг.
СОДЕРЖАНИЕ
И з с б о р н и к а
«ГОСТИНИЦА УСПОКОЕНИЯ»
Гостиница Успокоения. Перевод А. Поливановой...5
Мастерство. Перевод Н. Лебедевей...12
Сорока над холмами. Перевод Ю. Жуковой...21
Эволюция. Перевод Л. Биндеман...25
Прогулка в тумане. Перевод Т. Литвиновой...29
Демонстрация. Перевод О. Атлас...34
Христианин. Перевод А. Ильф...39
Мой дальний родственник. Перевод Т. Литвиновой...45
Большой совет присяжных. Перевод Н. Банникова...54
Ушла. Перевод Л. Мирцевой...65
Воспоминания. Перевод Н. Высоцкой...70
Радость. Перевод М. Абкиной...85
И з с б о р н и к а
«МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» И ДРУГИЕ САТИРЫ»
В зените могущества. Перевод О. Атлас...91
Голос свыше..! Перевод Г. Журавлева...94
Жив или мертв? Перевод Г. Журавлева...100
Почему бы нет? Перевод В. Лимановской...103
Хатор. Перевод Н. Банникова...108
Секхет. Перевод В. Хинкиса...112
Простая повесть. Перевод М. Абкиной...126
Ultima Thule. Перевод Е. Гальперина...136
И з с б о р н и к а
«ПЯТЬ РАССКАЗОВ»
Первые и последние. Перевод Г. Злобина...155
Стоик. Перевод Г. Злобина и А. Ильф...207
Присяжный. Перевод Н. Шебеко...301
Цвет яблони. Перевод Р. Райт...323
Примечания
1
«Гостиница Успокоения» (итал.).
(обратно)2
В Англии вопрос о предании обвиняемого суду решается специальным советом присяжных.
(обратно)3
Так в Англии называют тюремную карету.
(обратно)4
Восхитительно! (франц.).
(обратно)5
Чудесно! (нем.).
(обратно)6
Предательства (лат.).
(обратно)7
Хатор — богиня неба и плодородия, у древних египтян почиталась в образе коровы.
(обратно)8
Упорный в разнузданных играх (лат.).
(обратно)9
Цитата из «Гамлета», действие III, сцена 1.
(обратно)10
Непременное условие (лат.).
(обратно)11
Приличные (франц.).
(обратно)12
Последняя Фула (лат.) — по представлениям древних, крайняя обитаемая точка на севере Европы. Здесь — последнее прибежище.
(обратно)13
Изысканным (франц.).
(обратно)14
Тревога (франц.).
(обратно)15
«Даже в тяжелых обстоятельствах сохраняй здравый рассудок» (лат.).
(обратно)16
Дерзать, всегда дерзать (франц.).
(обратно)17
Ни шагу назад (лат.).
(обратно)18
Приятном обхождении (лат.).
(обратно)19
За неимением лучшего (франц.).
(обратно)20
Лови часы (лат.).
(обратно)21
«Согрешил» (лат.).
(обратно)22
Добавочное блюдо (франц.).
(обратно)23
Род сдобной ватрушки из хлеба, сыра и яиц.
(обратно)24
«Даже в тяжелых обстоятельствах сохраняй, эдравый рассудок» (лат.).
(обратно)


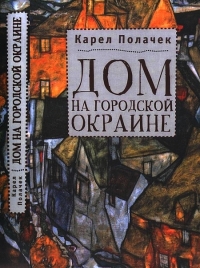
Комментарии к книге «Том 12», Джон Голсуорси
Всего 0 комментариев