Веркор Гнев бессилия
Памяти Бенжамена Кремье
В той или иной мере мы все, не правда ли, испытываем чувство сострадания к чужому несчастью. Моему другу Рено это чувство было всегда в высшей степени присуще. Вот за это я его и люблю, хотя не всегда хорошо понимаю.
Я его знаю так давно, что мне просто трудно вспомнить то время, когда он еще так или иначе не участвовал в моей жизни. Я хорошо помню, когда я его впервые увидел. Помню, как он вошел в класс отца Клопара — долговязый мальчуган с удивленным и внимательным взглядом. Он назвал себя, и мне послышалось: «Ремулад». То же, видимо, услышал Клопар, который заставил его повторить свое имя. Я снова услышал «Ремулад» и первое время простодушно считал, что его так и зовут. В действительности его звали Улад, Рено Улад. Он слегка проглатывал слоги.
Его посадили за мной через два или три ряда. Он, конечно, прекрасно видел, как школьник, сидевший впереди него, схватил меня, шутя, за воротник куртки и стал трясти, как трясут сливу. Но тут вместо слив полетели во все стороны чернильные брызги, украсившие тетради моих соседей. Поднялся шум, началась потасовка, виновником был признан я, и спустя минуту я стоял в коридоре, с тревогой прислушиваясь к шагам, пытаясь определить, не идет ли директор. Сердце мое кипело от незаслуженной обиды.
Дверь из класса отворилась, и вышел Ремулад. Он, улыбаясь, подошел ко мне. Странная это была улыбка: одновременно напряженная и насмешливая — смесь негодования и торжества. Он сказал:
— Я заставил его выставить меня за дверь.
— Ты?! Нарочно?
— Да, — ответил он. — Ты понимаешь, я все-таки не мог выдать товарища. Но что выгнали тебя — этого я совсем не мог стерпеть. Вот я и сделал так, чтобы меня тоже выставили.
Я уже забыл, как он этого добился. (Кажется, он просто стал насвистывать какую-то песенку.) Но я не забыл, что дружба наша началась именно с того дня, — не потому, что он совершил этот поступок из-за меня (он ведь тогда меня не знал), а потому, что его поведение раскрыло мне его характер. Я глубоко понимал всю серьезность такого поступка, совершенного в первый же день поступления в школу. Я оценил смелость, с которой он пошел на риск попасть навсегда в список «отпетых».
И действительно, в тот день он показал себя таким, каким остался на всю жизнь: всегда готовым взвалить на собственные плечи тяжелый груз людской несправедливости, всегда готовым платить за чужие грехи.
Можно себе представить, чем были для него четыре года, которые Франция провела в подполье. Не один, а десятки раз я был вынужден удерживать его от непоправимых, безрассудных поступков. То он хотел нацепить желтую звезду, то собирался предложить себя в качестве добровольного заложника. Но в конце концов он понял всю бессмысленность таких форм протеста. Другие страдали и худели от голода — он худел, пожираемый бессильным, скрытым гневом. Излишне говорить, что в Сопротивление он бросился очертя голову. Не знаю, каким чудом он до сих пор жив. Боевая деятельность и опасности, которым Рено постоянно подвергался, не погасили его живого воображения, наоборот, приносили ему каждый день новую пищу.
Я имел обыкновение ежедневно навещать Рено в его домике, в Нейи. Он радовался мне. Я служил как бы клапаном для всего, что переполняло его измученное сердце. Не однажды доставалось и мне — какими только словами не обзывал он меня! После этого ему становилось легче.
На этот раз я шел к нему с печальной новостью. Всю дорогу я колебался, сообщать ее или нет. В моей нерешительности было много малодушия — ведь так или иначе нужно было обо всем ему рассказать. Переступив порог его дома, я собрался с силами.
Если бы я знал… но я не знал.
Он ничего мне не сказал. Об ужасной резне в деревне Орадур я узнал только позднее. В то самое утро Рено собственными глазами видел этот невероятный, до жути простой отчет префектуры; он какое-то время ходил по рукам, а потом исчез. Никакого официального опровержения затем не последовало. Я думаю, я уверен: Рено ждал меня, чтобы взорваться. Он был очень, очень бледен. Но меня самого так терзало то, о чем я собирался ему сказать, что я не придал этому значения. Он увидел, что я расстроен, и стал ждать.
— У меня есть вести… — я кашлянул, — дурные вести…
Мне понадобилось время, чтобы собраться с духом.
Наконец я смог выговорить:
— …о Бернаре Мейере.
Он сказал только: «А!», — как говорят: «Я так и знал». Лицо его сохраняло странно замкнутое выражение. Я думал, что он разволнуется, и это ледяное спокойствие было для меня неожиданным. Ни ему, ни мне Бернар Мейер, в сущности, не был другом, но его все любили. Всем, кто с ним сталкивался, он внушал любовь, всем, исключая людей завистливых и посредственных. Как никто другой, он откликался на чужую беду. А все ли было сделано, чтобы вырвать его из Дранси? Мы хорошо знали, Рено и я, что нет — не все. И оба знали — почему, и знали, что гордиться тут нечем.
— Он умер, — сказал я. Неподвижный и холодный взгляд Рено сковал меня. — Он умер в Силезии, в лагере, — продолжал я с похвальной настойчивостью. После долгой паузы я произнес наконец три слова, всего лишь три слова, но — мы теперь это хорошо знаем — сколько страданий, пыток, мук и ужасов за ними скрывалось! Я произнес три лаконичных слова, напечатанных в извещении о кончине: «от упадка сил…»
Рено молчал. Он неотрывно смотрел на меня, и я понял, что образ Бернара Мейера возник между нами. Образ Бернара, которого мы знали: его удлиненное, бледное лицо с живыми и мечтательными глазами, с легендарной бородкой, известной всем, кто пишет и думает, его теплые, словно пронизанные солнцем интонации… и другое лицо — измученное, истерзанное, с которым он ушел из жизни. «От упадка сил…» Я чувствовал, как эти три слова, полные страшного значения для всякого, кто знаком с ужасами лагерей, прокладывают путь в душе Рено.
…a tale unfold whose lightest word Would harrow up thy soul; freeze thy young blood, Make thy two eyes, like stars, start from their spheres…[1]Долгих минут наступившего молчания я никогда не забуду. Было жарко, и, чтобы сохранить в комнате прохладу утра, ставни были на три четверти прикрыты… Какое-то насекомое, оса или шмель, не переставая билось о форточку с бессмысленным и роковым упорством…
Рено молчал. Забившись в угол дивана, он не спускал с меня глаз. Видел ли он меня? Это был взгляд камня. Он весь казался высеченным из мрамора: сжатые губы, тонкий нос, мягко блестевший лоб, освещенный слабым зеленоватым отсветом луча, проникшего сквозь листву….
Сам не знаю, как я очутился во дворе. Сказать правду — я бежал, с трудом пробормотав что-то о необходимости сообщить новость другим. Я чувствовал себя побежденным в каком-то странном поединке, как человек, который подобрался, напряг все свои силы, чтобы устоять против бешеного натиска противника, — и вдруг противник с плачем бросается ему на грудь.
Я медленно шагал под солнцем, и истина постепенно представала предо мной: я, видимо, чего-то не знал и ударил Рено по уже пораженному месту. Моя растерянность сменилась беспокойством. Я слишком хорошо изучил Рено, чтобы не представлять себе, какой внутренний ураган бушевал под этим ожесточенным молчанием. Меня охватил какой-то страх. О! Я не думал о чем-то действительно трагическом, но я боялся непредвиденного и особенно опрометчивого шага…
В памяти у меня возникало то одно, то другое воспоминание… Рено внезапно отказывается от Сорбонны — для поступления туда ему оставалось сдать один устный экзамен — только потому, что провалили Муриеза… В такой же знойный день, как сегодня, мы с отцом бегаем и хлопочем, чтобы вызволить Рено, артиллериста в Ренне, из Иностранного Легиона, в который он вступил только потому, что какой-то унтер садист измывался над отупевшим от муштры рядовым… В один прекрасный день он перестает одеваться с присущим ему скромным и строгим изяществом и начинает ходить в чем попало — в свитере и в шлепанцах — только потому, что некий высокопоставленный господин, принадлежащий к крупной буржуазии, предмет восхищения и подражания, вдруг оказался бессовестным лицемером…
Я вернулся обратно. Мне вдруг показалось, что его неподвижность в углу дивана, бледность и упорное молчание являются предвестником каких-то бурных и странных поступков. Я не ошибся…
Я нашел его в саду. Он уже успел нагромоздить там ветки, доски от ящиков, щепки, куски панели, сооружая какой-то невиданный костер. Поверх всего он уложил свои сокровища, с таким трудом собранные им в течение долгих лет, — они были солью его жизни: книги, картины, предметы искусства… У меня упало сердце, когда я увидел край старинного складня, если и не принадлежавшего кисти Мемлинга, то несомненно относившегося к Брюггской школе; небольшую картину Жюля Ноэля, изображающую морскую бурю, — романтическую симфонию серо-синих тонов. Другое полотно я узнал по раме — это был «Карлик» (Пикассо), и перед моими глазами встало его грустное, кроткое лицо. Я увидел шкатулку из лимонного дерева, совсем простую, но в которой, я знал, хранились чудесные старинные кружева; и удивительный пояс, некогда охватывавший осиную талию куртизанки, — он состоял из шестнадцати пластинок слоновой кости, на которых тонкой кистью были нанесены шестнадцать сценок из любовных похождений Зевса…
Все это и множество других, менее знакомых мне вещей было навалено вперемешку с книгами. Я понял, что он, не отбирая, сносил сюда в кучу и самые скромные и самые редкие издания. Истрепанные, зачитанные книги лежали рядом с первоизданием «Откровений», со сказками безыменных авторов в причудливо романтическом издании Нодье, с «Принцессой Клевской» в старинном переплете. Я узнал собрание сочинений Гюго, унаследованное Рено от отца; Пруста, в котором, словно глаза, не хватало «Любви Свана»; книги Конрада и Вульфа в издании Таухница — словом, все книги, которые я столько раз перелистывал и брал у него. Надо всем этим простиралась маленькая рука из бронзы. Гибкая, тонкая рука Будды из Непала казалась выражением немого протеста отчаяния.
Когда я подходил, Рено сваливал в костер новую ношу — целую кипу томов Бальзака. Я окликнул его с порога.
Он обернулся. Как хорошо я знал эти серые, сверкающие глаза, и жгучие, и холодные! Он нагнул голову, как молодой бык.
— Ну что? — спросил он. Я заметил, как у него ходят желваки. Он стоял в напряженной позе, готовый к прыжку. Я подошел.
— Послушай, Рено… — начал я, подняв руку. Но он действительно прыгнул, отвел мою руку и преградил мне дорогу. Я хотел взять его за кисть, но он резким движением освободился. — Рено, — умолял я, — ну, послушай меня. Что за безумие опять…
— Безумие? — бросил он. Он засунул руки в карманы и разразился хохотом. Это был деланный, резкий и вместе с тем жалкий смех. — Безумие, говоришь! Да, действительно безумие… Зато ты — ты не безумен, о нет, нисколько. — Он смотрел таким взглядом, будто ненавидел меня.
Я понял, что если не заговорю немедленно, он возьмет меня за плечи и вытолкает вон.
— Рено, Рено, — закричал я, — где твое хладнокровие? Погоди! Выслушай меня! Что ты делаешь? Ну для чего эта жертва всесожжения? Кого ты наказываешь? Только себя, а когда…
Он прервал меня криком.
— Нет! — Он покачал головой. — Себя? Наказываю себя? — Взмахом руки он словно отбросил эти слова и вдруг нагнулся ко мне. — Нет, — вскричал он, — не себя! — Он кинул мне в лицо: — Не себя… а ложь! — Он исходил криком: — Ложь! Слышишь ты… Ложь!
Я подумал, что он обвиняет меня.
— О ком ты говоришь? — возразил я. — Какая ложь?
Понял ли он мой вопрос? Возможно, не сразу… он продолжал в бешеном гневе:
— …Самую великую и самую страшную ложь в этом страшном мире! Ложь! Ложь! Ложь! Какая ложь, ты спрашиваешь? Будто ты не знаешь! Да, да. Я все понимаю. Ты тоже, ты тоже лжешь, как лгал раньше и я. Но я уже не участвую в ней, хватит с меня! Прощай, все кончено, я все понял! — закричал он в приступе гневного отчаяния, потом отвернулся и шагнул к приготовленному костру.
Я схватил его за рукав, пытаясь удержать. Но он поволок меня за собой, и в три прыжка мы оказались у наваленной кучи. Он ударил в нее ногой, и в воздух взлетела «Пармская обитель». В тот же момент он вцепился в мое плечо и силой заставил меня наклониться над своими сокровищами.
— Ну, посмотри на них, полюбуйся, — кричал он, — поклонись им! Пускай над ними слюни восхищения и признательности! Ведь благодаря им ты возомнил о себе. По их милости и ты стал человеком, столь довольным собой! Да, ты ужасно доволен, что ты человек, что ты драгоценное и достойное уважения создание! О да, создание, наделенное поэтическими чувствами, нравственными понятиями, высокими стремлениями и всем, что из этого следует. Черт побери, подумать только: такие типы, как ты и я, мы все это читаем, наслаждаемся и уверяем друг друга, что мы чрезвычайно тонко чувствующие и умные личности. Мы без конца делаем реверансы друг другу, восторгаемся любыми мудрствованиями собеседника, мы готовы на любые взаимные уступки. Как это все называется? Мерзостью, мерзостью, доводящей до рвоты! Что же такое человек? Самое сволочное из всех существ! Самое низменное, самое коварное, самое жестокое! Тигры, крокодилы — сущие ангелы по сравнению с нами! Они по крайней мере не корчат из себя великих мудрецов, святых, философов или поэтов! И ты еще хочешь, чтобы я все это хранил на своих полках? Для чего? Уж не для того ли, чтобы по вечерам, как прежде, вести изысканные беседы с господами Стендалем, Бодлером, Жидом или Валери? Вести беседы, когда где-то жарят живьем женщин и ребятишек? Когда по всей земле режут и убивают? Когда топорами рубят женщинам головы? Когда набивают людьми комнаты, оборудованные для удушения? Когда почти везде под звуки радио, передающего, быть может, Моцарта, на деревьях раскачиваются повешенные? Когда людям жгут ноги и руки, вынуждая их предавать товарищей? Когда убивают палками, голодом, холодом, пытками и непосильным трудом доброго, ласкового, чудесного Бернара Мейера? Когда нас окружают вполне приличные и — не правда ли? — культурные люди, и никто не рискнет даже пальцем, чтобы помешать совершаться этим злодеяниям, о которых они из трусости ничего не хотят знать? Им просто наплевать на них, а некоторые даже все это одобряют и приветствуют! И ты еще спрашиваешь: «Что за безумие опять?»… Черт побери, кто из нас безумен? И в чем, скажи, проявляется мое безумие? Посмеешь ли ты утверждать, что, пока человек таков, каков он есть, вся эта куча представляет собой нечто большее, чем сплошное лицемерие, чем гнусное снотворное, усыпляющее нас в блаженном самодовольстве?.. Мерзость! — крикнул он так пронзительно, что из горла у него вырвался хрип. — Я больше не читаю ничего. Слышишь, ни единой строчки! Ни единой, пока не изменится человек. Ни единой! Ни единой! Ни единой!
Он выпустил меня. Последние слова он выкрикнул, топая ногой, как ребенок, вне себя от огорчения и гнева. Он ухватился за куст и вырвал его. Он хлестал им направо и налево, по чему попало, повторяя «ни единой, ни единой».
Вдруг голос его резко оборвался, словно он захлебнулся. Хлынули слезы, и тело его сразу утратило силу и стало оседать. Я обнял его и медленно повел в комнату, к дивану; он рухнул на него и зарылся головой в подушку, весь трясясь от рыданий.
Он плакал, как отчаявшийся во всем ребенок. Мне кажется, я тоже — беззвучно — плакал, глядя на него. Я сел рядом с ним, я держал его руку в своих руках — он цеплялся за них, боясь выпустить, совсем как испуганное дитя. Отчаяние длилось долго, оно мне показалось бесконечным. Наконец, как это бывает у детей, слезы обессилили его, и, всхлипывая время от времени, он задремал в сгущающихся сумерках этого длинного, умирающего дня.
Я поднялся на второй этаж и попросил старую Берту помочь мне. Спустилась ночь. Берта ни о чем не спрашивала. Она только взглянула на несчастного заснувшего Рено и покачала головой. Мы молча расставили вещи по местам…
Но с тех пор и я утратил радость от чтения. Разделял ли я мысли Рено? Нет, нисколько, наоборот! Только искусство спасает меня от отчаяния и оно же опровергает слова Рено. Мы знаем и понимаем, что человек довольно гнусное животное. Но, к счастью, творчество его и мысль, лишенные корысти, искупают эту его вину.
И все же с того дня чтение уже не доставляет мне прежней радости. Но дело тут только во мне: у меня нечиста совесть. Я не могу смотреть прямо в лицо моим картинам, моим книгам, как еще не закоренелый вор не может со спокойной душой наслаждаться украденными сокровищами.
Июль, 1944





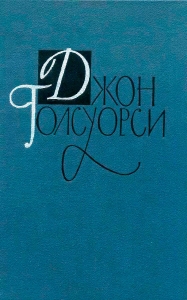
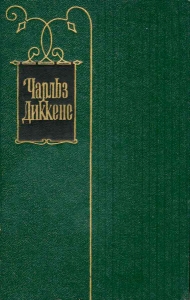
Комментарии к книге «Гнев бессилия», Веркор
Всего 0 комментариев